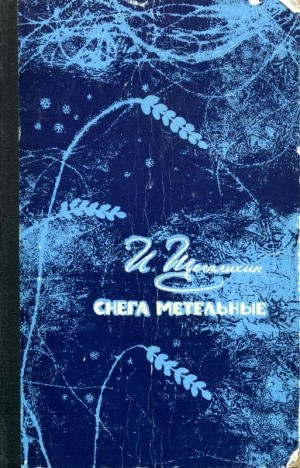
СНЕГА МЕТЕЛЬНЫЕ
Известный читателям роман «Снега метельные» посвящен героическому прошлому целины, сложным судьбам целинников Кустанайщины. События того времени стали уже историей, но интересная, насыщенная драматизмом жизнь на целине тех лет не может оставить нас равнодушными и сегодня.
Отличительные особенности произведений И. Щеголихина — динамичный сюжет, напряженность и драматизм повествования, острота постановки морально-этических проблем. Жизнь в произведениях писателя предстает во всем многообразии и сложности.
Памяти Федора Ивановича Панферова
Женя спала на току, зарыв ноги в пшеницу, и проснулась от холода. Сизое низкое небо просвечивало у края степи реденькой желтизной. Доносился ровный говор комбайна, уборка шла всю ночь. Дремотно пропел зарю далекий петух.
«Как он попал сюда?»—сонно подумала Женя..
Рядом темнело на зерне примятое крыло плащ-палатки, на ней с вечера укладывалась спать Ирина Михайловна. Сейчас она куда-то исчезла. Ежась от холода, Женя потянула на себя плащ-палатку в сладкой надежде согреться и вздремнуть еще часок-другой. Неподалеку, за веялкой, которая уже начала краснеть в свете зари, послышался тихий смех. Наверное, кто-то еще ночевал на току кроме них. Женя услышала приглушенный мужской голос, ласковый, хотя и не разобрать слов, затем послышался насмешливый голос Ирины Михайловны:
— Ехал к Фоме, а заехал к куме...— и опять едва слышный смех.
Женя нагребла на ноги побольше зерна, укрылась плащ-палаткой и легла, ощущая во всем теле томительную сонливость.
Разбудил ее, теперь уже окончательно, лязг самосвала. Темный, торчмя поднятый кузов закрывал солнце, задний борт, выпустив тяжелую, как вода, пшеницу, покачивался па весу и железно громыхал. Кузов медленно опустился, солнце брызнуло в лицо Жене, и она счастливо зажмурилась от тепла и света. Пахло волглой пшеницей и теплым бензином.
— Э-гей, медицина! С добрым утром, Риголет-та!— прокричал-пропел незнакомый шофер в майке с мазутными пятнами.
_ Доброе утро,— ответила Женя с улыбкой и по-детски отмахнулась ладошками, дескать, хватит, парень, больше ничего не говори.
Машина ушла, за ней подошла другая, потом третья... Пронизанная солнцем желтая пыль повисла над током.
Теперь Ирина Михайловна спала на прежнем месте, возле Жени, подстелив под голову красную шелковую косынку. Как будто никуда и не уходила, как легла с вечера, так и спит. Ее румяное лицо было спокойно, губы разомкнулись, обнажив белую полоску зубов.
Женя любовалась своей старшей подругой. Какие у нее густые каштановые брови, и она совсем не думает их выщипывать, потому что знает, ей так больше идет; какие роскошные ресницы, с такими ресницами Женя вообще бы не поднимала глаз, чтобы они были виднее, и какие буйные волосы с рыжим отливом, под цвет пшеницы... Женя отвела взгляд, опасаясь, что Ирина Михайловна проснется и они встретятся глазами. Жене этого не хотелось сейчас, не хотелось оказаться застигнутой врасплох, хотя она в сущности ничего такого особенного и не делает, просто смотрит, но тем не менее...
Что было ночью, она не знает, но на заре Ирина Михайловна уходила, это точно, и она, Женя, продрогнув, натянула на себя плащ-палатку и спала, как последняя эгоистка. Ирине Михайловне пришлось лечь прямо на пшеницу. Она деликатная, не стала будить Женю.
Не стала будить, возможно, по другим соображениям. Допустим, чтобы не выдать себя.
Вполне возможно, ночью что-то произошло. Что-то такое-этакое. Какая-то туманная встреча, голоса, какие-то особенные интонации. Ночью, спросонья, все кажется таинственным и значительным. Но мало ли что может показаться ночью, в темноте. Свет разума должен развеивать мрак сомнений. Никакие такие встречи никак не вяжутся с милым обликом Ирины Михайловны. Она не просто красивая, она добрая, умная, а главное, она любимая — Леонид Петрович в ней души не чает. У них сын, маленький Сашка. Ирину Михайловну любят не только дома, но и в больнице, в поселке. Она на самом деле голубка, как называет ее Леонид Петрович потихоньку, таясь от других, но постоянно, неизменно нежно, Женя видит. Она вообще очень чутка ко всему, что происходит в семье Грачевых. И если Леонида Петровича она не всегда понимает, он замкнутый по натуре, то Ирина Михайловна всегда открыта, для Жени во всяком случае, глядя на нее, не вспомнишь пресловутое «чужая душа потемки».
И все-таки что-то такое-этакое сегодня произошло, Женя смутно это ощущает. Можно считать, примерещилось со сна, пригрезилось, но из головы не выходит. Лучше бы ей не просыпаться тогда. Но ведь не нарочно же она проснулась, а от холода. И от говора тоже, от их голосов. А теперь вот придется лицемерить, притворяться естественной, а Женя не может, не хочет, она быстро устает играть роль. Да и нехорошо фальшивить. Ей хочется всегда и во всем быть естественной, в самых сложных положениях оставаться прямой и честной. Говорят, это трудно, но что поделаешь,— надо. У нее в самом разгаре сейчас процесс самовоспитания.
Женя вытряхнула пшеничные зерна из складок платья, повязала на голову марлевую косынку, приспособила спереди картонный козырек от солнца и открыла походную аптечку.
— Ты что так рано вскочила, Женечка?—услышала она хрипловатый со сна голос Ирины Михайловны. — Л я бы спала да спала еще, совсем не выспалась,— продолжала она, зевая и потягиваясь.
«Еще бы!»— отметила про себя Женя.
— Как у нас с вакциной, Женечка, хватит на сегодня?— продолжала Ирина Михайловна уже обычным своим, певучим и беспечальным голосом.
— Вакцина есть, Ирина Михайловна.— Голос Жени звучал, как всегда, отзывчиво, словно существовал отдельно от ее подозрений. Услышав свой голос, Женя насупилась, он ей показался притворным.
— Скорее бы домой, по Сашке соскучила-ась!— протянула Ирина Михайловна.— С кем он там весь день, Леня-то из больницы не выходит.
Не расчесывая волосы, она скрутила их на затылке в толстый пучок, быстрыми легкими взмахами стряхнула с себя зерно и встала. Женя отвернулась.
Но зачем ей, спрашивается, отворачиваться, почему ей должно быть неловко, разве она в чем-то провинилась?
Женя медленно повернулась к Ирине Михайловне и открыто, смело, в полном соответствии с нравственной, как ей думалось, нормой глянула ей в глаза.
–– Что с тобой, Женечка, на кого ты похожа? Господи, настоящий Бармалей!— Ирина рассмеялась от всей души, не пряча от Жени своих ясных глаз.
И девушка не выдержала и через мгновение тоже улыбнулась в ответ. Все-таки очень трудно подозревать дурное в человеке, которого любишь!
Облегченно посмеиваясь, Женя рассказала свой сон: будто Ирина Михайловна сбежала от нее на рассвете и с кем-то говорила и смеялась вон за той веялкой.
— С кем же?— весело поинтересовалась Ирина Михайловна.
–– Извините, пожалуйста, глупый сон,— смутилась Женя.
— А может быть, это был сам чёрт, Женечка, а? Внимание: черти на целине!
Ирина Михайловна ласково потрепала Женю по щеке, потом неожиданно сильно прижала ее голову к своей груди.
— Ребенок, какой ты еще ребенок! Завидую тебе, воробышек!— она перестала смеяться и вздохнула.— Ну, что ж, поедем в поле?
— Поехали!—звонко согласилась Женя. Снова посветлела, похорошела жизнь. — Поехали, по-е-ха-ли!— пропела девушка и, завидя на дороге машину, подхватила сумку и побежала навстречу.
Приближался открытый газик. Женя вышла на середину дороги и подняла сумку с красным крестом. Газик остановился. За рулем сидел молодой человек лет тридцати в яркой рубашке в белую и красную клетку.
— Выходите из машины!— скомандовала Женя.
–– Ох, как грозно!— молодой человек усмехнулся, откинул дверцу и легко спрыгнул на землю. Он оказался довольно высоким, русым и оливково загорелым.
Усвоившая на полевой работе командирский тон, Женя невольно придержала язык: незнакомец совсем не походил на шоферов с их лениво-самоуверенными движениями.
— Дайте, пожалуйста, руку, я вам сделаю прививку.
— Против чего?
— Против туляремии и бруцеллеза.
— Вы уверены, что мне не делали прививок?
— Уверена. Я помню всех, кому мы делали.
Женя с трудом, но все еще сохраняла наступательный тон. Когда работаешь на прививках, нужна решительность, прежде всего.
— Неужто вы всех помните?— продолжал молодой человек, слегка усмехаясь.
— Вас я вижу впервые, это уж точно. А вообще, что вы торгуетесь, как на базаре? Это же комариный укус, господи!— сказала Женя тоном Ирины Михайловны, сама того не желая.
— Действительно. Какую вам руку?
— Обе. Бруцеллез на правую, туляремию на левую.
Он вытянул руки, сжал пальцы в кулак, с удовольствием, как показалось Жене, напряг мускулы. Протирая спиртом его смуглую кожу, она почувствовала, что краснеет. Он не поморщился, не застонал в шутку и не заайкал, как это делают многие, молча подождал, пока Женя сделает насечки с вакциной.
— Всё?
— Всё. Если почувствуете температуру, обязательно зайдите в больницу.
Она уже уверилась, что перед ней не шофер, а скорее какой-нибудь заезжий инженер или геолог, на целине ведь помимо всего прочего богатейшие недра. Пожалуй, она слишком грубо обошлась с ним.
— Вы, наверное, начальство возите?— спросила она, осторожно. С шоферами она обходилась на ты, здесь так принято.
— Что вы, такая ответственность!— улыбнулся молодой человек.— Самого себя едва научился возить.
Подошла Ирина Михайловна скользящей походкой, чтобы не поранить ноги о стерню.
— Здравствуйте, товарищ Николаев.
Она поздоровалась подчеркнуто уважительно, и у Жени любопытство дополнилось чувством неловкости. Николаев весело проговорил:
— Вон это кто разбойничает на большой дороге, свои, оказывается! А я уже испугался, решил, что попал в лапы чужих эскулапов, из другого района.
– Нечего пугаться,— задорно продолжала Ирина Михайловна.— Вы крепкий мужик, товарищ Николаев, на вас пахать можно.
–– Можно, конечно, можно,— согласился он.— А при плохой организации дела так даже нужно. Делаете прививки, важно и нужно, а регистрации никакой.
Женю заело — ишь, какой переход он себе позволил.
— Мы лучше потратим время на борьбу с болезнями, чем тратить его на канцелярщину, на всякую бумажную волокиту, Целина, к вашему сведению, это еще и новые человеческие взаимоотношения, без формализма, бюрократизма и всяких таких затей.
— Что ж, верно,— согласился Николаев.
— Рассказали бы нам, какие новости в районе,— попросила Ирина Михайловна, намереваясь сменить тему.
— Приехала на уборку молодежь из Болгарии. На нас сейчас весь мир смотрит: быть целине или не быть? Есть и медицинские новости. В поселок доставили подарок Вильгельма Пика — передвижную зубоврачебную амбулаторию. В вагоне две комнаты, на прицепе своя электростанция. Отопление, освещение, рентген, радио. Очень уютно, очень удобно.
— Очень!— согласилась Ирина Михайловна.— А пока мы пешком целину меряем, голосуем, кто подбросит.
Машина вздрагивала, пофыркивала, как нерасседланный конь.
— Садитесь, подвезу.— Николаев теперь обращался только к Ирине Михайловне. На Женю он глянул мельком, будто они и не разговаривали раньше.
«Вредный,— подумала девушка.— Мстительный».
Медички уселись, и газик зарокотал, задрожал, будто собрался подняться на дыбы, наконец, тронулся, понесся. Под колесами закипела пыль.
–– Привила, значит,— успела шепнуть Ирина Михайловна.— Это же Николаев, секретарь райкома.
— Ух, как страшно!— Женя даже зажмурилась. Она гордилась своей удалью.
Узкая лента дороги разрезала волнистую желтизну поля, уходящего вдаль, на край земли, к самому небу. Вдали стояли низкие белые облака, ровно отчеркнутые снизу и извилисто клубящиеся поверху. Ни косогора тебе, ни леска, только ровное пшеничное море вокруг.
Над головой пролетела стая диких уток, одинаково длинношеих, будто насаженных на вертела. Тянуло свежим ветром утра, влажным запахом трав и озерной воды.
Жене показалось, Николаев молчит умышленно, высокомерно, и она неожиданно спросила:
— Товарищ секретарь райкома, а как вы реагировали на заметку «Жили-были» в нашей газете?
Он полуобернулся, держа руки на баранке. Машину то и дело встряхивало на колдобинах.
— Про бытовые неурядицы? Хлестко написано, сердито и, в общем, справедливо. Приезжему журналисту наши недостатки виднее.
Женя подмигнула Ирине Михайловне.
— Плохо вы знаете свой актив, товарищ Николаев,— заметила Ирина.— Фельетон написала Женя Измайлова, медсестра, которая вам сделала прививку.
— Вот как! И медицинская сестра, и журналист — хорошее сочетание.— Николаев даже притормозил в честь такой новости. Проехали колдобину, и он снова дал газу— Вы, что же, только с критикой намерены выступать?
— Лекарство горькое, но оно излечивает,— назидательно отозвалась Женя.
— Всякое лекарство есть яд, если не соблюсти дозу,— в тон ей сказал Николаев.— Поверьте, я не знал, что это вы написали. Хорошо, с задором. У нашей районки совсем небольшой актив селькоров. Написали бы вы о нашем передовике, к примеру, о Хлынове. Замечательный парень, поверьте! Комбайнер, тракторист, шофер, мастер на все руки. Вроде вас, Женя Измайлова.
— Нет, селькором я не смогу. В больнице много работы и вообще... А «Жили-были» написала, потому что разозлилась.
— Фельетон вы написали со злости, а о Хлынове можете написать по доброй воле,— продолжал Николаев ненавязчиво, как бы, между прочим.— Да и не обязательно о нем, можно написать о ком угодно, важно другое, то, что вы можете писать, а такое умение не всем дано. Я, к примеру, не могу... А ведь приятно, когда напечатают, верно?
Женя молча кивнула. Наверное, было бы сейчас спокойнее, если бы они ехали вдвоем в машине и ничего друг о друге не знали...
Медленно проходили комбайны, скрывались за увалом, затихали. Давно сошла роса, сухое жнивье лоснилось, маслянисто блестело. Сновали автомашины, как зеленые жуки на золотом фоне. Жене думалось, вся земля теперь желто-рыжая и не найдешь на ней уголка другого какого-нибудь цвета. Невиданный урожай. Она вспомнила слова Леонида Петровича: «Не урожай, а стихийное бедствие».
Николаев вел машину, терпеливо прижимая ее к обочине. Местами приходилось выруливать на стерню, уступая дорогу встречным машинам с зерном. Временами газик останавливался, пережидая встречный поток, однако Николаев не сердился, не возмущался. Казалось, он готов уступить не только дорогу, но и свою машину и пойти пешком в сторонке, лишь бы не мешать рейду грузовиков с тяжелыми кузовами, налитыми пшеницей.
Радость, которую испытывал Николаев при первых вестях о хорошем урожае, давно сменилась чувством озабоченности — а как с этим урожаем справиться?
Стерня вызывала в нем удовлетворение, а нескошенный массив — беспокойство. Николаеву казалось, массив не уменьшается, а становится все больше с каждым днем. Темпы уборки отставали от сроков.
Потянулись поля зерносовхоза «Изобильный».
— Стоят, стоят хлеба, чёрт тебя возьми, Митрофан Семеныч!— пробормотал Николаев.
Он имел в виду директора «Изобильного» Митрофана Семеновича Ткача. Знатный хлебороб оказался нынче не на высоте положения. Впервые по всему району решено было проводить уборку раздельно и начать ее па две недели раньше обычных сроков, когда колос войдет в стадию восковой спелости. Ткач от раздельной сразу же отказался, почти демонстративно, но после того, как райком вынес ему порицание, пошел на уступку и пустил, скорее для видимости, три самоходных жатки. Трудный он человек, Ткач, упрямый, своенравный, всегда своего добьется.
Первой в районе пошла жатка Хлынова. В то утро Николаев вместе с секретарем районной газеты, шустрым девятнадцатилетним комсомольцем по фамилии Удалой, отправился к Хлынову на загонку. Они вместе начали первые прокосы. Николаев любил технику, старался познать ее, разобраться в меру своих сил и сейчас с интересом следил за действиями толкового механизатора. Не обращая внимания ни па секретаря райкома, ни на газетчика, Хлынов бегал вокруг жатки, подавал команды трактористу, мерил вершками расстояние от валков до колеса, что-то соображал, прикидывал. Вслед за ним поспешал Удалой с болтающимся на груди фотоаппаратом. На другой день по району был разослан специальный бюллетень под заголовком «Не сиди бездельно — убирай раздельно».
В бюллетене можно было найти ответ на все вопросы по раздельной уборке: и как делать первые прокосы, и каких размеров должна быть загонка, и как избежать наматывания сорной травы на ведущий валик большого полотна, и что надо сделать со скатной доской, чтобы валки не проваливались в стерню и подборщикам было удобней. Дня через три замызганные, захватанные, в пятнах солярки, листки бюллетеней уже пошли в мусор — люди научились, приспособились, приноровились с учетом своих условий. Уже то там, то здесь можно было услышать, что Хлынова обогнали, скашивают по сорок пять гектаров. Но не так-то просто обогнать этого самолюбивого человека. В очередном номере газеты появились портрет Хлынова и сообщение, что Сергей убрал семьдесят гектаров.
«Хороший парень, настоящий целинник, такого смело можно ставить в пример». Николаев оглянулся на своих нежданных пассажиров и спросил, куда их доставить.
— Туда, где людей побольше,— ответила жена. Грачева.
Прошел еще один встречный поток машин, подняв длинную тучу пыли. Туча боком, кренясь над полем, оторвалась от дороги, и в просвете Николаев увидел идущий навстречу газик самого Ткача. Важный, осанистый, в белом кителе и при всех наградах Митрофан Семенович восседал рядом с шофером. На время уборочной он, как правило, привинчивал на костюм все свои ордена и медали и при случае говорил, то ли желая оправдаться, то ли — поставить себя в пример:
— Люблю на психологию действовать. Если придется похвалить кого-нибудь, так сразу видно, кто такой хвалит. А если и поругать надо, так тоже дай боже!—И он ребром тяжелой ладони проводил по орденам и звякающим медалям.— Да и корреспондентам хлопот меньше, а то они с ног сбиваются, пока кого познатней найдут...
Человек степенный, несуетливый, Ткач придерживался издавна усвоенных понятий: начальство должно быть солидным всюду — хоть на коне, хоть в газике, на трибуне и за столом, все равно — домашним или служебным. Везде он держался по-генеральски и свои слова, казалось, произносил поштучно, с учетом, не больше двух-трех в минуту. Манеру Николаева одеваться «як той студент» и ездить без шофера осуждал. Прослышав однажды, что секретарь райкома по утрам делает во дворе зарядку, а зимой ходит на лыжах по воскресеньям, Ткач искренне огорчился и при встрече начал тихонько один на один срамить Николаева:
— Юрий Иванович, вы бы хоть ночью ховались со своей зарядкой, а то ж на виду всех! Я понимаю, что для здоровья, но вы же голова району, а стрыбаете, як пацан!
Панибратства он не признавал, всех звал на вы и свойского делового обращения на ты, принятого между директорами и районными активистами, не терпел, тем более, что кругом пошла одна молодежь.
Газики съехались, как на параде, борт к борту, один командует парадом, другой его принимает. Выходить из машины навстречу секретарю райкома Ткач не стал, да и не было сейчас в том никакой необходимости. Он откинулся на сиденье — руки на животе, красный, удовлетворенный, с утра посмотрел на своп поля, остался доволен.
— Доброе утро, Митрофан Семенович!— Николаев приветливо улыбнулся.— Как дела, какие новости?
— Вашими молитвами, Юрий Иванович,— медленно протянул Ткач и самолюбиво поджал губы.— С проверочкой едете?
— Не сомневаюсь, что у вас порядок, Митрофан Семенович. «Изобильный»— гордость района. Если бы у всех было так...
–– А в том и беда наша, Юрий Иванович, что у всех так — некуда свозить хлеб, некуда его ссыпать.
Николаев помрачнел, но ответил прежним бодрым голосом: ^
— Зато есть что свозить, Митрофан Семенович, есть что ссыпать, будем оптимистами. Когда думаете свернуть уборку?
— А когда надо?
— Синоптики обещают ранний снег. Так что, чем быстрей, тем лучше. Допустим, пятнадцатого.
— Пятнадцатого отрапортую,— согласился Ткач, не торгуясь.— Только при одном условии: вы даете мне солдат с машинами.
Николаев уже давно заметил — ни одна встреча с Ткачом не проходит без того, чтобы директор не урвал что-нибудь для себя, вернее, для своего совхоза. У него передовое хозяйство, он умело его ведет, но не хочет понять, что есть в районе и другие совхозы. Урожай нынче всюду отменный, и машины требуются всем.
— Делать одного передовика за счет всего района, Митрофан Семенович, это уже вышло из моды,— сдержанно сказал Николаев.
— За карьериста меня считаете, Юрий Иванович? Спасибочки. Вчера к нам из кино приезжали, съемки делали на току. А у нас там горы! «Богатейшие кадры! Колоссальный урожай!» А я на эти горы Казбеки смотреть не могу. Тысячи пудов оставляем под открытым небом. А там как зарядят дожди, да потом снег!
Преувеличивать опасения, впадать в панику,— тоже характерная черта Ткача. Но ведь он не попусту паникует, не зря предостерегает, Николаеву все это ясно. Хлеб останется на токах. До хлебоприемного пункта сто километров, а в оба конца сколько?..
Мечтали о большом урожае, а он взял да и превзошел всякую мечту. Если в прошлом году вся целина дала семьдесят миллионов пудов, то в этом — предполагается миллиард. Семьдесят — и миллиард, попробуй к такому скачку подготовиться во всех звеньях.
На целине не только люди новые, совхозы новые, техника, здесь и недостатки новые. Непривычен масштаб, непривычен размах. И если мы начнем сейчас критиковать, бичевать себя за то, что не успели подготовить то, не учли заранее это, некоторые товарищи легко найдут в нашей самокритике оправдание своей пассивности и нерасторопности.
— Всё вывезем, Митрофан Семенович, ничего не оставим. Райком выделит вам солдат и технику. Но пятнадцатого вы должны завершить уборку.
Ткач степенно поблагодарил и перевел взгляд на Ирину Михайловну и Женю.
— А вы куда едете, товарищ медицина?— И с вельможной медлительностью поднял в их сторону палец.
Ирина Михайловна повела плечом.
— На кудыкину гору, товарищ сельское хозяйство!
Ткач бурно откашлялся, побагровел, но одернуть побоялся и сказал преувеличенно сурово:
— У нас там случай. Девчонка одна, всякие там женские штучки. Хотел в Камышный звонить. Может, заедете?
— Заедем?— спросил Николаев Ирину Михайловну.
— Но если там кто-то действительно болен...
— Конечно, заедем,— подала голос Женя.— И чем быстрей, тем лучше.— Ей не хотелось упустить возможность покомандовать Николаевым. Вызвался везти — вези.
Машины разъехались.
— С характером Митрофан Семенович,— безобидно сказал Николаев, ни к кому не обращаясь.— Ершист.
Всякая встреча с Ткачом не проходила для Николаева бесследно, знатный хлебороб не упускал случая высказать претензии руководству, что-нибудь выпросить, на худой конец, отпустить какое-нибудь ехидное замечание в адрес молодого секретаря, вроде: «Страда идет, машин нет, людей нет, а Николаев на своем газике девок возит...»
Приехали в «Изобильный». В конторе совхоза стояла дневная нерабочая тишина. В узком коридоре пахло олифой и свежей стружкой. В кабинете директора за столом восседал молодой человек в строгом белом кителе, с круглым и важным лицом. Он поднялся и, не выходя из-за стола, решительным жестом протянул руку:
— Здравствуйте, товарищ Николаев!— произнес он с большим подъемом.— Я секретарь комсомольской организации Борис Иванов. Здравствуйте и вы, товарищи женщины,—он протянул руку Ирине Михайловне, потом Жене.— Садитесь, товарищи, чем могу, тем помогу.
— Что тут у вас случилось?— спросил Николаев.— Митрофан Семенович хотел врачей вызвать из Камышного.
— А что у нас могло случиться?— Борис Иванович развел руки.— Все нормально. Идет жатва. Днем и ночью гудят комбайны, на токах шумят зерноочистители. Наиболее передовые и сознательные убирают по сорок гектаров в смену.
Постоянная работа с людьми приучила Николаева с первых слов предугадывать, кто чего стоит. Как всякий человек, дороживший временем, он, естественно, не терпел пустозвонов. Подлинная деловитость скупа на фразы, это давно известно.
— Понятно!— перебил он Иванова не слишком учтиво.— Все на поле, а комсорг в конторе отсиживается, зажигательные речи произносит.
— По делу приехал, товарищ Николаев, по персональному делу. Сижу вот, жду, драгоценное время трачу... А вот, между прочим, и сама виновница.
В кабинет вошла худенькая девушка в легком платьице и косынке фунтиком. В ее глазах, больших и светлых, застыл нездоровый блеск.
–– А вот и она сама-а,— повторил Иванов с открытой неприязнью и продолжал прямо-таки леденящим толом;— Комсомолка Соколова, вами интересуется секретарь райкома партии товарищ Николаев.
«Ну и ретив ты, парень, ну и ретив»,— подумал Николаев, но пока ничего не сказал. До чего все-таки замызгали вот такие ретивые слово «товарищ».
Иванов между тем продолжал с деловитым напором:
— Садись, товарищ Соколова, садись да рассказывай, признавайся во всем, как и полагается честной советской девушке.— И после краткой паузы обдуманно, выразительно поправился:—Хотя ты уже не девушка.
— Я попозже зайду...— в крайнем отчаянии проговорила Соколова.
— Все мы любим выкидывать коленца, а отвечать не желаем! Позже да попозже. Нет, изволь, товарищ Соколова, сейчас, не откладывая!
. — Не буду говорить,— девушка опустила голову, выгоревшая косынка прикрыла ее худенькое личнко.
— Хорошо, пусть она помолчит,— вмешался Николаев,— Расскажите вы, только покороче.
— Значит, так, товарищ Николаев, такое дело. В бюро комсомола поступил сигнал, что товарищ Соня Соколова морально разложилась. В общем, ну-у... такое дело, мужа нет, а забеременела. От кого, спрашивается? Тайна, покрытая мраком. Узнали мы, дружила она здесь с одним парнем, комсомольцем Гришей Субботой. Вызвали обоих на бюро, поставили на круг. Сначала спрашиваем его. Говорит — да, дружили, но ничего такого между нами не было. Отказался наотрез и потребовал, чтобы мы ему свидетелей представили. Но мы-то не дурачки, товарищ Николаев, мы-то знаем, что при таком деле свидетелей не бывает. Поверили ему. Теперь спрашиваем ее правду ли Гриша Суббота говорит? Она отвечает: да, Гриша говорит чистую правду, и ребенок будет не его. А чей?— спрашиваем. «Не скажу!» Глядит на нас королевой понимаешь ли, баронессой. Что ж, мы с ней в прятки играть не думаем, прямо так и говорим, что придется ее из комсомола исключить за несознательность. «Исключайте,— говорит.— Все равно не скажу». Мы ее пробовали успокоить: одумайся, Соня, скажи, кто он такой, назови, мы его жениться заставим. «Заставите?!— говорит.— Да плевать я хотела на такого мужа, который женится на мне в порядке комсомольского поручения!» Гордая, романов начиталась, дурью голову забила. Не забывай, товарищ Соколова, в какое великое время ты живешь, в каком государстве ты воспитываешься, понимаете ли!— Комсорг поперхнулся благородным негодованием.— Мы с ней и так, и этак, а она молчит, не признается. Ну, кому ты, говорим, нужна будешь с ребенком? Такая молодая, красивая и уже с ребенком? «Не ваше дело!»—говорит. Ах, не наше! В таком случае мы о твоем поведении напишем отцу с матерью, сообщим на фабрику, где ты работала раньше, чтобы знали там, кого из своего коллектива проводили на целину с музыкой да еще и с цветами. В последний раз спрашиваем, кто отец? Не призналась, так и ушла молчком. Через два дня узнаем: аборт сделала.
У Николаева на скулах задвигались желваки
Девушка не плакала, не перебивала комсорга. Молча поднялась и, не обращая внимания на окрик Иванова, вышла. Она уже никого и ничего не боялась. Никто и ничто не могло причинить ей горя большего, чем то, которое она уже несла в себе. Она пришла сюда без надежды на облегчение, скорее по инерции своей прошлой жизни, в которой она была чистой и честной, дисциплинированной комсомолкой.
Ирина Михайловна, молча слушавшая речь Иванова, поднялась и вышла вслед за девушкой. Женя не знала, как ей поступить, выйти или остаться. Во всяком случае, здесь она принесет меньше вреда, так что лучше остаться, не мешать разговору двух женщин.
— Вот, пожалуйста.— Иванов развел руки и выставил подбородок в сторону ушедшей.— Теперь сами видите.
— Что «пожалуйста?»— сквозь зубы проговорил Николаев.— Что «сами видите?»
Он не знал, чем выразить свое негодование, какими словами. Перед ним был чрезмерно активный деятель. Николаев ясно представил себе, как этот деятель продирался в комсорги, как шумел на собраниях, требуя наказания то одному, то другому. Теперь он будет не спать по ночам, до рассвета держать возле себя членов бюро, уверенный, что только так и нужно вести комсомольскую работу, бескомпромиссно, самоотверженно, без сна и отдыха. До утра он способен морочить голову пустяками, лишь бы удовлетворить свою неутолимую потребность повелевать, властвовать, администрировать.
— Давно комсоргом?
— Не так давно, еще молодой. С июля. Прежний уехал, меня поставили в самый напряженный момент. Если доверили, то я, товарищ Николаев...
— Да что вы з-зарядили «товарищ-товарищ»!— вскипел Николаев.— У вас все правильно, принципиально, нравственно, только доведено до абсурда, до своей противоположности, когда вместо помощи человеку — вред, вместо добра — зло и в конечном счете вместо жизни — смерть. Неужели ни у кого из членов бюро не хватило чуткости разобраться, помочь в беде человеку? Она ведь совершенно одна осталась. Она, возможно, любила этого негодяя, хотела стать матерью, а вы ее, в сущности, на преступление толкнули.
Иванов растерянно поморгал и отупело уставился на Николаева. Он совсем не ждал такого поворота дела.
— Скажите ей, что из комсомола ее исключать не будете, родителям сообщать не станете.
Иванов, наконец, пришел в себя, спросил недовольно:
— Что ж, товарищ Николаев, по головке гладить таких? А ведь она не первая и не последняя. У нас есть еще Танька Звон, из Риги приехала. Работает, как надо, а морально — сегодня с одним, а завтра с другим. Мы с ней поговорили, как следует, пригрозили исключением, а она р-раз — и комсомольский билет на стол! Как ее дальше воспитывать? А Соколова? Не замужем, а забеременела? Дурной пример показывает! Да и на самом деле, кому она нужна с ребенком?..
У Николаева от бешенства стянуло скулы.
–– Способная родить не нужна, а способная убить нужна!
Даже шея комсорга покрылась потом.
— Сейчас... поговорю,— с запоздалым унынием сказал он.
Николаев крикнул ему вдогонку:
— Пусть она соберет свои вещи и к вечеру придет сюда. Я отвезу ее в Камышный. Да помогите ей перенести вещи!
Иванов скрылся. Николаев и Женя переглянулись.
— А от бешенства у вас нет вакцины?— спросил Николаев.— Еще немного и кусаться начну.
Вот уже больше двух недель скитались Ирина Михайловна и Женя по целинным полям. Они делали прививки всем, кто прибыл в эти дни на уборку в их район, а прибыли студенты из Москвы, Алма-Аты, Челябинска, прибыли солдаты со своими машинами, прибыли рабочие из Кустаная, и еще, как сказал Николаев, приехала молодежь из Болгарии. Разумеется, здесь не свирепствуют эпидемии туляремии и бруцеллеза, но потому-то они и не свирепствуют, что главное направление нашей медицины — профилактическое.
В белых халатах, в косынках с красными крестиками Ирина и Женя бегали по полю вдогонку за комбайнами, на ходу взбирались к штурвальным, полуголым, с черной задубевшей кожей, протирали спиртом кожу на плече, растворяя грязь и пот, и наносили легкие царапины с каплей вакцины. Они останавливали машины на дороге, высаживали шоферов из кабины и делали прививки. Напрасно Николаев сделал им замечание относительно учета, тетрадки для регистрации больных у них были и они их заполняли, когда это было возможно. Решительным и напористым медичкам никто не смел отказывать. Солдаты подчинялись им, как офицерам. Белый халат и сумка с красным крестом действовали на шоферов, подобно жезлу автоинспектора. Они колесили по району — нынче здесь, завтра там,— ночевали, где придется: под открытым небом, на токах, в палатках, в кабинах автомашин.
Жене нравилась такая кочевая романтическая жизнь, хотя за день она уставала смертельно. Даже когда засыпала, видела перед глазами руки, множество рук, мужских с мощными мускулами и венами, и женских, девичьих с едва заметными жилками, красных, обожженных только что, и бронзовых, прокаленных многодневным загаром. Сотни рук...
Ночью Женя часто просыпалась, ворочалась и удивлялась тому, что Ирина Михайловна спит спокойно. Она удивлялась ее неутомимости и однажды вечером спросила, сколько Ирине лет.
— А тебе сколько?
— Девятнадцать.
— Ну, ты еще совсем зеленая,— сказала Ирина Михайловна и вздохнула.
Женя поняла, что она ушла от ответа на ее бестактный вопрос, но ведь Ирине не так уж много лет, она старше Жени максимум лет на шесть-семь, не больше, но почему-то болезненно реагирует на вопрос о возрасте, есть такие люди, что поделаешь. Что касается Жени, она не станет вздыхать ни в двадцать пять, ни в сорок, ни в пятьдесят лет. Она уверена, что в любом возрасте ей будет интересно жить.
...Сегодня они решили переночевать на бригадном стане «Изобильного». Надо сказать, что все предложения о ночлеге исходили от Ирины Михайловны, и это естественно, Женя еще слишком мало знает целину.
Ужинали поздно, в сумерках, и после ужина Ирина Михайловна куда-то исчезла. Женя одиноко сидела возле кухни, наблюдая, как повариха, сняв белую куртку, энергично чистила котел.
— А кто такой Хлынов?— громко спросила Женя, вспоминая совет Николаева.
Женщина выпрямилась, быстро и пристально оглядела Женю, откинула локтем волосы со лба и только тогда ответила:
— Челове-ек. Наш бригадник.
— А где его можно увидеть?
— Здесь,— опуская голову в котел, пробубнила женщина.
«Вот и пойми ее... Не побегу же я кричать по стану, кто тут Хлынов... Да еще Ирина Михайловна куда-то запропастилась».
Где-то совсем рядом злорадно заквакали лягушки. Женя, украдкой потянулась, разминая уставшее тело, подняла тяжелую сумку, отошла в сторонку и села прямо на траву, обхватив колени руками.
Неподалеку лаково мерцали темные стекла вагончикА. Сизые стены его совсем потемнели в сумерках, и сейчас четкий прямоугольный силуэт врезывался в звездное вечернее небо, как памятник.
Женя догадывалась, сколько чудесных истории было рассказано в таких вот вагончиках в непогоду, когда не выйдешь на работу, или ночью, или в час отдыха, сколько всяких разных чувств и настроений перенесено и пережито в них за эти целинные годы! Жили в таких вот полевых вагончиках и раньше, но, кажется, только на целине обнаружились подлинные их достоинства, когда приходилось размещать в вагончике и больницу, и родильный дом, и пекарню, и баню, не говоря уже о простом жилье. И где бы ни увидел теперь сизый вагончик на чугунных плоских колесах: в городе, на стройке, в тайге, в пустыне, в горах — непременно припомнится целина...
Чуть в сторонке светлели две палатки — летом в вагончике жарко,— и там негромко гомонили ребята и девушки, вернувшиеся со смены.
Стало холоднее, дохнуло ночной прохладой с полей. Повариха вымыла котлы, раскатала рукава кофточки, время от времени посматривая на Женю, поправила легонько волосы и крикнула в сторону палаток неожиданно тонким голосом:
— Девчонки, Танька не пришла?
Как будто Женя у нее не про Хлынова спрашивала, а про какую-то Таньку.
— Не-ет, Марь Абрамна, не-ет!..
Женщина вздохнула, опять стала поправлять волосы, высоко поднимая светлые, незагорелые локти.
— А чего вы одна сидите?— спросила повариха.— Шли бы к ним.
— Жду,— отозвалась Женя.
— А он всегда на загонке дольше других задерживается. То ли на загонке, то ли еще где,— озабоченно проговорила женщина.
— Да нет, я Ирину Михайловну жду,— уточнила Женя.
— А вы проходите сюда, посидим вместе, подождем,— позвала ее Марья Абрамовна к вагончику.
Женя подошла к поварихе, стала пристраиваться на ступеньки, сработанные, судя по светлым невыгоревшим доскам, недавно, к началу уборки.
— Если негде, у меня переночуете,— просто сказала повариха.
— Хорошо, спасибо.
Они помолчали. Жене неловко было молчать, надо было говорить хоть о чем-нибудь в ответ на любезность.
— А знаете, между прочим, в соседнем совхозе в один день вышла из строя бригада в двенадцать человек,— сказала она.
— Да?— рассеянно отозвалась повариха.— С чего это они?
— Пищевое отравление. Всех увезли в райбольницу. Директор совхоза волосы на себе рвал: самый разгар уборки, а людей нет, техника стоит. Представляете, целая бригада!— говорила Женя озадаченно, стремясь произвести как можно большее впечатление.
— Да, плохо дело,— отозвалась Марья Абрамовна. Несмотря на красноречивый пример, повариха, как показалось Жене, не особенно испугалась, во всяком случае, не бросилась тут же перемывать котел заново во избежание пищевого отравления, и на впечатлительность Жени смотрит снисходительно, уверенная, что у нее на кухне ничего подобного не случится.
У палатки зажгли «летучую мышь», заколыхались по стану огромные нечеткие тени. Повариха выждала, когда там на мгновение утихли голоса, и позвала с прежним беспокойством:
— Та-аня-а!
У фонаря прислушались.
— Таньки Звон до сих пор нет?— спросила женщина.
— Не-ет,— ответили ей беспечно.
Потом что-то сказали вполголоса, и все сдержанно, прячась от поварихи, рассмеялись. Побаивались ее все-таки, как самую старшую, стеснялись. Жене показалось, что сболтнули что-то, связанное с Хлыновым. Марья Абрамовна неожиданно запела, тихо и заунывно, совсем без слов, совершенно отключенно, забыв про Женю и, казалось, про весь белый свет. Танька эта самая, наверное, дочь ее. Нет, не дочь, вряд ли, но чем-то определенно близка этой женщине. И бродит, непутевая, где-то по полю и определенно с Хлыновым, иначе не стали бы смеяться ребята возле фонаря. Дети всегда смеются над беспокойством и тревогами старших...
— А что, Хлынов на самом деле лучше всех работает?— спросила Женя открыто недоверчиво. Ей почему-то казалось, что повариха имеет все основания относиться к Хлынову неприязненно, не по трудовым, а по каким-то другим соображениям, а Жене еще захотелось усомниться и в его трудовых успехах.
— Хлынов-то?— как бы опомнившись, переспросила повариха.— Сергей — парень серьезный.
–– А-а,_– тотчас поправилась Женя, дескать, буду теперь знать и не стану задавать глупых вопросов.
Приехал горючевоз, говорливый, должно быть, слегка выпивший старик, начал балагурить с девушками, выкрикивать-покрикивать:
— Эй, девчоночки, с кем бы под сосёночку!
Ребята загоготали, а чей-то разбитной, охальный девичий голос отозвался:
— Старый конь, лежал бы на печке, пятки грел!
— Хе-хе!— воскликнул горючевоз.— Старый конь борозды не портит!
— Хе-хе!— передразнил его тот же охальный голос.— Ляжет в борозду и спит!..
— Танька пришла,— облегченно сказала Марья Абрамовна и вздохнула, будто гора с плеч.
— Это самая Танька Звон?— осторожно спросила Женя, стараясь скрыть свою мгновенно возникшую неприязнь к этой уж очень развязной, непристойной, судя по голосу, девушке.
Марья Абрамовна молча кивнула.
— Она имеет к вам какое-то отношение?— продолжала Женя.— Как будто она ваша дочь или, по меньшей мере, родственница.
— Заметно?— усмехнулась Марья Абрамовна.
— Вы беспокоились о ней, звали несколько раз...
— Самой-то невдомек. А со стороны видней, это верно.— Помолчала и, словно в оправдание, добавила:—Да все они тут дети мои. Кормишь, поишь, знаешь каждого не один день.— И еще помолчав, спросила:— А что?
— Да так...— неопределенно ответила Женя, не зная, к чему следует отнести это подозрительное «а что?».— Просто голос у вас такой, материнский...
Все-таки Марья Абрамовна не зря насторожилась, Женя не могла скрыть своего недоумения здешней жизнью, а точнее сказать, здешними нравами. А может быть, здесь так принято, хочешь–не хочешь, а приходится привыкать к соленым полевым шуточкам. Не легко, наверное, здесь Марье Абрамовне, у нее лицо такое хорошее, доброе.
— Здесь вообще вольно себя ведут, да?—неловко спросила Женя.— Говорят, с давних пор на пашне... свободная любовь?
— Говорят...— женщина вздохнула.— А я ведь не знаю, как на пашне прежде было, я сюда из Москвы приехала. Одна я... Муж на фронте погиб, а сын на целине. В марте, по первой весне, в пятьдесят четвертом трактор повел через Тобол... Сейчас там граненый камень стоит, дети цветы на могилу носят... А я как приехала хоронить, так и осталась здесь до своего часа.
Подошла девушка, невысокая, но удивительно стройная и гибкая, с длинной, красивой шеей.
— Теть Маша, вы меня звали?— спросила она, и Женя по голосу узнала Таньку Звон.
— Звала,— с напускной, как подумалось Жене, строгостью ответила повариха.— Где так долго пропадаешь?
— Гуляю, теть Маша, я ведь незамужняя.
— А что тебе, ночь проспишь — и замужем.
— Нет, теть Маша, сейчас я стала принципиальная. Пока не захомутаю, о ком мечтаю, не буду больше на мелочи размениваться.
Танька смотрела прямо на Женю и — видно было — говорила именно для нее. Смотрела дерзко, вызывающе, словно пришла поссориться. Но из-за чего, спрашивается?
— Теть Маша, вы мне книжку обещали. Про красное и черное. Забыла название.
Марья Абрамовна поднялась, молча пошла в вагончик. Лесенка под ее ногами вздрагивала. Как только она скрылась за дверью, Танька стремительно подсела к Жене на ту же ступеньку. Была она в легком сарафанчике с глубокими вырезами на спине и спереди, так что виднелось начало смуглых грудей, загорелая до черноты; широкоскулая, похожая на мулатку. Пахло от нее горьковатым запахом знойной степи, пряной пшеничной пылью. Черные с ясными белками живые глаза ее сверкали задиристо, но и вместе с тем была во всем облике Таньки неожиданная приветливость. Женя на всякий случай насторожилась, решив быть ко всему готовой. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, Танька с явным превосходством, нагловато, по праву здешнего жителя, а Женя с упорством слабого, но упрямого существа собравшего остатки мужества (позже она со смехом – думала: как две молодые кошки!).
Танька, понимая, что времени терять нельзя, повариха выйдет с минуты на минуту, заговорила первой:
— Хлынова ждешь? Понятно. Мужчина через два «ща». Поцелует – умрешь, сама пробовала.
Она улыбнулась, прищурив шальные глаза. Зубы у нее оказались молочно-белые, ровные, и вообще вся она почему-то, несмотря на развязность и прочее, показалась Жене сильно привлекательной, женственной, загадочной.
Женя усмехнулась:
— Не умру, выносливая!
Кровь прилила к ее лицу. И не оттого, что ответила неприлично, а наоборот, от собственной смелости и находчивости, получилось как раз в духе Таньки Звон, отбилась ее же оружием. Иначе ведь нельзя, не обойтись в таком случае благородным молчанием.
— Такая молодая, а уже развратная!— наигранно удивилась Танька!— Ну, надо же! И как тебе маму свою не жалко! У тебя есть мама? Или ты беспризорница?— издевалась она.
Если бы не вышла Марья Абрамовна, неизвестно, чем бы продолжился их разговор. Скорее всего, Женя не стала бы отвечать. Много чести, все равно, что из пушки по воробьям. Она уже пожалела, что ответила в первый раз, поддержала недостойный разговор.
— Таня, возьми,— недовольно сказала повариха, видимо, догадываясь, о чем тут у них шла речь.
Танька, не вставая, взяла книжку через плечо, посмотрела равнодушно на обложку, не торопясь, пролистала, захлопнула и так же через плечо подала обратно.
— Не та, теть Маша, эту я читала, Ладно, спасибо за заботу, пойду, подожду, когда Сергей вернется.
— А где он?
— Тихоходом занялся. Слава-то даром не дается.
— Ладно, иди, иди, бедовая, спать ложись, вставать рано,— проводила ее Марья Абрамовна ворчливо, но без злости, скорее для вида.
Танька молча поднялась и молча отошла. Жени для нее как будто и не существовало. А Марья Абрамовна затянула все ту же грустную, задумчивую мелодию без слов. Женя поняла, что женщина поет, когда расстроена.
Через минуту ее заглушил сильный Танькнн голос: «Вот кто-то с горочки спустился, Наверно, милый мой идёт...»
Пела она раздольно, без грусти, как-то по-цыгански лихо, забубенно.
А женщина переживала. О ком, о сыне она думала?
— А что значит тихоходом занялся?— спросила Женя.
— Техническим уходом. Техуходом,— не сразу ответила Марья Абрамовна, продолжая рассеянно тянуть свою мелодию. Потом оборвала, словно пришла в себя, и сказала убежденно: — А ведь всё Ткач. И гектары ему, и любовь. Перед уборочной каждую бригаду формирует не просто так, тяп-ляп, а с умыслом — половину ребят, половину девчат. Чтобы веселее работалось... Ну, идемте в вагончик, я постелю вам.
И как ни отказывалась Женя, повариха достала из своего чемодана чистые простыни и постелила Жене на нижней полке, напротив себя. А, постелив, перешла по-матерински на ты:
— Ложись, милая, а то уже и до утра недолго.
Женя легла, все еще не расставаясь с мыслью, где все-таки пропадает Ирина Михайловна и не поднять ли тревогу по этому поводу. Но едва коснулась подушки, перед глазами одна за другой плавно пошли картины дня: желтое поле, синее небо, плывущие по земле тени от облаков, воробьи, ливнем падающие на зерно, рассыпанное по дороге, и опять руки, руки... И Женя сразу уснула, в последнее мгновение испугавшись, что это не сон, а обморок.
Она не видела, как Марья Абрамовна осторожно подняла с табуретки ее пропыленный халат и понесла на кухню — состирнуть наспех в мыльном растворе.
На другой день к вечеру, когда стали собираться в Камышный, Ирина Михайловна спохватилась:
— Чуть не забыла! Я же тебе газету нашла про того самого Хлынова, о нём тебе секретарь райкома говорил:
— Да зачем он мне?— обиженно отозвалась Женя.— Значит, я плохая медсестра, если все вы хотите меня в корреспондента переделать.
Ирина Михайловна рассмеялась:
— Да нет же! Посмотри, какой снимок хороший.— Она развернула газету, полюбовалась фотографией недолго и посоветовала:
— Возьми, спрячь, пригодится когда-нибудь.
Однако посоветовала она несколько странным голосом, скорее попросила взять и спрятать, и Женя невольно подчинилась ее просьбе, взяла газету, развернула — что же он собой представляет хотя бы внешне, этот самый герой через два «ща».
Со снимка смотрело на нее задорное улыбающееся лицо, смелое, дерзкое, открытое, действительно, такому сам чёрт не брат. Флотская, с маленьким козырьком фуражка сдвинута на затылок. Сверху набрано крупным шрифтом: «Хлынов — семьдесят гектаров!»
Женя поджала губы, медленно, словно выжидая, не одумается ли Ирина Михайловна, сложила газету, выровняла уголки и осторожно, чтобы не помять, втиснула се в сумку с красным крестом
Небывалый урожай смутил многих в дни уборочной, он нарушил все прежние нормы и представления. Самые радужные мечты о целинном хлебе казались теперь несмелыми, робкими — хлеб, что называется, шел лавиной. И обнаружилось, что к встрече его героические целинники не подготовились. Вспахали, посеяли, взрастили,— но куда теперь девать его?
По сто тысяч центнеров зерна скапливалось на токах. В критической ситуации проверялись характер, выдержка, сообразительность руководителей хозяйств. Всего хватало — энергии, энтузиазма, отваги, находчивости,— не хватало автомашин. Вывозка зерна на элеваторы и хлебоприемные пункты вызывала простой комбайнов, затягивала уборку. Плохо, когда хлеб не скошен, ну а хорошо ли, когда он скошен да ссыпан под открытым небом на току под дожди и снег на погибель?
Некоторые совхозы замедлили темпы уборки и начали вывозить зерно с токов. Комбайнеры стали жаловаться на вынужденный простой в такой ответственный момент, когда день кормит год. Были и другие жалобы в райком, и потому Николаев в эти напряженные дни не знал покоя, с утра до ночи колесил по району. Ну, а если приходится где-то решать главные вопросы, то попутно не избежать и решения второстепенных.
Главное — судьба хлеба. А судьба Сони Соколовой разве не главное? В его работе все органически взаимосвязано, но человеческий, выражаясь казенным языком, фактор на первом месте.
Весь день перед глазами Николаева стояла сцена, созданная «творческим гением» Бориса Иванова. Комсомол—главная сила на целине, и использовать эту силу надо чрезвычайно осторожно, чтобы она шла только на пользу человеку и никогда — во вред.
На пользу ли Соне Соколовой пошла вся эта история?
Да и в чем выход, чем должны кончаться подобные истории? Не тревожить ни его, ни ее, не вмешиваться? Не предостерегать, не одергивать, не стыдить?..
Позиция невмешательства, равнодушия — всегда плоха, это бесспорно. Но вмешательство должно быть в высшей степени тактичным, деликатным, тонким, мудрым, тем более, что оно не от твоего частного имени, а от имени комсомола...
Соколовой лет восемнадцать-девятнадцать, не больше. Увлеклась, возможно, полюбила. Не успела разглядеть подлеца или, закрыв глаза, наделила его несуществующими достоинствами, поверила его лживым обещаниям, как было во все века. Может быть, и он ею увлекся сначала, но потом, как всякий подленький человечек, отрекся от нее. Да и всякий ли способен на великое чувство любви?
Все подобные истории, о которых Николаев слышал еще на студенческой скамье, вызывали у него злое уныние. Какая-то идиотская диалектика, где не сразу определишь, когда начинается дурное и кончается хорошее, да еще смотря с чьей точки зрения.
К вечеру Николаев подъехал к конторе совхоза «Изобильный». На деревянном крылечке сидела Соня Соколова, пытаясь загородиться от мира фанерным чемоданом. Она встретила Николаева доверчивым спокойным взглядом.
— Ничего не забыли?— Николаев кивнул на чемодан.
Соня в ответ махнула рукой, ничего, дескать, и показала еще маленький узелок. Николаев взял и чемодан, и узелок и понес в машину с неприятным чувством — ему казалось, что из конторы смотрят на эту акцию и комментируют на свой лад.
— Поторапливайтесь, Соня!
В последний момент на крыльцо вышел Иванов, подошел к машине. Ходил он тоже не просто, а помня об ответственности каждого своего шага. Он помнил – на него, как на комсорга, смотрят другими глазами, с него берут живой пример. Соня отвернулась. Николаев завел машину.
— Одну минуту, товарищ Николаев, надо решить еще один принципиально важный вопрос: чтобы совхозный секретарь комсомольской организации был освобожденным. Это необходимо сделать, товарищ Николаев. Вопрос надо решить безотлагательно. Огромный объем работ. «Боевые листки», производственные собрания, совещания, беседы, да и... вопросы морального облика.— Иванов повел подбородком в сторону Соколовой.— Можно и в «Комсомольскую правду» обратиться. Освобожденный секретарь — все-таки фигура! С ним и директор считаться будет, и секретарь парткома, и вообще!
— Я думаю, райком комсомола освободит вас,— ровно, холодно сказал Николаев.— От комсомольской работы.— И покатил, поехал на своем газике, увозя грешницу от неминуемой кары.
В дороге он заговорил с Соней, обдумывая каждое слово. Не спрашивал о прошлом, только о будущем — где она бы хотела работать, есть ли у нее в Камышном знакомые, останется ли она здесь или уедет, и какие у нее вообще есть просьбы к нему.
Его удручала односложность ее ответов — не знаю... нет... никаких... Она замкнулась, никому и ничему не верила:
— Соня, вам сейчас трудно, я понимаю, но все-таки надо верить людям, не все подлецы, не все негодяи.
— Я знаю...
И снова молчание, снова взгляд в сторону, в даль и прежний отрешенный вид.
— Соня, а книги вы читать любите?
— Да...
— Устанет человек, измотается, в беду попадет, а как возьмет в руки толковую книгу, сразу выпрямляется, начинает лучше думать о жизни, и новые силы к нему приходят. С вами так бывало?
— Всегда,— она впервые скупо улыбнулась.
–– А что вы читали в последнее время, если не секрет?
— «Замок Броуди».— Она посмотрела на Николаева, почему-то решила, что он не знает про такую книгу, и, чтобы не смущать его, на всякий случаи пояснила:— Английского писателя. Мало известного.
Николаев оценил ее добрые намерения.
— Кронина,— сказал он.—У него есть интересный роман «Цитадель». Про «Замок Броуди» я только слышал, но не читал. Ну, а вы, значит, находитесь под впечатлением, только-только прочли. И что вам особенно понравилось?
— Особенно?— переспросила она и пристально, изучающе посмотрела на Николаева.— Особенно вот это: «А поезд с невообразимой быстротой, как ракета, описал в воздухе дугу, прорезал мрак сверкающей параболой света и беззвучно нырнул в черную преисподюю воды, точно его и не было!
...В тот самый миг, когда первый слабый крик его сына прозвучал в хлеву ливенфордской фермы, его изувеченное тело камнем полетело в темную бурлящую воду и легло мертвым глубоко-глубоко на дне залива...»
До самого Камышного они молчали.
Ночь прошла спокойно. Женя не отходила от старика гипертоника, у которого был приступ стенокардии. На его багровой шее вздулись вены, его стоны путали Женю. К полуночи, после трех таблеток нитроглицерина, старик кое-как успокоился. Женя прилегла на кушетку.
Ночью, в тишине, в минуты относительного покоя ее всегда тянуло хотя бы кратко, наспех, но подвести итоги, выровнять свою жизненную линию, если она вдруг заколебалась, укрепить ее.
...В Камышный она приехала в конце июля, сразу после окончания медицинского училища. Сколько было волнений у папы с мамой, когда они ее провожали на целину, никто никогда не узнает. И тем более никто не узнает, каково было самой Жене в одиночестве оказаться в незнакомом поселке. Первые ночи она вообще не спала почти. Ее поселили в пустом общежитии МТС — все были на уборке, и ночью не к кому было бежать за помощью, если, не дай бог, что-нибудь случится. С наступлением темноты еще назойливей гудели моторы, машин, самых разных, становилось в два раза больше. Непривычная к новой обстановке, Женя засыпала только глубокой ночью и часто просыпалась в страхе — ночной сумрак комнаты вдруг пронизывал страшный белый столб света с улицы. Это проходили мимо автомашины. Ослепительные пятна фар медленно, колдовски продвигались по стенке, и видно было, как наспех, жиденько она побелена, затем срывались в темноту, словно обрубленные. Пахло бензином, соляркой, и до трех часов ночи гремел репродуктор на столбе возле райкома.
Женя крепилась из последних сил и не сбежала из пустого общежития только потому, что заранее готовила себя к лишениям (кстати сказать, к лишениям относилась нехватка жилплощади, а тут оказался ее избыток). В восемнадцать лет пора уже выходить с жизнью один на один. Больше всего Женя страшилась утерять веру в свои силы, самой себе показаться беспомощной.
На третью ночь в ее комнату стали ломиться пьяные парни. Они требовали какую-то Машку, били в дверь сапогами. Женя убежала через окно, оставив в комнате чемодан на растерзание. Она добежала до продуктового вагончика, где дежурил сторож с оружием в руках, обязанный охранять социалистическую собственность, но сторож не дежурил, а спал и ружье спрятал, чтобы кто-нибудь не подшутил. Убедившись, что погони за ней нет, Женя добралась до больницы и переночевала там на кушетке в ординаторской. Утром пошла в общежитие, представляя, какие там ужасные следы разгрома, но ничего ужасного не увидела, чемодан ее на месте под койкой, окошко раскрыто, словно свидетельствует о ее позорном бегстве, все на своих местах, похоже, что пьяные крики и стуки ночью ей просто-напросто пригрезились, примерещились от страха.
И все-таки она теперь решила, что бессмысленное мужество, всетерпение и всепрощение похожи на осужденное нашей эпохой непротивление злу. Нельзя с этим мириться. У каждого советского человека есть права. Вот почему Женя заявила главному врачу, что намерена получить квартиру, как молодой специалист.
— В общежитии вам не нравится?— спросил Леонид Петрович.— Мне сказали, вам выделили там отдельную комнату.
— Я долго терпела, но там... пьяные, хулиганы какие-то. Не нужна мне отдельная комната.— У Жени задрожал подбородок.— Мне бы куда-нибудь к девочкам перебраться. Есть же здесь интеллигенция сельская.
— Может быть, к нам?— вмешалась в разговор Ирина Михайловна.— У нас две комнаты.
— Нет-нет, что вы, что вы!—Женя наотрез отказалась. Она будет стесняться в квартире у Грачевых, там ей будет хуже, чем в общежитии МТС.
— Вещей много?— спросил Леонид Петрович.
— Нет, один чемодан — «А в чемодане кукла, не дай бог, кто узнает».
— Идемте со мной.
Леонид Петрович вышел из ординаторской, Женя молча последовала за ним. Главный врач провел ее в пустующий изолятор — крохотную комнатку, в которой стояли больничная койка и впритык к ней тумбочка. Он предложил Жене поселиться здесь в нарушение санэпидправил.
Женя верила, после тяжелых испытаний обязательно наступит счастливая легкая пора. Так оно и вышло. Из общежития она попала в чистенькую светлую комнатку с белоснежным бельем. В тот же вечер она написала домой очередное письмо под номером (все письма отцу с матерью шли под номером), и сообщила, что получила квартиру по месту работы. Домашних она решила не тревожить, но здешнее руководство потревожила и написала ту самую заметку «Жили-были», на которую уже многие обратили внимание, в том числе и Николаев.
А в целом Жене понравился и поселок, и больница, и люди. Над входом в маленькую уютную больницу висела синяя вывеска с изображением чаши, змеи и красного креста. В узеньком вестибюле, как и полагается, санпросветплакаты, пучеглазые мухи — переносчики кишечных заболеваний, ленточные глисты, спутанные, как шелковая тесьма, и улыбающиеся толстощекие младенцы —«Я пью рыбий жир». Стеклянная до потолка стенка отгораживала маленькую аптеку, рядом с ней помещалась ординаторская за голубой дверью.
Три палаты, мужская, женская и смешанная (для новорожденных младенцев) — вот и вся больница.
В первый же день Женя познакомилась со всеми ее немногочисленными обитателями. В женской палате лежали две пожилые женщины из местных, с декомпенсированным пороком сердца. Они жили в глухом поселке неподалеку от Камышного, и до освоения целины лечились, чем попало — травами, припарками и даже наговорами. Медицинские работники заглядывали в их деревушку разве что случайно. Теперь же, с появлением райбольницы и хирурга Грачева, все стали обращаться к нему.
В мужской палате томились два шофера, один с обострением язвенной болезни после выпивки, а другой после аварии, с переломом ноги, лежал в гипсе. О смешанной палате говорили, свято место пусто не бывает, одна за другой проходили через нее мамаши-целинницы.
Женя сблизилась, прежде всего, со своими коллегами, с медсестрой Галей и с акушеркой Ириной Михайловной, женой главврача. Причем акушерка сама заговорила с Женей и сразу стала ее утешать, будто Женя маленькая, будто жаловалась на свою судьбу горькую или что-то в этом роде. «Ты молоденькая и симпатичная, у тебя вся жизнь впереди, а от папы и мамы все равно придется когда-нибудь отвыкать, не печалься и не горюй, держись к людям поближе...» Женя удивлена была таким к себе отношением, она вовсе и не думала печалиться и горевать, и лицо у нее всегда было спокойное и даже уверенное,— так, во всяком случае, она сама о себе думала. Но со стороны-то всегда виднее.
Во всяком случае, оттого, что Ирина Михайловна не повела себя надменно и заносчиво (все-таки жена главврача!), а наоборот, проявила чуткость и внимательность, Женя прониклась к ней самой настоящей любовью и самой настоящей признательностью, какие только могут быть на белом свете.
Ирина Михайловна рассказала, что для медиков рядом с районным здравотделом строится стандартный домик— три комнаты и кухня. В двух маленьких комнатах будут жить Грачевы, а в третьей, большой — Галя и Женя. Они бегали смотреть этот недостроенный домик на самой окраине поселка, недалеко от аэродрома, почти совсем рядом с мачтой, на ней вздувалась под ветром полосатая, черно-белая кишка. В домике пахло свежей стружкой, свежей краской, чем-то непонятно строительным, уже видны были комнаты и можно было помечтать, прикинуть, где и как расставить мебель.
Настоящая жизнь все еще не началась, все еще была впереди.
...На рассвете привезли обожженного солдата. Он не кричал, не стонал, был говорлив и странно возбужден. Обгорелое обмундирование обнажало красное тело, лохмотья брюк держались на ремне. Левая половина тела, нога, бок, рука,— все было обожжено,
— Привет, красавица, принимай гвардии рядового в свои палаты!— неестественно бодрым голосом прокричал солдат.
Женя ужаснулась его виду и отчаянной, неуместной веселости. Что предпринять? Усадить его? Но он обгорел весь, не сможет сидеть. Ожог третьей степени... Уложить? Но и уложить невозможно.
Женя послала санитарку за хирургом, а пока ввела пострадавшему пантопон для уменьшения боли.
Начинался беспокойный день.
Пострадавший сидел на уголке стула, кособоко привалившись к спинке. Лицо его было бледно, глаза блестели. Старик гипертоник вышел в коридор в одних кальсонах, глянул на обожженного и равнодушно, словно солдата не было здесь, прошамкал:
— Што твой шашлык. Помрет к вешеру.
Женя метнулась к старику, угрожающе зашептала и, подталкивая в спину, выпроводила его в палату. Солдат не пошевелился, все смотрел в окно неподвижным взглядом. Он был совсем молодой, черноглазый, смуглый.
Быстро вошел Леонид Петрович, он всегда так входил, даже как будто легким ветром сопровождалось его появление, мельком глянул на солдата. Тот уже начал постанывать, протяжно, с безразличным мычанием. Двое его товарищей стояли словно в карауле по обеим сторонам стула, уставились на хирурга в ожидании команды. Он подал им знак следовать за ним в ординаторскую. Женя осталась возле пострадавшего.
— Спасти можно только пересадкой здоровой кожи от здоровых людей,— сказал хирург солдатам.
— А сколько человек надо? Одного? Двух? Если что, мы готовы.
— Чем больше, тем лучше,— Грачев говорил отрывисто, словно командовал.— Отправляйтесь, скажите: нужны добровольцы. Только поскорее. Он может погибнуть.
Солдаты бросились на улицу. За стеной взвыл мотор, и вскоре шум его затих в отдалении.
Больной стонал все громче и громче, уже вся больница слышала его стоны. Женя сказала Леониду Петровичу, сначала он был весел и даже пытался шутить.
— Эйфория,— пояснил хирург.— Плохой признак. Часто при тяжелой травме бывает сильное возбуждение, а потом шок.
Эйфория... Нечто коварное, возможно, смертельное.
Женя не пошла домой, хотя дежурство ее закончилось, и на смену уже пришла Галя.
Все ответственные операции Грачев делал с Женей. Сейчас она поставила кипятить большой стерилизатор с инструментами и присела отдохнуть на кушетку перед долгой операцией.
Послышался душераздирающий крик на всю больницу и, наверное, на весь поселок,— это Галя с санитарками пытались снять с обожженного остатки одежды.
Стерилизатор зашумел, инструменты легонько шевельнулись в нем, и вскоре забарабанили по металлическому дну. Через 40 минут можно начинать операцию. Если, разумеется, найдутся добровольцы.
Леонид Петрович в халате с высоко закатанными рукавами ходил по коридору. Ему уже пора бы мыть руки и одеваться в стерильное. Но он пока не торопится, пока подстриг и без того короткие ногти, и всё. Ходит, все ходит по короткому коридорчику, зайдет к обожженному, даст указание и снова выходит, снова взад-вперед по короткому коридорчику.
Ждёт.
Другого средства лечения нет.
Верит ли он, что добровольцы будут?
Женя несколько раз выбегала на крыльцо. Поселок давно проснулся, начался обычный трудовой день. Люди шли на работу, здороваясь друг с другом бодрыми утренними голосами. Никому нет дела до больничной беспокойной жизни, и, в общем-то, правильно, незачем портить настроение всему поселку. Натужно воя, потряхивая тяжелыми кузовами, прошли машины с пшеницей. Все везут, везут...
Появилась Ирина Михайловна, чуть заспанная, с припухшими веками и оттого еще более милая. Легкая тень скользнула по ее лицу, когда она услышала стоны.
Леонид Петрович встретил жену у входа, и сразу что-то неуловимо изменилось в его облике, он стал как будто еще более уверенным, чем был минуту назад, еще более собранным.
— Что там?— негромко спросила Ирина Михайловна.
— Ожог. Парень спасал хлеб. Я не успел узнать подробности, но сейчас не в них дело. Необходима пересадка кожи. Солдаты поехали. Но... вдруг начальство не разрешит. Армия есть армия. Что тогда будем делать?
— Обратимся в райком комсомола,— сказала Ирина Михайловна.
— Ах да, действительно, я совсем забыл! Они же всегда выручат.
Грачев погладил обнаженные руки жены. Женя догадывалась, какие у нее, должно быть, чудесные руки, в жару, как мрамор, холодные, а в холод горячие, как... сердце.
— Инструменты готовы?— спросил хирург, оборачиваясь к Жене, но не поднимая глаз.
Девушка побежала в операционную.
Оттуда, из-за стекол операционной, она и услышала прерывистые гудки автомашины возле больницы и первой выбежала на зов.
У крыльца, выпрыгивая из машины, выстраивались солдаты.
— Р-рав-вняйсь! Смир-рна-а!—залихватски пропел сержант в замасленной гимнастерке и в пилотке, сдвинутой на ухо.— Товарищ медсестра! Первый взвод третьей роты гвардейского полка прибыл для сдачи кожи. Докладывает сержант Петров!
Слушая «...прибыли для сдачи кожи», Женя сдавленно рассмеялась, открыто рассмеяться ей помешали слезы, но она их все-таки скрыла.
Солдаты мгновенно заполнили тесный вестибюльчик. Минуты две-три они уважительно молчали, потом загомонили.
Хирург приказал всем вымыться в маленькой баньке «Заготзерна». Женя выдала сержанту три больших куска мыла и успела заметить, как он тут же крепкой ниткой по-солдатски споро распилил мыло на ломтики.
Прошлой ночью солдат Малинка вел автоколонну с пшеницей. Вечерок он провел у московских студенток и сейчас ехал в самом веселом расположении духа. Изредка Малинка оглядывался назад, на яркие снопы лучей, соединявшие машину с машиной словно буксиром.
Девчонки-москвички ему понравились. Он познакомился с ними неделю назад, а вчера получил приглашение на день рождения одной из них. Девушки были из какого-то неавторитетного института, вроде рыбного, в котором ребят раз-два и обчелся, да и те ни рыба ни мясо. Малинка — симпатичный парень, простяга, шутник, стал душой этой студенческой компании, его приглашали чуть ли не каждый вечер. Так и на этот раз. Имениннице он принес в подарок чистенький блокнот в коричневом дерматиновом переплете. Малинка хранил этот блокнот запакованным в несколько слоев газеты, чтобы не запачкать, всё ждал случая записать лирические песни, их пели вне строя друзья-солдаты, а также стихи Сергея Есенина. Он берег дорогой блокнот для себя, но, когда пригласили на день рождения, он понес его в подарок. Вечер прошел очень весело, много говорили, пели «Подмосковные вечера» и вообще сошлись, что называется, душа в душу.
Малинка и сейчас за рулем тянул вполголоса мелодию, думал о девушках, о гражданской жизни, она снова ждет его через год, и лениво посматривал на дорогу, где приходилось ездить уже не один раз.
Малинка не курил, но представлял, конечно, как это делается. Очень просто закурить за баранкой, с удовольствием затянуться, кто в этом понимает толк, разок-другой-третий, а затем бросить сигарету. Куда бросить? Ну не на пол же, не в кабине же ее оставлять, бросить в сторону, вон выбросить... И вот уже горит у дороги пшеница.
Малинка ясно видит — и впрямь горит, именно от самой дороги полукругом разгорается пламя с острыми языками, и уже охватило довольно большую площадь. Сейчас огонь пойдет, как волна под ветром, всё дальше от дороги, всё гуще дымясь алыми клубами и разбушуется степной пожар, не остановишь ничем, а ведь это не просто степной пожар — это хлеб горит...
Малинка вылез на подножку, прокричал назад: «За мной!»—и повернул машину на огонь. Кузов поднялся, тяжелая струя пшеницы ударила вниз, сбивая языки пламени. Малинка не оглядывался, ему некогда было проверить, едут за ним товарищи или не едут, он газовал, тревожно сигналил, возбуждая себя. Он не видел, что творилось сзади, поднятый кузов закрывал обзор. Ничего не видел, но знал: пшеница должна погасить пламя, как гасит его песок. Будут спасены десятки, сотни гектаров хлеба, будет ликвидировано зло — пожар. Малинка не думал о том, насколько разумен его план, так моментально возникший, много ли, хватит ли пшеницы погасить такое пламя, он надеялся на товарищей, он давил пламя колесами. Вдруг что-то металлическое ахнуло, сверкнуло, блеснуло, Малинку отбросило к стенке кабины, он больно ударился спиной и затылком. Удушливо запахло бензином. Вспыхнули брюки, гимнастерка, только теперь горячая боль обожгла тело. Малинка выскочил из машины, упал на обгорелую землю и начал кататься в горьком пепле.
Через полчаса его привезли в Камышный.
Малинка не задумывался, что дороже, выведенная из строя машина, за нее придется отвечать, или его собственная жизнь, поставленная под угрозу, или сотни гектаров спасенного хлеба. Сейчас ему было не до размышлений и не до сопоставлений, что хуже, а что лучше. Но он верил чувствовал, что поступил правильно. Даже если бы он не затушил пожар, все равно обязан был на него броситься...
В больнице он увидел перед собой светловолосую и кареглазую медицинскую сестру, она то приближалась к нему, то удалялась, плыла перед ним, как в тумане. Боль становилась с каждой минутой невыносимее, он ждал от девушки исцеления, но она только плавала и плавала вокруг него, смотрела и смотрела на него, готовая заплакать, а боли не унимала, жуткой, адской боли.
Потом он потерял сознание и в бреду кричал: «За мной! Вперед, братва! Тревога!!!»— и очнулся от боли. Хирург счищал обожженную поверхность кожи, попросту говоря, живьем сдирал шкуру. Рядом стояли полураздетые, в больничном белье друзья по роте. Им тоже делали операцию, и Малинка, приняв это за сон, за бред, опять впал в забытье.
Сергей выехал из поселка рано. Ночью прошел дождь, и сейчас все: трава, пыль, мотоцикл, встречный ветер с пшеничного поля,— пахло дождем и утренней свежестью.
Рассвет был медленный, затянувшийся, серый после дождя, но Сергей мчался по дороге в хорошем настроении. Одинокую фигурку в белом платье он заметил издали. Она была одна, действительно, как былинка в поле. Шла с тяжелой сумкой через плечо.
«Придется подвезти,— подумал Сергей.— Значит, скорость будет в два раза меньше. Хоть бы не по пути оказалось».
Услышав шум мотоцикла, девушка обернулась, приостановилась. Мордашка довольно симпатичная, такую и не по пути подвезешь. Но уж шибко серьезная, похоже, строит из себя.
Сергей решил посмотреть, что будет, если он не обратит на нее никакого внимания. Насвистывая, не глядя на путешественницу, он чуть-чуть притормозил возле нее и проехал мимо.
— Стойте! Одну минутку! Подождите!
Обычный набор слов. Сергей притормозил, небрежно шаркнул подошвами по земле и подождал не оборачиваясь.
— Вы Хлынов,— утвердительно сказала девушка и выставила на Сергея палец пистолетом.
— Допустим. А вы?— он выставил палец пистолетом в ее сторону.
— Отлично, на ловца и зверь бежит,— она улыбнулась.— А я Женя Измайлова. Везите меня в свою бригаду.
— Зачем?
— По заданию секретаря райкома.
— Ого!
Сергей оглядел девушку — светленькая, а глаза карие. Хрупкая, какая-то очень уж городская, нездешняя. Впрочем, все на целине нездешние или почти все.
Девушка не оробела под его взглядом, не опустила глаза, но заметно посуровела. Сергею показалось, он хватил лишку своим изучающим обзором, и поспешил оправдаться:
– Смотрю на вас и боюсь везти. Сдует ветром, и потом ищи вас свищи по всему полю. Механизаторы любят скорость.
— Это на комбайне-то?—насмешливо спросила Женя. «Все-таки она из себя строит!»— решил Сергей. Он располагает средством, как проучить ее, но пока повременит. Он еще раз оглядел ее. Из кармана платья виднелся краешек синего блокнота. Через плечо толстая сумка с красным крестом. Держится девчонка так, будто она, по меньшей мере, автоинспектор и все обязаны ее подвозить.
— Мне вообще-то не по пути,— сказал Сергеи в наказание и медленно тронул своего коня, ожидая ее вторичной просьбы или упреков, зная, что в такой ранний час не сразу дождешься попутной машины, да еще до самой дальней второй бригады.
Но Женя на этот раз промолчала, будто в рот воды набрала. Сергей снова затормозил, не оглядываясь подождал, когда она подойдет и станет моститься сзади на сиденье, и порядком удивился, когда девушка молча прошла мимо, за обочиной, оставляя ручьистый след на мокрой траве, прошла не торопясь и совершенно, ну прямо-таки ни капельки, не обращая внимания на мотоциклиста.
— Садись, гордая!— окликнул ее Сергей.— Была не была.
Девушка остановилась, шагнула на дорогу, отвела руки назад и нетерпеливо сказала:
— Подъезжайте, что же вы!
«Ну и ну»,— ущемление отметил Сергей и подъехал. Женя чуть опустила голову, пряча победную улыбку.
— Была не была!— повторил Сергей, жалея, что подъехал.— К вечеру доберемся!
— Почему к вечеру?
— Ответственность! Посадил небесное создание, изволь его не растрясти по дороге.
— Ах, вон оно что!— с вызовом сказала Женя.— Пустите меня к рулю!—приказала она.— Держите!
Сергей едва успел поймать тяжелую, как свинцовая болванка, сумку и попятился на заднее сиденье.
–– Если что — зубами за землю,— посоветовал он, следя за тем, как девушка села сначала боком, потом, чуть приподняв подол, перекинула ногу, приподнялась, поправила широкие складки,— и все это спокойно, неторопливо, независимо, будто усаживалась на свою машину,— и только потом отозвалась:
— Вы что-то сказали?
— Зубами за землю, говорю, если что,— неуверенно повторил Сергей, следя за ее руками,— что она будет делать?..
— Старо, товарищ знатный механизатор, позорно старо,— ответила Женя и дала газ.
И они не просто поехали — они помчались. Сразу же, через три-четыре секунды помчались, с места в карьер. Сергей повесил сумку себе на шею и ухватился за сиденье.
––Тише,— попросил он на первом ухабе.
––Тише!— прокричал он после канавы, когда мотоцикл, словно с трамплина, оторвался от земли.
Но Женя не обращала внимания на его окрики, легонько, привычно упруго приподнимаясь на педалях там, где встряхивало.
Они мчались по степной дороге на бешеной скорости, словно были застрахованы от беды. Мчались не только на бензине, но и на самолюбии. Хлынов крепко держался за талию девушки и, выглядывая из-за ее плеча на дорогу, старался приноравливаться на выбоинах так, чтобы машина не потеряла равновесия, и уже молчал, ни о чем не просил, уже не надеялся, что сумасшедшая водительница образумится. Ветер развевал ее волосы, они били Сергея по лицу, не давали смотреть вперед, слепили его.
Минут через двадцать они были на стане.
— Ну, ты даешь!— от души похвалил Сергей, довольный, прежде всего, тем, что добрался до бригады живым и невредимым.— Где научилась-то, когда успела?
— В двадцатом веке каждый должен что-то водить,— отозвалась довольная Женя.— Если не машину, то хотя бы парня за нос.
За длинным дощатым столом завтракала бригада. Когда приехавшие подошли поближе, раздался смех — на белом платье девушки, на самой талии, чернели две пятерни Хлынова. Женя оглядела себя, попробовала даже отряхнуться, нашла в себе силы не сконфузиться и даже рассмеялась вместе со всеми.
— Я же говорила, Хлынов годами не умывается!— послышался задорный девичий голос.
— Факт обжимания налицо! Преступник оставил отпечатки.
Женя узнала Таньку Звон.
–– Садитесь с нами завтракать,— приветливо сказала Танька Жене и подвинулась, уступая ей место. Она как будто извинялась за прошлую их встречу. А может быть, что-нибудь задумала, кто ее знает. Женя не стала отказываться, уселась за общий стол.
Подошла Марья Абрамовна, улыбнулась ей, как давней знакомой, и поставила перед Женей миску с вермишелью и тушёнкой.
Завтрак подошел к концу, все разошлись, а Женя опять осталась вдвоем с Хлыновым. Он старательно орудовал алюминиевой ложкой в алюминиевой миске.
— Значит, вы и есть тот самый Хлынов, который по сколько-то там гектаров скашивает?
— «По сколько-то»,— передразнил Женю Сергей.— А тебе что за дело?
— Я по заданию редакции.
Сергей сделал такое лицо, будто безмерно удивился — кому только не дают заданий эти редакции, каждому встречному и поперечному.
— Какой редакции?
— Газеты «Целинные зори».
— А что это у вас за сидор с красным крестом?— он решил перейти на вы.
— Это не сидор, а бактерийные препараты для вашего совхоза. Я медицинская сестра.
— Как в басне Крылова: пироги печет сапожник.
— Не как в басне, а как в двадцатом веке, я вам уже об этом напоминала. Если медсестра, так она, по-вашему, только банки умеет ставить и все?
Хлынов от души рассмеялся. Нет, она девка с характером, молодец.
— Так что, давайте рассказывайте о себе. Где родились, где крестились, как попали на целину и все прочее.
— Слушай, не сердись на меня, но честное слово, нечего мне рассказывать, да и времени нет. Может, в другой раз? Или с бригадиром, что ли, поговори. А вон, кстати, и сам директор пылит по дороге.
Газик Ткача все заметили издали. Засуетилась повариха, одним движением полотенца смахнула со стола остатки еды, неуклюже переваливаясь утицей, потащила какую-то воду в бадье, чтобы вылить подальше.
— Ткач едет,— пояснил Сергей.
— Боитесь?— поинтересовалась Женя.
— Надо, чтобы боялись,— ответил Сергей многозначительно, и Женя вспомнила слова поварихи, сказанные ею в прошлый раз: «Сергей — парень серьезный...»
Ткач вылез из машины, грузный, широкий в пояснице, в соломенной побурелой шляпе, с открытой, клетчатой от морщин и загорелой шеей. Митрофан Семенович улыбчиво щурил глаза, был доволен, слегка возбужден. Едва вышел из машины, сразу нашел Хлынова и громко позвал:
— Тебя-то мне и надо в первую голову. На минуту,— и медленно позвал к себе тяжелой рукой.
Сергей не спеша, поднялся, не спеша, пошел навстречу» Ткач — важная птица, но и Сергей не воробей. Митрофан Семенович подал ему округлую увесистую ладонь. Сам он уже давно никому не жал руку, только подавал свою для пожатия.
— Вот что, Сергей. Приехало руководство. Сегодня будут у нас, мне позвонили. Должен и Николаев подъехать с ними. Пожалуем к тебе на загонку. Как ты?
— А что я, мне-то что?
— А то, чтобы сам не опозорился и меня не подвел, «Мне-то что»,— передразнил Ткач.— Смотреть будут, спрашивать, прикидывать. Как у нас, да как у других, да у кого лучше. Тут тебе не шаляй-валяй — целина, одна из главных забот на сегодняшний день, понял? Об этом весь мир знает. Ну, парень ты грамотный, политически образованный, читать тебе лекции я не буду. Одним словом, начнут спрашивать про работу,— не стесняйся, не будь красной девицей. Говори, что за вчерашнюю смену скосил девяносто гектаров. А я поддержу.
— Семьдесят, значит, уже пустяк, – обиженно проворчал Сергей.
— Под семьдесят дал вчера Галаган из «Первомайского», а у нас должно быть больше! На «Изобильный» весь район равняется, вся область смотрит.
— Ясно, Митрофан Семенович, но...
— Хватит, Хлынов!— начал сердиться Ткач.— Знаю, что говорю, не стал бы попусту языком молоть. Парень ты неглупый и должен понимать обстановку. Техника у нас передовая и методы скоростные, понял?
Хлынов сплюнул сквозь зубы в сторону, сказал мрачно-весело:
–– Ладно, мне-то что. Хвастать — не косить, спина не болит.
–– Ну и добро... А что там за краля за столом?— Ткач будто сразу заметил лишний рот в семье.
— Да вроде из газеты.
–– Во-во, значит, по тому же самому делу. Ну, давай, Хлынов, действуй, как договорились.
Ткач пожал руку Сергею и, словно отработав его, направился к Жене.
— Марья Абрамовна!—зычно крикнул он на ходу.— Накормили товарища корреспондента?— Видно было, что накормили, но Ткач не мог удержаться от искушения позаботиться.— Мы сегодня ждем высоких гостей, товарищ корреспондент. Можете такое дело в своей газете осветить, это важно и нужно. Вот, прошу познакомиться —. Сергей Хлынов, наш лучший комбайнер, скашивает за смену по девяносто гектаров.
— Это хорошо, поздравляю, только я не корреспондент,— смущенно оправдалась Женя.
Ткач гмыкнул, недовольно глянул на Хлынова.
— Я привезла вам бактерийные препараты из райбольницы. А в газете я на общественных началах. Николаев посоветовал мне написать о вашем совхозе, конкретно о Хлынове.
— Вот и добро, дочка, добро, надо написать. Сначала хлеб должен быть, хлеб всему голова, а потом уже твои препараты-аппараты.
До центральной усадьбы Ткач вез ее на своем газике и всю дорогу, не стесняясь, нахваливал свой совхоз. Да и чего стесняться — ведь не себя же он хвалил, а своих честных тружеников, своих хлеборобов.
В больницу к Малинке каждый день кто-нибудь наведывался, либо товарищи по службе, либо студентки из того самого рыбного института. Со стороны все эти визиты выглядели хорошо, человека в беде не забывали, заботились о нем, но персоналу посетители доставляли немало хлопот. Студентки вели себя скромно и тихо, их появление не вызывало столько шума, как появление солдат. Эти же приезжали с грохотом машин, ставили свои самосвалы под самыми окнами, ни пройти, ни проехать, и лезли скопом в вестибюль. Юные санитарки не сразу впускали их, довольно долго и не без удовольствия пререкались с ними. На всю ораву выделяли по два халата, солдаты надевали их поочередно, забегали на пару минут к Малинке, как будто долг свой солдатский отдать, постоять минуту-другую на посту возле его больничной койки, выбегали, на ходу стягивая халаты, чтобы передать другим.
Ясно, что после таких свиданий халаты тут же отправлялись в стирку.
Кроме довольно однообразных новостей, посетители ничего интересного не приносили. Но они все-таки отвлекали от мрачных мыслей, а мысли такие приходили, и довольно часто, что поделаешь. Молодой солдат, здоровый, как оказалось, не трусливого десятка, а вот временами как накатит-накатит... Он часто представлял себя маленьким и беззащитным, думал много о матери, думал и о том, что вот умрет тут, и неизвестно, где его похоронят: прямо здесь, в степи, или повезут домой, в родную Алма-Ату? Страх смерти навещал его часто — оттого, что временами сдавало сердце, как объяснил Малинке врач. Он не чувствовал своего сердца, он вообще ничего не чувствовал, кроме невыносимой боли, особенно в первые дни. Вот тогда он и думал о смерти, только она и способна была спасти его от боли, ничто другое, никакие уколы не спасали.
Но когда отходила боль, развеивалась тоска, ему становилось стыдно за минуты слабости, мысли о смерти, и само это слово казалось теперь отвратительным, унизительным, недостойным солдата, причем бесстрашного, он не побоялся взять огонь на себя... В этом его убедили друзья, об этом знали студентки и смотрели на него, как на героя, об этом знала вся больница и наверняка весь поселок. Такое на целине не забывается.
И Малинка поверил, что не умрет, не дадут ему люди погибнуть. «Стыдно киснуть!— сказал он себе.— Позорно предаваться унынию. Будь солдатом!»
С первыми бедами он кое-как справился, но вскоре пришли новые терзания – ему надоело лежать на койке почти в одном и том же положении.
В первые дни была угроза гангрены, поговаривали, возможно, придется отнимать ногу. Потом такая угроза миновала. Теперь Малинке хотелось скорее подняться с постели, сесть за руль, газануть, как следует и, высунувшись из кабины, ощутить всей кожей, как бьет в лицо густой степной воздух!
Неизвестно пока, будет ли действовать нога после заживления? «Как бы не было анкилоза, – сказал хирург, и Малинка разузнал, что анкилоз - неподвижность сустава. Вместо шарнирного соединения будет у него прямой стык.
— Нет, анкилозы пусть будут у наших врагов,— сказал Малинка Жене и поклялся при любой боли шевелить обожженной ногой во всех больших и малых суставах,— Своя кожа пропала, не так жалко, а то еще и чужая, приживная, пропадет.
Он выздоравливал, много болтал, и Женя не считала за грех рассмеяться в ответ на его шутку. Малинка смотрел на нее прямо-таки с сыновней благодарностью. Со дня его поступления в больницу она еще ни разу не улыбнулась, наверное, не хотела своим беспечным весельем раздражать больного. Малинка дивился – такая юная и такая мрачная. Медичек, говорят, специально учат не улыбаться на работе, во время исполнения службы, вроде как монашек.
А знает ли Женя о том, что случилось ночью на степном пожаре? Или полагает, что Малинка где-нибудь на кухне от примуса загорелся? Знает, конечно, здесь всё знают и про больных и про здоровых, но все-таки поговорить о себе, о своей жизни, поговорить по душам, пооткровенничать очень хочется. Только не с кем попало, а с некоторыми...
Когда Жени в больнице не было, Малинка раскисал и готов был хныкать от боли, как малое дитя. Появлялась Галя, строго приказывала ему взять себя в руки, но Малинка от ее приказов расстраивался еще больше. Он отказывался от перевязок, когда дежурила Галя, рычал от боли в ответ на ее прикосновения и требовал хирурга. Но при Жене Малинка не стонал и даже не морщился. Пока она готовила стерильные салфетки, погружая их в лоток с мазью Вишневского (а мазь пахла рыбой), он умудрялся рассказать ей что-нибудь из солдатской жизни, бывальщину какую-нибудь нехитрую или анекдот. Любил вспоминать Алма-Ату:
— Ты там не была ни разу? Как же так, и живешь себе спокойно! Там такие горы, такие цветы. «Отец яблок»— само название города о чем говорит. Идешь по улице — сады направо, сады налево, спереди и сзади. Хочешь — сорвал яблоко, съел, хочешь — выбросил, никто и слова не скажет. Сядешь у арыка отдохнуть, смотришь — плывут! Апорт, кандиль, золотой налив, все сорта, бери, не хочу. – Он заметно привирал не только потому, что хотел развлечь Женю, но еще и от тоски по родному городу, хотелось Малинке наделить его и красотой небывалой и изобилием невиданным.
Жене, конечно же, было приятно работать с таким больным. Любому медику должно быть приятно, когда встречают его с великой радостью, а после перевязок, после процедур вздыхают с таким превеликим облегчением и так благодарно смотрят на тебя, что всерьез начинаешь верить – именно твои руки и приносят этому человеку исцеление.
Через неделю в «Целинных зорях» был напечатан очерк «Золотые руки» — о знатном механизаторе совхоза «Изобильный» Сергее Хлынове. Вверху дали крупно его портрет, дальше шел очерк крупным массивом, а внизу стояла подпись: Е. Измайлова. Женя читала очерк, и перечитывала, и самой себе удивлялась — надо же так суметь! Если уж быть до конца честной, ей хотелось бы, чтобы внизу была не только подпись, но и маленькая ее фотография. На память. Ничего в этом нет зазорного. В ее подписи содержится нуль информации для читателя, потому что Измайловых — тыща. А вот лицо ее, как и всякое лицо человека,— уникально, неповторимо. В будущем, Женя уверена, все газеты до этого додумаются. А пока она вполне удовлетворена и такой формой своей славы. Запечатала газету в конверт и отправила папе с мамой «авиа», пусть порадуются, а то они все дрожали, как тут Женя жить будет, не знает, как манную кашу варить, то ли молоко в крупу, то ли крупу в молоко.
Когда Женя принесла свою рукопись в школьной тетрадке в редакцию, ответственный секретарь Удалой прочитал ее тут же и сказал: «Ничего материал, пойдет». Женя ожидала большего, ничего — это, как говорится, пустое место. Но слово «пойдет» ее обнадежило. Так почему бы этому Удалому не сказать прямо, что, дескать, ты молодец, Измайлова, нашла время написать, старалась, ездила на полевой стан, собирала материал, изучала жизнь. Почему бы все это не отметить, не принять во внимание? «Ничего материал...» — кисло так произнес, прямо хоть забирай тетрадку и гордо покидай редакцию. Если плохо, то так и говори, руби со всего плеча, но если хорошо, так тоже говори прямо, труби на весь мир!.,
Все это, однако, так, сопутствующие мелочи. Главное — результат, а он получился неплохим. И про Ткача сказано, прославленного хлебороба, опытного руководителя, воспитателя молодых кадров, и про Марью Абрамовну трогательные строки — мать погибшего тракториста, она тоже считает себя целинницей, нашла свое место в жизни, именно здесь обрела себя, и конечно же, про Сергея Хлынова, подлинного передовика, человека честного, для него вопросы нравственные так же важны, как и вопросы хозяйственные.
И Женя не удивилась, а обрадовалась, как высшей справедливости, когда через несколько дней увидела свой очерк в областной газете. Удалой сам позвонил ей в больницу и сказал: «Ты посмотри сегодня газету, там нас перепечатали». Она посмотрела — это ее перепечатали, а не нас, товарищ Удалой, не вас. Не мог похвалить во-время, а теперь спохватился, так тебе и надо! Женя понимала, заноситься нехорошо, нескромно, но сейчас ей было не до самокритики.
«Интересно, что теперь скажет Николаев при встрече?»— думала она.
Женя показала газету Леониду Петровичу. Он искренне удивился, прежде всего, тому, что Женя нашла время и «написала так много». В этом тоже была похвала, хотя и неуклюжая.
Одним словом, теперь стало окончательно ясно, – то чудесное росистое утро, когда она встретила Хлынова, она запомнит на всю жизнь. И тех славных людей, которых там повстречала,— тоже. И Ткача, и Марью Абрамовну, и даже Таньку Звон, не совсем понятную для Жени, сложную, но тоже ведь фигуру из нашей действительности. Женя всегда будет возвращаться в своих воспоминаниях к первому лету на целине, к милым и сложным людям, чтобы еще и еще раз убедиться, насколько правильно, по-современному она поступила, вызвавшись поехать именно сюда, на целину.
Для нее были одинаково интересными, одинаково милыми все люди «Изобильного». Но вот Хлынов стоял пока что особняком, и чувство к нему было особенным, довольно смутным, неясным. «Надо все беспощадно проанализировать!»— решила Женя.
Что было вначале? Рассвет, вороненая от росы трава, огромное небо и поле. Потом бешеная гонка по плохой дороге, не столько езда, сколько тряска, заячьи прыжки. Может быть, это сумасшествие, этот риск, острота ощущений все это взволновало, врезалось в память и не проходит. Ведь прежде Женя гоняла мотоцикл только в городе по асфальту, на тренировках, гоняла так себе, без особой, без прямой надобности, больше на зависть неумехам девчонкам и в порядке некоторого самовоспитания. А здесь, в поле, была настоящая потребность движения, скорости, была лихость, умение было и потом истинное довольство тем, что испугала самого Хлынова.
Так, может быть, потому и влечет к нему, что он такой пугливый? Еще раз испугать его захотелось, и проявить свою власть над ним?..
Какая, однако, ерунда лезет в голову, как будто весь смысл жизни в том, чтобы пугать кого-то!
А в чем же тогда дело?
«Да, кстати — небрежно продолжала Женя вспоминать,— ведь он, кажется, обнимал меня в дороге». Собственно говоря, он не обнимал, а просто-напросто держался, чтобы не упасть, как держатся за поручни в троллейбусе или друг за дружку в автобусе. Чисто механический жест, действие по упрочению своего равновесия в данный момент, но отнюдь не выражение эмоций. В дороге, кстати, она совсем не чувствовала его рук,— какие же это объятия? Но когда рассмеялись за столом на стане, она почувствовала его руки на своей талии. Задним, так сказать, числом.
А может быть, дело тут в чем-то другом, в искренности, к примеру? Она перед собой искренна, запомнился ей Хлынов и точка! Почему бы его не запомнить на определенное время нормальной девушке? Он не отстающий, а передовой, не безграмотный, а образованный, любит книги, он не крутит, наконец, с бригадными девчонками, и вообще... Почему бы не запомнить его даже на всю жизнь?
Когда Женя увидела свой очерк в областной газете, она вдруг подумала, представила, что вот-вот, на днях, вечером или, может быть, ранним-ранним утром примчится к ней на мотоцикле Хлынов. Веселый, довольный, спросит, как ей живется, как работается и, главное, ни словом не упомянет о газете и даже спасибо не скажет, хотя именно за этим и приедет, чтобы сказать спасибо.
Такой у него должен быть характер. Во всяком случае, Жене хочется, чтобы он был таким — всё помнил, но не всё говорил.
Однажды она решила, Хлынов приедет к ней именно сегодня вечером. Нельзя сказать, чтобы она специально готовилась к этой встрече, сделала себе прическу, надела какое-то особое платье, нет, просто она ждала и даже была уверена, что именно сегодня он появится. Ждала допоздна и особенно остро чувствовала свое одиночество.
В полночь она решила, что-то произошло, и Хлынов сегодня не придет. Но он должен непременно прийти завтра. Она велит ему прийти, повелевает, командует на расстоянии – ты придешь!
Как-то раз в училище была у них встреча с молодым врачом-психиатром. Он рассказывал о гипнозе, о биотоках мозга, о передаче мыслей на расстоянии, о психологических опытах Мессинга. Встреча прошла интересно, не то, что лекция на антирелигиозную тему, тем более, что психиатр не ограничился словами, теорией, но и показал кое-что практически.
Он вышел на середину зала и попросил положить на стол перед ним несколько разных книг. Просьбу его тотчас выполнили. Затем врач попросил кого-нибудь из присутствующих, по желанию, подойти к столу, выбрать книгу, раскрыть ее, запомнить строку, страницу, записать на отдельной бумажке все эти сведения — название книги, строку — и передать их в аудиторию для контроля.
Жене показалась забавной эта затея, что-то вроде фокуса, она первой выбежала к столу, быстренько перебрала книги, выхватила томик Маяковского и запомнила строчки: «Отечество славлю, которое есть, по трижды, которое будет!» Передав записку студентам, Женя недоверчиво улыбнулась врачу, желая тем самым сказать, что одурачить ее не так-то просто, халтурить ему будет трудновато, дескать, не на ту напал и все такое прочее. Врач стремительно подошел к ней, строго приказал: «Серьезней!» Схватил рывком ее руку, положил ее пальцы себе на запястье. «Держите! Крепче! Крепче! И диктуйте мне, то я беру или не то! Мысленно диктуйте!» Говорил он быстро, нервно, и Женя почувствовала, как бледность стягивает ее щеки и как потерялось ощущение аудитории, будто они остались вдвоем с этим ненормальным субъектом.
Врач согнулся над столом, и, взахлёб, хрипло повторяя: «Диктуйте, диктуйте!», начал рывками водить над книжным развалом растопыренными пальцами свободной руки. Лоб его вспотел, нос заострился, все это испугало Женю, и она изо всех сил отчаянно диктовала, стремясь поскорее закончить опыт, боясь, что не выдержит долго эту нервотрепку. Едва он коснулся томика Маяковского, как она, что называется, всеми фибрами души скомандовала: «То!» Врач выхватил книгу и тем же глухим голосом, требуя диктовать, начал листать страницы.
Одним словом, он нашел эти строки и размашисто, сердито, как будто Женя в чем-то виновата, подчеркнул их карандашом.
Нет, это был не фокус, не цирк, не забава. Женя не сразу пришла в себя, не сразу стала восторгаться, до того рада была избавлению от опыта, он вызывал у нее что-то вроде суеверного страха. Лишь потом, постепенно опомнившись, она осознала, насколько все это было здорово. Она убедилась на практике в силе нервной, психической, мысленной энергии человека. Ученые объяснили, наконец, что такое колдовство, напомнили человеку, какой силой он обладает...
Женя вспомнила этот случай сейчас, в бессонную ночь. Она представила полевой стан «Изобильного», низкое степное небо, серые сумерки, размытый свет «летучей мыши», вагончик со светлыми ступеньками, представила лицо Сергея Хлынова и продиктовала ему: «Ты придешь! Ты придешь!» И умилённая своей наивной верой, своим чистосердечным желанием, спокойно уснула.
И Хлынов пришел.
Хлынов пришел в больницу и, как Жене того хотелось, ни слова не сказал о газете, о своей работе, а первым делом спросил, где Ирина.
— Ирина Михайловна?— уточнила Женя.
— Да, Ирина Михайловна.
—А что случилось? — спросила Женя в некоторой растерянности.
— Дело есть...— Сергей помедлил.— Да вот, руку перебинтовать.
Он показал окутанные грязным бинтом пальцы. И вообще он выглядел сегодня неважно, не побрился, веки порозовели, плохо спал.
«Зачем он сюда-то ехал?— подумала Женя.— Разве в «Изобильном» не смогли бы сделать перевязку?»
Если бы он не спросил, где Ирина, а прискакал сюда к Жене, тогда все было бы ясным и понятным.
— Идемте,— проговорила она расстроено, и повела Хлынова в ординаторскую.
Там сидел Грачев. Жене показалось, при виде его Сергей изменился в лице и глянул на Женю в высшей степени вопросительно.
— Леонид Петрович, посмотрите руку нашего прославленного механизатора.
Грачев приветливо встал, шагнул к Хлынову.
— Надо беречь золотые руки,— сказал он с мягким укором.
Сергей только поморщился на его слова и ничего не ответил.
Хирург внимательно осматривал руку Хлынова. Молчание казалось Жене неловким, тягостным.
— Как там у вас дела на стане, Сергей? Как Марья Абрамовна поживает, как другие?
— На стане? У нас?— живо переспросил Сергей, как будто обрадованный тем, что Женя предложила тему.— Да так... Плохо, короче говоря, на стане. Вчера подрались, к примеру. Я одному деятелю по морде дал. Ну и он мне. И правильно сделал.
— Странно,—Женя огорченно пожала плечами.— Такая примерная бригада. Вас в газете хвалили...
— Да в том и беда, что хвалили. Написали, что я скашиваю по девяносто гектаров, а я на самом деле больше семидесяти не давал.
— Но я ведь не с потолка взяла эту цифру, мне ее Ткач назвал. Да и вы были тогда, кажется, при нашем разговоре. Кто же виноват?
— Кто виноват, кто виноват,— проворчал Сергей.— Так вышло. Я, как тот мужик, задним умом крепок. А теперь мне тычут в глаза липовым рекордом, двадцатью приписанными гектарами. Даже те, кто за смену дает только вот эту разницу, и те лезут с упреками, совесть мою проверяют. Ревизоры нашлись. «Хлынов брехун, Хлынов подлец, врёт на каждом гектаре. Душу за славу продал». И прочее. А ко мне учеников уже присылают на семинар,— передавай, Хлынов, опыт. Ткач ликует, не нарадуется. Противно хвастать, но разве семьдесят — это плохо?
— Хорошо, конечно, хорошо,— тихо, растерянно ответила Женя.— Но как же это могло получиться?— Голос ее дрожал. Чего ради они завели вообще такой разговор при Грачеве.— Извините, Леонид Петрович, мы увлеклись.
Хирург закончил перевязку, внешне безразличный к их разговору, сказал:
–– Ничего страшного. Завтра и послезавтра принимайте стрептоцид по четыре раза в день. Возьмите в нашей аптеке.
— Спасибо, доктор,— Сергей пошел из ординаторской, Женя за ним. Разговор, как ей показалось, только начат, но далеко не завершен.
— Минутку, Хлынов, мне бы хотелось продолжить,— требовательно сказала она и даже взяла Сергея за рукав.
— О чем продолжать-то?— рассеянно отозвался Хлынов, как будто для него было важно, прежде всего, присутствие хирурга, а не одной только Жени.
— Как же это получилось с гектарами?
— Да так вот и получилось. Меня в этих гектарах, как в омуте утопили, с ручками. А другой как давал крохи, так и сейчас дает. Целинники! А я, видишь ли, сволочь. Даю в три раза больше всякого — сволочь... Да ладно, чего это я завел!
Жене показалось, напрасно они уединились, ушли от хирурга. Неужели она испугалась, что он стал свидетелем ее, мягко говоря, ошибки? Он в стороне, спокоен, поскольку никакого участия в этой истории не принимал, не то, что Женя.
Но чем он сейчас поможет? Медицина бессильна, когда речь идет о совести.
— Сергей, прошу вас не уходить. Мы должны сейчас же кому-то обо всем рассказать.
Хлынов жестко усмехнулся, посмотрел на расстроенное лицо Жени, попытался ее утешить:
— Расскажем, но не сейчас. Не время сейчас про такие дела говорить. А в общем, у Ткача такие замашки были, так что Америку не откроешь. Как только появляется в районе какое-нибудь начальство, так его сразу к нам, Ткач встречает с распростертыми объятиями, звон поднимает на всю область. Сказать по правде, ему есть, чем гордиться, умеет руководить, но.. шибко он арапистый. Все это я тебе выкладываю, знаешь для чего?
— Для чего?
— Чтобы ты не всему верила,— он поднял свою перебинтованную руку к ее лицу, повертел ею.— И вот этому тоже. Улыбнулся, видя ее совсем растерянное лицо, и бодро закончил:— Ничего, Женечка, найдем способ исправить дело. Только не надо каяться пока и не горюй, Женечка.
Так ее называла только Ирина Михайловна,
Тяжело было Жене ошибиться в Хлынове. Она, можно сказать, любила его как своего героя, написала о нем в газету с таким воодушевлением. Теперь оказалось всё другим — и цифры не те, а главное, человек не тот.
А какой он, Женя и сама не знает. Если бы он был совсем плохим, никудышным, то стал ли бы он откровенничать, говорить о своем, как ни крути, позоре?..
О рекорде Хлынова на всю область раструбила она — Е. Измайлова. А рекорд оказался липовым. «Золотые руки». Как глупо, как ужасно, постыдно все получилось!.. Теперь ей уже стало казаться, от Ткача можно ожидать любой подлости. Что ему стоит отказаться от своих дутых показателей, возьмет да и скажет: ничего не говорил он какой-то там Измайловой, не называл завышенных цифр, представьте, мол, документ. Да и вообще она не журналист, а всего-навсего медсестра, приврала, дескать, сама на общественных началах, чего ей стоит, молодой и безответственной. Вот будет ей наука тогда.
Почему люди лгут, для чего? Истина всегда конкретна, а ложь в каждом случае имеет свои поводы, мотивы, причины. Обманули ее, Женю Измайлову, и она ввела в заблуждение тысячи читателей газеты, верящих печатному слову.
— Леонид Петрович, как вы относитесь к обману?— спросила Женя Грачева.
Он слабо улыбнулся, пожал плечами.
— Для меня это очень важно!— горячо продолжала Женя.
— Обман — понятие растяжимое,— неопределенно сказал хирург, посмотрел Жене в глаза и, видя, что общими словами не обойтись, заговорил серьезнее, сосредоточенней:— Есть такое понятие — святая ложь. Медики вынуждены иногда скрывать правду от больного.
— Понимаю, если у больного, к примеру, рак.
— Или возьмите сказку, тоже ведь неправда. Но она необходима человеку по каким-то глубоким внутренним потребностям. Разве плохо — лягушка на болоте стала вдруг Василисой Прекрасной.
— Хорошо. Иногда так и в жизни бывает. А иногда и наоборот...
— И еще мечта, Женя, фантазия. Тоже ведь в отрыве от действительности, от грубой правды, но она возвышает душу. Но есть и низкий, подлый обман, бытовой, к примеру, муж обманывает жену и прочее. Или очковтирательство, так называемое, именно оно вас сейчас и взволновало, если не ошибаюсь.
Женя вздохнула, не совсем удовлетворенная спокойной рассудительностью хирурга. Надо обо всем поговорить с Николаевым, иначе ей не будет покоя, ведь это он ее надоумил писать о Хлынове, подтолкнул, благословил, в сущности.
Женя зашла в райком и сразу же столкнулась с Николаевым в полутемном коридоре.
— Товарищ Николаев,— окликнула Женя, совсем уже не так решительно, как тогда в поле, на дороге, когда сделала ему прививку.
Он приостановился.
— Вы не узнаете меня?
—Узнаю, вы Женя Измайлова.
Она с облегчением улыбнулась.
— У меня к вам один вопрос...
— А вы не могли бы зайти позже? Меня ждут внизу в машине.
Женя помедлила. Позже она может и не зайти, еще раздумает. Следовало бы все-таки сказать о Ткаче сейчас, тут же, но Женя чувствовала, может получиться скомканно, да и Николаев торопится.
— Хорошо, я зайду позже,— сжалилась над ним Женя.
Неужели, кроме нее, никто другой не знает всей правды и ни о чем подобном не думает? Почему именно она должна стать впереди всех в этой истории?
Потому что она ответственна больше других, поскольку вышла через газету сразу к большому числу людей. И все-таки в глубине души Женя надеялась, Хлынов найдет какой-то выход и без ее помощи,— он обещал ей и просил не горевать.
Через неделю она увидела в «Целинных зорях» сообщение аршинными буквами: «Совхоз «Изобильный» первым в области завершил уборку!» В передовой статье говорилось, что Сергей Хлынов в течение трех последних дней убирал по девяносто гектаров за смену.
Женя вздохнула с облегчением. Значит, все-таки они молодцы, значит, на самом деле там у них боевое, сильное руководство, способное исправлять ошибки по ходу дела. Хорошо, что Женя не пошла к Николаеву — жаловаться, признаваться, каяться — положение выровнялось, а о частностях можно будет поговорить потом.
А Сергей молодчина, дотянул до своего рекорда, славный, красивый, мужественный Сергей Хлынов.
Весть о том, что Ткач официально заявил об окончании уборки, услышали на бригадном стане от горючевоза.
— Первые в области. Уже по радио раза три передавали,— беспечно балагурил горючевоз.— Ждите, хлопцы, орденов и медалей, крутите дырки на пиджаках, Ткач свое дело знает.
Недоброе отношение к Хлынову стало сейчас в бригаде еще более резким. Получилось так, что директор всегда и во всем опирался на Хлынова, на его авторитет, на его покладистость, на его возможности работать с бешеной энергией и выкручиваться из таких положений, где сам чёрт себе башку сломит. Получилось, в конце концов, что Хлынов более других солидарен с Ткачом, во всем ему потакал, соглашался с приписками и ни разу не взбунтовал открыто, а только злее работал. Все были мрачны и молчаливы, умышленно уклонялись от выяснения отношений, откладывая свой гнев напоследок, до того момента, когда пойдет решительный разговор об ответственности. А разговор такой состоится рано или поздно, шила в мешке не утаишь.
Десятого сентября в бригаде ненадолго появился Ткач, похудевший, осунувшийся. Он уже не приказывал, как прежде, только просил: «Жмите, ребята, жмите на всю железку...»
— Выручай, Хлынов, поговори с хлопцами, поддержи боевой дух,— глуховато попросил он Сергея, пытаясь с прежней начальственной повадкой похлопать парня по плечу, но Сергей в ответ хмуро отвернулся и ничего не сказал. Ему было жалко Ткача...
Двенадцатого случился на кухне пожар. Кое-как успели загасить пламя, никто не пострадал, но фанерная, высушенная до звона крыша успела сгореть, и вид у кухни стал унылый, голый, и невольно думалось, – случай не к добру. На полдня задержали горючее — это в такой-то момент!— и бригадир не находил себе места от злости. Стало вдруг заметно, ребята перестали бриться, Марья Абрамовна пересолила суп, и вообще повеяло от когда-то веселого, живого стана безнадежной усталостью. Что ж, дело сделано, вся область уже знает о том, а они работают, не покладая рук.
Дело сделано, а сотни гектаров хлеба стоят на корню...
Двенадцатого ночью Хлынов и Танька Звон работали па соседних загонках, рядом. Остановили машины глухой ночью. Было пасмурно, очень темно, небо висело низко, зловеще, комбайны, похожие на усталых животных, опустивших кургузые хоботы, едва виднелись на фоне неба.
Танька перешла загонку с телогрейкой на одном плече, приблизилась к Хлынову.
— Холодно, Сергей!— сказала она напряженно громко.— Давай вместе вздремнем.
— Вместе так вместе,— устало согласился Сергей. Она оживилась, будто и не устала, начала сгребать валки, переносить их на жнею, устраивать лежбище.
— Моя телогрейка поменьше, постелим ее вниз,— говорила она деловито.— А твоя побольше, ею накроемся.
Голос ее изменился, стал непривычно ласковым, и она впервые показалась Сергею жалкой, слабенькой девчонкой, и доброй.
Становилось все холоднее, и только под пшеницей они могли найти спасение от холода.
Она легла первой и молча ждала Хлынова.
Он прилег рядом, на краешек, но она притянула его ближе. Сергей покорно придвинулся, так было удобней и теплее. Пахло от нее комбайном, полем, непросохшей травой.
— Спать давай, Танька,— сказал он хрипловато-сонным голосом.— Ты молодец, ты работяга, Танька...
Она ничего не ответила, посмотрела на него и, убедившись, что он закрыл глаза и всерьез, без притворства засыпает, тормошнула его:
— Сергей, подожди! – Он открыл глаза.
— Спи, Таня, спи... Завтра опять за штурвал, передышки не будет. Еще ведь чёрт знает сколько...
Сергей снова закрыл глаза. Танька сильно затормошила его, припала горячими губами к его колючей щеке. Он сонно помотал головой, высвобождаясь. Танька возмущенно приподнялась, сказала с болью:
— Сергей, но я не могу спать! Слышишь, Сергей!
Ей как будто стало душно, несмотря на холод, она дернула платье на груди, с треском сорвала поясок.
— Почему ты отворачиваешься, Сергей?!
Он очнулся, встревоженный ее неумеренной настойчивостью.
Увидел ее сверкающие глаза, сказал мягко:
— Не надо, Танька... Устал я и вообще...
— А в прошлый раз? Я даже не верю, что это ты со мной был.
— В прошлый раз я был пьян. И вообще дурак. А сейчас, Танька, я открыл закон. Все глупости в жизни происходят от того, что совесть у одних есть, а у других ее нет. Разнотык получается, непримиримое противоречие. Открыл я, можно сказать, закон совести, тебе понятно?
Она долго молчала.
— Понятно... Я тоже закон открыла. Для себя. На Колыму мне надо ехать. Там, говорят, женщин недобор. Кому-нибудь еще понравлюсь.
— Эх, Танька, Танька, и жалко тебя, и зло берет. А я не могу, Танька, я не хочу — и крышка. Я другую люблю, хочешь верь, хочешь нет.
Она отодвинулась, независимо легла на спину, заложила руки за голову. Долго смотрела на темное небо и, наконец, прежним забубённым и хамовнтым голосом проговорила:
–– А ведь мне чужие мужья говорили, что одно другому не мешает.– И молча уставилась в небо немигающими глазами, в них мерцала темнота ночи. Потом обронила обиженно, мстительно: – Ты просто валенок сибирский, вот и выдумываешь законы.
Надо было урезонить ее и спать.
— Интересно, какой я у тебя по счету?
— Скажу — обидишься.
— Не обижусь. Я арифметику с детства люблю.
Танька помолчала. Она не думала отвечать на глупый вопрос, но волей-неволей вспомнила главного механика, он встречал их эшелон на станции и сразу посадил Таньку в кабинку к себе, и потом она жила в его квартире, пока не приехала у того жена с ребенком. Вспомнила завклубом, с ним вместе пели зимой в самодеятельности, и еще вспомнила бесшабашно-веселого, всегда пьяненького, молодого, но уже лысого журналиста, который прожил в поселке полмесяца лишних из-за нее, Таньке пришлось самой его выпроваживать... Вздохнула и сказала:
— Все равно ты у меня самый первый.
Он не отозвался, не слышал уже, спал. Таньке стало обидно, и она заплакала тихо, без содрогания, боясь разбудить спящего.
Почему ей всю жизнь не везло? Почему у других то же самое называют любовью, дружбой, а у нее обязательно связью или блудом? Впрочем, наверное, не было у нее любви, это правда, ни один чистый парень не просил ее выйти за него замуж. Еще в Риге одна старшая Танькина подруга любила повторять, клоня голову к плечу и щурясь от сигаретного дыма:
— Теперь мужчина не тот пошел. Раньше хоть и врал, но с первой встречи обещал жениться. А сейчас все честные, все предусмотрительные.Не успеет познакомиться, сразу предупреждает, чтобы, мол, без последствий, жениться не собираюсь...
Танька прерывисто вздохнула, расправила телогрейку, накрыла ею Сергея с головой, сама накрылась и сразу уснула.
Когда проснулись, было почти светло, снежно-светло и мглисто. Поле было седое, стоял мороз. Сергей вскочил первым, мгновение что-то соображал, потом ринулся к мотору, нашарил головку блока.
— Разморозило!— бешено заорал он.— Беги к своему! Воду не спустили!..
Танька, еще не успев очнуться после сна, побежала к своему комбайну, спотыкаясь, оскальзываясь на снегу, добежала, чем-то звучно загремела и побежала обратно. Она торопилась, как будто можно было еще что-то успеть сделать.
Там, где лежали валки пшеницы, возвышался длинный, плоский, уходящий вдаль сугроб, похожий на братскую могилу. На середине загонки Танька в бессилье остановилась, глянула на край мертвого поля, где мутно светлел восход, вскинула руки и стала взахлёб слать проклятья всему на свете.
Никогда не думал Митрофан Семенович, что его может до такой степени напугать приезд секретаря райкома Николаева. И никогда раньше не примечал он, что Миша, водивший райкомовскую «Победу», симпатичный парень, бывалый, расторопный, все умеющий, всегда вежливый, способен заговорить таким прокурорским тоном. Войдя в переднюю, можно сказать, без разрешения, Миша непотребно громко спросил, дома ли сейчас Ткач. Охамел, забыл, как звать-величать директора прославленного на всю целину совхоза.
Митрофан Семенович намеренно помедлил в другой комнате и, слушая, как чаще забилось сердце, вышел на зов. Миша, щеголеватый, как всегда опрятный, не поздоровался первым.
«Тебе бы на загонке потеть, а не начальство катать. Не шофер, а, честное слово, водитель»,— хотел заметить в отместку Ткач, но раздумал и сердито, начальственно спросил:
— Чего тебе?
— Вас товарищ Николаев ждет в машине. Просит проехаться.
«Прое-ехаться»,— мрачновато усмехнулся Ткач.
— Скажи ему, сейчас я.
И указал шоферу подбородком на дверь, продолжая безрассудно на него злиться: «Не водитель, прости господи, а возитель».
Закрылась дверь за валенками парня, и Ткач вздохнул: «Всё-ё». Всё! Конец всему. Не было ничего, нет и не будет...
Самое емкое для такого случая слово, самое подходящее — всё! Вспомнилась некстати или, наоборот, в самый раз, какая-то кинокартина про торгашей, дурацкая длинноносая морда жулика, получившего повестку и собирающего в чемоданчик полотенце, мыло, зубной порошок...
Он разворошил на вешалке одежду, откинул дождевик и новое добротное пальто с каракулем, только вчера поднятое женой из сундука, еще с запахом нафталина, надел потрепанный полушубок, криво нахлобучил шапку. Прежде подтянутый, любивший пофорсить даже, сейчас он бессознательно или, опять-таки наоборот,— сознательно, напяливал, что похуже и чуял в этом маскараде выражение страха перед Николаевым. И еще смутную надежду на жалость к себе, на какое-то сострадание хотя бы за непривычный такой вид.
Против дома на дороге стояла «Победа». Уже смеркалось, и было непривычно белым-бело — снег выпал позавчера. Первый снег...
На переднем сиденье темнели два силуэта. Значит, никого больше не прихватил с собой Николаев, один приехал суд вершить.
— Здравствуйте, Юрий Иванович,— сказал бодрясь Ткач и распахнул дверцу.
— Здравствуйте,— не оборачиваясь, ответил секретарь райкома.
А раньше протягивал руку первым и радовался Ткачу, как отцу родному, сейчас же сидел не шевелясь, в большой пушистой шапке, в мохнатой дохе, массивный, как будто тяжелый от недобрых чувств.
— Куда прикажете?— спросил вдруг Миша, оборачиваясь к Ткачу.
— Как куда?..— растерялся Митрофан Семенович.— Сами подняли человека, на ночь глядя...
— Поедем туда, где пропал хлеб,— сказал Николаев и резко обернулся.— Сколько?
В неполной темноте глаза его сверкнули немилостиво..
— Да там, Юрий Иванович... говорят больше. Ткач завсегда для других бревно в глазу,— деланно усмехнулся Митрофан Семенович.— Им только дай...
— Поехали!— перебил Николаев и отвернулся.
— Куда ехать?— повторил Миша, повернув ухо к Митрофану Семеновичу и продолжая косить глаза на дорогу.
— Прямо,— отозвался Ткач, откинулся на сиденье и густо засопел. «Угодник, официант, а тоже из себя меч правосудия строит...» Помолчал, но долго терпеть не смог:— Значит, гроза бьет по высокому дереву, Юрий Иванович?
Николаев не ответил.
— Так оно выходит,— с надеждой хоть на какой-то разговор продолжал Митрофан Семенович.
Ехали молча. Хотелось Ткачу отъехать как можно дальше, чтобы Николаев не подумал, что оставили клин под самым носом. Немеряны земли у совхоза, может, и недоглядели где-нибудь в закутке, чем черт не шутит... Мысль глупая, но все равно хотелось отъехать подальше.
Доехали нежелательно быстро. Ткач первым заметил синеватую, едва заметную тень, откуда начиналась полоса заснеженной пшеницы.
— Здесь! – сказал он бодро и громко.
Миша слегка притормозил, посмотрел вопросительно на Николаева, но тот кивком велел ехать дальше. Ткач вспотел, снял шапку, вытер рукавом полушубка взмокший лоб.
— Здесь, говорю,— повторил он глухо, не узнавая своего голоса.
— Дальше!— гневно сказал Николаев.
Тянулось и тянулось погибшее, неубранное, сникшее под снегом поле как бы в тяжелой укоризне. Миша вел машину медленно, очень медленно. Для чего? Ждал с минуты на минуту приказания остановиться или медленно терзал душу Ткача? И не мог сейчас Митрофан Семенович приказывать на своем поле. Теперь это было преданное им поле.
— Стой!— резко, громко велел Николаев и сильно, рывком толкнул дверцу.
Следом за ним вылез, кряхтя и чувствуя себя старым и дряхлым, сам Митрофан Семенович. Остановился, сутулясь, потупясь, невольно, необоримо стремясь показать, как он стар и как немощен.
— Значит, район наш вышел на первое место,— очень тихо начал секретарь райкома, так ненормально, неподобающе тихо, что у Митрофана Семеновича заныли сжатые челюсти.— Об этом уже известно всей республике. Честь нам и слава.
Он говорил простые, известные слова, повторял, в сущности, но казалось сейчас, подбирал он их с мучительным умственным напряжением и именно обыденностью этих слов хотел подчеркнуть, что ли, момент.
— Выполнили и перевыполнили,— сказал Николаев громче, наращивая злость в голосе.
В короткой дохе секретарь райкома был похож на тонконогого медведя. Носил боты «прощай молодость», не признавал сапог и валенок. Стиляга... Обо всем этом робко, бесчувственно, просто так думал сейчас Ткач.
— Ордена скоро придут!— выкрикнул вдруг Николаев жарко.— Ткачу — за перевыполнение, а мне — за воспитание таких вот дос-той-ных кадров! А это как называется?!— Николаев вскинул прямую руку над снежным полем, подался вперед, застыл.— Как называется, я вас спрашиваю?!
Ткач переступил с ноги на ногу. Ничего не ответил, да и что ответишь сейчас, какими словами?
— Капиталисты топят пшеницу в океане, чтобы она людям не досталась. Ты утопил хлеб в снегу! Пустил чёрту под хвост труд своих же, совхозных людей, с которыми вместе живешь, ешь, пьешь! Славы захотел?! Сколько?!
— Больше говорят,— с прежней бессмысленностью, упрямо повторил Митрофан Семенович, с усилием, по-бычьи отстраняясь от глаз Николаева.— Полста шагов — не больше...
— Шагай!— Николаев снова вскинул руку в сторону хлебов.— Меряй!
И Ткач пошел. Иначе, если остаться, Николаев будет кричать и кричать — сколько?!— и придется ответить, в конце концов, — триста. Знал Митрофан Семенович, сколько, знал до снега, да язык не поворачивался. Не один, не два, не десять, а триста гектаров!
Споткнувшись, Митрофан Семенович перешагнул обочину, поплелся, вошел в пшеницу. Сапоги его цепляли и с треском рвали тугие стебли. Тупо глядя перед собой, он начал считать. Потом беззвучно заплакал, но продолжал идти, надеясь на оклик сзади и глядя невидящими от слез глазами. Скоро он сбился со счета, перестал ждать оклика Николаева; но всё шел и шел, смаргивая холодные слезы. С каждым шагом перед ним с колосьев опадал снег. Наверное, от слез на минуту стало легче, просветленней. Припомнилось Митрофану Семеновичу, как внучек его, тонкошеий школьник, читал молитвенным голосом: «Или вы хуже других уродились? Или не дружно цвели-колосились?..
Митрофан Семенович устал, оглянулся на темный след освобожденной им от снега пшеницы. Дорога уже потерялась из виду. Молчаливая, мутная, безветренная степь глохла рядом, вокруг, в сине-черной темени.
И Ткач почувствовал себя один на один с этой белой неуютной землей, с сожженным морозом хлебом. Один на один сам с собой и с мыслью, что поздно думать, поздно выбирать решение... Был бы покос, да пришел мороз.
Он пошел обратно по темному следу. Вышел на дорогу и увидел, что машины нет — Николаев уехал.
Долго понуро стоял на дороге Ткач.
«Секретарь райкома тоже человек, а не устав»,— решил, наконец, он, как ни странно, довольный тем, что не придется хотя бы сегодня смотреть снова в глаза Николаеву, и в то же время, не прощая секретарю горячности,— ведь бросил фактически живого человека в поле, одного, волкам на съедение.
«Или не дружно цвели-колосились? Или мы хуже других уродились?..»— заунывно повторялись строчки то так, то этак, и больше ни о чем не хотелось думать, будто голову набили мокрой соломой.
Вспомнилось детство, деревня, крытые вприческу избы, старый отец, батя. Вот он стоит на меже, ветер косит его бороденку, он в сивой длинной рубахе и тупых лаптях. И ничего-то у него нет, ни комбайна, ни трактора.
Долго ли брел Митрофан Семенович один, он не помнит. Потом впереди показался свет фар, и по низкому их расположению Ткач определил, идет легковушка. В нескольких шагах от него машина стала разворачиваться, и Митрофан Семенович увидел силуэты Миши и Николаева. «Победа» остановилась. Ткач выпрямился, расправил плечи, намереваясь пройти мимо с поднятой головой. Когда поравнялся, звякнула дверца, и Николаев глухо и негромко сказал, будто предлагая мировую;
— Ладно, Митрофан Семенович...
Ткач послушно повернул к машине, пригнулся, полез на заднее сиденье. Усевшись, он неожиданно для самого себя сказал:
— Лучше оно подъехать, конечно... Все-таки километров двадцать, не меньше.— И опять подумал о том, что слова его секретарь райкома должен принять к сведению: все-таки не под самым носом недогляд...
С чего началось, когда, с какого факта, с какого слова,— не вспомнить теперь Митрофану Семеновичу. И вот какой строгой ясностью вся эта история завершается.
...До самого поселка все трое не проронили ни слова. Каждый думал по-своему об одном и том же. Именно сейчас, наверное, решил Николаев, надо и Хлынова привлечь к ответственности. Об участи Ткача теперь нечего думать и тем более спорить.
Но что сделал Хлынов, какое преступление он совершил?— спросят члены партийного бюро. Ведь он честно трудился, честно спасал хлеб. Николаев ответит, – сейчас, в такой обстановке, мало для коммуниста просто трудиться и даже трудиться лучше всех — мало.
Мы часто говорим о значении коллектива, о его силе, о коллективной ответственности за каждый проступок. Но почему не о личной ответственности в первую очередь? Совесть не коллективное, а сугубо индивидуальное, личное свойство души человеческой. Может ли коллектив уследить за всеми действиями одного бессовестного своего члена?
Николаеву, пожалуй, ясно, что толкало Ткача на враньё, смягченное словцом очковтирательство. Допустим, он успел бы втихомолку убрать оставшийся хлеб, не помешай снег. Втихомолку, позже других, но не в этом же для Ткача дело. А в том дело, насколько успешно, удачно, своевременно поддержал он славу передовика. Потом получил бы награду. Спокойно жил бы и работал дальше. Выполняя и перевыполняя. А в душе того же Хлынова, или вот этой светлой девчонки из больницы, в глазах сотен других целинников он стал бы носителем лжи, прикрытой наградой. Зато будет чем гордиться «Изобильному», да и всему району, – еще один Герой труда появился, вырос на нашей ниве, знаменуя еще один успех в великом деле освоения целинных просторов. И всё будет на своем законном месте. Награда — Ткачу, хлеб — в закрома государства; днем позже, днем раньше, экая беда!..
Но ведь что-то же останется после этого факта лжи. Останется невесомое и пока — пока!— незримое: подрыв веры в справедливость, раздвоение правды на истинную и показательную, наградную. Если мы строим коммунизм, то должны на корню пресекать всяческие проявления отрицательных, безнравственных поступков. Наши потомки должны поверить, что коммунизм — это еще и победа совести на земле.
И разгильдяйство с комбайнами некоторые тоже сочтут за мелочь, за некий привычный урон. Николаев вспомнил, как вчера ворвалась к нему в кабинет девчонка с раскосыми отчаянными глазами и заявила, –– Хлынов ни в чем не виноват, он приказал ей спустить воду, да она забыла. Николаев ей не поверил, знал, не такой Хлынов парень, чтобы заставлять кого-то выполнять за него работу. Девчонка пришла заступаться без его ведома.
Так за что же мы привлекаем к ответу Хлынова?— спросят члены партийного бюро, особенно те, кто постарше. И Николаев твердо ответит – за отсутствие партийной активности! За равнодушие к безнравственности Ткача!
* * *
...Дома внуки уже спали. Они жили у Ткача второй год, было им здесь привольно и зимой и летом, один учился, другой ходил в детский сад. Это были первые внуки, и Митрофан Семенович твердо решил усыновить их по здешнему казахскому обычаю, чтобы не скучать на старости лет им со старухой.
Дети спали, ничего не зная, не ведая. Жена Митрофана Семеновича, давно привыкшая к частым тревогам, позевывая, стала готовить ужин, поставила на плиту сковородку и положила на нее серые, обвалянные в сухарях котлеты. И вдруг котлеты страшно напомнили Митрофану Семеновичу голодный двадцать второй год и лепешки с белесыми, мелкими остинками лебеды, такие же серые, глиняно-тяжелые, распадающиеся в руках.
Ел он плохо, не отвечал жене и сразу лег. Не спал долго, слушал, как через каждые полчаса мягко, пружинно-раскатисто звенели настенные часы, подарок дочери.
Не спалось, не думалось.
Жил громко, буйно, в трудовой коловерти и вот остался один. Спали внуки, спала жена, тихо раскачивался желтый маятник. Часы звучали и звенели по церковному, будто пели отходную. Молчал поселок, поднятый Ткачом от первого колышка, молчала степь кругом. И до рассвета виделось ему печальное поле в тихом сумраке, в белом саване, в тумане дальних лощин...
Напористо прижимали холода, ветер трепал дымки над крышами, строители сдали последние дома. Наконец-то и в доме медиков устроили новоселье.
Женя и Галя стали полноправными хозяйками одной комнаты площадью 12 метров. В двух других комнатах поселилась семья Грачевых. Теперь у Жени с Ириной Михайловной была общая кухня, общая крыша, один дом. Женя каждый день стала забегать в промтоварный магазин, спрашивала, когда будет тюль на окна, дорожка на пол, не помешало бы ей и хорошее покрывало на койку.
Домовитая Галя принесла с собой множество салфеток и всяких шторок, она заранее готовилась к новоселью, не то, что Женя. Они с Галей оказались совсем разными. Галя любила тишину, покой, целый день могла просидеть над вышивкой и тихонько петь украинские песни. Читать она не любила, зато могла подолгу колдовать на кухне над какой-нибудь простенькой едой. Женя считала ее девушкой без полета и не понимала, зачем Галя поехала на целину.
Двадцатого октября выпал снег, чтобы уже не сходить до весны. Он падал медленно, задумчиво ложился на бурую стерню с ледком после утренних заморозков, на красные, синие, черные машины во дворе МТС, на шиферные крыши потемневшего от дождей поселка. Снег накрыл горы пшеницы на обширном дворе «Заготзерна», огороженном не струганными, выгоревшими на летнем солнце досками. Доски потемнели с первым снегом, взмокли, и казалось, стоят они здесь много лет. Каждый день отсюда уходили колонны автомашин, но пшеничные холмы так и не убывали. Машины шли и шли, и казалось, во всем мире не хватит транспорта для вывозки хлеба из совхозов, и никто не в силах построить нужных зернохранилищ для такого необъятного урожая.
В выходной день весь Камышный собрался на воскресник — строить шоферам автобазы землянки из дёрна.
По вечерам за окнами стали ложиться яркие, в полнеба закаты. Из окна Женя видела обледенелый сруб колодца в соседнем дворе. Толстая наледь была похожа на открытый рот чудовищной рыбы. Из колодца вытаскивали ведра с удивительно темной дымящейся водой. Рядом стояло тонкое деревцо. По утрам оно мохнато индевело, а днем становилось стеклянным. Замерзла скважина возле клуба, хотя и была обмотана рогожей. Вечерами, любуясь закатом, Женя видела, как искрилась вдали, во дворе МТС оранжевая, как звезда, как планета, лампочка.
По-новому выглядел поселок в снежном уборе. Заметней стала стандартность домиков, неогороженные дворики слились, как будто поджались, отступили перед степью. Там и сям попадались занесенные снегом квадратные и прямоугольные фундаменты — будущая пекарня, баня, типовой магазин, детские ясли. Возле большого сугробистого пустыря с редко торчащими пеньками на столбе косо висела фанера с надписью: «Рынок. Добро пожаловать». На окраине, за синими в ажурном инее деревьями теснились машины МТС. Стояли они одна к другой, словно старались в такой близости сохранить тепло летней работы.
Всю ночь Жене снился один и тот же сон, бегала босиком по снежной целине, бегала до тех пор, пока не просыпалась и не прятала вылезшие из-под одеяла ноги. Утром в окна так дуло, что шевелились Галины занавески. Напрягая волю, Женя вскочила с постели и стала отчаянно размахивать руками и прыгать, чтобы хоть немного согреться,
Началась зима.
Леонид Петрович через райпотребсоюз достал для всего персонала больницы валенки и добротные, остро пахнущие овчиной полушубки. Женя слышала, как утром в коридоре хирург помогал Ирине Михайловне надевать полушубок и говорил: «Во всех ты, матушка, нарядах хороша». Женя мучилась с новой экипировкой, она носила обувь тридцать пятого размера, а таких валенок на складе не оказалось. В первый же день Женя докрасна натерла подколенки жестким, как фанера, войлоком. Но в туфлях уже и шагу не ступишь по улице, отморозишь ноги.
Зима принесла немалые изменения и по работе. Леонид Петрович попросил Женю взять дополнительно полставки санитарного фельдшера при районном здравотделе.
— Это значительно увеличит ваш бюджет, а времени отнимет не так уж и много,— сказал он.— Я ведь сам, знаете, не только хирург, но и заведую здравотделом. Целина!
Женя согласилась. Она никогда бы не решилась отказать Леониду Петровичу в помощи. И если он предлагает, значит, иначе нельзя, значит, надо браться за дело. Грачев в ответ улыбнулся ей тепло и благодарно.
Теперь каждое утро Женя вместе с хирургом должна являться в здравотдел, а потом уже спешить в больницу. Помещение здравотдела с лета так и осталось недостроенным — спешили достраивать жильё. В одной комнате ютился весь штат — бухгалтер Лида, симпатичная, скромная женщина, недавно приехавшая из Рязани, машинистка Роза, юная комсомолочка из Владимира, и санинструктор тетя Нюра, пожилая, грубоватая на вид женщина из местных жительниц.
Большую часть своего рабочего дня она сидела у входа на табуретке и могла так сидеть часами, неподвижно, не снимая широкого, лягушачьего цвета пальто, держа руки в карманах.
Новая работа Жени требовала время от времени проводить обследования столовой, магазина, общежитий, гостиницы, автобазы и всюду требовать соблюдения санитарно-гигиенических правил. Правила эти были записаны в трех толстенных книгах с точным указанием норм, от и до. Перед выходом на обследование Женя отыскивала соответствующую главу, читала ее внимательно, запоминала, что нужно, и действовала в соответствии.
Ей нравились строгие слова: задание, объект, обследование. Они имели серьезный смысл, цель определенную и вызывали чувство самоуважения. На бланках, которые Женя заполняла при обследовании и наложении взыскания, штрафа, к примеру, стоял четкий штамп: «Всесоюзная государственная, санитарная инспекция». Ее решения никто не мог отменить, даже сам районный прокурор Дадабаев. Если Женя закроет столовую, магазин, школу, то никто, кроме вышестоящего госсанинспектора, не имеет права снова открыть их.
В первый день она пошла обследовать продуктовый вагончик. Обшитый черным толем, спасающим хотя бы отчасти от пронзительных степных ветров, он стоял на площади перед Домом культуры на массивных, грубо стесанных бревнах вместо полозьев. Входили туда по узенькому трехступенчатому трапу. Внутри могли поместиться только три-четыре покупателя, остальные жались на улице, возле вагончика, пряча лица от ветра за спиной соседа. Вагончик назывался гастрономом, и в нем было всё – консервы мясные и рыбные, всевозможные кисели, компоты, дешевые конфеты в ящиках из рифленой бумаги, камчатская сельдь в бочках с коричневыми льдинками замерзшего маринада. На прилавке желтел куб сливочного масла величиной с табуретку.
Здесь работала Соня Соколова. Женя уже встречала ее в поселке и всякий раз думала, Соня не смотрит на нее, не здоровается, потому что ей неловко, стыдно. Соня не знает, у медиков есть понятие врачебной тайны, если бы знала, не отворачивалась. Женя и мысли не допускала, что Соня ее вообще не помнит, ведь Женя Соню запомнила, вспоминала ее не раз и смотрела на нее с любопытством — ее сверстница знала о жизни нечто большее. Женя, в общем-то, осуждала ее, но не слишком горячо, не от сердца, а так, умозрительно, поскольку тут виноваты были другие, не помогли ей в свое время, не нашли в себе такта, чуткости, мудрости. С того памятного дня Соня заметно изменилась к лучшему, лицо ее налилось румянцем, а глаза встречали каждого внимательно, с огоньком, словно Соня снова искала, выбирала себе суженого, но на этот раз более подходящего. Вероятно, каждый день ребята говорили ей комплименты, а кое-кто и записочки оставлял на прилавке с просьбой о свидании,— так, во всяком случае, Жене казалось.
Соня торговала в пальто с меховым воротником, на нем был напялен тесный фиолетовый халатик. Пальцы ее мерзли, и она время от времени старалась согреть их своим дыханием. Однако, несмотря на холод, Соня не ворчала, не раздражалась, отпускала продукты спокойно и быстро, наловчилась.
Вот ввалились двое шоферов в полушубках, шумливые, самоуверенные — хозяева целины на сегодняшний день. Сразу стало тесно в вагончике, не войти, не выйти.
— Дай-ка нам, красотка кабаре, поллитровочку,— проговорил один.
Соня ответила, водки здесь не бывает.
— Дай тогда чего-нибудь взамен. Хлеб возим, понимаешь, мерзнем, страдаем, страну кормим.
— Выпить нечего, ребята, берите продукты, колбаса есть, селедка, джем.
Второй «кормилец» узрел на полке флаконы с жидкостью.
— А что у тебя во-он там?
— Одеколон «Ай-Петри».
— Самая любимая марка. Побриться, освежиться. Четыре «Ай-Петри», пожалуйста.
— Ребята, одеколон нельзя пить, бывают случаи...
— Но-но, разговорчики. Мы уже неделю не бритые, пощупай.— Тянется к ней небритой щекой.— А нас хлеб ждет, Родина ждет хлеба, поняла? Четыре флакона.
— Или книгу жалоб и предложений.
Сразу видно, работали они «на пару», как по сценарию.
Вздохнув, Соня подала им одеколон, рассчиталась, и шоферы ушли.
Соня надела варежки и спросила Женю:
— А вам?
Вместо ответа Женя задала вопрос: — Холодно?
— Что?— Соня настороженно подняла глаза, как будто приготовилась услышать какую-то резкость. Она, наверное, еще не отошла после той истории.
— Я говорю, вам, наверное, холодно?
— Не жарко.
Соня взяла с прилавка топор и коротким взмахом отвалила кусок застывшего бараньего сала.
«Думает, что я завела праздный разговор, – решила Женя.— За кумушку меня приняла». И сказала сухо:
— Я не просто так спрашиваю. Мне райздравотдел поручил осмотреть ваш магазин и добиться, чтобы здесь были хорошие условия труда.
— Ну что ж, смотрите,— ответила Соня не очень довольно, пожалуй, даже обреченно, взяла небольшой ломик и стала долбить им соль в бочке, комковатую, похожую на весенний, сбитый солнцем снег.— Условия, конечно, не ахти какие,— добавила она помягче.
— А если поставить здесь печку? Железную, небольшую, чтобы места много не занимала, а тепло давала.
— Можно, но у нас начальство такое – не пробьешь...
Они заговорили миролюбиво и быстро решили – печку поставить надо, даже место для нее нашли. Женя составила акт, в нём предложила под ответственность председателя правления сельпо завтра же установить в гастрономе печь типа «буржуйка».
Через день в продуктовом вагончике дышала теплом раскаленная чуть ли не до красна печка. Соня работала без пальто, в одном халате. Всякий раз, как только открывалась дверь, морозное облако окутывало прилавок. Вечером Соня загасила печь, чтобы не случилось пожара, и заперла лавку.
Утром в вагончик сбежались все: и председатель сельпо, и Леонид Петрович, и, разумеется, Женя. Ночью тепло выдуло, растаявшие за день компоты и джемы снова замерзли, и банки полопались. Пришлось срочно создавать комиссию и делать ревизию. Дело кончилось составлением акта и списанием пропавшего. Женя и Соня старались не смотреть друг на друга.
Дорого обошелся Жене «первый блин». Председатель правления сельпо, типичный продснабовец – в пыжиковой шапке, в рыжем полупальто и в белых бурках с отворотами, грозился судом и клял бестолковых врачей, не знают, что советуют. Женя бледнела, слушая его гневные речи, и все никак не могла вставить слова своего искреннего сожаления и извинения. А Леонид Петрович, терпеливо выждав, пока председатель прокипятится, снова повторил самым официальным тоном, – необдуманных действий со стороны санитарной инспекции не было. Торговая точка – не холодильник, здесь должна быть комнатная температура не ниже плюс 18 градусов. И если банки с компотом полопались, то вывод должны сделать сами работники сельпо и найти способ поддерживать в вагончике соответствующую температуру круглые сутки. Допустим, печь может отапливать сторож.
– Продавцу необходимы соответствующие условия для работы. Санитарные нормы и правила нарушать никому не дозволено, – бюрократическим голосом закончил Леонид Петрович.
Соня Соколова, снова надев пальто и варежки, с насморком после вчерашнего утепления, умоляюще попросила: она с удовольствием будет работать в холодильнике, только пусть банки не лопаются, не стреляют, она шума боится, да еще, чего доброго, будет недостача.
По дороге в больницу Леонид Петрович признался Жене, поступили они в данном случае опрометчиво (не она, а они), следовало бы подумать, чем подобное утепление может грозить.
— А на председателя я нажал из чисто психологических соображений. Если нам признать свою вину, хотя бы отчасти, то он уже никогда не выполнит ни одного нашего предписания. А сейчас он промолчит, зная, что мы действительно можем потребовать круглосуточного отопления.
Женя вздохнула с облегчением, хотя и не успокоилась. Не совсем хорошо, хирург говорил с ней таким же снисходительно-воспитательным тоном, как со своим сыном Сашкой., А Жене, слава богу, девятнадцать лет, она самостоятельный взрослый человек.
Женя любила жить с мечтой, а не просто по инерции, по привычке: прожил, как говорится, день – и ладно, и на том спасибо неизвестно кому.
С Галей они на эту тему спорили. Нельзя сказать, чтобы Галя совсем уж не признавала мечту, но она старалась сдерживать себя соображениями чисто практическими. Женя мечтала необузданно, а Галя боялась представить, что с ней будет через год, и все повторяла: «Нельзя загадывать! А то не сбудется».
– Вот поработаю на целине, – говорила Женя, – и поступлю в медицинский институт. Пока закончу, мне будет двадцать шесть лет. Самый возраст для молодой ученой. На студенческой скамье защищу кандидатскую диссертацию, скорее всего, на тему об излечении рака. Или полиомиелита. После окончания я буду в возрасте Ирины Михайловны. Совсем неплохо.
Галя хваталась за голову и только хлопала своими красивыми черными ресницами. Она считала себя куда более здравомыслящей.
– Поступишь! Защитишь! Это еще как сказать,– возражала она.– У нас в прошлом году в Харькове пятнадцать человек на одно место было. Вот и попробуй туда сунуться!
– Ерунда!– не сдавалась Женя, нисколько не сомневаясь, что у них с Галей разные возможности, и то, что по силам ей, Жене, не всегда по силам другим. – В жизни надо быть среди первых. Нельзя так жить, лапки кверху перед трудностями. Даже среди пятнадцати будь первой.
— Если все будут первыми, тогда кто будет последним? Или хотя бы в серединке?
Вот эта надежда на «серединку», примирение с ней и было главным недостатком подруги.
Сама она всегда стремилась много знать и многое уметь. Одно время в училище Женю дразнили: «Драмкружок, кружок по фото, мне еще и петь охота»,– пока не привыкли к ее разным увлечениям. Женя водила мотоцикл, умела фотографировать, и не только наводить на резкость и щелкать затвором, но и сама проявляла пленку и печатала снимки; умела играть на пианино, не слишком виртуозно, но, во всяком случае, по нотам и не одним пальцем.
Человек должен уметь многое, желательно, уметь все. Одностороннее развитие скучно, оно обедняет жизнь твою и твоих окружающих. Коперник был еще и живописцем. Эйнштейн блестяще играл на скрипке. А когда хоронили Гёте, прохожие спрашивали: «Какого Геёе хоронят, поэта или естествоиспытателя?», не зная, что это одно лицо.
Женя мечтала о славе – а чего тут такого? – о славе за своё научное открытие. Ее препарат излечит тысячи больных, ей присудят Ленинскую премию. Однажды к ней в лабораторию войдет молодой человек и скажет, ради нее он бросил Москву (или Ленинград) и приехал на периферию. Жить она будет... пока неизвестно где, возможно, в родном Челябинске. Молодой человек попросит разрешения поработать в ее лаборатории, под ее непосредственным руководством. Он оставил Москву (или Ленинград) только потому, что поверил в ее дерзновенную тему, в ее успех. А она уже – молодой доктор медицинских наук, вполне самостоятельна, поскольку не только морально самоутвердилась, но и материально – зарплата у нее четыре тысячи, а не восемьсот рублей, как сейчас (с учетом полставки санинспектора) .
Пришелец из столичного города будет похож на князя Андрея из «Войны и мира» – обаятельный, умный, честолюбивый, конечно, и, разумеется, красивый.
Женя хотела постоянно быть похожей на Наташу Ростову. У них с Наташей очень много общего, в мыслях, в чувствах, в переживаниях, в намерениях. Однажды она задала Гале сокровенный вопрос: нравится ли ей Наташа Ростова.?
– Кто такая? – спросила Галя.
– Из романа Толстого «Война и мир». Можно сказать, главная героиня.
– А-а... Нет, не очень.
– Интересно, чем же она тебе не нравится?
– Да как сказать... всем. Она из царской России, а я советская девушка, что у нас может быть общего? – нравоучительно сказала Галя. Она окончила семь классов и медицинское училище. Ни там, ни там Толстого в программе не было, «Войны и мира», во всяком случае. Но Гале не хотелось признаваться в своей отсталости, и она продолжала настаивать: –
Зачем с кого-то брать пример, надо быть самой собой, какая получишься.
После таких признаний Женя окончательно убедилась, закадычными подругами им не быть. «У нее ложное самолюбие,– думала Женя – Свою малограмотность и практичность Галя пытается оправдать какими-то принципами. Сильные ориентируются на лучшее, а слабым это не под силу. Они стараются быть в сторонке или, вернее, внизу. И обязательно находят себе оправдание, вот что плохо».
«Войну и мир» Женя привезла с собой. Страницы, где говорилось о войне, о Наполеоне или о наших войсках, о Билибине, Сперанском, она отметила птичкой сверху и никогда больше не перечитывала, полагая, эти места интересны только мужчинам и нужны им для воспитания характера.
О Наташе она могла читать и перечитывать с неизменным наслаждением. Если бы ее спросили, какой же, в конце концов, у Наташи характер, разобралась ли ты в ней, Женя ничего толком не смогла бы ответить. Вернее, не смогла бы исчерпать ее характера никакими своими словами. Она понимала Наташу сердцем, как душу похожую, даже, можно сказать, родственную. Изящные манеры, наряды, балы и все такое прочее – дело наживное, внешнее. Галя отчасти права: Наташа – дворянская дочь, а Женя – пролетарская. Но ведь душевное благородство должно быть присуще всем.
Готовя себя к великому будущему, Женя и сейчас стремилась жить сообразно своим убеждениям. Грубым жестом, недобрым словом она не только оскорбляет других, но и себя унижает в их глазах, а кому это нужно? Умный человек ведь всё понимает, догадывается о ее незаурядном будущем и уже теперь может сказать или подумать с упреком: «А еще всемогущее лекарство хочет найти!»
Женя и на целину поехала не просто для того, чтобы пассивно привыкать к трудностям. Она решила проверить себя, насколько она способна выдержать эти трудности. Бороться с невзгодами, большими и малыми, всегда оставаться мужественной и стойкой. Она не сомневалась в таких своих способностях. А то, что иногда приходится еще всплакнуть –привычка детства, дело проходящее.
Иногда, в затруднительных случаях Женя спрашивала себя: «А как бы на моем месте поступила Наташа Ростова?» Она представляла себя живым, во плоти, продолжением Наташи, только уже в ином, социалистическом обществе, но все в той же дорогой сердцу России. Она не боялась упреков в подражании дворянской дочери. Героине великого писателя подражать можно.
В кабинете прокуренный синий воздух, дым слоится, движется от каждого жеста. И голоса глухие, недовольные, у иных негодующие, требуют ответа, призывают к ответственности. И хочется Сергею прервать шум, громко одернуть всех: «Хватит! Да, я виновен! Да, я готов ответить. В любой форме».
Говорил директор МТС:
– Что случилось с Ткачом? А то, что зазнался и давно зазнался. Ему наплевать на райком, на указания сверху, на положение в МТС. Вынь ему да положь технику, дай ему то да се в неограниченном количестве, иначе он тебя за человека считать не будет. Как будто он один на земле живет и кроме «Изобильного» у нас нег совхозов. Но как веревочке ни виться, а конец всегда будет. Теперь мы все убедились, к чему приводит зазнайство н самоуправство, нежелание считаться с другими. Ткач докатился до того, что решил товарищей своих одурачить. Мало ему показалось нашего уважения, мало ему славы честной, решил добавить славы позорной. Ради чего, во имя какой цели? Не знаю, как другие товарищи, но я думаю, что Ткач еще и хотел скомпрометировать раздельную уборку. Это уже политика, и она под корень режет прогрессивный способ. Я уверен, что Ткач решил выступить против всех и любыми средствами доказать своё...
Директор автобазы, простодушный, с висячими усами Жакипов, выступать на собраниях не любил, но, встретив требовательный взгляд Николаева, поднялся, провел ладонью по вспотевшему лбу.
– Мнтрофана Семеновича я уважал, как аксакала. Большим человеком считал. – Говорил Жакипов спокойно, миролюбиво, даже чуть-чуть грустно – Сегодня понял, ошибался я. Митрофан Семенович меня обманул, всех обманул. Хотел орден получить, но зачем так? Разве орден можно воровать? Здесь у нас целина. Здесь твои ребятишки, мои ребятишки, наши ребятишки. Аксакал для них всегда пример. – Жакипов глубоко и продолжительно вздохнул.– Хлынов пример брал, слушал его, ничего никому не говорил, жалко...— Он еще раз тяжело вздохнул, прежде чем перейти к окончательному выводу: – Я теперь Митрофана Семеновича уважать не могу. Хороший человек пропал, кончился. Уважать не могу...
Худощавый, сутуловатый директор совхоза имени Горького, с белым незагорелым лбом, резко оттенявшим медную смуглость лица, решил выступить снисходительнее других, вроде с пониманием:
– Поступок, безусловно, заслуживает осуждения. И мы его осуждаем. Все, – не спеша, будто одаривая каждым своим словом, заговорил он. – Но надо бы посмотреть и на другую сторону медали. А другая сторона говорит, что весть об окончании уборки в «Изобильном» подстегнула всех! Она вызвала трудовой подъем такой силы, что даже и сам Ткач со своими рекордами остался позади.
– Очковтирательство как причина трудового энтузиазма, – перебил его Николаев. – Так, что ли?
Белолобый директор слегка смешался.
– Нет, Юрий Иванович, я не так выразился. Но факт остается фактом. Поступок Митрофана Семеновича можно понять. Помните, как бывало иногда лет десять тому назад? Отдельным свекловодам, огородникам, полеводам создавали особые условия, чтобы хотя бы на одном гектаре собрать рекордный урожай, а на сотне других шиш. Зато появится свой Герой. Слава, достижение. А раз есть достижение, то и хозяйство хорошее. Не гнушались и приписками, мы-то знаем. Вот Ткач и решил использовать эту манеру, неверную, конечно, осужденную партией, но я к тому говорю, чтобы понять причину его поступка.
– Понять и простить, – усмехнулся Николаев.– Нет, мы не станем возвращаться к порочным методам. И нечего нам тут играть в либерализм – дескать, не виноват Ткач, былая практика виновата. Но прошел двадцатый съезд, пришла пора ломать эту практику и круто ломать, несмотря на старые заслуги тех или иных людей. Все вы знаете, что освоение целинных земель – общенародное дело. Это не просто расширение пашни, хлебной нивы, это целая эпоха в жизни государства. И мы, целинники, на переднем крае. Когда-то Гейне говорил, что в будущем у каждого человека будет много хлеба и много роз. Хлеб можно измерить гектарами и тоннами, а вот чем измерить розы? А розы – это нравственная красота человека, благородство его побуждений, его высокая бескомпромиссная мораль. Только так мы должны понимать мораль советского человека. А как ее понимает Ткач? Как ее понимает Хлынов, его, в сущности, приспешник?..
Сергей слушал через силу, слабо вникая в суть, ему казалось, все говорят не о том, лишнее говорят, то, что он и сам понимает и знает. Но голоса бубнят, вместе со стуком его сердца, под шум крови в его висках, тише-громче, тише-громче...
И наконец:
— Хлынов!
Голоса стихли, тени в синеве кабинета остановились.
— Хлынов, вы слышите?— повторил Николаев громко.
Как будто никогда прежде не был веселым голос секретаря райкома, как будто он никогда не кричал Хлынову летним солнечным утром: «Здорово, Сергей, как жизнь молодая?»
— Слышу.
«Нет, я не во всем виновен!.. Нет, не всегда был виновен! Я вкалывал, как всегда!..»—думал Сергей, слушая, как продолжал Николаев:
– Поступило два предложения: исключить вас из рядов партии и второе – объявить вам строгий выговор.
Синее марево как будто рассеялось, Сергей встал и увидел глаза членов бюро, устремленные на него, разные и одинаковые в своей строгости, не лишенные в то же время любопытства. И четче, строже других – серые, твердые глаза Николаева.
Сергей опустил взгляд, посмотрел на свои руки. Показалось, что и все посмотрели на его руки. На руки, которыми гордился не только Ткач, но, было время, что и весь район, и они, члены бюро, тоже гордились. Сергей отвел руки за спину.
Руки руками. А голова головой. Стоял и молчал.
– Кто за то, чтобы Хлынова Сергея Александровича исключить из рядов Коммунистической партии, прошу поднять руку,
Между Николаевым и Хлыновым желтый пол из широких, чуть ли не в полметра досок. Они легли к столу, до стола четыре шага, на столе красное сукно. Туда надо положить партийный билет.
Красный флажок на его комбайне, красная косынка у Таньки Звон, красная подкладка под орденами Ткача. Его нет здесь, слёг, увезли в больницу.
– Раз, два три,— считает Николаев.– Меньшинство.
Вместо радости обида вдруг расперла горло Сергея, Сознавая, что надо бы оставаться на месте, дослушать, принять выговор достойно, Сергей отвернулся, и ноги сами понесли его к выходу. Он только успел подумать сквозь обиду: «Как бы не задеть сапогом порога. Как бы не хлопнуть дверью!»
В приемной сидел народ. Сергей поднял голову, испытывая желание смело обвести взглядом всех, но не успел, их тут много, а ноги несли его дальше, к выходу, в другую дверь. Кто-то, кажется, знакомый выдохнул в спину: «Ну что-о, Сергей?»
Он шагнул торопливей, думая о том, чтобы не навязались сейчас с расспросами, а то у него не хватит выдержки, не хватит голоса говорить, как прежде, небрежно-спокойно.
Спустился по лестнице, долго открывал тяжелую дверь, наконец, вышел. Было темно, остро свежо, студено. Подумалось вдруг о детстве, о школе, о времени, когда всё-всё было еще началом, каждый день был началом, когда всё было ожиданием жизни.
В райком шли, о чем-то говорили. Сергей молча посторонился, отошел к гаражу, повернул за глухую стену. Здесь было пустынно, тихо, из снега торчал черный курай, похожий на пропавший хлеб, Холодно, холодно...
Сергей прислонился лбом к шершавым, занозистым доскам, но не надолго, только на мгновение; ему показалось, что и тут, в глухом закутке, на него кто-то смотрит, кто-то может увидеть, как он ослабел, пригорюнился, он, Сергей Хлынов.
Черные стебли уныло качнулись под ветром, тихо зашуршал сухой снег. Скоро задымит поземка, заострятся сугробы, закружит, засвистит вьюга.
У стены, в затишье сиротливо стыл его мотоцикл. Сергей запахнул полушубок, опустил мотоцикл с упора, Повел его на дорогу. Перед райкомом глянцевито-розово блестела тропинка от света из окон. На столбе гудел репродуктор. «В честь тридцать девятой годовщины... коллектив бригады... взял на себя...»
Где-то продолжались — всюду продолжались большие трудовые дела.
Сергей вывел мотоцикл на дорогу. Поправил шапку, неторопливо застегнул полушубок доверху. Потом выпрямился и – заглушил мотор.
Все теперь хотелось начать сначала. От нуля.
26
Утром 23-го октября торжественный голос диктора передал по радио: Казахстан, давший стране миллиард пудов зерна, награждается орденом Ленина.
В полдень принесли газеты,
В палате ораторствовал Малинка:
– Еще ни одна республика не получила орден Ленина, а Казахстан получил! РСФСР не получила, Украина и Белоруссия не получили, а Казахстан получил – первый!
В пять часов раскатисто загремел репродуктор:
— Дорогие товарищи!..
Женя дежурила в больнице. Не утерпев, накинула пальто, платок и побежала на площадь. Митинг проходил возле Дома культуры. Николаев стоял на трибуне без шапки и говорил:
– Наша область сдала государству двести восемьдесят миллионов пудов хлеба. Три года назад вся республика сдала в пять раз меньше. Миллиард пудов – это урожай одиннадцати предыдущих лет вместе взятых. Целина оправдала наши надежды!..
Выступали из райкома комсомола, выступал Жакипов:
– Наш Казахстан идет от победы к победе. Под руководством коммунистической партии. Мои шофера сейчас возят хлеб, но пока плохо возят. Ничего! Мои шофера только неделю назад в землянки перешли, в кабинке спали. Всем спасибо за помощь! Миллиард – хорошо, орден –хорошо, а что хлеб горит – плохо, надо быстро перевозить, быстро спасать!..
Днем в Камышном знакомые и незнакомые поздравляли друг друга. Но к вечеру стало тихо...
Тревожил забуртованный, подмоченный дождями хлеб, который нужно было спасать,
В тетке Нюре Женя не ошиблась, если можно так говорить, когда человеку не веришь. Она оказалась хитрой и неприятной старухой. На все замечания Жени она почему-то кривилась, видимо, не считая ее за работника, хотя и находилась в прямом у нее подчинении. По поводу и без повода тетка Нюра говорила об одном и том же – молодежь нынче пошла никудышная, старших не почитает, не слушает. Все эти ее нарекания Женя, как полноправный представитель молодежи, принимала в свой адрес и, не зная, чем ответить тетке, стала на всякий случай сама носить гидропульт, снаряжение дезинструктора, что совсем не входило в ее обязанности. Во время обследования объекта тетка Нюра молчала, будто в рот воды набрала, не поддерживала Женю ни единым словом. А скандалить она могла отчаянно, а молчала умышленно, не хотела портить отношения с начальством. При обследовании тетка Нюра садилась на первый попавшийся стул, совала руки в карманы, превращаясь в букву «Ф», и ни слова не говорила в пользу санитарных норм. «Я дезинструктор, у меня нет права голоса»,— оправдывалась тетка перед Женей. Зато в здравотделе, когда Женя начинала докладывать о ходе обследования, тетка обретала право голоса. Она размахивала руками и кричала о недостатках, будто сама их обнаружила, повторяла, и довольно складно, все требования Жени во время обследования, причем с угрозами, вроде «всыпать перцу этим сволочам, зажрались» и прочее, полагая, что способность «лаяться»— главное оружие в санитарной работе. Женя только плечами поводила от ее громкоголосой, показной и совсем неуместной деловитости. Трудно ей было с теткой. Жене хотелось ее чему-то научить, ведь она не имеет никакой специальной подготовки, но всякий раз тетка Нюра самолюбиво пресекала ее намерения: «Ты вот поживи с моё, тогда и будешь учить». Она невзлюбила Женю, это ясно, но вот за что? Только за то, что она молодая? Или, может быть, за то, что приезжая, что целинница?
Однажды тетка Нюра не пришла на работу во-время, и Женя, идя на обследование, зашла к ней домой. Кое-как открыла тяжелую деревянную калитку, огляделась, ища собаку, – она убеждена была, у тетки непременно волкодав какой-нибудь, злющий-презлющий, как в сказке. Увидела конуру вдалеке, в конуре что-то мохнатое и, прикинув расстояние до крыльца, быстро туда пробежала. Стоял мороз, и псу наверняка было лень за ней гнаться, он даже и голоса не подал.
Своим появлением на пороге Женя перепугала тетку Нюру чуть не до смерти. В комнате пахло луком, кислым теплом и еще каким-то неприятным острым запахом, возможно, самогонкой. Женя уже слышала, что тетка Нюра варит самогонку, особенно перед праздниками. Сбоку, в закутке с маленьким сумрачным оконцем Женя увидела целую гору пшеницы, наваленной почти до потолка и ничем не накрытой. Прямо-таки зернохранилище! На зерне, как на песке, лежал симпатичный белолобый теленок. Время от времени он взмахивал хвостом и, как водой, обдавал себя пшеничными брызгами. Женя, глядя на такую картину, не сдержала возгласа недоумения, удивления, а может быть, еще и восхищения — так ей понравился теленок. Тетка поняла ее по-своему и пояснила:
– Зерна-то пропадает, видимо-невидимо. Хоть на кусок хлеба запасти.
– Я бы не смогла так, – призналась Женя ни к селу ни к городу.
– Молодая да глупая, что с тебя взять!– в открытую дала ей оценку тетка. – Небось еще акт составишь?
Женя не обиделась. Старая, косная женщина, разве ее перевоспитаешь! К тому же, на самом деле, зерна пропадает много, да и не краденое же оно у тетки, в конце концов, летом тут все работали на уборке.
Они пошли на автобазу того самого Жакипова, у которого шофера только вчера «врылись в землю», как он говорил на митинге.
День стоял безветренный, накатанная снежная дорога глянцевито блестела, слепила глаза. Они прошли мимо двора «Заготзерна», мимо снежных пологих холмов. Над холмами, ясно различимый, вился в тихом, безветренном воздухе тонкий, кудреватый пар. Так горел хлеб, Женя уже знала. Возле крайнего холма с темным, освобожденным от снега склоном косо дыбился зернопогрузчик. С бегущей ленты транспортёра падала бурая струя. Пахло теплой прелью. Несколько рабочих деревянными лопатами ворошили пшеницу, бросали ее на ленту.
Женя и тетка Нюра подошли ближе. Тетка взяла горсть пшеницы, перекрестилась и плаксиво, постно, как на похоронах, сморщила лицо, – ей было жалко зерно. Женя сняла варежку и сунула руку в пшеницу. Зерно тяжело расступилось под ее рукой, и она ощутила утробную, нездоровую теплоту, как бывает у больного с повышенной температурой.
По открытому полю, под хлестким ветром они добрались до автобазы. Прежде всего, требовалось обследовать бытовые условия, жилье, а потом уже и производственную зону.
Шоферы жили в длинной землянке, сложенной из плотного, похожего на шлакобетон, дерна. По земляным ступенькам Женя с теткой спустились вниз, как в блиндаж, открыли дверь и шагнули внутрь. В комнате, если так можно было назвать помещение, стоял полумрак, едва светилось щелевидное оконце под самым потолком, едко пахло жженой резиной. У Жени запершило в горле, она откашлялась. За печью виднелись сплошные нары. Привыкнув к полумраку, Женя разглядела за дощатым столом с ножками крест-накрест черную фигуру парня без шапки. Лилово-черными руками парень держал алюминиевую кружку с чаем.
— Здравствуйте,— сказала Женя,
— Здрасс...
Собственно, можно было поворачивать обратно, все ясно с первого взгляда, не требовалось тут никакого обследования. Но служебный долг не позволял Жене уклониться от замечаний и пожеланий, тем более, что было с кем поговорить — со здешним, так сказать, жильцом.
Парень молча дул в кружку, прямо, нагловато глядя на вошедших.
— Что у вас тут?— неуверенно спросила Женя.— Бригада какая или... просто так?
— И так и эдак, как хочешь!— парень небрежно, развязно улыбнулся.
— Ужасные условия, правда?—участливо продолжала Женя.— Сколько же здесь жильцов, должно быть, много?
— Живем без прописки, сосчитать трудно. Сегодня человек сорок ночевало, к примеру.
— Да-а?.. А как же вы разместились здесь?
— Штабелем. И еще место осталось.
Парень чистосердечно рассмеялся, не выдержав своей заносчивости и растерянного вида девушки. Тетка Нюра уже сидела за столом рядом с парнем, и руки держала в карманах. Испуг Жени подогревал желание парня побалагурить, ее наивное сочувствие и веселило его и вызывало некую гордость оттого, что и он среди прочих может жить вот в таких удивительных, мягко говоря, условиях.
— Последний прибежал с мороза, зубами, как волк, клацает, уже в потемках, открыл дверь, а дальше уже и шагать некуда. Автоколонна как раз прибыла, по совхозам не успели разъехаться, и все сюда. Куда ни ступи, то рука, то нога, то голова. Так он, бедняга, еле-еле дверь прикрыл и притулился у косяка в обнимку с ней, со своей родимой, с подушкой из кабины. Так и клевал носом до утра.
— А чем вы топите?
— Самодеятельность проявляем. Берем, что плохо лежит.
— А где умываетесь, гигиена хоть какая-нибудь соблюдается?
Все это необходимо отметить в акте обследования.
— Снегу на целине хватает. Хочешь — умывайся, не хочешь, ходи грязный, теплее будет.
– Окурков-то, окурков!— Женя покачала головой, оглядывая земляной пол, который стал пестрым от окурков.
— «Герцеговина флор!» Метр курим, два бросаем. Других в поселок не завозят.
В двух соседних, так сказать, комнатах было примерно то же самое. Третья оказалась квартирой семейных. Женя чуть не охнула, разглядев в полумраке женщину-казашку и троих маленьких детей. Пол был чем-то толсто застелен, похоже, кошмами, но все равно было холодно и неуютно.
Вышли во двор. Ничего не видно, кругом широкое, все застилающее становище автомобилей. Вслепую пробираясь между новыми темно-зелеными кузовами и капотами, стоявшими почти впритирку, Женя и тетка Нюра кое-как добрались до просторного, сложенного из кирпича гаража. Добротные широкие двери были распахнуты. Две маленьких лампочки желтыми каплями висели под потолком, едва разгоняя полусумрак зимнего дня. Внутри, на кирпичах, горел костер, звонко стреляла искрами вонючая смолистая пакля. Возле бесколесной машины, беспомощно осевшей на домкратах, возились шоферы. Женя услышала голос Сергея Хлынова. Он ругался на кого-то, и весьма неприлично, причем так громко и отчетливо, что у Жени закружилась голова. Но она не повернула обратно от этого срама, она пришла исполнить свой служебный долг и узнать условия труда рабочих, насколько здесь соблюдается промышленная санитария.
Сергей лежал на спине под машиной, видны были только его стоптанные валенки носками вверх, клочья рыжей ваты торчали из обожженных, словно простреленных штанов.
– Her плохих машин, есть плохие шофера! –И Сергей снова понес по кочкам какого-то незадачливого собрата.
Тетка Нюра подошла к нему вплотную, прислушалась – Хлынов продолжал браниться, – ссутулилась и сильно пнула его под зад. Сергей, пятясь, молча и зло выкарабкался из-под машины, глянул свирепо на тетку Нюру и, жалея, что перед ним женщина, проговорил:
— Нашла футбол, старая!
Увидев Женю, он сверкнул белыми зубами:
— А-а, здравствуй, Женечка!
Почему он ее называет, как Ирина Михайловна?
— Здравствуйте,— неприветливо ответила Женя, будто не узнавая Хлынова.
Сергей сунул большой разводной ключ под мышку, согнулся и шагнул к костру.
— Ну, как, тетка Нюра, самогонка к седьмому подорожает?— крикнул он, хватая пламя замерзшими, скрюченными пальцами.
– Я тебе, антихрист, такого самогона дам, сто лет икать будешь! Ишь, нахальная морда, зубоскал, чертолом!
— Ладно, ладно, остынь,—миролюбиво проворчал Сергей и подмигнул Жене.
Согрев руки, он накалил в пламени ключ и, обжигаясь, перекидывая его с ладони на ладонь, снова полез под машину
От всего увиденного сегодня у Жени стала побаливать голова. Пора уже было сделать выводы. Сплошные, прямо-таки повсеместные нарушения санитарных норм и правил.
Пошли в контору ловить директора. Между машинами колобродил, обжигая лицо, знобящий ветер. И как они тут работают, как они могут лежать в такую пору на мерзлой земле, под машиной и хватать голыми руками металл, к которому прилипают пальцы!
Нет, это незаурядные люди, избранные. Могут оскорбить ненароком, обидеть, грубое слово сказать, но они всё сделают, всё выполнят, всегда выручат в беде.
В конторе толпился народ. Сесть было не на что. Жакипов сидел на краешке дощатого стола, подбоченясь, скуластый, усатый, и невозмутимо отбивался от наседавших. Молодой шофер с зелеными крапчатыми глазами, в шинели, просил бензина для четырех машин. Они шли с самого Тобола и нигде не смогли заправиться.
— Что за порядки?!— возмущался шофер.— Приехал на вывозку хлеба, дают тебе машину прямо с завода, тепленькую, ни номера, ничего. Оставляй, говорят, права и бери машину в свое полное распоряжение. Взял. Приехал заправиться, а там опять, оставляй права или давай разрешение Жакипова. Да сколько их у меня, прав-то? Давай, начальник, разрешение?
— Не могу. Для своих ребят бензина нет. Полторы тысячи машин.
— Мы тоже свои, советские!
— Видел таких. Куда свой бензин девал, на водку?
Женя, до глубины души возмущенная таким равнодушием к нуждам водителей, шагнула вплотную к столу директора.
–– Почему вы так разговариваете?! Энтузиазм надо поддерживать, а вы его глушите!
Жакипов удивленно глянул на нее через плечо,— откуда здесь женский голос?— и тонко кашлянул.
— Энтузиазм есть —хорошо, а бензина нет.
«Ну и ну!»
— Почему в общежитии нет топлива?— почти закричала Женя, уверенная, Жакипова сегодня же, через час-другой с треском снимут с работы.
— Область наряда не дает на уголь.
Жакипов отвечал ей монотонно, спокойно, не чуя никакой беды над своей головой, будто ему приходилось тысячу раз на дню отвечать на подобные вопросы. Он как бы повторял урок бестолковым ученикам, не могут понять самых простых вещей.
— А на станции Тобол горы каменного угля лежат! Ваши машины все равно оттуда порожняком идут.
Никогда еще, кажется, Женя так не злилась, не кипятилась, не теряла выдержку. И ей совсем не хотелось успокаиваться сейчас. И никто ее не успокоит после всего увиденного и услышанного. Она стала кричать на Жакипова, будто у нее в кармане уже лежало решение о снятии его с работы. Но надо еще и вразумить его, дать ему почувствовать всю его безответственность.
— На Тоболе есть, да не про нашу честь,— отвечал Жакипов.
— Заботливый руководитель должен найти выход из любого трудного положения. А вы бюрократ — сидите, отмахиваетесь! Я сейчас пойду в райком и доложу самому Николаеву. Посмотрим, как он с вами поговорит и как вы потом будете разговаривать с шоферами.
К ее великому смятению шофер с крапчатыми глазами начал ухмыляться и подталкивать локтями товарищей:
— Гляньте на нее, братва, ну дает!
— Слушай, дочка...— начал Жакипов, теряя наконец терпение.
— Какая я вам дочка! Я помощник государственного санитарного инспектора из райздрава. Почему гараж не отапливается? Кирпич у вас во дворе валяется, печки сложить нетрудно. По вашей милости люди день и ночь мерзнут, в гараже ветер свищет!
Жакипов привстал со своего стола, однако, все еще не очень напуганный.
— Ты говоришь, печку. Нельзя печку, понимаешь? В гараже паровое отопление положено, чтобы огня нигде не было, понимаешь? У нас бензин, сразу вспыхнет. Пожарная инспекция не разрешает. А для парового у нас пока еще нет котельной, понимаешь?
Лишая его возможности и дальше конфузить ее, Женя перебила:
— Ну, а свет провести можно? И чтобы двери закрывались от ветра, это-то можно? Распустили вас, терпят бедные шоферы.
Все в комнате засмеялись, загоготали. Кроме Жакипова.
— Чтобы через день был уголь в общежитии, чтобы там не топили чем попало. Выдайте умывальники, где хотите, там и найдите. И чтобы в каждой комнате был бачок с питьевой водой. За невыполнение на первый раз получите персональный штраф в размере ста рублей. Ясно, товарищ Жакипов? А самое возмутительное и нетерпимое в том, что у вас под носом, в землянке, на мерзлом полу живет семья, женщина с маленькими детьми!
Жакипов крякнул и снова сел на угол стола,
— У вас нет ни капли человечности, товарищ Жакипов. Неужели вы, руководитель такой крупной автобазы, не можете через райком, через райисполком добиться жилья хотя бы для этой семьи?!
Жакипов не дал ей продолжать, перебил:
— Не кричи. Это моя жена, мои ребятишки. На автобазе я день и ночь нужен. Живем хорошо, тепло, не болеем. Если ты не умеешь так жить, не умеешь немного терпеть, пойди к моей жене, научись.
— Извините...— еле слышно пробормотала Женя, чуть не плача от досады — опять влипла, опять перестаралась.
Но откуда ей знать, чего можно ждать сегодня, завтра, через день, через час на этой немыслимой, негаданной, немереной целине!..
К Гале частенько наведывался знакомый инженер-механик из МТС, тихий и скромный парень. Он не стремился развлекать девушек разговорами, анекдотами и, войдя в комнату, задавал один и тот же, неизменный вопрос: «Ну, какие новости?» И хотя всякий раз новостей не было, да и как сразу, с налету будешь ему докладывать о новостях, если даже они и есть, тем не менее, он минут пятнадцать продолжал расспрашивать, как дела в больнице, что новенького, не умер ли кто и так далее. Он вел себя так не по своей недалекости, а от великого своего смущения. Освоившись, он умолкал и уже на новости не реагировал. Садились за стол, скучно играли в подкидного дурака, причем инженер-механик любил приговаривать, точь-в-точь как Чичиков в «Мертвых душах» о пешках, «Давненько я не брал в руки картишек». Он не был шутником по натуре, за все свои визиты, а он их наносил чуть не каждый день, не рассказал ни одной веселой или просто занимательной истории. И все из-за той же роковой стеснительности. Галя в его отсутствие почему-то старалась убедить Женю в том, что он хороший специалист, институт закончил с отличием. Возможно, возможно, но что касается Жени, она с таким молодым человеком давно бы умерла от скуки. А может быть, в ней просто-напросто говорила зависть?..
Инженер долго не засиживался, уходил рано, и Галя, накинув шаль на плечи, только на одну минуточку выскакивала за дверь, проводить, и сразу же возвращалась, даже не успев продрогнуть. Женя догадывалась, молодой инженер, оставшись с Галей наедине, так же смущенно и решительно говорил: «Ну, пока! Завтра я обязательно зайду. Посидим, поговорим». И Галя в тон ему, без улыбки отвечала сурово: «Обязательно приходи, поговорим!» Он подавал руку и бодрым широким шагом уходил домой, вернее, в свое общежитие. И на другой день снова появлялся, деловитый, серьезный. Женя, глядя на него, думала: ну почему хороший парень должен быть непременно скучным?
Однажды инженер принес девушкам билеты на молодежный вечер в Дом культуры. По мужской непредусмотрительности или, может быть, оттого, что работал допоздна, он зашел к ним в последнюю минуту. Женя
даже не обрадовалась, до того была раздосадована таким поздним приглашением, ведь надо успеть сделать прическу, погладить платье, да прежде обдумать, в чем идти, в туфлях или в валенках. А главное, все-таки, что надеть? Шерстяное платье цвета терракоты, любимое Женей не только за фасон, но еще и за само слово «терракота». Или лучше, может быть, расклешенную желто-пеструю «под осень» юбку с гладкой гарусной кофточкой?
Ладно уж, лучше поздно, чем никогда, Женя давно мечтала попасть в Дом культуры на какой-нибудь бал. Поворчав, девушки сунули инженеру в руки кипу старых газет и выпроводили его на кухню. Женя быстренько надела юбку с гарусной кофточкой, решив, что если будет не совсем модно, зато достаточно тепло.
— Хорошо, Галя, сойдет?
— Очень!
Женя еще раз повернулась перед зеркалом. Нет, пожалуй, слишком простовато. Лучше надеть платье, оно изящней. А что холодно, не беда, там же танцы, движение, как и полагается на молодежном балу. В платье она будет выглядеть элегантнее. Ведь не на деревенскую вечеринку идет, не на посиделки, там будут девушки из Москвы, Ленинграда, Киева, Алма-Аты, отовсюду. И молодые люди, разумеется, тоже, в смысле парни, кавалеры. Женя быстро сняла кофточку, сбросила юбку и влезла в платье. Галя уже томилась, ждала ее. В черном жакете в талию Галя казалась долговязой, нескладной, но зачем портить ей настроение? Женя одернула на себе платье, сняла зеркало со стены, поставила его на пол, оглядела ноги.
– Идем, Женя, а то неудобно, человек ждет,— просит Галя.
А Женя уже не понравилась себе в этом платье. Оно ей показалось неуместным. Ишь, скажут, модница какая выискалась! Люди приехали сюда работать, собрались самые скромные, самые самоотверженные, а она, фифа, посмела в таком виде явиться на комсомольский вечер!
Все-таки она не Наташа Ростова и здесь не бал в Благородном собрании. Да и холодно, конечно, в клубе, труба там давно лопнула.
Почти со слезами Женя рывками стала снимать платье. Снова надела кофточку с юбкой. Очень она расстроилась, и от вечера уже не ждала ничего хорошего, пошла так, скуки ради.
Как ни ворчали они на инженера за опоздание, все-таки успели прибежать в клуб до начала. В фойе, возле фанерного, еще не покрашенного буфета, толпились ребята. За неимением «горючего» усердно пили лимонад и курили. К подоконникам жались девушки, только что с улицы, руки у всех озябшие, красные. По их взглядам Женя поняла, что выглядит она весьма недурно, и настроение ее сразу улучшилось. Не парни обычно оценивают твой наряд, а девушки, Женя это знала твердо, как будто родилась с таким знанием.
В пустынном зале музыка еще не гремела, но стулья уже успели сдвинуть к стене, и на них лежали пальто и платки, полушубки и шапки, а из-под стульев торчали валенки, как орудийные жерла. Почти все девушки были в туфлях, а ребята оставались кто в валенках, кто в сапогах, редко-редко — в новых туфлях, не постеснялся щегольнуть.
Было светло, празднично, пестрота в зале поднимала настроение. Женя, как только вошла в зал, сразу решила: она берет на себя лидерство в их тройке, будет руководить инженером и Галей. Они стали особняком, в сторонке. Девушки разглядывали Женю, и потому ей не хотелось смешиваться с толпой, вместе со всеми станет как все, ее очарование растворится в толпе. А растворяться ей совсем не хотелось. Она только кивнула одной знакомой девушке, другой кивнула из своего благородного отдаления, но подойти к ним не захотела. Улыбнулась телефонистке с почты, которая однажды кричала при ней в трубку: «Райком? Цэ райком?.. Николаев, шо вы там мордуетэсь, говорыть треба!»
Когда заиграли первый вальс, у Жени сжалось сердце. От музыки и еще от ожидания. Сейчас кто-то подойдет и пригласит ее... Галя с инженером с места закружились с самым беспечным видом, оставив подругу в сиротливом одиночестве.
Но никто не подходил, никто Женю не приглашал. И она сразу настроилась критически по отношению к здешним ребятам: что они понимают в обхождении, господи! Так бы наверняка подумала и сказала Ирина Михайловна.
Она шагнула к стулу, чтобы сесть и сидеть весь вечер, скептически поглядывая на эту суету, но тут подлетел к ней красавец парень, черноволосый и черноглазый, с бровями вразлет, прямо как с неба свалился. Он только что появился в зале, от него еще пахло морозом и табаком. Женя мельком видела его в поселке, обратила внимание, только забыла, где именно.
— Разрешите?
Она не успела кивнуть, как он уже подхватил ее за талию и сразу же легко, умело закружил.
Парня звали Гришей, танцевал он без устали, говорил свободно и без умолку — сразу видно, приехал из города, где весь досуг наверняка проводил на танцплощадке. Это была его, можно сказать, стихия. После танца он так и не отходил от Жени, развлекал ее то анекдотом, то вдруг загадку задаст смешную и, не дожидаясь, когда Женя ее разгадает, сам тут же говорил ответ и смеялся. Да и Женя смеялась каждому пустяку, зачем же она пришла на вечер отдыха, как не повеселиться. Глаза у Гриши блестели, он сыпал комплиментами и откровенно, как куклой, любовался Женей, что ее ничуть не смущало — обстановка такая, кавалер, куда денешься. После третьего танца Гриша освободил место на стульях, и они уселись рядышком. Без всяких раздумий и тем более без смущения Гриша положил руку на ее талию. Женя рассмеялась, как на очередную шутку, и отбросила его руку. Гриша облизнул губы и сделал вид, ничего такого особенного не произошло, он позволил себе такой жест нечаянно, и продолжал болтать, о чем попало. Женя делала вид, что живо, с большим интересом его слушает, хотя на самом деле ее интересовало другое. Пусть себе говорит без умолку, лишь бы все видели, как им хорошо и весело. Ей совсем не хотелось упрекать себя за беспечность, за пустой смех, пусть!..
А Гриша все смотрел на нее влюбленными глазами.
— Откуда вы такая хорошенькая? Ну откуда?
— От верблюда,— тоном Ирины Михайловны отвечала Женя и глупо смеялась.
Она понимала, ведет себя, по меньшей мере, легкомысленно, но что поделаешь, сегодня ей так хотелось! Гришу она видела, как ей казалось, насквозь. В другой раз, в другом каком-нибудь месте она и разговаривать, наверное, не стала бы с ним, но сейчас... Молодежный вечер, отдых, нельзя же сидеть с постной миной, как некоторые. Гриша не скрывал, а прямо-таки демонстрировал перед всеми свое восхищение Женей, и Женя не сомневалась, она ему действительно нравится, иначе и быть не может.
На мгновение Гриша умолк, и Женя, чтобы не ломать ритма их болтовни, спросила, где он работает,
— М-м-м...
Она расхохоталась:
— Что вы мычите? Забыли?
— Собственно говоря, я не мычу нисколечки, просто я начал выговаривать свое место работы: мэ-тэ-эс.
— Тогда вам надо было не мычать, а экать! Ведь правильно эм-тэ-эс!
Гриша изумился:
— Да?.. Ну, где как, а у нас так.
— Кем же вы, интересно, работаете?
— Инженером. Я собственно...
— Господи, еще один инженер!
— Я, собственно, окончил Московский высший. И сразу сюда. На подвиг.
Он явно привирал, но это ему как-то даже шло, врал он без всякого смущения и без тени улыбки. А Женя смеялась. Что это еще за новое заведение «Московский высший»? Но ведь врал он, чтобы понравиться, придать себе весу в глазах Жени, и потому она ему все прощала.
Вечер прошел блистательно, иначе и не скажешь. Женю приглашали танцевать и другие ребята, более серьезные, но не такие ловкие на язык, и хотя Гриша всякий раз приговаривал: «Ты, пижон, у меня разрешения должен спрашивать!» – она непослушно вскакивала и подавала руку новому партнеру. Ей хотелось нравиться всем, хотелось без конца кружиться. Ей хотелось нравиться еще и себе самой. Ее не смущали взгляды девушек, разные, порой не совсем одобрительные. Жене хотелось позвать за собой всех — кружитесь, веселитесь, зачем же вы сюда пришли?.. К ней подходила тихая Галя со своим тихим инженером, но Женя как будто даже перестала их замечать, они остались где-то по ту сторону ее восторженного состояния.
Гриша, конечно же, пошел ее провожать. Возле дома, прощаясь, он ловким движением, будто продолжая танец, притянул девушку к себе и попытался «нанести поцелуй», как сказала себе потом Женя. Но она легко вырвалась и убежала домой, даже не успев взволноваться.
Лежа в постели в ожидании Гали, она еще долго была возбуждена. Потом ей захотелось сопоставить, проверить свои чувства и свое поведение с Наташей. Женя раскрыла «Войну и мир». Ростовы собирались на новогодний бал к екатерининскому вельможе...
«Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.
В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на балу, в освещенных залах,— музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет...»
Жене вдруг стало грустно — она до сих пор еще не встретила своего князя Андрея. Гриша представлялся ей похожим на Анатоля Курагина, не больше. Но ведь и Наташа увлеклась Курагиным поначалу, и Женя совсем не собиралась ее упрекать за это. И себя она не хотела упрекать за кокетство с Гришей, совершенно явное, открытое — просто ей хотелось нравиться. И если бы она позволила Грише «нанести поцелуй», он бы, глупый, наверняка сгорел от любви.
«Ничего, пусть поухаживает, пусть побегает! Это будет моим первым несерьезным увлечением... Только не забыть бы – именно несерьезным! Я просто позабавлюсь — и всё».
Он будет приходить под окна больницы во время ее дежурства и манить ее пальцем, делать всякие смешные таинственные знаки, понятные только им двоим, как заговорщикам. Будет часами просиживать в вестибюле, в ожидании, когда она освободится после операции с Леонидом Петровичем. И, конечно же, подарки ей будет приносить, не дорогие, разумеется, а так, безделушки, конфеты, и вообще оказывать знаки внимания. Женя готова простить себе маленькие слабости.
«Теперь у нас с Галей есть по инженеру. И наши инженеры так же не похожи друг на друга, как их дамы сердца...»
Уж не из зависти ли к Гале она решила закружить голову Грише?
Наутро вместе с теткой Нюрой Женя пошла на очередное обследование. В районный здравотдел поступила жалоба от шоферов на плохое обслуживание и на отвратительное санитарное состояние в столовой. «В борще вместо мяса нам попалась тряпка»,— писали в жалобе.
— Обследуйте повнимательней, составьте акт,— давал задание Леонид Петрович.— Мы должны навести порядок любой ценой! Будем штрафовать, добиваться увольнения с работы, пригрозим самыми строгими мерами, но порядок там должен быть! Загляните во все помещения, в кладовую, в разделочную, везде!
Чем серьезнее говорил Леонид Петрович, тем приятнее было Жене сознавать свою ответственность: значит, верит в нее, знает, она не подведет, все сделает как нужно.
Столовая размещалась во времянке, в приземистом, исхлестанном дождями и ветром бараке с плоской крышей. Уже на подходах было заметно, что тут не все благополучно. Чернел на снегу мусор там и сям, блестела жесть исковерканных консервных банок, валялись пустые бутылки.
Отворили тяжелую, набухшую, покрытую рогожей дверь, вошли. В темном коридоре тетка Нюра споткнулась о кочковатую грязь чуть не упала и в полный голос выругалась:
— Черты б тебя с потрохами забрали!—(Не черти, а именно черты,— так было выразительней).
В так называемом обеденном зале, низком и сумрачном, посетителей было совсем немного, и оттого виднее становилась вся неприглядность помещения. На черном полу у входа стояли белесые фляги с водой. Воду сюда привозили издалека, ближние колодцы не покрывали нужду в ней. От раздаточного окна, узкого и толстостенного, как крепостная бойница, хвостами тянулись до самого пола засаленные потеки.
– Где заведующая?— не спросила, а скорее воскликнула Женя уже привычным, тем заправским инспекторским тоном, от которого у обслуги, надо полагать, загодя дрожат поджилки.
Женя предполагала увидеть перед собой толстую, грудастую женщину в белом переднике, с голыми локтями. Но отворилась дверь, и перед Женей появился Гриша собственной персоной, вчерашний ее кавалер, в черном пиджачке с лоснящимися локтями, в пухлых ватных штанах, заправленных в серые, огромные валенки с надрезами сзади.
— А-а, привет!— сверкнул зубами Гриша и подал руку.— Как жизнь, как настроение?
— Спасибо, хорошее,— скрывая растерянность, Женя на всякий случай через силу улыбнулась.— А вы как здесь очутились?
— Ты же кричала заведующую, вот я и вышел.
Женя оторопела.
—Перестаньте сиять, как медная пуговица!— наконец проговорила она, чуть не задохнувшись от негодования.
«Ах ты, подлый мальчишка! Инжене-ер! Московский высший!..»
— Почему вы не в белой курточке?!
«Плясала с ним весь вечер, выплясывала, как дура, на глазах у всего поселка. Что теперь обо мне подумают, что скажут! Ах, наглец, он же меня еще поцеловать хотел!»
Гриша между тем оглядел себя, удивился, что па нем нет белой курточки, затем ударил себя ладонью по лбу, будто вспомнил:
— Ах да, в стирке.
Ей хотелось отхлестать его по щекам. Почему она вчера упустила такую возможность?
— Вам известно, на весь персонал должно быть сменное белье? Или вы здесь с сегодняшнего утра работаете? Должность инженера вас не устроила?
Гриша пожал плечами, без всякого смущения посмотрел Жене в лицо и, кажется, хотел сказать что-то по-вчерашнему пустое и легкое, но сдержался. Ох, если бы он только осмелился произнести хоть что-нибудь подобное, как бы она ему всыпала! Боже мой, почему она еще вчера не разглядела его, ведь он весь на виду, такой убогий, такой примитивный, такой... шалопай, ни больше, ни меньше.
— Ведите нас на кухню!—приказала она.
Гриша молча, не оглядываясь, шагнул в узкую дверь, тетка Нюра — за ним, зацепилась полой за гвоздь и без всякого инспекторского достоинства заорала на Гришу:
— За штаны бы тебя да на этот гвоздь!
Гриша только вобрал голову в плечи и ничего не сказал, понимая, будет только хуже.
Над котлом, в белесой синеве пара возвышался повар, тоже молодой парень в белом колпаке.
— Покажите, где разделываете пищу!
Повар молча кивнул на столик с раскисшей доской.
— А где кладовая?
Он кивнул на желтые косяки без двери. Женя шагнула туда. На непокрытом стуле (и где они его раздобыли, когда в поселке везде одни табуретки?!) лежал огромный кусок вареного мяса с белой костью, торчащей прямо на Женю. Гриша поднял мясо за эту кость, переложил его на столик, коротко задумался, затем приподнял стул боком, стряхнул мясные крошки и предложил Жене сесть.
Нет, это был совершенно ничтожный человек! Да как он осмелился вчера подойти к ней?!
— Так, та-ак!—Женя огляделась.
В углу мерцала темно-зеленая лужа огуречного рассола, и в ней стояли две бочки. Брюхастые, как шхуны они отражались в луже. Сбоку, на нетесаных, занозистых стеллажах, распластались мешки с мукой и крупой. Под взглядом Жени, будто нарочно, по мешкам с писком прошмыгнула серая мышка. Женя громко, со стоном вздохнула.
— Как ваша фамилия?
— Суббота Григорий Иванович,— казенно произнес Гриша.
«Боже, а фамилия-то!»—изнемогала Женя.
— У вас что, специальное образование? Или врожденный кулинарный талант?
Она принялась его отчитывать с такой изощренной находчивостью, что даже тетка Нюра оживилась. Здесь же, в кладовой, Женя составила протокол о санитарном нарушении и наложила на Субботу персональный штраф в сто рублей.
— Если через три дня вы не выполните того, что я вам тут записала по пунктам, то, я думаю, товарищ Суб-бота,— она презрительно выделила два «б»,— вам придется вернуться на прежнюю должность. В мэ-тэ-сэ!
— Ладно, ладно, я уже пуганый,— мрачно произнес Гриша, независимо сунул руки в карманы и сквозь зубы длинно сплюнул в лужу рассола.
По дороге в здравотдел Женя продолжала наращивать негодование, – ну как могли поставить такого балбеса на столь важную работу! И как она, взрослый, девятнадцатилетний человек, медицинская сестра, ей доверены судьбы многих и многих людей, могла попасться на удочку этого вертопраха?!
Вечером к ней в больницу прибежал — нет, не Гриша с милыми безделушками, как ей вчера мечталось, а председатель правления сельпо, уже знакомый дядя в рыжем полупальто и в белых бурках.
— Вы меня без ножа режете, дорогая!— начал он, едва увидев Женю.— Что вы натворили? Суббота подал заявление. Бросает работу, говорит, ни за что на него штраф наложили.
Женя холодно объяснила, за здоровье района в целом отвечает здравотдел, а не сельпо и что именно из-за беспорядков в столовой здоровье района находится под угрозой. Неужели сам товарищ председатель не видит ничего предосудительного в деятельности, вернее, бездеятельности Субботы?
— Да я понимаю вас, дорогая, отлично вас понимаю! Но как мы можем оставить в такое время столовую без зава? Посмотрите, сколько там сейчас машин, сколько шоферов, какая там очередища! На весь район, можно сказать, единственная приличная столовая, и ту закрываете.
— «Приличная»,— передразнила Женя, едва удерживаясь, чтобы не сказать: «Там черти ноги поломают».— Мы не закрываем столовую, мы хотим, чтобы она действительно стала приличной.
— Да как же не закрываете? А Суббота уходит, это вам что?
— Ищите другого заведующего.
— Спасибо за мудрый совет. Да на такое место никого сейчас днем с огнем не сыщешь. Кого сосватаешь на пятьсот рублей? Дураков нет. Это во время войны, в голодуху, в нашу систему лезли кто надо и не надо, а сейчас-то голодных нет, по хлебу пешком ходим! Суббота ведь шофер, по болезни, а скорей по своей лени, пошел на кулинарную работу.
— Вот видите, сами все хорошо понимаете. Нельзя его на таком ответственном месте держать. Он даже санитарного минимума не знает. И знать не хочет.
— Согласен с вами, порядок обязательно наведем, но снимите штраф! Это же... политически неверно в такой ответственный момент!
И он еще пытается грозить ей!
— Штрафа мы снимать не будем,— отчеканила Женя.— Наводите порядок. Не то мы и вас оштрафуем рублей на двести.
— Кто ваш начальник?— потерял терпение председатель сельпо.
— Грачев. Можете обращаться,— сухо закончила Женя. Она и не подозревала о такой решительности в своем кротком характере.
Председатель нахлобучил пыжиковую шапку, пообещал встретиться в райкоме с бюрократами от медицины и хлопнул дверью.
Он ушел, и Женя заволновалась. Если столовая на самом деле не будет работать, то шоферы разнесут здесь всю медицину. Станет всё известно райкому, узнает Николаев. Не похвалит.
Но если в такой грязи размножится какой-нибудь идиотский микроб и вспыхнет эпидемия, тогда что?
В больнице она пошла перевязывать Малинку, пыталась отвлечься от мыслей о столовой, и вдруг вспомнила, что Суббота — это и есть тот самый шофер из совхоза «Изобильный», тот самый негодяй, который соблазнил и бросил Соню Соколову. И на молодежном вечере, возможно, была и Соня и, конечно же, видела, как блистательно вела себя Женя. Какой срам, стыд и позор!
Теперь хоть носа не высовывай из больницы. Будут пальцем показывать, скажут: Субботе, повару, весь вечер голову кружила, а потом оштрафовала ни за что...
За два дня до ноябрьских праздников санитарка потихоньку сказала Жене:
— К вам пришли.
К Жене заходили многие, знакомые и незнакомые с самыми разными просьбами, и Женя охотно отзывалась, она любила помогать и чувствовать себя нужной, полезной людям. Но как ни привыкла она к неожиданным визитам, все же удивилась, увидев перед собой Сергея Хлынова. И, пожалуй, даже обрадовалась: сам пришел. С просьбой.
— Привет, Женечка!
Он улыбнулся, чуть вкривь, нешироко, снял кожаную рукавицу и подал жесткую ладонь. Женя тоже протянула руку. Со сложным чувством — все-таки огорчений он ей доставил больше, чем радости. И наверняка еще доставит, почему-то ей так показалось.
— Ирина здесь?— спросил Сергей. Так и есть — опять Ирина.
— Дома...
— А хирург? Ушел? Да ты не бойся, не бойся,— усмехнулся Хлынов.
— Ушел...
— А ты скоро домой пойдешь?— он не стал ждать ответа, видя, что Женя колеблется, не знает, что ответить.— Короче, Женечка, передай записку. А кому, сама знаешь.
— Я не пойду сегодня домой... Я дежурю. А вообще, Сергей...— она хотела ему сказать прямо, в лоб, зачем он пристает к замужней женщине, но сказала другое: — Почему сам не передашь?
— Должна понимать, не маленькая.
Что-то беспомощное заметила Женя в его слабой улыбке. Она еще не видела, как Хлынов смущается, и не подозревала, что он на это способен.
— Ладно, извини,— он опять криво усмехнулся.— Сам отнесу, как советуешь.
Отчаянная душа, Сергей! Добром не кончит,— так говорят в поселке. Сейчас он выйдет из больницы и своим быстрым, сильным шагом пойдет по селу на окраину, к новому дому медиков. Опущенные мохнатые наушники шапки будут взмахивать при каждом его шаге, он словно на крыльях понесет свою отчаянную, непутевую голову. Подойдет к дому, постучит в дверь, вызовет хирурга и скажет, что ему нужна Ирина Михайловна по личному делу. Не отведет дерзких глаз, и ни один мускул не дрогнет на его лице. Он ведь и в Камышный перебрался ради Ирины, если считать по правде, а внешне — повздорил с Ткачом и прощай «Изобильный». Хлынов толкнул дверь.
— Ладно...— тихонько произнесла Женя.— А то ты натворишь.
Сергей сунул в кармашек ее халата сложенную вдвое записку. Даже не запечатал, доверял Жене. Рядом с его черными, заскорузлыми пальцами халат показался еще белее и тоньше. Видно, Хлынов опять грел руки над костром, вряд ли они что-нибудь там успели утеплить.
— Будь здорова, Женечка!— он сделал нечто вроде салюта, взмахнул растопыренной ладонью у шапки.
Хлынов ушел, и Женя тут же, у двери, непроизвольно оглянувшись — не подсматривает ли кто,— перепрятала записку из халата в кармашек платья. Она представила, как будет передавать ее Ирине Михайловне, и ей стало жарко, до слёз тревожно. Как она посмотрит в глаза Ирины Михайловны, а потом и Леонида Петровича? Ведь им вместе жить и работать, каждый день встречаться, и Жене суждено нести и нести тяжкий камень лжи, лицемерия, притворства, будто она ничего не знает, а если знает, то не придает всему этому того значения, которое следовало бы придать.
Почему не отказалась сразу от просьбы Сергея, почему не настояла? Пусть бы сам выкручивался... Сколько раз она ругала себя за слабость характера, за ту мнимую доброту и покладистость, которые оборачиваются дурным делом! Сколько раз, воспитывая себя, клялась не отвечать на всякие такие сомнительные просьбы!
Она уже не жалела Сергея, жестокого, немилосердного вымогателя, в сущности. И в то же время представляла, как сейчас он, наверное, повесил над костром котелок с чистым снегом, греет воду, чтобы отмыть руки и умыть лицо перед встречей с Ириной Михайловной...
А она, жена хирурга, взрослая женщина, неужели побежит на свидание, как легкомысленная девчонка? Она скрывает свои шашни от мужа, а ведь он так любит ее!
Сейчас они, наверное, сидят на кухне и ужинают. Ирина Михайловна смеется, а он, как всегда, серьезен. Он, наверное, все знает. Или догадывается, он ведь проницательный, умный. Глаза его постоянно прищурены, будто смотрят на пляшущий огонь. А Ирина и впрямь похожа на огонь.
Что же делать с запиской?
Порвать ее, и будь что будет. И пусть Сергей со своим доверием катится от нее подальше. А если завтра придет с претензией, Женя ему все выскажет. Снимет камень с души.
Кто-то сказал, – чтобы стать бессовестным, надо снять камень с души и сунуть его за пазуху... Во всяком случае, он не имеет права вносить раздор в чужую семью. Нормальную, здоровую. В конце концов, Женя пойдет... к Николаеву.
Она вынула записку. Сейчас вот порвет ее в мелкую крошку, и никто никогда ничего не узнает.
Никто. Никогда!
Женя прошла в процедурную, прикрыла дверь, прислушалась и, прижимая руки к груди, у самого подбородка развернула записку.
«Иринушка моя, ласточка! Истосковался по тебе, как последний слабак! Хватит, хочу видеть тебя сегодня. Буду ждать за больницей, там, где базарные ворота, в восемь часов. Не бойся, заверну в тулуп, никто тебя не увидит. Только надень валенки, в туфлях не бегай...»
Бумажка в руках Жени мелко дрожала. Женя вздохнула и бессильно опустила руки.
Нежность... Никогда бы не подумала — нежный Хлынов.
Боязно разорвать записку, словно она живая. Нет, лучше вернуть ее Сергею при случае.
В минуты самобичевания, когда Женя ругала себя, ее успокаивали встречи с Малинкой. Она входила в палату и видела, как оживляются больные, как светлеют лица. Похоже, Малинка вспоминал ее вслух часто, произносил длинные монологи, какая Женя внимательная, заботливая, хорошая. Она присаживалась на единственную в палате табуретку возле койки Малинки и спрашивала о самочувствии. Возле Малинки постоянно горели лампочки с лечебной целью, раны затягивались тонкой блестящей кожицей. Больной в ее присутствии отвечал радостно, беспрестанно улыбаясь, похоже, благодарил судьбу за ожог, позволивший ему узнать прикосновение легких, исцеляющих пальцев кареглазой, милой сестры милосердия. Из палаты Женя уходила умиротворенной, – нет, не такая она никудышная, никому не нужная, как о себе думает.
Она и сейчас зашла к Малинке, посидела возле него, поговорила, повздыхала. Но спокойствие не приходило.
Вечером ее сменила Галя, и Женя пошла домой с запиской в кармане. Стоял звонкий мороз, окна в тумане светились расплывчато. По дороге на Тобол, глухо воя, шли и шли тяжелые машины.
«Нет в моей жизни никакого покоя,— горько думала Женя, приближаясь к дому. Невесомая бумажка тяготила ее, как ноша.— Другие живут без всяких таких волнений, а я сама, всегда сама так и выискиваю неприятности. Каждый день что-нибудь да стрясется! То банки в магазине полопались, то с Субботой в клубе опозорилась, то штраф наложила на прохиндея, и теперь, чего доброго, позовут в райком разбираться. И, наконец, согласилась на безнравственный поступок сегодня. А что-нибудь еще и завтра свалится как снег на голову... Когда же все это кончится? Бестолковая, бесхарактерная... Нет, видно, не доросла я еще до самостоятельной жизни. Да еще здесь, на целине!..»
На кухне Ирина Михайловна заваривала чай. Сашка сидел за столом с ногами на табуретке и гремел куском сахара в пустой кружке.
— Добрый вечер,— пробормотала Женя и прошла в свою комнату. Ей показалось, Ирина Михайловна проводила ее долгим взглядом. Женя не оглянулась. До самого утра она не выйдет из своей комнаты!
Было холодно, печь недавно растопили, и комната еще не успела прогреться. Женя зажгла керосиновую лампу, электролинию к их дому еще не дотянули, не хватило, говорят, столбов. Пламя зазвенело, застреляло струйками копоти. Вдобавок ко всему, еще и керосин кончается...
От холода, неуюта, от неровного, ненадежного света лампы, а главное, от записки Жене хотелось заплакать.
Накинув на плечи пуховый платок, она достала бумагу, чернила и села на койку, ближе к печке, решив написать письмо отцу с матерью. Двадцать восьмое по счету. Только в первых пяти-шести письмах из Камышного ей удавалось сохранить бодрость, лихость, и конверты получались пухлыми от событий. А дальше то так, то этак все откровеннее стала проглядывать тоска по дому. Хотелось пожаловаться, как в детстве, а кому, как не маме с папой? Да и чего в том удивительного, если она впервые в жизни уехала из родного дома, и не на день-два, а на многие месяцы и, наверное, даже годы... Как же ей не грустить!
В легкие минуты Женя повторяла себе, что грусть-тоска скоро развеется сама собой, только надо уметь переключать себя. Она хлопотала на кухне, прибирала в комнате, подметала, мыла, чистила... Но когда что-то не ладилось, Женю тут же охватывали воспоминания о домашних беспечальных годах.
«Дорогие мамочка и папа! Я не вытерплю здешней жизни, уеду. Сбегу, фактически опозорюсь, но оставаться на целине у меня больше нет сил...»
Женя подумала и отложила письмо — не так начала, это сразу огорчит отца с матерью. Слишком уж грубая правда, надо подумать и написать им как-нибудь помягче.
Надо отвлечься, надо переключить себя совсем на другое. Она взяла Павлова «Двадцатилетний опыт», книгу Леонида Петровича, раскрыла наугад и сразу обратила внимание на строки, подчеркнутые карандашом: «...Организм представляет собой сложную обособленную систему, внутренние силы которой каждый момент уравновешиваются внешними силами окружающей среды».
Интересно. Значит, ее, Женины, внутренние силы тоже должны быть уравновешены и не от случая к случаю, а в каждый момент. Но каким образом она может уравновесить себя сейчас с Ириной Михайловной и с Хлыновым?
Она полистала дальше. Подчеркивал, конечно, сам Леонид Петрович. «...Не постоянное ли горе жизни состоит в том, что люди большей частью не понимают друг друга, не могут войти один в состояние другого...»
Да, она не может войти в состояние Ирины Михайловны, и в этом действительно горе ее жизни, что правда, то правда. Но что это значит — войти? Всё понять и всё простить, так, что ли? Тогда, на току ведь это не сон был, а явь, свидание Ирины Михайловны с Хлыновым. «Внимание, черти на целине! Ха-ха»,
Написала о Хлынове: золотые руки. Но ведь все правильно — руки! Руки труженика. А зачем комбайнеру сердце, душа и всё такое? Он убирает хлеб, кормит, можно сказать, страну, про него пишут в газетах. И совесть у него чиста. В этом смысле — в трудовом.
А что важнее: то, что Хлынов кормит хлебом, или то, что он... связан с чужой женой? Вопрос. И в ответ Жене захотелось воскликнуть горько и громко: «Хлеб важнее, господи, хлеб наш насущный!»
— Женечка, идем чай пить!— услышала она голос Ирины Михайловны, как всегда заботливый, ласковый. Даже звук ее голоса привлекателен. Если ничего не знать...
— Спасибо, я буду позже.
— Иди, иди, глупенькая, не надо прятаться.
Ирина Михайловна вошла к ней в комнату. Женя заметила, что дверь за собой она предусмотрительно прикрыла.
Как удивительно все-таки сияют ее смелые глаза. Бедовая. Шерстяное темное платье тесно обтянуло ее фигуру с узкими плечами и высокой грудью. Слишком много в ней женственного, наверное, поэтому... Женя потупилась.
— Опять тоскуешь, бедненькая, по глазам вижу. Напрасно. Я тебе уже говорила, когда грустно, тверди себе: «Всё проходит».
— А когда весело?
— Тогда ничего не надо твердить,— Ирина Михайловна беспечно рассмеялась.
Жене стало как будто легче. Можно не думать о записке, забыть про нее, будто ее и не было. Ирина Михайловна оборвала смех, негромко спросила:
— К тебе в последние дни никто не заходил? Из прежних знакомых.
— Ах, да!— притворно спохватилась Женя и покраснела.— Вот, просили передать.— И подала записку.
— Девочка ты моя!— Ирина Михайловна порывисто притянула Женю к себе, потормошила ее, как маленькую.— Не порвала и не выбросила.— Она заметила смятение Жени, отстранилась и спокойно предложила: – Давай ее вместе уничтожим. – Она подошла к лампе, не прочитав, грубо смяла записку, затем расправила ее, чтобы лучше горела, и поднесла к верху стекла. Краешек подрумянился, потемнел, быстро скрутился и вспыхнул, осветив снизу неподвижное, вдруг постаревшее лицо Ирины Михайловны.
– Прочитали хотя бы... Человек старался,— пробормотала Женя.
Ирина Михайловна на мгновение отвела руку, быстро глянула на записку и снова — к стеклу и держала ее до тех пор, пока пламя не обожгло пальцы.
«Не руку обожгла, а душу»,— подумала Женя.
Сейчас Ирина Михайловна уйдет из комнаты и унесет с собой всё. Не только тайну свою, в общем-то, уже почти раскрытую, но и последнее уважение Жени к самой себе.
Листок пепла колыхнулся, распался и серыми лохмотьями медленно осел на стол.
— Ирина Михайловна!—ломким голосом окликнула Женя.
Ирина обернулась, вопросительно подняла брови.
— Почему вы... сошлись с Хлыновым?
— Подрастешь, узнаешь,— быстро и неожиданно грубо, будто ее поймали с поличным, ответила Ирина.
— Подрастешь...— с укоризной повторила Женя.— Как будто я маленькая. Ладно, пусть подрасту, стану женой и матерью. И какие же истины тогда передо мной откроются? Осознаю свое право на измену? Что это за наваждение такое, неужели от него никому не уйти?.. Вы называете меня девочкой, воробышком, а я между тем взрослая и не хочу скакать возле вас и чирикать о чем попало, как воробышек. У вас семья рушится, вы же сами страдаете. Ради чего, во имя чего?
Ирина отошла к окну, коснулась лицом холодной занавески. Женя видела ее спину, ее густые волосы, спадающие ниже лопаток.
— Это вы нарочно так бедра обтягиваете... А умные люди говорят, тело это самое меньшее, что может дать женщина. Я же не кричу, не скандалю, я просто хочу понять, Ирина Михайловна, дорогая...
— Не знаю,— произнесла Ирина, не оборачиваясь.— Не знаю, что тут можно сказать.
— Правду.
— Совсем пустяк — правду!— Ирина усмехнулась.— А кто знает, какая она, правда, в чем — в этом-то случае?.. Может быть, самая главная правда в том, чего человеку хочется, что заставляет тебя чувствовать единственно нужной кому-то. А не в том, как это всё со стороны другим покажется.
Женя подошла к ней, растроганная тем, что Ирина не сердится, не отмахивается от нее, как от назойливой мухи, и говорит серьезно.
— Понять, по полочкам разложить,— горько усмехнулась Ирина, сильно кривя губы.— Если бы смогла... Признайся, ты бы радовалась, если бы из любви к тебе какой-то человек бросил бы все на свете? Или пошел бы на всё!
Женя неуверенно кивнула.
— Тогда послушай и сама рассуди. Два года назад у нас с Леней что-то надломилось. Было очень трудно и между нами, и вообще здесь, в больнице. Мы сделали операцию одному старику, а он умер. Месяц болел до операции, месяц болел после нее. Нашей вины не было, но ты бы видела, как изменился Леонид. Перестал меня замечать. Ничего как будто не осталось от нашей любви, от искренности, от прежней теплоты. Понимаешь — ну ничего! Весь этот месяц, пока умирал старик, я жила, в сущности, одна-одинешенька, как мышь в щели. Говорю Леониду, опомнись, побереги себя, у тебя впереди еще сотни и сотни больных, ты должен сохранить для них свои силы, свое спокойствие. Ради Бога, возьми себя в руки. А он отвечает, что совершенно спокоен, руки опускать не думал, и что он таким всегда был, ничуть не изменился. Понимаешь, ну прямо как стена какого-то взаимного непонимания. Что мне оставалось думать? Чужой дряхлый старик для него значит больше, чем родная жена. Но стариком дело не кончилось. Привезли однажды другого больного. Мы готовились к операции, когда узнали, что в соседнем совхозе уже вторые сутки не может разродиться женщина. Неотложно нужна акушерка. На улице пурга, ни пройти ни проехать, но Леонид об этом совершенно не думал. А я знала, если эта женщина умрет в тридцати километрах от нашей больницы, он полгода не будет замечать меня. Для него долг превыше всего. И я согласилась поехать. Одна, в метель, лишь бы кто-нибудь довез. Нашелся такой смельчак — Хлынов. Поехали, я приняла роды, все благополучно. На обратном пути заночевали в ауле... Ты еще не знаешь, как это бывает...
Жене стало жарко, щеки ее пылали, но она не сбрасывала теплый платок, боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть откровенность Ирины.
— Я все понимаю,— заверила ее Женя.— Всё-всё!
Ирина ее не слышала, продолжала рассеянно, отрешенно:
— Сергей грубоват, может быть, диковат, но он настоящий, цельный. Он любит меня, и на него можно положиться всегда. А Леонид... Ах, господи, сравниваю, как дура, всё не то! – раздраженно закончила Ирина.— Пустой разговор!— Она нетерпеливо глянула на часы, быстро, гневно обернулась к Жене.— Не спрашивай меня больше. Что хочу, то и делаю!
Неожиданная грубость Ирины задела Женю.
— Почему вы не расскажете всё мужу?
— Надеюсь на твою услугу.
— Вы с Хлыновым хотите жить вопреки совести. А я так не могу. Я хочу жить так, как велит моя совесть.
— Слова-то какие подобрала!
Ничего не осталось от их прежней вежливости, такта, даже нежности. Дружба кончилась. Обе понимали, что говорят крайности, и не могли удержаться от ссоры.
— Ведь мы с Леонидом Петровичем вместе работаем,— жалко продолжала Женя, лихорадочно ища доводы, пытаясь ухватиться за какую-то вескую причину.— Чужие жизни, можно сказать, вместе в руках держим. Как мне теперь молчать, как скрывать? Лучше бы мне вообще ничего не знать!
— Дело твоё,— бесстрастно сказала Ирина,— молчать или не молчать.
— Леонид Петрович умный, он все поймет. Вот как я вас поняла. Я вам добра хочу, Ирина Михайловна!
Женя протянула ей руку, чувствуя, что на глаза набегают слезы.
— Какая ты еще зеленая!— Ирина скривила губы и обошла протянутую руку Жени.
Все кончено. Теперь они никогда больше не скажут друг другу ласкового слова. И, наверное, перестанут здороваться. Станут жить, как иные соседи в коммунальной квартире, препираться по мелочам на кухне, и каждая будет считать себя правой.
Ирина Михайловна вышла, и по решительному шагу ее, по всей фигуре видно было, между ними все кончено.
— Ну и пусть!— вслух произнесла Женя.— Скатертью дорожка.
Она опустилась на кровать, бросила на колени руки. «В чем теперь мой долг? Молчать? Но разве это долг порядочного, честного человека? Разве это комсомольский долг? Молчать в тряпочку...»
Нет, она должна честно и откровенно рассказать обо всем хирургу. Только надо подумать, когда, где и какими словами.
Да никогда и нигде! Разве найдутся у нее силы причинить Леониду Петровичу такую боль!..
«Так и умру безвольной, бестолковой, бесполезной!..»
Она не пошла на кухню ужинать. «Крепче буду спать на пустой желудок». Около восьми часов услышала Сашкин голос:
— Мам, ты куда? Я с тобой.
Ирина Михайловна что-то неразборчиво ответила, послышался благодушный голос Грачева, он, видимо, успокаивал Сашку, и через мгновение хлопнула дверь.
Ушла. И на Сашку ей наплевать. Забыла обо всем на свете, ушла к другому.
Что это? Как понять, что за сила такая неведомая влечет ее?..
Жене страшно от ее решимости. И любопытно.
Женя мысленно проследила ее путь. Вот она подошла к столовой, прошла сквозь густой туман, мимо стада автомашин, потом мимо дома тетки Нюры, там окна наглухо занавешены даже днем, не только ночью, видно, и на самом деле тетка готовит самогон к празднику; сторонкой прошмыгнула мимо больницы и не посмотрела даже в ту сторону, где над входом яркая лампочка освещает чашу со змеей — яд и противоядие... А там уже видны два столба с перекладиной, как футбольные ворота, с куском фанеры, на котором намалевано белилами: «Рынок. Добро пожаловать». Сейчас там пусто, ни души, только подвывает поземка. И нетерпеливо маячит одинокий черный силуэт...
Перед Женей лежало начатое письмо домой. Паническое письмо, пораженческое. Оно только расстроит отца с матерью. Женя свернула листок, отложила. Огонь в лампе то вспыхивал, поднимаясь, то оседал, пламя то разгоралось ярко, то истощалось, становилось узеньким и оранжевым, как осенний березовый листок. Приземистая, похожая на степного идола лампа бесшумно вздыхала.
...Сейчас Сергей закутал Ирину в тулуп и поднял на руки. Нет, она не далась, уперлась, и они упали, забарахтались в сугробе. Им не страшен мороз, наплевать им, что снег набивается в рукава и в валенки, за воротник.
Женя погасила лампу. Посветлела лаковая темнота окон. Женя прильнула к холодному стеклу, долго смотрела на улицу. В щели дуло, дышало степным неуютом, совсем рядом светло дымила, извивалась поземка. Где-то в снежной мути, запорошенные, белые бродят двое неприкаянных. У них нет пристанища, но они, наверное, счастливы и готовы обойти всю мерзлую степь.
Ирина была похожа на отца — синие глаза и рыжие, почти каштановые волосы. Отец работал парторгом на тракторном заводе, а мать ее перед войной училась в педагогическом институте, мечтала работать в школе. Ирина не помнила, чтобы отец когда-нибудь раздражался, был недобрым к ней, неласковым, хотя, как она позже узнала от матери, тяжких забот у него было немало.
В семье любили музыку, мать частенько заводила патефон в синей коробке, сидя возле большого ящика с пластинками в конвертах с мятыми уголками. На всю жизнь осталась у Ирины любовь к величественным и мелодичным революционным песням. Нередко отец приходил с работы усталый, озабоченный, закрывался в своем кабинете и курил так неистово, что дым струился через замочную скважину. В такие минуты мать с дочерью говорили шепотом, ходили на цыпочках, мать вздыхала, потом тихонько, но настойчиво скреблась в дверь кабинета. Отец впускал их без особой охоты, мать умело заводила пустяковый разговор, стараясь его отвлечь, потом все вместе пели негромко и задушевно. И «Варшавянку», и «Смело мы в бой пойдем», и грустную, протяжную со словами: «Ты мой конь вороной, передай дорогой, что я честно погиб за рабочих...»
Отец ушел на фронт в первую неделю войны, когда Ирине исполнилось одиннадцать лет. Матери пришлось оставить институт и пойти на завод. Начались бомбежки. Большой шумный город утих, помрачнел. Днем окна белели крестовинами бумажных наклеек, а по вечерам чернели без огней, будто за стеклами не осталось ничего живого, одни пустые провалы. Город продолжал работать беззвучно и безостановочно, люди и машины словно состязались в неутомимости.
В одну из таких ночей после сигнала «отбой» мать с дочерью лежали в холодной постели, одетые в пальто, считали-подсчитывали, сколько дней не было письма с фронта. Вспоминали тепло и уют мирной жизни. Горе как будто поравняло их в возрасте.
На другой день, вместе с заводом, на платформах, забитых станками и оборудованием, мать и дочь эвакуировались в Сталинград.
Жили в тамошнем цирке. По вечерам шли представления, изощрялись в своем умении жонглеры и фокусники, дурачились клоуны. В первых рядах одинаково зеленели гимнастерки красноармейцев, там раздавались аплодисменты, а на галерке слышалось шипенье примусов и плакали дети. Днем малыши резвились на огромной арене, бегали в цирковую конюшню. Какое это было для них счастье — жить под одним куполом с лошадьми, дрессированными собачками и старым клоуном!
Мать назначили заведовать столовой, и Ирина каждое утро приходила к ней помогать мыть котлы и чистить картошку.
Однажды на кухню заглянула официантка и сказала, что какой-то командир со шпалой спрашивает заведующую. Мать отказалась выйти: был трудный день, кормить людей совершенно нечем, в обед роздали весь запас тушеной капусты,— и попросила официантку, пусть сама поговорит с этим командиром. Та ушла, но тут же вернулась и сказала, что командир настойчив и надо бы уважить его просьбу, потому что он с орденом. Ирина любила орденоносцев и первой выбежала в обеденный зал. У дощатого длинного стола стоял ее отец, подтянутый и еще более похудевший.
Через три дня он, политработник, ушел на передовую с танковой бригадой. Ирина знала, что война кровавая и каждый может попасть в беду, потерять своих близких, но знание это мало ее тревожило, оно было с чужих слов. Чувство страха перед смертью, как ей казалось, быстро притупляется, и даже бомбежки становятся не такими страшными, как вначале. Взрослые боятся больше. Ирина как будто уже перенесла самое страшное, и теперь уже ничего не боялась. Но вскоре поняла, что ошибалась по своей детской беспечности — принесли похоронную на отца и письмо от командования. «Пал смертью храбрых на поле боя». Пройдет война, пройдут голод и холод, но никогда не вернется отец, не погладит ее по голове, не посадит дочь на колени...
Должно же когда-то прийти возмездие! За погибших, за разрушенный родной город, за тех изможденных рабочих с черными пятнами цинги, которых она видела, когда разливала по жестяным кружкам зеленоватый и густой, как чай, хвойный отвар.
Немцы приближались к Сталинграду, и завод откочевал дальше на восток, в глухой алтайский городишко Рубцовск...
После войны они с матерью вернулись в свой город. После седьмого класса Ирина поступила в фельдшерско-акушерский техникум. Ей хотелось поскорее получить специальность и стать самостоятельной.
В техникуме она очень скоро завоевала репутацию заводилы, лидера, отчаянной девчонки. Живая и общительная, вся в отца, как ей думалось, она активно участвовала во всех вечерах отдыха, ходила в походы, занималась спортом. Тренер по гимнастике собирался сделать из нее мастера спорта, но вскоре убедился, что зря старается. На первых же соревнованиях, когда Ирина заняла седьмое место среди пятнадцати участниц, она заявила, что с гимнастикой покончено. Ей хотелось быть первой, везде и всюду первой, но не второй и, тем более, не седьмой. Но прилагать для этого усилия, тренироваться каждый день, а то еще и по два раза на дню, она не собиралась,— пусть этим занимаются те, кому делать нечего, кому скучно жить, а ей скучать некогда. Она хотела делать только то, что ей нравится, и в той мере, которая ей была не в тягость, не утомляла ее.
В шестнадцать лет Ирина стала хорошеть, что называется не по дням, а по часам. Она легко привыкла к общему вниманию и всем своим видом, одеждой, походкой, манерами, старалась это внимание к себе поддерживать. Мальчишки ее обожали, однако к сверстникам своим Ирина относилась без всякого интереса, они ей казались слишком скучными, робкими, какими-то отсталыми. А вот парням лет на пять постарше Ирина была не прочь поморочить голову и тем самым поволновать себя.
После техникума она стала работать акушеркой в родильном доме. Смышленая, энергичная, аккуратная, она хорошо справлялась со своими обязанностями, ее полюбили и врачи, и молодые мамаши. Все настойчиво советовали поступить в институт, стать врачом, и она в конце концов так и сделала, поступила.
В первые дни Ирина в институтской среде несколько растерялась. Нет, она не оробела, не испугалась нагрузок, наоборот, учеба ей показалась более легким делом, чем работа. Она оказалась самой старшей в группе, ей уже исполнилось двадцать два. Большинство студенток жили еще общими полудетскими, полудомашними интересами, по школьному зубрили, по школьному отлынивали от занятий. Ирине с ними было скучно, и она непроизвольно выделила себя из среды студенческой в иную среду,— ближе к врачам, к преподавателям, мысленно, разумеется, про себя. На лекциях в аудитории она садилась в первом ряду, там, где обычно сидели ассистенты и преподаватели.
Интереснее других читал доцент Беспалов, анатом, худощавый, смуглый, и по всеобщему мнению, красавец мужчина, однако «не-при-ступ-ный», как говорили студентки, любит только свою анатомию.
«Посмотрим!»— решила Ирина.
В один прекрасный день Беспалов читал лекцию об органах движения и, чтобы оживить тему, решил провести эксперимент.
— Для того чтобы вы лучше представили, что такое центр тяжести и равновесие, я позволю себе прибегнуть к вашей помощи.
Ирина сидела в первом ряду, прямо напротив кафедры, и Беспалов попросил ее подойти к нему.
— Вам нетрудно будет нагнуться и поднять с пола бумажку?— предупредительно спросил доцент.
Ирина повела плечом.
— Я занималась гимнастикой.
— Отлично.
Беспалов попросил ее стать вплотную к стене, касаясь ее спиной и пятками, положил перед ней на пол листок бумаги и попросил поднять его. Ирина, не скрывая самодовольной улыбки, ловко нагнулась и... упала головой вперед, боднув доцента в живот и хватаясь за полы его пиджака. Беспалов придержал ее за плечи.
— Благодарю вас, иллюстрация удалась вполне,— сказал он без улыбки, неизменно корректно и, выждав, когда студенты перестанут смеяться, пояснил результат, не обращая больше никакого внимания на Ирину.— Как видите, стена помешала перемещению центра тяжести, и человек потерял равновесие.
У Ирины весь день горели щеки. Она была оскорблена, возмущена тем, что доцент выставил ее на посмешище всем, да к тому же еще сильно схватил за плечи. Какой заботливый! И без его помощи, слава богу, она удержалась бы на ногах!
В отместку она решила больше не ходить на его лекции. Всю неделю копила решимость, распаляла себя — не пойду, не пойду, пусть знает!— а потом вдруг перед самой лекцией трезво подумала: «Да ведь он и не заметит моего отсутствия. Сидят перед ним человек двести амфитеатром, все в белых халатах, на одно лицо. Он даже фамилии моей не знает...»
Она пошла на лекцию, заняла свое место в первом ряду и все два часа смотрела на него прямо и придирчиво. Как всегда, он аккуратно, если не сказать по-пижонски, одет, сорочка наглажена, очередной новый галстук. Руки у него сухие, пальцы длинные, и на тыльной стороне кисти темные волоски.
Ирина вздохнула — не к чему было придраться. Тем более, что в институт, об этом все давно знают, он приезжает на собственной «Победе».
На зачет по остеологии («Пошли сдавать кости»,— говорили студенты) не явилась лаборантка, и Беспалов пригласил в кабинет Ирину.
— Пожалуйста, помогите мне,— очень любезно попросил он.— Задача для вас нетрудная — записывать фамилию студента, выдавать билет и проставлять номер. Сможете?
— Смогу,— улыбнулась Ирина. И добавила со значением:— Только сегодня, надеюсь, я не рухну к вашим ногам.
— Нет, нет, что вы!— притворно возмутился он. И тут же добавил:—Теперь моя очередь.
Ирина вспыхнула, и чтобы скрыть смущение, отвернулась, разглядывая кабинет. Он показался ей похожим на средневековую келыо — из-за черепов. Узкая длинная комната с одним окном в дальнем конце, а обе стены, справа и слева, разлинованы стеллажом, а па полках расставлены не книги, а черепа, виском к виску, желтые, бурые, белые. Ирина слышала, что коллекция черепов Беспалова уникальна, он собирал ее много лет, готовясь к защите диссертации.
Во время зачета, а длился он часа четыре, Беспалов был любезен с Ириной, хотя и говорил с ней мало и не позволил ни одного живого, так сказать, слова —только по делу.
«Хоть бы улыбнулся,—досадовала Ирина.— Ведет себя так, будто это я сама к нему сюда напросилась...»
Помня о том, что в конце концов ведь и ей придется тянуть билет и отвечать, Ирина с напряженным вниманием слушала ответы студентов. Она уверена была, что не засыплется, ответит не хуже других, но ей хотелось придумать что-нибудь такое-этакое, удивить его, раззадорить, показать ему, что хотя он и доцент, а вот не властен над ней, студенткой. Захочу, отвечу, а захочу не стану отвечать. «Я утомилась, знаете ли, у вас здесь душно, мозги расплавились...»
Вот и вышла последняя студентка. Ирина подобралась, приготовилась к поединку и выжидательно посмотрела на Беспалова.
— Устали, конечно,— участливо проговорил он.— Вы мне очень помогли, спасибо. Где ваша зачетка?
Такого поворота Ирина не ждала, растерялась, молча подала зачетку. Да и что скажешь в таком положении: дескать, не надо мне никаких скидок, дайте билет, все честь по чести? Принципиально, да глупо. Бестактно, по меньшей мере, так ей казалось.
Он поставил зачет, расписался и даже поколыхал слегка ее зачетную книжку, услужливо выжидая, пока просохнут чернила, затем подал книжку Ирине.
— Спасибо... Я могу идти?
Он не ответил. Было уже поздно, за окном темнел скорый декабрьский вечер. Ирина понимала, что делать ей здесь больше нечего, пора уходить. Но ей не хотелось уходить, не хотелось — и все! И потом она еще кое-чего не выяснила. Кое-чего...
Беспалов, как это делают люди после долгого сидения на одном месте, прошелся по кабинету, делая медленные, длинные шаги, разминаясь.
— Интересное время — студенчество, не правда ли?— Похоже, он настроился поболтать. Раньше Ирина думала, что ему лет тридцать пять, не больше, но сейчас он устал и выглядел на все сорок.— Вы дома живете или в общежитии? А-а... Так-так... За трамваем студент бежит волком, в трамвай ломится медведем, а едет зайцем.
Он не улыбнулся, но явно рассчитывал на ее улыбку — как-никак шутка.
— Но это же старо, боже мой!—Ирина расхохоталась.— Как вы отстали от жизни.
Он все еще оставался доцентом, никак не хотел замечать в Ирине женщину. Ей хотелось поиграть с Беспаловым, пошалить.
— Зачем вам такая громада черепов? Как вы их собирали? Бульдозером, наверное?
Наконец-то он рассмеялся, и потом начал рассказывать довольно живо и интересно о наиболее ценных, с его точки зрения, экспонатах.
— Воо-он тот мне покажите, пожалуйста,— попросила Ирина, показывая пальцем в самый дальний угол.
Беспалов приставил к стеллажу зеленую, похожую на саранчу, стремянку, легко поднялся, потянулся за черепом. Ирина увидела его импортные, редкого узора носки и снова с досадой подумала, что даже к носкам его не может придраться. Почему-то ей хотелось именно придраться к чему-нибудь.
Он подал ей шершавый череп, пожелтевший, наверное, не за одно столетие, протянул ей так, как обычно подают цветы — медленно, благоговейно.
— Какой-то человек жил, думал, мечтал. Может быть, учился, и тоже медицине, со смертью боролся,— проговорила Ирина, глядя в пустые глазницы. Ей стало грустно...
В институтском подъезде он предложил подвезти ее на своей машине.
Ирина плохо помнила, о чем они говорили дорогой. Ей хотелось пошалить, и она шалила, а потом расхотелось, и она перестала. Но обратила внимание на то, что Беспалов ловко ввернул в свою речь что-то насчет своей холостяцкой жизни. Вроде бы к месту сказал, как будто мимоходом, просто так, но сказал дважды, это точно. Однако принимать это за намек Ирине не хотелось, она сегодня устала. В конце концов, он мог сказать об этом, просто заполняя промежуток в своей болтовне,— надо же развлекать попутчицу, если взялся везти.
На следующую лекцию по анатомии Ирина собиралась с особой тщательностью, сходила в парикмахерскую, дома долго маячила перед зеркалом, примеряя белый халат и накрахмаленную шапочку. В аудитории заняла свое обычное место, но перед самым звонком вдруг разволновалась и на глазах у всех неожиданно перешла в последний ряд.
«Человек потерял равновесие»,— вспомнила она лекцию о центре тяжести.
С галерки она пристально следила за Беспаловым, уверенная, что он ее не видит. Заметил ли он ее отсутствие в первом ряду? Сегодня он острил и отвлекался от темы больше обычного. Возможно, так ей показалось, она ведь не считала количество его острот на прежних лекциях. Просто на него нашло вдохновение.
Заметил или не заметил? Ирина избрала утешительный для себя вариант: заметил, но сделал вид, что ему безразлично. Из аудитории он вышел, как всегда, прямой, надменный, не обернулся.
«Бог знает, что ты о себе возомнила. Да он уже забыл про тебя! Мало ли у него всяких-разных, таких вот мимолетных встреч со студентками. Чего ради он должен именно тебя выделять из числа всех?..»— думала Ирина, а в глубине, в самой глубине сознания шевелился чертик: а кого же еще, если не меня? Не может такой воспитанный, такой умный человек говорить каждой встречной и поперечной о своей холостяцкой жизни.
Воспитанный, деликатный, человек науки... Так он и вел себя с ней, воспитанно, деликатно, и нечего городить семь верст до небес. Она помогла ему во время зачета, он ее поблагодарил, довез до дома. Воспитанно, деликатно, все чин чином. А если ты сама втюрилась в доцента Беспалова, так нечего его винить. Не ты первая, не ты последняя, в него весь курс влюблен. «Ишь, цаца какая самонадеянная!..»
Самокритика помогла. На следующей лекции Ирина уже спокойно сидела в первом ряду на прежнем месте. Она относится к Беспалову с уважением,— этого достаточно и ему, и ей. Он и не думал за ней ухаживать, поскольку старше ее лет на пятнадцать по меньшей мере. Посерьезнее надо жить, построже к себе относиться.
Как только Беспалов вошел в аудиторию, он сразу на нее посмотрел — Ирина не сомневалась,— улыбнулся ей и дружески кивнул. Студенты это заметили (Ирина не знала, что девчонки уже шушукаются по этому поводу). У Ирины запылали щеки. До самого звонка она не могла сосредоточиться, плохо слушала, ничего не записывала, рисовала в тетради чертиков и — ждала. Неизвестно чего конкретно, просто ждала и верила, что дождется. Когда раздался звонок п конце лекции, Ирина подняла глаза на Беспалова и увидела, как он легонько кивнул, приглашая ее подойти.
— Помогите мне, пожалуйста...
Сам он понес таблицы, а она взяла заспиртованное в кубической стеклянной банке человеческое сердце. В кабинете с черепами он спокойно и просто предложил ей поехать за город в воскресенье.
— Мне кажется, вы смелая. Я научу вас водить машину. Нельзя отставать от эпохи. Говорят, жена иранского шаха сама самолет водит.
Ирина представила себя за рулем — в голубой кофточке, с пышными, рыжими волосами — и сама собой восхитилась.
Поехали за город. На большом пыльном пустыре, где никто не мешал, Ирина пересела за руль. Она вроде бы точно выполнила все его команды, но машина почему-то сильно дернула с места, рванулась. Ирина не успела и глазом моргнуть, как машина проехала весь пустырь, и вдруг по днищу что-то гулко ударило, будто там взорвалась бомба. Ирина выпустила баранку, в страхе замахала руками. Двигатель заглох.
— Ничего, бывает,— сказал Беспалов.— Не огорчайтесь.— И поцеловал Ирину в утешение.— Когда сердце борется с разумом, то разум уступает, потому что он умнее.
— Не хочу я водить машину,— сказала Ирина.— Это не для меня.
Она ждала другого. И дождалась...
Свадьбу устроили на квартире Беспалова. Стол ломился от всякой всячины, но гостей было немного, во всяком случае, из студентов — никого, а из преподавателей пришли двое, муж с женой. Что-то торопливое, как показалось Ирине, было в этой свадьбе, что-то нервозное. За столом мать Ирины всплакнула, должно быть, не совсем одобряя выбор дочери — слишком велика была у молодых разница в годах. Или материнское сердце что-то чувствовало неладное.
Очень скоро между ними начались нелады, пришли обиды большие и малые. Видно, слишком привыкли они оба жить только для себя, особенно он. Ирина не знала, с чего именно началось вдруг охлаждение к мужу, порой даже отвращение. В каждой мелочи он поучал ее, урезонивал, приструнивал и легко доказывал, что она не права в том-то и в том. Правота его прямо-таки угнетала Ирину. Ни в чем он не ошибался, все умел предусмотреть, а ее изобличал постоянно в легкомыслии, в каких-то мелких промахах, высказывал свои замечания умно, язвительно. Ирине тошно становилось от его правильности, его умения все замечать и давать оценку. Она злилась, что не в состоянии никому, и прежде всего себе, доказать, какой он мелочный, какой он ничтожный человечишко. И самое ужасное было в том, что он совсем не изменился, он и прежде был таким, только она сама раньше ставила ему плюсы там, где теперь появились минусы. Сначала она гордилась тем, что они не пошли расписываться. Они люди современные, без предрассудков, отлично понимают, что никакой документ не в силах скрепить чужих и разных, как не в силах разлучить близких и любящих. Беспалов, вероятно, стеснялся идти в загс с девчонкой, да и не скрывал этого: «Хорошо было во времена Пушкина: тройка, ямщик, заброшенная церковь и сребролюбец священник. Браки совершаются на небесах...»
Однако очень скоро Ирину стал оскорблять тот факт, что они не пошли в загс. «В чем тут дело?— недоумевала она.—Ведь я не признаю этой казенщины, этой формальности, но почему это меня задевает?!»
Если бы он теперь предложил пойти зарегистрироваться, она наверняка отказалась бы. Но сам отказ доставил бы ей удовлетворение и, наверное, принес бы спокойствие. Но Беспалов не предлагал. Любитель порядка в мелочах, он забывал о вещах более важных.
Она перестала ходить на лекции по анатомии. Теперь ей казалось, что он играет за кафедрой, как плохой актер. А эти простаки, наивные дети, в сущности, все еще слушают его с раскрытым ртом. Неужели и она была такой же дурой, как все?
Когда она возвращалась из института, он, не стыдясь перетряхивал ее сумку, просматривал все подозрительные бумажки. А на ее возмущение не обращал внимания, доказывая, что в каждой семье должно быть доверие друг к другу. «А доверие, дорогая, зиждется на проверке».
«Череполог»,— с презрением думала Ирина. Она уже знала, что с помощью своей уникальной коллекции он собирался сделать переворот в антропологии, но вовремя спохватился и защитил кандидатскую по вариациям бронхов в детском возрасте. Не один раз приходил на память и тот день, когда она несла из аудитории банку с заспиртованным сердцем; теперь она не могла избавиться от ощущения, что в груди ее мужа такое же неподвижное, синюшное сердце.
Никогда бы не подумала Ирина, что ей полезут в голову пошлые мысли о пропавшей молодости. Студенты стали ее сторониться, кое-кто откровенно называл ее карьеристкой, и никто на курсе не увидел ничего хорошего, ничего завидного в ее замужестве.
Они расстались. Кажется, оба с чувством облегчения. Хотя у Ирины была тяжесть не только на душе — пришлось сделать аборт, тайком, второпях, на квартире у старой акушерки. Тошнотворно пахло хлорамином, дверь и окна плотно застилали толстые, непроницаемые одеяла, и старая абортмахерша просила не орать, иначе их накроют. Ирина заплатила четыреста рублей, потом месяц пролежала в гинекологическом отделении, и весь институт узнал, что попала она туда после криминального аборта. Выздоравливала она вяло и без всякого желания.
В институт Ирина не вернулась. Мать переживала, плакала, пыталась ее растормошить, оживить, но Ирина замкнулась, как бы спряталась вся в невидимую скорлупу. С тупым упрямством она стала раздобывать морфий по аптекам, пока не запаслась дозой, способной умертвить троих. Запаслась и вздохнула с облегчением, будто уже покончила с собой. Снова увидела солнце, травку у канав, людские толпы на улицах, услышала птичий гомон на тополях.
И снова стала ждать счастья. Нередко, по инерции прежней жизни ей вспоминались афоризмы Беспалова, которые он так любил произносить к месту и не к месту. Когда-то давным-давно, в далекой древности, не было на земле мужчин и женщин, а жили просто люди, спокойно жили, без любви и страданий. Но чем-то страшно разгневали бога, он взял карающий меч и разрубил каждого из людей на две половины: мужчину и женщину. Все они перемешались, и теперь мучаются до той поры, пока каждый не найдет свою половину.
Наивная премудрость мало утешала Ирину, но тем не менее она стала надеяться, что ее заветная половинка где-то бродит по белу свету, также страдает и, наверное, так же вот, как она, ошибается, принимая чужую за свою...
Она поступила сестрой в хирургическое отделение и стала искать утешения в работе. Повседневные больничные заботы, тревоги отвлекали ее от тягостных мыслей, прошлое постепенно стиралось в памяти. Желание нравиться, быть в центре внимания восстанавливалось, как восстанавливается здоровье после долгой болезни. Ирине снова захотелось видеть подтверждения тому, что она и мила, и добра, и красива. Ей по душе пришлась работа в хирургическом отделении, нравились хирурги, народ резкий, грубоватый, прямодушный.
Грачева она выделила среди других не сразу, поначалу, пожалуй, даже не заметила его. Но больные чаще других упоминали именно Леонида Петровича, старались попасть к нему и на операцию, и на консультацию. А у него ни роста, ни голоса, ни характера, как показалось Ирине на первый взгляд. Самая заурядная внешность. Но что странно — он не здоровался с ней. Проходил мимо нее, как мимо столба, иногда взглянет мимолетно, а чаще и не заметит. Казалось бы, и ей следует ответить тем же, не замечать — и крышка, но ему это удавалось, а ей нет. Даже высшее учебное заведение не научило его обходительности. Впрочем, как заметила Ирина, с другими-то он раскланивался и весьма учтиво, даже с санитарками. В один прекрасный день она сама громко, с вызовом поздоровалась с ним, он это принял как должное, вежливо ответил, а на другой день снова прошел мимо Ирины, как проходил мимо колонн в подъезде.
«Ну и черт с тобой,— решила Ирина.— Вахлак!»
Она знала, что недобрая молва о ее скоротечном замужестве докатилась и сюда, но не слишком-то сокрушалась. На сплетни она не обращала внимания. Но Грачев, тем не менее, оскорблял ее своим, мягко говоря, равнодушием, и когда она слышала какую-нибудь похвалу в его адрес, то многозначительно поджимала губы, будто что-то нехорошее о нем знает, дескать, не особенно-то восторгайтесь.
А знала она совсем немного — оперирует отлично, работает не щадя себя, живет вдвоем с трехлетним сыном, жена умерла в родах.
По утрам, едва переступив порог, она против своей воли ждала появления Грачева. Стала удивляться — почему это она раньше считала его безликим? Наоборот же, он совершенно особенный. Серые задумчивые глаза, хрящеватый тонкий нос, круто изломанные решительные, как думалось Ирине, губы. Он входит в ординаторскую легко, бесшумно, как ходят люди физически сильные, и вместе с тем неторопливо, никогда не суетился. Рукава халата закатаны, голые руки за поясом. Когда он оперировал, не слышно было командных окриков, и даже эта его собранность, его пренебрежение почти узаконенной манерой грубить за операционным столом раздражали Ирину. Она тосковала, не находя в нем ничего предосудительного. Единственная нелепость в его поведении — не замечает ее. И живет такой спокойный, сильный, славный, будто в упрек ей.
Может, он до сих пор любит свою покойную жену и не смотрит на других женщин?
Она стала замечать, что слишком часто вздыхает. Просто так, ни с того ни с сего. Наберет в шприц пенициллин — и вздохнет, будто с плеч гору свалила. Сделает укол — и вздохнет. Разнесет по палатам лекарства, выйдет в пустой коридор — и снова вздохнет. Сколько раз давала себе слово следить за собой, пресекать вздохи — и забывала.
Однажды поступил в больницу срочный вызов. В отдаленный поселок просили хирурга вместе с операционной сестрой. Ирина надеялась, что направят Грачева, ждала молитвенно, с трепетом. Так и вышло. Ирина побежала к главному врачу.
— У меня в том поселке тетя родная. Пять лет не виделись. Разрешите мне полететь.
Сестры в такие рейсы соглашались неохотно, и потому главный врач тут же дал разрешение.
Грачев первым взобрался в самолет, обернулся и протянул руку Ирине. Ирина ухватилась, чувствуя, что краснеет, сердце так и колотится. « Да что это со мной!»— подумала она, чуть не плача.
Шел пятьдесят четвертый год. Кончался март, опадали сугробы, с полей сходил серый тяжелый снег, и весенние ветры разгоняли остатки влажной стужи. Всюду говорили и писали о целине, и поселковый фельдшер, встретивший самолет, чуть не с первых слов сообщил, что уезжает на Алтай, а тут вот такой сложный случай. Молодой, очень самоуверенный, он, должно быть, пользовался в поселке авторитетом врача, и ему было досадно, что пришлось обратиться к помощи санитарной авиации.
Приступили к операции. Ирина следила за руками хирурга, за его бровями, нависающими над маской, за морщинками на лбу, которые постоянно двигались, как рябь на озерной глади, то появлялись, то пропадали. Она радовалась тому, что стоит рядом с ним, слышит его дыхание и даже легкий запах табака. «Это еще не все,— думала она в радостном предчувствии.— Вот кончится операция, и мы вместе будем ужинать. Нас куда-нибудь поведут, усадят за один стол...»
Она часто спрашивала, беспокоясь:
— Нашли отросток?— и через минуту снова:—Ну как, Леонид Петрович?.. Ой, хоть бы нашли поскорее!
Сама себя не узнавала, такая ласковая, заботливая. «Я хорошая, я внимательная,— думала она о себе, как о маленькой.— Ну, посмотри на меня, посмотри, увидишь, какая я хорошая...»
Грачев молчал, пока искал отросток, не выразил особой радости, когда нашел, а искал долго и не без труда — лоб вспотел.
— Зажим... Тампон... Кисетный шов,— говорил он ровным голосом.
Не поднимая глаз, он ждал появления ее руки, брал цепким движением, сразу, не плавая пальцами по воздуху.
«Хоть бы посмотрел, спасибо сказал...»—думала она.
В операционную заглянул пилот, закутанный с головы до пят в белое.
— Я полечу!— басом сказал он.— Погода. А завтра вернусь за вами. Как?
— Через полчаса вместе полетим,— ответил Грачев, не оборачиваясь.
— А больную бросим на произвол судьбы?— тотчас сказала Ирина, будто она тут главная и вся ответственность лежит на ней.
Хирург не ответил. Сразу наплыла обида. Только сейчас она впервые за сегодня вздохнула.
— Шёлк...— услышала она и рассеянно подала иглодержатель.
—Шёлк,— чуть громче повторил Грачев и вернул ей инструмент.
— Надо шёлк, а вы кетгут подаете!— ворчливо сказал фельдшер.
Ирина стиснула зубы, наотмашь швырнула иглодержатель под ноги и бросилась из операционной, разрывая тесемки халата.
Когда Грачев вместе с фельдшером вошли в приемный покой, Ирина сидела у стола, отвернувшись к окну, напряженно прямая, окаменевшая. Где-то за стеной, может быть, в палате лилась едва слышная грустная мелодия. Ирина ждала гнева Грачева и готова была спокойно, смиренно с ним согласиться. За неслыханное поведение во время операции (сказать точнее, в самом конце операции) такую сестру полагалось по меньшей мере уволить. Так пусть он увидит, как легко она расстанется с больницей, с работой, как ничто ей не дорого, и она не трусиха. Но она не намерена дальше терпеть его издевательского, умышленного пренебрежения к ней! Она человек, а не букашка.
Под тихую грустную музыку хотелось чувствовать себя самой разнесчастной на земле. Что оставалось бы людям в горе, если бы не было музыки?..
Фельдшер глянул на нее враждебно, но и с опаской — неизвестно, что еще может выкинуть эта медсестра с хулиганскими замашками. Как она не додумалась еще швырнуть инструментом в хирурга.
— Принесите, пожалуйста, историю болезни,— попросил Грачев фельдшера и сел напротив Ирины. Столик был крохотный, они оказались совсем рядом, голова к голове.
— Прошло?— негромко спросил хирург.
Она рывком обернулась — Грачев рассматривал кончики своих пальцев, бурых от йода. Губы его, как показалось Ирине, дрогнули в усмешке.
«Он торжествует, ждет, что зарыдаю сейчас от стыда и отчаяния!»
— Чему вы улыбаетесь?— прищурившись, еле слышно спросила Ирина.— Как сатана.
— Сатана?— удивился он и неожиданно рассмеялся. Ирина вскочила, загремев стулом, отпрянула к стене.
— Не-на-ви-жу!— по слогам выговорила она. Лицо ее побелело, ноздри дрожали.— Ненавижу вас!
Грачев растерянно выпрямился, взглянул на нее, увидел ее ненавидящие и страдающие глаза, лицо как перед обмороком,— и, наверное, все понял...
От шума проснулся пилот, спавший тут же на клеенчатой кушетке, и начал тереть щеку. Вошел фельдшер.
Ирина не замечала ни того, ни другого, с открытой яростью ждала, что скажет хирург.
Грачев взял из рук фельдшера историю болезни и начал писать. Перо посвистывало в полной тишине.
Ирина вышла на улицу, не надев пальто. Ее охватила студеная свежесть вечернего воздуха, напитанного влажными запахами весны, земли, холодного простора. Продрогнув на ветру, она успокоилась, вернулась в операционную и стала неторопливо собирать инструменты,— блестящие, чистенькие расширители, пеаны, кохеры.
Обратно летели в полном молчании. Почему-то обоим было одинаково грустно.
Она приготовилась к тому, что назавтра ее вызовет главный врач и, как минимум, объявит выговор или предложит подать заявление. Тем лучше, с глаз долой — из сердца вон. Но главный врач ее не вызывал, а утром встретил ее в коридоре Грачев и сказал неожиданно виновато:
— Я чем-то вас обидел? Я этого не хотел, извините, ради Бога. Может, вы меня не так поняли?..
Ирина едва-едва удержалась, чтобы не сказать: «Нет, это вы меня совсем не понимаете. Оттого и обидно».
Теперь он стал здороваться с ней, но этого ей уже казалось мало, она только вздыхать стала чаще. И чего-то все ждала, ждала, и верила, что дождется.
Тридцатого апреля на квартире у главврача устроили вечер: встречали Первомай и провожали на целину трех сотрудников больницы. Среди отъезжающих был и Грачев. «Вот и настал момент»,— решила Ирина. За столом она села рядом с Грачевым, а когда выпили за здоровье, успех и счастье новых целинников и включили радиолу, пригласила Грачева на танец. Танцевал он плохо, но ее предложение принял — была не была! Она никого не замечала, ей казалось, что они вдвоем в каком-то пустынном зале, хотя в квартире было тесно и людно.
— Долго вы еще здесь пробудете?— нетерпеливо спросила она.
— Да нет... Пора домой. Сашка ждет,— ответил он сбивчиво.
«Все еще ничего не понимает, не подозревает,— отметила Ирина.— Но скоро поймет, скоро!»
Смолкла радиола, и Грачев стал прощаться. Старушка санитарка из операционной прослезилась, запричитала:
— Ой, сыночек ты наш, да куда же ты едешь! Да еще с малюткой, с дитём малым.
Ирина первой вышла из дома, притаилась в тени тополя па той стороне улицы. Вскоре все толпой вышли провожать Грачева.
Она не знала, что сказать ему, не было ни мыслей, ни слов, одно только желание — остановить его. А дальше судьба подскажет.
Наконец он распрощался со всеми, оторвался от провожающих и быстро зашагал к автобусной остановке. Она догнала его, окликнула:
— Леонид Петрович...
Он остановился, обернулся к ней и, как ей показалось, обрадовался.
— Я не хочу с вами прощаться,— сказала она почти шепотом, взяла его руку, прижала к своему лицу и заплакала.
Он беспомощно переминался с ноги на ногу и бормотал:
— Не надо, Ирина Михайловна... Успокойтесь, пожалуйста...
Было еще не поздно, мимо проходили люди и смотрели на них.
— Я поеду с вами... Хоть на край света... Я вам не буду мешать, увидите...— выговаривала она сквозь слезы.
Он погладил ее плечо, успокаивая, а ей еще больше хотелось плакать, хотелось умереть от горя.
—Успокойтесь, возьмите себя в руки!— сказал он требовательно.— Никто вам не запрещает ехать. Давайте обсудим. Билет вы взяли?..
Когда они пошли, дорогу перебежал ободранный весенний кот. Ирина в ужасе отпрянула, потом трижды повернулась вокруг себя.
— Да он же не черный!— улыбнулся Грачев.
— Ой, да пусть хоть какой! Всего боюсь. В одни только несчастья верю!..
Через два дня они уехали в Кустанай. Всю дорогу Сашка не отходил от Ирины, вел с ней длинные разговоры о поездах и самолетах, о происхождении земли и людей. Допытывался:
— А где та обезьяна, от которой ты произошла? Взяли бы ее с собой.
Кустанай был похож на плацдарм великого наступления. Тракторов, плугов, сеялок на улицах было больше, чем домов. Медики разместились в областном здравотделе, спали на полу вповалку. Ирина всюду старалась отвоевать для Сашки самое удобное местечко.
С утра подходили машины, грузили снаряжение для десятикоечных больничек, койки, матрацы, одеяла, медикаменты, перевязочный материал.
Назначения ждали врачи и медсестры из Москвы, Киева, Алма-Аты, торопливо обсуждали, куда интересней поехать, за один день успевали изучить географию области лучше, чем свой родной край. Ирине и Грачеву все эти заботы казались ненужной суетой, мелочью, они были готовы поехать куда угодно, лишь бы вместе. Дождавшись свободной машины, Ирина, Грачев и Сашка втиснулись в кабину, даже не спрашивая у шофера маршрут, и отправились в самую, что ни на есть глубинку, за 300 километров от областного центра.
Она сказала, что идет в Дом культуры на репетицию перед праздником. Год назад они ходили туда вместе. Грачев аккомпанировал на пианино, а Ирина пела. Потом им нашлась замена, более молодая и более подготовленная, и они стали появляться в клубе все реже.
— Просили помочь, напеть песенку, вот эту...— Ирина замешкалась, но не надолго.—«Ой подруженьки, что я делаю». Для дуэта. Может быть, и ты пойдешь?— Она говорила быстро, неспокойно.
— Нет, посижу с Сашкой. Устал я.
— Как хочешь, схожу одна, я быстро.
Грачеву показалось, она нервничает.
— Ты не в духе? На меня сердишься?
— Да нет же, Леня, я сказала, схожу одна и скоро вернусь.
Она сидела на табуретке, вытягивала и поправляла чулки, щелкая по бедру резиной. Лица ее не было видно за волной волос.
Сашка в красном лыжном костюмчике гонял вокруг стола автомобиль на тросике. Игрушка буксовала, и мальчишка приговаривал басом, на манер взрослых:
— Эх ты, зараза. Искры нет.
— Шофер ты мой, шофер!— Ирина торопливо потрепала его за вихры.
Грачев смотрел, как она поднялась, развела локти в стороны, обеими руками откинула волосы назад. От резкого движения колыхнулись груди под толстым свитером.
— Пап, сделай!—потребовал Сашка.— Буксует да буксует!
Грачев присел и положил в машину ключ от двери. Игрушка, отяжелев, рванулась вперед, и Сашка в новом приливе восторга забегал вокруг стола.
Ирина накинула платок на голову.
— Мам, ты куда? Я с тобой.
— Я скоро вернусь, сынок.— И вышла.
Грачеву показалось, в коридоре, перед самой дверью, она задержалась и тяжело вздохнула.
«Обиделась, что я не иду». Он быстро открыл дверь.
— Иринушка, я сейчас, одеваюсь. И Сашку возьмем.
— Да нет же!—глухо возразила она.— Вернусь через полчаса, господи!
Быстрые ее шаги проскрипели на снегу за окнами.
Прошел час. Прошло два часа. Грачев знал, там репетиция, предпраздничная горячка, как всегда, и тот номер, и другой номер надо повторить, подработать, улучшить.
«Надо было пойти с ней,— укорил себя Грачев.— Она обиделась».
— Саша, пора спать.
— Не хочу. Мамку дождусь.
— Я пойду ее встречать. Уже поздно, ей одной будет страшновато идти по улице. А ты один тут не побоишься остаться?
— Нет, не побоюсь. Я к девчонкам пойду.
— Тетю Женю и тетю Галю нельзя называть девчонками, я тебе уже говорил.
— Мамка называет,— возразил мальчик.
Грачев оделся и зашел к Жене. Она сидела одна и, видимо, уже задремала, стук Грачева испугал ее, она встрепенулась, посмотрела на него, будто не узнавая, даже руки поднесла к щекам.
— Извините, Женя, я напутал вас. Приглядите за Сашкой, чтобы он на кухне к печке не лез. Пожалуйста!
— Хорошо, хорошо!— поспешно согласилась Женя. И уже вдогонку:—А куда вы?
— Встречу Ирину Михайловну.
— А зачем?.. Она же не маленькая. А на дворе холодно.
— Я тоже не маленький,— улыбнулся Грачев — Не замерзну.
Женя что-то еще хотела сказать, наверняка хотела. Но не решилась.
Он вышел на улицу. Звезды едва мерцали на белесом пустынном небе. Дома терялись в морозной мути. Совсем близко, сразу за поселком, темнел горизонт, и Грачеву показалось, что сейчас тесно в степи.
Он побрел по улице, внимательно вглядываясь вперед, ища глазами Ирину. Улица была пустынной, никто не встретился. В косом свете, падающем из окон, кружила желтоватая поземка. Возле клуба темнело стойбище автомашин: опять к ночи прибыла новая колонна. На ближнем кузове Грачев различил надпись мелом: «Перегон Кировоград».
Оркестр гремел польку, сотрясались, гудели стены Дома культуры. В фойе, на полу горой лежала солома для шоферов, приехавших с перегоном. Когда все разойдутся, они здесь расположатся на ночлег. На соломе лежал немудреный шоферский скарб — фанерные чемоданы, солдатские вещмешки, телогрейки и стеганые капоты для машин. На широком подоконнике, поставив на колени гармошку с растянутым цветастым мехом, сидел чумазый паренек в шапке.
Едва Грачев вошел в зал, как к нему сразу подскочил бравый подвыпивший Суббота.
— Милости просим, товарищ главный врач. Раздевайтесь!
— Нет, нет, я на минуту. Я зашел...— он хотел сказать, что зашел жену встретить, но сдержался. Еще не оглядев зала, он понял, что Ирины здесь нет.
Щедро улыбаясь, Суббота потянул хирурга за рукав.
— Примите участие, Леонид Петрович! В общем деле. Ну, отдохните вместе с нами, а то все работа, работа! У меня к вам дело есть. Давайте, снимайте ваш полушубок!
Грачев мельком оглядел зал. Польку танцевали все, кто умел и не умел. Плотное кольцо пар двигалось по кругу. Выделялся потешный парень в полушубке и в шапке с торчащими, как рога, ушами. Он широко размахивал руками, лихо вскрикивал и притопывал валенками так, что они собирались гармошкой.
Ирины на самом деле здесь не было.
Оркестр смолк, и Грачева окружили девушки и ребята из прошлогоднего ансамбля. Приезжие шоферы с любопытством взирали на худощавого сумрачного человека. Кто такой? Артист? Местный культмассовик?
— Что будете танцевать, Леонид Петрович?
Грачев отказывался:
— Не умею, товарищи, не умею!
— А мы научим!
— Давайте, Леонид Петрович, специально для вас закажем!
Слишком долго он привлекает внимание всех. Лучше согласиться.
— Ладно, давайте вальс.
— Ва-альс, ва-альс!—тотчас дружно закричали все, обернувшись к сцене.
Оркестр грянул вальс. Леонид Петрович снял полушубок, его ловко подхватил Суббота, и протянул руку ближайшей из девушек.
— Приглашаю вас.
«Смейся, паяц...— подумал Грачев.— Так где же Ирина?..»
Оркестр дул во всю ивановскую, воздавая честь хирургу. Суббота перепоручил его полушубок какому-то робкому пареньку, свирепо наказал стеречь и тоже ринулся в круг.
Грачев оставил свою даму раньше, чем смолк оркестр, надел полушубок и торопясь вышел, опасаясь, что Суббота пристанет к нему со своим «делом».
Комната рядом со сценой, где обычно собирался хор, была заперта на висячий замок.
Поселок спал. Мерцали редкие слабые огоньки. Один... Два... Таинственно шуршала поземка. Глухая деревенская тоска охватила Грачева.
Он шел медленно, сутулясь и не оглядываясь. Позади него с тяжелым гулом входили в поселок груженые хлебом машины. Скользнул по снегу серебристо-голубоватый свет фар, засветился легким слюдяным сиянием дым поземки. Одна за другой машины прошли мимо в равномерном монотонном рокоте, на одинаковом расстоянии одна от другой, не убавляя скорости и не прибавляя, как ходят колонны дальних рейсов. В кабинах темнели молчаливые неподвижные силуэты. Шоферы, казалось, спят, а машины сами в торжественной отваге идут и идут по дороге в холод и темень ночи.
«Может быть, она уже дома? Сидит, ждет, сердится»,— подумал Грачев и заторопился.
Он с надеждой открыл взвизгнувшую от мороза дверь. На столе в кухне едва тлела лампа. Попыхивая, она стреляла тонкими струйками копоти. На скрип двери выглянула Женя, личико жалкое, измученное.
— Это я, я,— сказал он успокоительно.
— Леонид Петрович, я хочу вам...— пролепетала Женя.
— Что?— выпалил он так поспешно, что испугал ее.
— Я хочу попросить вас... Можно мне домой уехать? Хотя бы на праздники?
— Какие праздники?— переспросил он недоуменно.— А-а, на Седьмое ноября? Я думаю, можно. Только договоритесь, чтобы за вас подежурили.
Сашка спал на диване, раскинув руки, без подушки, в лыжном костюмчике. Устал, набегался, а раздеть и уложить в постель некому. Отец, тихонько бормоча ласковую бессмыслицу, осторожно перенес его в кроватку.
«Вот и снова мы остались вдвоем...»
Он погасил лампу и прилег на диван. Встречать сегодня жену в нижнем белье показалось ему в высшей степени глупым и унизительным. Заложил руки за голову, но лежать не мог, поднялся и стал ходить из угла в угол, неслышно ступая, чтобы не выдать своей маяты перед Женей. «Почему-то она сегодня не в себе...» Три шага в одну сторону, три в другую.
Сейчас он думал об Ирине плохо, так же плохо, как в самом начале, еще в городской больнице. Увидев ее впервые, он решил, именно такие женщины, как она, приносят людям несчастье. И сами никогда не бывают счастливы, сами страдают, прежде всего. Именно этим — своим страданием, глубоким, искренним — она и привлекла Грачева...
Постоял возле окна. Закрыл глаза и представил вдруг ее белое тело в теплой душной темноте чужой комнаты.
В доме стояла поистине гробовая тишина. От окна тянуло стылым степным бездорожьем, глубинкой.
Вспомнив начало, город, больницу, санитарный самолет, операцию в поселке, ее срыв, их отъезд вместе, он пошел дальше по веренице дней и событий и только сейчас, причем без особого напряжения, только сейчас понял, когда и что именно прозевал, проворонил.
Два года назад, вьюжным вечером привезли в больницу шофера с прободной язвой желудка. Требовалась срочная и довольно сложная операция. Разыгрался буран, самолеты не вылетали на вызов, и Грачев решил оперировать сам.
Ирина кипятила инструменты, санитарка в операционной протирала пол раствором хлорамина, он уже вымыл руки, когда прибежала почтальонша с радиограммой: в совхозе имени Фрунзе второй день не может разродиться молодая женщина.
Немало сложных положений возникало здесь в больничной работе Грачева, но такого — и придумать трудно.
Мела пурга. Почтальонша, девочка лет пятнадцати, в больших, обросших снегом валенках стояла у входа и, сняв варежки, дула на красные озябшие руки. Она ждала ответа. Пурга мела беспросветно, шуршала по синим стеклам, слепила окна. На дворе стояла темень, как за Полярным кругом, в больнице днем горело электричество.
Хирург стоял с этой радиограммой в руках и медленно покачивался с носка на пятку. Он знал, в совхозе имени Фрунзе не было пока ни одного медика, не было ничего медицинского, кроме полевой аптечки в сумке с красным крестом. Даже повивальной бабки не было, поскольку там жили одни только комсомольцы-целинники. Связь — только по рации. Но принимать тяжелые роды, командуя за 30 километров, бессмысленно и преступно.
А здесь больной шофер, если ему не сделать операцию сейчас же, погибнет через несколько часов от перитонита. По вине врача. Но и там могла умереть женщина без врачебной помощи и вместе с собой увести в могилу вторую нарождающуюся жизнь.
Грачев молча показал радиограмму Ирине, акушерке. Ирина быстро пробежала строчки глазами, покачала головой и вопросительно на него посмотрела. Он молчал, ждал, что она скажет. Она же поняла его молчание сразу, иначе он вообще бы ничего ей не стал показывать.
— Если бы кто-нибудь подвез меня,— сказала она, глядя в сторону, на синее окно с белой каймой инея по углам.— Если бы кто-нибудь нашелся.
— Тридцать километров — пустяк,— сказал Грачев.— Минут сорок езды, если по хорошей дороге. Но где она сейчас, дорога...
Мог ли он в такую минуту избавить ее от этой поездки, пощадить, а потом оправдаться, сославшись на ситуацию, действительно чрезвычайно тяжелую?
Не мог... Ни тогда, ни потом, никогда. Не мог пощадить, не мог пожалеть ни ее, любимую, и никого другого, самого дорогого, самого родного и близкого человека, допустим, сына — послал бы.
Скажут, жестоко, скажут, бесчеловечно. Так оно и есть, наверное, жестоко. Но иначе он не мог поступить.
А ведь он знал, каких пациентов ему доставляли в больницу после таких буранов, знал, как никто другой. Черные пальцы, черные руки, ноги. Багровые култышки со швами после ампутации. А иные уже не нуждались ни в какой помощи.
Он почувствовал, что бледнеет. Но сказать ей сейчас хоть слово сочувствия, сострадания, значит, ослабить ее, размягчить душу жалостью.
— Но ты же у нас отчаянная,— сказал он.— Сорвиголова!
Она заметила, как лицо его моментально осунулось, натянулась кожа на скулах, запали глаза.
— Ничего!—сказала Ирина бодро.— Пойдешь в церковь, свечку поставишь.— И рассмеялась искренне, она действительно не боялась, лишь бы кто-нибудь вызвался ее довезти.
Накинув на халат пальто, Грачев пошел с радиограммой в райком, просить добровольца водителя.
Вернувшись, он еще раз осмотрел больного. Снова расспрашивал, когда и после чего появилась боль, снова смотрел на язык, снова ощупывал живот. Похоже, он начал сомневаться в диагнозе. Теперь ему показалось, живот стал как будто мягче, как будто уже нет «доски». А может быть, просто-напросто пищевое отравление? Сделать промывание желудка, подождать, когда пройдет боль, и начать симптоматическое лечение.
Надо сказать, чтобы приготовили кипяченой воды для промывания... Сделать быстренько процедуру и вместе с Ириной выехать в совхоз.
Грачев еще раз проверил пульс. Вначале частый, сейчас пульс заметно упал, стал даже реже нормального. Лицо больного покрыла устойчивая бледность.
Пульс упал от раздражения брюшины, начинается самое страшное — перитонит. Каждая минута промедления отнимает у больного последние шансы...
Грачев вытер ладонью холодный лоб — ладонь стала мокрой. Неужто он усомнился в диагнозе только потому, чтобы не отправлять Ирину одну, не подвергать ее опасности?
Грачев вышел из палаты. В пустой операционной поцарапал изморозь на оконном стекле — может быть, там уже тихо? За окном кипело.
Все ясно, четко, определенно, – он должен немедленно оперировать и в то же время принять все меры для спасения женщины и ребенка, то есть отправить Ирину в совхоз.
А если не найдут шофера? Ирина не в состоянии пройти пешком 30 километров, да еще в пургу. Может быть, надо запастись какой-то оправдательной бумагой, не было-де подходящего транспорта, невозможно было доставить акушерку к месту родов. С датой, часами и минутами, с печатью и подписью. Будет оправдание, вполне понятное и простительное, а для суда даже необходимое.
Но чем он оправдается перед собой, перед собственной совестью, если взять глубже? Да и кто простит, если нынче, в середине двадцатого века, рядом с квалифицированным врачом, хирургом, умрет женщина по причине, видите ли, плохой погоды? И не больная, а рожающая. Акт естественный.
Он посмотрел на часы — 40 минут прошло. Время неслось, летело, а он стоит, раздумывает.
Да был ли на самом деле хоть один случай в истории, когда человек умер бы от больной совести? Нет такого диагноза в медицине.
Но есть в народе.
А если Ирина просто-напросто откажется ехать, поддастся понятной слабости, тем более женской — страху возможной гибели? Тут даже и не страх, а скорее здравый смысл. Только безрассудный решится ехать в такую погоду. Станет ли Грачев приказывать ей? Придется. Потому что больше приказывать некому, жена — единственный медик в его подчинении...
Грачев не верил, что не найдут шофера, найдут. На целине собрались не робкие. Он знал, что вот-вот, с минуты на минуту кто-то явится. И не ошибся.
В больничных дверях показался статный парень в распахнутом полушубке, чернобровый, с синими глазами. Встретив напряженный взгляд хирурга, он не спросил, а скомандовал:
— Поехали, доктор!
— Пробьетесь?
— Как-нибудь!
Он был слегка возбужден предстоящей опасностью и значительностью своего поступка, глаза сверкали, обветренное лицо горело. Видно было, что человек этот сильный и смелый, на такого можно положиться.
— Спасибо, что решили нам помочь,— преувеличенно спокойно сказал Грачев.— Как ваша фамилия?
— Хлынов. Сергей. Зачитать всю анкету?
За спиной Грачева хлопнула дверь, вышла Ирина уже в полушубке и в пуховом платке:
— С ней поедете, Хлынов. Постарайтесь пробиться как можно скорее, там может погибнуть молодая женщина. Думаю, что вы не оставите и акушерку в трудную минуту. Это моя жена, Ирина Михайловна, хотелось бы...
— Ладно, поехали, поехали!— перебила его Ирина, быстро потянулась к Грачеву и поцеловала его в щеку.— Не откладывай операцию, состояние больного сам знаешь какое.— И пошла к выходу.
Грачев подал руку Хлынову, просяще глядя ему в глаза. Тот ответил крепким рукопожатием, затем с какой-то легкой удалью помахал рукой возле шапки.
— Ну, ни пуха вам,— сказал Грачев.
— К чёрту!—сверкнул зубами Хлынов. Хлопнула дверь. Синие клубы обволокли Грачева, стоявшего у порога, вернули к действительности. В промерзшие стекла бил сухой снег, в палате стонал больной. Хирург отправил свою единственную помощницу.
Вместо операционной сестры он поставил санитарку, что запрещено в медицинской практике. Но для спасения человека можно нарушить любые законы. Грачев быстро тер руки жесткой щеткой, следил, как моет руки в тазике рядом санитарка, юная, совсем девчонка, и говорил ей, как вести себя возле операционного стола.
В городе такие сложные операции делает опытный хирург с двумя, тремя ассистентами, не считая наркотизатора и операционной сестры. Целая бригада! Здесь же он один, без ассистентов, без сестры, с девчонкой,— от нее только и проку, что она не робкого десятка, не упадет в обморок при виде крови.
Грачев представил себе машину среди пурги — где-то Ирина сейчас?— и острая, как приступ тошноты, неприязнь к городским хирургам охватила его. Не зависть, а именно неприязнь. У них в распоряжении рентген, клиническая лаборатория, специалисты для консультаций. И асфальт на тихой дороге!
Начали операцию.
— Ни одного движения без моей команды!— сказал он девчонке.— Стойте, как статуя, руки держите повыше, помните, на них нет ни одного микроба! Прикасайтесь только к инструменту и ни к чему другому!
Больше четырех часов простоял Грачев за операционным столом и ни разу не вспомнил про жену — настолько трудно было оперировать одному. Больной не умер, но состояние его оставалось тяжелым. Хирург не уходил домой всю ночь, сидел у постели, сам вводил пенициллин, камфору, то и дело проверял пульс. Смертельно хотелось спать. Волнение, забота, усталость притупили опасения за судьбу Ирины.
Утром та же посиневшая почтальонша принесла радиограмму: «Роды приняла, буду сегодня дома, Ирина». Он сразу же уснул в своем маленьком кабинете, за столом, склонив голову на папку с историями болезни. Проснулся в полдень,— Ирины не было. Остаток дня прошел в хлопотах возле больного. К вечеру стало ясно, опасность миновала, он будет жить.
Уезжая, Ирина нервничала, но совсем не потому, что боялась опасности. В буран она обычно надевала лыжные брюки, но сегодня умышленно не зашла домой, поехала с голыми коленками, в одних чулках. Нельзя сказать, что она так уж сильно ждала, авось муж проявит заботу, заставит одеться потеплее, но все-таки надеялась. И как убедилась, напрасно. Она понимала, хирургу сейчас не до мелочей ее туалета, понимала, но простить не могла. Совсем не в чулках тут дело, могла бы и сама заехать домой переодеться, но! Какой-то оплошности ей захотелось, какого-то промаха, но чтобы можно было в этом обвинить мужа. Если она замерзнет, закоченеет до полусмерти, так пусть он будет виноват – черствый, равнодушный.
«Прежде всего, он обязан заботиться о больных, в этом его служба, его долг. Тут все ясно. Он таким уродился — все для других,— думала Ирина.— Но хоть немножко-то он мог поколебаться, когда посылал меня! Нет, ник-какой тебе тревоги, будто проводил жену на увеселительную прогулку. В турне по Черному морю. Наверняка испугался, что придется отвечать за погибшую женщину... Но не за жену. Он видит во мне только подчиненную. А если что-то случится с женой, так ему будут выражать сочувствие...»
Решив, что, если она замерзнет в степи, тем самым накажет мужа, поступившего так опрометчиво, Ирина вроде бы успокоилась. Посмотрела на парня, – незнакомое лицо, молодой, брови вразлет, глаза синие, диковатые, таких боятся девчонки. Он с прищуркой смотрел на дорогу, густо покрытую косыми клиньями наметенного снега, и в этой его прищурке, в небрежной, уверенной позе угадывалась сила. Нет, умереть ей не придется, такой водитель не даст пропасть, это ясно. И мысль Ирины заработала в другом направлении.
«Скажите, пожалуйста, он один здесь такой порядочный, такой честный, широкой души человек! А она что, постельная подруга и только? Если уж на то пошло, она не менее самоотверженная, чем он. Во всяком случае, она сама вызвалась, пока он стоял, и слова не мог выговорить. А она взяла да и сказала: поеду. И поехала! И роды приму, и спасу, и... пусть знает!»
Шофер молчал, слава Богу, не мешал ей злиться и нагнетать обиду. Хоть не болтун, не балаболка, и то хорошо.
— Вы, наверное, недавно здесь?— спросила Ирина.
— Где это здесь? На белом свете?
— В Камышном, я имею ввиду.
— Вместе приехали.
И глянул косо и свысока, будто осудил ее, по меньшей мере. Заметив ее растерялась, Хлынов добавил вежливей:
— Я вас давно знаю, Ирина Михайловна.
— А я вас что-то не помню,— без всякого умысла проговорила Ирина, не думая его обидеть, но все-таки намереваясь подержать его, на всякий случай, на расстоянии. «Шустрый какой, он меня давно знает!»
«Бог с тобой, Грачев, живи, как знаешь»,— твердила она, глядя на снег, на ветер перед машиной.
— Скоро приедем?
— Тише едешь — дальше будешь, — ответил Хлынов, и опять спохватился:— Извините, здесь дорогу не загадывают.
— Где это здесь, на белом свете?— поддела его Ирина.
...Роды оказались трудными и — счастливыми. Двойня. Оба мальчики. Курман Рахметов, молодой отец, ликовал:
— Я везучий, я могучий! Два всадника!
Громкоголосый, резвый, он уже в который раз бросался к Ирине целовать руку, сильно стискивал Сергея в объятиях.
— Братишка, я сильно боялся, думал, будет сорок семь! Страшно боялся!
Ирина смеялась, так много никогда не бывает,— сорок семь, с чего это он взял?
— Часто бывает,— возразил счастливый Курман.— Сорок семь — это девочка. Если сын родился, старые казахи говорят: всадник. А если дочь — сорок семь. Именно столько голов скота получают за выкуп невесты, калым, слыхали?
Курман служил на флоте в Калининграде, оттуда и привез свою жену, девятнадцатилетнюю белорусску Оксану, дивчину крепкую и здоровую. Ни в какую консультацию она, конечно, не обращалась и не подозревала, что будет двойня.
— Из Кустаная!— объявил Курман, поднимая над головой бутылку кагора.— Специально ездил. Для Ксаны и для моих всадников. На целине сухой закон, будем пить вино!
Ирина охотно согласилась выпить стакан вина, она устала и тоже поволновалась изрядно. Сергей отказался пить наотрез:
— Извини, братишка, я за рулем и не один.
Они удивительно быстро сошлись с Курманом, видимо, помогла флотская служба.
— Давайте имя дадим всадникам,— шумел Курман,— Думайте все!
Он не мог усидеть на месте, вскакивал, бежал к жене в соседнюю комнату, что-то ласково бубнил ей, быстро возвращался, вертелся на месте от неуемной радости.
— Имя, давайте два имени, товарищи, друзья, братишки.— Он поднял стакан дрожащей рукой.— Пусть одно имя будет русское, а другое казахское, мы так с Ксаной решили! Сергей, братишка, ты нам привез врача, без тебя могли умереть мои всадники. Ты прошел сквозь буран, как ледокол, прошел сквозь двенадцать баллов и привез нам спасение. В честь тебя, братишка, пусть один мой сын будет Сергеем!
— А второй — Курманом,— подсказала Ирина.— Красивое имя, звучное.
— Правильно!—воскликнул Курман.— Вы мудрая, как аксакал. Пусть будут Сергей и Курман — два братишки!
Курман осушил свой стакан, сел и вдруг заплакал самым натуральным образом, ссутулился, пригнулся к столу, пряча мокрое лицо и содрогаясь сильными плечами.
— Замучился...— сквозь слезы объяснял он.— Думал, умру! Она стонет, кричит: ой-бой, ой-бой. Режет меня!.. Я уши затыкал, убегал, прибегал, весь поселок поднял... Не дай бог! На моих глазах Ксана умирает, а я — ничего!.. Ой, спасибо вам, дорогие, большой рахмет!
Он плакал оттого, что все так хорошо кончилось, и наступила разрядка...
Когда уезжали, Курман уложил на заднее сиденье мешок с провизией — вяленую баранью ляжку, колбасу из конины и обкатанный кусок желтого масла величиной со среднюю дыню.
Выехали под вечер. Ирине показалось, буран как будто пошел на убыль, значит, часа через два они будут дома. От сытного обеда и стакана вина, от благополучного завершения поездки Ирина задремала...
Проснулась она от холода и первым делом стала растирать занывшие коленки, видно, их прихватило морозом. Машина стояла, мотор работал, Хлынова рядом не было. Ирина приоткрыла дверцу и услышала, как Хлынов пыхтит возле заднего колеса, разгребая снег лопатой. Похоже, они застряли. Ирина попыталась вылезть, но боль в коленках усадила ее обратно.
— Ну, скоро вы там?!— крикнула она с досадой.
Хлынов влез в машину, стукнул дверцей, снял шапку, вытер мокрый лоб. Уж не нарочно ли он застрял? Но сказать побоялась, Хлынов тяжело дышал, видно, сильно устал.
— Застряли, что ли?— недовольно спросила Ирина.
— Спите, снежная королева, а мы уже третий раз врюхались.
— Мне больно,— пожаловалась Ирина.— Коленки прихватило.
— Ваше счастье,— хрипло отозвался Хлынов.— Аул рядом...— Он помолчал, словно дожидаясь ее упрека, затем продолжил:— План будет такой, вы посидите в хате, ототрете снегом колени, а я поищу трактор. Согласны?
Ирина не ответила, превозмогая боль, вылезла из машины. Пурга не утихала, вокруг было темно. Ни огонька!
— Где ваш аул-то?— спросила она, подавляя страх.
— Дайте руку!— потребовал Хлынов и затащил ее в машину..
Минут через десять они постучались в избенку, похожую на пологий сугроб с оранжевым пятном окошка. Вышла старая казашка в платке, «кого надо?»
— Буран, апай, женщину везу, доктора,— Сергей посторонился, насколько позволяла тесная тропинка между снежными стенами, чтобы хозяйка увидела Ирину.— Погреться можно?
— А тарахтыр где?— спросила старуха.
— Там!—Хлынов махнул в степь.— Не трактор, апай, а машина. Мы застряли.
— Айда!—сказала старуха, взяла Ирину за рукав и повела за собой, как теленка.
Переступив порог, Ирина с облегчением вздохнула. Небольшая комната оказалась довольно уютной и даже живописной. Весь пол застелен темной кошмой с белым вкатанным узором. Справа у стены сложены штабелем стеганые одеяла, рядом сундук, обитый полосками цветной жести, на нем гора подушек в атласных наволочках, голубых, алых, малиновых. Под окном на узорчатом ковре низенький круглый столик, на нем желтый самовар, как видно, горячий, слегка шумит. Да и сама хозяйка, пол стать убранству комнаты, одета довольно ярко. Сняла платок, под ним оказался другой, белый, аккуратно прикрывающий волосы, шею, плечи. Черный из вельвета камзол, под ним светлое, длинное в мелких цветочках платье, фланелевые красные штаны прикрывают щиколотки. Комнату освещала широкая зеленая лампа с круглым пламенем. Она стояла на просторном подоконнике, гладко обмазанном глиной и побеленном.
Прикрыв набухшую дверь, апай стала снимать с Ирины полушубок, таща его за рукав, будто Ирина маленькая, затем усадила ее на одеяла.
— Ну, я пошел,— не очень твердо сказал Хлынов.— Поищу трактор.
— Я никуда не поеду!— сердито сказала Ирина.— Хватит!
Ее сразу разморило в тепле, колени зажгло.
Апай шагнула к Хлынову и так же потянула его за рукав полушубка, вернее, только дернула, желая таким жестом показать свое гостеприимство и надеясь, мужик молодой, сам разденется.
— Лампа есть — тарахтыр мимо идет,— сказала хозяйка, кивая на подоконник и таким тоном, будто продолжила давно начатую беседу.— Лампы нет — на меня идет. Япырай! Вчера на кошару ехал, крышу валил, две овцы давил, балбе-ес.— Она неожиданно улыбнулась, показывая белые зубы.— Молодой, пугался! «Никому не говори!» — Она живо изобразила испуганное лицо, передразнивая кого-то.— «Один смех будет!»
Ирина стянула платок, откинулась на одеялах, опершись руками позади себя. Попыталась сбросить валенки, цепляя ногой за ногу. Хлынов присел перед ней на корточки, осторожно помог. Ирина легонько тронула свои колени и поморщилась.
— Снег надо,— сказала апай.— Сишась.— Она накинула на себя теплую шаль.— Шюлки тяни, джигит, шюлки.
— Капрон, фасон,— ворчливо проговорил Хлынов, не зная, с какого боку к ее чулкам подступиться.— Не могли что-нибудь потеплее надеть.
Через минуту вернулась хозяйка, неся за ручки цинковый таз со снегом, поставила его возле ног Ирины, осудительно покачала головой.
— Ой-бой, нельзя без штанов буран ходить.— Тронула Хлынова за плечо.— Работать надо!— И круговым движением потерла свою коленку.
Хлынов сгреб в пригоршни комья снега и, словно мыльной пеной, начал тереть ноги Ирины, приговаривая: «Потерпите, потерпите, сейчас пройдет».
— Овца забрал, деньги давал. «Никому не говори! Смех будет!»— продолжала свой рассказ апай.— Смех есть — хорошо, долго скакать будешь. Смеха нет — плохо, помирать скоро.
Она стала доставать посуду, выставила на столик белые пиалушки, бросила горсть комкового сахара на середину.
Хлынов тер, старался, сидя перед Ириной на корточках.
— Может быть, лучше спиртом?— сказала она.— Возьмите вон там, в сумке.
— Ну, хоть чуть-чуть легче?— спросил Хлынов сердито, будто Ирина провинилась.
— Чуть-чуть... Спасибо.
Хлынов быстро пригнулся и рывком поцеловал ее колено, одно и другое. Ирина обеими руками оттолкнула его, и Хлынов плюхнулся, сел на пол.
— Ну и дура,— решил Хлынов, усаживаясь на кошме поудобней.— Ее лечишь всеми способами, а она...
— Видала я таких лекарей!
Хлынов достал из пиджака черную коробку с зеленой каймой —«Герцеговина флор», раскрыл ее на ладони, не спеша выкатил папиросу.
— Если говорить честно, я такого случая давно ждал. Пусть занесет бураном всё! Всю землю. Непролазным. Не погода, а мечта моя.— Он подул в мундштук папиросы.
— Я так и знала!—фыркнула Ирина.— Ты нарочно заблудился, застрял.
— Нет! Я ехал как надо! Но Бога молил, что было то было.— Он похлопал себя по карманам, ища спички.— Я тебя давно жду, Ирина Михайловна. Я каждый твой шаг знаю, каждый!
— Подай, пожалуйста, сумку!— приказала она. Хлынов, не спеша, поднялся, с притворной опаской, двумя пальцами потянул санитарную сумку за ремень, поднял ее выше головы, попытался расстегнуть.
— Я сама!
Она протянула руку, но Хлынов, как фокусник, ловко обвел ее руку и положил сумку рядом с ней на одеяла. Закурил и вышел за дверь.
— Надеюсь, вернешься с трактором,— бросила ему вслед Ирина.
— Зачем буран ехать?— сокрушенно проговорила апай.— Ночь. Апасна. Мой старик ушел буран,— она махнула рукой.— Не пришел. Прошлый год... Отара замерз, старик замерз. Са-апсем! А тут — баба московский!— буран идет.
— Роды принимали, апай. Двойняшки родились.
— Оу, дай Бог! Кто отец?
— Курман Рахметов. В совхозе Фрунзе... Наверное, самые первые младенцы на целине, апай... А до Камышного далеко от вас?
Хозяйка покачала головой.
— Не пройдешь Камышный. Ношевай здесь. Я — зерно охранять.— Она снова махнула коротким живым движением в сторону улицы.— Если ты разрешаешь.
— Сейчас, ночью?
Апай кивнула с улыбкой спокойной и ласковой. Ирина, похоже, ей понравилась.
— Надо,— пояснила она.— Зарплата идет. Садись чай шымыз. Сахар есть, баурсак есть, айда!
Ирина натянула чулки, сунула ноги в валенки.
— Позвать его надо, наверное,— Ирина кивнула на дверь.— Без шапки ушел.
— Парень крепкий, джигит, куда денется. – Хозяйка бросила к столу для Ирины три толстых подушки.
— Садись, ложись, как хочешь.
Ирина поудобней устроилась возле столика, осторожно натянула на колени юбку.
— Болит нога?— участливо спросила апай.— Тебе самогонка жуз грамм — самый раз. Давай? Русский соседка есть.
— Нет, нет, спасибо, апай...— рассеянно ответила Ирина, вновь наливаясь обидой на мужа. «Послал... Человека спасать, как же!.. А жена, значит, не человек. Жена — друг человека».
Вернулся Хлынов, явно продрогший, но без всяких таких ужимок. Ирина отметила и то, что он не стал здесь курить, вышел, и то, что вернулся с мороза, не приплясывая и не потирая рук, как клоун.
— Садись чай пить, джигит,— весело позвала апай.— Работал много. Двойняшка рожал!
«Какая она бедовая, веселая, неунывающая,— отметила про себя Ирина.— Что-то в ней вечное, несокрушимое, неистребимое, как сама жизнь. А ведь немало перенесла, мужа потеряла, одна-одинёшенька...»
Апай мягко, ловко, без суеты, без лишних движений присела возле самовара, прямая, сухонькая, разлила чай в пиалы и медленно, ритуально, даже грациозно подала гостям. Затем налила себе, положила в рот крохотный кусочек сахару, отпила глоток с нескрываемым наслаждением.
— Весна холо-одный был,— начала она певуче, как начинают сказку.— Приехали мно-ого. Целина давай! Мальшик, девышка, батинки, тупельки.— Она улыбнулась над их неразумностью, городским легкомыслием.— Мё-ёрзлый!— Она страдальчески сморщилась. Живое ее лицо постоянно менялось, словно подкрепляя, дополняя речь.— Палатка ставил, мно-ого. Буран один раз дул — нет палатка! Жа-алко. Как жить? Аул думал, думал, юрта ставил, весь туда ушел, а свой дом отдал.— Она приосанилась и торжественно воскликнула:—Закон такой, гость пришел! Здесь...— обвела рукой комнату,— двасать... жийирма еки, двасать два шалавек жил!— Стала вдруг раскачиваться из стороны в сторону и почти запела.— Потом убо-орка был, пра-аздник был, мальшик, де-вишка мне булка носил, хлеб. Вот такой!— Подняла руку выше самовара и с улыбкой запела, довольно точно воспроизводя мелодию.— «Вот такой вышины, вот такой ширины, каравай, каравай, на уборка не зевай».
Ирина слушала ее с восторгом. Хлынов, видимо, тоже. Смотрел в пиалу и только головой крутил.
— Что невеселый, гости? Кушай, пей!— апай легонько поднялась, пошла к занавеске на стене, нагребла в деревянную тарелку румяных баурсаков.
— Товарищ Хлынов,— сказала Ирина.
— Ну?— не очень любезно отозвался Сергей.
— Вы в армии служили?
— Допустим. На флоте, а что?
— А я думала, в авиации.
Хлынов пожал плечами — почему в авиации?
— Хорошо приземляетесь. На пятую точку. Вон там,— Ирина показала пальцем на кошму.
Хлынов угрожающе приподнялся, но Ирина только рассмеялась в ответ. Тогда Сергей схватил ее голову обеими руками и не просто поцеловал, а впился в ее губы, будто желая наказать Ирину, отомстить ей.
— Ой-бой, голова кусает!— апай всплеснула руками, беззвучно рассмеялась.
Ирина кое-как, вяло оттолкнула Хлынова.
— Глупый...
— Мужик твой любит, хорош!— отметила апай.— Муж?
— Объелся груш,— Ирина высоко подняла локти, поправляя прическу.
— Подушка бери, одеяло бери,— стала перечислять апай, показывая где, что.— Спина на спина, тепло будет.
Ирина вызывающе посмотрела на Хлынова — не скажет ли он какую-нибудь пошлость? Но Сергей молчал, и тогда Ирина сама его подтолкнула, ее словно бес манил:
— Товарищ Хлынов хочет что-то сказать по этому поводу.
Сергей повел бровью.
— А мы благородные, апай, отдельно спим.— Она все-таки его смутила, пошел все-таки на поводу у нее, мог бы и промолчать.
— Да, отдельно,— подхватила Ирина.— В километре друг от друга.— Ее несло куда-то, даже в ушах звенело.— Кто-то с мужем, а кто-то — с открытой форточкой.
— Дразнишь ты меня неспроста,— Сергей нахмурился.— Определенно чего-то добиваешься.
Ирина приложила руку к губам, словно намереваясь укусить себя, провела по горящей щеке, ничего не сказала.
— Ладно, мой — работа пора. Жумыска барам. Джигит — мой гость, разрешение давай.
— Пожалуйста,— отозвался Сергей с некоторым недоумением.— Как хотите.
Апай надела полушубок, влезла в валенки и скомандовала Сергею, показывая на ружье в углу:
— Подавай палка!
Сергей взял ружье, привычным движением охотника попробовал его переломить, но не тут-то было, ружье проржавело. Тогда он тремя ударами о бедро все-таки переломил его и посмотрел на свет в пустой ствол.
— Оставьте его мне, апай,— сказала Ирина.— На случай нападения.
Апай сделала вид, будто не понимает, о чем речь. Вместо нее отозвался Хлынов:
— Зачем вам мерзнуть, апай? Оставайтесь дома. А я пойду караулить.— Сергей шагнул к двери, не выпуская ружья, но апай неожиданно легко подскочила к нему и выхватила ружье.
— Кёп сулейме!— притворно сердито воскликнула она.— Болтай много. Балбе-ес,— закончила она ласково.
— Какие мы гордые,— пропела Ирина.— Не шофер у меня, а прямо-таки рыцарь. Без страха и упрека.
— Сдали бы вы его в музей, апай,— проговорил Сергей, не обращая внимания на Ирину.— Большие деньги дадут.
— Иди сам музей,— апай лукаво, беззвучно рассмеялась.— Такой жёнка — не можешь стреляй. А мой катюш — будь здоров!
И ушла...
Сидя один в темной комнате, Грачев думал о том же самом, только с другими, более мучительными для себя подробностями...
Ирина вернулась в полночь, тихонько отворила дверь, и Грачева обдало холодом, морозной свежестью.
— А ты не спишь, Леня?— она торопилась, запыхалась.— Задержалась, прости, пожалуйста.
Ее непринужденность покоробила Грачева, он ничего не ответил.
— Задержалась,— опять сказала она, сбрасывая пальто, платок, стягивая валенки. Капроновые чулки лоснились на ее плотных икрах.— Сашенька спит?
Грачев не ответил.
— А ты поужинал, Леня?— только сейчас в голосе ее появилось напряжение, она почуяла неладное и, чтобы избавиться от молчания Грачева, пошла на кухню.
Он постоял, постоял и пошел за ней, сел за выскобленный стол. Он молчал не по каким-то там соображениям, он просто не мог, не знал, о чем тут можно говорить и ждал, что она сама скажет.
В печке гудело пламя, на плите что-то шипело.
— Господи, темнота-то какая! Керосин, что ли, кончился. Прямо беда, ох ты, боже мой,— проговорила Ирина, будто стараясь заполнить словами пустоту. Выкрутила фитиль побольше, лампа разгорелась поярче.
Она чувствовала его подозрение, догадку и не могла остановиться, тонула в суесловии.
— Первый час уже, надо же! Спать давно пора, а мы...
— Где ты была?
Горлышко белого чайника в руках Ирины мелко застучало о край стакана, она подняла его и так резко, что заварка выплеснулась на стол.
— Я тебе уже объясняла,— отчужденно ответила Ирина.— А кроме того, забегала в больницу.
Она знала, он не станет проверять ее и расспрашивать персонал, была ли она там на самом деле.
— Где ты была?!— повторил он настойчиво, показывая тем самым, что никаким ее объяснениям не поверил.
Она попыталась что-то сказать, но он знал, будет снова ложь, и перебил:
— Ты могла мне сказать правду сразу, когда уходила. Или даже еще раньше. Я не вынуждал тебя лгать!
Она отодвинула стакан и положила руки перед собой на стол, глядя на них и раздумывая, как будто решаясь на что-то.
— Мы с тобой взрослые люди,— продолжал Грачев глухим и недобрым голосом.— Если тебе плохо со мной, мы можем вместе найти выход. Или ты считаешь, только ложь поможет тебе, мне и тому, третьему?
Она продолжала молчать, видимо, дожидаясь каких-то других его слов, какого-то решения.
— Значит, ты и дальше будешь вести себя так, на манер... потаскушки?
Лицо ее покрылось пятнами, ноздри побелели, она в упор глянула на Грачева.
— А если я люблю его?
Он оскорбил ее, и она прикрылась этим могучим словом «любовь», как щитом. Не только прикрылась, отбилась, но и его ранила.
— Тем более,— едва слышно произнес Грачев. Он понял, – не только ее оскорбил, но и себя унизил. Но тем быстрее развяжется этот узел, прорубится выход. Только не надо больше унижать себя. Он сразу остыл, успокоился, а может быть, просто сник, оглушенный ее признанием.
На желтой пластмассовой тарелке лежал нарезанный хлеб. Грачев взял ломоть и начал жевать, тупо глядя на печную дверцу. Все ясно, просто, а он ничего не видел. Ему казалось, у них одна жизнь, единая, неделимая во веки веков, а вышло две, разных, параллельных... Дверца озарялась изнутри зыбчатым светом огня, а в душе Грачева всё гасло, с лица его сошла твердость, лицо стало странно-покорным, детским. Он с усилием проглотил сухой комок,— здешний, целинный, сейчас такой горький хлеб.
«Не сотвори себе кумира, не сотвори...»— завертелось в его сознании.
Ирина дышала громко и часто, едва сдерживая слезы.
Говорят, женщина не станет признаваться в измене, если не собирается уйти к другому.
— Уйдешь, когда найдешь нужным,— сказал он, следя за своим голосом, спокойным, ровным, бесстрастным.— Возьмешь всё, что найдешь нужным. Никаких просьб и тем более скандалов, претензий с моей стороны не будет. Что еще? Кажется, всё.— Он сделал нелепый жест — повернул руки ладонями кверху и развел их в стороны.
— Нет!.. Нет...— еле выговорила Ирина и уронила голову на руки. Она плакала, волосы колыхались по столу, обнажив шею. Он ненавидел сейчас и волосы ее и белую, без единой морщинки шею, всю ее ненавидел. Она предала его.
Открылась дверь, появилась Женя в ночной рубашке и в шали на полуголых плечах. Она бросилась к Ирине, прильнула к ней и тоже заплакала, восклицая, захлебываясь слезами:
— Что вы наделали!.. Что вы наделали...
Грачев оделся и вышел на улицу. Он не чувствовал ни жалости, ни раскаяния, но и себя не чувствовал, своей воли. Казалось, его втянула, завертела и понесла инерция чужой силы. И продолжает кружить, нести.
«Надо пойти к Хлынову. Сейчас же, немедля. И всё ему выложить».
Легко сказать — всё. А что именно? Унизить его, унизить себя...
Представил: глухая ночь, ни огонька, спит все живое, один Грачев ошалело носится по поселку в поисках соперника. «Старый муж, грозный муж...»
Он остановился перед светящимся окном, сосредоточился, огляделся, узнал дом Николаева и без всяких колебаний сразу же зашагал к двери. Они никогда не были с Николаевым на короткой ноге. Так бывает: живут себе люди в одном поселке, по нескольку лет работают бок о бок, делают в сущности одно общее дело, а поговорить по душам не приходится, все недосуг, кроме «здравствуй и до свидания». Но вот случилась беда, и оказывается, именно этот человек, оказывается самым нужным.
Грачев машинально постучал в дверь и только теперь спохватился: возможно, у Николаева кто-то есть, потому и свет горит так долго. Но отступать было поздно, послышался щелчок замка, дверь отворилась.
— А-а, редкий гость,— сказал Николаев приветливо и без всякого удивления.— Прошу, прошу.
В комнате, бросая зеленоватый отсвет на потолок, горела одна только настольная лампа, в углу потрескивал приемник с изумрудным зрачком. На столе лежали книги вразброс, рядом с раскрытой газетой стоял стакан с чаем. В черном спортивном трико Николаев был похож на студента.
— Поздно вы, однако, чаёвничаете,— через силу непринужденно сказал Грачев. — А тут еще и я пожаловал...
— Ничего, ничего, Леонид Петрович, проходите, снимайте пальто,— перебил его Николаев без всякой светской любезности, пожалуй, даже строго, и предостерегающе покачал перед Грачевым ладонью, дескать, давайте без этих штучек, не смущайтесь. Грачев повесил пальто и долго не мог попасть шапкой на крюк, наконец, попал, одернул пиджак, огляделся.
— Книги с собой привезли?— Грачев подошел к высокому, до потолка, стеллажу.
— Да, в Омске начал собирать, когда еще был студентом.
— А-а, понятно. Здесь у нас тоже бывает хорошая литература.
Николаев видел, гостю трудно заговорить о деле. А дело, судя по всему, неприятное. Скорее всего, кто-то умер в больнице. Но поторопить Грачева Николаев не решился, тоже подошел к стеллажу.
— Заказываю друзьям, знакомым. Сам захожу в книжный. Шолохова, к примеру, все восемь томов мне наш механизатор привез, Сергей Хлынов.
У Грачева зашумело в ушах. Ясное дело — Григорий Мелехов и Аксинья. У кого, что болит, тот о том и говорит. Прямо или с помощью собрания сочинений.
— Интересно, что этот Хлынов собой представляет?— деловито спросил он и потянул с полки первую попавшуюся книгу.
— На мой взгляд, славный парень,— раздумчиво проговорил Николаев.— Служил на флоте на Дальнем Востоке, мотористом. На целине стал комбайнером, трактористом, шофером. Сейчас пошел на вывозку зерна, это у нас передний край в настоящее время. А весной пересядет на трактор во время посевной — и снова на переднем крае.
— Хват, на все руки мастер,— неприязненно отозвался Грачев.— И хлеб убирать, и Ткачу помогать.
— Да, смалодушничал парень,— сказал Николаев, понимая, на что намекает Грачев.— Пошел на поводу у Ткача. Но эта история наверняка заставила его призадуматься. Во всяком случае, мы решили не отменять представления к награде. Настоящий труженик. Это и есть тот самый его величество рабочий класс.— Николаев помолчал, хотел, видимо, спросить, какие основания у Грачева быть недовольным Хлыновым, но переиначил вопрос, смягчил:— А у вас другое мнение о Хлынове?
Грачев не ответил, достал папиросу.
— Можно?— прикурил, помахал спичкой и, не найдя пепельницы, вонзил спичку в коробок.— Чепуха все это — неожиданно заключил он, слабо махнул рукой и пошел к двери.
— Леонид Петрович!
Грачев остановился не оборачиваясь.
— Я знаю вас как человека делового и решительного. В чем дело? Почему вы не хотите сказать, с чем пришли ко мне.
Грачев вернулся, сел на диван возле приемника, оперся локтями о колени и качнулся из стороны в сторону,
— Зачем пришел... Человек деловой и решительный...— повторил он, как школьник повторяет условие трудной задачи.— Так сразу и не выскажешь,— честно признался он.— Наверное, я пришел посмотреть на человека, который оказался в таком же состоянии, как и я. Мы с вами обмануты, вы и я. Вот я и решил взглянуть на собрата по несчастью.
—Лю-бо-пытно,— протянул Николаев, искренне заинтересованный.— Хотите чаю? Я сейчас, минутку...— Он схватил чайник, пошел в другую комнату, говоря на ходу. — К сожалению, выпить у меня нечего.
— Идеальный руководитель,— усмехнулся Грачев, подумав, что именно сейчас выпить бы не помешало.— Не пьет, не курит.
— Отец был строгий!— почти прокричал из другой комнаты Николаев.— Горячий, и на руку скорый, мог и отлупить. Помогло!
Он вернулся к столу, сел напротив Грачева, тоже, как и он, уперся локтями в колени, сплел пальцы перед собой.
— Итак, слушаю собрата по несчастью.
— Для начала... чем вы сейчас заняты?— неожиданно спросил Грачев.
— Да всем!— улыбнулся Николаев.— Забот полон рот, как всегда.— Пожалуй, он говорил излишне бодро, чтобы не оказаться в какой-то сомнительной, унылой паре с Грачевым. Или показать, если они и собратья, то надо уметь держаться.— Со всей страны едет к нам парод — хлеб спасать. Прибыло уже две тысячи шоферов и рабочих. Надо их разместить, накормить, одеть по нашим условиям, чтобы они успешно справились с главной задачей: вывезти из глубинок нашего района сто восемьдесят тысяч центнеров зерна, оно под угрозой. Есть над чем призадуматься?
— Есть над чем, есть,— машинально повторил Грачев— Вывезти, выполнить, спасти... А я с женой расхожусь,— рассмеялся он, решив, что в самый раз противопоставить масштаб их забот. Но рассмеялся неестественно, жалко.
— А-а...— озадаченно протянул Николаев, как бы извиняясь за свой бодряческий тон.— Да-а...— Он чувствовал, слова тут пока не нужны и лучше ограничиться междометиями. Теперь он понял загадку хирурга: Николаева обманули Ткач с Хлыновым, а Грачева обманывала жена – с кем-то. Видимо, объяснение произошло совсем недавно, и потому Грачев не в себе.
— Я пришел к вам, в общем-то... потому что сказать некому. Не пожаловаться, нет — смешно! Услышать звук своего голоса. Заставить себя выразить вслух то, что произошло. Странное желание, вы уж извините.
— Понимаю, Леонид Петрович, понимаю. Вы ее любите.
— Любил!— перебил Грачев с негодованием.— Верил! Вся подлость в том, что верил, знал,— она самый дорогой для меня человек, и я, как будто, для нее тоже. И вдруг оказывается, обманывала. Не день, не месяц, а два года!
— Я понимаю, вы оскорблены, возмущены, обижены,— сказал Николаев.— И потому вам сейчас трудно найти решение.
— Я его уже нашел.
–– Я имею в виду правильное решение. Может быть, не надо рубить с плеча? Подождать неделю, другую. Время, говорят, лучший лекарь, Леонид Петрович, даже для медиков.
— А чего ждать? Новой серии обманов? Нет, если любит, пусть уходит к нему.
— А кто он, здешний?
— Привлечь к ответственности? За любовь?— Грачев зло усмехнулся.— Это вы можете.
Николаев прищурился, сказал холодно:
— А если за обман, за разложение семьи, за безнравственность, в конечном счете? Или прикажете смотреть сквозь пальцы на подобные явления, которые имеют, кстати сказать, не только личное, для вас, значение, но и социальное, производственное, даже экономическое, представьте себе. Вы не сможете работать в таком состоянии, у вас все будет из рук валиться. И у нее, и у того, третьего. И у других, кто услышит об этой истории, тоже будет не всё ладно, Леонид Петрович. Ощущение равнодушия, безнаказанности в подобных историях, когда распадается, разлагается семья, развращает.
— Извините,— пробормотал Грачев,— я погорячился... Но я не скажу вам, кто он, подло.— Он снова скривил губы в усмешке.
«А зачем пришел тогда, к ответственному лицу?— скажет сейчас Николаев, и Грачеву будет нечем ответить.— К человеку пришел, а не к лицу...»
— И все-таки надо подождать, Леонид Петрович. Вы сейчас немного не в себе, я понимаю. Но потерпите, что ли, немного. Утро вечера мудренее. Завтра вы будете спокойнее. Я не требую от вас смирения, покорности, Леонид Петрович, но сейчас вы не в состоянии трезво решить, вы негодуете, горячитесь, верно ведь?
Грачев пожал плечами — а как тут не горячиться, не злиться?..
— Слаб человек,— признался он.— Захотелось кому-то сказать, вот я и завернул к вам. Поделиться...
— Спасибо за доверие, Леонид Петрович. Мне почему-то кажется, всё обойдется. Не сразу, но — тем не менее. Интуиция. Я знаю вас, вы человек волевой, выдержанный.
Грачев слабо улыбнулся, протянул Николаеву руку, крепко пожал...
В доме медиков все еще светилось окно. Ирина, похоже, ждала его. Он вошел, увидел, дверь в спальню открыта, но не стал приглядываться, сел на диван, начал разуваться. Ирина не положила на диван ни подушки, ни одеяла, ничего. Или думает, он туда пойдет, в общую постель?
Он поднял голову, глянул в полумрак спальни. Ирина лежала поверх одеяла, в платье, подперев голову ладонью. Рядом из-под одеяла виднелась голова Сашки, узкая детская рука его обнимала Ирину за шею. Кровь ударила в лицо Грачева, ему захотелось крикнуть, заорать: «Оставь его!!», но тут он увидел возле кровати узел, обёрнутый клетчатой шалью,— и гнев схлынул.
Она, наверное, плакала, и Сашка жалел ее, успокаивал, пока не уснул.
Ирина, не мигая смотрела вниз и в сторону, ничего, как будто не замечая, ни Грачева, ни руки мальчонки. Она, наверное, ждала, что муж войдет, увидит узел, грубо разворошит его, разбросает тряпьё пинками, и эту грубость его она примет, как нежность, как милость.
«К нему собралась»,— подумал Грачев и лег на спину. Поерзал головой по диванному валику, приказал себе: «Спать! Спать! Утро вечера мудренее. Я засыпаю, я сплю...»
Лампа горела до рассвета, пока не кончился керосин.
Ирина не спала. Под утро мутная синева осветила пустые окна, вдали затарахтел движок.
Ирина поднялась с постели, прислушалась к ровному дыханию мужа, накинула платок, надела пальто. Грачев не пошевелился. Она нагнулась к Сашке, тихонько поцеловала его и подняла узел. Несколько мгновений она смотрела на бледное лицо Грачева. В слабом свете утра увидела его сдвинутые брови, твердо сжатые губы. Он дышал глубоко и ровно. «У меня всё решено, я сплю спокойно,— как бы говорило его дыхание.— Я сплю и ничего не вижу, ни тебя в пальто, ни твоего узла. Если я открою глаза, то увижу и окликну тебя. Но я не открою...»
Ирина толкнула дверь, узел с суконным шорохом задел за косяк. Грачев перестал дышать, слушал и ждал, не всхлипнет ли она, не вздохнет ли?..
Занималась заря, лиловая, зимняя. В комнате пахло полушубком, бензином, чем-то шоферским, как ему показалось, душным, неистребимым.
Женя до утра ворочалась, не спала и встала с головной болью. Она решила уехать отсюда, сбежать. Бегство не входило в ее жизненный план, но сейчас она убедилась, слишком рано попыталась взять судьбу в свои руки. Не может она подчинить обстоятельства своей воле. Не доросла. Есть какой-то возрастной рубеж, когда человек начинает планировать разумно, умеренно, в соответствии со своими возможностями. Совершеннолетие— всего лишь формальный признак. Слишком рано оторвалась она от дома, выскочила из-под родительской опеки.
«Какая ты еще зеленая»,— сказала Ирина. Не надо обижаться на правду, надо терпеливо снести обиду и честно признать: да, зеленая.
Взрослые люди как-то умудряются жить самостоятельно, без отца с матерью, но Жене пока никто и ничто не заменит родителей.
Она знает, сбегать нехорошо, но что делать, если у нее каждый день новые огорчения. Она уже замучилась от своих промахов. И пусть ее побег станет последней точкой в ее неудачной целинной судьбе. Столько ошибок, столько терзаний, нет больше сил копить их и переносить.
Едва сошли утренние сумерки, Женя пошла к аэродрому. Зеленый, на разлапистых лыжах самолет привез почту и двух командированных в новых тулупах. Женя подъехала к самолету на почтовых санях и, пока выгружали посылочные ящики, пакеты и бумажные мешки с письмами, дрожала от холода и нетерпения. Она боялась: вдруг подойдет кто-нибудь из хороших знакомых, из бывших ее больных. Или сам Николаев полетит в область встречать праздник. Начнутся расспросы, куда и зачем, а что она скажет? Солжет, конечно. Ей пожелают от чистого сердца хорошо отдохнуть, весело провести время и, конечно же, поскорее вернуться. Будут улыбаться ей открыто и простодушно, будут ждать, а она обманет...
Наконец почту сгрузили и молодой парень в белой шапке, аэродромный начальник, он же диспетчер, авиатехник и сторож, скомандовал Жене: «Лезь, рыжая!»— и Женя полезла в высокую овальную дверцу. Пилот в унтах, в пухлой куртке, испещренной молниями, взял деревянную кувалду и начал бить по стонущим промерзшим лыжам, видно, проверяя их прочность. Перед Женей он приостановился, оглядел ее с головы до ног, словно раздумывая, стоит ли ее брать, ведь бежит девка с целины, с помощью авиации, однако ничего не сказал, только подмигнул с улыбкой, дескать, держись веселей, чего нос повесила, и с гулом плотно захлопнул дверцу.
Мотор затрещал, самолет задрожал, как в ознобе, и мягко заскользил вперед. Женя примостилась на стылом металлическом сиденье, подышала на стекло, протерла варежкой дырку в наледи и стала смотреть вниз, на слепящую белизну. Самолет сделал круг над поселком. Мелькнула полосатая, набухшая от ветра кишка на мачте, пронесся домик медиков, заброшенный-брошенный, даже дыма из трубы не видно... Двухэтажный райком, Дом культуры, маленькая больница, вагончик-гастроном, автобаза с машинами, похожими на жуков. Все медленно плавно ушло назад, в прошлое.., Женя не стала грустить, все ее горести остались там, далеко внизу, в Камышном, она летит в будущее на крыльях в прямом и в переносном смысле.
Посадка в Джетыгаре, в Денисовке..., И вот белые, заснеженные улицы Кустаная под самым крылом и аэропорт с большими самолетами. Отсюда — двадцать часов поездом.
За три месяца разлуки Челябинск, как показалось Жене, необычайно вырос. Дома стали выше. И хотя Женя понимала, она просто-напросто отвыкла от высоких, многоэтажных зданий, тем не менее город показался ей второй Москвой. Родной, громадный, красивый Челябинск!
Она приехала утром седьмого ноября, в тот торжественный час, когда на центральных улицах строились колонны с красными флагами и транспарантами. Троллейбусы не ходили, и Женя долго брела по улице, кособочась под тяжестью чемодана. Репродукторы гремели маршами и звонкими призывами, улицы перекрещивались красными полотнищами с белыми словами приветствий.
Женя не дала телеграммы и по лестнице поднималась в предвкушении нежданной встречи, представляла, как засияют, заулыбаются отец с матерью, начнут ахать, руками всплескивать и хлопотать возле Жени, как ее получше усадить, чем угостить, что подарить.
Но квартира оказалась запертой, и Жене довольно долго пришлось сидеть на чемодане возле двери. Выходили соседи, здоровались, звали к себе, но Женя только головой мотала. Не хотелось ей отвечать на расспросы.
Наконец отец с матерью вернулись с демонстрации, и Женя встретила их с обидой, как будто они нарочно ушли из дому ко времени приезда своей единственной дочери.
И вот она снова в родном доме, в той комнатке, где прожила все свои девятнадцать лет. Буфет с потертым лаком возле ручек, скрипучие стулья, старый диван, на котором она спала еще в детстве, теперь таком далеком-далеком, грамоты отца и матери в рамках на стене, цветы на окнах за тюлевой занавеской. Жене стало досадно от всей этой старины. Как будто ничего не произошло, время как будто сомкнулось, оставив за бортом, вытеснив ее новую жизнь, ту, целинную...
«Нет, так не должно быть,— решила Женя,— надо все обновить, перестроить, переставить хотя бы».
Отец молча улыбался, радуясь ее неожиданному приезду,— раза два спросил: «Что тебе купить, Жека? Девятого магазины работают». А мать так и увивалась возле Жени, прижимала ее к себе, разглядывала, как незнакомую, беспокоилась: «Надолго ты? С недельку-то пробудешь?» Как нарочно дразнила...
Мать заметно пополнела, у нее набухли губы, Женя с удивлением отметила, мамка ждет ребенка. Жене стало совсем грустно, возникло чувство необъяснимой утраты — вот родится у них младший и отодвинет ее, Женю, в родительской памяти и заботе... Расхотелось ей говорить сегодня, что она вернулась, а не просто приехала, потом скажет.
Спать она легла рано, но спала плохо, ей казалось, здесь душно, беспокоила странная, до слёз, досада на себя, на отца с матерью, на весь белый свет.
На другой день с утра нежданно-негаданно пожаловали вдруг Светка-плясунья и какой-то парень, вернее, мальчишка, он представился секретарем комитета комсомола училища. Со Светкой Женя встретилась вчера, когда брела по улице с чемоданом. Расцеловались, что да как. «Ой, какие у тебя щёки!»—восхитилась Светка и даже пальцем потрогала и посмотрела, не осталась ли краска. Светка по-прежнему танцевала в заводском ансамбле и работала там же в профилактории. Она совсем не изменилась, какой была вертушкой, такой и осталась.
Они принесли Жене пригласительный билет на торжественный вечер в училище. Мальчишка секретарь солидным баском попросил Женю выступить.
— Минут десять-пятнадцать, сколько захотите,— сказал он.— Вы же целинница, наша, можно сказать, гордость.
Женя отказывалась, но он просил, настаивал «от имени всех комсомольцев, от имени всего преподавательского состава».
Светка откровенно разглядывала Женю, как незнакомую, и все восхищалась:
— Как ты этого добилась? Наверное, сначала загорела в поле, а потом обветрела на морозе, точно?— и всё тянулась пальцами к щекам Жени, потрогать ей хотелось, как куклу.
Пока они были здесь, Женя упиралась, отнекивалась—устала с дороги, хочется дома посидеть, отдохнуть... Но как только они ушли, Женя сразу стала прикидывать, что надеть.
«Пойду!— решила она.— И выступлю! Какой бы ни был мой целинный опыт, но он есть, он со мной, а не в трубу вылетел...»
Женю встретили у входа, как почетную гостью.
В праздничном зале, который оказался и поменьше, и похуже, чем у них в Доме культуры в Камышном, она слышала за спиной звонкое и острое, как стрела, слово целинница. «С целины приехала...». Женя оглядывалась на голоса и приветливо улыбалась, как заслуженная артистка.
Ее усадили за стол президиума рядом с директором училища.
«За что мне такой почет?— думала Женя.— Что я такого особенного сделала? Надо хотя бы выступить, как следует...»
И вот ей дали слово. Женя вышла к трибуне под дружные аплодисменты, вспомнила Светкины восторги, и щеки ее зарделись пуще прежнего.
Она передала пламенный комсомольский привет от славных тружеников Камышного, от всех целинников вообще и от медиков своей больницы в частности. Рассказала, кто у них в больнице работает, откуда приехал, где учился. Про Грачева, про Ирину Михайловну (не всё, разумеется, а главное), про Галю. Не забыла и про Малинку, и про автобазу, и про столовую. Сказала, какая у нее зарплата и какая квартира.
— Раньше я думала: почему, за что люди, которые хоть немного поработали на море или на Крайнем Севере, всю жизнь вспоминают море и Север и стремятся туда вернуться. А теперь поняла, почему. Там жизнь труднее, опаснее, насыщеннее, и потому интереснее, особенно для молодежи, для нас с вами, для комсомольцев. Ничто так не роднит, не сближает людей, как вместе пережитые трудности. Целина — это море и Север вместе взятые! Там проявляются лучшие свойства человеческой натуры — мужество, смелость, дружба и взаимовыручка, доброта и красота. Конечно, не все там такие закаленные и сильные, есть и слабые, непривычные, некоторые даже уезжают, сбегают. Но потом их начинает мучить совесть, – ведь с твоим уходом выпало звено из общей цепи, там нет твоего плеча в общем строю соратников, образовался разрыв, и теперь кто-то должен взять на свои плечи твою долю мужества и отваги, смелости и риска, твою жизнь... И человек возвращается, работает с еще большим рвением и остается там навсегда!..
«Какая я молодчина,— отметила про себя Женя.— Такую речь сказанула, надо же!»
Потом гремела музыка, начались танцы, но Женя ушла, у нее вдруг разболелась голова от волнения и возбуждения.
Как все-таки хорошо, что они про нее не забыли, пригласили на вечер. Очень важно, чтобы люди знали и помнили о тех, кому труднее, чем всем. И тогда человек, даже такой, как она, Женя, горы свернет! Он все может на виду у народа, на миру, как говорили встарь.
«Там была моя самостоятельная жизнь, мои дни и месяцы, а я, глупая, пыталась отпихнуть свою жизнь, как чужую. Прошло бы время, и ни одна душа в Камышном не шевельнулась бы, не вспомнила, что была там такая медицинская труженица Женя Измайлова, сестра милосердия...»
Домой она пришла радостной, за ужином много болтала, счастливая, раскрепощенная.
— Через пять месяцев я получу от вас весточку: здравствуй, доченька, а мы с папой нашли маленького в капусте.
Мать смущалась, краснела, отмахивалась от Жени ладошками:
— Да как ты со мной разговариваешь, бессовестная!..
Потом Женя пугала ее буранами и сложными операциями, ночными дежурствами и скитаниями по полевым станам. Мать только вздыхала и ахала.
— К нам, мамуля, даже самолеты не ходят, только спецрейсы...
Лежа в постели, она видела перед собой поселок в морозном мареве, больницу, преданные глаза Малинки, вспомнила беду хирурга и Ирины Михайловны, Сашку вспомнила, и ей стало жалко всех до слёз. «Да как же я оставила их одних! Что же я натворила!..»
Нет, она ни за что теперь не сможет жить обыкновенной жизнью здесь, дома. Она испытала влекущую силу тягот, она привыкла их делить с другими, плечом к плечу, она поняла, что для людей с чистой совестью никогда не было, нет и быть не может легкой жизни. Только у дураков всё гладко и беспечально, сидят, небо коптят, умирая в живых, до срока.
Домой можно приезжать дня на два, на три, а затем снова отправляться в свое отважное плаванье. Размеренная домашняя жизнь не для нее пока, ей требуется простор, волнения, борьба.
Десятого утром Женя поехала на вокзал.
Возле вагона с выпуклой табличкой «Челябинск — Кустанай» стоял огромный проводник казах в лисьей шапке и в черной шинели с белыми пуговицами. Из подмышки у него торчал двуствольный кирзовый чехол с флажками, желтым и красным. Медлительно, начальственно проводник рассматривал каждый билет, казалось, вот-вот попробует на зуб.
Женя проскочила среди первых, в купе пока никого не было, затолкала чемодан под сиденье и выбежала на перрон к родителям. Сегодня почти весь состав был отдан шоферам и рабочим, едущим на вывозку зерна из глубинок. По перрону сновали только мужчины, и оттого казалось, состав уходит на фронт.
Когда объявили отправление, Женя, не скрывая радости, простилась со своими. Мать не удержалась, стала сморкаться в платочек.
— Мамуля, тебе же нельзя расстраиваться,— с улыбкой сказала Женя, чмокнула ее в щеку и пошла в купе.
На верхней полке лежал на животе молодой парень в солдатском обмундировании и в белых шерстяных носках. Выпятив подбородок, он смотрел на перрон. Внизу сидел мужчина лет сорока, с брюшком, важный, в пиджаке с помятыми лацканами, галстуке и с маленьким чемоданчиком под рукой,— типичный командированный, служащий.
Женя поздоровалась, парень сверху ответил, а этот даже не глянул на Женю, поднялся, стал в проходе, оперся руками о полки — крест из себя сделал — и загородил окно. Бывает вот так сразу, может быть, сам того не желая, человек против себя восстановит. Женя все-таки умудрилась протиснуться к окну и помахала отцу с матерью на прощанье.
— Как вам командировочные-то оплатили?— спросил парня служащий таким голосом, каким говорят отрицательные персонажи в кино.
— Двадцать шесть целковых, нормально,— ответил парень.
— Норма-ально, – передразнил служащий.— Что ты там на них купишь, в этой забытой богом дыре? Знаю я эти совхозы.
Парень пытался оправдываться:
— Зарплата на месте сохраняется. Да и там ребята неплохо зарабатывают.
— Бро-ось, — уныло протянул командированный.— Какие там могут быть заработки? Разве что вшей наберешься.
Он выставлял себя знатоком целинной жизни. А парень, тюха-матюха, растерялся. Поехал добровольно и сам же стыдится своего поступка, слушает во все уши этого пакостника, да еще оправдывается, ему неловко.
— У нас все очень хорошо зарабатывают!— решительно вмешалась Женя.— Особенно на вывозке из глубинок. По шесть, по семь тысяч шофера получают.
«Съел?!»—торжествующе подумала она, готовая сцепиться с унылым типом, даже на кулаки пойти. Тот глянул на нее через плечо и гмыкнул.
— И нечего гмыкать! Я третий год на целине живу, и вши, к вашему сведению, еще ни одной не видела. А если какой-нибудь командированный привезет, так мы его в санобработку, в вошебойку — немедленно!
«Вот отбрила, так отбрила!»— Женя даже вздохнула от победного удовлетворения. Пусть знает целинников, гусь лапчатый.
Унылый тип сел перед Женей на лавку, и на губах его появилась улыбка.
— А ты, значит, туда за женишком, за женишком, на целину-то!
Улыбка его застыла, как на фотокарточке, неизгладимая, непробиваемая, так бы и срубила ее тяпкой какой-нибудь, как ядовитую траву.
Женя не успела ответить. С грохотом отъехала в пазах дверь, и в купе появился четвертый пассажир, в желтом полушубке, с ободранным чемоданом, в шапке на самой макушке, черный и смуглый, как цыган. Он не сразу вошел, а постепенно, сначала занес ногу, чтобы шагнуть, но неведомая сила качнула его обратно. Громко икнув, он снова с усилием, будто вырываясь от пятерых, ринулся в купе, проскочил, сунул обшарпанный чемодан унылому на колени и сказал:
— Поехали к едрене фене! Где моя полка?!— и бурно сопя, начал стаскивать с себя полушубок. Повесил его на крюк и начал штурмовать верхнюю полку. Взобрался сносно, ничего не сокрушив, никого не задавив, долго кряхтел там, наконец, сбросил сверху валенки с всунутыми в них портянками, и опять на колени унылому, тот едва успел освободиться от чемодана. Он прямо-таки чувствовал настроение Жени.
— Так бы и сказали, что по московскому времени. Пришел по местному, куда два часа девать?.. Ясное дело, сыграли трижды семь. Мало... Еще раз трижды семь и пива в прицеп... С подогревом. И — шумел камыш.— Простая речь его не удовлетворила, и он запел:— «Шумел камы-ыш, объя-ятый думо-ой...»
— Не шуми, браток, не шуми,— попытался успокоить его парень в гимнастерке.— Спи, давай, браток, спи, в самый раз.
— А-а, солдат, привет!—обрадовался веселый, как старому знакомому.— Знаешь, что говорил великий полководец Суворов? В командировке, говорит, штык пропей, а выпить надо, понял?..
— Понял, дружок, все понял,— солдат повернулся, согнулся вдвое, дотянулся до полушубка и накрыл им подвыпившего. Тот вскоре захрапел.
Женя не стала продолжать схватку с унылым типом, высокомерно поднялась и вышла из купе.
К вечеру снег стал синеть, все ближе сливался с фиолетовым горизонтом. Темные столбы мелькали монотонно, усыпляюще равномерно. Постепенно исчезла в темноте степь, стушевались столбы, и в темном окне отразились желтый плафон, дверь, стекло стало лаковым.
Ночью в Троицке Женя выходила на перрон подышать свежим воздухом. Здесь почти никто не садился, в морозном тумане проплывали редкие пассажиры. Молчаливый человек, весь лоснящийся, черный с головы до пят, с фонарем, похожим на маленький чертог с красным огоньком, шел возле вагонов, пригибался и постукивал по колесам нервным молоточком на длинной ручке. Круг света раскачивался и двигался рядом с ним, как цветной шар на веревочке. С вышки светила гроздь прожекторов. Размытый дымный луч косо, широким мечом упирался в перрон...
Утром Женю разбудили голоса. Поезд стоял. Отодвинулась дверь, и в купе вошел унылый тип, заспанный и обрюзгший, будто с похмелья.
— Что на улице?— спросил сверху веселый. Из-под полушубка голос его звучал, будто из погреба.
— Не был на улице.
— Знаю, что небо, я про погоду спрашиваю.
— Зима,— ответил унылый тип. Так, со смеха, начался новый день.
Неуклюжий проводник, в той же черной шинели и лисьей шапке, разнес стаканы с чаем на мокром подносе, повторяя в каждом купе:
— Шай не пьешь, откуда силу возьмешь? Тридцать пять копеек стакан, развяжи живот, пей, сколько хочешь.
Попили чаю, согрелись. Сверху спустился чернявый, начал заигрывать с Женей:
— Как тебя зовут, детка? Далеко ли путь держим?
— Зовите меня на вы,— ответила Женя и не удержалась, ни с того ни с сего, прыснула.
Чернявый не обиделся и объявил, будет называть ее Крошкой, вежливо и культурно. На следующей остановке он принес пакетик леденцов и подал Жене.
— Кушай, Крошка, я с удовольствием послушаю, как хрустят твои зубки.
Жене он нравился, он чем-то напоминал Сергея Хлынова.
Оттого, что в купе ехала Женя или скорее оттого, что беспрестанно балагурил чернявый, к полудню сюда набилось человек десять. Стали рассказывать случаи, один другого интереснее. По кругу. Кто не мог позабавить историей, должен был спеть песню, желательно, покороче, частушку.
— Только без матерков,— взял на себя контроль чернявый.— Крошка не любит.
Раскачался и унылый тип, когда дошел его черед:
— Приходит к мужу его дружок и говорит: а твоя жена с другим это самое... целовалась, вон на тех бревнах. А муж ему отвечает, ну и пускай, бревна не мои, а соседские,— и сам захохотал первым.
У двери пристроился молодой, красивый кавказец в папахе и с новой мандолиной в руках. Он негромко тренькал, подбирал на ней свои мелодии. Живой, порывистый, он всех слушал жадно, подавшись вперед, сверкая глазами, сам ничему не удивлялся, не смеялся, но у Жени вызывал улыбку. Когда подошла его очередь, он выпалил:
— Я стихи написал! Сам! Можно стихи?
— Шпарь.
Он приосанился, тренькнул по всем струнам разом — увертюру, надо полагать,— и зычно, громко завосклицал: «Приказ! Дает урожай! Поезжай! Не возражай! Я — кабардинец! Как на войну! Еду со всеми! На целину!
— Как Маяковский, клянусь!— одобрил чернявый и начал рассказывать свою, уже третью историю.
— Не в первый раз еду, братцы, на Кустанайщипу, знаю эти края, но сказать, что со всех сторон, не могу, не зарекаюсь, братцы, степь всегда тебе новый сюрприз подбросит,— зачастил он говорком опытного рассказчика, с придыханием, с удовольствием, будто пробуя слова на вкус.— В прошлом году, в уборочную, послал меня начальник на легковом газике. Говорит, если пшеницу возить не будешь, то хоть начальство покатаешь по важным делам. Приказ, мол, такой свыше есть, надо выполнять Согласен, говорю, где наша не пропадала! И вот в один распрекрасный день пришлось мне выехать на участок отгонного животноводства, да не одному, а с московской корреспонденткой из Радиокомитета. Молодая бабёнка, шустрая, ничего не боится. Но не оттого, что бывалая, битая, а как раз наоборот — жизни не нюхала. Есть такие — ничего не боятся, потому что ничего на своей шее не испытали. Ладно, расспросили мы дорогу, где прямо, где сверток, где направо, где налево, и двинулись. Скачет мой козел по степной дороге, будто здесь и родился, ни перекрестков тебе, ни светофоров, дуй до горизонта. Ехали мы, ехали, бах — дорога кончилась, незаметно так ушла, как вода в песок. Только мой козел запрыгал почаще. Было две колеи, стала одна, вместо дороги, тропинка, а потом и она кончилась. И никаких тебе признаков этого самого отгонного животноводства не видать. Куда рулить? Луп-луп глазами на все четыре стороны — степь да степь кругом. А бабёнка моя ликует: заблудились, ах, как хорошо! Да еще уточняет — по-настоящему заблудились, или вы меня хотите проверить? Я, говорит, сильна духом. А меня зло берет, надо же умудриться, дорогу из-под колес упустить. Да если бы еще один, а то ведь за нее отвечай. Не только духом, говорю ей, вы и телом дай бог, юбка по швам трещит. Спасибо, говорит, за комплимент, но вы человек порядочный, по глазам вижу. Я аж застеснялся и не сказал, что бензина у нас на всю степь не хватит, не стал ей на стрелку показывать.
Блукали мы, блукали, и хоть бы что на глаза попалось! Часа через два увидели казахскую могилу, сначала думали, юрта, подъехали — мазар, глиняный весь и высоченный, метров пять. Полез я на купол, как скалолаз, н вижу, вдалеке две коровы пасутся. Кричу сверху своей попутчице: ура, кор-ровы на горизонте, а она уже осторожничает, говорит мне, протри свои ясные очи, может, это мираж, в степи такое бывает. В степи всякое бывает, но я пока с панталыку не сбился, вижу отчетливо и рога, и копыта. Засекли мы сторону света и махнули напрямик к этим коровам через холмы и лощины. Как-никак, домашние животные, значит, человек близко, значит, они из этого самого отгонного животноводства. Подъехали. Коровы налицо, а людей нет. Мы кричать, мы свистеть — безрезультатно. А ехать некуда, да и стрелка на нуле лежит. А корреспондентка не умолкает: теперь я, говорит, на практике убедилась, какой Казахстан бескрайний. На нем пять Франций и двадцать Бельгий поместится, или что-то в этом роде. А я грешным делом думаю, уж не дикие ли это коровы? Не зря же говорят, в Казахстане всего полно, может, они и сохранились вот здесь, в глуши. Подошел поближе,— нет, вроде не дикие, человека свободно подпускают. Была не была, думаю, взял свою флягу дорожную, надоил полную и — своей попутчице: не хотите ли отведать, милая, парного молочка? Берет, пьет, сияет, никогда, говорит, в такую романтику не попадала, спасибо вам. Если бы издевалась надо мной, куда ни шло, а то ведь от души довольна. Будем мы с вами, говорит, как Робинзон и Пятница на необитаемом острове. Ну, думаю, дела-а, ей теперь и уезжать отсюда не захочется. Одна надежда у меня — на чабанов. Не оставят же они коров и на ночь без присмотру, придут за ними. Напились мы молока, отдохнули на свежем воздухе, посмотрел я, какой здесь красивый закат в степи — она мне, как слепому, все объясняет.
Вот уже солнце село, а чабанов все нет. Ну, думаю, работнички, бросили скотину на произвол судьбы. Пиши, говорю ей, какая здесь бесхозяйственность, никакой заботы о животноводстве, критикни их как следует. А она мне: я за положительным опытом приехала. В Москве, говорит, сейчас пустили автобус без кондуктора, экспериментальный, а здесь, видно, коровы пасутся без чабанов, новаторский метод, я должна это отметить.
Уже смеркается, я прикидываю, как мы спать будем, кто где, слышим — собака затявкала. Давай я снова кричать, свистеть, сигналы бедствия подавать. Прибежала маленькая собачонка, на нас нуль внимания, тяв-тяв — и погнала коров. Ничего себе, думаю, достижение. Собака-то, видать, ученая, утром выгоняет коров, вечером пригоняет, и вся недолга. Жуликов здесь все равно нет, край-то необитаемый. Корреспондентша все это как достижение отмечает, а мне кисло. У кого мы теперь дорогу разузнаем, где бензин возьмем? Высказываю свое предположение. Коров должен кто-то доить. А бабёнка мне в ответ, они могут быть мясной породы и не обязательно молочной. Нагуливают определенный вес, а потом их отправляют на мясокомбинат. И на все у нее свой довод, причем зловредный, такой, чтобы остаться нам тут до конца света. Ну, я ей поддакивать начал, что остается. Ничего, дорогая, с голоду не умрем — мясо и молоко рядом шагают. Поженимся мы с тобой, шалаш построим, а с милым и в шалаше рай. Только давай шагай пошибче, чтобы нам от коров не отстать. Машину мы бросили, идем за коровами, пометки оставляем на всякий случай, чтобы вернуться. Кое-как, уже к ночи, добрались до юрты, там люди сидят у костра, бесбармак варят... Она мне потом с полгода письма писала, все язык мой хвалила, сочный, говорит, народный. А я женат уже был, смысла не было переписываться...
Долго лились неторопливые и нескучные рассказы о случаях из походной жизни — дорожной, степной, лесной. Домашняя жизнь скучная, ничего в ней интересного не случается. А может быть, рассказчики бессознательно выбирали такую тему, помня о том, что едут на целину, где жизнь нескучная. Один встретился с волком с глазу на глаз.
— У меня каждый волосок на голове поднялся, прямо каждый в отдельности, хоть пересчитывай. Но не это главное, а то, что вроде хвост появился ни с того ни с сего и поджимается, поджимается. Всю жизнь про этот хвост не забуду...
Другой вспомнил брата-танкиста:
— От Москвы до Берлина прошел. Четыре танка под ним сгорело, а сам целый остался, живой. Только лысый, ни волосы не растут, ни брови.
О танках он говорил, как о боевых конях,— под ним сгорело!
В жестах и в манере говорить, в беззаботном, даже ухарском и показном пренебрежении к опасности шофера были похожи друг на друга. Жене казалось, все они стремились подражать какому-то образцу и, наверное, таким образцом служит им Сергей Хлынов. Сам он, конечно, ничего не знает, к этому не стремится, престо живет, работает, говорит, улыбается, жестикулирует, и все это идет от него к другим собратьям какими-то волнами.
От Кустаная да станции Тобол Женя ехала в санитарной машине — областной здравотдел поручил ей доставить туда медикаменты и дуст. А в Тоболе пришлось идти на элеватор, искать попутную машину до Камышного.
Возле серого, уходящего в небо здания она растерялась от множества снующих вокруг машин. Снег вокруг порыжел, покрылся пшеничной пылью, местами почернел от дыма выхлопных труб. Дорога возле элеватора, накатанная, как асфальт, чернела пятнами мазута, масла, бензина.
Женю посадил в кабину низкорослый паренек-шофер, лет 17-ти на вид, в телогрейке и толстенных ватных штанах. В кабине он сидел на полушубке, свернутом валиком, чтобы быть повыше, и всю дорогу угрюмо, стеснительно молчал. Женя смотрела на дорогу. На ухабах и колдобинах виднелись красноватые густые россыпи пшеницы. Они, как светофоры, предупреждали водителей: здесь надо притормозить, иначе тряхнет и вытряхнет твою поклажу. Когда проезжали по пшенице, Жене становилось не по себе, словно колеса давили живое. Машины шли колонной и довольно часто останавливались — значит, застревал кто-нибудь впереди.
Водители вылезали из кабин и собирались возле буксующей машины. Беззлобно посмеивались, переругивались, но без скандала, помня, такое может случиться с каждым. Потом кто-нибудь наиболее горячий, нетерпеливый требовал руль, лез в кабину, остервенело газовал, раскачивал машину вперед, назад, рывками, оглядывался, вертелся, как сорока на колу, и наконец выводил дрожащую от напряжения машину на твердую дорогу. Вылезая из кабины, победно хмурился и бросал что-нибудь вроде:
— Порожняком застрял, а как с зерном поедешь?
— Ладно, валяй, ученый!— безобидно отмахивался неудачник, расценивая помощь, как личное для него профессиональное оскорбление.
Женин водитель тоже выходил из машины, сердито предупреждая:
— А ты не высовывайся! Знаешь, какой народ шоферня? Хоть бы соляркой нос намазала, а то сидишь тут такая симпампонистая!
Он плотно прихлопывал дверцу и далеко от своей машины не отходил, стоял, переминаясь с ноги на ногу, и все поглядывал на Женю, будто ее могли украсть, а ему, видите ли, строго-настрого поручено довезти ее до Камышного и сдать невредимой. «Мальчишка»,— думала Женя. У нее затекли ноги, хотелось размяться, потоптаться возле машины, но она не выходила из кабины, чтобы не огорчать своего рыцаря.
Паренек постепенно разговорился, и они обменялись сведениями о дороге, о погоде, даже о зарплате.
— Рубли тут длинные,— солидно сообщил паренек.— Но всё, что зарабатываем, пропиваем.— Без сожаления говорил об этом, лениво-небрежно, стараясь тем самым цену себе набить.
«Мальчишка,— улыбалась Женя,— врешь ведь, мамке с папкой посылаешь».
Возле Денисовки они увидели за обочиной, под откосом, машину в самом что ни на есть плачевном виде — вверх колесами. Жутковато выглядело черное грязное днище, будто громадный паук перевернулся на спину и поджал окоченевшие лапы.
— Как игрушку перевернули,— заметила Женя.— Вот кто-то умудрился!
— Сутки за баранкой посиди, не то натворишь. Мы вчера в семь вечера выехали на Тобол, а сегодня вот обратно без передышки дуем. Пока домой доберешься, считай, как раз двадцать четыре часа за баранкой. Один раз я сам аварию чуть не сделал.— Слова «я сам» он выделил особо, будто речь шла о водителе экстра-класса, застрахованном от всех дорожных неприятностей.— В пять утра в сон клонит, спасу нет. Еду, значит, клюю носом, а тут бах — бегемот на дороге! Я на тормоза, машина юзом, лбом об стекло, в глазах радуга. Пришел в себя, посмотрел на дорогу — а там, оказывается, перекати-поле поперек ползло. От него тень, вот мне и почудилось. Сам-то я живого бегемота только на картинке видел, а тут на тебе!..
В кабине было тепло и даже уютно, сквозь ясное стекло Женя смотрела на степь. Медленно, с редкими взмахами черных крыльев летел коршун на ветер. Он поднимался все выше, выше и долго парил в зимнем бесцветном небе, ничего не высматривая, только наслаждаясь парением.
Временами паренек отчаянно давил на газ, и машина мчалась, как бешеная, вся тряслась и дрожала до стука в зубах. Потом вдруг он убирал газ, и машина шла накатом, бесшумно и довольно долго. Женя спросила, что это за фокус, для чего он так делает.
— Экономия горючего,— ответил паренек.— Соревнуемся. Как ты думаешь, что у шофера главное? Думаешь, руки?.. Я тебя спрашиваю, руки нужны шоферу, как ты думаешь?— пристал он к Жене.
— Нет, почему же, и ноги,— она кивнула на отполированные рифленые педали.
— Угадала! Голова нужна в первую очередь! Во-он тот чудак почему застрял? Головы нет. А я вот тебя везу помаленьку, тьфу, тьфу.
Он привстал, одной рукой подвернул под себя сбившийся полушубок, примостился повыше.
— Ты задавала, видать, порядочная, молчишь, как сундук с клопами.
Женя расхохоталась.
К вечеру они добрались до Камышного. Стало уже темнеть, и шофер включил желтые фары. Теперь будет видна только дорога впереди машины. Но пока не сгустились сумерки, Женя смотрела в сторону и первой заметила знакомый березовый колок в снегу, а за ним приземистые строения автобазы. Машина вынеслась на пригорок, и у Жени чаще забилось сердце — перед ней расстилался Камышный в синеватых сумерках с одинокими точками ранних огней. Двухэтажное здание райкома, Дом культуры с недостроенным фронтоном и толстой, как у парохода, трубой котельной, мачта над аэродромом...
— Вот здесь останови, пожалуйста,— попросила Женя.— Сколько я тебе должна?
— Брось,— пробурчал паренек.— Все равно пропьем.
Женя поставила чемодан у обочины и поманила шофера пальцем.
— Нагнись, что-то скажу.
Он пунцово покраснел от ее жеста, высунулся из кабины.
— Ну?
Женя сунула ему деньги за ворот свитера.
— Но-но, балуй!— свирепым басом попытался осадить ее паренек, как осаживают строптивого коня, и даже замахнулся, но Женя уже отпрянула к своему чемодану.
Машина тронулась, метров через двадцать шофер вылез одной ногой на подножку, помахал рукой, прокричал:
— Счастливо-о!
Она даже не спросила ни как звать его, ни откуда он, а ему еще ехать и ехать.
Через минуту Женя уже забыла его. Но она вспомнит его потом, и будет рассказывать всем при случае.
Поселок был все такой же, родной, прежний: стояли скопом машины возле столовой, выбегали шоферы прикрыть радиаторы телогрейкой, дымили факелы, отогревая моторы, вечерний густой сине-желтый туман плыл между домиками. И вместе с прежним было в поселке что-то новое, что-то ее, личное,.,
Стоило ей отлучиться из Камышного на три дня, как тут сразу произошло несколько неприятных событий. Попалась с поличным тетка Нюра — она на самом деле варила самогон и продавала его шоферам. Седьмого, в разгар праздника, тетку хотели заключить под стражу, но Леонид Петрович взял ее на поруки. Она прибегала к нему домой, падала в ноги, благодарила за спасенье. Хирург объявил ей строгий выговор с последним предупреждением, и это, похоже, на нее хорошо подействовало.
Окончательно заворовался Суббота — торговал налево мясом и сливочным маслом. Его разоблачили шоферы и хотели избить, но заступился милиционер. Субботу водворили, куда следует, ведется следствие.
Ирина Михайловна ушла от мужа и поселилась в изоляторе, где когда-то жила Женя.
Выложив столько неприятных новостей, Галя наконец поделилась и своей радостью: она вышла замуж за инженера и на этой неделе переходит жить к нему.
Женя теперь останется одна в своей комнате. А рядом будут жить Леонид Петрович с Сашкой. Женя будет вести себя так, будто в доме ничего не произошло, как жили они, так и будут жить. Ей очень хотелось, чтобы в осиротелом их домике — как-никак ушли из него две женщины — было по-прежнему тепло и уютно. Она будет тактично, вдумчиво ухаживать за Грачевым и особенно за маленьким Сашкой, чтобы они не чувствовали себя покинутыми. «Именно тактично и вдумчиво,— решила Женя.— Но не навязчиво».
Ночью за окном бродил ветер, выгибались занавески на окне, и Жене чудилось, будто под шорох снега кто-то ходит и ходит вокруг тихого домика. Ей мерещилось, что ожидаючи бродит вокруг Сергей Хлынов, волочит по сугробам свои тяжелые валенки, клонится вперед под ветром и, не пряча лицо, вглядывается, ищет в снежной коловерти Ирину...
А ветер дул и дул, подвывал в трубе, забегал за угол, снова возвращался и бил прямо в окно, будто намеревался выдуть все тепло из комнаты. В трубе время от времени ухало, гудело, будто злорадствовал домовой и гнал из домика последних жителей.
Дрожа от холода, Женя соскочила с койки, сорвала со стены полушубок и накрылась им поверх одеяла.
Утром она проснулась поздно. Леонид Петрович уже ушел, а на кухне, взобравшись с ногами на табуретку, сидел Сашка. Он ел из алюминиевой миски гороховый концентрат и после каждой ложки кривил личико, концентрат был, как всегда, пересолен.
— Саша, ты колбаски хочешь? Я из Челябинска привезла. Давай мы с тобой вместе позавтракаем.
Женя подошла к мальчику и погладила его вихры. Сашка непокорно крутнул головой, сморщился, не донес ложку до рта и выплеснул похлебку обратно в миску.
— Не хочу колбаски!— диковато, не глядя на девушку, ответил он.— Отстань Женьча-каланча!
Женя вспыхнула.
— Да как ты смеешь со мной так разговаривать, негодный мальчишка?! Я тебе в матери гожусь, бессовестный!
Сашка поставил миску на стол, слез с табуретки и ушел в свою комнату, шмыгая носом и сутулясь.
«Зачем я сказала, в матери гожусь?— пожалела Женя.— Напомнила ему лишний раз».
Она растопила печь, сварила картофельный суп с бараниной, добавила пшенной крупы, приправила лавровым листом. Полную до краев кастрюлю аппетитного душистого супа оставила на плите и села сочинять записку. Сначала написала просто, чтобы не чувствовалось угодничества и подхалимства, чтобы и Леонид Петрович не обиделся, как Сашка. «На плите суп. Сварен специально для вас. Прошу его съесть». Прочитала записку вслух и уловила в словах раздражение, вроде прошу съесть и от меня отвязаться. Раз десять она переделывала записку и наконец оставила такую: «Уважаемый Леонид Петрович! На плите стоит суп. У меня было много свободного времени, я не знала, что делать, и решила заняться кулинарией. Очень прошу Вас вместе с Сашкой оценить мои способности. Женя».
К вечеру она ушла на дежурство и думала, прежде всего, о встрече с Ириной Михайловной. Вести себя с ней так, будто ничего не случилось, Женя не сможет, а как вести себя иначе, Женя пока не знает.
Едва переступив порог больницы, сразу в вестибюле Женя столкнулась с Ириной Михайловной. Холодно с ней поздоровалась и, опустив взгляд, уступила ей дорогу. Она не подняла глаз, пока Ирина не прошла дальше. «Не беда, проживем,— мстительно думала Женя.— Свет на вас клином не сошелся, уважаемая Ирина Михайловна...»
На другое утро Леонид Петрович, встретив Женю в больнице, тепло ей улыбнулся, и от этого Женя почувствовала себя увереннее, значительнее. Она даже не покраснела, к своему удивлению, приняла его благодарную, хотя и едва заметную, улыбку как должное. Она поняла сможет стать хозяйкой в осиротевшем доме, и если Сашка осмелится еще раз назвать ее Женьчой-каланчой, она просто-напросто отшлепает его по мягкому месту.
Женя с нетерпением ждала смены. Галя пришла в сумерках, весь день она переезжала к мужу и сейчас явилась вместе с ним.
Женя заторопилась домой, хлопотать, заботиться. Быстренько проскочила к себе, едва успела переодеться, как в дверь тихонько постучал Сашка.
— Тетя Женя, идем ужинать.
— Сейчас, Сашенька, сейчас иду!— тотчас отозвалась она, забыв ради солидности повременить с ответом.
Она предполагала ужинать вдвоем с Сашкой, но на кухне сидел и Леонид Петрович. Женя смутилась, пробормотала «добрый вечер», присела возле печки, стала кочергой шуровать уголь.
— Довольно, Женя, и так хорошо горит,— негромко сказал Леонид Петрович.— Садитесь ужинать.
На столе стояла жареная картошка вперемешку с бараньей тушёнкой. Грачев сам приготовил ужин, как умел.
Он ел молча, как глава семейства, был спокоен и строг. Женя тоже молчала, и только Сашка радостно болтал, обращаясь то к отцу, то к «тете Жене». Ей нравилось, что он так ее называл. За чаем Женя осмелилась произнести:
— Вы мастерски делаете заварку, Леонид Петрович, научите меня,— хотя сама делала не хуже.
Он стал объяснять, Женя не дослушала, возбужденно перебила:
— Давайте я буду вам каждый день готовить, у меня же уйма свободного времени.
— Спасибо, Женя, не нужно,— строго отозвался Грачев.— Я сам умею готовить, и у меня тоже есть свободное время. Раньше мы с Сашкой вдвоем жили.
— Нет, нет, вам будет трудно! Одно дело в городе, совсем другое здесь, надо заранее запастись продуктами, того нет, другого. А потом мне нужно о ком-то заботиться, а то пропадешь. И Галя от меня ушла...
Последние слова само собой прозвучали жалобно, еще минута, и на глазах Жени появятся слезы от сострадания к себе.
— Взваливаете на себя обузу, Женя,— предостерег Леонид Петрович.
— Да что вы, что вы, это же совсем не трудно!— она перевела радостный взгляд на Сашку, потрепала его за волосы.— Ой, да тебе голову мыть пора, Сашенька! Ты когда мылся?
...Давно уснули мужчины в ее доме, а Женя все еще сидела на койке в теплой комнате, обтянув колени ночной рубашкой. Тепло и уютно было в комнате, тепло и уютно на душе. Женя раскрыла книгу.
«...Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор.
— Только еще один раз,— сказал сверху женский голос, который сейчас же узнал князь Андрей.
— Да когда же ты спать будешь,— ответил другой голос.
— Я не буду, я не могу спать, что же мне делать? Ну, последний раз...
...Опять все замолкло, но князь Андрей знал, что она все еще сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.
— Ах, боже мой, боже мой! Что же это такое?— вдруг вскрикнула она.— Спать так спать!— захлопнула окно.
«И дела нет до моего существования»,— подумал князь Андрей...»
То же самое подумала Женя о Леониде Петровиче. Она вспомнила отцовское выражение его лица, страдающие глаза, не замечающие стараний Жени. Он никогда не войдет к ней в комнату, взволнованно, тихо постучавшись и сказав какую-нибудь сущую нелепицу в оправдание... Он еще ни разу не говорил с Женей о чем-нибудь постороннем, только о медицине, только о работе. От него ей хотелось совсем немногого — уважения, признания. Ей хотелось заменить ушедшую хотя бы отчасти, в пределах кухни, не больше. А это для них с Сашкой совсем немало.
Кто же придет к ней? И когда?..
— Ах, боже мой, боже мой! Что же это такое?— шепотом повторила Женя.— Спать так спать!— и захлопнула книгу.
Окно, зеленовато-лунное, фосфоресцировало. На стеклах искрились прямо-таки парчовые папоротники. За папоротниками грезились неведомые миры с неугомонными существами на далеких мерцающих планетах...
К вечеру милиционер привез мертвого Субботу. Его отправили в областной город на машине. Он решил бежать, на полном ходу перемахнул через борт и разбился насмерть о ледяную, накатанную дорогу.
В заброшенном морге вкрутили лампочку. Было холодно, мерзли руки. Хирург, натянув две пары толстых резиновых перчаток, делал вскрытие. Голый окоченевший труп лежал на голых досках. Черные волосы запеклись кровью, высокие брови застыли в недоумении. Сейчас Суббота напомнил Жене сына Тараса Бульбы Андрия. И некому было пожалеть его... Хотя теперь-то его пожалеет каждый.
Николаев перебрал письма. Последним лежал конверт без обратного адреса. Николаев поморщился,— похоже, анонимка. Но крупный, непорочно-школьный почерк вызывал доверие. Николаев надорвал конверт, вынул листки, нашел в конце подпись «Соня Соколова». Листки вдобавок пахли духами, каким-то цветком, кажется, ландышем.
«Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать...— начал читать Николаев.—Если вы когда-нибудь мечтали спасти человека от гибели, а кто об этом не мечтает, то ваша мечта сбылась.
Вы меня наверняка позабыли, с того дня у вас было много более важных дел. Но я вас помню всегда. Сначала помнила из чувства благодарности, потом благодарность переросла в надежду на то, что моя судьба и впредь будет связана с вами, но скоро я поняла, что надежда моя может перерасти в отчаяние, именно потому, что я для вас ничего не значу. Это мое письмо-признание нисколько меня не унижает, ведь я ничего не требую от вас, не домогаюсь взаимности, просто сообщаю, что вас помнят, о вас думают...
Вы знаете, наверное, что сегодня распростился с жизнью тот самый человек, из-за которого мне пришлось перенести столько страданий. Как жил, так и умер. Мне кажется, что он совсем не жил, а только бежал — от меня, от другой девушки, от своей работы, от всякой трудности, и получилось, в конце концов, что бежал от жизни, все свои молодые годы стремился к гибели, торопился не в ту сторону и наконец добрался до своего закономерного финиша. А вы берете на себя любую трудность, большую и малую, поэтому вы будете жить долго, на земле плюс еще и в памяти.
Вы похожи на моих любимых героев из книг. Я все знаю о вас, вернее, многое знаю. Вам тридцать два года, вы родились в деревне, окончили с отличием Сельскохозяйственный институт в Омске, работали агрономом. Только вот не знаю, любили ли вы кого-нибудь. Вы скрытный и замкнутый, хотя и работаете все время с людьми. Мне кажется, нет, не любили, а жаль, что у вас нет личной жизни.
Я знаю о ваших делах, слушаю ваши выступления, иногда бываю совсем близко возле вас, но так незаметно, что вы не успеваете со мной даже поздороваться.
Теперь я сообщу вам такой факт, который вы можете расценивать, как вам захочется. Я поменяла свою комнатку на другую и сейчас моя дверь, представьте себе, прямо напротив вашей. От угла моей комнаты вы делаете тридцать два шага до своей двери, если вы в хорошем настроении, и двадцать восемь, если в плохом. По вашим шагам я знаю, что в плохом настроении вы решительны, готовы бороться, шагаете шире и стремительней. Когда вам грустно, вы идете неслышно, словно боитесь расплескать свое настроение, и я тогда сбиваюсь со счета...
Я убеждена, что человеку без слабостей трудно жить. Я, может быть, неточно выражаюсь, но нельзя оставаться всю жизнь каменно сдержанным. Вам необходима своя личная жизнь, как мне кажется.
Теперь я... (дальше несколько строк были густо зачеркнуты, осталась одна фраза) «обезопасить себя от дальнейших осложнений». Соня Соколова».
Николаев осторожно сложил листки в конверт и подпер кулаками голову. Вот тебе и анонимка.
«Еще одной заботой больше»,— подумал он, однако без всякой досады. И если по другим делам он старался сразу же принять какое-то решение, то здесь отодвинул, пусть все останется, как есть и развивается само собой, естественно. Пока он ничего не предпримет, но именно пока, а потом...
Потом зайдет как-нибудь в дверь напротив и скажет, что все правильно, личной жизни у него нет, поскольку он для нее, видимо, не созрел...
Вспомнился вдруг Грачев, настойчиво влез в сознание. Как он вошел к нему тогда поздней ночью, хмурый, потерянный, действительно каменно сдержанный, если не сказать окаменевший.
«Как у него дела сейчас? Надо бы зайти...»
Но он зашел к Николаеву по причине вполне определенной.
А теперь вот и Николаева потянуло к Грачеву. Не странно ли?
Похоже, ему навязывают личную жизнь, а у него, как ни крути, ее нет. И почему-то личная жизнь непременно связана с женщиной, с семьей. Видно, без всего этого ты еще не личность.
«Ладно, Соня Соколова, так уж и быть, «проявлю слабость...»
Вечером он пошел к Грачеву. У крыльца подумал, с чем иду, что скажу? Да, может, и ничего не скажу ничего не скажу...
Потянул дверь и вошел в коридор. Из кухни клином падал неяркий свет.
— Можно войти?— громко, весело спросил Николаев, как спрашивает гость, пусть нежданный, зато с подарками. Во всяком случае, цену себе знающий.
Из кухни выглянула Женя, в халатике, простоволосая, прядка опустилась на щеку.
— Проходите,— сказала она несколько растерянно, узнав секретаря райкома.
— Леонид Петрович дома?
— Нет, он в больницу пошел.
Женя ждала, что Николаев накажет ей что-то передать Грачеву, случилось, видимо, что-то важное. Он еще ни разу не заходил к ним, а тут вдруг пожаловал.
— Я просто так, на огонек,— сказал Николаев, глядя в пол.— Посидеть, поговорить.— Он переступил с ноги на ногу, колесом повернул в руке шапку.
— Он скоро придет. А посидеть и поговорить вы можете и со мной.— Она легким движением взяла у него из рук шапку.— Снимайте пальто, проходите, у нас тепло... Я сегодня домовничаю с Сашкой,— продолжала она, когда Николаев прошел на кухню, жмурясь от света и печного тепла.— В роли воспитательницы и сторожихи. Ребенку скучно. «Если,— говорит,— оставите меня одного, я наш дом спалю». Как вы думаете, еще не все потеряно?— без всякого перехода спросила она и, видя, что Николаев не сразу понял, о чем речь, уточнила:— Они еще могут помириться?
Николаев пожал плечами.
— Ирина Михайловна не пожелала со мной встретиться,— сказал он виновато.— Я, видимо, не подходящая фигура для доверительного разговора. Или у нее нет потребности делиться с кем-то. Но я успел поговорить с Хлыновым.
— Интересно! И что же Хлынов?
— Натура дура, говорит. Люблю и все.
— Есть поговорка по-латыни: натура санат, медикус курат. Перевести можно, примерно, так: природа оздоравливает, а врач только следит, лечит. Может быть, и здесь лучше предоставить все естественному течению? Я уже столько раз ошибалась в своих действиях, что уже просто боюсь, что-нибудь не так сделать. Но ведь и равнодушной нельзя оставаться, смотреть и молчать в тряпочку.
... Если бы Николаева потом спросили, какая она, Женя, опишите, пожалуйста, он ответил бы только одним словом – очаровательная. И не стал бы ничего описывать, потому что не запоминалось в ней ничто, не выделялось,— ни лицо, ни одежда, ни волосы, одни только ясные, именно очаровательные глаза.
— Все это сложно, Женя,— сказал он мрачновато, и в тоне его прозвучало нежелание продолжать тему.
Наступило молчание, тягостное для Николаева: пришел в гости и молчит, как пень.
Женя взяла кочергу, присела у печки, открыла дверцу и стала ворошить угли.
— Вы сами топите?— спросила она, клоня голову к плечу и морща лицо от жара.
— Да, сам топлю.
— Вы, конечно, родились не секретарем райкома?
— Нет,— улыбнулся Николаев.— И не в рубашке.
— Я слышала, вы агроном?
— Да.— Он не мог прогнать улыбку, уж слишком серьезно, деловито, прямо как на допросе, говорила Женя.
— Непохоже, прямо вам скажу.
— Почему?
— Агрономы вроде пчеловодов — старики с бородой.
Он рассмеялся.
— Вот меня и прогнали из агрономов — бороды нет.
— А чему вы смеетесь? Кстати, вы и на секретаря райкома не похожи, если уж на то пошло. Я когда приехала, сразу услышала — есть тут грозный Николаев. Думаю, что за Николаев? Солидный, думаю, лет пятидесяти, медлительный, седые виски, как в кино, одним словом. А потом удивилась: такой молодой! Помните, как я лихо вам прививку сделала?
— Спасибо, с тех пор не болею. Только вот говорят, нет у меня личной жизни,— ни с того, ни с сего вдруг вспомнил он.
— А у меня ее — хоть отбавляй. Из-за всякого пустяка переживаю.
— Значит, личная жизнь — это переживания, вы так понимаете?
— А как же еще? Мир живет, земля вращается, а лично ты сидишь и страдаешь. А вам, наверное, и пострадать не дают, все дела да дела, то один, то другой. А знаете, что я вам скажу!— вдруг оживилась Женя, как бы самой себе изумляясь.— Личная жизнь для вас — это переживания других! Правильно? Это же вас трогает, беспокоит?
Николаев развел руки, дескать, куда денешься, трогает, беспокоит...
— А вам никогда не хотелось казаться старше?
— Да н-нет как будто,— растерялся он.— А зачем?
Женя рассмеялась от его простодушного «зачем».
— Да для солидности, для авторитета, зачем же еще! Я вот когда приехала сюда, очень хотела казаться взрослой. Чтобы мне больше доверяли больные. Знаете, у больных, как правило, травмируется психика, они становятся мнительными, недоверчивыми. А медик должен даже своим видом вселять веру. И вот я вхожу в палату, не спеша, важно, солидно, стараюсь делать такой вид, будто через мои руки прошли десятки и даже сотни самых тяжелых больных, а я всех на ноги поставила. Не хожу, а шествую, не говорю, а вещаю. Продержалась я таким манером дня три, а потом одна женщина с улыбкой так говорит мне: «Что ты, дочка, такая молоденькая, а ки-ислая? Веселей ходи, чего не знаешь,— научат. Не сразу Москва строилась!» Видите, как я перестаралась. Спасла меня эта женщина, стала я держаться свободней, естественней, улыбаюсь, и больные мне в ответ улыбаются. Но опять беда. Хватит, говорят, тебе сиять, ямочки на щеках показывать, а то в тебя Малинка влюбился! Помните, солдат такой смелый, машину на огонь повел? Да пусть влюбляется, мне то что, лишь бы на здоровье!
Николаев тоже невольно улыбался ее детской беспечности, открытости. Щеки Жени раскраснелись, она радовалась своему слушателю.
— Ах, да что это я зарядила!— воскликнула Женя.— Все про себя да про себя. Давайте о чем-нибудь другом. Вы танцевать любите?
— Пожалуй... нет, не люблю.
— «Пожалуй», — Женя рассмеялась. — «Пожалуй». Не солидно, да?
— Как вам сказать...
— Молодой человек, современный. Вот и объясните мне, причем подробнее, почему не любите, мне это интересно. Я, например, очень люблю. И все народы танцуют, с древнейших времен. Так что давайте, объясняйте, мне интересны ваши доводы.
— Просто нет желания, нет времени...
.— Должность не позволяет,— подсказала Женя.— Но вы же студентом были! И тогда не танцевали?
— Пробовал. Именно на танцах произошел со мной один курьезный случай. В институт я из деревни приехал. Окончил первый курс, приехал летом домой на каникулы. Нахватался городских манер, танцевать научился, был у нас в институте кружок, а главное, шляпу себе купил, модную, велюровую, темно-зеленую. Хожу по деревне важно, задаюсь, можно сказать. В субботу пришел на танцы, у нас там садик возле клуба и летняя танцплощадка. Играет баянист и барабанщик на пионерском барабане. Приглашаю одну девушку, танцую, приглашаю другую, танцую. Даже вспотел от стараний, шляпу свою снял и повесил на ограду. А сам кружусь! Потом вижу в центре площадки какое-то легкое замешательство, слышу смех и возгласы: «Эй, чья тут шляпа, выходи на круг!» Все посмеиваются, но чья шляпа, не знают, а может быть, только делают вид. Я посмотрел — нет на ограде моей шляпы, единственной и неповторимой. Знаете... я не вышел на круг. Заговорил со своей девушкой, сделал вид, что ничего такого не слышу, меня, дескать, все это не касается. Бог с ней, со шляпой, думаю, пусть пропадает. Через год увидел, ее в клуб передали, в реквизит самодеятельности.
Женя тихонько рассмеялась, ласково посмотрела на Николаева.
— Вон вы какой... А другой бы драться полез.— Она снова негромко рассмеялась.
— Мне пора,— сказал Николаев и поднялся.
— А Леонида Петровича еще нет.
— В другой раз поговорим. Извините, Женя, занял время у вас.
— Что вы, что вы! Мне было интересно. Можно я провожу вас? — И, не дожидаясь согласия, вышла из кухни, говоря на ходу.— Только посмотрю, что там Сашка делает, минутку подождите.
Она вскоре вернулась, одетая наспех, но аккуратно, видно, успела заглянуть в зеркало.
— Ну что он? Не будет дом поджигать?
«Я,— говорит,— понимаю, ты молодая, тебе надо гулять, иди».
Звенел мороз. Дым свечами стоял над трубами и где-то высоко-высоко сливался с белесым небом. Они пересекли тракт, прошли мимо столовой.
— Вот и не стало Субботы,— сказала Женя.— Почему-то я всегда чувствую себя виноватой, когда кто-нибудь умирает прежде времени.
— Да, в любом случае ощущаешь утрату, это естественно для живых. А у медиков оно, наверное, выражено еще более остро. А вам не кажется, что он сам не хотел жить?
Женя подумала, не сразу ответила:
— Нет, по-моему, хотел, только — легкой жизни.
— Легче, чем у всех других. И это вывело его из числа живых еще до смерти.
— А в общем-то, умрет каждый,— грустно сказала Женя.
— Куда денешься,— усмехнулся Николаев.— Но настоящему человеку при мысли о такой неизбежности хочется жить без мелочей.
— Интересно, а вы любите мечтать?
— Конечно. Мечтаю хорошо исполнять свое дело. Оно сложное и очень интересное. У нас с вами в принципе одна задача: вы заботитесь о здоровье физическом, а я — о деловом и нравственном. И в конечном счете вместе мы с вами печемся о прогрессе рода человеческого.
— Значит, у вас тоже призвание? А я думала, вас просто назначили, и вы, как человек дисциплинированный, все честно выполняете.
— На одной дисциплине, Женя, далеко не уедешь. В любой профессии. Нужна инициатива, желание, любовь к своему делу. Или призвание, если хотите.
— А как вы считаете, стать хорошей матерью — это призвание или обязанность?
Николаев рассмеялся.
— Наверное, и то и другое.
— Стать хорошим медиком я мечтаю иногда, а вот хорошей матерью — всегда,— призналась Женя.— Я знаю, об этом не принято говорить вслух, но мне так хочется, чтобы были сыновья, дочки. Маленькие, потом большие. Одевать их всяко, подгонять им бельишко, шлепать их. Не сейчас, конечно, а когда-нибудь потом, попозже.
— Я понимаю, понимаю,— серьезно сказал Николаев.
— Чтобы они шумели, росли. Сыновья мои, как подрастут, станут суровыми, неразговорчивыми, а дочери — наоборот, нежными и говорливыми.
Возле своего дома Николаев сказал:
— Может быть, зайдете ко мне?
— Прямо сейчас? Ладно,— не раздумывая, согласилась Женя.— Посмотрим, как живет начальство.
Вошли в комнату. Николаев скоренько, на ходу обил валенки у порога и нашарил выключатель.
Женя, привыкая к яркому свету, сощурилась и нагнулась в поисках веника.
— Проходите, проходите,— Николаев легонько коснулся ее локтя.— Снимайте пальто, у меня тепло.
В комнате, довольно просторной и, как Жене показалось, не слишком уютной, было все необходимое для жилья, койка с синим одеялом в крупную клетку (почему-то оно бросилось сразу в глаза Жени), просторный, не новый, а, видно, купленный у кого-то здесь письменный стол, Николаев, прикрывая спиной, начал поспешно убирать звякающие стаканы н чайник. Здесь, как подумала Женя, теоретически было все, крашеный желтой краской стеллаж с пестрыми корешками книг, даже тюлевые занавески на окнах, но практически...
— Женской руки не хватает,— простодушно сказала она и деловито осмотрелась, будто готовясь засучить рукава и тут же приступить к исправлению невидимых мужскому глазу недочетов, приложить эту самую женскую руку к домашнему уюту.
Николаев выдвинул из-под стола табуретку, и Женя присела на краешек, держась обеими руками за горящие от мороза щеки.
— Отсутствие женской руки я не особенно чувствую,— преувеличенно твердо сказал Николаев.— И вообще, к домашнему, женскому труду у меня свое отношение. Оно не оригинально, но... во всяком случае, стиркой и кухней моя жена заниматься не будет.
– Слыхали мы такое!— с ласковой насмешливостью отозвалась Женя.
Николаев, не переча, только повел бровями.
— Представьте себе такую картину. К весне у нас открывается прачечная с машинной стиркой. По утрам машина будет объезжать поселок и забирать белье в стирку, а вечером развозить выстиранное и отутюженное. Детские ясли уж есть, будет и детский сад...
Он говорил обычные, знакомые слова, повторял знакомые обещания, но Жене почему-то не было скучно.
— К осени откроем большую столовую, фундамент уже заложен по типовому проекту. Цена обеда — три, четыре рубля. Можно заказывать на дом... Я говорю все время о будущем, но ведь мы всего два года живем на целине, а в старых, передовых совхозах все это давно заведено, там жить легче. Прежде я рассуждал о женском труде отвлеченно, а сейчас все прелести быта испытал на собственной шее. Все будет, Женя, всё сделаем!— Он даже слегка пристукнул рукой по столу, но тут же вспомнил о своей роли хозяина.
«Что полагается делать в таком случае?— подумал он.— Надо включить приемник, поймать легкую музыку. А главное, угостить чаем».
Однако ставить чайник он не спешил, заколебался, не зная сам, почему, может, побоялся насмешки Жени, и — будь что будет!— отверг чаепитие.
Спасительно зазвонил телефон, даже удивительно, что он так долго молчал.
— Слушаю!
Не отрываясь от трубки, наощупь, как слепой, Николаев нашарил рукой табуретку, неловко придвинул ее поближе, сел на край и чуть не упал вместе с табуреткой. Женя отвернулась, плечи ее задрожали от смеха. Ей понравилось, что телефонный звонок моментально отключил его от забот о гостье, как будто ее здесь и не было. Вот он за это и поплатился, чуть не упал в наказание. Интересно было видеть его таким неловким, смешным. Слабости у мужчин почему-то всегда привлекали Женю. Проявление слабости казалось ей более человечным свойством, чем проявление силы. Но это уже практически, а теоретически — совсем наоборот...
Разговор шел о том, сколько прибыло в совхоз шоферов и рабочих, как их разместили, а главное, сколько вывезено зерна на сегодня.
Женя терпеливо ждала, соображая, что после того, как он положит трубку, неловко будет занимать его деловое время. Сейчас, наверное, начнут звонить без передышки, а она будет сидеть истуканом, забытая и никому здесь ненужная.
Дождавшись, когда Николаев закончил разговор, Женя с улыбкой поднялась. Она сама не знала, что означала ее улыбка, но в том, что она должна быть, Женя не сомневалась. Быть может, многозначительную усмешку? Месть за перерыв в его внимании к ней? Или же: «Нет, товарищ Николаев, никакими стиральными машинами и типовыми столовыми женщину в доме не заменить во веки веков, хотя вы и ответственный руководитель!..» Она улыбалась непроизвольно, как будто все предыдущие женские поколения передали ей в наследство это действенное оружие, эту необъяснимую тактику. А он теперь как хочет, пусть так и думает, пусть разгадывает.
Николаев вскочил, извиняясь, бормоча, что ей, конечно, скучно. Подал Жене пальто и платок. Помедлил и... пошел ее провожать.
На улице Николаев долго молчал. Женя подумала, он занят обдумыванием телефонного разговора, и решила высказать свои деловые соображения. Почему райком не интересуется делами автобазы?
— Хорошо, что вы обратили внимание на автобазу,— рассеянно отозвался Николаев.— Подскажите, что им надо сделать на первых порах. Жакипов — человек исполнительный и толковый. Скоро они будут жить лучше. Автобаза создана всего-навсего три месяца тому назад. Полторы тысячи машин пришли на пустырь. Бывали дни, когда в палатках шоферам не хватало места, спали в кабинках. Вы, наверное, помните, как ходили на воскресники всем поселком, строили шоферам землянки.— Он вздохнул.— Конечно, лучше было бы приехать сразу в теплые благоустроенные квартиры, но это уже совсем другой вопрос. Где-нибудь на Западе вряд ли нашлось бы столько добровольцев ехать на пустое место. Там другая психология, другое воспитание, все другое, это вы понимаете. А вот у нас поднялась вся страна на призыв. Вот почему слово «целинник» стало синонимом слова «героизм». А героизм — это, можно сказать, нарушение. Нарушение привычных норм, привычных представлений о человеческих возможностях. Я вам прописные истины говорю, Женя, но это потому, что вы так свой вопрос поставили, можно обидеться. Райком, выходит, ничего не знает. Медики знают, шоферы знают, а райком нет, толстокожий какой! Да, к вашему сведению, у нас на каждом заседании вопрос о быте. И вот здесь, среди фундаментов, мимо которых вы каждый день проходите, есть и фундамент общежития для шоферов. Видите, как получилось, еще с жильем не устроились, а уже миллиард пудов выдали! Вы только представьте себе, в одной только Кустанай-ской области создано девяносто четыре совхоза. Жилые дома, детские сады, клубы, магазины... Попробуйте закрыть глаза и представить мысленно наш край, частицу земного шара...— Николаев прищурился и плавающими движениями развел руки в стороны.— Черная, вспаханная, чуть выпуклая земная поверхность. И на ней поселки. Один, другой, третий... и так до девяносто четырех. Устанешь, пока все это мысленно представишь, пересчитаешь. И все это появилось на голой земле за какие-то два года! Все-таки, еще раз скажу: целина — это героизм, как бы громко и выспренно это вам ни показалось. Коллективный героизм, наиболее массовый в наши дни. И мы с вами, Женя,— здесь, вместе со всеми.
Он разговорился оттого, что она внимательно, неравнодушно его слушала, часто поднося пушистую рукавичку ко рту, словно боясь перебить Николаева и сказать что-нибудь не так, невпопад.
Когда переходили накатанную дорогу, Женя поскользнулась и ухватилась за Николаева. Он согнул свою руку в локте, чтобы ей удобнее было опереться. Но, выйдя на тропинку, Женя отпустила его, словно не желая связывать прежнюю его свободу.
Они говорили о любимых книгах, о знакомых людях, говорили гак, будто были давно знакомы, потом расстались, соскучились друг без друга и сейчас не могут наговориться.
— Вам еще спать не хочется?— Женя не стала ждать ответа, тут же предложила:—Давайте еще побродим, выйдем на простор, на аэродром, давайте?
— На простор так на простор,— согласился Николаев.
На белом поле едва темнела сторожка. К ней вела узкая тропинка и две еле заметных полосы санного следа. Николаев старался идти сбоку, уступая Жене тропинку. Плотный наст под его шагами часто обрушивался, он оступался и взмахивал руками
Сразу по-степному потянуло ветром, зазнобило, по ногам заструилась поземка. Они добрались до «аэропорта» – утлой темной саманушкп — и спрятались от холода у стены на подветренной стороне. С крыши сугробом списал снег, Николаев нечаянно задел его шапкой, и снег густо посыпался им на головы и плечи.
— Нарочно?!—вскричала Женя.— Ах так!—И, подпрыгнув, сбила другую снежную губу с крыши.
— Да я нечаянно,— оправдывался Николаев, отфыркиваясь и пытаясь отряхнуть Женю от снега.— Извините, больше не буду.
— Тогда ладно,— миролюбиво согласилась Женя.— Тогда давайте и я вас отряхну.
Ему было смешно от ее детской игры, но странно, он и сам поддался этой игре.
В саманушке гудела труба. На исхлестанной дождями стене глянцевито поблескивали прожилки соломы. С обеих сторон подсвистывал ветер, не проникая, однако, в тот затишок, где они стояли. Тактичный, милосердный ветер...
— В детстве я очень любил прятаться от дождя в шалаше. И как только заберусь в шалаш, в любую погоду, так сразу мечтаю: вот бы дождь пошел! Здесь сухо, тепло, а рядом шуршат и звучно так стучат капли по сухому сену и по листве. В дождь по-особенному пахнет сено, из него выбивается удивительно ароматный запах! Уютно становится в шалаше, хорошо. А вот почему — и не скажешь.
— Понимаю, понимаю!— обрадованно подхватила Женя.— У меня так тоже бывало, только в городе, где-нибудь в сквере. Но там ведь тоже трава, и тоже бывает дождь.— Она говорила так, будто ей не хотелось отдавать преимущество селу перед городом.
— И сейчас вот... ветер, степь, холод, а мы в затишье, возле какого-то подобия человечьего гнезда.
– И нам тоже хорошо, а от чего, не выразишь, правда?
Помолчали, потоптались на месте.
–– Я заметила, что вы за весь вечер не сказали ни разу слова «некогда».
— Вон как!— удивился Николаев.— Впрочем, я не люблю это слово. Можете ли вы с Грачевым сказать, что вам некогда операцию делать?
Женя только усмехнулась.
За саманушкой шуршала поземка, в трех шагах перед ними наметала полукруглый, как подкова, сугроб.
— Давайте зайдем в саманушку, разожжем огонь, и получится еще интереснее, чем в вашем шалаше. Там наверняка есть котелок, наберем снегу и вскипятим чаю. Вот будет здорово. Чай из снега и с запахом дыма, давайте?
Николаев решительно взмахнул рукой.
— Давайте!
Они снова боком вышли па ветер, к двери и увидели на ней висячий заиндевелый замок.
— Ну заче-ем,— разочарованно протянула Женя.
— Взломаем?—задорно спросил Николаев, сбивая варежкой иней с замка.
— Нет, нет, в другой раз!— забеспокоилась Женя, сразу поверив, что ему ничего не стоит взломать замок. А ведь кто-то его повесил, значит, он кому-то нужен.— Будут завтра искать, кто это здесь хулиганил ночью, милицию позовут.
Николаев рассмеялся, но согласился с доводами Жени.
Они пошли обратно в поселок, ступая как будто не по снегу, а по тугому ветру.
Возле дома Женя сняла рукавичку, подала руку.
— До свидания.
Он торопливо стянул варежку, коротко пожал ее руку и сказал:
— Наденьте рукавичку, пальцы замерзнут.
— Какой заботливый!
Он улыбнулся,— что тут особенного, не нашел, что ответить.
— Вы заходите к нам,— без всякой связи сказала Женя.— Что передать Леониду Петровичу?
— Спасибо, ничего не передавайте. Я просто так зашел, развеяться.
— Ну и как, развеялись?
— Медицина и здесь оказала свое благотворное воздействие.
— В таком случае, заходите почаще. У медицины тоже бывает желание развеяться...
Домой Николаев шагал стремительным, пружинистым шагом, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. И совсем не потому, что ему надо было спешить, нет. Вспомнился Омск, студенчество, весенние ночи, когда он догонял последний трамвай, пробегая порой за ним целый прогон. Прошло уже с той поры восемь лет, немало, но ему кажется, что он совсем не изменился, меняется только жизнь вокруг, а он — прежний, молодой и резвый. Иду, бегу, дышу, надеюсь!
Однако почему она сказала вскользь, что он старше ее лет на десять-двенадцать. Для чего она эту разницу отметила?
— Постой, постой, пошевели извилинами,— проговорил он себе и замедлил шаг, готовый снять шапку, остудить голову и поразмыслить. Лучше поздно, чем никогда.
А поразмыслив, прийти к выводу, что весь вечер она относилась к нему, как к старшему, как школьники относятся к учителю. Прежде всего, она не особенно смутилась при его появлении: смело положила руку на его рукав и, кажется, тут же у порога напомнила ему о разнице в возрасте, чтобы он, боже упаси, не вздумал за ней ухаживать. Значит, ты, Николаев, хлюст, если девушке понадобилась такая мера предосторожности. Затем последовало самое убийственное: без всякого стеснения она сказала, что мечтает стать матерью, сказала так, как говорят только старшим, отцу или матери, или, к примеру, бабушке. Вот такие дела. А он-то замок вздумал срывать, голова садовая!..
Николаев сердито пнул ногой дверь, в комнате распахнул форточку, сбросил пальто, пиджак, стянул галстук.
«Чёрт побери, да неужели я такой солидный, степенный, архисерьезный?!» Может быть, вся беда в том, что он слишком скован сознанием своей значимости? Не своей, вернее, а должностной. Какая все же она непосредственная, по-детски откровенная, открытая. Неужели все это только потому, что у них такая большая разница в возрасте? В простосердечии своем даже не подумала, что могут сказать в поселке: пошла на квартиру к одинокому мужчине.
Впрочем, к одинокому мужчине нельзя, предосудительно, а к секретарю райкома можно, какой он мужчина. Хотя и одинокий...
А может быть, зря он о ней всякую чепуху выдумывает. Просто она такая по натуре своей, непосредственная. Она не скрывала своей радости, ей хотелось бродить с ним хоть до рассвета. Тоже ведь одинокая, в сущности.
На глаза попалось письмо Сони Соколовой. Это она его растревожила своим признанием, словами о личной жизни. Что ей ответить?..
Женя, войдя в дом, задержалась в кромешно темных сенях. Она ничего не запомнила из сегодняшней встречи, ни слов, ни жестов, осталось только общее чувство радости, даже восторга. Ей хотелось добра и счастья себе, другим, всем на свете! Она закрыла глаза и в непроглядной тьме представила свое лицо с улыбкой и увидела будущее, неизвестное и огромное, как звездный космос.
К утру поземка усилилась, зашевелились сугробы, меняя свои очертания. Женя проснулась в сумерках, глянула на часы и ахнула: уже половина девятого! За окном синел полумрак и было удивительно тихо. Женя подбежала к занавеске, откинула ее — окно до самого верха было закрыто сугробом. Отточенный ветром край его на вершок не доставал до шиферной кровли.
Третьи сутки мела непроглядная вьюга. Начались декабрьские метели, а будут еще и февральские... Опустели степные дороги. По Тобольскому тракту густо неслась поземка, заполняя неровности белыми клиньями, убегая за обочину, навевая сугробы. Не летали самолеты, молчали тракторы, до поры бездействовали снегоочистители. Шагнув за порог, люди тонули в снежной коловерти. Казалось, не просто снег и ветер, а колючие тугие сугробы обрушиваются на человека со всех сторон, бледная морозная мгла колышется спереди, сзади, сбоку...
И тут же вместе с бураном — предостережения и примеры.
Рассказывали, будто в «Изобильном» едва не замерзла повариха. Вышла из столовой за продуктами, добралась до кладовой, а обратно уже не вернулась. Пошли ее искать, обвязавшись веревкой, как альпинисты, и нашли в стороне от поселка, обессиленную, перепуганную досмерти, с обмороженными руками. В такую погоду не мудрено заблудиться и возле своего дома, собственной варежки не видно на вытянутой руке.
В другом совхозе парень на тракторе расчищал снег и не заметил, как снес угол своего дома. Где-то застрял вагончик с людьми, и вертолет ждал погоды, чтобы отправиться на розыски и сбросить им хлеба и дров.
Замерла жизнь в Камышном, стали машины, и только дизельная электростанция не выключалась – в домах заметало окна, и люди днем сидели при лампочке.
На четвертый день в поселке стало известно, метель захватила в кольцо бригадный стан неподалеку от Камышного. Оторванные от мира 120 человек сбились в тесных землянках. У них была кухня — вмазанный в глину котел, были дрова и уголь, но не было продуктов, их едва хватило на первые два дня. На третий съели всё, что собрали из личных запасов —ломоть сала, краюху хлеба, пачку сахара, консервы. Но брюхо злодей, старого добра не помнит. Стали варить пшеницу и ели ее из кружек, из солдатских котелков и прямо из котла. Утешали себя байками и анекдотами. На четвертый день снова варили пшеницу, проклинали погоду и ждали примет ее улучшения.
Их было сто двадцать душ, и никто всерьез не думал о гибели, хотя уже появились больные, несколько человек мучились животами. Они терпеливо ждали спасения, верили, про них помнят и придут на помощь любой ценой. Тем не менее, жевать пшеницу и томиться в землянках с промерзшими стенами было не сладко.
В Камышном на автобазе борт к борту стояли бесполезные сейчас машины. Шофера, слесари, ремонтники сидели в тихом гараже у костра и курили, когда вошел Николаев с двумя парнями из райкома комсомола. Они сняли шапки, выбили снег о колено, шапками отряхнули валенки. Возле костра, не спеша, расступились, примолкли. Пахло гарью, жженой резиной и дустом.
— Товарищи, на втором стане сидят наши рабочие, сто двадцать человек,— сказал Николаев —У них нет продуктов, нечего курить, появились больные.
Эти трое, Николаев с двумя комсомольцами, совершили в сущности подвиг — прошли от поселка до автобазы. Почти километр в пургу. Они обошлись без посыльных, явились лично, чтобы показать, насколько важна задача.
— Там нелегко,— негромко продолжал Николаев.— Хотим с вами посоветоваться, товарищи, как оказать помощь второму стану.
...Может быть, потом, спустя годы, когда жизнь на целине устроится, секретарь райкома не будет принимать личного участия в подобном деле, найдут другой, может быть, даже более оперативный способ убеждения и связи. Но сейчас, когда целинная жизнь только налаживалась, всем и каждому приходилось в любом важном деле принимать участие лично...
Шофера пока молчали. Николаев не приказывал, не доказывал, не взывал к совести. Они молчали из чувства собственного достоинства.
— Газик райпотребсоюза пробивался целые сутки,— сказал комсомольский секретарь белорус Гулькевич.— Не мог пробиться. Шофер передал по рации из совхоза имени Горького, что застрял, заблудился.
— Надо было ДТ-54 послать,— сказал один из шоферов.
— На газике только па охоту ездить, зайцев гонять,— отозвался другой.— При ясной погоде.
— Мы не можем оставить в беде наших товарищей,— продолжал Николаев.— Надо пробиться к ним и как можно скорее. Давайте вместе прикинем, кому из самых смелых и надежных ребят мы поручим этот ответственный рейс.
— А чего тут прикидывать,— слегка вызывающе проговорил Сергей Хлынов.— Лично я не прочь размяться. Думаю, братва со мной по мелочам торговаться не станет.
— Спасение людей — не мелочь,— холодно осадил его Николаев.
— Я это так, к слову,— хмуро оправдался Хлынов.— Короче, я готов поехать.
Он шагнул вперед. Вслед за ним, как привязанный, шагнул и Курман Ахметов.
— Вдвоем поедем. Для страховки.
Курман с лета перебрался в Камышный вместе с Оксаной и уже тремя детьми, тремя всадниками. Именно из-за них они сюда и переехали. Тот памятный день — первые роды Оксаны — оставил глубокий след в сердце Курмана, и он все ждал случая, чтобы перевезти семью поближе к хорошим медикам. Так будет всем спокойнее — и Курману, и Оксане, и самим медикам.
— Медлить нельзя, товарищи, дорога каждая минута. Кто может поехать немедленно?— спросил Николаев, будто не слыша ни Хлынова, ни Курмана.
— Да и я могу, только тулупчик дайте!— послышался голос.
За ним другие:
— Тулупчик без возврата...
— И полбанки.
— Для компресса...
— Но мы же первые вызвались,— повысил голос Сергей.— А-а, не доверя-яете,— злорадно протянул он, догадываясь.— А штрафных, между прочим, посылали на передовую, да еще в самое пекло.
— Штрафных посылали,— негромко повторил его слова Николаев, пристально глядя на Хлынова, видимо, колеблясь.
— Значит, договорились!— Сергей притворно сладостно потянулся над костром, даже зевнул слегка.— Едем, Курман. Только трактор давайте, Юрий Иванович, вернее будет.
Не прошло и часа, как друзья на тракторе ДТ-54 с прицепом подъехали к складу райпотребсоюза. Они легко выпросили пол-литра водки на дорогу — оттирать конечности на случай обморожения, тут же хватили по глотку-другому, нагрузили в прицеп мешки с продуктами, укутали их брезентом и затянули веревками.
Возле больницы Курман попросил друга остановиться.
— Живот скрутило, Сергей, зря я водки хлебнул. Минуту подожди, проглочу пару таблеток бесалола, и тронемся,— бормотал Курман, становясь на гусеницу и стараясь не корчиться, но Сергей видел, ему больно. Летом Курман два раза бросал курить из-за обострений гастрита, но так и не бросил.
Сергей несколько мгновений сидел неподвижно, бездумно, потом глянул на больничную дверь, давным-давно знакомую ему, еще с той поры. Вывеску со змеей и чашей занесло снегом, косо, как плиту на кладбище, и только остались на виду четыре буквы «Боль...»
Сергей посидел, посидел, вздохнул, выжал конус и повернул трактор на дорогу.
— Прости, Курман, не обижайся,— сказал он вслух.— Нельзя больному ехать в такой рейс.— И еще раз вздохнул с облегчением, ему хотелось побыть одному, ехать, ехать и ехать...
Последнее время Сергей полюбил одиночество. Самолюбие не позволяло ему скисать на виду у всех, поддаваться тоске. Брось, скажут, пропадать из-за бабы (причину-то знали все, не утаишь), будут еще их десятки в твоей жизни, молодой и веселой. И Сергей бодрился, старался не подавать виду, работал так же, как работал прежде, и жил вроде бы так же, балагурил, посмеивался над растяпами. Но тоска мучила, клонила голову к земле.
Ирина упрямо его сторонилась. А он терпеливо ждал от нее вестей, надеялся на ее решение. Он, конечно, знал, что она ушла от мужа (да и кто этого не знал!), но как теперь всё это понимать — то ли она ушла, чтобы сойтись, наконец, с ним, то ли он просто-напросто стал причиной скандала, развода, причиной ее страданий, в конечном счете. Там ведь еще и сын остался. Говорят же, когда горе стучится в дверь, любовь вылетает в окно. В таком положении он не мог требовать свидания, как прежде, настаивать, надоедать ей, самолюбие мешало ему стать приставалой. Он ждал. А она не давала о себе знать.
Курман видел, Сергей не в себе и переживал за друга. Он и сочувствовал ему, и злился оттого, что ничем не может помочь. Злился на хирурга, на Ирину, на самого себя. Взрослые, серьезные люди, а не могут найти выхода.
— Женщина, как заноза, влезет незаметно, а вытащить больно,— говорил Курман с чужих слов. Сергей только кивал в ответ и молчал.
— Пойду к твоему хирургу, скажу — человек пропадает!— грозился Курман.
— Не вздумай,— цедил Сергей.
— Пусть уезжает отсюда, нечего ему здесь делать,— искал Курман выхода.— Или давай мы уедем, целина большая.
— Уедем...— рассеянно соглашался Сергей. И вот он едет. Один...
Ни одна живая душа не повстречалась Сергею, пока он проезжал поселком. Белая тьма шевелилась перед ним, то застилая дорогу, то приоткрывая ее, будто заманивая. Он попробовал включить свет, но через минуту выключил, без толку, снег плотно залепил фары.
За поселком стало как будто просторнее, метель казалась не такой густой и яростной. Сразу же за обочиной местами1 лезла из-под снега щетинистая стерня. Сергей косился на нее, как на ориентир, и почти вслепую, наугад вел трактор.
Временами налетал шквальный ветер и завывал в щелях кабины. Мотор работал надежно, урчал ровно, то набирая обороты, то сбавляя их без чиханий и перебоев, будто резвился молодой, уверенный в себе медведь. Сергей знал дорогу, точнее сказать, знал местность. Если где и собьется, не заблудится. Двадцать километров до стана, если учесть задержки и пробуксовки, он пройдет часа за два, за три. Однако на часы Сергей не смотрел, целинные дороги приучили его верить в приметы. «Вот братва заликует!..»
Когда-то в такой же метельный день он вез Ирину принимать роды у жены Курмана. Давно это было и — совсем недавно. Он как будто всю жизнь ждал того буранного дня, свиста вихрей, тревоги и рядом — теплого ее дыхания. Она была тогда спокойна, ничего не боялась, верила в него. А Сергея лихорадила опасность, будоражила ее вера, ее надежда на его силы, и вся эта коловерть внешняя и внутренняя вызывала у Сергея чувство восторга.
А теперь вот, перед самым праздником, она сказала Сергею, пусть эта встреча станет у них последней. Она устала прятаться и переживать, издергалась от такой жизни. Поговорив с одним человеком, она решила порвать с Сергеем, чего бы это ей ни стоило. Одумалась...
Что это за человек, такой правильный и такой мудрый?
«Если ты начнешь домогаться встречи со мной, я тебя никогда добром не вспомню»,— заявила она. «Ну и катись к чертовой матери!»— не задумываясь, сгоряча ответил Сергей.
А потом пожалел, что сказал так, сказанул. Она не оскорбилась, не ушла сразу, а стояла перед ним и с укоризной смотрела, так, что впору самому Сергею надо бы катиться подальше. «Как ты все-таки груб и жесток,— сказала она.— Не пора ли тебе тоже одуматься, бросить свое лихачество, иначе ведь добром не кончишь...» Она оскорбляла его, будто напрашивалась на какую-то его хамскую выходку, чтобы им легче было расстаться.
А ему не оскорблений хотелось, не грубости и не жестокости.
Всё это, растравляя свою тоску, вспомнил Сергей сейчас, сидя за рычагами и неподвижно глядя в заснеженное стекло.
Метель не редела. В щели кабины все ощутимей проникал морозный воздух, он то сочился, как бы дышал в лицо, то бил струями.
Километров через пятнадцать, когда до стана осталось уже совсем немного, трактор нырнул в небольшой лог и окунулся в снег почти до самой трубы.
«Врюхался, как поросенок!»
Ходу вперед не было. Сергей подал назад, медленно выполз обратно наверх. Колеи не осталось. Сухой невесомый снег не уминался, а только пересыпался под гусеницами, как песок.
Сергей снова спустился, вовремя переключив скорость, продвинулся по низине чуть дальше прежнего и опять вылез обратно. Так он несколько раз то спускался, то поднимался, тараня снег терпеливо, спокойно, думая не только о том, чтобы проложить дорогу, но и о том, чтобы не опрокинуть прицеп с продуктами.
Тихий лог метель замела доверху. Снег шуршал по ветровому стеклу, полз на крышу кабины, накрывая с головой, будто трактор не стремился вылезть на поверхность, а наоборот, лез под землю.
Медленно раздвигая снег, неся белую гору на капоте и крыше, оглушительно тарахтя, трактор выполз, наконец, из лога, и Сергей с облегчением выругался. Что ни говори, а он верил в свою везучую шоферскую звезду. Нет на земле препятствия и не будет, перед которым бы отступил, спасовал Сергей Хлынов!
Трактор сбавил обороты, желая отдохнуть после долгих усилий. Сергей вытер вспотевший лоб. Спеть бы сейчас, сплясать! Достал бутылку, сделал три глотка, вытер губы и запел, забормотал под рокот двигателя: «Ой ты, зима морозная, Ноченька яснозвездная! Скоро ли я увижу свою любимую в степном краю?..»
Оглянулся — и крякнул от злой досады: прицепа не было! Пока елозил по снегу, выбирался из лога, серьга перетерла надломленную шейку болта, державшего прицеп шкворня, и он выпал. Сергей еще там, когда собирались, подумал, что шкворень дерьмовый, но другого под рукой не оказалось. Да и собирались они вдвоем с Курманом, вдвоем им и чёрт не брат. Когда собираешься один в дорогу, то и сам не замечаешь, как проявляешь больше предусмотрительности, опаски.
Пришлось спускаться в лог снова, не ехать же пустым на стан. «Здрасьте, вам привет из Камышного!..»
В логу едва заметно виднелись очертания прицепа, нагруженного, как теперь казалось, одним снегом... Требовалось снова спустить трактор точно на нужное расстояние и подсоединить прицеп. И сделать всё одному, без помощника.
«Фигаро здесь, Фигаро там»,— попытался развеселить себя Сергей и начал медленно спускать трактор в лог. Прикинув на глаз расстояние до прицепа, он выключил скорость, оставив двигатель в работе, взял взамен шкворня гаечный ключ, кусок проволоки и выпрыгнул из кабины. Снегу по пояс. Сергей нашарил дугу прицепа и поднял ее, машинально, по привычке дернув,— прицеп ни с места. До трактора не хватало еще с полметра. Нужно снова лезть в кабину и осторожно сдавать поближе. Тут он заметил, что трактор, вздрагивая, как будто пульсируя всем корпусом от оборотов мотора, понемногу и довольно нацеленно сползает вниз, приближается сам, уклон ему помогает. Сергей поднял дугу на колено, приготовился.
Трактор надвигался, серьга его все ближе и ближе, двойная, как раскрытая пасть, черная, с истертыми до блеска кружками.
«Серьга против Сергея, давай-давай, кто кого?!.»
Он пригнулся, поднял ключ, как кинжал, чтобы успеть воткнуть его вовремя. Серьга, однако, шла не прямо, а чуть вбок, совсем чуть-чуть мимо. Сергей напрягся, изо всех сил дернул дугу прицепа в сторону, чтобы совместить отверстия, подправил кольцо рукой и — все тело вдруг обожгло, он зарычал от боли, рванулся, извиваясь, взметывая снег, ему с хрустом ущемило, невообразимо впаяло кисть между прицепом и тяжело насевшим трактором.
«Всё, конец, кранты!..» От страха отупела боль, он перестал дергаться, стараясь собраться с мыслями. «Нож,— спокойно решил Сергей.— Нужен нож!» Вдруг всплыло детство, деревня, охота с отцом и волчья лапа, оставленная в капкане.
Он сунул руку в карман брюк — здесь ли? Нащупал холодную рукоятку и перевел дыхание — вот оно, спасение! Осторожно вытащил нож, боясь уронить его, разжал зубами лезвие и, стиснув челюсти, полоснул по запястью. Первый удар, пока не больно, он нанес изо всех сил. И боли не почувствовал, ее перебивала другая боль. И опять — деревня, лошадь, ей прижигают сбитую холку, а чтобы не было больно, тонким концом кнута лошади стянули губу.
Брызнула струя крови и сразу же застыла на снегу, как глина.
«Быстрее! Отдам концы, к чёрту, от потери крови».
Он сорвал ремень с брюк, накинул его на руку выше локтя, просунул конец через пряжку и туго-натуго затянул. Кровь приостановилась. В голове стало удивительно ясно. Свободная, здоровая, сильная правая рука крепко держала нож, которым предстояло отбиваться от смерти.
Кусая губы, Сергей начал резкими тычками кромсать запястье. Мотор работал, трактор дрожал мерной живой дрожью, будто злорадно ждал, чем все это кончится. Казалось, во всем мире теперь затаились люди, выжидая, чем кончится борьба Сергея с трактором, один на один.
Сквозь смерзшиеся прищуренные веки он видел, как взмахивает черный нож, но удара не видел, в глазах спасительно темнело от кровавых кругов. Он сжимал челюсти до ломоты, больше всего страшась потерять сознание. Действовать без передышки, рубить и кромсать, быстрее! Иначе можно изойти кровью. Он начал орать, по-звериному рычать, поддерживая в себе остатки решимости.
Одна рука терпела удары, другая их наносила. В сознании Сергея они действовали, как два разных существа. Они терзали друг друга, стремясь к одному — спасти третьего.
...Третьего спасти, третьего лишнего. На чью-то беду. Но кто третий-то, кто лишний? Он? Грачев? Или, может быть, Ирина, увитая метелью, белая, склонилась над ним, как змея над чашей.
«Умереть здесь, скрючиться, подохнуть?! Не-ет!»
Последним усилием Сергей всадил нож, резанул плотные, как проволока, сухожилия, потянулся всем телом назад, полоснул еще раз и с размаху сел в снег.
— Не-ет, я тебе не щенок, не-ет!— почти в беспамятстве, рыдающим голосом продолжал выговаривать он. Поднялся на четвереньки, вставил в серьгу ключ и закрепил проволокой. Он старался не смотреть на серьгу, но все же видел странно маленький темный остаток чужой, уж мертвой чьей-то кисти.
Все еще боясь выронить спасительный нож, Сергей поднялся на гусеницу и влез в кабину. Мотор рокотал без перебоев; сердце Сергея стучало в голове, ослепительные круги плыли из глаз в стороны, распирая виски.
«Только бы не слететь с копыт!» Теперь стало чудиться, что еще не все, что главная опасность, какая-нибудь страшная случайность ждет его впереди, надо быть осмотрительней.
Сергей закрыл глаза, отдыхая, и сам не знал, сколько времени просидел в забытьи, мгновение или час. Очнулся от нестерпимой боли, окровавленная рука уткнулась в сиденье. Сергей стянул шарф, обмотал им культю и повел трактор дальше, снова вперед — не было другого выбора, кроме как поскорее добраться к людям. Он часто оглядывался. Сзади, виновато встряхиваясь, легко тащился прицеп с продуктами.
В полдень за Женей прибежала санитарка — привезли Хлынова. При смерти. Женя не знала, что и подумать— то ли драка, то ли авария, то ли Сергей сам с собой что-нибудь, не дай Бог,— опрометью побежала в больницу.
В ординаторской сидели Грачев, зачем-то пришедший Николаев, Ирина и Курман, небритый, с осунувшимся лицом больного. Женя едва успела поздороваться, как хирург спросил строже, чем всегда:
— У нас все готово для операции?,
— Как всегда.
Он знал, у Жени всегда все готово, но спросил, видимо, для других.
Женю здесь ждали, сам Грачев ждал свою верную помощницу, и Женя не могла не отметить этого. Но что с Хлыновым?
Приободренная присутствием Николаева и гордая тайным своим союзом против Ирины, Женя с суровым видом села за общий стол. Сейчас она поняла, Николаев пришел сюда неспроста. Видимо, решил, что бывшим мужу и жене нелегко будет решить одним судьбу Хлынова. И Курман, друг Сергея, тоже сидит здесь не просто так, что-то случилось. Женя мельком успела подумать, – все пятеро за столом крепко связаны невидимой нитью друг с другом. Сложный узелок, ничего не скажешь.
Здесь уже о чем-то говорили до прихода Жени. Грачев подчеркнуто спокойно, неподвижно держал локти на столе. Николаев сидел нахохлившись, хмурый Курман вертел в руках шапку.
Ирина, болезненно-бледная, с тонко подкрашенными губами (битый час, наверное, маячила перед зеркалом), сидела напротив хирурга и, не отрываясь, смотрела в окно, в сторону. Похоже, какая-то мысль не давала ей покоя, но она ее не могла высказать. Возможно, она не верила, что Леонид Петрович найдет в себе силы помочь Хлынову, помочь, как надо, но не решалась просить Николаева вызвать другого хирурга.
— Какая все-таки сила должна быть у человека, чтобы резать самого себя,— нарушил молчание Николаев.
Вот уж чего не ожидала Женя от Хлынова — резать самого себя. Как это пошло. И возмутительно! Пьяный он был, что ли?!
— В средние века ампутировали конечности без всякого наркоза,— словно пытаясь урезонить восторг секретаря райкома, отозвался Грачев, и Жене стало неловко от его бестактности.
Но что все-таки произошло?
— Повторяю, у больного началась гангрена,— продолжал суховато Леонид Петрович.— Надо ампутировать левую руку до средней трети плеча.
— Но он же калекой будет!— воскликнул Курман.— И так уже руки нет.
— Речь идет о жизни, а не о том, калекой он будет или нет, — ответил хирург.— Кроме того, без возмещения потерянной крови пострадавший может умереть на столе. Консервированной крови у нас нет, но персонал нашей больницы—доноры. Надеюсь, они и сегодня выручат жертву несчастного случая.
Для Жени хоть что-то прояснилось,— оказывается, несчастный случай.
— Больной в тяжелом состоянии,— неожиданно заговорила Ирина Михайловна, словно только сейчас пришла в себя и ничего еще не слышала. Вызывающе глядя на Николаева, она продолжила:— Жизнь больного в опасности, и нам не избежать кривотолков, если мы его не спасем.
«Какое самообладание!»— подумала Женя.
— Я как постоянный донор готова поделиться кровью с каждым больным.
«Ну зачем это подчеркивать!— возмутилась Женя.— И так всё ясно. Только терзает Леонида Петровича перед операцией»
— Но, к сожалению, у нас с больным несовместимые группы крови.
Ирина поднялась и, широко, некрасиво шагая, вышла из ординаторской.
«Куда она пошла? Зачем? Откуда ей известна группа крови Хлынова? Неужели она еще что-то задумала? — встревожилась Женя.— Какая ужасная отговорка — несовместимые группы!»
— У одной кровь не подходит, а другой торопится поскорее руку отрезать,— мрачно проговорил Курман.
— Зря вы так,— отозвался Николаев.
— Вот вам и кривотолки,— беспомощно сказала Женя.— Леонид Петрович, может быть, другого хирурга вызвать?
— Да, лучше другого,— поддержал Курман.— Вам тоже будет спокойнее.
— Я уже пытался, сообщил в область. Но хирурга не будет. Самолетам не дают погоду. К тому же там понимают, операция не сложная, а всех наших сложностей...— Хирург помолчал, едва заметно смешавшись, откашлялся и твердо закончил:— Всех наших сложностей им не передашь.
— Леонид Петрович, я сказала о другом хирурге, чтобы успокоить вот этого товарища! Не подумайте...
— Дело в том, Женя, что каждая минута промедления...— начал хирург, но Курман перебил его тоскливым голосом:
— Ну, зачем обязательно руку отнимать?!
— Обязательно. Иначе он умрет через три дня.
— Нет, не умрет. Не может этого быть,— упорствовал Курман.— Раз и руку в таз — это легко. У меня отец на фронте точно вот в такую картину попал. Ногу под танк засунул и отморозил, вернее, под танк попал... Резать надо, говорят врачи. А отец против. Другого хирурга вызвали, он запретил отнимать. Теперь отец жив-здоров, не калека совсем. Видите, как может быть? А тогда была война, некогда было рассуждать. Сейчас мирное время, целина... Нет! Я, как его друг, как его, можно сказать, брат,— против! Самолеты не ходят, трактор пройдет, лошадь пройдет, я сам поеду! Давайте трактор!— он повернулся к Николаеву, глаза его загорелись новой надеждой.
— А сам Хлынов согласен на операцию?— спросил Николаев.
Грачев ответил, Хлынов в тяжелом состоянии, почти без сознания.
Курман лихорадочно привстал, полный решимости.
— Я знаю, в медицине есть закон!— горячо заговорил он.— Без разрешения родственников операцию не делать.— Он рывком стянул с себя телогрейку, шагнул к вешалке, но, увидев там белые халаты, вернулся, бросил телогрейку на табуретку, сверху шапку и сел на нее.— Так я говорю, правильно? Не разрешаю, как родственник.
«Какой ты родственник?!» — в сердцах хотелось воскликнуть Жене, но она сдержалась. Может быть, у Хлынова никого нет, ни отца, ни матери, она же не знает, и этот парень ему как брат.
Но ведь и она не чужая для Сергея, не посторонняя.
— Повторяю, Хлынов погибнет, если мы не сделаем ампутацию гангренозной руки,— сдерживаясь, проговорил хирург.— Повторяю, самолеты не ходят. Хирурга из Кустаная мы дождемся при хорошей погоде. Он успеет к похоронам. Я понимаю, больной может не согласиться на операцию,— это его право. Он может даже расписку дать, что отказывается от ампутации. Расписку мы подошьем к истории болезни для оправдания. А что мы подошьем к своей совести через три дня? В конечном итоге, все друзья и родственники окажутся в стороне, и только мы...— Леонид Петрович кивнул на Женю,— в бороне. Буду ампутировать без вашего согласия.
— А я выйду за порог и крикну ребятам: Сергея Хлынова тут прикончить хотят!— Курман побледнел еще больше.— Так они вашу больницу по бревнышку растащат.
— Как ты смеешь!— вспылила Женя.
— Не все же такие родственники,— холодно вставил Николаев.— Безответственные.
— Я помню своего отца!— вскричал Курман.
— С вашим отцом случай исключительный. Один из ста. Но ведь другие раненые именно врачами спасены, согласитесь,— убеждал Николаев.
— Тут такой узелок...— попытался оправдаться Курман.— Их трое, понимаете?
— Да, нас трое,— согласился Леонид Петрович.— Об этом я и скажу сейчас Хлынову. Нас трое: ты, я и смерть. Исход будет зависеть от твоего выбора, на чью сторону ты станешь, Сергей Хлынов?
Курман опустил голову, еще больше насупился.
— Время идет,— проговорил Леонид Петрович.— Вы согласны, Курман Ахметов?
Курман посидел, посидел без движения, затем молча приподнялся, достал из-под себя шапку, расправил ее и положил на стол.
— Вот!
— Что это значит?
— Говорите с ней,— Курман показал на шапку.— Ответит — режьте.
–– Шапка существует только для головы,— терпеливо заговорил Николаев.— Но голова существует не только для шапки. Если вы так настаиваете, Ахметов, что ж, поговорим с шапкой. Ты хочешь, чтобы тебя снимали перед гробом друга? Ты хочешь, чтобы весь Камышный и «Изобильный» шли в процессии за машиной, на которой будет лежать Хлынов ногами вперед?
— Я и так уже виноват перед ним!—вскричал Курман.— У меня живот скрутило, он меня пожалел, один поехал. Лучше меня режьте! Сергей, он такой... за любого жизнь отдаст.
— Другие тоже способны на жертвы, Курман, дорогой,— с мягкой укоризной заговорила Женя.— Зря ты в чем-то подозреваешь хирурга, не доверяешь нам. Ты ведь сам знаешь, как два года назад Леонид Петрович спасал твою жену и твоих детей. Он послал к тебе самого дорогого для себя человека. В метель с Хлыновым, ты же знаешь об этом, Курман.
— Я понимаю... Я все понимаю,— с горечью, едва слышно проговорил Курман.— Но я не могу... Что он мне потом скажет!
— Мы ему скажем, Ахметов, что вы настоящий друг!—твердо сказал Николаев.— И он вам скажет спасибо. Идемте.— Николаев взял его за руку, но Курман вырвал руку, закрыл лицо и заплакал.
— У меня отец с фронта... без ноги пришел! Я ему десять лет... каждое утро костыли подавал! «Балам, аса таякты акель».—«Подай костыли, сынок». А кто Сергею поможет? Ни жены, ни детей... Я понимаю, я все понимаю... Я вам верю, но лучше бы мне умереть.
Курман стянул со стола шапку, начал вытирать ею слезы.
— Вы не верите в своего друга, Ахметов. Да он с одной рукой сделает в тысячу раз больше, чем другие с двумя. Он — герой. И он должен жить, должен!
Николаев подошел к вешалке, снял халат и набросил его Курману на плечи.
Женя смотрела на Николаева и думала, что и он тоже был бы хорошим хирургом и как хорошо, спокойно с ним бы вместе работалось и жилось...
Грачев молчал. Жене показалось, он ждал такого момента, чтобы все поняли, увидели, насколько он великодушен, принципиален, спокоен и уверен в благополучном исходе дела. Он мог не настаивать на операции в таком положении, и через три-четыре дня уже ничто бы не спасло Сергея.
Хлынова Женя увидела в операционной. Лежа на каталке, он повернул голову в ее сторону, заросший, пугающе на себя непохожий, и улыбнулся ей бледно-серыми губами.
— Здравствуй, Женечка...— с натугой просипел он.
По глазам его Женя поняла, Сергею легко и спокойно на душе, только трудно сейчас сказать, отчего это. Наверное, оттого, что он выполнил свой долг, он довез продукты до бригадного стана, и все теперь об этом узнали. И еще оттого, что остался жив, а всё остальное — мелочи... Он видел, слышал друзей и знакомых и знал, они его не покинут.
У Жени слегка кружилась голова, перед самым началом операции у нее взяли 300 граммов крови. У стола ее не покидала встревоженность – не какой-то просто больной, никому неведомый, а Хлынов, соперник хирурга, лежал под его ножом!
Женя отметила, сегодня Леонид Петрович еще более собран, чем обычно на операции. И обезболивающего новокаина он тратит сегодня больше. А Хлынов не проронил ни звука, хотя и измотан. Они как будто состязались во внимании друг к другу.
В операционную зашла Ирина Михайловна, остановилась в трех шагах от стола. Женя сжалась, неприязненно на нее уставилась. Зачем она пришла в такой момент? Чего ей здесь надо?
— Операция идет нормально?— спросила Ирина.
Ей никто не ответил, Женя только кивнула, продолжая сверлить Ирину глазами из-под маски. Ей показалось, Сергей вздрогнул, напрягся весь.
Если она подойдет к Сергею, помешает хирургу. Если подойдет к хирургу, ухудшит состояние Хлынова. Экая мешанина, сумятица, чертовщина!..
— Моя помощь не требуется?
Грачев медлил с ответом. Ирина пошла к двери.
— Одну минуту,— остановил ее Грачев.— Напоминаю, кровь первой группы является универсальной. Ее можно вливать больным с любой другой группой, несовместимости не будет. Нужно еще триста граммов. Это наша просьба.
Значит, Ирина умышленно отказалась дать свою кровь, а Леонид Петрович напомнил ей...
— Мне ваша просьба понятна,— ответила Ирина и закрыла дверь.
Сергей все слышал и не проронил ни звука. Да и о чем ему говорить сейчас?
«Не надо злиться,— успокаивала себя Женя.— Ей ведь тоже тяжело одной, сидеть где-то, терзаться, ничего не знать, не слышать...»
Леонид Петрович рассек мышцы, раздвинул их и обнажил кость. Замелькали тампоны и кровоостанавливающие зажимы, пеаны и кохеры. Когда xupjpr поднял сверкающее зубастое лезвие и начал пилить желтую крупную кость, Женя покачнулась и ухватилась за столик с инструментами. Очнулась она от обжигающей рези в ноздрях — Галя догадалась вовремя поднести ватку с нашатырным спиртом...
— Всё, доктор?— просипел Хлынов.
— Всё, Хлынов.
— Спасибо!— и чтобы не заподозрили его в неискренности, Сергей добавил:— Я от души говорю, честно.
Принесли ампулу с кровью...
«За всеми не уследишь...» Не по душе Николаеву этот расхожий довод, но влез он сегодня в сознание, как мозоль. Значит, возникла потребность оправдаться, так надо понимать. Если разобраться, за всеми уследят только все. Важно, чтобы у всех было желание уделить внимание другому, проявить заботу, а если надо, то и контроль. Не уследишь — не поможешь. До сих пор он не ответил на письмо Сони Соколовой... Но помнил и думал о ее судьбе. То ему казалось, Соня спохватилась и уже жалеет о своей опрометчивой искренности, так что не стоит ей теперь напоминать лишний раз. То вдруг появлялось острое чувство обязанности — отозваться, зайти, поговорить — рядом же: «От угла моей комнаты вы делаете тридцать два шага, если в хорошем настроении...»
Однако с чем он пойдет к ней, что скажет? Что-нибудь вроде: не могу, к сожалению, ответить на ваше чувство таким же пристальным... еще каким?., интимным, что ли, вниманием к вам. Зайдет и просто скажет, письмо ее прочитал, обдумал и пришел сказать спасибо за искренность, за доверие, за прямоту, но... сердцу не прикажешь. Причина достаточно уважительная, веская и выражена в ее стиле, приподнято-романтическом.
Он прошагал по скрипучему снегу до ее порога, потянул на себя дверь. В лицо дохнуло теплым паром, будто он в баню попал или в прачечную. От яркого света Николаев прищурился.
— Добрый вечер!— громко, весело сказал он и услышал несколько растерянный и удивленный ответ:
— Добрый вечер...
Незнакомая молодая женщина в байковом халате с кастрюлей в руках стояла возле цинковой ванны. А рядом с ней широкоплечий парень в ковбойке держал голого малыша.
— Извините,— пробормотал Николаев,—А вы... давно здесь живете?.
— Не-ет, третий день всего,— с легкой тревогой ответила женщина.— А что?
— Да ничего, соседями будем,— непринужденно сказал Николаев.
— Проходите, садитесь,— молодая женщина поставила кастрюлю прямо на пол, вытерла руки о халат, намереваясь, видимо, отложить купание и накрывать стол.
— Нет, нет, не беспокойтесь,— придержал ее Николаев.— Я зашел на минутку.
Молодая хозяйка все-таки решила объяснить, почему ей нежданно-негаданно повезло с жильем.
— Это нам Соня Соколова уступила свою квартиру. Захожу я как-то в магазин к ней с ребеночком на руках, а она меня спрашивает: «Сынок?», Да, говорю, сынок, за манкой пришли. «А где живешь?» В общежитии, говорю. «И муж есть?» Конечно, говорю, а как же иначе. «Хочешь квартиру получить?» Конечно, а кто не хочет. Я даже не поверила. Но она так шустро все оформила!—Женщина спохватилась, уточнила:—Но все честь честью, по закону.
— Что ж, это хорошо... Поздравляю с новосельем,— сказал Николаев.
— А Соня в Россию уехала. Дня три назад. Расстроенная была, печальная...— Молодая женщина изобразила на лице сочувствие. – И адреса не оставила. А мы ей уж так благодарны, так благодарны!
– Пожелаем ей успеха, она хороший человек, – сказал Николаев. – Поздравляю вас с новосельем и желаю всей семье счастья.
Он ушел, осуждая себя. Сомневался, колебался, все чего-то боялся. Как это все ничтожно по сравнению с ее прямотой и решительностью! Хотя с другой стороны, выдержка его помогла обоим.
Но что странно — теперь ему показалось, Соня Соколова увезла с собой какую-то важную частицу его душевной жизни.
Как там дела у Грачева? Надо бы позвонить.
«Разрывом устраняется обман»,— сказал ему как-то Леонид Петрович (а Николаев тогда грешным делом подумал, а каким разрывом устраняется обман Ткача?..)
Обман устраняется, допустим... А любовь?
Грачеву не спалось. Он сидел в одиночестве на кухне в доме медиков и курил. Бросив окурок в таз возле плиты, он вставал, делал три шага к окну, затем поворачивал к двери, затем снова к окну и машинально брал следующую папиросу. Выбив мундштук о коробку, чиркал спичкой и после первой затяжки сознавал: кажется, опять закурил. И заглядывал в коробку, считал, сколько еще осталось, хватит ли до утра?
Трудно сказать, что его сейчас тревожило. В общем, конечно, больница, в общем и целом, а если сказать конкретней...
Нет, конкретней лучше не говорить.
Беспокоил, разумеется, послеоперационный больной. Не поднялась ли температура, как поведет себя шов... Он потерял много крови. Может быть, ввести физраствор подкожно?..
Грачев оделся, вышел на улицу. Перед самой больницей остановился: а вдруг Ирина в палате, возле Хлынова? Какова будет картина, брошенный муж явился подсматривать?..
Женское сердце жалостливо, Ирина может зайти в палату к послеоперационному, приободрить, утешить, ничего в том нет предосудительного. «Совсем нет, прямо-таки ничегошеньки нет предосудительного»,— подумал он язвительно.
Почему врач, настоящий врач, исцелитель, каковым он себя считает, не может попросить женщину утешить больного после операции?
Может, но почему-то не попросил.
Ах, эта женщина — его бывшая жена, и в нем заговорил инстинкт собственника. Вон каков ты, оказывается, настоящий врач, исцелитель. Да еще подглядывать пришел, сторожить!..
Грачев повернул обратно. Прошел шагов пятьдесят, остановился.
— Черт знает что такое!— проговорил он вслух.— Куда все подевалось — уверенность, спокойствие, хладнокровие? Для чего горожу-нагораживаю? Весь вечер раздуваю в себе идиотские подозрения. Зайду, узнаю, как его самочувствие, и пойду домой, спать.
Он всегда так делал, после любой операции. Нет причины нарушать традиции. Грачев пошел к больнице снова, издали нацелившись взглядом на окно изолятора. Оно светилось розовым светом и наполовину было задернуто марлевой занавеской. Он смотрел неотрывно, ждал, что там вот-вот промелькнет ее тень. Не дождался...
У входа он снова остановился в нерешительности. Что делать, если Хлынова не окажется в палате, если он... в изоляторе?
А ничего не делать. Попросить сестру, чтобы она нашла больного и уложила его в постель. И не просто сестру, а Женю, которая все знает.
Бог ты мой, а кто тут всего не знает!..
Никого он просить не будет, а зайдет сам в палату, как делал это всегда, и если убедится, что больного нет на месте, обратится за помощью к сестре. И даже не за помощью, а просто напомнит ей о больничном режиме.
Она приведет больного, водворит его, так сказать, на место, и Грачев спокойно — спокойненько!— скажет, что во избежание осложнений сейчас ему необходим максимальный покой, постельный строгий режим. А блага жизни он может наверстать потом. И отсутствие руки в данном случае не помешает.
«Все-таки ты сволочь, Грачев»,— сказал он себе.
В ординаторской он снял пальто, повесил его на вешалку, взял халат и решительными рывками натянул его.
Тишина в больнице, покой...
Он вошел в темную палату, оставив дверь приоткрытой, чтобы проходил сюда свет из коридора. Хлынов спал, дышал тяжело, хрипло, как сильно уставший за день человек. Толсто забинтованная культя покоилась на белой широкой лангете.
Грачев тихо вышел, тихо прикрыл за собой дверь. Постоял в коридоре, прислушался неизвестно к чему, может быть, к самому себе. В дальнем углу едва заметно голубела дверь изолятора...
В процедурной, склонившись на столик, дремала Женя, похожая на белую птицу, спрятавшую голову под крыло. На звук двери она подняла сонное личико, с усилием открыла глаза.
— Ах, это вы! А я тут сплю...
Нечего ей пугаться и оправдываться не надо, измоталась за день, устала.
— Все в порядке, Женя? Как послеоперационный?
— Спит. Пусть поспит, двое суток подряд мучился,— она пожалела Хлынова, как всякого другого больного, не подозревая о состоянии Грачева.— А вы отдыхайте, Леонид Петрович. Я на страже.— Женя сонно улыбнулась.— Я всегда чувствую, когда все в порядке, а когда что-нибудь случится.
«Милое дитя»,— подумал Грачев и попросил:
— Пошлете за мной, Женя, если что... Кровотечение вдруг и так далее.
Она пошлет за ним, все это само собой разумелось, можно было и не говорить, но он сказал эту пустую просьбу и тем самым отрезал себе путь в больницу, чувствуя в то же время, что не сразу отсюда уйдет, а если и уйдет все-таки, то вернется. В эту же ночь...
И все-таки он погнал себя домой и не оглядывался больше на окно изолятора.
Снова сидел на кухне, курил, не в силах избавиться от тревожного ожидания неизвестно чего.
Если бы он не застал Хлынова в палате, или застал бы его не одного, возможно, стало бы спокойнее.
Тогда бы не пришлось Грачеву отвечать самому себе на вопросы. А их немало. Почему она поселилась в больнице, а не ушла к Хлынову сразу? Почему так жестоко отказалась дать кровь сначала? Если, допустим, она знала, что крови других доноров вполне достаточно для операции, то к чему было заводить этот скользкий, мягко говоря, разговор? Возможно, не хотела тревожить хирурга, зная, что его волнение может отрицательно сказаться на операции.
«Но за кого же она меня принимает, в таком случае? И не слишком ли она самонадеянна, если считает, что у меня от ее того или иного поступка задрожат руки, и я не смогу перевязать сосуд?..»
Угасало пламя в печи, вот оно, собрав последние силы, накалилось еще, покраснело и стало долизывать сереющие шлаковые угли. Слышней стал прерывистый вой в трубе, ощутимее одиночество.
Сашка спит, Женя на дежурстве, в доме пусто...
В сущности, она сегодня отреклась от Хлынова. Во всяком случае, попыталась. Подлая попытка, если посмотреть со стороны. Но она бросила Грачеву свое отречение, как бросают шканцы на пристани — придержи меня, удержи, иначе унесет.
Может быть, еще не все забыто, не все поругано и растоптано и именно сегодня, сейчас наступил, как говорят, решающий момент?
Грачев вылил остатки холодного чая в стакан, приподнял его, пригляделся: в жидком настое мелкой мошкой забегали чаинки, слепо преследуя друг друга, сталкиваясь и снова расходясь и сталкиваясь, пока по одной медленно не опустились на дно...
Так тоскливо может выть труба только в его доме, больше нигде во вселенной. Он постоял в бездумье, в трансе, прислушиваясь к этому вою, наполняясь им до краев, затем накинул полушубок и вышел на улицу.
Было четыре часа, уже утро нового дня. Темные дома посветлели, поседели от инея и казались вымершими. На столбе возле райкома светилась лампочка. Она раскачивалась, и метель курилась в ее свете и тоже раскачивалась белым дымом.
Грачев одиноко постоял, глядя на больничные окна. Ярко светилась только процедурная.
Но светилось еще и окно изолятора. «А она-то почему не спит?»
Спотыкаясь о сугробы, Грачев обошел больницу кругом.
«Зачем брожу, чего жду?..» И продолжал идти в предчувствии какой-то решимости. «Не уйду, пока не дождусь».
Он брел и брел, увидел цепь размазанных следов перед собой и не сразу сообразил, что это он волочил валенки вокруг больницы. Теперь он пойдет ближе, сделает меньший круг, как бы сжимая ее в кольцо.
Остановился напротив узкого оконца. Он не хотел подсматривать, совсем не думал об этом, просто хотя бы постоять рядом неизвестно сколько, просто так, безмолвным истуканом.
Легкий снег бесшумно покрывал валенки все выше и выше. Грачев поднял взгляд на хилый переплет оконца и прямо против себя увидел ее бледное немое лицо в искристом кружеве морозных узоров.
После ухода Леонида Петровича Жене уже было не до сна, ее охватила тревога. Хирург всегда заходил сюда после операции, но сегодня он был какой-то отрешенный, сам не свой. Похоже, он на что-то решился.
Женя взяла журнал для заказов в аптеку на завтра и села выписывать рецепты. «Наверное, он решил поговорить с Ириной, но ему трудно, мешает гордость». Женя не могла сосредоточиться, забыла, в какой дозировке у них аспирин в аптеке, по ноль-три или по ноль-пять.
«Уточню утром у аптекарши и проставлю дозу...»
Леонид Петрович не может заговорить с Ириной, но почему бы Жене самой не заговорить с ней? Ей же не трудно, и гордость ей не мешает. Как только Ирина встанет, Женя поговорит с ней начистоту, хватит играть в молчанку, к добру все это не приведет.
«А может быть, она и сейчас не спит?» Захватив на всякий случай рецептурный журнал и авторучку, Женя пошла в дальний конец коридора. Дверь изолятора была слегка приоткрыта, светилась щелка. «Для кого?— подумала Женя.— Да ни для кого!— тут же решила она.— Для меня!» Она тихонько постучала, легонько толкнула дверь.
— Извините, Ирина Михайловна, вы не спите?
Ирина гладила на тумбочке платье, ответила холодно:
— Как видишь.
«Где она утюг взяла? С собой принесла?»
— Сколько вам надо физиологического? На завтра?— Женя выставила вперед рецептурный журнал, как свидетельство ее делового визита.
— Пока хватит. Спасибо за внимание.
— Не стоит, Ирина Михайловна. Просто аптекарша попросила меня сдавать рецепты как можно раньше,— скромно, вежливо проговорила Женя, как будто между ними никакой черной кошки не пробегало.
Наступило молчание. Ирина не спеша, старательно утюжила свое платье.
Нет, просто так Женя отсюда не уйдет.
— Ваше любимое?— спросила она, кивая на платье.
— Да... Уже с дырками... – И снова молчание.
— Ирина Михайловна, вы меня извините, но... как вы будете жить дальше?
— Ты хочешь сказать, где?
— Нет... С кем?
Ирина отставила утюг, аккуратно развесила платье на спинке койки, и хотя оно сразу легло гладко, она долго, тщательно его расправляла.
— А если — ни с кем?— сказала она, наконец.— Одна? Ты пришла мне помочь сделать выбор?
— В общем — да,— отважилась Женя.
— Тебя кто-то послал, попросил?
— Нет, я сама,— Женя подумала и вздохнула.— И сама, и не сама. Кто-то все время посылает меня, толкает, Ирина Михайловна, честное слово, поверьте мне. Я больше не могу в стороне оставаться. Это ведь и моя беда, наша беда. Сергей под трактор, а там Леонид Петрович, Сашка...
— Ох, Женечка!..— вырвалось у Ирины со стоном.— Но что мне делать, что-о?
— Главное, он вас любит. ...
— Кто?
— «Кто-о»,— повторила Женя с укоризной.— У него такая тоска в глазах, такая боль, я просто не выдерживаю. «Не надо, говорю, дорогой, родной Леонид Петрович!»
— А он?
— А что он?... Только погладит меня по голове, неощутимо так, просто мимо рукой проведет и — шепотом: «Спасибо». А мне чудится «спаси-ите». Я уже больше не могу, Ирина Михайловна, у меня сердце разрывается. А вы... а вам все равно.
Ирина покачала головой.
— Может быть, это жестоко, Женя, даже бесчеловечно, но... я рада, что так все произошло. Я знаю, ты меня осудишь, да и все осудят, но я поняла на свои веки вечные, что люблю только его, Леню, и никого в жизни не любила и больше не полюблю!..— Ирина с тревогой оглянулась на окно.— Ты слышишь?
— Что-о?
— Под окном.
Женя прислушалась, поддаваясь тревоге, но ничего не расслышала.
— Это вам показалось, Ирина Михайловна.
— Нет, кто-то ходит... Вокруг больницы, под моим окном. Снег за стеной хруп-хруп... Женечка, дорогая, родная, я, наверное, с ума сойду, что мне делать?!— вскричала Ирина.
Женя бросилась к ней, взяла ее за плечи, пытаясь ее защитить от неведомого отчаяния и сама пугаясь его.
— Я знаю — что, Ирина Михайловна, знаю! Только вы послушайте моего совета, очень прошу, хотя бы один раз в жизни послушайтесь, исполните мою просьбу!
— Ох, Женечка, слушаю, слушаю, никого у меня больше не осталось, кроме тебя...— Ирина готова была разрыдаться, совсем потеряла самообладание. Видно, нелегко дались ей эти дни, житье в изоляторе.
— Сейчас вы пойдете домой,— Женя гладила ее плечи обеими руками, словно стараясь этим жестом подкрепить свои слова.— И станете перед ним вот так.— Женя опустилась перед Ириной на одно колено, умоляюще глядя на нее снизу вверх.— Или даже вот так!— Она опустилась на оба колена.— И скажете ему всего два слова: «Прости меня».
Ирина отстранилась, видно было, она не сможет этого сделать.
— Но вы ничего не успеете сказать, Ирина Михайловна! Вы не успеете даже на одно колено опуститься, как он вас сразу подхватит, сразу поднимет, Ирина Михайловна, родная, ведь вы же его знаете, разве он позволит? Поднимет вас, обнимет — и всё. Вы мне верите?
— Ох, не знаю, Женечка, не знаю...
— Идите, умоляю вас, идите!— Женя шагнула к вешалке, сняла пальто Ирины, хотела одеть ее, как маленькую, но Ирина слабым жестом остановила ее.
— Не могу. Ноги не идут...— она подошла к окну, приникла лицом к стеклу, тихо ахнула:— Леня!..
И сорвалась, побежала на улицу, как сумасшедшая, без пальто, без платка, в одной кофте.
Женя опустилась на койку, положила пальто на колени. «Как я устала, боже мой». И заплакала.
Сергей проснулся под утро и не сразу понял, где находится. Заныла рука, и он сразу вспомнил трактор и лог, белую дорогу, долгую и мучительную, больницу и общее смятение, бледного, небывало растерянного Курмана. Прежде всего, как бы первым слоем сознания, он почувствовал свою вину перед всеми, смутную — огорчил, заставил переживать, тревожиться. Потом подумал о себе, повернул голову, посмотрел на култышку, толсто укутанную бинтами, и представил, как теперь будет надевать рубашку и заправлять пустой рукав за ремень. Во время войны, звеня медалями, ходил у них по деревне однорукий председатель колхоза, просунув плоский рукав под широкий солдатский ремень. Он был громкоголосый, властный, и мальчишки подражали ему — прятали голую руку под рубашку, пустой рукав втягивали под ремешок и свободной рукой хватались за деревянную саблю...
Заходил кто-нибудь в палату?.. Кто-нибудь, конечно, заходил.
А она? На тумбочке рядом горой лежали передачи. Сергей начал по одному складывать себе на грудь большие и малые свертки и разворачивать их, пытаясь угадать, который же от Ирины. Может быть, там и записка. Свертки пахли бензином, соляркой, повсеместным запахом целины, совсем незаметным на работе и таким острым здесь, в больничной палате. И вот последний сверток, в самом низу (значит, принесен раньше всех), самый большой, в хрустящей бумаге, перекрещенный бинтом... Сергей поднес его к лицу и, не развертывая, только коснувшись обертки носом, понял – от нее! Буйно заколотилось сердце.
«Тьфу, телок, чего испугался!»— пробормотал он и опустил сверток на грудь, поглаживая его, как котенка, здоровой рукой.
Она приходила, когда он спал. Теперь зайдет днем и, если начнет утешать, он только рассмеется в ответ. Одной рукой можно мир перевернуть, даже без рычага Архимеда. Было бы ради кого! Кстати, кто-то вчера сказал, Курман или, кажется, Николаев, что Сергея вместе с другими наградили орденом за уборку.
Пройдет неделя, ну от силы две, он выпишется и заберет Ирину. Махнут они куда-нибудь в дальние края, в Сибирь, на Ангару, где самая разудалая жизнь. Только теперь, когда они будут уже вдвоем, удальства бы надо поменьше. Он будет жить с ней осмотрительно и спокойно.
Она пришла сюда первой и еще придет, и он скажет ей обо всем прямо, он получил теперь такое право, как ему думалось. Она пожертвовала многим, это ясно, а он — ничем. Теперь вот и он утратил... кое-что. На всю жизнь, между прочим. Они, можно сказать, поравнялись в своих утратах, хотя и по-разному.
«Хирург — все-таки человек, больше всех волновался. Достойный уважения мужик»,— думал Сергей, глядя на белесое окно с темной крестовиной рамы.
Скоро рассвет, новый день новой жизни. Который час? Его золотые часы, именная награда за прошлогоднюю уборочную, тикали на тумбочке. Теперь придется носить их на правой руке... Сергей взял часы, поднес к глазам — скоро четыре.
Она еще спит, конечно, устала за день, тоже ведь волновалась. Не заходит к нему, чтобы не докучать пострадавшему своим присутствием, разговором. Добрый сон лучше всякого лекарства, кто этого не знает. «Не мешало бы еще вздремнуть». Однако сон не шел, мешала рука, ныла, и что странно, болели пальцы отрезанные, ощущался каждый — мизинец, большой, указательный,— они шевелились, чувствовали, жили, ощущался локоть, и никак не верилось, что их уже нет, осталась одна культя.
«Ничего, проживем и без руки. Тем более, без левой. Поменьше буду налево работать. А мог бы вообще дуба дать. Не будь ножа... Где он, кстати? Надо бы его сохранить».
Кто-то мягко, легко прошел по коридору, и Сергей притаился. Нет, не сюда, мимо. Наверное, сестра понесла уже свои калики-моргалики, скоро зайдет сюда.
Боль в руке становилась сильнее, кость ныла, как больной зуб. Неуемно шевелились несуществующие пальцы, ощущался голый локоть, хотелось его прикрыть одеялом, согреть.
Лучше бы она сейчас зашла, а не днем, когда тут будет полно народу. Да и хирург будет маячить. В такой обстановке никакого разговора у них не получится.
«А может быть, мне самому пойти к ней? Прямо сейчас?»
Нет, пожалуй, не стоит, ей это не понравится. Надо быть выдержанным, он помнит, она упрекала его за грубость. Потом он ей скажет, что хотел пойти, но сдержался, проявил силу воли, это ей должно понравиться.
В полной тишине и покое кто-то вдруг пробежал по коридору гулким бегом, торопливо, будто спасаясь от несчастья. Хлопнула уличная дверь.
Что там еще случилось? Что за ералаш в тихой заводи? Сергей прислушался, но стояла тишина, только слабо ворошился за стеной утихающий ветер.
«Кто там бегает? Куда так рано!» А может быть, не надо ему ждать прихода Ирины. Она гордая, у нее самолюбие, да к тому же она помнит, – если Сергей без руки добрался до полевого стана, то до нее-то за несколько метров, да по теплому коридору уж как-нибудь доберется. Чёрт побери, да он явится к ней с того света, лишь бы ждала!
Сергей приподнялся и застонал от боли. Пришлось снова лечь, подождать, пока утихнет боль. Даже во время операции так не саднило, не ломило в кости. Отлежавшись, он осторожно здоровой рукой приподнял культю вместе с лангетой, медленно поднялся, и толкнул ногой дверь.
В узком коридоре было чисто и пусто, маленькая лампочка под потолком догорала, как свеча, желтым убывающим светом. Он пошел в конец коридора. С каждым шагом боль отдавала от руки до затылка. Возле изолятора Сергей облизнул сухие губы, поддержал лангету коленом, чтобы свободной пятерней расчесать жесткие волосы, и тихонько поскребся в дверь.
В ответ ни звука. Он постучал, затаив дыхание, облизывая сухие губы. Молчание. Сергей легонько навалился на дверь, тихо вошел и прикрыл дверь спиной.
— Ирина,— позвал он глухо.— Извини, ты не спишь?
Отныне он всегда будет с ней вежливым, послушным, ласковым. Она еще не знает, какой он на самом деле.
Привыкнув к темноте, Сергей увидел – комната пуста. Он подошел к койке, опустился на одно колено и положил остаток руки на постель, смятую телом Ирины. Подушка слабо пахла ее духами, ее волосами. На спинке в изголовье он увидел платье, легонько потянул его к себе и машинально прижал к лицу легкую прохладную ткань. Он водил шелком по своим щекам, по горячему лбу и целовал платье, стоя на одном колене.
Долго не шевелился, ни о чем не думал, опустошенный и разоренный.
Ветер утих, в окно светила луна, мир был спокоен. Кончилась, наконец метель, полная утрат, и отрезанная рука стала в ней, наверное, не самой большой утратой.
Вспомнился Владивосток. Нищий на портовой улице, на набережной, сидит и тычет в прохожего поднятой вверх культей, а темный рубец на ней подергивается, как студень...
Сергей ухватил платье зубами и злобно рванул его. Хотелось завыть по-волчьи. Лучше бы он погиб там, в логу, и его повезли бы не в больницу, а хоронить.
Он закрыл глаза и увидел себя мертвого, услышал, как, тяжело ступая и сняв шапки, друзья несут его, глядя под ноги. За поселком бьют землю ломами и кирками, роя могилу, и мерзлая земля летит хрустальными брызгами. Потом на седых комьях оставили бы гранитный камень.
А весной побегут картавые ручейки, заколосится степь, и новые рекорды поставят смышленые парни. Они тоже будут спать на загонке и на зорьке встречаться с любимой. Только встречи у них будут счастливее. Пройдут годы, и в новом Камышном старики станут рассказывать о времени, когда здесь была глухая глубинка, и всё становилось подвигом – и работа, и праздник, и сон, и смерть.
И остался бы он один-одинешенек в тихом поле, в чистом поле на степном просторе.
Сергей стиснул зубы, и в глазах поплыли круги, зеленые, желтые, красные... От койки он поднялся, как из гроба.
*
Женя сняла крышку стерилизатора, пар бесшумным вулканом взметнулся вверх. Подцепив сетчатое донышко со шприцами и иглами, она подняла его и поставила остудить. Пошел уже пятый час, пора сделать пенициллин больному с воспалением легких.
Что там творится сейчас, что происходит в доме медиков, о чем они говорят? Только бы Ирина не вернулась обратно...
Женя пошла в палату, сделала больному укол, а когда вернулась в процедурную, увидела Хлынова. Он сидел возле ее столика и держал перед собой больную руку.
— Почему ты не спишь?— вскрикнула Женя испуганно.— Кто тебе разрешил ходить?
Он молчал отрешенно, будто не слышал.
— В больнице свои порядки, Сергей. Без разрешения врача нельзя ходить.
— Нельзя ходить, нельзя блудить без разрешения,— наконец отозвался Сергей.— Дай спирту!
— Спирту нет,— торопливо заверила Женя.— Весь израсходовали... Ну, а как твоя рука?
Сергей как будто дремал и сквозь дремоту ответил:
— Скоро вырастет новая.
— Не больно?
Он скривился, отвернулся от Жени, хотел сплюнуть, но увидел, что некуда, и раздумал.
Женя стала ненужно перебирать медикаменты в шкафу, лишь бы не сидеть перед тягостно молчащим Сергеем. А он и не собирался уходить, сидел, молчал и, наверное, обвинял Женю, догадывался о ее роли.
– В изоляторе жила, изолирована от общества,— сквозь зубы проговорил Сергей.— Заразная. Чем она заражает? Бедой?
— Не надо так, Сергей,— попросила Женя.
— «Не надо...» Уже и с тобой поговорить нельзя.
— Можно, Сережа, можно, только в следующий раз, хорошо? А сейчас тебе нужно отдохнуть. После тяжелой операции требуется покой.
— Я не покойник. Покой да покой!.. Платье свое развесила, а сама ушла,— будто сам с собой заговорил Сергей.— Пришел я к старику: «Мит-рофан Семеныч, дай свой газик, в Кустанай надо».— «Чого ты там нэ видав?»—«Подарок хочу сделать ко дню рождения».— «Ото ж, кому?» Не говорю, молчу. «Я вам квартиру дам, обстановку всю, на свадьбу прийду. Кому?» Я, как дурак, сказал. Он меня выгнал. «Шоб твоей ноги не було с таким вопросом!» А я его газик угнал. И привез ей это самое платье.
— Ты молодец, Сергей, но...
— «Шоб твоей ноги не було...»— продолжал он говорить сам с собой.— Почему ноги? А не руки? Ошибся старик мал-мал.
Женя чувствовала, его не остановить сейчас, он хочет ясности и добьется ее любой ценой. И никто ему не поможет, кроме нее, Жени. Не помогут узнать правду, пощадят его, пожалеют. Из ложного сострадания.
Но как сказать ему такую правду, ведь не выговоришь!..
— Сергей, прошу тебя, сядь поближе к столику, тебе будет удобнее.
Он послушно пересел, не подняв всклокоченной головы. Скулы его прерывисто подергивались. Женя осторожно, мягко пристроила его забинтованную руку на столике. Сергей протяжно, через нос вздохнул. Женя тоже вздохнула и стала рядом с ним, скрестив руки на груди, как много пережившая женщина.
— Сергей, ты мужественный... А мужество — самый надежный щит перед любыми ударами судьбы. Все тебя знают таким — несгибаемым. Только ты не страдай, не страдай так сильно.
— Ты тоже поменьше,— пробормотал Сергей.— Сердце у тебя доброе... К нему ушла?
Женя не смогла ответить, не смогла даже кивнуть. Теперь ей казалось, что она и перед ним виновата.
— Сергей, ты сильный, ты неглупый человек. Ты сам все понимаешь. У тебя сейчас очень важный период в жизни...
Она не находила слов, лезли все такие беспомощные, книжные слова, одно глупее другого.
— Возьми себя в руки, Сергей!— Она прикусила губу, так некстати о руках!—Ты найдешь себе верную подругу в жизни, Сергей, у тебя будут жена, дети, они очень тебя полюбят. Ты мне веришь?
— Эх, Женечка, верю, куда денешься,— смилостивился он.— Всё понимаю, Женечка, всё.— Он осторожно задубевшими пальцами потрогал свои бинты.
— Больно, да?
— Пройдет. Сердце что-то болит... Не по ней, так просто.
— Я сейчас валерьянки дам, тебе надо успокоиться.
Он брезгливо поморщился. Она налила ему все-таки валерьянки, Сергей выпил, осторожно поднялся. Женя легонько, обеими руками коснулась его бинтов, желая помочь, но он отстранился.
— Оставь!
Приподнял руку и, кособочась, вышел из процедурной.
...Почему он, Сергей, во всей этой кутерьме должен оставаться один? Почему ей, как ни крути, меньше других жаль Сергея?
Потому что он — сильный, всё вынесет. На таких мир держится.
Не родись сильным, не будет тебе сострадания, один будешь пить чашу жизни. «Но ведь он не один, у него друзья, Курман прежде всего, у него слава...»
И все равно один. А другие еще и обвиняют его — семью разладить пытался, нарушитель устоев, агрессор, можно сказать. Не лезь, куда не положено. У них семья, законный брак, а у тебя что?
«Любовь — всего-навсего!» — горько усмехнулась Женя... .
Утром, проходя мимо хирургической палаты. Женя опять увидела Хлынова. Он сидел на койке, свесив кудлатую голову. Под белой больничной рубашкой остро обозначились лопатки. Он не слышал шагов Жени, сидел, не шевелясь, неподвижно, скорбно, как сидят ветхие старики, дремлющие на завалинке. Женя вернулась к себе и, глотая слезы (ну, что за жизнь, всех жалко!), вылила в стаканчик остатки спирта и понесла в палату.
— Выпей, Сергей,— шепотом сказала она.— Осталось немного после операции, выпей...
В открытую дверь косо падал свет из коридора. Сергей поднял голову, посмотрел на Женю лихорадочно блестящими глазами.
— Не надо, Женечка, не буду пить,— хрипло выговорил он.— Ни к чему, Женечка.
Неожиданно ласково Женя стала гладить его голову, тихо приговаривая, успокаивая сама себя:
— Ты молодец, Сережа, ты молодец...
Он отвернулся от света, пряча лицо, поднял глаза к окну, глухо погрозил:
— Еще посмотрим! Пройдет пять, пройдет десять лет... Еще посмотрим!
Прошла неделя, и еще одно разочарование, еще одну утрату пережила Женя. Все ее житье-бытье в Камышном было как бы освещено образом Наташи Ростовой. Женя не торопилась поскорее прочесть книгу до конца, она растягивала наслаждение, по многу раз перечитывала захватывающие места. Ей хотелось расти вместе с Наташей, хотелось, чтобы чтение тянулось долгие годы, и хорошо бы, всю жизнь.
Но вот она подошла к эпилогу. «Теперь часто было видно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно... Все порывы Наташи имели началом потребность иметь семью...»
У Жени тоже будет семья, но как можно жить теперь без тех людей, которых она полюбила здесь, без хирурга, Ирины Михайловны, Малинки, без Хлынова и Курмана?.. Как ей забыть множество встреч, отказать в памяти тем славным людям, которые ей встретились в здешней жизни, одни мимолетно, другие надолго — чернявый шофер в вагоне, он называл ее Крошкой, или тот мальчишка, что так высоко ценил свою голову и экономил для государства горючее?..
Образ Наташи долго сиял для нее теплым светом, и все-таки потускнел. Вот Галя ушла из дома медиков. Так и Наташа Ростова ушла из сердца Жени, изменила ей со своими идеалами столетней давности. Или наоборот, Женя сама изменила Наташе Ростовой, кто знает...
Многих Женя полюбила здесь, и легко называла всех, но почему-то молчала про Николаева, не называла умышленно и, видимо, неспроста.
26
С памятного того вечера Николаев больше не заходил к Жене, но домик медиков и больница всё больше притягивали его. Видимо, уже тогда он на что-то такое понадеялся и, возможно, тогда же принял какое-то, пока не совсем ясное для себя, решение. И теперь в редкую свободную минутку он представлял, как Женя в белом халате, в белой косынке с красным крестиком, ходит в больничной тишине, раздает лекарства, легким нежным прикосновением делает перевязки.
«Надо бы зайти,— думал он.— Когда?» И снова окунался в дела и заботы.
Камышный... Целина... Множество людей, имен, фамилий, и среди них все большее место стала занимать Женя Измайлова. Не сама по себе, а как соучастница в круговерти самых разных дел и событий, стремительно промелькнувших, оставив такой значительный след. Не верилось, что всего два года назад здесь пустовала земля, и ничего не было — ни поселка, ни райкома, ни тракторов, ни миллиарда пудов зерна.
А ведь страна жила и до этого бурной жизнью, и все вроде были заняты неотложным делом, народ залечивал раны после разрушительной войны, всюду требовались рабочие руки.
Но вот партия приняла решение — и сразу отзвук в сердцах сотен тысяч людей, самых молодых, энергичных, трудоспособных. И вот уже страна получила невиданный запас хлеба. Как будто с другой планеты появился этот резерв. Видно, и впрямь энтузиазма, героизма нашему народу не занимать! Поистине человек не знает меры своего могущества.
Зимою здесь тихо текла жизнь в раскиданных по степи редких аулах, деревнях, селах. По ночам брехали собаки, за таявшей в степи околицей выли волки на зеленую от мороза луну. По утрам певуче голосили петухи, мычали телята и барабанио били в подойник тугие молочные струи коров и дойных кобылиц.
А степь оплеталась дикими седыми травами и жила праздно до поры, до времени.
6-го марта 1954-го года вышли газеты с решением Пленума ЦК Компартии Советского Союза. По Алтаю и по Сибири, по немереным степям Казахстана пронеслись отголоски надвигающихся событий. День-другой старожилы поговорили о новостях, а к утру вроде бы стали и забывать, не верилось, что жизнь свернет, да еще так круто, с проторенных, обжитых троп.
Но вскоре дрогнул и загудел от моторов набухший весенний воздух. Машины шли днем и ночью по стеклянному ледку, с хрустом давя звезды в темных степных лиманах. По холодному бездорожью, по занесенным оврагам и балкам двинулись люди. За тракторами вереницей тянулись плуги и сеялки, шли машины с палатками и горючим, с хлебом и маслом, с медикаментами и топливом.
Выбирали место на берегу озера или речки, на большой поляне глушили моторы, и в прозрачной тишине раздавались исторические удары молота — забивали первый колышек с дощечкой и надписью – зерносовхоз такой-то. Появились в глухой степи имена ученых, полководцев, государственных деятелей. Но особенно, пожалуй, повезло писателям. Только на одной Кустанайщине зазвучали имена Лермонтова и Пушкина, Некрасова и Герцена, Чехова, Маяковского, Горького... В степь пришли романтики.
Грохали взрывы, целинники взметали землю в поисках воды. По железным дорогам беспрерывно стучали колеса, беззвучно вздыхали шпалы под змеисто-стремительными составами, и паровоз в белой пене, словно закусив удила, буравил гудками сонную мглу, манил в дальние странствия.
Красные вагоны мчали песню, на открытых платформах неслись зеленые машины, оставляя запахи новой резины и лака. Ехали коммунисты и комсомольцы, директора будущих совхозов и агрономы, землеустроители и гидрогеологи, врачи и акушеры, писатели и кинооператоры...
По всей стране толпилась молодежь в райкомах комсомола. В привокзальных скверах от грома оркестров с деревьев осыпался иней, и слезы матерей высыхали на щеках от улыбок отъезжающих.
Апрель долизывал снег в низинах, тихим граем, солнцем и травами проникался, настаивался высокий простор. Под тягучий звон лемехов, под трескучие разрывы вековечного сплетения трав ложились бархатные русла первых борозд. Белели черепа, вросшие в землю со времен монгольского нашествия, желтые суслики оцепенело воздевали лапки, и волки, поджав хвосты, уходили догонять тишину.
Налетали ураганные ветры, первобытные грозы отдавались в сверкающих лемехах, и полы палаток вздувались, плескались и щелкали, как паруса первооткрывательских кораблей.
После первых борозд зачернели гектары, десятки, сотни, тысячи и наконец миллионы гектаров.
В первый же год на казахстанской целине было собрано 242 миллиона пудов зерна — в 4 раза больше, чем собирали раньше в урожайные годы.
Наступило лето, третье от рождения целины,— и был собран миллиард пудов зерна в Казахстане.
Но вместе с ликованием уже на третьем году здешней жизни стали определяться грозящие целине беды. Ученые настойчиво заговорили об охране почвы, о неизбежности пыльных бурь при неправильной агротехнике. О такой угрозе думали пока самые предусмотрительные и дальновидные.
Так уж повелось в нашей стране — первый успех никогда не бывает последним, он становится нормой. Будут еще не раз миллиарды пудов хлеба на целине, будут новые трудности, но на будущее надо непременно учесть не только радостный итог, но и печальный опыт...
...В ноябре создалась тревожная обстановка с вывозкой зерна из глубинок. В район прибыло 4 тысячи шоферов и рабочих. Негде было разместить их. Жакипов объехал ближние казахские колхозы и собрал 50 юрт. Не хватало полушубков, валенок, рукавиц. Газеты били тревогу: «Зерну угрожает гибель!», «Все средства на вывозку зерна из глубинок!», «Выше темпы хлебоперевозок!»
Без конца шли и шли машины по степным дорогам. Возле пологих буртов, как бронтозавры, дыбились зернопогрузчики, ручьями лилось под ветром бурое, подсыхающее зерно.
Как только улеглась метель, Николаева вызвали на расширенный пленум обкома. Он пришел на аэродром. Диспетчер в ушастых валенках, услышав об отлете самого Николаева, заткнул за пояс, как кнутовище, красные флажки и начал расчищать снег вокруг своей саманушки. Заметив пристальный взгляд секретаря райкома, он насупился, стал работать проворней и, лопата за лопатой, поднял на ветер нежный, похожий на подкову сугроб, который намела поземка в ту памятную ночь…
37
В канун Нового года принесли телеграмму из «Изобильного» – острый аппендицит, просим срочно хирурга. Леонид Петрович велел Жене собираться. Она быстренько сложила необходимые инструменты, принесла из операционной никелированные биксы со стерильным материалом, разыскала свою брезентовую походную сумку с красным крестом. Извлекла оттуда последние пакетики со стрептоцидом, с марганцовкой и потрясла сумку над столом. На пол плавно скользнула газета, сделав зигзаг в воздухе. Женя присела, подняла ее — с верхнего угла белозубо улыбался Сергей Хлынов, ниже чернели буквы: «Семьдесят гектаров!» Женя опустилась на колени, обеими руками прижала газету к лицу, закрыла глаза. Пахнуло на нее тонкой горечью лета, токами, солнцем...
Неделю назад Сергей навсегда уехал из Камышного. В день выписки он ушел не сразу, а подождал, пока в ординаторской соберутся все, с кем он хотел проститься: Грачев, Ирина и Женя.
Накануне вечером друзья принесли ему в больницу подарок — новый темно-синий костюм и рубашку и попросили Женю отгладить, приготовить все честь честью.
Сергей вошел красивый, как никогда. В новом костюме, в белоснежной сорочке. Женя разглядывала его, как незнакомца, и улыбалась. За время лежания в больнице грубый загар сошел с лица Хлынова, переживания, как думала Женя, оставили на нем тонкий благородный след, лицо его сейчас стало еще более гордым и мужественным. Черные волосы, зачесанные назад, влажно поблескивали. Сергей щурился, словно старался притушить боль в глазах. Рука с протезом была небрежно всунута в карман брюк,— ничего не заметно.
Ирина не подняла взгляда.
— Спасибо, доктор, за спасение жизни,— твердо сказал, отчеканил Сергей и протянул Грачеву руку.— Остальное, будем считать, мелочи.
Леонид Петрович пожал руку, несколько мгновений, похоже, думал, что сказать в ответ, но так и не сказал ничего, только кивнул и еще раз крепко встряхнул руку Хлынова.
— Прощай, Ирина Михайловна. Не поминай, как говорится, лихом.— Сергей обернулся к Ирине, голос его звенел по-новому, не был, как прежде, грубовато-сиплым.
— Прощай, Сергей...— едва слышно отозвалась Ирина.
Как бы хотелось Жене знать, о чем она сейчас думала, что чувствовала! Может быть, думала, что помогла ему работать лучше других и тому свидетельство яркая колодка ордена на лацкане у Сергея? Или о том, сколько горя они испытали все вместе? Или, может быть, собрала сейчас в памяти те немногие минуты радости, которые он доставил ей своей преданностью и страстной своей любовью?
— Желаю тебе...— наверное, она хотела сказать: «Счастья», но удержалась, обыденное слово неожиданно приобрело свой истинный смысл и в ее устах могло прозвучать издевательски. А слова ее много сейчас для него значили, она знала.— Желаю тебе больших успехов, Сергей. Ты можешь многое сделать в жизни. И ты сделаешь.
Губы Хлынова дрогнули, он ответил с прежним своим бахвальством, как бы защитился:
— Как-нибудь!— и повернулся к Жене с ласковой, такой братской улыбкой.— Ну, Женечка, прощай, родная!
— До свидания, Сережа, до свидания!— быстро проговорила Женя.— До встречи на больших дорогах жизни! Я тоже в тебя верю, Сережа!— И они, будто сговорившись заранее, трижды звучно расцеловались.
Сергей вышел, но дверь не закрылась, и Женя увидела, как расступились в коридоре товарищи во главе с Курманом Ахметовым, с обветренными лицами, в замасленнных бушлатах. Хлынов, не одеваясь, прошел через их толпу на улицу. Шофера гурьбой вывалились следом, захлопнули дверь. Только скрывшись от глаз медиков, Сергей позволил напялить на себя прокопченный полушубок с ржавой овчиной и шапку с рабочим запахом бензина, пота и дальней дороги.
Позже говорили, – на станции Тобол он садился в вагон вместе с Танькой Звон.
Вскоре после его проводов выписался из больницы Малинка. Он демобилизовался из армии и остался в Камышном. Кое-кто говорил, что остался он из-за Жени, намерен предложить ей руку и сердце, но никто, однако, не понимал, кроме самого Малинки, насколько беспочвенны, безнадежны его мечты жениться на ней. Уйдя с больничной койки здоровым, бодрым и молодым, Малинка снова стал для нее, как все другие. Женя вылечила его и, выписав из больницы, как бы выписала его из своего сострадательного сердца.
День выписки Малинки был ознаменован своего рода торжеством — как раз пригнали в больницу санитарную автомашину на вечное пользование. Местных шоферов поблизости не оказалось, и Малинке было разрешено совершить пробный рейс. Бледный от волнения и опасения — новая машина, чем чёрт не шутит, не все пригнано, может не завестись,— Малинка, прихрамывая, посуетился вокруг нее, попинал скаты, раза три поднимал капот и лез в нутро, поводя носом из стороны в сторону, почти касаясь деталей. Наконец, забравшись в кабину, он запустил мотор. Женю посадил рядом с собой, санитаркам приказал лезть в кузов, и всей компанией гордо двинулись вдоль поселка, туда и обратно. Рейс был показательным во всех отношениях – вчерашний почти инвалид демонстрировал свое возвращение к труду.
После рейса Малинка зашел к Грачеву, у порога долго, упорно сбивал снег с валенок, словно только затем сюда и пожаловал, снял шапку, энергично расправил ее и, наконец, сказал, что на грузовик работать не пойдет, еще не все шарниры (он имел ввиду свои суставы) действуют, как положено. А во-вторых, лежа в больнице, он нашел свое настоящее призвание — работать медицинским шофером. Леонид Петрович не стал мучить парня и в тот же день подписал приказ о зачислении его на должность водителя санитарной машины.
Совсем недавно Малинка был на волосок от смерти. Совсем недавно приходили друзья-солдаты навестить его. И вот Малинка уже на ногах и собирается вместе с хирургом в путь, спасать больного. Он поднялся из бинтов, как из снега, и сейчас здоров, весел и готов похвастаться своим умением водителя и парня хоть куда.
Перед самым отъездом Женя позвонила в райком. Чего ей это стоило, сам Бог не дознался бы, если бы даже существовал. Но зато отъезжающих провожал Николаев. Ну и, само собой, Ирина Михайловна с Сашкой. Ирина стояла позади сына, положив ему руки на плечи, и мальчишка звонко кричал:
— Женьча-каланча, не отморозь свой нос, приезжай скорей!
Николаев улыбался и поправлял накинутое на плечи пальто...
Женя смотрела вперед на дорогу и, наслаждаясь движением, тихонько напевала – «Дорога, дорога, нас в дальние дали ведет. Быть может, до счастья осталось немного, быть может, один поворот».
Уже в сумерках проехали совхоз имени Горького. В поселке горели огни, ветер поднимал снег, озаренный светом, и казалось, это не снежинки разлетаются на ветру, а сама электрическая энергия. На дороге показалось рогатое шествие – шли парни и девушки, каждый нес на плече стул или табуретку кверху ножками.
— В клуб идут,— сказал Малинка,— там сидеть не на чем.
Он посигналил, молодежь расступилась, отошла к сугробам. По одному, как в почетном карауле, парни и девушки выстроились у обочины.
Почти возле каждого домика стоял трактор, как в прежнее время стояли кони. Гусеницы скрывались под снегом, и Жене думалось, что заметенным тракторам сейчас холодно и сиротливо. Им трудно молчать, пережидать долгую зиму, непогоду, хочется им взреветь, засиять огнями и рвануться вперед...
В «Изобильный» прибыли ночью и сразу — в больницу, в одинокий дом на краю поселка.
Операция тянулась долго и завершилась благополучно. Женя убирала инструментарий и устало думала, что в жизни все гораздо сложнее, чем в самых интересных книгах. Неизвестно, что ждет тебя завтра, послезавтра, через месяц или через год, с кем тебя столкнет судьба, а с кем придется расстаться. И самое интересное — это, конечно, встречи. Неожиданные, с разными людьми. Когда-то летом она сделала прививку Николаеву, и ей в голову тогда не могло прийти, что они встретятся потом снова и даже гулять будут ночью по снежному полю.
После операции, уже в полночь, совхозная медсестра, молодая, пухленькая, хлопотливая украинка в короне черных кос, обвитых марлей, как чалмой, повела Грачева, Женю и Малинку к себе на квартиру.
Домовничал ее муж Ваня, молодой шустрый парень, похожий на полярного летчика, в верблюжьем свитере и толстых пестрых унтах. Ваня возился с сынишкой лет двух. Несмотря на поздний час, мальчонка не ложился спать, ждал маму. Когда гости вошли, он с визгом бросился к матери, а Ваня, потирая руки, захлопотал возле стола.
— Вот и встретим Новый год, вот и встретим в хорошей компании!—приговаривал он, ставя на стол деревянную долбленую тарелку с хлебом, бутыль с брагой, пустые тарелки.
— Марийка, плюнь ты на дежурство!— уговаривал он жену, не обращая внимания на начальство — Гульнём!
Марийка стояла у порога, не раздеваясь, обрывала мужа: «Пенициллин надо колоть, камфору и вообще — дежурство»,— а сама постреливала глазами в сторону Леонида Петровича. Она ушла, и Женя осталась встречать Новый год с четырьмя мужчинами — тремя взрослыми и одним малышом.
Ваня запросто, обращаясь на ты, потребовал, чтобы Женя ему помогала. Усадил всех за стол вкруговую, поставил перед каждым посуду для питья — стеклянную банку из-под компота, и начал разливать.
— Будешь?— спросил он Женю, приподняв бутыль над банкой.
— Гостей не спрашивают! Тоже мне, хозяин.
Леонид Петрович пить отказался. Ваня с Малинкой скоро осушили бутыль, наполнили ее снова и запели «Дывлюсь я на нэбо». Ваня все порывался от широты душевной дать пригубить сынишке, но Леонид Петрович стучал пальцем по столу. Женя с горящими щеками несколько раз поздравила хирурга с Новым годом, с новым счастьем.
Ваня вскоре захмелел слегка и, никого не слушая, громко начал рассказывать о себе. Объявил, что он, как всякий настоящий белорус, любиг картошку — барабулю и говорит «трапка», «бруки». Приехал сюда с первым эшелоном. В вагоне влюблялись, сразу играли свадьбы. На конечной станции стояли суток пять, ждали, кто заберет к себе. Приехал Ткач.—«Есть трактористы?» — «Сколько угодно!»—«Поехали в наш совхоз».— «А трактора есть?»—«Есть».—«Сколько?»—«Да штук пятьдесят, шестьдесят, на всех хватит».
Неплохо, думаем, нас сто тридцать парней, примерно по два человека на тракторе, как и полагается, можно работать со сменщиком.
«А река есть, можно рыбу ловить?»—«Есть, будем ловить и уху варить».—«А лесок, хоть небольшой, есть?»—«Да какой разговор, все есть, даже грибы. Поехали!»
Приехали... На весь совхоз пять тракторов, и те уже обеспечены. Ни речки тебе, ни лесочка, степь да степь кругом. Жили в палатках. Летом полезешь в чемодан, а оттуда змея: ш-ш-ш. Паника на всю бригаду, кто лопату хватает, кто что. Столовая под открытым небом, кашу едим, а на зубах песок хрусь-хрусь! Потом магазин открылся, часы лежали на виду, костюмы висели,— воровства никакого. Никто не охранял, шпана, какая была, разбежалась, остались мы, как братья, в одной семье. Зимой во время вьюги налетит шквал — и нет крыши на магазине. Покупатель выбегает, лезет в свой «ДТ-54»— и вдогонку за крышей. В первый урожай по шесть тысяч зарабатывали. Прицепов не было, так за машиной по две пароконных брички таскали.
Затем Ваня рассказал самую последнюю новость. Сегодня ребята из совхоза «Красивинский» звонили по телефону в Нью-Йорк, решили поздравить Поля Робсона и сообщить ему, что его именем названа новая улица в совхозном поселке. Сначала дозвонились до области, потом до Москвы, и вот ответила Америка.
«Квартиру Поля Робсона!»—«Назовите номер телефона». Ребята, конечно, не знали, какой у него телефон, в Нью-Йорке отказались искать, и Америка отключилась. Тогда девушки, московские телефонистки, взялись за дело, сумели выяснить телефон Поля Робсона и снова связались с Нью-Йорком. Дома застали всю семью Робсона, его детей и внуков. Тракторист Колесник поздравил певца с Новым годом и сообщил ему про улицу. Благодарил Робсон, благодарила его супруга. Робсон спел на прощанье «Ноченьку».
— Вот такая она, целина,— заключил Ваня.— По всей планете известная.
Женя представила себе, как невидимые волны несут рокочущие звуки над всей землей: «Ах ты, ноченька, ночь осенняя...»
Леонид Петрович слушал рассеянно. Малинка хлопал себя по коленам, хохотал невпопад и не сводил глаз с Жени. Спать улеглись поздно. Ваня в последний раз подбросил угля в печь, пошуровал кочергой, сделал шаг назад и плюнул на черную облицовку.
— Шипит,— удовлетворенно отметил он.— Молодец Костюк, хорошие печки ставит.
Новый год... Еще один оборот земли, медленный и неумолимый. Ровно в двенадцать Земля как будто приостановится на миг и спросит, а что сделано вами, дорогой товарищ, в прошлом году?..
Проснулась Женя раньше всех и долго лежала, прислушиваясь к шороху вьюги.
Вчера в Камышном, перед самым отъездом сюда, она стояла возле окна и смотрела на здание райкома. Входили и выходили, люди, разные — деловитые, веселые и мрачные, знакомые и незнакомые. Останавливались перед подъездом машины. Здесь всегда людно, и утром, и в полдень, и вечером, вне всяких часов приема...
За спиной Жени прошел Малинка, пронес биксы в машину. Сейчас выйдет Леонид Петрович, негромко скажет: «Поехали, Женя».
Она подошла к телефону и сняла трубку.
Там, в кабинете за широким окном, сидит Николаев, давно для нее не строгий, совсем не грозный, но Жене все-таки боязно к нему обращаться. После того вечера он почему-то больше не зашел к ним, всегда занят, его постоянно окружают разные люди, его все окружают. Кроме нее...
— Первого секретаря райкома Николаева. Из больницы... Да, срочно.
В трубке тихие снежные шорохи. Женя услышала его чужой деловой, официальный голос: «Слушаю».
— Здравствуйте, это Женя говорит.
— Здравствуйте, здравствуйте...
Ну, хоть бы маленькую какую-нибудь причину выдумать! Какую-нибудь крохотную!..
Он непростительно долго молчал, как видно, в кабинете сидели люди.
— Я уезжаю на операцию... Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю большого-большого счастья!
— Когда едете?— перебил Николаев.
— Сейчас. Машина возле крыльца.
— Подождите меня, Женя. Я иду.
Женя вышла на крыльцо Малинка уже сидел в машине. Грачев стоял возле дверцы.
— Садитесь, Женя.
— Я сейчас, Леонид Петрович, сейчас... Одну минуточку!
Быстро подошел Николаев. Грачев поздоровался и хотел было шагнуть к нему, но замешкался, отряхнул снег с пальто и неловко, боком полез в машину.
— Не простудитесь, Женя. Надо полушубок застегнуть. Можно?— Николаев поправил ей воротник и застегнул его на крючки.— Так будет теплее.
Его забота взволновала обоих.
— Вы давно не заходите в наш домик...
— Обязательно зайду, Женя. Я хочу о многом поговорить с вами. Возвращайтесь скорее.
Машина нетерпеливо фыркала.
Это было вчера, в прошлом году...
В семь утра кто-то постучал в окно. Ваня накинул полушубок, вышел и вскоре вернулся вместе с пожилым казахом в тулупе колоколом, в малахае, заметеленном, косматом от снега. Через локоть у него висел кнут.
— Новым годом, новым шастим!— проговорил вошедший.
— Вы — дед Мороз!— воскликнула Женя.
— Я — колхоз Амангельды. Дохтыр здесь?
— Здесь, здесь,— первым ответил Малинка, глядя на Женю, довольный, что поездка затягивается.
— У нас шалавек балной. Звонил Камышный, сказал, дохтыр сюда пошел. Я лошадь брал, встречать ехал. Буран! Машина не идет, трактор не идет, самолет не идет. Лошадь — всегда идет. Кошма есть, тулуп есть. Шалавек балной. Дженьшина...
Завтракали наспех. Ваня без настроения, с больной головой после вчерашнего.
Прибежал радист, худой чубатый парень в демисезонном пальтишке.
— Здесь врачи из Камышного? Секретарь райкома запрашивает, как дела, все ли благополучно.
Леонид Петрович молча посмотрел на Женю и улыбнулся.
«Ах, лукавый, ах, коварный Леонид Петрович!»— вспыхнула Женя и спросила громко, твердо:
— У нас все в порядке, товарищ хирург?
Он рассмеялся:
— Так и передайте: у нас все в порядке.
Радист убежал.
«Наступил новый день, и снова требуют нас, медиков,— возбужденно думала Женя.— И ведь нашли же нас! И Николаев разыскал, и аксакал из совхоза Амангельды. Раннее утро, праздник, а медикам опять странствия. Как у Чехова: «Мы идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей и вашей... У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем...»
Женя представила, как Николаев поднялся засветло, там, у себя в холостяцкой квартире, и первым делом начал звонить сюда...
От счастья, от умиления жизнью она впервые назвала Малинку по имени:
— Миша, а тебе хочется ехать дальше?
— Пурга. Кому в такую погоду хочется?— рассудительно отозвался парень, но голос Жени был так неожиданно ласков, что Малинка — была не была!— решил признаться:— С вами хоть на край света, хоть в огонь и в воду.
И Женя в эту минуту любила его и верила в его преданность. Сейчас она готова была любить всех, может быть, только для того, чтобы среди всех ей легче было представить одного, главного...
Ей показалось, новая поездка не слишком-то обрадовала Грачева. Когда Малинка разговорился с Ваней, Женя полушепотом сказала хирургу:
— Я вам что-то скажу, Леонид Петрович. Только дайте слово, что вы мне поверите.
— Мне кажется, я вам всегда верил.
— Она же до смерти любит вас, Леонид Петрович! Тогда, в изоляторе, она каждый день выспрашивала у меня, чем вы питаетесь, как себя Сашка ведет. Просила рассказать все подробности.
Леонид Петрович слушал, хмуря брови. Малинка шумно ел вермишель. Ваня сопел и ожесточенно тер лоб.
— Ну, что ты, Ваня, приуныл?— с неожиданной бодростью сказал Грачев.—Давай-ка, налей нам на дорожку! Для сугреву, как говорят шоферы. Верно, Малинка?
Грачев выпил и энергичным движением поднялся из-за стола.
— Ну, что же, друзья, едем? Пробьемся сегодня во что бы то ни стало.
Пурга была злее вчерашней. Шагах в двадцати от дома виднелись сани. Сивая лошадь, покрытая попоной, стояла понурив голову и не поднимая белесых век. Сани были малюсенькие, без облучка, ветер выл в дуге, хлестал в лицо, вынуждал отворачиваться.
— Я поеду один!— прокричал Леонид Петрович.— Один поеду, Женя!— повторил он, пригибаясь к ее лицу и голосом перекрывая ветер.— Ждите меня здесь!..
В маленьких санях втроем не поместиться. Там, в совхозе, есть неплохой фельдшер. Если придется делать операцию, он станет к инструментарию вместо сестры.
Женя осталась с Малинкой. По любому бездорожью лошадь выберется к жилью. Лошадь не трактор, который чуть не погубил Сергея Хлынова...
Малинка осторожно тронул Женю за плечо.
— Пойдемте в хату.
Он зашагал впереди, расправив плечи, прикрывая собой Женю от ветра.
— А в Алма-Ате скоро лето. Яблоки пойдут, апорт. Едешь на велосипеде,— бах, а оно тебя по спине!
Женя не слушала. Она думала: «Я хочу о многом поговорить с вами. Приезжайте скорее...» Леонид Петрович любит жену... Мы поставили Малинку на ноги. Новый год... Милая глубинка — посвист белой метели, звонкая синь утихшего простора, вкусный дымок над поселком, и мы, его надежные обитатели... «Я хочу о многом поговорить с вами». Она представила ясные глаза Николаева и вспомнила: «Нет исхода вьюгам певучим, нет заката очам твоим звездным».
Нет исхода. И нет заката!
Она шагнула в снег, к дому. Ветер опалил щеки. Он нес надежду, знобящий восторг, и Жене казалось: не слезы, а светлые льдинки скатываются из-под ее ресниц.
1958