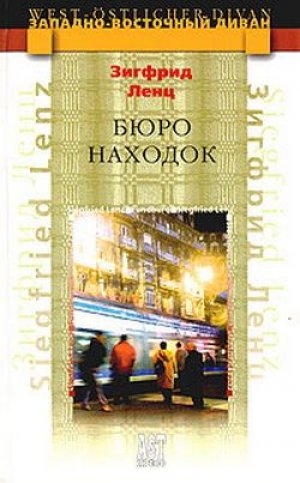
Посвящается Томасу Ганске
Генри Неф наконец-то отыскал бюро находок. В веселом расположении духа вошел он в пустую приемную, где стояла только черная конторка, опустил на пол парусиновую сумку, из которой торчала промеж ручек хоккейная клюшка, и кивнул старому человеку, стоявшему перед широкой деревянной перегородкой. Тот сосредоточенно, очевидно уже не в первый раз, жал на кнопку, вызывая звонком хранителя забытых вещей. За закрытым окошком приемщика, где-то в глубине угадываемого помещения, раздавался странный дребезжащий звук молоточек сначала вроде бы западал, а потом принимался колотить как бешеный, но вот наконец послышались неторопливые шаги, кто-то шел, казалось, откуда-то очень издалека. Старый человек, одетый в темное, в белой рубашке и черном галстуке, с облегчением взглянул на Генри, пошевелил губами, словно осторожно пробуя слова на вкус, потом похлопал себя по карманам, но не обнаружил того, что искал, а когда за молочным стеклом возник темный силуэт, пригладил волосы и поправил галстук.
Окошко с шумом открыли, и Генри в первый раз увидел Альберта Бусмана, его недовольное лицо и синий заляпанный рабочий комбинезон, такой просторный, что при быстрых движениях казалось, будто широкая одежда развевается вокруг него. На вопросительный взгляд кладовщика Генри показал на старого человека: вот, мол, он впереди меня, а затем, прислонившись спиной к конторке, стал с любопытством и удовольствием смотреть на происходящее, предчувствуя, что в ближайшем будущем ему самому придется заниматься тем же (он даже подумал, что перед тем, как приступить к разговору о приеме на работу, просто необходимо пройти этот урок наглядного обучения).
Старый человек заявил, что потерял кошелек на вокзале, там, где продают билеты, кожаный коричневый кошелек, кожа местами уже потерлась, даже треснула. Бусман равнодушно кивал, для него это была обыкновенная банальная пропажа, он почти ни о чем не спрашивал, лишь долго смотрел на руки старого человека, потом молча повернулся и направился к сейфу, где хранились ценные вещи. Он открыл его двумя ключами. И хотя кладовщик стоял к ним спиной, Генри словно видел все его действия: как он что-то брал в руки, ощупывал и клал назад. Наконец он остановился на каком-то предмете, который мгновенно исчез в бездонном кармане его комбинезона. Своим видом он никак не показал, нашел ли то, что потерял клиент, или нет, только спросил, какая монограмма выгравирована на кошельке. Старый человек с удивлением переспросил в свою очередь:
– Монограмма? Что за монограмма?
Такой ответ вполне устроил Бусмана, но он захотел еще узнать, не может ли тот назвать сумму денег, которая была при нем.
– Да, то есть нет, нет, конечно, да, – сказал старик. – Там было восемьсот марок до того, как я купил билет до Франкфурта, я еду туда на похороны сестры.
Тут он вспомнил еще, что заплатил за билет двести тридцать марок, на что Бусман с уверенностью заявил:
– Значит, в вашем кошельке должно было остаться еще пятьсот семьдесят марок, – и без всякого выражения на лице он подал старому человеку портмоне и сказал: – Вот, держите, с вас тридцать марок – тарифный сбор за обработку утерянной вещи. – Словно читая инструкцию по обслуживанию клиентов, он добавил: – Вознаграждение за находку не взимается, поскольку потерянную вещь доставил железнодорожный полицейский.
Старый человек торопливо отсчитал названную сумму, коротко поблагодарил, собираясь удалиться, но Бусман подал ему два формуляра и потребовал заполнить каждую графу прямо сейчас, вон там, за конторкой.
Генри улыбнулся, пожелал старому человеку успеха, обошел его сбоку и со знанием дела кивнул Бусма-ну в знак одобрения, но тот спросил его монотонным голосом:
– О какой потере хотите заявить вы?
– Меня зовут Генри Неф, – сказал Генри.
– Очень хорошо, – сказал Бусман. – Так что вы потеряли?
– Ничего, – ответил Генри бодро и весело, – пока еще ничего, мне сказали, я должен прийти сюда и представиться.
Бусман принялся разглядывать открытое молодое лицо, выражавшее полную беспечность – ни намека на уныние, тем более отчаяние, которыми были отмечены лица ежедневно приходивших сюда и тоскливо заявлявших о своей утрате людей, и тогда Бусман спросил:
– А почему, собственно, вы должны здесь представляться?
– Меня перевели сюда, – сказал Генри, – в бюро находок, мои бумаги наверняка уже здесь.
– Тогда вам надо пройти к шефу.
Бусман показал на помещение за стеклом, позади рядов полок, где просматривалась мощная спина мужчины, читавшего при слабом свете. Пока Генри обдумывал, каким путем добраться до шефа, Бусман сделал знак шагнуть через открытый проем в перегородке, находившийся на уровне его колен, и обогнуть гору чемоданов, сложенных для продажи на аукционе, о чем свидетельствовала табличка.
Едва Генри вошел, шеф – грузный человек с седым бобриком на голове и водянистыми глазами – встал, дружески пожал ему руку и сказал:
– Я Ханнес Хармс, добро пожаловать на прохождение альтернативной службы на федеральной железной дороге.
Он отодвинул в сторону какие-то бумаги, – Генри был уверен, что это его документы, – выпил глоток кофе из фарфоровой кружки и закурил сигарету. Затем он предложил Генри сесть и поглядел на белую птичью клетку, где прыгал с жердочки на жердочку снегирь, издавая одни и те же требовательные звуки.
– Красивая птичка, – сказал Генри.
– Потерянная вещь, – пояснил Хармс, – такая же, как и все остальное тут, найден был в скором поезде из Фульды, прибыл, так сказать, прямиком из епископского города. Нам не удалось избавиться от него на аукционе, вот я и взял его к себе. Кстати, его зовут Пиу-пиу.
Генри удивленно поглядел на снегиря, покачал головой и сказал:
– Как же можно забыть птицу, да еще в клетке?
– Я тоже задавал себе такой вопрос, – сказал Хармс, – лет пятнадцать тому назад, когда начинал здесь работать, но со временем я отучил себя удивляться. Вы не поверите, чего только люди сегодня не теряют, они даже забывают вещи, от которых зависит их судьба, просто оставляют их в поезде, а потом приходят к нам и ждут, что мы их отыщем, – усталым голосом он добавил: – Не существует другого места, где они испытали бы такую подавленность, натерпелись столько страха и прошли через отчаяние и самобичевание, ну, вы еще сами станете свидетелем всего этого.
Он снова придвинул бумаги к себе, наклонил голову и, говоря в стол, спросил:
– Неф? Генри Неф? – и, не дожидаясь ответа, сказал: – Нашего шефа тоже так зовут.
– Это мой дядя, – сказал Генри.
Он произнес это очень тихо и как бы небрежно, будто родственные отношения не имели для него никакого значения. Хармс только кивнул, его пытливый взгляд скользил по документам, и Генри уже предвидел, о чем он его сейчас спросит, и не ошибся. Хармс сразу поставил вопрос ребром: что, Генри уже оставил всякое намерение снова попробовать поработать проводником поезда, хотя бы через какое-то время? Генри пожал плечами:
– Думаю, да. Меня перевели сюда, и я надеюсь, что смогу здесь остаться.
– Перевели, – сказал Хармс и еще раз повторил: – Перевели, ну да, конечно.
От Генри не ускользнуло предубеждение, прозвучавшее в его голосе. Он разглядывал своего будущего начальника, его большие руки, дряблые щеки, отметил про себя плохо завязанный узел галстука, коричневую шерстяную кофту, и когда Хармс встал, чтобы дать птичке воды и подсыпать корма, у него появилось такое чувство, что наконец-то он нашел то место, которое давно искал. Пока Хармс сыпал в кормушку из пакетика корм и сухие семечки и зернышки падали мимо на дно клетки, он успел сказать:
– Вам сейчас двадцать четыре, господин Неф, боже мой, двадцать четыре, самое время прокладывать по жизни первые пути и устремляться к цели, если вы понимаете, о чем я говорю. А вы причаливаете у нас, встаете в некотором роде на запасной путь, да вы же будете чувствовать себя так, словно очутились в тупике, ведь у нас не начинают делать карьеру здесь нет никакой перспективы для продвижения по службе. Придет время, и вы почувствуете, что вас уже списали.
Хармс опять сел, помолчал и вопросительно поглядел на Генри, и тот, приняв этот вызов, ответил:
– Мне это без надобности, господин Хармс, правда-правда, карьеру и повышение я оставляю для других, а с меня хватит и того, если я буду чувствовать себя комфортно на рабочем месте.
– Комфортно себя чувствовать, – сказал, улыбаясь, Хармс. – Я надеюсь, у нас вам представится такая возможность. – Он показал на спортивную сумку, на торчавшую из нее хоккейную клюшку и спросил: – Вы играете в хоккей? В настоящий хоккей с шайбой?
– Да, в команде «Blue Devils», – сказал Генри, – во второй лиге, сегодня вечером у нас тренировка.
– У нас тут есть несколько клюшек, – сказал Хармс, – их нашли в «Интерсити» – международном экспрессе из Берлина, вероятно, команда праздновала в поезде победу и забыла после этого весь свой спортивный инвентарь. Вы потом сможете оценить как эксперт эти клюшки. Между прочим, ваши коллеги-спортсмены тоже не подали заявления на предмет возврата им забытых вещей, и это снова и снова заставляет меня думать о том, сколько же людей смиряется с пропажей собственных вещей. Кто-то обивает v нас пороги, а кто-то даже не знает пути сюда, многие сразу не питают никаких надежд.
– Я бы, наверное, тоже так поступил, – подхватил Генри радостно, – я приучил себя не проливать долгих слез по поводу утраченных вещей, ведь большинству из них можно найти замену, разве не так?
Хармс удивленно посмотрел на него, даже несколько скептически, провел рукой по крышке стола, с трудом встал, повернулся к полкам, забитым найденными вещами, и сказал:
– Нет, господин Неф, не каждую вещь можно заменить, далеко не каждую, когда-нибудь вы это поймете.
Затем он предложил Генри пройти с ним к двум другим коллегам, которые уже были в курсе, что он должен сегодня начать работать у них в качестве преемника того сослуживца, который, не проработав и полгода, подал заявление об уходе. Поворачиваясь, чтобы пойти за ним, Генри поднял глаза и взглянул на единственное украшение на стене – фото с изображением канувшего в прошлое локомотива, пыхтевшего по мосту через Рейн и пускавшего пары в лучах вечернего заката. Он уважительно глядел какое-то время на мощного допотопного гиганта, тащившего за собой необозримое количество вагонов, а потом сказал:
– В те времена они, наверное, считались быстрыми…
– Вы интересуетесь старыми локомотивами? – спросил Хармс.
– Нет, я собираю закладки для книг, новые и старые, у меня уже есть несколько потрясающих экземпляров, надо будет вам как-нибудь показать их.
– Пошли, – сказал Хармс.
Начальник бюро находок обогнул с Генри гору чемоданов, подготовленных для аукциона (там были большие и элегантные чемоданы, потрепанные и несколько потерявшие форму, были и густо облепленные множеством наклеек из разных отелей), и повел его к рядам полок, доходивших до самого потолка. Они молча прошли мимо забитых до отказа вместительных ячеек, Генри все чаще замедлял шаг, а перед отделением со шляпами, шапками, шлемами мотоциклистов и какими-то экзотическими головными уборами он и вовсе остановился, потом показал на матросскую бескозырку с надписью на ленте «Эсминец «Гамбург» и пробормотал:
– Эта пропажа наверняка стоила ему больших неприятностей.
Хармс ничего не ответил, он шел дальше, мимо полок с ворохом зонтов, черных, белых и пестрых, как обертки леденцов. Когда Генри заметил, что они здесь запросто могут открыть магазин по продаже зонтов, Хармс ответил, что зонты на аукционе, как правило, выставляются сразу целыми дюжинами как лот из двенадцати предметов, так же, кстати, как трости, мячи и книги. Генри взял из стопки одну книгу и сразу обнаружил в ней закладку по кончику, выглядывавшему изнутри – месячный абонемент в городской бассейн, – он молча сунул его назад промеж страниц. Со все возрастающим удивлением пробежал он глазами по заголовкам других книг, и его поразило, что читают люди в поезде и что за книги они там забывают.
За загородкой, перед самым окном, откуда видна была погрузочная платформа, Генри увидел Паулу Блом – за письменным столом сидела приземистая женщина с черными, коротко стриженными волосами и голубыми глазами, казавшимися синими – такие они были темные; на валике пуловера красовалась брошка в виде серебряного или посеребренного листика гинкго. Хармс познакомил их, назвав Генри «нашей новой вспомогательной единицей», а Паулу представил как «диспетчерский центр бюро находок» куда стекается вся письменная информация.
. – Половина, господин Хармс, – уточнила Паула, – но и этого хватает выше головы, – и, пожав Генри пуку она выудила из стопки бумаг какой-то листок. – Вот, – сказала она, – писулька статс-секретаря уже поступила в Центральную диспетчерскую в Вуппертале да и коралловое ожерелье тоже уже нашлось, – и поскольку Хармс всего лишь кивнул, она положила листок на прежнее место и повернулась к Генри.
Он посмотрел на два скромных букетика на краю письменного стола и спросил:
– У вас сегодня день рождения?
– Позавчера, – ответила она и, когда Генри поздравил ее, высказала сожаление, что не может сию же минуту угостить его кофе.
Генри глядел на ее веснушчатое лицо, понимая, что однажды коснется его своей рукой. От ее лица исходила прохлада и внутренняя сдержанность – это притягивало его.
– Я рад, что мы будем работать вместе, – сказал он и дал Хармсу понять, что готов идти с ним дальше, но Паула прищурилась, и это означало, что она приготовилась сделать выпад. В следующий момент она произнесла:
– Лучший магазин фарфора в городе, к тому же самый большой, ведь есть еще и филиалы фирмы «Неф amp; Плюмбек», если позволительно спросить?
– Да, конечно, – ответил Генри, – меня можно обо всем спрашивать. Фирма была создана Эдмундом Нефом, это мой дедушка, а потом он привлек Йозефа Плюмбека.
– Я купила там чайный сервиз, – пояснила Паула, – синий китайский, сделала себе подарок, теперь каждый день пью чай из этих чашек.
Генри улыбнулся:
– А я больше всего люблю пить чай из моей пузатой кружки – собственной церковной утвари Божьей милости, как я ее называю.
Хармс потянул его за собой дальше, мимо полок, где в одном углу были свалены в кучу детские игрушки, а в другом лежали предметы домашнего обихода, среди них попадались посуда и корзины для пикников, и остановился возле отделения, занимавшего очень много места: там хранились забытые и потерянные предметы одежды. Хармс обратил внимание Генри на пальто, жакеты, шали и свитера; он проделал это молча, не спеша, словно стремился, чтобы Генри сам составил себе впечатление, какими разнообразными могут быть забытые на железной дороге вещи. С ухмылкой разглядывал Генри висевшие на плечиках части одежды, а заметив коричневую монашескую рясу, даже присвистнул от удивления и тут же с удовольствием примерил ее.
– В самый раз, – сказал он и добавил: – Если вы меня уволите, господин Хармс, я пойду в нищие монахи и стану побираться.
– Нашли в «Интерсити» из Кёльна, – сообщил Хармс, – вероятно, это был карнавальный костюм.
– Если вы отправите рясу на аукцион, я хочу поучаствовать и поторговаться, – оживился Генри.
Хармс решительно возразил:
– Это исключается, мы четверо лишены такого права.
Он бережно повесил рясу на место, поглядел сквозь полки вперед и добавил:
– Идемте, я хочу еще представить вас господину Бусману, он самый опытный наш работник, вы многому сможете у него научиться.
Бусман сидел на корточках в своем синем комбинезоне и распаковывал рюкзак, раскладывая вокруг себя его содержимое – нижнее белье, пачки сигарет, несессер, носки, в руках он держал пачку писем.
– Ну, Альберт, – спросил Хармс, – ты уже оповестил владельца?
– Адреса нигде нет, – пробормотал Бусман и добавил с оттенком отвращения: – Ты даже не представляешь себе, что люди пишут друг другу в письмах, мы с тобой такого даже в мыслях никогда не держали.
Словно желая успокоить, Хармс похлопал его по плечу и показал на Генри, снова представив его как «нашу новую вспомогательную единицу», на что Бусман отреагировал очень вяло – всего лишь взглянул на Генри и протянул ему руку, а когда тот сказал: – Мы уже познакомились, еще до того, – он собрался сделать какое-то замечание, но передумал и снова углубился в чтение писем.
– По истечении определенного срока, – пояснил Хармс, – у нас есть право открыть чемодан или рюкзак. Благодаря этому нам уже не раз удавалось установить имя владельца или выяснить, кому принадлежит забытая вещь. Если заявление не поступило, мы сами информируем владельца, и он может получить свою собственность назад, разумеется, заплатив положенную сумму денежного сбора.
– Но, по-видимому, он как-то должен доказать, что эта вещь действительно принадлежит ему, – поинтересовался Генри.
– Конечно, – сказал Хармс, – и должен сделать это весьма убедительно, мы требуем точного описания вещи, расспрашиваем о содержимом или степени износа, о том, как давно находилась вещь в употреблении, об особых приметах, иногда интересуемся даже типом поезда, был ли это просто «Интерсити», или «Интерсити-экспресс», если понадобится, то спрашиваем и номер перрона, и время отправления поезда, одним словом, у нас есть своя система, – и, прежде чем отправиться в свой более чем скромный кабинет, он добавил: – Я оставлю вас сейчас здесь с господином Бусманом. Обо всем, что вам непонятно, вы можете спросить у него.
Бусман задумчиво поглядел шефу вслед, подождал, пока тот не скрылся у себя за дверью, не опустился на стул, не склонился над раскрытым скоросшивателем, и только потом выпрямился, сунул руку в самую глубь сложенных стопкой дорожных пледов и вытащил оттуда бутылку. Затем открыл как ни в чем не бывало одну из корзин, извлек оттуда две стопки и сел рядом с обмякшим рюкзаком на пол. Он наполнил стопочки. Позволив Генри изучить этикетку, Бусман сказал: – «Remy Martin», одна старая женщина принесла мне эту бутылку в знак благодарности за альбом с ее семейными фотографиями; она уже не надеялась получить свое сокровище назад.
Он поднял стопку в честь прихода Генри, и лицо его приняло страдальческое выражение, но только на очень короткое время, а когда они выпили коньячку, он быстро провел большим пальцем по губам. Прежде чем спрятать бутылку под пледами, он поднял ее и подержал против света, кивнул, оставшись доволен количеством содержимого в бутылке. С едва наметившейся улыбкой, поразившей Генри, он вдруг подтянул к себе все еще туго набитый рюкзак.
– Посмотрим, удастся ли нам сработаться, – сказал он, – как долго и насколько дружно. Распаковывай!
Они не взяли Генри на производственное совещание. Хотя, если взглянуть на обстоятельства дела, речь шла, по сути, и о его существовании тоже-, по слухам, давно уже просочившимся к ним, железная дорога предпринимала попытку снова стать рентабельной, для чего предполагалось сократить пятьдесят тысяч служащих, если не больше, однако Хармс оставил его в бюро находок одного за всех – и за дежурного, и за сторожа. Генри не был огорчен, все это как-то мало его заботило. Оставшись наедине с потерянными пассажирами железной дороги вещами, с заактированными доказательствами, так сказать, людской забывчивости, он сварил себе для начала кофе и съел несколько штук сухого печенья из ржаной муки, которое нашел у Паулы на столе. Затем он походил вдоль полок, ломившихся от забытых вещей, покурил, то удивляясь, то развлекаясь, прицельно поизучал стопки книг, стремясь найти в них закладки, но ничего не обнаружил там, кроме того абонемента в бассейн. Задумчиво поглядел на сложенные в коробке вставные челюсти – так и казалось, что одни ощерились на другие, – и не смог пройти мимо детских игрушек без того, чтобы не прижать телами куклу и плюшевого мишку, отчего те так и остались лежать, полные отчаяния, в тесных объятиях друг друга.
Он подбросил теннисный мяч, обнаруженный им среди пестрых строительных кубиков, и дал ему несколько раз попрыгать по полу, потом положил на середину прохода между полками и вытащил свою хоккейную клюшку. Оценивающе оглядевшись по сторонам, он обнаружил подмигивающий ему сверкающими боками пузатый термос-кувшин, взял его с полки и поставил на пол, на расстоянии шести шагов от себя. Генри сделал несколько пробных ударов по мячу, сначала слегка подсекая его, потом коротко и резко размахнулся, отведя клюшку назад, и послал сильным ударом точно в цель. Кувшин перевернулся, крышка отскочила и закатилась под полку, а кувшин закувыркался по полу. В тот момент, когда он поднимал кувшин, чтобы вернуть его на прежнее место, он услышал шаги, после чего тут же задребезжал колокольчик.
Немного поколебавшись, Генри направился к месту приема и выдачи и с грохотом поднял окно. Перед ним стояла девушка, очень полная девушка с прекрасным, кротким лицом, смотревшая на него умоляющими глазами. Генри увидел, что девушка близка к тому, чтобы разрыдаться: ее покатые плечи вздрагивали, то поднимаясь, то опускаясь, а губы дрожали, ей было трудно говорить.
– Добрый день, – сказал Генри как можно приветливее и решился задать вопрос, впервые в жизни произнося эту фразу: – Чем могу служить?
Вот теперь девушка и в самом деле зарыдала и, всхлипывая, принялась объяснять, но таким голосом, словно извинялась перед ним, что потеряла кольцо, свое обручальное кольцо.
– Это случилось в поезде, в туалете, – сказала она, – я хотела вымыть руки и сняла кольцо, а потом услышала объявление, что поезд приближается к станции, я тут же бросилась назад в купе… А вы найдете мое кольцо?
– Успокойтесь, – произнес Генри, – успокойтесь, пожалуйста, но сначала вам надо заполнить формуляр, то есть подать заявление о пропаже, – и он вновь шагнул через проем назад в приемную, подвел девушку к черной конторке и подал ей формуляр. Девушка тупо поглядела на него, потом на Генри, потом снова на формуляр, в полной нерешительности, не зная, с чего начинать. Генри вплотную подошел к ней, показал пальцем на слово «Потерявший» и сказал: – Вот здесь нужно написать фамилию заявителя, – и невольно попытался водить ее рукой.
– Ютта Шеффель, – прошептала она.
Генри, не проявляя нетерпения, повторил:
– Напишите вот здесь – Ютта Шеффель.
Затем он принялся мягко спрашивать по порядку, как стояло в формуляре:
– Место жительства?
– Фленсбург.
– Улица?
– Ам-Ханг, 49.
– Место отправления поезда?
– Фленсбург.
– Конечная цель поездки?
– Дюссельдорф.
Девушка отвечала очень тихо, но довольно четко и быстро заполняла все графы. Только когда Генри спросил о времени отправления поезда и его фирменном названии: «Может, «Моцарт» или «Теодор Шторм»?», она запнулась и затрясла головой:
– Я этого не знаю.
Номер поезда она тоже вспомнить не смогла.
– Ну хорошо, – сказал Генри, – остановимся пока на этом, – Он кивнул ей ободряюще и только хотел еще услышать от нее, читая напечатанный в графе вопрос: – Так какой же предмет мы заявим здесь как потерянный? – Тут девушка принялась так громко плакать, что Генри машинально положил ей руку на плечо и какое-то время молча ощущал толчки и вздрагивания всего ее тела, потом принялся легонько похлопывать ее по плечу. Он даже не удивился, что девушка постепенно успокоилась, а когда она подняла голову, он протянул ей бумажный носовой платок и сказал: – Так, значит, кольцо, ваше обручальное кольцо, вы можете его описать?
Она ответила не сразу, казалось, она роется в своей памяти, но потом все-таки произнесла:
– Топаз, уральский топаз, камень такой с Урала.
Поскольку она явно не хотела или не могла писать сама, Генри взял шариковую ручку и принялся заполнять формуляр, вытягивая из нее ответы.
– А ценность, вы можете указать хотя бы приблизительную стоимость кольца?
– Это наследственное богатство, – ответила девушка, – кольцо принадлежало матери моего жениха.
– То, что оно досталось по наследству, для пользы дела ничего не говорит, – пояснил Генри, – мы должны указать стоимость кольца, ну например, тысячу марок, две тысячи?
Кончилось тем, что он написал то, что посчитал нужным. Потом успокоил ее, как мог, и дал ей подписать формуляр, заверив, что сделает все возможное, чтобы вернуть ей кольцо. Обнадеженная его словами, она повернулась, подошла к деревянной скамейке и села, давая понять, что будет ждать, сколько бы ни понадобилось, до тех пор, пока не получит своего кольца, значившего для нее больше всего на свете; как сестре милосердия, терпения ей было не занимать. Медленно подбирая слова, Генри попытался ее убедить, что это бессмысленно – сидеть здесь и ждать. И хотя их служба работает в общем успешно, результат не всегда достигается так быстро, во всяком случае, одного часа для этого недостаточно, ведь придется писать, звонить, расспрашивать тут и там.
– Я предлагаю вам пойти домой, – посоветовал он. – У нас есть ваш адрес, как только мы найдем вещь, мы сообщим вам.
Понадобилось еще довольно много времени, прежде чем она наконец поднялась, потом долго и робко, в полной нерешительности постояла и начала благодарить Генри, заставив его почувствовать, что поставлено для нее на карту, если кольцо будет потеряно навсегда.
Едва она вышла, Генри тут же опустил окошко, закурил сигарету и, придя в хорошее настроение, сделал несколько коротких и быстрых выпадов влево и вправо, как бы обходя блокирующего его противника. Он был доволен собой. Ему было ясно, что он выдержал испытание. Когда они придут с совещания, ему будет что им рассказать. Так он думал, расхаживая по проходу между полками и теперь уже не удивляясь всем этим забытым и потерянным вещам, а скорее не веря сам себе и приходя в веселое расположение духа от одной только мысли, что, оказывается, его призвание именно в том и состоит, чтобы разговаривать со всеми этими бедолагами, теряющими свои вещи каждый день, и помогать им. Он подошел к окну, поглядел на разваливающуюся на части погрузочную платформу, на заросший одуванчиками и сорняком роскошный в прошлом подъездной путь, – безнадежную запущенность всего не могло оживить даже яркое солнце. Как часто приходилось ему наводить справки, осведомляться вновь и вновь, прежде чем он наконец-то попал сюда!
Перед отделением с забытой одеждой он остановился и, немного подумав, опять вытащил монашескую рясу, приложил ее к себе, но этого ему было мало, он нырнул в тяжелое коричневое одеяние и обвязал себя вокруг пояса шнуром. С большим удовольствием поглядел бы он на себя в зеркало, но в бюро находок, где было все, зеркала-то как раз и не было. Он сложил руки, очень понравился себе в такой набожной позе и пошел, поддавшись неожиданно посетившей его мысли, в кабинет шефа, где стоял телефон. Генри решил позвонить своей сестре Барбаре, она работала у «Нефа amp; Плюмбека», заведовала там отделом по закупке товаров; он надумал представиться ей братом Алоизом и попросить отгадать ее, во что он сейчас одет, а потом предложить исповедаться у него сегодня же вечером. Он восхищался своей сестрой и любил ее, но частенько признавался себе, что жалеет эту рослую мускулистую девушку, которая уже дважды была помолвлена. Только он снял трубку, как задребезжал звонок.
Сбросив на ходу рясу, Генри перепрыгнул через чемоданы и предстал пред очи уверенного в себе заявителя, приложившего к кепи в знак приветствия два пальца. Без следов отчаяния на лице и нервозной торопливости рук стоял он перед ним в своей холщовой рубахе в крупную клетку и, казалось, даже испытывал некое доверие к Генри – он спокойно объяснил ему, что забыл в пассажирском поезде на Ганновер маленький деревянный ящичек, примерно сорок сантиметров на шестьдесят, из полированного тикового дерева.
– Содержимое? – спросил Генри. – Можете ли вы описать содержимое вашего ящичка?
– При мне было два чемодана, – сказал мужчина, – кроме того, рюкзак и букет цветов для моего менеджера, в том и причина, почему я забыл при выходе из поезда ящичек с моим рабочим реквизитом.
– Рабочим реквизитом? – переспросил Генри.
– Я цирковой артист, – объяснил человек, – в ящичке лежат три метательных ножа, изготовленных в Толедо, на клинках есть клеймо, свидетельствующее об их качестве.
– Вы занимаетесь метанием ножей?
– Я член Лиги независимых артистов. Вы можете посмотреть мое удостоверение.
– Такой ящичек был доставлен, – сказал Генри, – мой коллега незадолго до вас заактировал его поступление, и я отправил его на полку с посудой, подождите минуточку.
Генри достал из глубины полки, где были собраны чашки и тарелки, термосы и столовые приборы, ящичек, на крышке которого виднелась переводная картинка с голубком.
– Этот?
Артист был готов тут же схватить ящичек, но Генри воспротивился этому и воспользовался своим правом сначала открыть его и проверить содержимое.
Внутри аккуратненьким рядком лежали в бархатных зажимах, лезвиями вниз, три ножа, по их несоразмерно тяжелым ручкам уже можно было определить, что они имеют особое предназначение.
– Я полагаю, этого для вас достаточно, – произнес артист, – но если вы все еще сомневаетесь, тогда взгляните на знак качества из Толедо, он проставлен на каждом клинке.
Неизвестно откуда появившийся скепсис заставлял Генри колебаться, он вынул один из ножей из ящичка, провел большим пальцем по острию лезвия, поискал толедскую отметину и все никак не мог решиться отдать ящичек этому человеку.
– Ну что еще? – спросил артист с возрастающим нетерпением.
Генри посмотрел на его резко очерченное лицо, увидел сжатые губы, требовательное и одновременно недовольное выражение лица, он был уверен, что перед ним стоит законный владелец ящичка, однако ему казалось, что не хватает еще какого-то важного доказательства.
– Пожалуйста, – попросил Генри, – еще одно маленькое подтверждение правильности ваших слов, простое доказательство, которое не составит труда для профессионала: два-три броска в цель, и вы получите свой ящичек.
Нисколько не удивившись, даже с радостной готовностью артист согласился:
– Пожалуйста, нет ничего проще! – И тут же стал искать подходящее для этого место, проинспектировал взглядом дверь за полками, подошел к ней, пощупал кончиками пальцев мореное дерево и удовлетворенно кивнул: – Прошу вас!
– Что вы имеете в виду? – спросил Генри. Артист отреагировал очень по-деловому:
– Я привык работать с ассистентом.
Генри колебался всего какой-то миг, потом встал спиной к двери, прижавшись телом к деревянной поверхности, выпрямился, затем слегка сжался и снова выпрямился, не дожидаясь команды, он вытянул руки по швам.
– Готово? – спросил артист, придавая голосу особую значимость, как он к тому привык.
Генри не ответил, он только закрыл глаза и тут же услышал свист летящего ножа, который мгновенно метнула эта чужая рука. С треском расщепляя дерево, нож вонзился в дверь на приличном расстоянии от левого плеча Генри. Тот открыл глаза, увидел, как артист заворачивает рукав своей холщовой рубахи, и услышал его слова:
– Неплохо для первого раза, а теперь только спокойно, сейчас мы рискнем выполнить коронный номер.
Но коронный номер не прошел – прежде чем рука артиста метнула нож, чтобы тот вошел в дерево на волосок от головы Генри, раздался громкий голос:
– Что здесь происходит, вы что, с ума посходили?
Рассерженный, с высоко поднятыми руками появился Хармс, встал между ними, прикрывая Генри, и накинулся на артиста:
– Уберите для начала эту вашу штуковину! Артист положил нож в ящичек и сказал:
– Спокойно, юный господин хотел получить доказательства, и он их получил, только и всего!
Генри оторвался от двери и сумел подтвердить слова артиста:
– Так оно и было, я хотел действовать наверняка, поэтому и потребовал доказательств, что ящичек действительно принадлежит ему.
Это признание не смягчило гнева Хармса, он сделал Бусману знак подойти к нему и приказал довести дело до конца.
– Возьми все в свои руки, Альберт, – сказал он и потребовал, чтобы Генри пошел впереди него, следуя в его кабинет.
Он не предложил Генри сесть. Взглянув на фото с историческим локомотивом и покачав головой, он повернулся к юноше, долго смотрел на него озабоченно и с сожалением, давая уже одним своим молчанием понять, как он в нем разочаровался. Но так как Генри стойко выдержал это наказание молчанием и решительно дожидался, какие упреки будут высказаны в его адрес, Хармсу не оставалось ничего другого, как пожать плечами и произнести:
– Ну хорошо, господин Неф, если вы сами этого не понимаете, я вынужден вам сказать следующее: вы вели себя самым неподобающим образом. Вы хотите, как вы сами недавно выразились, чувствовать себя на работе комфортно, стремитесь во всем находить для себя удовольствие и, как я предполагаю, ни к чему не относитесь серьезно. Меня не касается эта ваша жизненная позиция, но здесь, на этом рабочем месте вам придется про это забыть.
– Да что я такого сделал? – воскликнул Генри.
– Устроили варьете. Вы превратили государственное учреждение в балаган или, по крайней мере, создали для этого все условия. Очевидно, вы не отдаете себе в этом отчета.
Хармс взял ножницы, лежавшие у него на столе, уперся кончиками в черную крышку стола и выжидательно посмотрел на Генри.
– Так вы понимаете это или нет?
– От вас, господин Хармс, – сказал Генри, – я усвоил, что каждый, кто хочет получить здесь утраченное имущество, должен сначала представить доказательства законности своих притязаний на него. Я ничего другого не сделал, как только потребовал доказательств!
– Но каким образом! – воскликнул Хармс. – Вы зашли слишком далеко. – И добавил с горечью: – Представьте себе только, если бы нож попал в вас, в грудь или в ухо, как вы думаете, что бы здесь началось, а если бы в шею! Я ведь за все несу ответственность, мне вменили бы эти действия в вину, я свое начальство там, наверху, хорошо знаю.
Вошел Бусман, посмотрел на одного и другого и тотчас же понял, что пришел не вовремя, а потому, решив доложить кратко, только и сказал:
– Я обработал этого типа, он оплатил квитанцию и поставил свою подпись. Между прочим, он просил передать привет и надеется, что сможет у нас выступить, например, когда мы будем всем коллективом что-нибудь праздновать.
– Ах, Альберт, – сказал Хармс, – иногда так хочется не верить больше в нормальный ход вещей.
Женская фигура в черном блестящем плаще отделилась от потока спешащих прохожих, вынырнула из толпы и замерла перед освещенной витриной магазина фарфора фирмы «Неф amp; Плюмбек». Генри увидел это и перешел на другую сторону улицы. Прижимаясь к стенам домов и двигаясь навстречу потоку людей, он подошел поближе и остановился непосредственно за спиной неподвижно застывшей женщины, ничем не обнаруживая себя и наблюдая, что она рассматривает. В витрине была выставлена эксклюзивная коллекция старинного фарфора – красивая экспозиция предметов, размещенных на поднимающихся ступеньками изящных подставках и столиках между ними, ярко освещенная невидимыми источниками света, при этом так, что тонкие стенки мерцающей синевой посуды светились насквозь, – знаменитый китайский фарфор. Специальная табличка извещала, что эти предметы пролежали двести шестьдесят лет на дне моря у берегов Китая в трюме португальского парусника – фрахтового судна «Мария-де-Санта-Круз», затонувшего во время мощного тайфуна; другая табличка содержала много умных сведений, в том числе о том, что искусство фарфора достигло наивысшего расцвета при императоре Канси. Генри так сильно нагнулся вперед, что его щека коснулась высоко поднятого воротника ее мокрого плаща. Он прошептал:
– То, на что вы смотрите, не продается и, кроме того, недоступно по цене.
Против его ожидания Паула не особенно удивилась, возможно, глядя на тонкие и нежные чашки и чайнички, она думала также и о нем. Не поворачиваясь к нему, она спросила – это, очевидно, занимало ее сейчас больше всего, – обладает ли чай, когда пьешь его из этой посуды, иным вкусом, не таким, как из чашек современного серийного производства; она так думает, что какой-то особый вкус у чая, поданного в этой чудесной посуде, все-таки должен быть, ведь как-никак возраст, Китай, далекое экзотическое море…
– Не забудьте про тайфун, – улыбнулся Генри.
Развеселившись, Паула взглянула на него мельком, доверчивое выражение его глаз не ввело ее в заблуждение, она уже была наслышана, что это довольно рискованное занятие – верить ему на слово, хотя бы потому, что он все подвергал сомнению и ко всему относился с легкостью и шуткой. Он не тал спрашивать, куда она направляется, а просто присоединился к ней, как будто так и надо. Когда они стояли у светофора, он предложил ей посмотреть вверх по фасаду огромного здания магазина и сказал:
– Вон там, на пятом этаже, работает моя сестра Барбара, она отвечает за покупку нового товара.
– А вы, – спросила Паула, – почему вы не работаете там же, ведь общение с фарфором доставляет радость, а кроме того, вы могли бы работать на свою семью?
– А мне никто не предлагал там никакой должности, – ответил Генри, – возможно, они вовремя заметили, что я не подхожу для этого и вижу смысл своей жизни не в фарфоре, будь он китайский, японский или голландский. Во всяком случае, они все очень обрадовались, когда я объявил, что хочу работать, как и мой дядя, на железной дороге.
Неожиданно он схватил ее за руку и потащил к черной грифельной доске, стоявшей перед лестницей вниз и исписанной мелом. «Свежие североморские мидии», – прочитал он выразительно, считая, что тем самым уже как бы пригласил ее, и ждал теперь лишь ее согласия, но Паула отступила на шаг и отмахнулась от него:
– Нет, не сегодня, я очень спешу, мне еще надо кое-что сделать.
– Ну тогда давайте не будем терять времени, – сказал Генри. – Ну пожалуйста, – и, не отпуская ее руки, увлек девушку по мокрым ступенькам вниз. В незатейливом помещении с кафельными стенами было прохладно, перед горой ракушек сидел один-единственный посетитель, избегавший чужих взглядов. Они выбрали столик рядом со входом на кухню, Генри потянул носом воздух и изрек: – Горчица и лук, или, по-вашему, пахнет чем-то другим?
– И то и другое – неотъемлемый атрибут, – сказала Паула и закурила сигарету.
Генри уже несколько раз заходил сюда, но хозяин не узнал его; молча, с высоко поднятыми бровями, он принял заказ, а когда исчез на кухне, Генри спросил:
– Вы видели, какая у него мускулистая шея? Как у грузинского борца!
Перед подачей блюда хозяин повязал серый фартук и широким театральным жестом поставил перед ними глубокие тарелки и дымящиеся судки с мидиями, помахал над ними рукой, чтобы разнесся ароматный запах, поиграл размашистыми бровями и пожелал им хорошего аппетита. Мозельское вино, к великому удивлению Паулы, он сначала попробовал сам.
Оба они ловко орудовали створками, отделяя мясо моллюска от ракушки. Генри самозабвенно наслаждался, работал в полной задумчивости челюстями, словно пытаясь понять, откуда берется у моллюсков этот таинственный вкус. Паула понимающе улыбнулась, она знала, что его завораживает. Через какое-то время она спросила:
– Море? Я угадала? Йод, морская соль и водоросли, наверняка вы хотите ощутить их запах и вкус?
– Одно время, – сказал Генри, – каждый раз, когда я ел что-то из даров моря, я невольно думал о гребне морской волны, опрокинувшей меня однажды во время морской прогулки целым классом, было это на Северо-фризском острове, ох уж и наглотался я тогда морской воды! С тех пор я хорошо знаю, каково море на вкус.
– И что же? Вам хочется снова почувствовать этот вкус?
– Вкус – конечно, – согласился Генри, – но только не волну.
– Наверное, всегда так, – задумчиво произнесла Паула, – думаешь об одном и тут же вспоминаешь другое.
Не возражая против ее слов, Генри выпил за ее здоровье и сказал:
– Если бы я знал, сколько радости может приносить работа в бюро находок, я бы еще раньше попросил, чтобы меня перевели к вам.
Несколько секунд Паула смотрела на него довольно скептически.
– Радости? – переспросила она. – Вы это серьезно?
– Вы даже не представляете, что такое – работать проводником, – стал объяснять Генри, – или помощником кондуктора, ведь каждый думает, если он купил билет, значит, может качать права, высказывать неудовольствие, а уж когда футбольные фанаты разъезжаются по домам, в воздухе всегда пахнет жареным, я достаточно поездил проводником, наслушался всякого.
– А что вас так радует у нас? – спросила Паула.
– Да разное, – ответил он.
– Разное – это слишком неопределенно, – протянула Паула.
– Ну хорошо, – согласился Генри, – во-первых, мне доставляет радость то, что я делаю что-то полезное, во-вторых, мне нравятся тамошняя атмосфера, манера общения людей друг с другом, вообще, можно сказать и так мне нравятся мои коллеги, – и, поскольку Паула хранила молчание, он продолжил: – Не каждый день встретишь такого, как Альберт Бусман, чтобы кто-то так терпеливо возился с новичком и передавал ему все, что знает сам, да и иметь такого шефа, как господин Хармс, тоже большое везение. А кроме того, – он умолк на мгновение и посмотрел на нее открыто, – кроме того, я радуюсь, что вы работаете в бюро. Хотите – верьте, хотите – нет, но, когда я утром прихожу и вижу вас сидящей за своим столом, у меня сразу появляется хорошее настроение.
Паула засмеялась:
– Это называется дешево и сердито.
– Тем не менее это так, – заверил ее Генри, – а когда вы тихонько насвистываете, всегда одну и ту же песенку, я готов ее слушать бесконечно, мне не знакома эта мелодия, но она мне нравится.
Он промурлыкал несколько тактов, и Паула сказала:
– Песня называется «Когда дуют ветры», я знаю ее от своей матери, она родом с морского побережья.
Хозяин подошел к их столу, вежливо спросил, все ли их устраивает, и порекомендовал им на десерт желе из красных ягод, только что приготовленное, но они оба отказались от сладкого, вместо этого Генри заказал две порции французского коньяка «Remy Martin». Хозяин с сожалением покачал головой:
– Не держу, не пользуется здесь спросом, может, я могу предложить вам что-нибудь другое? «Аквавит», например?
Генри пожал плечами и, не делая из этого трагедии, с легкостью согласился.-
– Ладно, пусть будет юбилейный «Аквавит», две порции.
Они молчали, пока перед ними не выросли стопочки, а когда выпили, Паула, правда, только слегка пригубила крепкий алкоголь и отодвинула его подальше, Генри сказал, что ему, конечно, «Remy Martin» тоже был бы куда милее, ведь коньяк согревает душу, вдохновляет, вот и господин Бусман уже угощал его из своей бутылочки по случаю вступления в должность.
– Ах, Альберт, – Паула озабоченно покачала головой, – ему приходится нелегко, я восхищаюсь им.
– Что значит – ему приходится нелегко? – спросил Генри.
Вздохнув, Паула ответила:
– Он наверняка пригласит вас потом как-нибудь к себе домой поужинать с ними, Альберт очень хорошо готовит. Он живет вместе с отцом, тому уже, наверное, за девяносто, очень милый старик, но большой выдумщик, начнет сразу рассказывать вам про «Восточный экспресс» или про Транссибирскую железнодорожную магистраль, где он якобы работал вторым машинистом. От вас требуется только слушать его, он очень радуется, когда ему представляется возможность выдать свои незамысловатые байки. Альберт дважды приглашал меня в гости, я просто не могу забыть, как внимателен он к своему отцу, как заботлив. Ну, вы это все сами увидите.
Генри допил «Аквавит», попытался представить себе жизнь обоих мужчин, мелкие банальности будней, которые приносит с собой быт, потом спросил:
– Альберт сам ведет все хозяйство?
– Приходится, – сказала Паула, – ведь старика даже нельзя послать за покупками: случается такое, что тот теряет ориентир и не может найти дорогу домой. Перед самой Пасхой нам пришлось сообща отправиться на его поиски, и господин Хармс тоже принимал участие.
– И вы его нашли?
– В миссии сестер милосердия при вокзале, – рассказывала Паула, – он там обрел слушателей, вешал им лапшу на уши своими выдуманными историями про авантюры в «Восточном экспрессе».
Она взглянула на часы, быстро побросала в сумку зажигалку и сигареты и сказала:
– Мне надо идти, извините, но меньше чем через час начнется фильм.
– А мне тоже можно пойти? – спросил Генри.
Паула ответила довольно безапелляционно:
– К сожалению, нет, этот фильм я хочу смотреть одна, причем дома.
– А если я очень попрошу? – настаивал Генри.
– И в этом случае все равно нет! – решительно сказала Паула.
– Это какой-то особый фильм?
– Да, для меня особый, в нем участвует мой муж.
– Он актер?
– Нет, он озвучивал фильм, это синхронный перевод, я не знаю, говорит ли вам что-нибудь имя Гленн Форд, это очень хороший актер, у нас он обычно разговаривает голосом моего мужа.
Генри кивнул хозяину и нарисовал в воздухе цифры, хозяин понял его и склонился над счетом. Пока они дожидались, Паула попросила понять ее: ей необходимо посмотреть этот фильм одной, даже безмолвное присутствие другого человека будет отвлекать ее и мешать мыслям, от нее ведь ждут, чтобы при встрече она дала свою оценку, прийти же к какому-то определенному мнению ей сподручнее всего будет в одиночестве.
– Жаль, – сказал Генри и не нашел, что добавить еще – так он был огорчен.
Хотя час пик уже прошел, поток машин на улице не иссяк, капли мелкого дождя искрились и сверкали в лучах фар. Они молча прошли по улице вниз до автобусной остановки, и когда Генри предложил проводить ее до дома, она только показала на многоэтажный дом:
– Я снимаю квартиру в этом доме на пятом этаже, и когда смотрю из окна вниз, то вижу, как жарят рыбу на кухне этого рыбного заведения.
Увидев зеленый свет светофора, она быстро поблагодарила его и, сказав: «До завтра!», перешла улицу, помахав ему с другой стороны еще раз на прощание. Она прошла мимо киоска, потом вдруг остановилась и что-то купила там; Генри был уверен, что сигареты, они у нее заканчивались. Он стоял и смотрел на дом, в котором она исчезла, ему хотелось дождаться, чтобы в темных окнах пятого этажа вспыхнул свет, но тут подошел его автобус и он сел в него. Ему нужно было сделать одну пересадку (задремав, он чуть не проехал свою остановку), на краю нового квартала многоэтажек он вышел, в окнах огромных коробок светились неровным синим светом включенные телевизоры. Как всегда, по пустынной зацементированной площадке гулял ветер. Те, кто здесь сталкивался нос к носу, обычно не здоровались друг с другом. Генри пересек детскую площадку и уже почти дошел до своего подъезда в большом доме (он жил на нижнем этаже), как – совершенно непонятно откуда – к нему медленно приблизились сначала два, потом еще пять мотоциклов, резко развернулись и начали кружить вокруг него. Они вынудили его остановиться, он попробовал вырваться из этого кольца, тогда один из парней направил мотоцикл прямо на него, ослепил фарами и почти задел передним колесом. Генри почувствовал на лице жаркое дыхание мотора. Незнакомые лица, незнакомые голоса… Чувствуя себя все больше зажатым машинами и гадая, что у этих парней на уме, Генри крикнул:
– Кончайте базар, что за шуточки? – но реакции не последовало, и тогда он крикнул еще раз: – Прекратите сию же минуту, эй, вы, придурки!
Когда самый маленький из них, волоча ноги по земле, решил остановиться, чтобы преградить ему мотоциклом путь, Генри прыгнул на него, столкнул с сиденья и, перескочив через повалившуюся набок машину, кинулся в свой подъезд. Только оказавшись в безопасности, за надежно закрытой входной дверью, он оглянулся: рокеры окружили пострадавшего, но тот встал на ноги без посторонней помощи.
Дешево же он отделался от них! Генри улыбался, открывая дверь своей квартиры; не зажигая света, он подошел к окну: огни фар выстроились в ряд, выхватывая по очереди на детской площадке из темноты качели, горку, стенку для лазанья, они умчались в сторону искусственных прудов. Генри задернул шторы и зажег свет. Его двухкомнатная квартирка с низким потолком, обставленная только самой необходимой мебелью (тахта, служившая ему кроватью, занимала больше всего места), отвечала его потребностям; когда он обмывал ее с друзьями, она оказалась такой просторной, что полкоманды хоккеистов без труда разместились в ней. Изголовье тахты было вписано в книжную полку, там стояли антологии короткого рассказа – финские и ирландские, польские и американские авторы. Над нешироким письменным столом была прибита на уровне глаз покрытая белым лаком планка, на ней висела в ушках добрая дюжина закладок (основная часть его коллекции лежала в двух картонных коробках), кожаные и костяные, из папье-маше и пластика, одни в виде русалок, другие – сов, третьи – извивающихся змей, среди них затесалась и одна толстая тетка, неистово прижимавшая книгу к своему животу. Генри щелкнул пальцами по закладкам, снял ботинки и бросился на тахту. Он впервые пожалел, что у него нет телевизора, так ему захотелось сейчас посмотреть тот фильм, который смотрела Паула и где ее муж отдал исполнителю главной роли свой голос. Когда зазвонил телефон, он был уверен, что это Паула. Он вскочил, схватил трубку и с наигранной печалью в голосе сказал:
– Одинокий мужчина по имени Генри Неф слушает вас…
– Послушай, – сказала Барбара холодно, – не паясничай и отнесись с вниманием к тому, что я тебе скажу. Мне нет никакого дела до того, где ты проводишь свободное время и с кем, но свое слово нужно держать, а ты сегодня вечером должен был быть в ресторане гребного клуба. Мама прождала тебя целых два часа, это просто непорядочно с твоей стороны.
Генри невольно посмотрел на маленькую фотографию в рамочке, где Барбара, стоя в каноэ на одном колене, угрожающе подняла весло, направив его с улыбкой в сторону снимавшего.
– Мне очень жаль, – начал он оправдываться, – правда, Барбара, черт побери, как я сожалею об этом, но мои планы пошли наперекосяк, кое-что помешало мне, это служебные дела.
– Мама звонила мне, – продолжала Барбара, – а я тебе, то есть пыталась до тебя дозвониться, но никто не отвечал ни у тебя дома, ни в твоей конторе.
– Это наш делопроизводитель, – гнул свою линию Генри, – у меня был с ней длинный деловой разговор, мне ведь необходимо, чтобы меня ввели в курс дела, а я у нее могу многому научиться.
Барбара помолчала немного, потом сказала:
– Не знаю, чему ты можешь у нее научиться, у этого делопроизводителя, но я хочу дать тебе один совет: не берись пока на новом месте ни за что серьезное, каждое рабочее место имеет свои подводные камни.
– А мама дома? – спросил Генри.
– Нет, – ответила Барбара, – она на концерте народного творчества Испании, она собиралась уговорить и тебя пойти с ней на этот концерт.
Барбара опять помолчала, у него не было сомнений, что она сердится, она молчала так долго, что он наконец спросил:
– Ты еще тут? Не волнуйся, я все улажу, мама поймет меня, я ведь по служебным соображениям…
Она прервала его, сказав:
– Оставь маму со своими служебными соображениями в покое, придумай что-нибудь получше.
– Послушай, Барбара, – начал опять Генри, – не поверишь, но я хочу остаться там, где я сейчас работаю. Мне нравится в бюро находок, без дураков, эта работа словно создана для меня, правда, и коллектива лучше этого мне тоже нигде не найти.
– Сколько лет твоему делопроизводителю? – резко спросила Барбара.
– Фрау Блом, – сказал Генри, – немного старше меня, я вообще там самый молодой.
– А что у тебя с зарплатой? – спросила Барбара. – Они наверняка занизили тебе ставку.
– Есть немного, но ты же знаешь, деньги не главное для меня.
– Вот именно, – парировала она, – для этого у тебя есть я, ты хоть отдаешь себе отчет в том, сколько ты мне должен?
– Ты получишь назад все свои деньги, до последнего пфеннига, правда, Барбара, – заверил ее Генри и услышал, как она вздыхает, он знал, что она тактично воздержалась от дальнейших вопросов, и только ждал, чтобы она закончила разговор, но во время очередной паузы, когда вновь послышался шум и треск моторов, ему даже показалось, что он видит ее, как она стоит и, прижимая плечом трубку к щеке, закуривает сигарету. Она вдруг спросила:
– А что ты, собственно, делаешь в этом бюро находок?
– О-о, – обрадовался Генри, – что я делаю? Пожалуйста: прежде всего, я удивляюсь, с утра до вечера только и удивляюсь, сколько всего наши милые граждане теряют и оставляют в поезде, со всеми этими вещами можно открыть огромный магазин торговли мелким товаром, иногда приходится даже изумляться, как вообще можно потерять такую вещь.
– Хорошо, – сказала Барбара, – но наряду с этим, надеюсь, ты делаешь еще что-то путное, или безмерное удивление – это и есть твое единственное занятие? Тогда, конечно, это самая подходящая работа, на которой наш милый Генри может даже состариться.
– Оставь иронию, – пытался задобрить ее Генри, – работа своего тоже требует. От меня, например, чтобы каждый заявитель доказал сначала, что та вещь, которую он заявил как утерянную, действительно является его собственностью, кроме того, я составляю акты и выполняю роль посредника, ты меня понимаешь, Барбара? – Не дожидаясь ответа, он вдруг сказал: – Они опять тут, молчи, пожалуйста.
– Что случилось? – спросила Барбара.
– Они снова собрались.
– Кто?
– Рокеры, они здесь, под моим окном, слышишь?
– Что им от тебя надо? Ну, выкладывай, что случилось?
– Они меня окружили.
– Окружили?
– Ну да, дурачились, им это доставляет удовольствие, они окружают кого-нибудь и наезжают на него, радуясь, что люди их боятся, значит, они – сила.
– Они тебе что-нибудь сделали?
– Нет, но я столкнул одного из них с мотоцикла, он перегородил мне дорогу, понимаешь?
– Вызвать полицию?
– Только не это, – попросил Генри, – вот тогда уж они разозлятся по-настоящему, банда вроде опять уходит.
– Теперь и я их слышу, – сказала Барбара и спросила: – Ты их знаешь?
– Не весь клуб, только некоторых, они живут здесь в поселке, у них есть главарь и своя пивнушка, где они постоянно встречаются, их мотоциклы – это для них все, они живут ради них и с ними они – сила.
– Но если они окружают людей, – рассуждала Барбара, – заставляют их бояться ради собственного удовольствия, надо же что-то предпринять, что-то сделать с этими типами.
– Кто хочет, пусть делает, у меня никакого желания нет, – сказал Генри, – я в это дело не полезу! Только никакого насилия. Поверь мне, Барбара, вмешиваться бесполезно, в этом случае или любом другом ты только потеряешь время и силы и все равно ничего не добьешься. Я говорю себе: пусть все идет своим чередом, ведь когда-нибудь это само по себе приведет к большой беде, нужно только следить, где во всей этой истории твое место.
Он услышал ее учащенное дыхание. Она спросила:
– Они еще здесь?
– Кто?
– Рокеры, они все еще там?
– Они удаляются, едут цепочкой друг за другом, очень медленно, как на показательных выступлениях.
– Если они попытаются устроить тебе засаду, если будут угрожать тебе, Генри, ты можешь переночевать у меня, знай это.
– Да, я знаю, Барбара, спасибо тебе, но вряд ли они задумали что-то против меня, я просто случайно подвернулся им под руку.
– Будем надеяться, – сказала Барбара, – и не забудь позвонить маме и извиниться, она не очень хорошо себя чувствует.
Паула никак не могла сконцентрироваться на работе. Она все время отрывала взгляд от актов и неотрывно смотрела на маленький кабинетик Хармса, где с утра сидел худенький человечек – не с самоуверенным видом, вполне бы отвечавшим его назначению, а скромно, скорее в позе просителя – и принимал от Хармса бумаги, которые тут же быстро просматривал, задавал вопросы и получал на них, судя по его виду, удовлетворительные ответы. Время от времени он отпивал по глоточку кофе, предложенного ему Хармсом, один раз даже отломил кусочек ржаного кекса и просунул его сквозь прутья в белую клетку снегиря.
Еще до того, как он появился, Паула узнала, что к ним нагрянет с ревизией эксперт, который должен оценить по поручению отдела кадров эффективность работы их участка, она также знала, что они в бюро находок не единственные, чья деятельность подвергается сейчас контрольной проверке. Чтобы сделать работу железной дороги рентабельной, на самом верху решался вопрос об увольнении пятидесяти тысяч сотрудников или даже того больше; Ханнес Хармс доверительно сообщил ей об этом, пожав недоуменно плечами. Она уже несколько раз была близка к тому, чтобы встать, пойти под любым предлогом к шефу и хоть краем уха услышать, о чем идет речь, а может, даже уловить тайный знак, поданный Хармсом, что помогло бы ей понять, как обстоят дела, но присутствие чиновника удерживало ее от этого. Пока она пыталась себе представить, как проходит беседа и о чем они говорят, в проходе между рядами полок возник Генри: на голове котелок, на плече зонт, а на лице ухмылка, тут же сменившаяся холодной надменностью. Небрежной походкой приблизился он к ее столу, приподнял шляпу и, когда Паула, занятая своими мыслями, ответила ему вымученной улыбкой, напыщенно произнес:
– Вы позволите? Лорд Блейк Паддингтон. Если не ошибаюсь, имею честь разговаривать с миссис Блом? И это доставляет мне особую радость!
Паула невольно неодобрительно покачала головой, показывая на застекленную дверь, сказав при этом:
– У нас визитер, и он определенно не склонен к подобным шуткам.
Генри некоторое время понаблюдал за незнакомым человеком в конторке Хармса, а потом сказал все тем же наигранным голосом:
– Если мне будет позволено высказать предположение, то в лице этого господина мы имеем дело с компетентным по вопросам имущества чиновником; я догадываюсь, он хочет оценить стоимость лотов для следующего аукциона.
– Это аудитор, – пояснила Паула, – его прислал сюда отдел кадров.
– Скажите пожалуйста! – выразил удивление Генри. – Другими словами, персонифицированная судьба.
– Во всяком случае, его визит будет иметь последствия, – вздрогнула Паула, – для одного из нас.
– Прежде чем это произойдет, надо успеть кое-что сделать, – засуетился Генри и, положив шляпу и зонт Пауле на стол, предложил ей поехать в ближайшие выходные в Любекскую бухту.
И хотя он сразу понял, что она отклонит его предложение, он все же обрисовал ей перспективу длительной прогулки по пляжу с морским ветром в лицо, посещение, например, морского музея или огромного аквариума с плавающими сельдевыми акулами; привлекательным казалось ему также зайти в гости к знакомому художнику, жена которого держит свое кафе, славящееся на всю Северную Германию лучшим фруктовым тортом домашнего приготовления. Она смотрела на него испытующим взглядом с нескрываемой Долей симпатии, и только когда он упомянул, что для этой совместной поездки он собирается одолжить у сестры БМВ, она сказала:
– Не пойдет. Вы очень милый юноша, Генри, но это действительно невозможно.
Она опять переключила свое внимание на конторку шефа, где Хармс стоял сейчас с уполномоченным у стеклянной перегородки, и оба молча долгим выжидательным взглядом смотрели на них, словно ждали, что им будет наглядно продемонстрировано качество работы. Генри наклонился к ней, предложил сигарету, она взяла и положила ее рядом со своей пишущей машинкой, отмахнувшись от предложенного огонька, потом, не сейчас.
– Жаль, – огорчился он, – но, может, попозже?
– Может быть, – ответила Паула машинально.
Ему очень хотелось провести рукой по ее волосам, но он резко изменил наметившееся уже было движение руки, взял шляпу и зонт и исчез за полками.
Под дорожными пледами что-то задвигалось, выперло вверх, Генри знал наверняка, что это рука Бусмана, достававшего кое-что из своего тайника. Стоило Генри ступить на его рабочую территорию, как ему тотчас же была протянута бутылка. Глоточек? Для поднятия настроения? Генри покачал головой. Подняв настроение себе и спрятав бутылку, Бусман потащил Генри к откидному столику, на котором находился дипломат черного цвета с документами, он был открыт, на одном написанном от руки документе лежали очки Бусмана.
– Посмотри сюда, мой дорогой, здесь ты можешь кое-чему поучиться. Ничего, если я буду говорить тебе «ты»?
– Что за вопрос, конечно, – отреагировал Генри, поняв, что Бусман уже несколько раз «поднимал себе настроение».
Опытный «следопыт» был как раз занят тем, что исследовал содержимое дипломата, найденного в экспрессе «Фридрих Шиллер», имя владельца он уже установил, но адреса пока не нашел. Даже его. прошедшего сквозь огонь и воду, привел в изумление текст этих документов, он все еще никак не мог поверить в то, что прочитал.
– Насколько я смог установить, – сказал Бусман, – этого типа зовут Конрад Шварц-Эстерланд, и всеми этими бумагами он хочет доказать, что может выступать в роли шефа. Вот, смотри, приложено объявление, опубликованное во «Франкфуртер альгемайне».
Приступ кашля не дал ему говорить, он подошел к открытому окну, поднял лицо и застыл на какое-то время, отказавшись от предложения Генри принести ему стакан воды. Откашлявшись, он вернулся к столу, взял рукописный текст и продолжил:
– Послушай, дружище, из этих бумаг ты можешь набраться опыта, что такое живительный воздух саморекламы, может, тебе это когда-нибудь пригодится. Значит, зовут этого претендента на начальственную должность Шварц-Эстерланд, он дважды был женат, имеет двоих детей, у него второе высшее, юридическое, образование. Тут, Генри, нам до него далеко. Резюме направлено в Объединение северогерманских фирм по производству молочной продукции. А теперь держись: этот самый Шварц-Эстерланд, характеризующий себя как «ведущую единицу» и претендующий на такой же ранг в объединении, уже занимает начальственную должность, и где бы ты думал? В газетно-издательском концерне, издающем журналы самого разного профиля. Заслуги, которые он себе приписывает, он перечисляет весьма бойко; само собой, он рационализировал журнальное производство, но самым большим своим достижением считает создание экспериментальной кухни, где они опробовали свеженькие рецепты и рассылали их потом по всем редакциям, особенно в иллюстрированный журнальчик под названием «Гурман». Представляешь? Кто однажды попал наверх, Для того важно отныне уже всегда оставаться на этом Уровне; стоит только чуть спуститься, назад хода нет.
– Это не для меня, – сказал Генри, – с меня вполне хватает пребывания там, где я есть, упражнения по подтягиванию вверх всегда вызывали у меня только смех.
Бусман кивнул и все-таки протянул ему документ, призывая прочесть его от начала до конца и обратиться потом в этот самый газетно-издательский концерн для запроса официальной справки об этом типе.
– Напиши-ка туда, – распорядился он, – и попроси у них адрес Шварца-Эстерланда, он ведь все еще числится у них.
Генри не пришлось ничего писать самостоятельно, у Паулы уже лежал наготове стандартный формуляр запроса, который она как раз собиралась заполнить. Она вставила его в машинку, пока она печатала, Генри смотрел ей через плечо, а когда она встала в тупик при формулировке «ведущая единица» и повернула к нему вопрошающее лицо, он ответил:
– Это действительно так называется, «ведущая единица», это примерно то же, что вы для меня со вчерашнего дня: куда поведете, туда и пойду.
– Шутник, – сказала Паула и уже больше ни о чем не спрашивала.
Неожиданно за их спиной вырос Хармс. Он подождал, пока Паула вытащит из машинки заполненный запрос, и лишь тогда послал Генри в привокзальный буфет за сосисками и пивом. Пяти порций горячих «венских» и пяти банок пива должно было хватить для импровизированного завтрака, к которому он пригласил их визитера. Они сдвинули два стола, притащили стулья, Бусман согласился сесть на складной.
Они уже расселись, когда Генри возвратился с плетеной корзиной в руках, которую предусмотрительно прихватил с полки. Это был один из потерянных предметов, болтались даже цветные ленточки с пикника. Уполномоченному он был представлен как «наш новый вспомогательный кадр»:
– Господин Неф, наше пополнение, господин Фенски…
Все остальные уже удостоились этой чести. На имя Неф Фенски не среагировал, правда, посмотрел на Генри с выражением утомленной благожелательности, но вопросов не задал. Пока Генри раздавал сосиски на бумажных тарелочках и доставал из корзинки банки с пивом, Хармс посчитал нужным сказать несколько слов: он рад, что ему представилась возможность поприветствовать господина Фенски в этих стенах, и он сделает все возможное, чтобы помочь господину Фенски составить правильное представление о здешних условиях работы, если, конечно, в этом есть необходимость, под конец он пожелал ему успехов на его аудиторском поприще. После этих слов Хармс широким жестом пригласил приступить всех к еде.
Они сидели, не произнося ни слова, макали свои сосиски в горчицу, отщипывали по кусочку от булочки и бросали время от времени на уполномоченного вопросительные взгляды, ожидая от него первой похвалы, но так как он только беззвучно и сомнамбулически жевал («Как сонная черепаха», – подумал Генри), Хармс посчитал нужным похвалить сосиски из привокзального буфета: мы в них еще ни разу не разочаровались. Пиво они пили прямо из банок, за исключением Паулы: та предпочла минеральную воду. Но эта скованность за столом, это тягостное молчание… Они уже начали было перемигиваться, но тут же подняли головы и даже перестали жевать, потому что Генри, точным броском отправивший свою перемазанную горчицей тарелочку в мусорное ведро, неожиданно повернулся к господину Фенски и спросил:
– А правда ли, что вы собираетесь тут разглядывать нас, словно в лупу? До меня, по крайней мере, дошел такой слух.
Фенски засмеялся, но каким-то деланным смехом, он не был готов дать исчерпывающий ответ на этот прямой вопрос, поэтому лишь сказал:
– Кто много думает, до того слухи и доходят, нет-нет, я только хочу немного оглядеться здесь, присмотреться и кое-чему научиться.
– Но вы же будете писать отчет, – не унимался Генри, – это так полагается, писать отчет и давать рекомендации, так ведь? А может, даже и оценку нашей работе.
Фенски ничего не ответил на этот выпад, он отхлебнул немного пива и задумчиво поглядел на Генри, не то чтобы недружелюбно, но как-то задумчиво и устало, а потом сказал:
– Вчера, господин Неф, только вчера я разговаривал с вашим дядей, и у меня сложилось впечатление, что он ждет вашего визита к нему.
– Он так сказал? – спросил Генри.
– Нет, – ответил Фенски, – он просто хотел бы всего лишь услышать, как вам нравится здесь, на этой работе.
– Спасибо, – успокоился Генри, – я с удовольствием скажу ему об этом, – и, поймав взгляд Паулы, полный ожидания и надежды, как ему показалось, добавил: – То, что он услышит от меня, очень его обрадует, чувствовать себя лучше, чем в бюро находок, просто невозможно, здесь весело, а кроме того, эта работа дает хороший импульс для фантазии.
– Для какой фантазии? – переспросил Фенски с ухмылкой.
Генри после короткого раздумья пояснил:
– Вон, посмотрите туда, на детскую коляску перед полками, она почти новенькая. Когда такую вещь доставляют сюда, то не просто автоматически составляешь акт, а невольно задаешься мыслью: как могли ее потерять? Начинает работать воображение, рисуя одну картину за другой. То ли ее забыли в великой спешке, то ли произошла ссора? Ведь детская коляска не книга и не зонт.
Взглянув на коляску, Фенски спросил:
– Как давно вы здесь работаете?
– Не очень давно, – сказал Генри, – до моего первого юбилея еще целая неделя.
– Господин Неф уже прошел испытательный срок, – ответил за него Хармс и, словно желая повернуть разговор в другое русло, возможно, ему не понравился тон, которым разговаривал с аудитором Генри, поспешил упомянуть, что в течение одного года они обработали примерно тысячу двести заявлений, а другие данные, за последние пять лет, без труда можно посмотреть у него в бюро.
– В этом году к нам поступило без малого тысяча триста заявлений о забытых предметах, – сообщила Паула.
Фенски повернулся к ней и уважительно повторил названную цифру:
– Тысяча триста, кто бы мог подумать!
Выкинув вперед ногу, через проем в приемной к ним шагнул Маттес – железнодорожный полицейский, на правах старого друга он каждый раз появлялся у них по-свойски таким вот образом; коротко поздоровавшись, он положил на стол какой-то сверток, упакованный в коричневую оберточную бумагу.
– Для вас, чтобы было чем заняться.
От пива он отказался. То, что он был с Хармсом на короткой ноге, вытекало из его замечания, что этот сверток он сразу бы выбросил в мусорный контейнер во дворе, отправил бы ко всем старым тряпкам и шмоткам, но не смог решиться на такое самоуправство.
– Доставили из поезда местного назначения, шедшего из Вильгельмсхафена, – сказал он, – лежало в сетке для багажа, я обследовал, что к чему, и скатал заново, как сумел.
Хармс разорвал оберточную бумагу, вытащил оттуда свернутую в трубку материю, развернул ее, широко раздвинув руки, и стал дожидаться первой реакции.
– Флаг, – хмыкнул Генри, – старый, по-видимому, кайзеровских времен.
– Кайзеровский имперский военный флаг, – констатировал Фенски и протянул руку, чтобы пощупать материю и постараться определить ее возраст.
Он предположил, что флаг принадлежит одному из ферейнов, из тех, что блюдут старые традиции, и добавил еще, что этот предмет здесь долго не залежится, тот, кто потерял его, быстро спохватится.
– Все, что родом из кайзеровских времен, – заявила Паула, – не попадает в наш красный список, – объяснила она полицейскому, а тот удовлетворенно кивнул и распрощался со словами:
– Ну тогда желаю вам успеха.
Пока Бусман скатывал флаг, собираясь заактировать потерянный предмет и отправить его на полку, Генри все смотрел и качал головой, а когда поднял взгляд, Фенски спросил его:
– Вы заметили что-то особенное?
– Нет, – сказал Генри, – я только удивляюсь.
Фенски опять поинтересовался:
– Могу я спросить, чему?
– Я этого никогда не смогу понять, – ответил Генри, – на стене висит такой флаг, а под ним сидят за столом и пьют пиво немцы, сидят, поют песни тех времен и спрашивают друг друга, а ты помнишь, как это было и как тогда ко мне обращались, а потом глядят друг на друга стеклянными глазами и хлопают друг друга по плечу. – Он, Генри, видел как-то раз такое в Киле, в одном кабаке в порту, в задней каморке, зарезервированной для целой компании. Генри еще добавил. – И это все были очень взрослые мужчины, поседевшие на службе и в семейной жизни.
Поначалу казалось, что большинство присутствующих одного мнения с Генри, но тут Фенски встал и сделал Хармсу знак, что хочет вернуться в бюро, и прежде чем они покинули сидевших за столом, Фенски повернулся к Генри и с плохо скрываемым неудовольствием сказал:
– Вы очень уверены в своем превосходстве над другими, господин Неф, считаете себя умным и просвещенным. Но ясно только одно: кто слишком молод, тот не может понять, что такое традиции. Для начала надо иметь прошлое за плечами, обрести солидный жизненный опыт, чтобы суметь постичь такую истину, как передача традиций другим поколениям.
Генри улыбнулся, а потом возразил:
– Значит, тогда в Киле всё, что я видел и слышал в том кабаке, были печальные попытки реанимации традиций, мысленно все возвращались к великим временам или к тому времени, которое они считали великим, и всё только ради того, чтобы доказать себе, что когда-то играли в жизни важную роль; прошлое ведь как нельзя лучше годится для того, чтобы как-то утвердиться или хотя бы оправдаться.
Фенски не стал развивать тему, он вопросительно посмотрел на Хармса, и тот, ни слова не говоря, первым направился к себе в кабинет.
– Я слишком много курю, – осудила себя Паула, когда они остались одни, и тут же закурила сигарету; некоторый оттенок задиристости читался на ее лице, затем появилась озабоченность, которую Генри не сразу заметил.
Она кивнула в сторону бюро, где склонились над бумагами Хармс и Фенски, просматривая их, на короткое время они отрывались от документов, обсуждали их и снова склонялись над столом.
– Проверяют, – произнесла она.
– Проводят экспертизу, – вынес свое суждение Генри, – сегодня на экспертов и контролеров большой спрос, без них нигде не обходится, – и после небольшой паузы добавил: – Кто знает, к какому выводу придет этот тип; я не удивлюсь, если при случае он подвергнет экспертизе свое собственное заключение.
– Может, он установит в результате проверки, что один из нас здесь лишний, – высказала предположение Паула.
– Это уж точно, – согласился Генри, – и я уже предчувствую, кто из нас окажется за бортом. – И, словно желая укрепить ее в своем внезапно возникшем беспокойстве, он еще добавил: – Не Альберт покажется ему здесь не столь необходимым, не господин Хармс и уж во всяком случае не вы, добрый дух этого заведения. Этой персоной буду я, Генри Неф, и тогда мне придется лишь приподнять шляпу и раскланяться, вот увидите.
Паула обескураженно смотрела на него и вдруг сказала с неожиданной для себя симпатией в голосе:
– Ах, Генри, да у вас талант, определенно талант причинять себе вред!
Ближе к полудню в помещении привокзальной благотворительной миссии никого уже не было. Ночевавшие здесь бедолаги покинули ее стены, отправившись на поиски хоть какого-то источника существования. Горы тяжелой посуды, оставшейся после завтрака, были практически убраны, и в широко распахнутые окна устремился прохладный воздух. Генри походил вдоль длинного заляпанного стола, покричал немного в расчете на появление хоть одного живого лица, открыл потом дверь и оказался в огромной кухне. Женщина в белом халате поверх серой форменной одежды приветливо посмотрела на него, не выпуская из рук столовый нож и надрезанную булочку, очевидно, его лицо показалось ей знакомым.
– Вы не?… – спросила она, не договорив до конца. Генри тут же подтвердил:
– Да, я оттуда, из бюро находок.
– Ну я это и хотела сказать, – обрадовалась женщина.
Генри водрузил на стол некий странный портфель, тяжелый, квадратной формы, очевидно из свиной кожи, и нежно провел по нему рукой, прежде чем щелкнуть замком. Он вытащил из портфеля папку-скоросшиватель, положил ее рядом с подносом, на котором лежали готовые булочки, раскрыл ее и показал на фотографию, прикрепленную к документу.
– Не можете ли вы помочь мне найти этого человека? – обратился к ней Генри. – Мы знаем только, что с ним произошел несчастный случай – он, вероятно, хотел спрыгнуть с идущего поезда – и что именно вы оказали ему первую помощь; нам сообщил это железнодорожный полицейский, который принес его портфель.
– Ну конечно, – сказала женщина, – конечно, я помню этого человека, здесь нас никто еще так не благодарил, как он, не каждый день встретишь теперь такую вежливость.
– Он сильно пострадал? – спросил Генри.
– У него небольшая контузия, – пояснила женщина, – сильный ушиб и ссадины. Когда он спрыгнул с поезда, то ударился с размаху о багажную тележку и на какое-то время даже потерял сознание. Ах, какой вежливый человек!
– А не знаете ли, куда он пошел? – спросил Генри. – У нас он не объявлялся и про свой портфель не спрашивал.
– В «Адлер», – охотно ответила женщина, – он хотел попасть в гостиницу «Адлер», маленькая такая гостиница на привокзальной площади, там для него зарезервирован номер, если я его правильно поняла. Он хотел там немного отдохнуть, видимо, его беспокоят боли.
Генри убрал в портфель папку-скоросшиватель, поблагодарил женщину и попросил у нее жестом разрешения взять одну булочку. Она подбадривающе кивнула ему. Жуя на ходу, он быстрым шагом пересек вестибюль и направился к выходу в город. Еще стоя на ступеньках, Генри оглядел темные фасады домов на той стороне покрытой булыжником площади, тут же увидел вывески двух больших отелей, но не нашел гостиницы с претенциозным названием «Адлер».[1]
Он сбежал по ступенькам, грязные, взъерошенные голуби выпорхнули из-под его ног, он бросил им кусочек булки, кинул также монетку в открытый деревянный ящичек молоденькой девушки, игравшей на гармошке «Подмосковные вечера». Полицейский, которого он спросил про гостиницу «Адлер», направил его в тихий боковой переулок, где он и нашел ее по соседству с пивнушками, турагентством и дешевыми магазинчиками.
Генри заглянул сначала внутрь через стеклянную дверь: пол выложен желто-коричневыми мраморными плитками, рядом с очень скромной стойкой администратора висит огромное, обрамленное ракушками зеркало. За искусственной зеленью просматривались круглый стеклянный столик и три стула, поставленные скорее ради модного интерьера; перила узкой витой лестницы, которая вела, по-видимому, в номера, представляли собой толстый корабельный канат. Он открыл дверь и вошел. Никто не ответил на его призыв, только когда Генри хлопнул ладонью по звонку на стойке, послышались четкие, цокающие шажки юной леди, больше похожей на пажа. Метнув быстрый взгляд на портфель, она поспешила изобразить на лице сожаление и, прежде чем Генри успел сообщить ей о цели своего визита, вежливо сказала:
– У нас, к сожалению, нет ни одного свободного номера.
– А мне и не нужно, – возразил Генри, – я ищу господина Лагутина, Федора Лагутина, я из бюро находок.
– Господин Лагутин остановился у нас, он гость Высшей Технической школы.
– Могу я с ним поговорить?
– Он в своем номере, мне кажется, он не очень хорошо себя чувствует, с ним произошел на вокзале несчастный случай.
– Скажите ему, что пришел человек из бюро находок и хочет вернуть ему его собственность.
Пока девушка звонила в номер, Генри прошел к искусственным деревьям, поставил портфель на стеклянный столик и с интересом уставился на витую лестницу. Он невольно думал при этом об исписанных страницах в портфеле, которые он, согласно своему долгу, внимательно прочел, о написанном от руки резюме, о биографии этого человека, о переведенном на немецкий язык и ксерокопированном свидетельстве об окончании университета в Саратове, подтверждавшем, что Федор Лагутин сдал все выпускные экзамены на «хорошо», а математику даже на «отлично» и защитил диплом по специальности биолог. Генри вызвал в памяти его облик (к документам была приложена фотография): узкое лицо с темными глазами, отмеченное выражением внутреннего спокойствия и некоторой меланхолии; судя по фото, на вид ему можно было дать тридцать – тридцать пять лет, но из биографии Генри узнал, что этому ученому ровно столько же лет, сколько ему самому – двадцать четыре.
– Господин Лагутин сейчас спустится, – крикнула от стойки девушка.
Генри очень удивился, увидев, как по витой лестнице спускается худенький мужчина маленького роста: осторожно ставя ногу на ступеньку, придерживаясь рукой за канат, он передвигался очень медленно; еще до того, как сойти с последней ступеньки, он помахал Генри свободной рукой, очень приветливо, с немой просьбой отнестись с терпением к его медленному способу передвижения. На Лагутине были длинный, доходящий чуть ли не до колен свитер из грубой шерсти, новенькие, стоящие колом джинсы и кожаные ботинки в дырочках с ремешком. Еще с лестницы он увидел свой портфель, сойдя же, погрозил ему пальцем и с улыбкой сказал:
– Ах, вот ты где, бродяга, – но не забрал его сразу, а сначала представился, назвав имя, фамилию и место рождения: Самара.
При первых же произнесенных словах Генри обратил внимание на его своеобразный немецкий, который показался ему смешным, но в то же время и чем-то порадовал – такой он был старомодный, из далеких времен и сегодня абсолютно неупотребимый.
Генри сообщил:
– Меня зовут Генри Неф, я из привокзального бюро находок, железнодорожная полиция доставила ваш портфель, как нам стало известно, вы потеряли его во время несчастного случая.
Господин Лагутин сдержанно улыбнулся и сказал:
– Несчастный случай? Ну да, конечно, поезда сбрасывают пассажиров, если те спрыгивают на ходу.
Он тут же схватил свой портфель, поставил его на колени, ласково провел рукой по потемневшей от времени и непогоды коже и поведал:
– Этому портфелю немало досталось, он многое повидал, меня ничто бы не смогло утешить, если бы он пропал навсегда. Мне предстоит тщательно обдумать, господин Неф, каким образом я смогу отблагодарить вас, но прежде всего я хочу выразить свою благодарность за ваш приход.
– Это входит в мои обязанности, – сказал Генри, – мы помогаем потерпевшим и возвращаем нашим клиентам утраченную ими собственность, – и прибавил несколько игриво: – По правилам вы должны теперь доказать мне, что портфель действительно принадлежит вам, но я думаю, это излишне, я узнал вас по фото.
Он с искренним прямодушием, как бы устанавливая личность потерпевшего, посмотрел на него в упор, а тот даже отвел со лба черную прядь волос, явно облегчая этим задачу Генри.
– Нет, у меня решительно нет никаких сомнений в том, что вы и есть тот ученый Лагутин, я ведь еще и с вашими документами ознакомился и знаю, что наша Высшая Техническая школа пригласила вас сюда. Я был обязан это сделать согласно своему служебному долгу.
– Почетное приглашение я получил на Пасху, – разъяснил Лагутин, – для меня и всей моей семьи это было как чудо, как пасхальный подарок, и я был счастлив, когда узнал, что в технических университетах Германии ведутся исследования по тем же темам и мне великодушно предоставлена возможность принять участие в разработке одной из программ.
Он сделал девушке за стойкой знак рукой, но не стал дожидаться, когда она подойдет к столику, а сам пошел ей навстречу и спросил, не может ли он попросить ее об услуге – принести им два чая с лимоном и немного рома и меда. Девушка помедлила, бросила беглый взгляд на свои часики, Генри был уверен, что она вежливо откажет ему в этой просьбе, но та вдруг выразила готовность исполнить желание Лагутина.
– Я посмотрю, что можно сделать, – сказала она. Вернувшись к столику, Лагутин извинился, что не предложил сразу Генри никакого освежающего напитка: у него в голове все еще нет полной ясности, трещит и гудит, как при грозе, а в мозгах маленькая свистопляска, как после первого падения с лошади.
– Надеюсь, вы скоро избавитесь от последствий этой травмы.
Генри сунул руку в нагрудный карман, вытащил оттуда сложенную бумажку и положил ее на стол:
– Сожалею, но вы должны это подписать, обычная квитанция о получении вещи, это необходимо, поскольку ваш портфель уже заактирован.
Генри протянул Лагутину шариковую ручку и показал ему, в каком месте тот должен поставить свою подпись. Увидев незнакомые буквы, он только еще спросил:
– Это по-русски?
– Да, так я обычно расписываюсь, – сказал Лагутин, – вы можете сравнить мою подпись с той, что на документах, конечно, как всегда, по-русски. Я, правда, башкир по национальности, но мой родной язык – русский, в Самаре живет много башкир.
– Но учились вы в Саратове?
– В Саратове, на Волге, оба города находятся недалеко друг от друга, у них много общего из того, что несет с собой история – набеги, крестьянские восстания, разорения, пожары, войны.
Губы Лагутина расплылись в беспомощной улыбке, он уставился на обрамленное ракушками зеркало, удивленный и словно не верящий сам себе, что сидит здесь. Чтобы сказать Генри что-то приятное, он спросил через некоторое время, не предъявляет ли работа в бюро находок особых требований к человеку: как он себе представляет, не каждый способен выслушивать просьбы, обвинения или даже требования со стороны клиентов, да и разбираться в особых свойствах потерянной вещи тоже не такая простая и легкая задача, можно предположить, сколько проклятий сыплется на их голову и высказывается угроз в их адрес.
– А-а, – сказал Генри, – поначалу не перестаешь удивляться, а потом привыкаешь и действуешь по заведенной схеме.
Лагутин положил руку на портфель и возразил:
– Не скажите, вот он пришел ко мне не своими ногами и не по заведенной схеме, за то, что я снова держу его у себя на коленях, я обязан благодарить только вас.
– Ну так уж получилось, – отнекивался Генри, не придавая обстоятельствам особого значения, – я увидел ваши документы, значит, мне и нужно было вести это дело. Я узнал, что первую помощь вам оказали в миссии при вокзале, так что найти вас было не трудно, – и, пожав плечами, добавил: – Нельзя все делать только по заведенному порядку, в вашем случае для меня было важно передать вам портфель лично. Я думаю, что в бюро находок в Самаре мои коллеги поступили бы точно так же.
– В Самаре, – произнес задумчиво Лагутин, – в прекрасном городе Самаре никто ничего не теряет и потому вряд ли там есть бюро находок.
К столику подошла девушка с подносом в руках, она составила на стол тарелки и чашки, а порционный горшочек с медом сразу подвинула Лагутину, сказав при этом с наигранным сожалением, что это, конечно, не мед диких пчел, а самый обыкновенный немецкий цветочный мед, собранный на полях рапса, меда диких пчел здесь не найти. Лагутин взял ее за руку и подмигнул ей:
– Дорогая Таня, если судьба будет ко мне столь же благосклонна, как и вы, и я в один прекрасный день снова приеду сюда, я привезу для вас из дому две банки меда диких пчел, он так же сладок, как звуки свирели в ночной степи, вот пусть господин Неф будет свидетелем, я это торжественно обещаю.
И, повернувшись к Генри, он объяснил:
– У моего деда шестьсот ульев, они стоят в глухом лесу. У нас очень распространено пчеловодство, если не сказать больше: оно у нас образцово-показательное, не случайно киргизы называют нас, башкир, пчеловодами.
– Господин Лагутин еще играет на флейте, – сообщила девушка Генри.
– Это наш самый любимый музыкальный инструмент, он называется курай, – улыбнулся Лагутин и, вздохнув, весело добавил: – Разводить пчел и играть на тростниковой флейте – это мы умеем, но на этом все и кончается.
– А как же математика? – спросил Генри.
– Ах, господин Неф, – сказал Лагутин, – математики – это такой народ, им все равно, где они об этом думают, бывает так, что в какие-то особые минуты они оказываются в плену парадоксов или на них нисходят озарения, и тогда они задаются тем же вопросом, что и Эпименид:[2] а где же истина?
Он сделал несколько глотков чая, закрыл глаза, весь отдаваясь вкусу и аромату напитка, и Генри вдруг показалось, что он узнает наконец в этом неподвижном красивом лице азиатские черты.
На стойке зазвонил телефон, девушка извинилась и оставила их одних. Господин Лагутин открыл портфель, вынул оттуда пачку табака и упаковку папиросной бумаги и, призвав взглядом Генри следить за его действиями, ловко скрутил одной рукой «козью ножку», – самокрутка получилась упругой и ровной, он протянул ее Генри:
– Табак, может, и плохой, но приносит меньше вреда, чем здешний.
Затем он скрутил вторую сигаретку для себя и прикурил от огонька, предложенного Генри.
– Что, сеном пахнет? – спросил он. – Табак имеет, конечно, немного привкус трав, их сеют на плодородных почвах башкирских степей.
– Ничего, курить можно, – сказал Генри и спросил, останется ли господин Лагутин жить пока здесь, в гостинице «Адлер», это, конечно, маленькая гостиница, но зато тихая и расположена в самом центре.
– «Адлер», – ответил Лагутин, – моя большая удача. У этой гостиницы заключен договор с Высшей Технической школой, здесь давно живут два профессора, и я уже удостоился чести познакомиться с профессором де Гроссе, автором «Опыта дефиниции чисел». Мне сообщили, что я тоже могу здесь остановиться.
– А номер как? – спросил Генри. – Вы чувствуете себя там комфортно?
– Номер принял меня радушно, и для вас найдется стул, если вы окажете мне любезность и зайдете навестить меня. Вы придете?
– С удовольствием, – пообещал Генри, – но в таком случае вам придется навестить и меня, а если у вас появится желание, мы могли бы предпринять что-нибудь вместе, например в воскресенье, не сидеть же вам здесь одному.
– O-o, – прервал его Лагутин, – я люблю быть один, особенно в темноте, в голове возникает столько новых вопросов!
Генри встал, взял со стойки листочек бумаги и написал свой адрес, подумав, добавил еще номер телефона.
– Так вы всегда сумеете найти меня.
Лагутин поблагодарил его и вытащил, к великому удивлению Генри, из-за пазухи плоский кошелек, висевший на тонком кожаном шнурке. Без всякой ухмылки, очень серьезно он сказал:
– Меня учили, что в Германии за все услуги положено платить, могу я спросить, сколько с меня…
– Нет-нет, – Генри решительно отмахнулся, – и у нас бывают исключения, а в вашем случае мне только доставило радость, что я смог вернуть вам портфель.
Лагутин хотел что-то сказать, но промолчал, прочувственно взглянул на Генри, подошел и обнял его. Девушка у стойки глядела на них и улыбалась, улыбалась до тех пор, пока длилось объятие.
Уже стоя на улице перед входом в гостиницу – они только что распрощались, – Генри вдруг шагнул назад. Можно задать ему личный вопрос? Лагутин кивнул. Можно ли спросить его, где господин Лагутин выучился немецкому? Казалось, тот скорее обрадовался вопросу, чем удивился. Он ответил:
– В Саратове, в университете, у нас даже есть там свой немецкий клуб, и когда у кого-то из ваших писателей, которых мы ценим и любим, случается день рождения, мы вспоминаем об этом и в их честь делаем доклады и устраиваем вечер с кофе и домашней выпечкой.
– Фантастика, – выдохнул Генри, – просто потрясающе.
И они еще раз пожали друг другу руки.
Генри без труда перемахнул через заградительную красно-белую ленточку, натянутую вокруг стоянки для машин, и, перепрыгивая через несколько ступенек, поднялся по лестнице в здание вокзала. Он испытывал необыкновенную легкость и был очень доволен собой. Перед цветочным магазином, вытянувшимся длинной кишкой, он задержался, обдумывая, не купить ли для Паулы букетик ландышей, но, поглядев на покупателей, образовавших очередь до самой двери, отказался от этой затеи. На приветствие вокзального полицейского он ответил очень коротко и не расслышал, что Маттес прокричал ему вслед.
– Где вы были? – сердито спросила Паула. – Вечно, когда вы нужны, вас нет.
– Прошу покорно простить, – сказал Генри миролюбиво, – я только по-быстрому осчастливил ученого, одного очень забавного башкира.
– Одного кого?
– Одного русского, который родом из башкиров, я отнес ему его документы, он их потерял на перроне. Мне показалось, что это очень важно для него.
– Он объявлялся здесь?
– Я отнес ему его портфель в гостиницу «Адлер», он живет там в качестве гостя Высшей Технической школы, первоклассный мужик, математик.
– Квитанция о получении? – строго спросила Паула.
– Вот, пожалуйста! Он расписался.
– А денежный сбор?
– Взял, все, как полагается, – сказал Генри и был счастлив, что мог выложить на стол десять марок и двадцать пфеннигов.
– Между прочим, его зовут Федор Лагутин. Он вам понравится.
Паула молча потянула его за рукав к откидному столу, на котором лежала кукла в коричневом платье и с косичками.
– Это еще что такое? – спросил Генри и взял куклу в руки.
Он любовно погладил ее косички, щечки, попробовал, двигаются ли руки-ноги, и одернул ей юбочку.
– Прямо настоящая Красная Шапочка, а? Лакомый кусочек для Волка!
– Оставьте ваши шуточки, – оборвала его Паула, – Маттес принес нам этот редкостный экземпляр, надо немедленно составить акт, прямо сейчас, не откладывая, и все хорошенько проверить.
– Что проверить? – спросил недоуменно Генри.
Паула ответила:
– Сейчас увидите, но главное вот что: куклу ни в коем случае нельзя возвращать, кто бы за ней ни явился, если, конечно, кто-то явится, а если это произойдет, надо немедленно звонить в полицию, таков приказ господина Маттеса.
Генри слегка взвесил куклу на руке, потом приложил к уху и спросил:
– Что, пахнет жареным?
– К ним поступил сигнал, – пояснила Паула, – и при обыске в скором из Эмдена они нашли ее в шкафчике в туалете, малышка с начинкой.
– Наркотики?
– Деньги, – сказала Паула, – говорят, двенадцать тысяч марок.
– А по ней никак не скажешь, – покачал головой Генри, – девочки с косичками всегда казались мне самыми невинными созданиями, уж во всяком случае самыми безобидными.
– Не болтайте так много, – снова оборвала его Паула, – нам надо все пересчитать и заактировать.
Генри положил куклу на откидной стол и уставился на нее в нерешительности.
– Раздевайте, быстро! – скомандовала Паула.
Генри поднял юбочку, стянул штанишки и принялся крутить кукле руки, чтобы снять беленькую, отделанную кружевами кофточку. Ему никак не удавалось ухватить маленькие пуговки на лифе, они все время выскальзывали из его рук, краем глаза он видел нетерпение Паулы и то, что она не собирается помогать ему, только заметив, что она улыбается, он сделал шаг назад:
– У вас это лучше получится.
Паула привычными движениями раздела куклу догола и содрала с ее розового туловища полоску лейкопластыря, которая шла от самой груди по животу донизу. Обнажились аккуратно сделанный темный разрез вдоль туловища и вмятины от сильного сдавливания при зашивании.
– Так, – сказала Паула, – теперь вы можете работать дальше.
Генри с силой сдавил куклу руками и потом до упора растянул ее в стороны, пока шов не поддался в одном месте, куда он тотчас же всунул палец, взял потом открывалку для пивных бутылок, вогнал ее как клин и начал активно вертеть и крутить во всех направлениях, шов наконец-то с треском лопнул, обнажая нутро.
– Прекрасно, – похвалила его Паула, – вам бы хирургом работать.
Генри запустил теперь в живот уже два пальца, действуя на ощупь, он посмотрел на Паулу, она подмигнула ему, губы ее слегка приоткрылись, она невольно положила ему руку на плечо.
– Там что-то есть, – удивился Генри, – я чувствую, вот, я уже ухватил, – и он вытащил банкноты, несколько купюр по пятьсот марок.
Положив их не глядя на стол, он продолжал шарить внутри, пока не вытащил еще несколько штук.
– Неплохой сейф, – сказал он и принялся считать деньги.
Паула проверяла за ним. Оба они сошлись на сумме двенадцать тысяч.
– С такими деньгами мы могли бы спокойно слетать вдвоем на две недели в Гонолулу, – усмехнулся Генри, – или на Таити.
– И что потом? – спросила Паула.
– А потом весь мир сразу бы изменился, во всяком случае для нас двоих.
Паула мучительно улыбнулась. Покачав головой, она заметила:
– Ах, господин Неф, и где вы такого только начитались? Чтобы мир изменился, нужно совсем другое.
Не прибавив больше ни слова, она вытащила из верхнего ящика своего стола формуляр и внесла туда найденный предмет и обнаруженную сумму денег, затем написала записочку для самой себя: «Спросить Маттеса о месте и времени обнаружения предмета и внести полученные данные». Деньги она заперла в сейф, где хранились ценные вещи, а куклу – вновь одетую, как раньше, и с заклеенным разрезом – положила на полку к другим забытым игрушкам, правда чуть отдельно, и прикрепила к ней картонный ярлык с пометкой: «В случае появления владельца немедленно оповестить железнодорожную полицию».
Ханнес Хармс, наблюдавший за ее действиями по манипуляции с куклой, вышел из своего кабинета, остановился возле полки с игрушками, взял куклу и поглядел на ее многострадальное тельце, словно хотел удостовериться в качественности проведенной операции. Он не положил ее назад, с куклой на руках он подошел к письменному столу и выслушал то, что ему доложили, не очень удивляясь по поводу услышанного и не высказывая ворчливого одобрения насчет хитроумной идеи использовать куклу как тайник. Он только обронил:
– Это старо как мир, да и в трюк с детской невинностью тоже уже больше никто не верит.
– У нас тут еще парочка кукол завалялась, – сказал Генри, – несколько плюшевых мишек да два тряпичных зайца.
Хармс пожал плечами.
– Определите сами, как далеко вы можете зайти в своей вере в невинность, – улыбнулся он, – вполне возможно, господин Неф, что один из зайчиков набит драгоценными камушками.
Паула показала на кофеварку и спросила:
– Кто хочет кофе?
На ее предложение все откликнулись очень дружно, охотно расселись вокруг ее письменного стола, отодвинув в сторону бумаги и освобождая место для чашек. Когда Хармс увидел русскую подпись под квитанцией о получении, он вопросительно поднял голову.
– По-русски? Здесь был русский?
– Один ученый, – сказал Генри, – я отнес ему его документы в гостиницу, он выронил их на перроне. Думаю, он не знал, что надо обращаться к нам.
Так как Хармс не произнес ни слова, что можно было расценить как молчаливое одобрение, Генри принялся рассказывать, что этот ученый Лагутин является гостем Высшей Технической школы, он приглашен принять участие как математик в одной из конкретных научно-исследовательских программ; судя по его документам («Убиться можно, чего он только не знает!»), свой главный экзамен он сдал на самые высшие оценки. И Генри еще упомянул, что он редко когда встречал такого радушного парня и такого благодарного клиента.
– Он из Москвы? – спросил Хармс.
– Нет, он башкир, – сказал Генри, – живет в Самаре.
– Башкиры, – задумчиво произнес Хармс и повторил: – Башкиры, да.
Паула и Генри одновременно посмотрели на него, и тогда он рассказал, что многое узнал про башкир от своего отца, который около пяти лет прожил военнопленным в тех краях, недалеко от их земель, где-то под Вяткой. Крепкий народец и добродушный, но это его отец понял не сразу, сначала он столкнулся с башкирскими снайперами-охранниками, с целым отрядом снайперов.
– Вашего отца ранили? – спросил Генри.
– Выстрелом в руку, – сказал Хармс, – во время еды, когда он подносил ложку ко рту, но в лагерном лазарете его хорошо лечили, рана зажила, и он стал выходить наравне с другими на работу – на лесоповал или строить бараки. Мой отец часто хвалил башкир, они иногда протягивали пленным, хотя им это запрещалось, кусок хлеба или кислый и твердый, как камень, сыр, один старый башкир дал ему однажды попить забродившего кобыльего молока, кумыс называется, любимый их напиток Но те времена, когда башкиры жили, занимаясь только лошадьми и овцами, давно уже прошли, задолго до того, как мой отец попал в плен.
– Удивительно, – откликнулась Паула, – а я вообще никогда ничего не слышала про башкир, я даже слова такого никогда не встречала, не знала, что существуют такие люди.
– Возможно, вы вскоре познакомитесь с одним из них, – сказал Генри и, усмехаясь, добавил: – Он такой же вежливый, как, скажем, я, и у него прелюбопытная внешность.
– Я представляю себе, что он выглядит, как казак, – предположила Паула.
– Что-то от кочевых татар в башкирах, конечно, есть, – сказал Хармс и, увидев в проходе между полками Бусмана, сделал ему знак рукой: – Иди сюда, Альберт, садись, выпей кофейку.
Бусман, пыхтя и отдуваясь, подхватил свой складной стул и сел рядом с Паулой – по нему было видно, что его что-то сильно занимает, не дает покоя, может, какая-то встреча или поручение.
– Что там у тебя, Альберт?
– Он пообещал нам вознаграждение, представляешь, человек готов отдать всю месячную зарплату, если я верну ему его шарф синего цвета, как у моряков, он оставил его в международном экспрессе «Гриммельсхаузен». Для начала, конечно, я его успокоил, – сказал Бусман.
– Но ты же знаешь, мы не можем принять вознаграждение, – напомнил Хармс.
– Пока мы только заполнили с ним формуляр, – Бусман неодобрительно поглядел на Генри, тут же заявившего, что у них на полке лежит с дюжину таких шарфов и все синего цвета.
– Вы не понимаете, господин Неф. Для того, кто готов отдать за шарф целую зарплату, вещь эта имеет особое значение.
– Вполне может быть, – согласился Генри, – но в принципе любой шарф легко заменим, да и вообще, все можно заменить, не тем, так другим.
– Нет, мой юный друг, – возразил Хармс, – вы ошибаетесь, не все можно заменить, бывают утраты, возместить которые невозможно, они просто невосполнимы, когда-нибудь и вы это поймете, если поработаете у нас чуть дольше.
И после некоторой паузы он стал рассказывать изменившимся голосом:
– У нас дома, знаете ли, в деревянном футлярчике лежит ложка, ее можно заменить тысячью других, скажете вы, но для моего отца не было бы ничего горше, чем потеря этой ложки. Он вырезал ее сам из листового алюминия, выбил молотком, придав ей форму, и все это там, в плену, не знаю точно где, может, за Уралом.
– Ну хорошо, – пошел на попятную Генри, – эта ложка памятна для него, своеобразный сувенир, так сказать, и поэтому представляет для него особую ценность, но по своему прямому назначению она может быть заменена любой другой ложкой.
– Вы не поверите, – продолжил Хармс, – когда узнаете, что моему отцу все кажется намного вкуснее, если он ест собственной ложкой, а не стандартной, массового производства.
Генри хотел было сказать, что ему нечего возразить против таких личных вкусовых ощущений, но промолчал и призывно поглядел на Паулу, ожидая от нее третейского решения, которое примирило бы все стороны, но Паула, похоже, не была расположена сглаживать возникшую неловкость и принимать чью-то сторону. Словно желая им показать, каким праздным и неуместным кажется ей этот спор, она молча достала из своего стола последний номер газеты «Фрайе прессе», также молча развернула ее и показала на относящийся к трем столбцам заголовок: «ПОКЕР ВОКРУГ ПЕРСОНАЛА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ». Заметив, что никто из ее коллег статьи не читал, она откинулась назад и держала теперь страницу газеты так, чтобы все могли читать одновременно или хотя бы пробежать текст глазами. И они молча прочли, что железная дорога обременена огромной суммой долга, который лег на всех тяжким грузом, что расходы по содержанию обслуживающего персонала необходимо снизить на три и шесть десятых миллиарда марок и что, как стало известно, правление дороги выдвинуло требование сократить штат на пятьдесят тысяч или даже более того единиц. Читая, они без конца натыкались на слова «реформа железной дороги» и вновь и вновь возвращались к сообщению о едином решении партнеров по переговорам о новой тарифной сетке провести сокращение штатов в соответствии с нормами социальной защищенности каждого. Паула дала им спокойно все прочитать и теперь ждала их реакции и комментариев, но, по-видимому, никому не приходило в голову ничего путного, или они вдруг почувствовали, что за них уже все решили и просчитали и что им осталось только не упустить своих последних возможностей. Их лица выражали недоверие к прочитанному, в них сквозила обеспокоенность, Хармс прореагировал на призыв о «продлении рабочего дня без соответствующего денежного вознаграждения» только пренебрежительным жестом. Генри был первым, кто нашелся что сказать. Он хохотнул и тут же зажал себе рот, но все же произнес:
– Ведь надо же было выйти на такую формулировку, как «создание ценностей», вот здесь, смотрите, в четвертом абзаце: «Коэффициент продуктивности при создании материальных ценностей достигает у машинистов поездов, проводников и сцепщиков составов только пятидесяти – шестидесяти пяти процентов от оплаты труда». Меня так и подмывает спросить: а на сколько же процентов в создании этих самых ценностей тянем мы, наше бюро находок? Как вы думаете, господин Хармс?
Тот взял в руки куклу, внимательно оглядел заклеенный разрез, покачал головой, как бы взвешивая оценку, и ответил Генри:
– Значит, если я должен оценить ваши анатомические познания и вашу ловкость в проведении хирургической операции, тогда по шкале создания материальных ценностей работа выполнена на сто десять процентов.
Все засмеялись, а Паула подмигнула Генри и протянула ему пачку сигарет. Бусман же сказал:
– Если сосчитать все, что лежит ценного в нашем сейфе, можно долго жить не тужить и не думать о завтрашнем дне.
Хармс поблагодарил за кофе, протянул Генри куклу и сказал:
– Ну, давайте пойдем создавать новые ценности.
Слева и справа от входа в супермаркет стояли две тележки: одна была доверху заполнена туалетным мылом, в другой лежали пакетики с пряными леденцами. Изучив оба заманчивых предложения, Генри выбрал леденцы с шалфеем. Заглянув через открытую дверь внутрь магазина, он увидел, что народу у кассы мало, и вошел в супермаркет. За стеллажом с сигаретами ему бросился в глаза красочный плакат, на нем была изображена красивая и явно благополучная семья на берегу лагуны – отец, мать и двое детей ели ложечками что-то розовое из пластмассовых стаканчиков, свидетельствуя в пользу рекламного слогана: «С йогуртом фирмы «Ritzka» целый день в хорошей форме». Перед плакатом стояла Паула, еще с пустой тележкой, в которой лежала только ее сумочка. Она что-то обдумывала, может, даже вариант лагуны, хотя бы на несколько дней, потом решительно тряхнула головой и покатила тележку к хлебобулочным изделиям и бакалейным товарам. Выбрав там пакет с лапшой, она взяла еще пачку ржаного печенья, пощупала белесые булочки-полуфабрикаты в целлофане и положила их обратно на полку. Отделенный от нее всего лишь тонкой перегородкой, через неплотную стыковку частей которой просматривался сквозь товары проход с другой стороны, и двигаясь не вровень, а чуть поодаль, Генри с удовольствием наблюдал, как, заглядывая в список, Паула наполняла свою тележку. Вот она пощупала большим пальцем коржи для торта, проделала то же самое с мягким полужирным сыром с пряными травами в молочном отделе, где вообще задержалась чуть дольше, но ничего не взяла, кроме литровой упаковки молока, даже не взглянув при этом на разрекламированный йогурт. Записочка в руке напомнила ей, что еще нужна мука, она вернулась назад в бакалею и взяла пакет муки, взвесила потом на весах яблоки и помидоры и положила их в пластиковый пакет рядом с картошкой. Пока она взвешивала фрукты и овощи, Генри обнаружил перед собой картонную коробку с наборами шоколадных конфет с коньяком. Он схватил одну коробочку и стал ждать подходящего момента, чтобы незаметно подсунуть ее Пауле в тележку. Такой случай представился ему, когда Паула молола кофе и стояла к нему спиной. Не останавливаясь, она взяла на ходу коробочку косметических салфеток фирмы «Kleenex», затем пластмассовую бутылку ароматного средства для полоскания белья и еще большую пачку овсяных хлопьев; когда она, склонясь над витриной-холодильником, выбирала замороженные овощи, Генри удалось пристроить ей в тележку флакончик с жидкостью для бритья.
Паула неторопливо покатила тележку к кассе, а Генри успел уже выбрать такое место, откуда ему было удобно наблюдать за ней и кассиршей. Мужчина, державший в руке только пачку сигарет, попросил Паулу пропустить его вперед. Паула пропустила и начала выгружать покупки, причем действовала очень быстро, поскольку сзади скопилось много покупателей. Она выкладывала одно за другим на конвейер, а кассирша быстро считывала штрихкод и вводила цену в компьютер. Вдруг Паула замерла, наткнувшись на коробку конфет. Она была не просто удивлена, она беспомощно оглянулась по сторонам, потом отрицательно покачала головой и принялась что-то объяснять кассирше, чего Генри расслышать не мог, но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать неудовольствие кассирши, недоуменно посмотревшей на нее и остановившей конвейер. Паула сняла конфеты, поискала глазами полку, где они могли бы лежать, и уже собралась отнести их назад или просто оставить где-нибудь в торговом зале, но нетерпение стоящих сзади и тяжкие вздохи непосредственно ей в спину побудили ее отказаться от первоначального намерения. Она достала кошелек. Уже приготовившись расплачиваться, она увидела, что кассирша держит в руках жидкость для бритья. Паула схватила флакон, поднесла его к глазам и странно засмеялась, хлопнув себя по лбу. Теперь уже кассирша поглядела на нее, не просто поторапливая, как до того, а с некоторой долей беспокойства, и даже прекратила вести подсчет. Произошел короткий и не очень мирный диалог. Затем был произведен строгий контроль всего товара. На лице Паулы отобразилось смущение. Генри увидел, как она передернула плечами и выразила пренебрежительным жестом свое согласие оплатить весь товар, она наконец сдалась и, не дожидаясь окончательного подсчета стоимости покупок, положила перед кассиршей две купюры. Должно хватить. С несколькими пластиковыми пакетами в руках, провожаемая недоумевающим взглядом кассирши, она устремилась к выходу. Генри поискал на улице укрытие и нашел его за желтым фургончиком, доставившим бандероли на почту. Когда Паула, недовольная и озабоченная, проходила мимо него, стараясь держать пакеты подальше от себя, чтобы они не били ее по ногам, он с наигранной беспечностью вырос перед ней, словно из-под земли.
– Кого я вижу? Смотрите, кто идет! – воскликнул он и тут же склонился перед ней. – Давайте я вам помогу.
Прежде чем она буркнула ему что-то в ответ, он взял у нее из рук самый тяжелый пакет. Она, похоже, нисколько не удивилась его внезапному появлению, как и тому, что он шел сейчас рядом с ней как ни в чем не бывало. Они пересекли улицу и направились к ее дому – все выглядело так, будто ему давно это хорошо знакомо. Один раз он поставил пакет, чтобы передохнуть, и тогда Паула спросила, не тяжело ли ему, на что он ответил:
– Невероятно, просто уму непостижимо, сколько мы всего тащим домой, и так каждую неделю круглый год.
Паула придержала дверь и стала подниматься по лестнице впереди него. Они дошли до пятого этажа, на табличке на двери значилось: «Марко и Паула Блом». «Значит, ее муж все еще прописан здесь, – подумал Генри, – хотя приходит домой крайне редко, вроде как наносит краткие визиты». Они вошли в темную прихожую, на вешалке висел только один пиджак, висел давно, словно его забыли или уже списали во второразрядные, а может, он все еще дожидался своего часа, в корзине для зонтов стоял одинокий белый зонт и еще костыль.
– Куда? – спросил Генри.
Паула, вешая ключи на место, небрежно бросила:
– На кухню.
Но потом спохватилась и попросила его отнести пакеты в гостиную и поставить рядом с «монстром», как она выразилась, имея в виду огромный старомодный шкаф, чуть ли не подпиравший потолок. Генри был поражен размерами гостиной, и хотя старинная мебель, доставшаяся по наследству, как он потом узнал, занимала очень много места, комната показалась ему больше, чем вся его квартира.
– Садитесь, пожалуйста, и передохните, – сказала Паула и предложила ему кофе или рюмочку шерри, но он отказался от того и другого и попросил у нее разрешения закурить.
Он принялся разглядывать скромную коллекцию сувениров, привезенных из отпуска: засохших морских ежей, изящные древесные веточки, ракушки, гладкие морские камушки, над коллекцией висела репродукция картины Клее «Рыбы».
– Наверняка все личные трофеи, – предположил Генри.
– Конечно, – ответила Паула и взглядом разрешила ему подойти к серванту, на котором стояло несколько фотографий в рамочках; на всех них он увидел полноватого мужчину, с мягкой улыбкой глядевшего в объектив; поперек одной фотографии, где он стоял, обнявшись со своим спутником, обнажившим крокодильи зубы, шла сделанная от руки надпись: «То my other voice Marco from his admiring listener Jerry».[3] Генри долго изучал ее, и Паула сказала:
– Это Джерри Льюис, знаменитый комик, они встречались только один раз – актер и тот, кто его озвучивал, – и это был самый веселый вечер в моей жизни, то в их руках танцевал пылесос, то они выстукивали на машинке мелодию.
Она пошла на кухню, позвала его оттуда к себе и открыла стеклянную дверцу шкафчика.
– Вот, смотрите, это тот самый китайский чайный сервиз, который я купила у вас.
– Не у меня, – возразил Генри, – у меня вы купили бы его за полцены.
– Я пользуюсь им не каждый день, – сказала Паула, – и не достаю для первого встречного, для меня он что-то особенное. А соку тоже не хотите?
– Нет, спасибо, – Генри направился к двери.
– Минуточку, – остановила его Паула, вернулась в гостиную, подняла один из пакетов и вывалила его содержимое в кресло, потом взяла в руки один предмет, подошла к двери и поднесла к его лицу флакон с жидкостью для бритья. – Полагаю, это ваша любимая марка, а?
Генри улыбнулся и не нашелся что ответить, когда она сказала:
– Иногда так хочется вновь побыть ребенком, да? Во всяком случае, я благодарю вас за доставленное удовольствие.
Генри сделал театральный жест, быстро прошел в комнату, взял коробку конфет и положил ее перед фотографиями на сервант.
– Это вместо покаяния, а деньги я верну вам завтра утром, надеюсь, вы любите эти бомбочки с коньяком.
Он уже хотел повернуться к фотографиям спиной, но тут его взгляд упал на странную групповую фотографию: на ней было изображено не меньше дюжины рокеров на фоне церковного портала, все они были одеты в кожу, как и мужчина, стоявший спиной к порталу и благословлявший их поднятой рукой, на груди у него поверх кожаного прикида висел серебряный крест.
– Великий Боже, – произнес Генри, – что это такое?
– Он их благословляет, – сказала Паула, – это прихожане Хуберта, а Хуберт – мой брат, он и мотоциклы их осеняет крестом.
– Пастор с ними тоже заодно? – удивленно спросил Генри.
– Нет, не совсем так, – сказала Паула, – но он любит езду на мотоцикле.
– Прямо Иисус Христос – суперзвезда.
– У них есть свое любимое кафе, они там регулярно собираются, – сказала Паула, – совершают потом совместные групповые выезды, мой брат – один из главных их идеологов, я очень беспокоюсь за него.
– Может, благословение способствует меньшему расходу бензина, – съязвил Генри, – ведь должно же оно нести с собой что-то положительное.
Генри взял в руки фото, пытаясь разглядеть лица, надеялся даже узнать кого-нибудь из них, но изображение было недостаточно четким. Он поставил фотографию на место и, развеселившись, сказал:
– А как вы думаете, не нанять ли нам тоже на службу пастора, в наше бюро находок? Он мог бы спокойненько благословлять дважды в день наших клиентов и напутствовать их словами: «Ищите и обрящете», а если кто потеряет себя, так и того найдут!
И с этими словами он быстро подошел к ней, поцеловал в щеку и рванул дверь. Он не вышел, он вылетел пулей и понесся по лестнице вниз, на первой площадке, предполагая, что она смотрит ему вслед, он подкинул коробочку с флаконом вверх и ловко поймал ее.
В воскресенье зацементированная площадка между многоэтажками оставалась пустой; Барбара смогла припарковать машину в пределах видимости ее из квартиры Генри. Она дважды погудела и стала ждать, через некоторое время он показался в окне и сделал ей знак, что уже собрался.
Она с интересом ехала на матч, Генри впервые должен был выступить в команде первой лиги как замена нападающего, получившего серьезную травму – перелом ключицы – и вынужденного пропустить игру; она давно считала, что ее брат заслужил право играть в высшей лиге. Кроме того, она радовалась предстоящему знакомству с ученым Лагутиным, о котором Генри говорил с такими уважением и симпатией и которого смог уговорить провести скучное воскресенье среди людей; то, что для Лагутина не существовало скучных выходных, даже нескольких скучных часов, Генри, очевидно, забыл. В бодром настроении положил он свою сумку и новую клюшку в багажник, сел на переднее сиденье рядом с Барбарой и вместо приветствия погладил ее по волосам:
– Ну, моя благодетельница, как там погода в приличных кварталах?
Вместо ответа она спросила:
– Где твой русский живет?
– Он, конечно, русский, но не забывает при этом, что башкирских кровей, – сказал Генри, – а живет он в «Адлере», скромненькая такая гостиница, как раз отвечает духу тех, с которыми Высшая Техническая школа заключает договор.
– Это далеко отсюда?
– Рядом с вокзалом.
– Хорошо, скажешь, куда ехать. Мы, конечно, приедем слишком рано, но тебе, наверное, нужно поговорить с командой.
Генри подсказывал ей, как выбраться из лабиринта улиц с односторонним движением в квартале многоэтажек и потом в узких переулках возле вокзала; один раз он включил по ее просьбе радио в машине, но тут же выключил его: Барбара терпеть не могла голос этой дикторши.
– Ты хорошо выглядишь, Барбара, – сказал он, – особенно когда сердишься.
– Да ты послушай, как она говорит, – вскипела Барбара, – каким-то капризным тоном или наигранно-веселым, с потугой на остроумие, даже когда сообщает о ситуации на дорогах, а уж если речь зайдет о заторах и пробках, то сообщение дается не иначе как на фоне бравурной музыки. Они там и мысли не допускают, что кто-то способен серьезно и в тишине выслушать пять деловых фраз.
– Ты слишком строго к этому относишься, Барбара.
Они свернули в тихий переулок, где находилась гостиница «Адлер», и Генри тут же увидел Лагутина, стоявшего в ожидании перед входом в гостиницу и что-то говорившего топтавшемуся вокруг него голубю, забредшему сюда с привокзальной площади и выпрашивавшему у него хлебные крошки. На Лагутине были новые, еще более каляные джинсы и куртка из светлой кожи с рукавами три четверти, в руке он держал сумку, обшитую снаружи гладким мехом. Когда рядом с ним остановилась машина, он открыл дверцу со стороны Барбары и подал ей руку, потом коротко обнял Генри и стал ждать, чтобы тот его представил.
– Так, Барбара, это Федор Лагутин, – произнес Генри, – я тебе о нем рассказывал.
– Очень приятно, – отреагировала Барбара, – даже очень, – и, не таясь, посмотрела ему в лицо.
– Нет ничего более приятного ответить вам тем же, – сказал Федор Барбаре, – и данное обстоятельство вынуждает меня еще раз выразить благодарность вашему брату и вспомнить о том, сколь многим я ему обязан, я не исключаю, что он очень облегчил мою судьбу.
– Ну, не так все было страшно, – Генри подмигнул украдкой Барбаре, которая, как он успел заметить, с изумлением наблюдала за манерами Лагутина.
– Федор сядет впереди, а я на заднем сиденье, – решил Генри, – ну давай, поехали в Спорт-центр.
Федор Лагутин похвалил машину, внутреннюю отделку салона, бесшумный мотор, удобное сиденье; ему казалось, как он выразился, что «он летит на облаке», и, конечно, он не забыл сделать Барбаре комплимент, как хорошо она ведет машину.
Генри нагнулся к нему и спросил:
– Федор, а вы тоже играете в хоккей? Вы, русские, великая хоккейная нация, столько раз были чемпионами мира.
Федор отрицательно покачал головой и сказал, что всегда интересовался хоккеем, но вот чтобы играть, это у него как-то не получалось; единственный вид спорта, которому он уделял внимание в свободное от учебы время, были шахматы да еще стрельба из лука, но мастером спорта он так и не стал ни в одном ни в другом виде.
– Генри сегодня первый раз играет в команде высшей лиги, – пояснила Барбара, – он заменяет игрока, получившего травму.
– Я знаю, – сказал Федор Лагутин и добавил: – Если он победит, я сыграю для него разок на своей флейте, а если потерпит поражение, сыграю для него два раза.
– Вы играете на флейте?
– Это наш любимый народный инструмент, и поскольку звук рождается внутри меня, моя флейта может выразить все, что я думаю.
– На стадионе ее вряд ли можно будет расслышать, – засомневалась Барбара, – там все заглушают вой сирен, завывание дудок да выкрики в мегафон, нежная флейта там просто потеряется.
– Да, вы правы, на стадионе моя флейта неуместна, ее перекроют другие звуки, но я имел в виду свой номер в гостинице, там так тихо, как бывает порой только в юрте в степи, это такая палатка, – пояснил он.
Барбара невольно посмотрела на него сбоку, помедлила немного, но все-таки спросила:
– А вы жили в палатке?
– Ну и вопросы ты задаешь, – сказал Генри неодобрительно, но Федора, казалось, этот вопрос не обескуражил и уж тем более не обидел.
– Мой дед, – ответил он, – жил в степи с табуном лошадей и своими любимыми животными – собаками и двумя соколами, которых приручил и брал с собой на охоту, и когда звал меня летом к себе, я приезжал и спал с ним в юрте. В Саратове, в университете, я жил в студенческом общежитии, там у нас была комната на четверых.
– Поезжай на пустырь, – посоветовал Генри Барбаре, – официальная стоянка уже забита.
Они оставили машину на пустыре, земля еще не просохла после дождя, они все время поскальзывались, пока шли, и грязь чавкала у них под ногами, иногда даже летели брызги, когда, перепрыгивая, они попадали в лужу. Затем они поднялись по ста двадцати ступенькам, предъявили контролеру контрамарки, которыми их снабдил Генри, и после этого пути их разошлись: вдвоем они проследовали в ложу «Б» – для гостей, а Генри направился в раздевалку для спортсменов. Над трибунами в воздухе уже стоял дым. Приглушенно раздавалась барабанная дробь, стадион готовился к предстоящему сражению. По игровому полю медленно ползала управляемая огромным парнем специальная машина – наводила последний лоск.
Под дребезжанье и шум вокруг них Барбара и Лагутин вошли в ложу и заняли передние места у барьера. От Барбары не укрылось, что она вызывала повышенный интерес из-за своего спутника, ее без конца обнимали, целовали, наконец на вопрошающий взгляд своего блондинистого соседа она представила их друг другу:
– Господин Пельтцер, это друг Генри – господин Лагутин из Саратова.
Господин Пельтцер, желая произвести приятное впечатление, произнес извиняющимся голосом:
– К сожалению, я ни бум-бум по-русски.
Барбара коротко заметила:
– Господин Лагутин прекрасно говорит по-немецки.
– О-о, – удивился Пельтцер, – тогда особенно приятно приветствовать гостя из исконно хоккейной страны, если позволите, я угощу вас, – и тут же сделал знак кельнеру.
Лагутин не знал, на чем остановиться, и предоставил Барбаре заказать что-нибудь и для него. Барбара выбрала для себя мартини, он кивнул и сказал:
– Мне то же самое, я большой любитель всего нового.
Музыка умолкла, из громкоговорителя на весь стадион разнеслось объявление, что игра между командами «Blue Devils» и «Flying Penguins» начнется через несколько минут. После небольшого треска и щелканья в динамике диктор попросил не бросать на лед дымовые шашки и, зажигая бенгальские огни, не забывать о безопасности своих соседей справа и слева. Лагутин предложил Барбаре сигарету и спросил ее:
– Вы тоже увлекаетесь спортом?
– В свободное от работы время да, – ответила Барбара, – каноэ, я большая любительница гребли.
– Резать и скользить, – произнес вдруг Лагутин, и его мягкий взгляд выразил некоторую неуверенность и беспокойство, казалось, он опасался, что его слова могут быть истолкованы по-другому, поняты не так, как он хотел сказать.
Барбара только мечтательно повторила:
– Да, глубоко резать воду, сильно грести и быстро-быстро скользить, так оно и есть.
Музыка внезапно оборвалась, из динамика донесся галоп скачущих по железной крыше кузнечиков, затем голос комментатора огласил имена спонсоров матча.
Барбара пришла в большое волнение, когда на лед вышли хоккеисты: она вскочила, захлопала в ладоши и даже принялась топать от радости ногами, совершенно позабыв про Лагутина, спокойно наблюдавшего за церемониальным приветствием команд, это его несколько развлекло, как и невообразимый шум на трибунах, эффектно создаваемый изобретательными зрителями. Скоро он нашел среди игроков Генри: вот он дружески похлопал своего вратаря по шлему и сделал широкий круг за его воротами, потом высоко поднял клюшку, как бы направляя ее в сторону гостевой ложи. Барбара и Лагутин восприняли это как личное приветствие, но тут комментатор объявил начало игры, судья вынул из кармана шайбу и дал свисток.
С началом матча на стадионе воцарилась тишина, слышны были только жесткие удары клюшек да короткий, глухой стук шайбы о борт. Игроки вели себя сдержанно, делали короткие передачи, а иногда посылали шайбу через все поле, разыгрывая комбинации, но вдруг в полной тишине из ложи «С» раздался голос: «Давай, Эдди, давай!», и все поняли, что это предназначалось новому игроку команды «Flying Penguins» – канадцу Эдди Сомбирски. Общий смех на трибунах был своеобразной благодарностью зрителей за этот вопль, сразу ожививший игру. Эдди пошел в атаку и тут же обыграл двух игроков, применив опасный прием игры корпусом возле самого бортика, затем ввел шайбу в игру и даже рискнул сделать издалека удар по воротам противника – в воздух взметнулась рука вратаря, поймавшего шайбу на лету, и тут стадион словно с цепи сорвался: затрещали трещотки, послышался пронзительный вой сирен, раздалась барабанная дробь.
Во втором периоде Генри, удачно реализовавший штрафной удар, получил подножку и упал. Лежа лицом вниз, он корчился на льду от боли, и тут в него угодила шайба. Она ударила его по лицу и рассекла бровь. Ему удалось подняться, со следами крови на лице он даже предпринял новую атаку, отдал шайбу своему напарнику, но тот пробил выше ворот, и только тогда Генри подъехал к бортику и дал возможность врачу команды осмотреть его рану. Врач и тренер решили, что Генри должен покинуть поле.
Когда Генри направился к выходу, Барбара нащупала руку Федора, сжала ее в своей руке и потянула его за собой, они покинули ложу и прошли по проходу, потом по лестнице вниз к служебным помещениям. До них слабо донеслось эхо разочарования, охватившего стадион после очередного объявления комментатора. У двери, перед которой стоял дежурный с повязкой на руке, крутился кто-то из фоторепортеров.
– Это, должно быть, здесь, – сказала Барбара.
Дежурный растопырил руки, закрывая проход в раздевалку, и произнес с сожалением в голосе:
– Сюда нельзя.
– Я хочу пройти к своему брату, – сказала Барбара. Дежурный остался неумолим:
– Там сейчас врач, Генри Нефа как раз зашивают.
– Что-что?
– Ему зашивают бровь.
– Зашивают?
– Мне никого не велено пускать, если хотите, можете подождать вон там, на скамейке.
Они сели на деревянную скамейку. Барбара сжала руки и тяжело вздохнула, представив, как врач протыкает иглой бровь Генри и протягивает через нее нитку. Федор Лагутин заметил, что она дрожит, погладил ее по руке и принялся уговаривать спокойным голосом:
– Не надо думать ни о чем плохом и не надо так расстраиваться, с хоккеистами это часто случается, для каждого хорошего игрока маленькие шрамы – доказательство его смелой игры и напористости, они вроде как украшают его. Я видел совсем близко знаменитого Михайлова, Шаманского из Харькова и Василевича – этого нападающего милостью Божьей из Омска. Шайба оставила на их лицах свою отметину, и это для них как знак чести. – А потом еще добавил, чем развеселил Барбару – Помните лучше о том, что удача улыбнулась ему: он забил отличный гол.
– Мы поедем ко мне, – решительно заявила Барбара, и, взяв Генри под руки, они повели его по плохо освещенному коридору к выходу. Генри был недоволен решением врача вывести его из игры, сам он рвался продолжить игру с заклеенной пластырем раной и был уверен, что смог бы заколотить этим «пингвинам», как он выразился, еще две-три шайбы. Он вспомнил про одного игрока, который продержался со сломанной переносицей целый период и забил в конце победную шайбу, он был для него примером. Боль терпимая, уверял он, даже сейчас, когда действие обезболивающего начинает ослабевать.
Барбара села за руль, и машина тут же тронулась с места. Федор попросил высадить его у «Адлера» и подкрепил свою просьбу замечанием, что может оказаться лишним, но Барбара возразила ему, пригласив к себе: она хотела, чтобы он побыл вместе с Генри. Непонятное заграждение вынудило ее держаться ближе к краю, дорожный полицейский движением руки попросил ее ехать помедленнее, она затормозила, опустила стекло и спросила, почему столько народу собралось под табличкой с названием улицы и что там делает человек, взобравшийся на стремянку.
– Речь произносит, – ответил дорожный полицейский. – Набережную Принца Людольфа переименовывают.
– Если бы ты читала городские новости во «Франкфуртер альгемайне», то знала бы, что к чему. «Сегодня мы прощаемся с нашей набережной Принца Людольфа, – процитировал Генри с пафосом, крутя ручку со своей стороны и надеясь услышать пламенную речь оратора, стоявшего на стремянке.
Но тот как раз закончил говорить, снял табличку с именем принца Людольфа и с трудом повесил новую, закреплявшую за улицей ее будущее название. Раздались жидкие аплодисменты.
– Случилось несчастье? – спросил Лагутин.
– Напротив, – сказал Генри, – улицу переименовали, наконец-то, давно пора. Я никогда не мог понять, почему такая замечательная улица носит имя принца Людольфа – этого слабоумного помазанника.
– Он не отличался милосердием, пока был правителем? – спросил Федор.
Генри среагировал очень бурно:
– Милосердием? Это он-то?
– Самым примечательным в его правлении было потребление им красного вина, по три бутылки в день, и количество его метресс. Правда, он изобрел еще сахарные щипцы, – сказала Барбара.
– Точно, – подхватил Генри, – придумал сахарные щипцы, они так и называются: сахарные щипцы принца Людольфа. Чтобы удобнее было брать кусок сахара, они раскрываются, напоминая птичью лапу, или орлиные когти, или что-то тому подобное. Видишь, Федор, и таким способом можно обеспечить себе бессмертие, по крайней мере в нашем городе.
Федор высунул голову из машины и попытался разобрать новое название улицы, его акцент становился особенно жестким, когда он принимался читать по буквам, как сейчас: набережная Рихарда Фабиуса. Он еще раз повторил имя, посмотрел на Барбару и спросил:
– Один из политиков? Или генерал? Или, может, господин Фабиус был известным бизнесменом?
– В газете был его портрет, – принялся объяснять Генри. – Рихард Фабиус – ученый, сам себя он называл исследователем старины, его главный труд, я, к сожалению, не знаком с ним, называется «Науки древних египтян». В этом году ему исполнилось бы сто лет.
– Как почетно, – заметил Федор Лагутин.
– Хотя он и родился в этом городе, но умер где-то на Востоке.
– Ах, Генри, – вздохнул Федор, – я живу на улице, которую переименовывали уже трижды.
– Мама дома, – сказала Барбара, свернув на посыпанную гравием дорожку, которая вела к роскошной вилле, выкрашенной в бледно-голубой цвет; перед двухместным гаражом стоял тяжелый, старомодный автомобиль – «мерседес» выпуска тридцатых годов.
Федор проворно вылез из машины и придержал Барбаре дверцу. При этом он взглянул на берег озера, где к деревянным мосткам были причалены лодки, на которых, к его удивлению, сидели чайки. Он спросил, обращаясь к Генри:
– Чайки?
На что Генри ответил:
– Мелкий вид, речные. Те, что на побережье, вдвое крупнее.
Барбара пошла вперед, заметив, что Федор медлит, взяла его за руку:
– Пойдемте, мама будет рада.
Поскольку и Генри настаивал, он дал себя уговорить. Их встретил собачий лай. Черный боксер прыгнул Барбаре на грудь, извиваясь от радости, скакнул на Генри и, прогарцевав несколько шагов на задних лапах, был уже готов прыгнуть на Федора, но тут учуял обшитую мехом сумку, моментально насторожился и зарычал, оскалив крепкие клыки.
– Тихо, – строго сказала Барбара, – тихо, Яша, это друг.
– Яша – самый глупый пес во всем городе, – заметил Генри, – но он любимец нашей матери.
– Яша вовсе не глупый, – сказала Барбара и позволила собаке, вытянувшейся во весь рост, положить передние лапы ей на грудь и лизнуть подбородок.
– Проходите, садитесь, – пригласила Барбара.
Она отправилась на кухню, чтобы поставить чайник, а Генри пододвинул кожаный шезлонг к столу, на стеклянной столешнице которого стояли вазочки с конфетами и пепельницы.
– Болит голова? – спросил Лагутин.
– Немного, я чуть-чуть расслаблюсь, – сказал Генри, – надеюсь, ты не имеешь ничего против, – он растянулся в шезлонге и потрогал залепленную пластырем бровь, а затем широким, небрежным жестом обвел руками помещение. – Вот мое жилище, Федор. Сейчас, правда, здесь живут лишь мать и Барбара, у меня есть своя собственная небольшая квартирка.
– Красиво, очень красиво, – улыбнулся Федор и, последовав приглашению хозяина, не стесняясь, оглядел два торшера, камин с декоративно уложенными горкой поленьями и стеклянные шкафчики с раскрашенными фарфоровыми фигурками, долго всматривался в выполненный в серых тонах портрет отца Генри, погибшего в авиакатастрофе под Гонконгом, а заметив на ковре стилизованный символ всего растущего, радостно закивал и процитировал из «Фауста»: – А древо жизни зелено всегда…[4]
– Как славно ты это сказал, Федор, – восхищенно произнес Генри, – я с удовольствием слушаю, как ты говоришь по-немецки. Должно быть, у вас был хороший учитель немецкого в Саратове.
– Профессор Макаревич, – ответил Лагутин, – он переводил Шиллера, а еще немного Гёте и Гёльдерлина; читая стихи, он всегда закрывал глаза. Немецкий я учил факультативно, только потому, что боготворил профессора; свою любовь к вашему языку он привил и нам.
Пока Барбара накрывала на стол – расставляла чашки, сахар, печенье, сухарики и масло, в комнату вошла мать, стройная седовласая женщина. На ней был черный костюм и нитка мелкого жемчуга, она явно красила губы наспех, и ее верхняя губа была испачкана помадой. Лагутин поднялся и сделал шаг ей навстречу, однако ее взгляд был устремлен мимо него на Генри, она уже подошла к сыну и расспрашивала, что случилось и больно ли ему.
– Ну скажи же, малыш, что произошло и кто это сделал?
Генри попытался ее успокоить:
– Ничего особенного, мама, удар шайбой, бровь была рассечена, но теперь ее уже зашили.
– Бровь? Зашили?
– Так всегда делают при рассечении, – пояснил Генри, – скоро уже ничего не будет видно.
– Сядь, мама, – произнесла Барбара, – не волнуйся, такое в хоккее случается каждый день.
Она обняла мать за плечи и мягко попыталась усадить на стул, однако ей не удалось успокоить ее.
– Я предвидела это, Генри, я всегда этого боялась, – произнесла мать, – и вот пожалуйста, никто не сможет убедить меня, что твой хоккей – это спорт-, единственный раз я уступила тебе и посмотрела один матч, только потому, что ты в нем участвовал, но мне этого хватило с лихвой, такое может нравиться только беспардонным, грубым людям.
– Это прекрасный вид спорта, мама, – возразил Генри, – там нужна быстрота и твердость.
– Не забывай о клюшках, – продолжала взволнованно мать, – когда вам не хватает кулаков, вы лупите ими друг друга, я сама видела. Во всяком случае, никто больше не соблазнит меня пойти на хоккей.
В своей тревоге она, казалось, не заметила Федора Лагутина, тот в молчаливом ожидании стоял у камина, теперь же она повернулась к нему и, извинившись, спросила, не является ли и он случайно одним из хоккеистов, может, он товарищ Генри по команде. Предвосхищая его ответ, подала голос Барбара:
– Мама, это господин Лагутин, он друг Генри и ездил с нами на хоккей, а теперь мы хотим выпить чаю.
Мать протянула Лагутину руку, рассматривая его при этом с таким нескрываемым любопытством, что Барбара, которой не понравился ее назойливый взгляд, быстро добавила:
– Господин Лагутин здесь по приглашению Высшей Технической школы, работает над одним научным проектом.
– Тогда вы, наверное, физик, – предположила мать. Лагутин улыбнулся:
– Математик.
– Господин Лагутин окончил университет в Саратове, – пояснила Барбара, – а сам он родом из Самары.
– Я сразу поняла, что вы издалека, – заметила мать и любезно пригласила его к столу. Она внимательно наблюдала, как гость взял чашку и принялся восхищенно разглядывать ее на свет, вероятно пытаясь увидеть силуэт розы, и сказала ему, как говорят с иностранцами, не зная, достаточно ли они владеют языком: – Севр, Королевская мануфактура, Севр, понимаете? Привезено из Франции, из Парижа, старинный фарфор.
– Мама, господин Лагутин прекрасно говорит по-немецки, – вмешался Генри. – Ты можешь разговаривать с ним нормально.
Неожиданно зарычал пес; осторожно, ползком подкрался он к стулу Федора, где, прислоненная к ножке, стояла его сумка, и теперь с оскаленными зубами и горящими глазами неотрывно смотрел на нее, готовый вцепиться в мех.
– Фу, – приказала Барбара.
Генри добавил:
– Закрой пасть, а то вылетишь отсюда.
Поскольку пес никак не реагировал на угрозы, мать ласково потрепала его собаку и спросила:
– Что это с ним?
– Сумка, – ответил Генри. – Яше с его идиотизмом не дает покоя сумка. Уберите ее куда-нибудь в безопасное место.
– Мне очень жаль, – сказала мать гостю, – вы уж извините меня за Яшино поведение.
– О, меня это нисколько не удивляет, – улыбнулся Лагутин, – ваш пес имеет полное право вести себя враждебно. Собаки моего деда давно бы уже схватили сумку и расправились с ней. Пса раздражает мех, это ондатра, дед когда-то обработал шкуру и обшил ею мою сумку в качестве украшения.
– Очень забавные зверюшки, мама, – пояснила Барбара.
Тут же подал голос и Генри:
– Причем с образцовым семейным укладом.
Он попросил передать ему сумку и положил ее рядом с собой. Барбара налила всем чаю, и мать пригласила Федора отведать угощение из разных вазочек и попробовать вафли в форме сердечек, особенно вкусные, по ее словам, если их слегка смазать маслом. Гость пробормотал себе под нос слова благодарности и последовал ее совету. Он похвалил выпечку, заметив, что никогда не ел ничего вкуснее и что даже любимое блюдо его молодости – оладьи с грибами не идут с ней ни в какое сравнение. После сказанного он подцепил ложечкой масло, потом еще раз, пока не счел кусочек достаточным, растопил его над своей чашкой и спустил по капле в чай, с довольным видом наблюдая, как масло растаяло и растворилось, оставив на поверхности тонкую, поблескивающую пленку жира. Барбара с матерью обменялись удивленными взглядами, продолжая помешивать ложечкой чай. Наконец мать произнесла:
– Сахар в сахарнице, возле вазы.
– Спасибо, – поблагодарил Лагутин, – я сахарницу видел, но мы пьем дома чай с небольшой порцией масла, и я взял на себя смелость воспользоваться им.
– Разве это можно пить? – удивилась мать. – Чай с маслом?
– Почему бы и нет? – хмыкнул Генри.
Барбара тут же вмешалась:
– Надо попробовать. – Она моментально отправила немного масла в свой чай, не дожидаясь, пока масло растает, сделала несколько маленьких глоточков и объявила: – Пить можно, вкус немного странный, но съедобно.
Лагутин пояснил, что чай с маслом у него на родине – зимний напиток, и добавил:
– Сливочное масло у нас делают женщины, это трудоемкий ручной процесс.
– Тогда дай и мне попробовать, – сказала мать и сделала глоток из чашки Барбары, затем, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, подняла голову и наконец вынесла свое суждение: – Вреда, во всяком случае, это не принесет.
– Полезнее, – сказал Лагутин, – намного полезнее чай с медом диких пчел, но, насколько я понял, у вас их здесь мало, а мы так просто избалованы обилием пчел; у моего деда шестьсот ульев. – Потом он пообещал Барбаре то же, что уже обещал девушке из гостиницы: если он когда-нибудь еще раз приедет сюда, то привезет из дому пару баночек такого меда.
– Но пока ты останешься у нас, Федор, – предложил Генри, – я думаю, в Высшей Технической школе они тебя так быстро не отпустят.
– Надеюсь, – сказал Федор, – ведь я еще не оправдал своего приглашения, мы лишь в начале нашей работы.
– Можно спросить, над чем вы работаете? – поинтересовалась мать.
– В любом случае, я полагаю, что результат будет полезен, – ответил Федор, – полезен для техники, экономики, может быть, для космических полетов; мы работаем над вычислительными машинами с программным управлением.
– Это уж точно не для меня, – сказала Барбара, наполняя чашки и отгоняя собаку, ластившуюся у ее ног, желая обратить на себя внимание.
Генри привстал с шезлонга, собираясь осадить собаку – пригрозить ей устроить взбучку, но тут же опустился назад, поднеся ладонь ко лбу. Мать подошла к нему, давая понять, что предвидела это, и сказала:
– Вот видишь, теперь начинает болеть, что я тебе говорила.
Она попросила Барбару достать из аптечки таблетки от головной боли. Лагутин знаком остановил ее; положив на колени свою сумку, он расстегнул оба ремня, запустил внутрь руку и, не глядя, выудил из бокового отделения то, что искал. Все наблюдали, как он открыл невзрачную баночку, в которой поблескивало что-то бледно-зеленое, как осторожно присел возле Генри и взял на палец немного мази. Он не стал сразу наносить ее, а сначала объяснил, обращаясь к матери Генри, что эту баночку ему дала с собой бабушка, которая сама изготовила чудодейственную мазь по старому татарскому рецепту, мазь, «способную осилить всякую боль»; сделана она на основе жира одной степной птицы. После этого он попросил у матери Генри разрешения нанести мазь и, когда та молча кивнула, смазал легкими прикосновениями кожу вокруг шва. Генри покорно лежал и улыбался. После процедуры он задержал в своей руке ладонь Федора.
– Степная птица, – спросил он, – а как она называется?
– Эта степная птица предпочитает жить на болоте, но ее можно встретить и в степи, с самого края. Мы называем ее дупель, это разновидность бекаса.
– На нее охотятся? – спросила мать, и Лагутин ответил:
– Дупель считается у нас деликатесом.
– Ах, как чудесно! – воскликнула Барбара. – Деликатес, а помогает от боли, тогда этих птиц надо продавать в аптеках.
– Тут бы запротестовали все наши охотники, – улыбнулся Федор, – потому что охота на дупелей доставляет особое удовольствие.
Когда мать предложила всем выпить по рюмочке шерри, гость поднялся, приняв предложение за сигнал к окончанию чаепития. Он поблагодарил и попросил его извинить, поскольку ему нужно возвращаться в гостиницу, где его ждут книги, кроме того, он должен написать письмо домой и подготовиться к беседе с профессором Лебланком – руководителем научно-исследовательской программы. Барбара тоже поднялась и сказала:
– Я отвезу вас в гостиницу.
– Спасибо, не надо, – отказался Лагутин. – Я очень высоко ценю ваше предложение, но с удовольствием пройдусь пешком.
– «Адлер» находится далеко, вы заблудитесь.
– Нет-нет, не заблужусь, я хорошо ориентируюсь, – заверил Федор и, словно желая успокоить ее или продемонстрировать свою безошибочную память, с улыбкой перечислил две площади, которые ему предстояло пересечь, улицы, по которым надо было пройти, не забыв и набережную Принца Людольфа, носящую теперь имя Рихарда Фабиуса.
– Ну ладно, – сказала Барбара, – поехали, – и она покрутила ключами, словно пропеллером.
На прощание Лагутин поклонился матери. Генри он сказал:
– Шрамы – тоже трофеи, друг мой, это была зрелищная игра, желаю скорее поправиться.
И он последовал за Барбарой.
Генри с матерью хранили молчание, пока до них не донесся шум мотора, потом они выпили по рюмочке шерри, и Генри рассказал, как познакомился с Федором Лагутиным; бюро находок представлялось ему местом, где порой пересекаются людские судьбы, а сейчас ему даже казалось, что человек из Саратова только затем и потерял свои документы, чтобы они могли встретиться.
– Он мне очень симпатичен, – произнес Генри и добавил: – Я видел все его документы, мама, его университетский диплом, о таком можно только мечтать, однако при всех своих достоинствах он не придает им никакого значения.
– По нему видно, что он прибыл с Востока, с далекого-далекого Востока, – заметила мать.
– Не говори так, мама, – возразил Генри. – Когда у нас заводят речь о Востоке, имеют в виду что-то отсталое, жалкое, нуждающееся в снисхождении. А ведь кто теперь не знает, что и с Востока порой приходит что-то такое, чему мы тут можем лишь удивляться. Экзамен по математике, к примеру, Федор сдал на «отлично».
– Не пойми меня превратно, Генри, мне понравился твой новый друг, и я надеюсь еще не раз повидать его, но в данный момент меня волнуешь только ты и твое здоровье; приляг, пожалуйста, и постарайся отдохнуть.
Ханнес Хармс вытряхнул содержимое зеленого жестяного ящика на свой письменный стол и рассортировал по кучкам: блесны разной формы, «воблеры» и «пилькеры», красные, насаженные на крючки эластичные черви, отдельно положил набор «мух». Оценил поблескивающие, замысловатые искусственные приманки и не мог удержаться от улыбки: сомнений не было, все это богатое снаряжение принадлежало новичку, поскольку ни один уважающий себя рыбак не таскает на рыбалку половину ассортимента рыболовного магазина. Сам он обходился, когда удил в мутно-зеленом пруду гравийного карьера, парой блесен, а если охотился в заводи на сома, то тройным крючком и куском курятины.
– Вот, смотрите, господин Неф, – сказал он вошедшему и поздоровавшемуся с ним Генри, – здесь вы можете увидеть полное снаряжение рыболова, разумеется, абсолютного новичка.
– Тоже забыли? – спросил Генри.
– Да, конечно.
Хармс знал, что жестяной ящик был обнаружен в местном поезде, следовавшем из Ольденбурга, и догадывался, что принадлежал он начинающему рыболову, в первый раз отправившемуся на рыбалку, наверняка рано утром, чуть свет, а на обратном пути, сморенный рыбацкими радостями, рыболов, конечно же, проспал свою станцию.
– Со мной бы такого никогда не случилось, – заметил Генри и приготовился было разглагольствовать дальше, но тут его взгляд упал через стеклянную перегородку на Паулу, и по ее знакам и щелканью пальцев он сразу понял, что она пытается обратить на себя его внимание.
Перед ее письменным столом в непринужденной позе стоял мальчик и явно чего-то ожидал от нее. Мальчику было лет четырнадцать – пятнадцать, на нем была выцветшая джинсовая курточка, а на ногах парусиновые спортивные тапочки, давно утратившие свой первоначальный цвет. Генри извинился перед начальником и, следуя своему чутью, отправился к Пауле, без особой, впрочем, спешки. Он не проявил нетерпения или интереса и тогда, когда услышал, как Паула, обращаясь к мальчику, констатировала менторским тоном:
– Итак, ты должен забрать куклу, куклу своей сестры?
– Да, – подтвердил мальчик.
– И ты знаешь, в каком поезде она ее забыла?
– Они ездили в гости в Эмден, мама с сестрой. Поезд из Эмдена.
– Это был «Интерсити»?
– Был что?
– «Интерсити-экспресс»?
– Кукла была в поезде из Эмдена.
– И твоя фамилия Ботт?
– Да, Артур Ботт.
– Ты мне сказал, что хорошо знаешь, как выглядит кукла, и сразу бы узнал ее.
– Сестра часто брала ее с собой в постель.
– Моя сестра проделывала то же самое со своей куклой, – вмешался в разговор Генри, – мне это хорошо знакомо. Подожди-ка, по-моему, у нас есть то, что ты ищешь.
Он кивнул Пауле, попросив ее позвонить Маттесу и сообщить ему, что объявился владелец, потом сказал мальчишке:
– Я сейчас принесу тебе куклу, мы всегда рады избавиться от потерянных вещей.
Хотя Генри и заметил, что парень начал проявлять беспокойство, он вразвалочку отправился по проходу между рядами к той полке, где лежал десяток самых разных кукол, а сверху та самая Красная Шапочка, которую он сам так и окрестил, с прикрепленным к ней рукописным указанием. Генри оторвал записку и сунул ее себе в карман. Он расправил и разгладил кукольное платьице, бережно взял куклу в руки и прихватил еще одну, примерно такого же размера, в баварском национальном костюме, однако не пошел сразу к Пауле, а какое-то время наблюдал за ней и за мальчишкой. Паула пыталась звонить: вот она в сердцах ударила по рычагу, набрала номер, поднесла трубку к уху и недовольно покачала головой. Мальчик посматривал поверх ее головы на кабинет Хармса, потом в замешательстве взглянул на Бусмана (тот прошел мимо них, толкая перед собой тележку с зонтиками), ловко подхватил плавно слетевший со стола лист бумаги и положил его на пишущую машинку. Осознав, насколько срочно его ждут, Генри оставил свой пост меж стеллажей и понес кукол к Пауле, которая бережно приняла их и положила рядышком на письменный стол. Не поднимая головы, она скороговоркой проговорила: – Маттес не подходит к телефону, – затем она обратилась к мальчику: – Тебе придется еще кое-что подписать, квитанцию о получении, но сначала ты должен показать нам куклу твоей сестры. Ну, которая из этих?
Мальчик не колебался ни секунды, он схватил двумя руками именно ту куклу, что они совместно распороли, а потом снова заклеили, прижал ее к себе и, уже не раздумывая, какой дорогой бежать, бросился наутек, легко перепрыгнув через пару составленных чемоданов, подскочил к лестнице, одолел ее в несколько прыжков и распахнул дверь в помещение для клиентов.
– За ним, – скомандовал Генри, – бегите прямо за ним, а я проскочу через погрузочную платформу, так мы отрежем ему путь к отступлению.
Мальчишка целеустремленно мчался вниз по обшитому досками проходу, обходя катившиеся навстречу тележки с багажом и все время оглядываясь назад, он двигался в сторону газетного киоска на перроне. Здесь он остановился, Паула узнала его по соломенным волосам и поняла, что он тоже опознал ее. Парень тут же помчался дальше к главному выходу, куклу он уже не прижимал к себе, а держал в руке. Он нырнул в поток людей, сошедших с переполненного пассажирского поезда, какое-то время двигался вместе с людской массой, потом выскочил из нее, лишь затем, чтобы убедиться, что его преследовательница никуда не исчезла, опять смешался с толпой, толкаясь сам и снося толчки других, подчиняясь законам потока пассажиров, приближавших его к выходу. Паула также отдалась на волю этого потока и, еще не успев добраться до выхода, увидела Генри, пересекавшего вокзальную площадь и направлявшегося к стоянке такси. Когда он внезапно изменил направление и ускорил шаг, она поняла, что он обнаружил мальчишку и, вероятно, пытается подобраться к нему, чтобы задержать. На выходе она остановилась, привстала на цыпочки, подняла руку, пытаясь привлечь внимание Генри, однако он не увидел ее. Он с остервенением преследовал мальчишку. Некоторое время она держала в поле зрения обоих, но потом – она догадалась об этом по стремительному бегству парня – тот обнаружил своего преследователя и исчез за автобусом, в то время как Генри, не потерявший его из виду, перебежал через привокзальную площадь, пересек, лавируя в плотном потоке машин, улицу и замер перед одной из безликих пивнушек. Он оглянулся, отыскивая Паулу, дождался ее и отправился дальше.
– Мальчишка там, – объявил Генри, – я видел, как он вбежал туда.
Сдвинув в сторону тяжелую войлочную портьеру за дверью, они вошли в длинную и узкую, больше похожую на коридор пивную. Внутри сидела и пила пиво одна-единственная парочка, казалось, больше занятая ощупыванием друг друга. Хозяин поднялся с табурета за стойкой и невозмутимо дожидался, пока они не подошли поближе. На вопрос Генри, куда подевался мальчик, он недоуменно ответил:
– Мальчик? Какой еще мальчик?
– Он забежал сюда, – сказал Генри.
Хозяин окликнул парочку и спросил:
– Вы случайно не видели какого-то мальчика? Тут утверждают, что он вошел сюда.
– А как он выглядел? – спросила женщина.
Генри ответил:
– Он держал в руке куклу.
– Нет, мальчик с куклой мне бы точно запомнился, – ухмыльнулась женщина и сделала большой глоток из своего бокала.
– Вот видите, – произнес хозяин, – здесь таких не было. Поспрашивайте у наших соседей.
Генри невольно потянул за руку Паулу, направляясь с ней к выходу, как только понял, что здесь им ничего не светит, да и не слишком рады. Он уже коснулся портьеры, как вдруг спутник женщины, узколицый человек с прилизанными черными волосами, обратился к Пауле. Стараясь казаться вежливым, он сначала извинился, что заговорил с ней, затем неразборчиво представился и спросил, не помнит ли она его, их когда-то знакомил Марко Блом в кафе «Ницца». Предвосхищая ее ответ, он удостоверился:
– Вы ведь Паула Блом?
– Да, – холодно подтвердила Паула. – А вы кто?
Теперь он четко произнес свое имя – Андреас, не называя фамилии, и добавил:
– Марко называл меня Анди, для него и для других я всегда был Анди.
– А откуда вы знаете моего мужа?
– Мы долгое время были соседями. Не хотите ли к нам присесть?
– Нет, спасибо, – ответила Паула.
– Надеюсь, у Марко все в порядке, – произнес мужчина. – Как он нас смешил, Марко, он был душой любой компании.
– Это профессия моего мужа, – отозвалась Паула.
– Да уж, в своей профессии Марко точно незаменим; как он подражал артистам, уникально; а когда он исполнял свой коронный номер, мы животы надрывали от хохота. Марко называл этот номер «Проба голоса». – Обращаясь к своей спутнице, он пояснил: – Проба голоса – это, знаешь, когда что-нибудь говорят в микрофон или просто покашливают для пробы.
Он снова посмотрел на Паулу:
– Передайте привет Марко, обязательно. Он непременно вспомнит своего друга Анди. Анди с верхней койки.
Он сделал еще одну попытку пригласить Паулу выпить с ними пива, но она отказалась и пошла вслед за Генри, тянувшим ее прочь из пивной; они вышли не прощаясь.
Сделав несколько шагов, Паула остановилась, соображая, стоит ли им покидать место, где исчез мальчишка. Генри нисколько не сомневался в том, что подросток давным-давно испарился. Мысленно он живо представил себе, как, войдя в пивную, тот прошел в туалет, открыл окно и убежал через грязный внутренний двор к людям, которые науськали его и подослали к ним. Генри был уверен, что они напрасно прождали бы здесь; для начала он предложил поставить в известность Хармса, тот должен быть в курсе случившегося и их местонахождения тоже.
– Хорошо, – согласилась Паула, – тогда звоните шефу.
На пути к телефонной будке они миновали подворотню, молча, не сговариваясь, развернулись и вошли во внутренний, богом забытый дворик с наваленными ящиками, древним диваном и грязными окнами на этажах. Оглядевшись, они вернулись на улицу.
Паула остановилась у телефонной будки и стала наблюдать, как звонит Генри. Сначала тот стоял прямо, спокойно, непрерывно что-то говоря, потом повернулся к ней лицом и прикрыл глаза, взял трубку в другую руку и лишь послушно кивал, наконец сморщил лоб и, молча выслушав длинную тираду, просто повесил трубку.
– Ну? – спросила Паула, на что Генри, пожав плечами, ответил:
– Мы не должны разыгрывать из себя помощников полиции. Он ждет от нас отчета, так и сказал: «Единственное, что может вас спасти, – это отчет».
– И что там должно быть изложено?
– Все случившееся, – ответил Генри.
– Этого мне еще не хватало, – проворчала Паула. – Надеюсь, вы возьмете на себя этот отчет, а?
– Мы вместе в этом замешаны, и писать эту штуковину надо вместе; пошли, сразу и начнем работу, а завтра представим шефу на блюдечке все, что он пожелает.
– А где?
– У меня, там нам никто не помешает.
Он с удовольствием взял ее под руку, преодолевая легкое сопротивление и внушая ей, что до его дома вовсе не далеко, всего пара автобусных остановок.
Они уже ехали в автобусе, когда Паула хватилась, что у нее нет денег, деньги остались в сумочке, а сумочка в нижнем ящике письменного стола; Паула раздумывала, не вернуться ли сначала в бюро находок, но Генри удалось ее успокоить:
– Альберт будет охранять вещи и никого к нам не пустит. – Он дал ей двадцатку, буркнув: – Отдадите как-нибудь при случае, – и наблюдал, как она долго держала купюру в руке.
Ах, эта ее задумчивость, ее неуверенная улыбка, когда их взгляды встречались! Они стояли в набитом автобусе, тесно прижатые друг к другу, держались за петли-ручки и не извинялись, случайно касаясь телами друг друга. Когда автобус вырулил на зацементированную площадку в районе многоэтажек, Генри обхватил ладонью ее руку. Он повел ее мимо детской площадки и искусственных прудов, на одном из которых она с удивлением обнаружила плавающую пару уток, это здесь-то, среди огромных каменных домов!
Пока Генри отпирал дверь, Паула отступила немного назад, словно у нее именно в этот миг закрались сомнения.
Коллекция закладок развеселила ее; не успев еще оглядеться в квартире, она подошла к ней и, щелкнув пальцем по свисающим на петельках совам и русалкам, качнула их, словно маятники. Ей невольно вспомнилась собственная коллекция разноцветных камушков, которую она еще школьницей хранила в маленьких мешочках; интересно, где она сейчас. Паула решила подарить Генри закладку, случайно обнаруженную в купленной у букиниста книге, – вырезанную из тонкой кожи щуку. Она огляделась в комнате и, увидев диванную подушку, еще хранившую следы вмятины от затылка, произнесла:
– Уютно тут у вас.
– Да, жить можно, – отозвался Генри. Он поставил два бокала на столик у тахты, вытащил из холодильника литровую бутылку апельсинового сока и спросил: – Выпьете для поддержания здоровья?
– С удовольствием, – согласилась Паула.
С серьезным видом и наигранным усердием он отыскал блокнот, откопал две шариковые ручки и напомнил гостье, что их ожидает работа, тут же сознавшись, что ни разу в жизни не писал никаких отчетов и рассчитывает на ее богатый опыт. Паула покачала головой, но все же согласилась, в душе она была даже рада приключению, в которое ввязалась. Они сели рядышком на тахту, Паула взялась писать черновик, чтобы потом перепечатать его на машинке, поставила дату, засмеялась и произнесла:
– Ну вот, начало у нас уже есть.
Во всех подробностях они вспомнили тот ничем не примечательный день, когда Маттес, полицейский с железной дороги, сдал в бюро находок куклу, найденную, по его сведениям, при облаве в «Интерсити-экспресс», следовавшем из Эмдена в Ганновер. Поскольку были подозрения, что кукла служила лишь тайником или нелегальным средством транспортировки, было решено, в соответствии с общими требованиями розыскных действий, подвергнуть находку профессиональному досмотру. Расследование было проведено сотрудниками железнодорожного бюро находок, госпожой Паулой Блом и господином Генри Нефом, которые извлекли из куклы сумму в двенадцать тысяч марок.
«С этого можно было бы начать отчет», – подумала Паула, Генри же, однако, предложил, также начав с появления Маттеса, подробно остановиться потом на кукле как средстве для перевозки контрабанды, вообще написать о других игрушках, к примеру о медведях или, скажем, зайцах, которые регулярно использовались в преступных целях.
– Ах, Генри, – улыбнулась Паула, – вы как были, так и остались ребенком, который обожает рассказывать разные истории, сначала слушать, а потом пересказывать их. Отчет же должен быть сухим, в нем не может быть ничего лишнего, ничего нельзя ни скрывать, ни приукрашивать.
– Но мы же обязаны описать все, что с нами произошло, – запротестовал Генри, – в том числе и как мы препарировали куклу и обнаружили деньги.
– Невозможно собрать воедино и воспроизвести все, что пережил человек, – заметила Паула, – что-то всегда будет упущено. Итак, я за то, чтобы придерживаться фактов, согласны?
Паула начала писать, а Генри читал написанное ею. Он был восхищен той решительностью, с какой она написала первые фразы; словно все заранее обдумав, перепроверив и установив все факты, она упомянула о полицейском, сдаче куклы, об обнаружении денег и, наконец, указании полиции задерживать всякого клиента, который заявит о потере куклы. Она повернулась к нему в ожидании его одобрения или возражений, но он ничего не сказал, а лишь обнял ее.
– Никаких отвлекающих моментов, – строго сказала Паула, – мы должны работать дальше.
И пока она не столько описывала, сколько сухо перечисляла последние события – появление мальчика, бегство и преследование, Генри гладил ее по плечу, она не возражала, делая вид, что ничего не замечает. Когда же он попробовал притянуть ее к себе, она резко отодвинулась от него и закурила сигарету. Подойдя к окну, она объявила:
– Завтра я перепечатаю отчет, и каждый из нас подпишет его, если у вас нет возражений.
– Это настоящий шедевр, – сказал Генри, – и я присутствовал при его создании.
Неожиданно Паула застыла в оцепенении. Генри понял, что ее взволновало что-то увиденное в окне, он подошел к ней, посмотрел на площадку и обнаружил нескольких рокеров, круживших возле прудов, не быстро, не сломя голову, а медленно и методично. Они все ближе подбирались к прудам и, когда обе утки наконец взлетели, восприняли это как своего рода сигнал: оторвали от земли передние колеса, мотоциклы словно встали на дыбы, моторы взревели, и вся компания умчалась прочь.
– Они считают это своей территорией, – мрачно заметил Генри. – Чувствуют себя здесь полноправными хозяевами.
– Хозяевами чего? – удивилась Паула. – Над кем они властвуют?
– Думаю, они и сами этого толком не знают, – ответил Генри, – быть может, над теми, кто их боится, – и поскольку Паула долго смотрела вслед рокерам, пока последний из них не исчез за домами, он поинтересовался: – Он был среди них? Хуберт, ваш брат? Вы видели его?
– Не знаю, – ответила Паула. – Они все так похожи друг на друга в своем прикиде, может, и он был там. – Она тихо добавила: – Его мотоцикл заменяет ему все.
– Если у него в жизни нет ничего другого, – пожал плечами Генри, – пусть радуется.
Не говоря ни слова о своих намерениях, Паула подошла к столу, взяла исписанный лист, сложила его и попросила конверт. Когда она направилась к выходу, он преградил ей путь.
– Пожалуйста, – произнес он, – побудьте еще, я так просто не отпущу вас, – и он притянул ее к себе, почувствовав при этом, как она окаменела и попыталась высвободиться из его объятий. В ее глазах было написано, что она не даст себя уговорить, ее спокойный осуждающий взгляд заставил его отпустить ее; после минутной заминки он предложил ей предпринять что-нибудь совместное, ну хотя бы выкурить по сигаретке. Она присела на ручку кресла, он поднес ей зажигалку и спросил, может ли называть ее по имени. Паула кивнула и улыбнулась ему, с улыбкой поцеловала его в зашитую бровь и произнесла:
– Стежков от шва скоро совсем не будет видно.
Генри был настолько поражен и так рад, что тут же предложил посмотреть вместе какой-нибудь фильм, а потом… Он не договорил до конца, потому что Паула отрицательно помотала головой – не сегодня – и сказала усталым голосом:
– Может быть, в другой раз, – помедлив, она добавила: – Это создало бы проблемы, Генри, новые проблемы, а у меня их и так хватает.
Он сделал вид, что не понимает, и спросил:
– Какие проблемы?
– Какие проблемы? – удрученно повторила она, глядя на струйку дыма. – Не знаю, может, ты и легче справляешься со своими, но мне что-то не верится…
Вахтер был хорошо информирован: Федор Лагутин делает доклад не в большой аудитории, а в маленькой, в В-4; для верности он еще раз взглянул на лежащее перед ним расписание и повторил:
– В-4, на третьем этаже.
Генри поблагодарил и направился к каменной лестнице, но тут вахтер добавил:
– Сейчас все уже закончится, вам лучше подождать внизу, они скоро спустятся.
Раз уж он пропустил доклад Федора – в бюро находок настояли на том, чтобы он вместе с Бусманом подготовил все к следующему аукциону, по крайней мере он подождет его у дверей и извинится за то, что не смог прийти вовремя, ведь Федор лично пригласил его. Генри был еще в коридоре, когда раздались скудные аплодисменты, так ему во всяком случае показалось; он ускорил шаг и оказался у В-4 как раз в тот момент, когда дверь распахнулась и мимо него торопливо прошмыгнули несколько студентов. Народу на лекцию пришло явно маловато. Генри прикинул: у Федора было не более десятка слушателей, среди них не только студенты, но и парочка пожилых мужчин, наверное, преподаватели. Генри страшно удивился, увидев в зале Барбару в спортивном костюме, она сидела непосредственно перед кафедрой докладчика, однако явно ничего не записывала, как некоторые другие: перед ней не было листов бумаги. Федор все еще отвечал на вопросы, и Генри подошел к сестре; не скрывая своего удивления, он спросил:
– А ты как здесь оказалась?
На что Барбара невозмутимо ответила:
– Меня пригласил Федор, то есть он предоставил мне решать, хочу я прийти или нет.
– Ну и как, – съязвил Генри, – чувствуешь себя обогащенной?
Вместо ответа Барбара исподтишка ткнула его в бок, не больно, по-сестрински, а затем потащила за собой к выходу:
– Нам надо найти столовую, Федор пригласил нас.
Они заняли столик рядом с раздвижной стенкой, отделяющей столовую от большого пустого зала, зарезервировали стул для Федора, а Генри взял поднос и принес три чая и несколько берлинских булочек со сливовым джемом. Лагутин пришел не один, а в сопровождении сутулого, рано согнутого наукой студента в очках в никелевой оправе, который, жестикулируя, что-то беспрерывно говорил ему, не прервавшись и тогда, когда оба уже подошли к столику. Студент не поздоровался даже с Барбарой, а лишь задал вопрос, в котором слышался глубокий скепсис:
– Таким образом, вы полагаете, что бесконечность может быть объектом математических исследований?
– Разумеется, – ответил Федор Лагутин, – впрочем, в научных исследованиях нам надо быть готовыми к некоторым сюрпризам, к некоему парадоксу. Сюрприз начинается после определения «множества», которое складывается из элементов бесконечного числа. Кантор предвидел это, великий Кантор! Под конец он хотел представить «множество» как бездну.
Студент поблагодарил его, поклонился Барбаре и хотел уже удалиться, но тут Федор посоветовал ему ознакомиться с логическим доказательством Рассела, который прибегнул к числу как средству систематизации.
– Рассел, – задумчиво кивнул студент. – Хорошо, я займусь им. Кстати, господин Лагутин, слушать вас было огромным наслаждением.
Барбара выудила чайные пакетики из всех стаканов и призвала отведать берлинских булочек, но, прежде чем они успели последовать ее призыву, Федор попросил всех считать себя его гостями, официально объявив:
– Если вы желаете преумножить мою радость, примите приглашение.
Брат с сестрой приглашение приняли.
Федор Лап-тин пребывал в великолепном настроении, реакция на его доклад, казалось, удивила его, и он попытался переубедить Барбару, утверждавшую, что она не способна вдохновиться математикой, этими абстрактными дебатами в разреженном пространстве. Стоит ей вспомнить доклад, призналась она, как у нее начинает кружиться голова от бесконечных дефиниций и всех этих логических понятий, отношений и соответствий; она просто не в состоянии понять, что кто-то получает от этого удовольствие.
– Надеюсь, ты простишь меня, Барбара, если я скажу, что придерживаюсь иного мнения, – мягко возразил Федор. – В математике мы погрузились в исследование универсума понятий. Великие ученые показали нам, какое значение имеют при этом базовые гипотезы, аксиомы. Мы воздаем должное этим ученым, следуя их путем.
– Признаю, – согласилась Барбара, – все признаю, но есть ли в этой работе хоть что-нибудь, от чего можно прийти в восторг даже стать счастливым?
Федор улыбнулся, закрыл глаза и сказал:
– Непротиворечивость, доказанная непротиворечивость гипотез.
– Запомни это, – нравоучительно сказал Генри сестре, – счастье – это отсутствие противоречий, – и он только теперь извинился перед Федором за пропущенную лекцию.
В столовой появились два студента, в руках они держали свернутые трубочкой плакаты, оба окинули оценивающими взглядами окна, стойку, раздвижную стенку; казалось, они без слов понимали друг друга и потому безошибочно, с первого раза ровно развесили свои плакаты, приклеив их скотчем. Плакаты приглашали на студенческую пирушку, затейливо нарисованные пером формулы танцевали и хохотали. Лагутин пришел в такой восторг, что попросил у студентов один плакат для себя лично. Получив его, он аккуратно сложил плакат и положил в свою обшитую мехом сумку.
– Это флейта? – спросила Барбара, заметив в сумке инструмент орехового цвета, и протянула к нему руку.
Федору ничего не оставалось, как вынуть флейту и дать ей:
– Наш национальный инструмент, курай.
Барбара ощупала дерево и спросила:
– Можно попробовать?
Она поднесла флейту к губам и попыталась наиграть старинную народную песню, но оставила эту затею после первых же звуков, удивившись их резкости.
– Да, я знаю, звук своеобразный, – кивнул Федор, – звучание курая не такое нежное и мягкое, как у свирели.
– А сыграй сам, пожалуйста, – попросил Генри, – ну хоть немножко.
– Не здесь, – ответил Федор, оглядевшись по сторонам и покачав головой: он увидел несколько спорящих студентов. – Я боюсь помешать им.
– Совсем тихонько, – не унималась Барбара, – что-нибудь коротенькое, на пробу, им это точно не помешает.
Федор подмигнул ей:
– Песня, исполненная на курае, содержит некий посыл, она не звучит просто так, иногда можно отгадать, о чем она говорит, но можно и ошибиться.
Пожилой мужчина подошел к их столику и поинтересовался, собирается ли Федор Лагутин принять участие в конференции:
– Если вы не имеете ничего против, уважаемый коллега, мы могли бы пойти вместе, нам нужно попасть в другое крыло, а туда не просто найти дорогу.
Заметив, что Федор колеблется, Генри подбодрил его:
– Иди, мы подождем тебя здесь, если это не будет длиться целую вечность.
После его ухода они долго молчали. Барбара погрузилась в свои мысли, пытаясь найти объяснение каким-то вещам или поступкам, а быть может, понять зародившееся вдруг чувство – так, во всяком случае, показалось Генри. Чтобы оставить ее хотя бы на короткое время наедине со своими думами, он отнес поднос к стойке, долго и придирчиво разглядывал тефтельки и сэндвичи под стеклом и в конце концов взял две бутылочки кока-колы. Наполняя стаканы, он произнес:
– Хотел бы я послушать, как он играет.
– Я тоже, – сказала Барбара, – еще я с удовольствием побывала бы в той стране, увидела родной город Федора – Самару, познакомилась бы с тамошними людьми.
– Может, и увидишь когда-нибудь, – заметил Генри, – но если соберешься ехать туда, это надо делать летом, когда некоторые из его земляков выезжают далеко в степь пасти скот, там они живут в юртах – Федор рассказывал мне о кочевой жизни; только тогда и тебе придется спать в такой юрте.
– Я уже спала однажды в дюнах, в Вестерланде на острове Зильт, и один раз даже прямо в каноэ.
– Значит, ты готова провести ночь в юрте, – заключил Генри и погладил ее по спине, вдруг почувствовав к сестре странную жалость. И хотя не трудно было предугадать, что этому проекту никогда не суждено сбыться, он начал убеждать ее обдумать план поездки в Самару, предложил взять и провести там отпуск – поехать не в Испанию, как всегда, в Марбелью, а в Самару – цены наверняка доступные. Барбара задумчиво посмотрела на него, пытаясь понять, шутит он или нет, и спросила:
– А ты бы поехал со мной?
Генри ушел от прямого ответа и лишь сказал:
– Почему бы и нет? – Но потом он вспомнил рассказы Федора о его жизни, подумал про его деда, пользовавшегося всеобщим уважением, про сборщиков меда, про диких пчел и об охоте в степи, представил себе полную приключений жизнь в юрте и добавил: – Я бы с удовольствием поехал туда вместе с тобой, в самом деле, Барбара, надо только обождать, пока Федор не вернется домой.
– Может намекнуть ему уже сейчас? – загорелась Барбара, но Генри остановил ее:
– Лучше ближе к лету.
Последние студенты с шумом покинули столовую, они остались одни, и Генри попросил одолжить ему пятьдесят марок до следующего первого числа. Первого, пообещал он, он отдаст и другие долги. Барбара дала брату деньги, при этом ее кольнуло, как небрежно сложил Генри купюру и рассеянно сунул ее в карман рубашки. Еще ее удивило, что он тут же встал и предложил ей уйти, поскольку конференция, по-видимому, затягивается. Барбара осталась сидеть. Она не пыталась удержать его и лишь кивнула в ответ на слова брата, что ему нужно еще заскочить в свою контору по поводу предстоящего аукциона.
Паула не ошиблась. Когда подошел поезд, какой-то мужчина и в самом деле оставил свой чемодан на платформе. Это был броский кожаный чемодан, стоявший прямо у его ног; он не только оставил его, но и не обратил никакого внимания на женщину, преградившую ему путь и крикнувшую, показывая вытянутой рукой на забытый багаж: «Вы забыли свой чемодан!» Паула видела все это, стоя у вокзального киоска, где сдавала заполненную карточку лото. Своими собственными глазами она видела, как очень хорошо одетый мужчина прошел вдоль поезда и, неожиданно остановив свой выбор на одном из вагонов, сел в него. Почти бегом она ринулась на платформу, протиснулась сквозь толпу пассажиров и добралась до чемодана. Какой легкий… Паула подхватила его и понесла вслед за господином, время от времени поднимаясь на цыпочки и заглядывая в окна поезда; наконец она обнаружила нужного ей пассажира, постучала по стеклу и показала на чемодан. Мужчина неохотно подошел к двери, не проявив ни малейшей радости при виде родного имущества, лишь вопросительно взглянул на Паулу, подавшую ему чемодан: «Это ведь, кажется, ваша вещь». Ни благодарности, ни радости. С обидным равнодушием очень хорошо одетый господин принял из рук Паулы чемодан и пихнул его ногой в проход. Поскольку он счел излишним что-нибудь сказать ей – хоть словечко объяснения или извинения, Паула развернулась и медленно, в задумчивости пошла назад вдоль состава, пока наконец перед ней не возник железнодорожник в красной фуражке и не подал машинисту сигнал к отправлению. Она оглянулась. В тот самый момент, когда поезд тронулся, дверь одного из вагонов распахнулась и на платформу вылетел чемодан, перевернулся и остался лежать у контейнера с мусором.
Железнодорожник тоже наблюдал, как при отправлении из поезда был выброшен чемодан, он также видел, как Паула подбежала к нему и взяла его себе. Ей не нужно было ничего объяснять и официально представляться, служащий приветливо поздоровался с ней и сказал:
– Избавили нас от лишней работы. Желаю вам всегда находить только приятные вещи, – потом он взял у Паулы чемодан, оценил его вес и заключил: – Ничего существенного.
Бусман уже закончил работать, а Ханнес Хармс был занят наведением порядка в своем кабинете и лишь кивнул Пауле, когда та прошла к себе с большим, но легким чемоданом. Она поставила найденный предмет на пол и закурила сигарету. Ей было любопытно, что же в чемодане – а что-то, это она чувствовала, там все же хранилось, – но она не решалась открыть его, неожиданная робость, а может, страх сковали ее. Она обрадовалась, увидев Генри, задвигавшего в угол тележку с тростями, и окликнула его. Генри страшно развеселился, узнав, каким образом попал к Пауле сей предмет. Он попросил описать внешность мужчины, намеренно оставившего свой багаж, затем поднял чемодан и принялся гадать о его содержимом:
– Это не книги и не консервы, думаю, там мех, не исключено, что лисий, – он поставил чемодан на письменный стол и жестом пригласил Паулу открыть его.
Приступая к делу, Паула невольно подумала об Альберте Бусмане, настоящем мастере по вскрытию замков на найденных предметах, даже сложные секретные замки подчинялись ему, доверяя все тайны; она уже пожалела о его отсутствии, но, к ее удивлению, при легком нажатии замочки щелкнули, и чемодан открылся.
Ее первой мыслью было: шмотки. Внутри лежало смятое клетчатое тряпье, выцветшее, усеянное пятнами, разорванное в одном месте, а из-под него выглядывало что-то серое, оказавшееся отворотами брюк, сношенных и обтрепанных. Паула вынула вещи и положила на стол брюки и куртку, это была одежда, познавшая любую непогоду, владелец явно не снимал ее даже на ночь. Паула невольно вспомнила мужчину в поезде, которому она подавала чемодан, и представила его в этих обносках, во всяком случае, попыталась представить, ее опять обжег его холодный, отталкивающий взгляд, и она вновь почувствовала себя оскорбленной той небрежностью, с которой он принял чемодан. Она предоставила Генри исследовать вещи и отступила назад, наблюдая, как он проверяет все карманы и даже прощупывает подкладку, не зашито ли там чего, но нет, Генри ничего не обнаружил. Бросив куртку на стул, он сказал:
– Он не хотел оставлять никаких следов, но заактировать нам это, пожалуй, придется.
Пока Паула заправляла в машинку лист с типографски выполненным заголовком «Вещи, обнаруженные на территории железной дороги», Генри исчез между стеллажей, сделав вид, что хочет пойти в туалет. На самом деле он свернул в боковой проход и дошел до тайника Бусмана. Сунув руку под стопку сложенных дорожных пледов, он тут же нащупал бутылку и вытащил ее. Он сделал два глотка: короткий быстрый, как бы для разгона, а затем длинный. Вернувшись к Пауле, Генри произнес:
– Этот тип явно хотел от чего-то избавиться, и не только от старых шмоток, но еще и от самого себя, каким он был в последнее время, или от того, за кого его принимали. Думаю, ему было неуютно в собственной шкуре, и потому он распрощался с собой, со своим внешним обликом.
– Может быть, – кивнула Паула, – только вряд ли это поможет ему надолго, просто смешно думать, что новые шмотки облегчат начало новой жизни, ничего нельзя начать заново, я имею в виду в прямом смысле: что-то прилипает к человеку от прежнего, что нельзя с себя стряхнуть.
Генри с удивлением взглянул на нее и произнес:
– В самом деле? Я в этом вовсе не уверен. Бывает, с человеком что-то происходит, и, сам того не ведая, он уже начинает новую жизнь. Но я вас задерживаю своими разговорами.
– Да, это так, – сказала Паула, осмотрела чемодан и пометила содержимое как «поношенные вещи, не имеющие особой ценности». Она быстро сунула листок в свой талмуд, посмотрела на часы, убедилась, что рабочий день уже окончен, и прикрыла чехлом пишущую машинку. – К сожалению, мне нужно идти.
– Свидание?
– Как сказать. Надеюсь, фильм еще не начался.
– Интересный?
– Не знаю, но мой муж хочет, чтобы я его посмотрела. Марко дублировал актера, играющего главную роль.
– Американский фильм?
– Ирландский, – ответила Паула, – называется «Хранитель птиц», я не знаю, о чем он.
– Возьмете меня с собой?
Паула помедлила секунду, потом произнесла, уже на ходу:
– Фильм идет здесь, в вокзальном кинотеатре.
Генри купил в киоске пакетик арахиса и орешки в шоколаде; перед тем, как спуститься вниз по лестнице в маленький кинотеатр, они еще молча разглядывали фотографии на стенах с наиболее яркими и характерными кадрами из фильма: устье реки, где стоит на якоре одинокая яхта с убранными парусами, гостиница на фоне безлюдного зеленого ландшафта, смеющийся мужчина у торфяных болот, а над ним туча морских птиц, прелестная маленькая девочка с мудрым по-старчески лицом, заглядывающая через мутное стекло внутрь дома, настоящий великан в элегантном костюме яхтсмена, которому объясняют устройство двустволки, и запечатленная на многих фото надменная женщина – взирающая на море, терпящая мужские объятия, загорающая на палубе яхты.
– Я заинтригован, – сказал Генри.
В зале было почти пусто. Они сели на крайние места в последнем ряду, Генри тут же предложил спутнице орешки в шоколаде и уставился на экран, мужчина на яхте как раз бросал якорь – фильм уже начался. На воду была спущена надувная лодка, на зов одетого во все белое мужчины на палубу вышли дама и маленькая девочка, они вглядывались в безлюдную местность и в шутку затыкали уши, не в силах вынести ужасный птичий гомон.
В лодке женщина спросила:
– Ты считаешь, мы правильно сделали, что приехали сюда?
Мужчина ответил:
– Гарольд будет очень рад, он тут неделями торчит в полном одиночестве, соскучился по гостям, к тому же Карин будет интересно здесь, правда, Карин?
Девочка наблюдала за двумя птицами, пытавшимися в стремительном падении отбить друг у друга добычу, и сказала:
– Мне не нравятся эти птицы.
– Но тебе наверняка понравятся их птенцы, – заметил мужчина.
– Это голос Марко, – пояснила Паула, – он озвучивал мужчину-яхтсмена.
Хозяин гостиницы уже заметил их на реке, вот он подбросил два брикета торфа в печь и направился к двери встречать незнакомцев. Согласившись с ними, что погода вполне сносная, он высказал, однако, опасение, что она может вскоре перемениться: чересчур много крупных морских птиц искало прибежища на суше.
– Они всегда предчувствуют непогоду, – заметил Генри и наклонился к Пауле, но та, кажется, не слушала его.
Комнаты, отведенные хозяином гостям, – угловая с видом на море для родителей и небольшая комнатка «для нашей маленькой фройляйн» – не слишком понравились приехавшим, но они не стали возражать и принялись распаковывать вещи. Пока женщина стояла перед открытым шкафом, мужчина обследовал в бинокль местность и обнаружил наконец крытую камышом хижину и висевшие радом с ней две верши для ловли рыбы.
– Ты нашел его, Патрик? – поинтересовалась женщина.
– Пока только его хижину, – отозвался мужчина, – выглядит весьма идиллически. Гарольд, скорее всего, бродит где-нибудь в камышах.
Маленькая девочка сидела в задумчивости в своей комнатке на кровати, не проявляя никакого интереса к окружающей местности; даже когда вдалеке раздался выстрел, она не двинулась с места.
Вошел Патрик, сел рядом и притянул ее к себе. Пытаясь подбодрить девочку, он произнес:
– Подожди, тебе обязательно здесь понравится, Гарольд – ты можешь называть его дядя Гарольд – очень милый человек, у него, конечно, есть и прирученные птицы, и больные, которых он выхаживает.
Девочка пытливо посмотрела на него и неожиданно сказала:
– На яхте ты мне рассказывал, что раньше он был женат на маме.
– Да, – подтвердил Патрик, – но это было очень давно, задолго до твоего рождения. Мы остались друзьями, вернее, снова стали ими – Гарольд и я.
В коридоре, заполненном чучелами тупиков, буревестников и других птиц, женщина попросила у хозяина вторую подушку; когда снова раздался выстрел, она вздрогнула, а хозяин пояснил, что идет отстрел лис:
– Они приходят зимой по льду и разоряют птичьи гнезда. Птичий страж наводит порядок.
Генри взял ладонь Паулы, раскрыл ее, насыпал туда немного арахиса и шепнул:
– Похоже, все плохо кончится. Как вы думаете?
– Как она расфуфырена, – прошептала Паула, – нашла где модничать.
Из густых зарослей камыша появился Гарольд, одетый в водолазку и высокие резиновые сапоги; лицо его было залито потом. Заметив гостей, как раз выходивших из гостиницы и направлявшихся к узкой тропинке, которая вела к его дому, он быстро исчез в своей хижине. Ополоснув лицо, он скинул сапоги, взбил подушку на своей лежанке и открыл окна, затем вытряхнул окурки из пепельницы.
Девочка внимательно наблюдала, как поздоровались взрослые, как не слишком крепко пожали мужчины друг другу руки, как Гарольд откровенно разглядывал ее мать, прежде чем поцеловать в щеку и поприветствовать в царстве пернатых. Шкура убитой лисицы, лежавшая на деревянной лавке, вызвала у девочки явный интерес, однако она не решалась потрогать ее.
– Ну заходите, – пригласил Гарольд, – посмотрите, как живет отшельник. Я приготовлю чай.
Надвигалась буря, старый помощник хозяина посоветовал отвести стоящую на якоре яхту вверх по реке и вызвался помочь гостям, хозяин согласился.
– Пойдем, я тебе кое-что покажу, – позвал Гарольд девочку и повел ее за дом; здесь он легко поймал большую чайку, та клюнула его в указательный палец, впрочем, явно не больно, и произнес: – У нее сломано крыло, если хочешь, можешь ее погладить.
Карин спрятала руки за спину. После того как он опустил птицу на землю, девочка спросила:
– Вы долго были женаты на моей маме?
Гарольд был настолько ошеломлен, что не сразу нашелся с ответом. Для начала он сказал:
– Ты можешь смело говорить мне «ты», здесь, далеко от города, это принято, – потом добавил: – Тебя тогда еще не было на свете.
Гарольд с гостями отважились на прогулку по птичьему царству, он заботливо следил, чтобы женщина не сходила с тропинки, подавал ей руку, помогая перепрыгнуть через лужицы и заболоченные места, рассказывал о повадках разных видов птиц. Чем ближе они подходили к местам высиживания птенцов, тем агрессивнее налетали на них морские чайки и клуши, пытаясь отпугнуть, женщина втягивала голову в плечи, спотыкалась, а Гарольд подхватывал ее, чтобы она не упала.
Следующий кадр: хозяин без стука вошел в хижину, девочка стояла у окна и смотрела вслед уходящим взрослым. На вопрос, почему она не пошла вместе с ними, ведь там, в камышах и в воздухе, происходит столько всего интересного, Карин ответила:
– Не хочу.
– Если тебе повезет, ты сможешь увидеть альбатросов, как они пролетают мимо высоко в небе…
Но девочка сказала:
– Я не люблю этих больших птиц.
Генри нащупал руку Паулы, та, решив, что он опять хочет насыпать ей орешков, раскрыла ладонь, но он только нежно погладил ее пальцы и, продолжая напряженно следить за событиями на экране, надавил на кончик среднего пальца, мягко постукал по нему, словно передавая ей что-то азбукой Морзе. Он ожидал, что она вырвет руку, и через некоторое время она так и сделала, но не решительно, не раздраженно, а спокойно, как бы устав держать ее в таком положении. Они посмотрели друг на друга, не зная, насколько похожи выражения их лиц. Потом нехотя поднялись, пропуская молодую парочку, пожелавшую сесть в их ряду, и были рады, когда те прошли вперед чуть дальше.
За чаем с ромом Патрик рассказывал о своем бизнесе, ему удалось недавно расширить его – служба доставки еды на дом; теперь у него было занято уже двадцать два работника, особым разнообразием ассортимент заказываемых блюд не отличался, зато «моторизованные посыльные» могли доставить горячие и холодные закуски в кратчайшие сроки – за пятнадцать минут. Гвоздем программы было индонезийское блюдо из риса – во рту все так и горело! По желанию он доставляет также легкие вина, красные и белые.
– Эти вина мы и сами пьем, – добавила женщина.
Смеркалось, и Патрик решил совершить одиночный охотничий рейд, Гарольд доверил ему свое ружье и дал два патрона с дробью. Птицы утихомирились к ночи, в камышах было тихо.
Оставшись одни, они долго молча сидели друг против друга, как бы боясь первого вопроса. Гарольд думал: я не имею права спрашивать ее, счастлива ли она, а женщине вспомнился тот вывод, к которому она пришла давно, – по сути, он был одиночкой и женился лишь потому, что от него этого ждали, так полагалось в обществе. Они не заметили, как за окном появилось лицо ребенка, худое, напряженно-подозрительное, они разглядывали друг друга дружелюбно и с какой-то сладко саднящей душу симпатией. Наконец женщина произнесла:
– Не знаю, как ты живешь, но порой, когда я вспоминаю прошлое, мне все кажется таким чужим. Неужели мы ошиблись?
Мощный порыв ветра с моря пригнул камыши; Гарольд и женщина подняли головы и прислушались, лицо девочки в окне исчезло.
Генри откинулся назад и положил Пауле руку на плечо, улыбнулся про себя, подумав, что кино просто создано для того, чтобы трогать и щупать своего партнера, и это его развеселило; в зале неожиданно стало светло от белого птичьего облака на экране, и Генри заметил, что многие пары сидели тесно прижавшись, как и они с Паулой, а некоторые и вовсе, не обращая внимания на фильм, нырнули куда-то вниз.
Птичья стая, сделав круг, с пронзительными криками ринулась на девочку, стоявшую в зарослях ольхи с зажатыми от ужаса ушами, когда же огромная птица почти задела ее крылом, она вскрикнула и побежала.
Женщине показалось, что она слышала зов о помощи, Гарольд тоже не сомневался, что слышал его. Он подошел к двери, прислушался, и когда женщина взволнованно спросила: «Карин? Где Карин?», он надел непромокаемую куртку и вышел.
Снаружи, неподалеку от дома, раздался выстрел, и женщина метнулась к окну. Постояв немного, она вернулась к столу, налила себе чаю и закурила сигарету. Подойдя к открытой двери, она застыла на фоне свинцового неба, прислушиваясь к звукам. Неожиданно для себя она крикнула:
– Гарольд, Карин, сюда!
Ответа не последовало, и она возвратилась в комнату, ее взгляд упал на шероховатую поверхность стола, заваленного разными блокнотами и справочниками по орнитологии. Она скользнула взглядом по некоторым записям и только открыла шкафчик, где лежали письма, как в дом вошел Патрик, вспотевший и растрепанный. Он произнес:
– Я промахнулся. Лиса перебежала мне дорогу, но я промазал.
– Карин исчезла, – сказала женщина, – она где-то там.
В тоне, каким она это произнесла, слышалась готовность обвинить его во всем, если с ребенком что-нибудь случится. Патрик повесил ружье на крючок у двери, вытащил из одного кармана куртки трубку, из другого – узкую табакерку, не спеша набил трубку, изведя несколько спичек, прикурил и, когда она наконец нормально задымила, произнес:
– Карин сейчас, несомненно, в гостинице, я видел их обоих, Гарольд вел ее за руку.
– В гостинице? – переспросила женщина.
– Может, она сама захотела пойти туда, – сказал Патрик, – во всяком случае, я видел, как они туда шли.
Боковым зрением Генри заметил, что Паула закрыла глаза, пока на экране говорил этот Патрик, вероятно, чтобы полностью сконцентрироваться на голосе, а может, она пыталась представить себе того мужчину, которому в действительности принадлежал голос, поэтому Генри не удивился, когда она сбросила его руку.
В хижине двое прислушивались к завываниям усиливающегося ветра, стегавшего дождем по окнам; Патрик предложил вместе отправиться в гостиницу, уверяя, что знает кратчайший путь. Женщина никак не отреагировала на его предложение, она, казалось, даже не расслышала его; словно пытаясь получить ответ на мучавший ее со времени встречи с Гарольдом вопрос, она вдруг спросила:
– Скажи, Патрик, зачем ты привез нас сюда? Ты же знаешь, я этого не хотела.
– Но потом ты ведь все-таки согласилась, – заметил Патрик, – к тому же я хотел порадовать Карин.
– А о себе самом ты вовсе не думал?
– С какой стати я должен был думать о себе? Из моих отношений с Гарольдом давно ушла напряженность. Когда-то мы были друзьями и снова стали ими, на другой манер, но стали.
– Я полагаю, у тебя была собственная причина приехать сюда, – произнесла женщина. – Ты хотел что-то доказать Гарольду, да-да, ты хотел продемонстрировать ему, чего ты достиг и как хорошо мы с тобой живем.
– Ну вот, ты снова начинаешь, – отмахнулся Патрик.
– Нет, – настаивала женщина, – я знаю, о чем говорю. Ты хотел произвести впечатление на Гарольда своим великодушием, достигнув успеха, ты можешь позволить себе это, не надо обманывать себя.
– Ну вот, приехали, – недовольно протянул Патрик, – ты что-то предполагаешь и делаешь из своих фантазий немыслимые выводы; во всяком случае, я ничего не собирался доказывать Гарольду, ничего! И то, что вы когда-то спали в одной постели, не волнует меня.
Женщина окинула его холодным и язвительным взглядом и, помолчав, сказала:
– Когда вы здоровались, ты ведь не мог видеть себя со стороны, на твоем лице была написана снисходительность, ты понимаешь, что эта снисходительность и меня задела, даже оскорбила?
– Да остановись же наконец, – взмолился Патрик, – любой факт ты истолковываешь так, будто он направлен против тебя, по крайней мере связан с тобой, пойми же наконец…
В этот момент Паула встала, коснувшись рукой плеча Генри, вышла в проход и направилась к двери. Он посидел, гадая, ждать ее возвращения или нет, потом тоже поднялся и вышел в освещенное фойе. Паула стояла у выхода на улицу.
– Что случилось? Вам нехорошо? – спросил он.
– Скоро пройдет, – ответила Паула. – Я чувствую какую-то тяжесть, на воздухе мне станет лучше.
– Уйдем отсюда? Или, может, вы хотите досмотреть фильм? Впрочем, я уже догадываюсь, чем он закончится, – произнес Генри, – во всяком случае, дело пахнет расставанием, этого стоит ожидать.
Он ободряюще кивнул ей, взял за руку и потянул на улицу. Генри хотел сразу отправиться к автобусной остановке у вокзала, но Паула предпочла пойти домой пешком. Погруженная в себя, лишь изредка бросая на него взгляды украдкой, она шла рядом, а Генри все время что-то говорил, словно давал публичную оценку фильму, и чем дольше он разглагольствовал, тем больше критических замечаний приходило ему в голову. В общем и целом он нашел сценарий перегруженным, напичканным слишком большим количеством символов. Не считает ли она так же, поинтересовался он, но Паула лишь пожала плечами. Но должна же она согласиться, настаивал он, то, что они видели, это прошлогодний снег. Паула улыбнулась и неожиданно остановилась у витрины мебельного магазина.
– Разве не так? – спросил он.
– Не знаю, – машинально произнесла она, разглядывая обитый зеленой тканью угловой диванчик, на него под присмотром продавщицы только что уселся какой-то мужчина, явно желающий оценить качество.
Вероятно, покупатель остался недоволен, либо он с самого начала вознамерился проверить комфортность всех сидячих мест, так или иначе, но он несколько раз плюхался на мягкую мебель, подпрыгивал, сравнивал, раздумывал. Продавщица поднесла к его лицу часы, напоминая, что магазин закрывается, после чего он снова энергично попрыгал и направился за ней в глубь магазина.
– Сделка состоялась, – с улыбкой сказала Паула и вспомнила, что когда-то этот угловой диванчик приглянулся ей самой, однако ей пришлось отказаться от покупки из-за его дороговизны.
Они целеустремленно шли дальше, даже там, где их пути могли бы разойтись, они остались вместе; заговорили сначала о дне рождения Альберта Бусмана, потом о следующем аукционе, о двух картинах – подделке старых мастеров, нашедших свое пристанище в бюро находок, – и лишь о том, куда идут, они упорно молчали. Они не остановились, чтобы попрощаться, и перед домом, в котором жила Паула, а не сговариваясь, словно все давно решено, вошли в подъезд, весело ахая и охая, поднялись по лестнице и, пока Паула поворачивала ключ в замке и открывала дверь, неотрывно смотрели друг на друга.
В гостиной горел свет. Возле торшера сидел мужчина и курил, перед ним на круглом столике стояла чайная посуда. От неожиданности Паула вскрикнула, он встал, подошел к ней и обнял. Паула спросила-.
– Откуда ты взялся, Марко?
– Из Мюнхена, – пояснил он, – мы управились с работой раньше, разве тебе не звонили?
Он поцеловал ее в лоб, потом в щеку и лишь после этого вопросительно посмотрел на Генри.
– Разрешите представить, – произнесла Паула, – господин Неф, коллега по работе, а это мой муж; мы как раз смотрели твой фильм, «Хранитель птиц», и господин Неф проводил меня до дому.
– Это очень мило со стороны господина Нефа, – сказал муж Паулы, протянув Генри руку, и тот сразу понял, что этот маленький полный мужчина с редкими волосами действительно рад его приходу.
Он предложил Генри сесть. «Патрик… Надо же, голос Патрика», – пронеслось в голове у Генри. Он не стал садиться, отказался и от чая, предложенного хозяином, не поддался даже на уговоры Паулы, все время оставаясь невдалеке от двери. На вопрос Марко, понравился ли ему фильм, он, бросив неуверенный взгляд на Паулу, повторил то, что уже говорил ей, правда, в несколько смягченном варианте:
– Густо заряженная атмосфера, да, это есть, пожалуй, ландшафт тоже нагнетает драматизм, но символика местами все же чересчур назойлива.
Муж Паулы лишь устало кивнул, казалось, не в силах спорить с ним от переутомления.
– Во всяком случае, мы не скучали, – быстро подхватила Паула и еще раз предложила Генри сесть и выкурить с ними «хоть одну сигаретку», но тот снова отказался, извинился, выразив свое сожаление, и распрощался.
Аукцион традиционно начался в девять утра, все скамейки и стулья были, как обычно, заняты, и посетители, которым не досталось места, толпились у стен или снаружи, на грузовой платформе, откуда они могли глазеть через окна на горы забытых вещей и на одетого в темное аукциониста, весело манипулировавшего действом с высоты отведенного ему места. Генри стоял рядом и поднимал повыше, для лучшего обозрения, выставленные на продажу вещи, не в силах оторвать удивленных глаз от собравшейся публики; он с любопытством разглядывал хитрые и прямодушные, решительные и нетерпеливые лица посетителей, где вперемешку сидели, как ему угадывалось, обитатели ночлежек и директора отелей, владельцы маленьких садовых участков и торговцы, обслуживающие блошиные рынки. В ком-то ему чудились кустари или коллекционеры произведений искусства, а в ком-то прожженные мародеры, охотящиеся за легкой добычей, он углядел и сидевшую в ожидании молодую парочку, рассчитывающую, вероятно, что-то прикупить здесь по дешевке для своего нехитрого домашнего очага. Чем было вызвано присутствие высокомерной обладательницы огромной шляпы, с трудом выносившей соседство городского нищего, он объяснить себе не мог.
К счастью, он заметил вскоре и Барбару, не забывшую данное обещание и лишь слегка припозднившуюся, Барбару, которая не пришла бы, если бы он не упросил ее. Держа на высоко поднятых руках почти новый рюкзак – швейцарское изделие, объявил аукционист, пригодное для покорения вершины Маттерхорн, – он наблюдал, как она протиснулась сквозь толпу стоявших и устремилась вперед, к стулу пожилого господина, лишь раз взглянувшего на нее и тут же предложившего свое место. Генри показалось, что старик даже поблагодарил Барбару за то, что она приняла его предложение. Подать сестре сигнал рукой Генри не рискнул: он знал, что сотрудники бюро находок не имели права принимать участие в торгах и что им было запрещено подставлять вместо себя своих компаньонов, он довольствовался тем, что подмигнул Барбаре, незаметно и не вызывая подозрений. Она распознала его знак и ответила на него, закрыв на секунду глаза. На Паулу, сидевшую в роли секретаря за черным столом позади помоста, он ни разу даже не оглянулся.
Рюкзаком заинтересовался один-единственный покупатель, потный мужчина, одетый во все кожаное; приобретя вещь за стартовую цену, он собрался тут же раскурить свою грубую, похожую на самодельную, трубку, однако Альберт Бусман запретил ему это.
– Где ваши предложения, участники аукциона? – подначивал аукционист, что прозвучало как вызов пока еще сдержанной публике.
Он выкликнул лот «Трости» и объяснил, что они не могут быть приобретены по отдельности, а лишь в совокупности, двадцать семь тростей, из которых Генри выбрал парочку и высоко поднял, крутя в воздухе.
– Вот видите, дамы и господа, – оглашал аукционист зал своим зычным голосом, – две непритязательные трости, забытые в поезде, которые мечтают о новом хозяине, чтобы послужить ему опорой; при необходимости они сгодятся и для устрашения; ну, кто сжалится над ними? Триста восемьдесят, кто больше?
Двое грузных мужчин – Генри принял их за конкурирующих владельцев гостиниц – подхватили игру и начали осторожно поднимать цену: триста девяносто – раз, оба смерили друг друга удивленными, а потом и насмешливыми взглядами; четыреста пять – раз, демонстративно отвернулись друг от друга; четыреста пятнадцать – раз, пошептались со своими ассистентами; четыреста двадцать – раз, один из них с презрительным жестом тут же вышел из игры; четыреста двадцать – два, пауза, удар молотка – три. Аукционист никак не дал понять, доволен ли он; отпуская незамысловатые шуточки, он выкликал лот за лотом, при этом не только расхваливал отдельные вещи, но и обращался с ними, как с живыми существами, с которыми судьба сыграла злую шутку, стремился вновь пристроить их в надежные руки:
– Этот безвинный чемодан… эта гитара, все еще всхлипывающая оттого, что ее забыли… а вот складной прогулочный стул, как он мечтает снова оказаться на природе; итак, кто начнет?
Генри было разрешено поднять гитару вверх, повертеть ее и даже несколько раз коснуться струн. Аукционисту удалось заразить присутствующих хорошим настроением. Он действительно добивался сочувствия к потерянным вещам и удачно сбыл кому-то чайники-термосы и фуражки а-ля принц Генрих, в каких обычно ходят рыболовы, а затем нашел нового хозяина и паре клюшек для гольфа. Своего владельца обрели меховые куртки и плащи, детские игрушки и кожаные папки, зонтики от солнца и от дождя (комплектом), а также дорожные пледы (незаменимые, чтобы согреть мерзнущего дедушку), за ними последовали книги, чемоданы, свитера и даже корзина для новорожденных. Каждый, кто хоть что-то приобрел, не сомневался, что совершил выгодную сделку.
Те же, кто ожидал зрелищного турнира в игре на повышение цен, были разочарованы, торги проходили гладко и без огонька, во всяком случае, до того момента, пока аукционист не выкликнул забавный лот: пару связанных-хоккейных клюшек. Генри показал клюшки публике, попытавшись при этом встретиться взглядом с сестрой. От него не укрылось, что та села прямо, приняв позу боевой готовности. Аукционист назвал клюшки «ветеранами»:
– А теперь мы имеем дело с двумя ветеранами, опробованными не в одной битве, они были обнаружены в «Интерсити-экспресс», следовавшем из Дюссельдорфа, на дюссельдорфском льду всегда ведь царит особая атмосфера, на одной клюшке стоит монограмма «Е. С».
Только он обозначил выставленный на торги лот, как Барбара тут же назвала свою цену, лишь слегка превышавшую стартовую в сорок марок, и кто-то было подумал, что она могла считать клюшки уже своими, но тут, незаметно для большинства, поднял указательный палец тощий, болезненного вида человек в первом ряду, и ничего не упускающий из виду аукционист огласил новое предложение. Барбара тут же отреагировала и дала больше в полной уверенности, что конкурент сойдет с дистанции, но тот не сдавался, торговался хладнокровно, явно не сомневаясь в победе; похоже, поединок забавлял его. Когда они, к удивлению некоторых зрителей, добрались до восьмидесяти, тощий повернулся к Барбаре и демонстративно покачал головой, как бы стыдя ее за то, что она оспаривает у него нечто, по его мнению, принадлежащее ему по праву. Барбара не обратила на него ни малейшего внимания. Посматривая попеременно то на аукциониста, то на Генри, она автоматически повышала цену, поднимаясь все выше и выше, не реагируя на раздававшиеся рядом возгласы удивления. Клюшки достались ей.
Она не торжествовала, даже не выразила удовлетворения, а подошла с непроницаемым лицом к столу, за которым сидела Паула, оформила официально то, что полагалось оформить, получила из рук Бусмана клюшки и покинула зал. «Ну слава богу», – облегченно вздохнул про себя Генри и мысленно поблагодарил сестру за удачную покупку. Он во что бы то ни стало хотел заполучить эти клюшки, особенно помеченную монограммой «Е. С». Генри с огромным удовольствием выразил бы сестре свою благодарность, но аукционисту уже снова понадобились его услуги – ему пришлось высоко поднять косметический набор (все для красоты). Он так резко открыл крышку, что из коробочки вывалилось несколько мелких предметов – кисточки, пуховки, карандаши. – этим он сорвал трудно объяснимые аплодисменты. Генри не спеша собрал все назад и уже не расставался с коробочкой, пока не передал ее в руки одетого в блестящую кожу мужчины, выигравшего торг.
После этого аукционист предложил устроить перерыв. Некоторые посетители устремились наружу, чтобы покурить. Генри отыскал Паулу и попросил показать ему протоколы продаж. Время от времени он указывал на ту или иную запись и получал объяснение, потом пробежал глазами следующую страницу, несколько раз одобрительно кивнул и осыпал Паулу похвалами, как бы невзначай положив при этом руку ей на плечо. Оторвав взгляд от протоколов, он заметил официантку из зала ожидания, разносившую на подносе стаканчики с кофе. Генри взял себе один, но выпить ему так и не удалось, поскольку его одновременно окружили несколько посетителей, требовавшие кто справку, а кто даже совет.
Паула продолжала работать над списками, что-то дописывала, хотя прекрасно видела перед своим столом застывшую фигуру, производившую вызывающее впечатление хотя бы уже своей настырностью, но лишь подведя предварительный итог, она произнесла, не глядя вверх:
– Да?
– Самое страшное, пожалуй, уже позади, – сказал беспечно Генри.
Паула ответила:
– Еще не факт.
Он облокотился на стол и, склонив к ней голову, произнес:
– Видишь ли, твой муж… Я так хотел остаться, но понял по его виду, что он устал и под кайфом. – Паула молчала. – Я бы с удовольствием обсудил с ним одну сцену в фильме, помнишь, нападение птиц и испуг ребенка, но, может, мы еще встретимся.
– Почему бы и нет, – произнесла Паула без всякого энтузиазма. – Марко нашел тебя симпатичным. А когда я сказала ему, что ты играешь в хоккей, он сразу решил посмотреть твой следующий матч, муж – страстный фанат хоккея, – она вынула один из списков из скоросшивателя, прошлась ручкой сверху вниз по фамилиям, остановилась на фамилии Б. Неф, которой расписались за получение одного из лотов, и сказала: – Поздравляю тебя с приобретением клюшек.
Замешательство Генри длилось не более секунды, он тут же отреагировал:
– Б. означает Барбара, а Барбара – моя сестра, она тоже увлекается хоккеем.
– Что и требовалось доказать, – хмыкнула Паула и откинулась назад, пытаясь нарушить атмосферу доверительности, которую могла произвести на других их беседа.
С готовностью, если не с благодарностью, Генри откликнулся на кивок Бусмана, позвавшего его помочь убрать старые потрепанные чемоданы, не нашедшие покупателей. Чтобы освободить место, они оттащили забракованные вещи на платформу и сложили кучей; Бусман знал, что скоро приедет грузовик и увезет их на утилизацию отходов, где они будут измельчены, сожжены, превращены в пригодное на что-нибудь сырье. Когда ему случалось встретиться взглядом с Паулой, Генри изображал крайнее изнеможение, подгибал ноги в коленках, показывая, что сейчас рухнет под тяжестью груза, а в ответ на ее улыбку вытягивал губы в воздушном поцелуе. Он решил пригласить как-нибудь Паулу, а потом и ее мужа на свой матч; узнав, что Марко нашел его симпатичным, он сделал вывод, что тот ему тоже понравился.
Бусман отвел Генри к краю платформы, кряхтя сел сам и пригласил сесть его. Они посидели молча рядом, наблюдая, как удачливые покупатели торопливо тащили свою добычу к дальней автостоянке, словно боясь, что кто-то может отнять ее. Показав на гору чемоданов, Бусман проговорил с печалью в голосе:
– Посмотри на них, сынок, когда-то они служили верой и правдой, лежали на шкафах, ждали своего часа на полу или стояли в кладовках, пока не подойдет черед новой поездки, пока не понадобится что-нибудь отвезти, подарки или еще что-то необходимое. Я не могу смотреть на эти вещи, не думая об этом, я представляю себе, где они только не побывали, понимаешь? А что теперь? Забыты, потеряны, выкинуты; теперь они попадут под нож или отправятся в огонь.
Взгляд Генри застрял на огромном деревянном чемодане, облепленном уже выцветшими наклейками крупных отелей, и он сказал:
– Да, этот вот явно мог бы рассказать о многом, кто знает, в каких переплетах он побывал!
– Свою историю мог бы, наверное, рассказать каждый чемодан, – согласился Бусман, – и вообще, с любой находкой что-то связано, ты не поверишь, что там подчас таится! Но в этом ты еще сам убедишься!
Они встали, потому что с другой стороны вокзальной площади к платформе, вихляя, приближался грузовик с опущенными бортами. Из него вышли двое рабочих в комбинезонах, крикнули им что-то в знак приветствия и стали грузить чемоданы. Сначала они клали их друг на друга или ставили вплотную, затем просто начали швырять туда, где было свободное место. Деревянный чемодан грохнулся о заднюю стенку, раскрылся и остался лежать, зияя открытой пастью. Генри увидел, как из неглубокого кармана вывалилось что-то бледно-голубое; один из грузчиков тоже это заметил, ухватил кусок ткани и извлек на свет рубашку с короткими рукавами, которую с ухмылкой приложил к себе.
– Вот видишь, – не удержался Бусман, – что-то находят даже в самый последний момент, пусть это всего лишь рубашка. А у меня из рук уплыла однажды совсем другая вещь, она тоже была в деревянном чемодане, спрятанная в двойном дне. Когда мы закинули чемодан, вся эта рухлядь с треском обрушилась, и в двойном дне я нашел кусок цветного холста, это оказалась старинная испанская картина, оливковая роща, уникальная работа. Когда оценщик назвал ее стоимость, у нас у всех челюсти отвисли.
Погрузив все чемоданы и коробки в кузов, рабочие молча помахали на прощание и уехали. Бусман долго смотрел им вслед с отсутствующим выражением лица.
– Часто они приезжают? – поинтересовался Генри.
– Раз в месяц, – ответил Бусман. – Для них это выгодно, ведь много чего теряется и забывается. – Он подмигнул Генри и спросил, словно предоставляя это решать ему: – Как ты думаешь, а не пора ли нам немного поднять настроение?
Поскольку Генри ничего не ответил, а лишь нерешительно пожал плечами, Бусман просто пошел вперед, ни разу не удостоверившись, идет ли тот за ним, повел его прямиком к заветному месту, где на полке под дорожными пледами был спрятан живительный напиток.
«Это может быть только Барбара», – подумал Генри, когда однажды серым воскресным утром его разбудил телефон. Он неохотно снял трубку, выпрямился и ответил длинным: «Да-а?»
– Это Федор Лагутин из Саратова. Если я не туда попал, прошу меня извинить, мне бы хотелось поговорить с господином Нефом.
– Это я, Федор, – отозвался Генри, – я у телефона.
– Как я рад тебя слышать, – обрадовался Федор и сначала справился о его здоровье, затем о самочувствии в прошедшие дни и наконец о его планах на воскресенье.
Генри сразу понял по голосу Федора, что тот был в прекрасном настроении. Он был возбужден и в своей обычной мягкой манере, узнав, что у Генри воскресный день свободен, объявил:
– С твоего разрешения я заеду к тебе днем, все необходимое я привезу с собой.
– Что случилось? – спросил Генри. – У тебя что-то произошло?
– Нет, но у меня есть желание попраздновать с тобой. Разделенная радость увеличивается, а у меня есть причина для большой радости. К сожалению, в «Адлере» ожидают группу туристов, а то бы я пригласил тебя к себе.
– Да не томи же меня, – настаивал Генри, – о чем речь-то?
Снова уходя от прямого ответа, Федор сказал:
– Я привезу все, что нужно, и орехи, и огурцы.
Больше, однако, он был не в силах сдерживать распиравшую его радость и наконец признался Генри, что ему присудили специальную стипендию. Подробности он обещал рассказать потом, а сейчас лишь намекнул, что им был публично поставлен один вопрос и этот вопрос вызвал такой общественный интерес, что было решено дать ему возможность разработать его и найти приемлемый ответ.
– Да что за вопрос? – не унимался Генри, и тогда Лагутин ответил:
– Ах, Генри, я удивляюсь твоему нетерпению, но, чтобы ты больше не гадал, скажу: я задал себе вопрос, не являются ли предпосылки для изучения языка и математики идентичными. Но если ты хочешь, мы поговорим об всем этом позже: о математике, лингвистических способностях и об их соотношении.
– Давай для начала отпразднуем твою спецстипендию, – подвел черту Генри. – В общем, приезжай, жду тебя.
Генри встал, включил транзистор и отнес его в ванную. Лидеры европейских государств встретились в Женеве, чтобы посовещаться о расширении ЕС на Восток. Сначала он принял душ, потом намылил лицо и начал бриться. Корабль с курдскими беженцами потерпел бедствие у берегов Сицилии, итальянская береговая охрана взяла его на буксир. Бренда О'Хара, певица из Калифорнии, известная как «королева поп-музыки», проснулась от долгой спячки и готовит новое турне. Он ощутил приятное жжение афтер-шейва на своем лице. Бренда пела: «Let's try it again and again».[5] И в заключение дорожные новости: внимание, на дороге А-7 по встречной полосе движется автомобиль.
Генри надел джинсы, натянул рубашку «поло» и отправился на кухню ставить чайник, потом накрыл стол на двоих, предвкушая приход Федора. Ему стало прохладно, и он надел свитер, с трудом протащив через ворот голову, отчаянно размахивая руками, он просунул их в рукава и невольно вспомнил, как Барбара однажды съязвила: «Боже праведный, как же ты одеваешься, прямо ведешь настоящую борьбу, твое счастье, что ты не видишь себя со стороны». Он налил чаю, сделал себе два бутерброда – с сыром и с джемом – и расположился за кухонным столом. Два ведущих воскресной развлекательной программы, отчаянно стараясь настроить всех на веселую волну, приглашали его и еще один и две десятых миллиона слушателей включиться в игру «Что бы вы сделали, если бы вам на один день доверили в стране неограниченную власть?». Три самых оригинальных ответа ожидали призы, в том числе поездка на уик-энд в Париж на две персоны. Наш номер телефона такой-то, звоните, если вам придет в голову что-нибудь оригинальное. Генри поглядел на две темные ягодки клубники, чудом сохранившиеся целиком в джеме, и решил сберечь их напоследок, отодвигая ложкой на край бутерброда и смакуя предчувствие невероятной сладости, которую ощутит на языке с последним кусочком. Из приемника донесся детский голос:
– Это говорит Катя из Целле, мне двенадцать лет, если бы я могла решать за всех все сама, то дети получали бы карманные деньги с первого класса.
Ведущий спросил:
– А кто, дорогая Катя, должен был бы нести расходы на карманные деньги.
– Наш учитель математики, – ответила девочка.
Генри выключил транзистор, но не мог отделаться от заданного ведущим вопроса, он закурил сигарету, продолжая раздумывать, какие указы для улучшения или облегчения жизни он бы издал. Отмену бюрократии? Ежегодный непродолжительный отпуск за границей? Систему штрафов для забывчивых пассажиров поездов? Он не стал звонить на радио.
Насвистывая, он помыл посуду и снова поставил ее на стол, потом вытащил из ящика для постельного белья мешок и затолкал туда все грязное белье, скопившееся за неделю: носки, майки, трусы, заляпанную скатерть, убедился, что в последнее время носил исключительно свои любимые рубашки, и, разглядывая в шкафу оставшиеся, подумал: «Придет и ваш черед». Он завязал бельевой мешок куском вощеной бечевки, взятой из контейнера для мусора в бюро находок, и вспомнил вежливого старичка из прачечной, приходившего забирать мешок и никогда не забывавшего пожелать Генри крепкого здоровья.
Генри подошел к окну, поглядел на площадку и на пруды; все немногочисленные прохожие, казалось, куда-то спешили. Вынырнув вдалеке из облаков, с неба спускался аэробус, выпустив шасси; когда самолет скрылся из виду, шум исчез. Генри отошел от окна, взял свою папку с письмами и направился к столу. Фолькер ждал от него ответа, Фолькер Янсен, друг его юности, должен был наконец узнать, принимает ли Генри его предложение, сделанное из самых лучших побуждений. Он в очередной раз перечел письмо, в котором Фолькер предлагал ему устроиться в Федеральную службу клеймения мер и весов, момент благоприятный, работа разнообразная, возможности роста гарантированы, а самое главное – они будут, как когда-то, вместе. Он прочитал: «Все, что тебе понадобится для этой работы, ты легко освоишь, обращение с измерительными приборами мер и весов доставляет радость, со временем ты сможешь получить должность государственного служащего клеймения мер и весов». Генри представил себе, как он что-то выверяет, ставит клеймо, протравливает, выбивает. Он улыбнулся и взял чистый лист бумаги, чтобы наконец ответить Фолькеру, поблагодарить его и деликатно объяснить, почему он считает неприемлемым для себя стремление к такой карьере.
За окном вдруг раздался треск и вой, он бросился к окну и увидел то, чего невольно опасался: на площадке стоял Федор Лагутин в окружении нескольких рокеров. В обеих руках его друг держал по пластиковому пакету и потому озирался, оценивая свои шансы на бегство и одновременно прикидывая, что ему грозит. Это были пять мотоциклов, седоки в совершенстве владели своими машинами; исполненные решимости пойти на крайний шаг, они наезжали на него, резко сворачивали, не доехав самую малость, отрывали от земли передние колеса, одним словом, угрожали ему. Круги все сужались, рокеры что-то кричали друг другу. То и дело один из них небрежно волочил ноги по земле. Когда Федор получил первый удар кулаком в спину, Генри распахнул окно и закричал ему: «Сюда, Федор, сюда!», знаками показывая, чтобы тот бежал к входной двери, потом он начал выкрикивать угрозы в адрес мотоциклистов.
Федор заметил его, понял и его знаки, однако путь ему был прегражден, проезжая мимо, подонки нанесли ему еще один удар в спину и один в плечо. Неожиданно он запустил пакетом в одного из рокеров, попал в него, тот отклонился в сторону, образовалась брешь, и Лагутин побежал. До Генри донесся крик: «Казак, это казак!», другой голос крикнул: «Не пускайте его в дом, хватайте его!» Они гнали его через всю площадку и преследовали потом по ее краю, Генри поспешно покинул свой наблюдательный пост и бросился к двери подъезда, он уже почти достиг ее, осязаемо представив себе, как распахивает дверь и втаскивает Федора, как вдруг послышался грохот и звон осколков. Запыхавшийся Федор стоял на ступеньках у входа в дом, возле его ног лежал тяжелый обломок бетона – Генри сразу сообразил, что это один из тех, что сложены у входа, здесь же лежал и второй пакет. Осколки стекла были рассыпаны по земле: мириады и искрящихся кругов и точек сверкали на месте излома с острыми краями. Генри вдруг увидел, что с ладони Федора капает кровь, а рукав его светлой ветровки потемнел. Бросив: «Пойдем», он потащил его вверх по нескольким ступенькам к себе в квартиру.
– Садись! – Федор сел на тахту, и Генри помог ему снять куртку. Рукав рубашки набряк от крови; Генри осторожно закатал его и, обнажив рану на предплечье, сказал: – Надо снять рубашку. – Он стащил се через голову, слегка приподнял Федору руку и склонился над раной, которая безостановочно кровоточила. Федор ничего не говорил; все, что делал Генри, он сопровождал вопросительным взглядом. Когда Генри решил наложить ему жгут и, тут же достав из шкафа галстук, стянул его руку, он опять вопросительно посмотрел на друга – с выражением не столько скрытого сомнения, сколько тихого ожидания объяснений, как такое могло произойти.
В ванной, где Генри хранил свои клюшки, висела и его серо-белая аптечка, в чем-в чем, а в лейкопластырях, бинтах и компрессах у него никогда недостатка не было; он достал то, что показалось ему необходимым для оказания первой помощи, и вернулся в комнату. Лагутин уже не сидел на тахте, а стоял у окна; положив руку на подоконник, он разглядывал свою резаную рану и только качал головой.
Прежде чем наложить повязку, Генри позвонил дежурному врачу по оказанию первой помощи, назвал свою фамилию, продиктовал адрес, описал вид ранения и сказал:
– Пожалуйста, побыстрее, я вас очень прошу.
Все это время Федор молча слушал его, наконец он проронил:
– Они давно уже удрали. – Он позволил Генри усадить себя на стул, сам взял тампон и прижал салфетку. Временами его бил озноб, он легонько постанывал, но тут же снова улыбался, не желая показать, как ему больно, Генри провел рукой по его волосам, сунул в рот зажженную сигарету и попытался успокоить, сказав, что врачу не далеко ехать. Лагутин с благодарностью взглянул на него и произнес: – Как подумаю, Генри, ты сейчас во второй раз спасаешь меня.
– Ох уж эта банда, – заскрипел зубами Генри, – проклятая банда!
– Но почему, – беспомощно пробормотал Федор, – почему они это делают? – Генри молчал, и он продолжил: – Что они имеют против меня?
Генри не спешил с ответом, он не хотел произносить то слово, которое выкрикнул один из рокеров и которое, как ему казалось, сейчас еще больше могло обидеть его друга. Он взглянул Федору в лицо и лишь вздохнул:
– Они хотят быть хозяевами, чтобы их боялись, хотят показать свою силу и власть.
Генри молча вышел из комнаты, спустился вниз и принес пакет, все еще лежавший у подъезда.
– Вот, Федор, это твое.
Он заглянул в пакет и обнаружил там банку огурцов, две синие свечки, пакетик с орехами и бутылку медового напитка, собрался было выложить все это на стол, но Лагутин удержал его и попросил приберечь «на более светлый день».
– Светлый день еще придет, – сказал он, – и мы устроим маленький праздник; все это не испортится.
Совсем молоденький врач оставил без внимания и обстановку комнаты, и фотографии, и раскачивающиеся закладки, он, казалось, не прислушивался даже к объяснениям Генри; после краткого приветствия сразу подошел к Федору, сообщив, что осмотр места происшествия уже о многом сказал ему: он видел разбитую стеклянную дверь. Представившись, он протянул Федору руку и подсел к нему, молча обследовал рану, потом еще раз, получше, но, слава богу, там не осталось ни одного осколка. Он вытащил из своего пузатого кожаного портфеля лекарство и дал его выпить Федору:
– Это снимет боль.
Генри вновь принялся описывать врачу, что произошло, умолчав о том, что недавно они и его выбрали в качестве своей мишени, он назвал их самонадеянными придурками, которые ловят кайф от запугивания и устрашения всех в округе, наверняка сами себе хотят доказать, что что-то собой представляют. Врач спокойно поглядывал на него и хранил молчание. От него не укрылось, с каким интересом Федор разглядывает его портфель, и он пояснил:
– Когда-то он принадлежал моему отцу, тот был сельским врачом, – и почти без перехода спросил: – Вы живете здесь, у вашего друга?
Генри ответил за Федора:
– Господин Лагутин – гость Высшей Технической школы, он живет в «Адлере». – Врач сел к столу и что-то записал, нисколько не удивившись, что Генри вызвался взять на себя и утрясти все, что касается господина Лагутина: – Распорядитесь, пожалуйста, высылать все на мой адрес.
Записав еще и служебный телефон Генри, врач понаблюдал в окно за площадкой, затем подошел к Лагутину и дружелюбно произнес:
– А теперь я должен просить вас пойти со мной, здесь я не смогу обработать вашу рану, скорее всего, ее придется зашивать. Мы поедем в клинику.
– А в какую клинику? – спросил Генри.
– Санкт-Аннен, – ответил доктор, – вам позвонят, а теперь нам пора идти.
Генри проводил их до входной двери, поблагодарил врача и пообещал Федору не оставлять его одного. Потом он постоял у пробоины с острыми зубцами в стеклянной двери, посмотрел, как они идут сквозь ранние сумерки к такси, которое ждало врача. Федор знал или, во всяком случае, надеялся, что Генри провожает его взглядом, и потому, садясь в машину, помахал ему.
Вновь очутившись в своей комнате, Генри позвонил Барбаре:
– Знаешь, что произошло с Федором?
– Что случилось, Генри? Где ты?
– Они окружили его, а потом погнали.
– Кто?
– Эти, на мотоциклах.
– Они опять объявились?
– Здесь их территория. Федор собирался зайти ко мне и кое-что отпраздновать, а они его подкараулили и погнали, он проломил стеклянную дверь, тут это и произошло: он поранил себе руку.
– О боже! – воскликнула Барбара и быстро спросила: – Полиция там?
– У меня был дежурный врач, я его вызвал.
– А Федор еще у тебя?
– Похоже, рану придется зашивать, врач увез его в клинику.
– В какую?
– Санкт-Аннен.
По тяжелому дыханию сестры Генри понял, как она взволнована и напугана. Она переспросила, звонил ли он в полицию, потом велела уточнить, та ли это клиника «Санкт-Аннен», что на Нахтигаль-штрассе. Он уже понял, что она задумала, и, чтобы отговорить ее тут же нестись в клинику, предложил поехать к Федору вместе, но попозже, когда он дождется обещанного звонка из клиники. Барбара согласилась, но дала брату понять, что сойдет с ума, если вскоре не узнает, как там обстоят дела.
Генри поплелся на кухню, налил себе холодного чаю, сел за стол и закурил. Ему вспомнилось выражение лица Федора, когда тот спросил его: «Что они имеют против меня?», его недоумение, его вопрос без ответа. «Хорошо, что я не повторил ему то слово, которое выкрикнул один из этих придурков, – подумал Генри, – скорее всего, он не сразу бы понял, что это означает, а может, воспринял бы это как оскорбление. Шрам на руке у него явно останется, и когда дома его спросят, откуда это, они не поймут его объяснений… Да, – продолжал размышлять Генри, – и один из них – брат Паулы, Хуберт, на групповом снимке его плохо видно, он в такой же кожаной куртке, как и все остальные, даже пастор тоже весь в коже».
Генри поднялся, подошел к окну и увидел, как по периметру площадки зажигаются фонари, не одновременно, а по очереди, один за другим, словно передавая свет по эстафете; он вспыхивал не сразу и лишь после легкого подрагивания и мигания разгорался в полную мощь.
Площадь была безлюдна, ветер гонял по освещенной дорожке кусок белой бумаги, может, плакат, потом забросил его в темноту. Что происходило вдалеке, у прудов, Генри не было видно, и он в который раз решил приобрести бинокль. Потом он все-таки разглядел пару, поднимавшуюся вверх с улицы, с автобусной остановки, они шли под ручку, пересекая площадку от одного края до другого и направляясь к многоэтажному дому на другой стороне; Генри был уверен, что это пожилая пара, уж очень утомленной была их походка, словно они выбивались из последних сил; одна фигура явно подгоняла другую, наконец они нырнули в освещенный подъезд. Как лихорадочно они открывали дверь, как проворно юркнули в подъезд, наверное, постояли там немного, пытаясь отдышаться и с облегчением глядя друг на друга.
Генри вернулся к столу, допил чай и подошел к вешалке; на одном из трех кованых крючков висел его непромокаемый плащ. Он надел его, застегиваться, правда, не стал. В ванной схватил одну из клюшек, купленных Барбарой для него на аукционе, взвесил ее в руке, покрутил в воздухе и поставил на место. «Поговорить, – подумал он, – с ними надо поговорить, открыто, без свидетелей и спокойно». Выйдя на улицу, он немного помедлил и направился к детской площадке, где не было ни души. Генри обошел горку, качели, песочницу, где поблескивала забытая формочка, прислонился к деревянной фигурке козла, которому играющие ребятишки иногда повязывали шарф или нахлобучивали на него шапку. Ему захотелось курить, но, заметив у прудов неровно прыгающий свет, он сунул пачку назад и стал наблюдать за огоньком; скорее всего, это был свет от карманного фонарика. Шума моторов слышно не было. Генри спокойно направился к прудам, привлеченный лучом света, скользившим по воде, а потом резко полоснувшим по кронам молодых лип, еще подвязанных для страховки.
Неожиданно до него донесся хриплый женский голос:
– Ну где? Ты же должен помнить, где?
В ответ раздалось неуверенное мужское бормотание:
– Может, там, на скамейке.
Лучик света запрыгал по дорожке, по кустам и осветил скамейку с проволочной корзиной для мусора рядом. Мужчина стал, заикаясь, вспоминать, как они встретились с Эрвином, сели на лавку и начали разговаривать, и тогда заполненная карточка лото была еще при нем.
– Ну и где же она, где? – наседала женщина.
Мужчина был уверен, что положил ее в журнал. Заполнив карточку, он купил этот журнал и положил ее между страницами, там еще на обложке была фотография авианосца, плывущего по Суэцкому каналу.
– Так или эдак, а ее нет, – с упреком сказала женщина и добавила: – Как можно потерять карточку? Весь ты в этом, на тебя никогда нельзя положиться, вспомни, как ты потерял часы моего отца; ни один нормальный человек не теряет наручные часы, только ты.
Луч света упал на мусорную корзину, и Генри увидел нечеткие очертания женщины, склонившейся над корзиной и рывшейся в мусоре, было слышно, как она сопит и шипит на мужа.
Генри оставил их ругаться и продолжать безнадежные, как ему показалось, поиски, повернулся и нарочито медленно пошел через площадку, время от времени останавливаясь, словно провоцируя встречу с теми, кого ждал, но они не появлялись. Он несколько раз пересек зацементированную площадку, прислушиваясь и вглядываясь туда, где предполагал их присутствие, но слышно было лишь шуршание автомобильных шин по асфальту и глухое хлопанье навесов на балконах верхних этажей, по которым гулял ветер. Их нигде не было. Он бросил взгляд на окна своей квартиры, где оставил гореть свет, и направился к кромке площадки, продолжив потом по ней путь до самого своего дома. Дыра в двери стала еще больше, пара зазубренных осколков валялась на земле, Генри поднял один из них и прихватил с собой. Дома под настольной лампой он повертел и ощупал его, положив потом на свою папку с письмами, в полной уверенности, что это был тот самый осколок, который поранил Федора, отчаянно пытавшегося найти ручку двери. «Пусть эта штука лежит здесь, – решил Генри, – я ее сохраню».
Казалось, Бусман знал, зачем его вызывают к телефону. Вздохнув, он протянул Генри металлический лоток с потерянными вставными челюстями и, проворчав, что об утрате таких вещей почти никогда не заявляют, понуро поплелся вслед за Паулой. Генри уставился на протезы, невольно представив себе, чего они только не кусали и не разжевывали, ему даже послышался слабый размалывающий звук, и он уже почти почувствовал сильный приступ кашля, из-за которого протезы вылетают изо рта. Бусман когда-то рассказывал ему, что мощный, подобный взрыву чих способен лишить владельца протезов, которые могут столь неожиданно вылететь изо рта, что человек не успевает подхватить их. Генри поставил лоток на полку и признался себе, что тоже вряд ли стал бы заявлять о потере вставной челюсти, доведись ему когда-нибудь обзавестись ею.
Альберт Бусман, страшно взволнованный разговором по телефону, еще на ходу скинул свой комбинезон и, предвосхищая вопрос Генри, объявил:
– Я должен идти, надо его искать, он опять, наверное, заблудился.
– Кто? – не понял Генри.
Бусман ответил:
– Мой отец.
Генри быстро взглянул на часы, понял, что рабочий день подходит к концу, запер шкаф с ценными вещами и отнес ключ Пауле:
– Вот, спрячь, я должен помочь Альберту.
– А что с ним? – спросила Паула.
– У него старик потерялся, надо его искать, он очень волнуется.
– Ну вот опять, – вздохнула Паула; она очень жалела Альберта Бусмана и тоже заметила его тревогу.
Бусман нисколько не удивился, увидев, что Генри пошел вместе с ним; словно сговорившись, они вместе пересекли крытый перрон, заглянули в зал ожидания, бегло осмотрели тусклое, прокуренное помещение и вышли наружу, на вокзальную площадь. Здесь Бусман пояснил:
– Ему почти девяносто, моему отцу, он по-прежнему покупает для нас продукты, только иногда забывает дорогу домой, и соседка звонит мне, если его долго нет.
– А может, он уже вернулся? – предположил Генри. Бусман покачал головой:
– Нет-нет, его нет с самого утра, когда он отсутствует так долго, она всегда бьет тревогу.
Обнаружить отца в столовой для железнодорожников не удалось, не помогли Бусману и старые знакомые, которых он встречал и расспрашивал.
– Вильгельм? – говорили они. – Нет, мы его давно не видели.
Один машинист с красными воспаленными глазами удивленно спросил:
– Вильгельм? Неужто он еще жив?
Интуиция Бусмана привела их на овощной рынок, прилавки и палатки которого скучились под эстакадой надземной железной дороги; рынок скоро закрывался, и продавцы пытались соблазнить покупателей дешевым товаром, подкладывая сверх меры то кочан цветной капусты, то огурец, то пучок зелени. Генри узнал, что этот рынок был излюбленным местом отца Альберта, где тот порой отдыхал в маленькой пивной после утомительных для него покупок Они заглянули во все погребки, но старика нигде не было, даже там, где рыночный люд позволял себе по маленькой.
В конце рынка, возле цветочного киоска, в окружении нескольких ребятишек какой-то человек играл на шарманке; увидев его, Бусман остолбенел, схватил Генри за рукав и пробормотал:
– Этого не может быть… Нет, вы только посмотрите!
В сухощавом старике, невозмутимо крутившем ручку и игравшем песню «Розамунда», он узнал своего отца. Не обращая внимания на Генри, он бросился к нему, взялся за ручку шарманки и оборвал песню. Старик посмотрел на него со смущенной улыбкой, и Бусман спросил, не строго выговаривая, а мягко упрекая:
– Что ты здесь делаешь, Вильгельм? Мы тебя повсюду ищем!
Старик показал на две полные сумки с продуктами, лежавшие рядом с шарманкой; не чувствуя за собой никакой вины, он объяснил, что уже шел домой, когда владелец шарманки попросил его покрутить ручку, пока он сходит в туалет.
– Я всего лишь хотел оказать ему услугу, Альберт.
– Хорошо, отец, – проговорил Бусман, – хорошо, но ты мог бы вспомнить о данном мне обещании.
Несмотря на сыновний выговор, старик вовсе не собирался идти домой; кивая на деревянную плошку с монетами, он сказал, что должен дождаться возвращения шарманщика, ему удалось кое-что собрать – немного, но на пару кружек пива хватит. Они стали ждать, старик не удержался и сыграл еще пару песен – «Очи черные» и «Волны Северного моря». Когда в плошку падала монета, он благодарно кивал. Один раз он дал покрутить ручку маленькому мальчику и вознаградил его за это монеткой. Благодарность вернувшегося чернобородого шарманщика ограничилась крепким рукопожатием.
Сказав: «Ну все, Вильгельм, теперь пора домой», Бусман положил старику руку на плечо, и Генри удивился, с какой радостью принял он сыновнюю заботу. Он, разумеется, не вспомнил бы про свои кошелки, на его лице было написано блаженство и умильное смущение, однако Бусман не забыл про сумки, кивнул Генри и шепнул ему: «Прихвати их».
Генри взял сумки и пошел вслед за обоими, растроганный необычной парочкой; те шли не спеша и держались за руки. Они уже покинули рынок и стояли у светофора, как вдруг старик спохватился, что что-то забыл; он стал рваться назад, но Бусману удалось утихомирить его:
– Не волнуйся, отец, вот идет господин Неф, он несет твои покупки домой.
– Кто это? – недоверчиво спросил старик.
– Коллега по работе, – ответил Бусман.
Старик тут же успокоился:
– А, железнодорожник, ну тогда хорошо.
Дом, где жили Бусманы, давно нуждался в покраске, в двухэтажном посеревшем здании был расположен ресторанчик, меню которого, написанное мелом на грифельной доске, зазывало на жаркое из говядины с жареным картофелем; когда они проходили мимо окна, занавеска сдвинулась в сторону, чья-то рука постучала по стеклу и призывно помахала. Старик, а приглашение явно было обращено к нему, остановился, замялся и взглянул на сына, очевидно, спрашивая разрешения, однако безропотно подчинился, когда тот невозмутимо потащил его за собой, сказав:
– Только не сегодня, Вильгельм. Сегодня они вполне обойдутся без тебя.
На первой лестничной площадке им пришлось остановиться, старик тяжело дышал и держался за перила; очутившись в квартире, он, однако, быстро преодолел свою слабость и поинтересовался, что можно поесть. Вчерашний суп-гуляш, его надо только разогреть, само собой разумелось, что и Генри съест тарелку, и Бусман отправился хлопотать на кухню.
Старик долго и откровенно разглядывал Генри, когда они оказались друг против друга за столом, вероятно, решая, имеет ли право втянуть его в беседу, но после того, как Генри заинтересовался фотографией с украшенным гирляндами паровозом, окруженным группой людей в форме (все это на фоне заснеженного пейзажа), он проникся доверием к гостю и счел себя обязанным прокомментировать фото:
– Вот так он выглядел, наш новенький красавец силач, тогда на Транссибе, где любой другой увяз бы в снегу, а он вытянул, всегда вытягивал, его построили на фирме «Хеншель».
– И вы вели его? – поинтересовался Генри.
– Да, сынок, я был вторым машинистом; между нами говоря, в мои обязанности входило давать инструкции первому машинисту.
Воспоминания оживили его, он немного пошевелил губами, провел рукой по глазам и в красках описал Генри историю с мостом. Это был мост через огромную реку Лену, опоры моста, зажатые льдами, подались и грозили обрушиться. С помощью экстренного торможения старику якобы удалось остановить поезд всего лишь в нескольких метрах от уже накренившегося моста; когда все оправились от шока, шестьсот пассажиров чествовали его как своего спасителя.
Альберт Бусман поставил перед ними тарелки, он хорошо знал чудесную историю спасения, подмигнул Генри и миролюбиво сказал старику:
– Ну что, Вильгельм, нашел слушателя для своих баек?
В ответ на добродушное подтрунивание сына старик гордо произнес своим слегка скрипучим голосом:
– Тебя там не было, Альберт, поэтому ты и не можешь судить о моих приключениях, – и в расчете на поддержку он обратился к Генри: – А вы-то верите мне?
– Каждому слову, – ответил Генри, – я верю каждому вашему слову.
Старик с благодарностью посмотрел на него и доверительно сообщил, что в конце концов привел свой поезд в пункт назначения через Красноярск и Чикаго.
– Разве это была не Филадельфия, отец? – спросил младший Бусман. Старик отмахнулся:
– Да что ты, Иркутск и Чикаго.
Показывая, что у него нет желания спорить по поводу станций на Транссибе, он потребовал гуляша, сын от души наполнил ему тарелку, и тот принялся есть суп с огромным аппетитом, не скупясь на похвалы. Рука его немного дрожала, поэтому капли супа попадали иногда на лацкан куртки или на брюки, но Альберт не одергивал его – как обычно, он вытрет пятна после еды. Суп они ели с хлебом. Генри наблюдал, как сын нарезал куски, как тщательно отделял корку от мякоти и как пододвигал старику мякиш, а тот брал его не глядя, при этом руки их соприкасались и на мгновение задерживались одна на другой.
После еды именно старик поинтересовался, нет ли у них чего-нибудь для поднятия настроения, сегодня у него душа просит, на что Альберт похлопал его по плечу и принес из кухни початую бутылку «Аквавита». Оба выпили за здоровье Генри. По второму разу сын не стал наполнять рюмки, хотя и заметил, как отец подержал над открытым ртом пустую рюмку, стараясь поймать последнюю каплю.
– Ну ладно, – смирился старик, – конечная станция, все выходят, – и в веселом расположении духа он обратился к Генри, чтобы удостовериться, что тот действительно Неф и работает вместе с Альбертом. Получив подтверждение, он заявил, что каждого, кто работает с Ханнесом Хармсом, можно только поздравить. – Славный человек этот Ханнес Хармс, симпатичный мужчина, слишком хорош для вашего бюро находок; если бы не несчастье несколько лет назад, он занимал бы сегодня пост повыше, это уж точно.
– Какое несчастье? – спросил Генри.
За старика, который лишь отмахнулся, ответил Альберт, сжато рассказав, что Хармс когда-то был машинистом локомотива, под конец водил поезд «Киль – Линдау» и превысил скорость, когда ехал через участок дороги, где шли ремонтные работы, – предупреждающие знаки были плохо освещены, в результате два-три вагона сошли с рельсов и несколько человек получили травмы. Ханнес Хармс взял на себя всю ответственность, хотя в тот момент не он вел поезд, а помощник машиниста, его молоденький ученик.
– Вот видишь, – нравоучительно обратился старик к Генри, – как иногда бывает, нуда ладно, теперь-то Хармс нашел для себя поле деятельности и помогает почтенным дамам вновь обрести свои сумочки, забытые в поезде; приличный человек, радуйся, что ты с ним работаешь.
– Мне нравится в бюро находок, – кивнул Генри, – там можно учиться целый век, и все равно не перестанешь удивляться.
– Ты уже многому успел научиться, – подтвердил Альберт и, подумав, добавил с улыбкой: – Как знать, может, когда-нибудь станешь у нас начальником.
Раздался звонок в дверь, и он пошел открывать. Правда, приотворил дверь лишь на чуть-чуть, впрочем, вполне достаточно, чтобы Генри мог рассмотреть женщину, привставшую на цыпочки, чтобы разглядеть все происходящее внутри. Увиденного ей, по-видимому, хватило, и войти она не захотела; женщина была небольшого роста, темноволосая, в кухонном фартуке. Из их разговора шепотом ничего нельзя было разобрать, и все же Генри догадался, что ее благодарили и она согласилась и дальше присматривать – за чем или за кем, это не обсуждалось. Женщина осталась, судя по всему, довольна и быстро юркнула в притворенную дверь соседской квартиры.
– Что, Паппенфусиха? – осведомился старик.
– Да, – подтвердил сын и пояснил Генри: – Наша соседка.
Старик страшно развеселился и только повторял:
– Соседка, соседка! – Потом, шамкая, разразился целой тирадой в адрес этой соседки: – Вечно она приходит, чтобы что-нибудь одолжить, то немножко муки, то соль или маргарин, не выручите ли яичком, спрашивает, а когда я ей одалживаю, она про это часто просто забывает. Хотел бы я знать, что происходит у нее в голове.
– На этот раз она ничего не просила одолжить, – сказал Альберт, – только хотела узнать, будем ли мы завтра дома, она собирается принести нам кусок домашнего пирога.
– Про это она забудет, – проворчал старик, – завтра уже и не вспомнит.
Альберт Бусман задумчиво посмотрел на отца и деликатно намекнул ему, что он не прав, что он, вероятно, забыл, какой услужливой все эти годы была фрау Паппенфус, сколько хлопот брала на себя, делала им покупки, все-таки надо отдать ей должное. Лицо старика приняло отсутствующее выражение, какое-то время он сидел не мигая, уставившись на фотографию украшенного гирляндами паровоза, потом заерзал на стуле и принялся тереть ладони.
– Ты опять замерз? – забеспокоился Альберт.
Старик подтвердил кивком и, чтобы объяснить причину, молча показал на дверь, которая, по его разумению, слишком долго стояла открытой.
– Сейчас, Вильгельм, – сказал сын, – сейчас станет теплее, я принесу тебе твой плед.
Заворачивая отца в плед с заботливостью, невольно растрогавшей Генри, он тихонько разговаривал с ним, сулил ему быстрое наступление хорошего самочувствия, обещал рюмочку на ночь; все это время старик не отрываясь смотрел на Генри, словно демонстрируя ему то внимание, которым он окружен. Потом вдруг сощурился и спросил Генри:
– А ты не был на Транссибе, вроде я тебя там видел?
– Я? О, нет, – ответил Генри, – по этой знаменитой дороге я никогда не ездил.
– А стоило бы, – заметил старик, – кто хоть раз проедет по Транссибу, тому нечего делать в других местах, он уже все видел.
– Я постараюсь, – заверил Генри и не стал больше ничего добавлять, увидев, как утомленный старик обмяк на стуле и нечаянно смахнул со стола пачку сигарет. Генри встал и пообещал на прощание не забывать про Транссиб; Бусман проводил его до входной двери. Каждый нашел повод поблагодарить другого. Прежде чем расстаться, Генри спросил: – А что, твой отец действительно никогда не ездил по Транссибирской магистрали?
– Он-то нет, а вот его друг, тот да, – ответил Альберт Бусман, – это был его лучший друг; с тех пор, как он умер, отец иногда сам верит, что был там, он просто перенял и присвоил себе то, что неоднократно слышал вечерами. – Поскольку вместо ответа Генри лишь недоуменно уставился на него, Бусман добавил: – Ну что, Генри, надеюсь, ты найдешь дорогу домой?
Девушка у стойки «Адлера» узнала его и приветливо поздоровалась:
– Добрый день, господин Неф. – Не дожидаясь его вопроса, она сообщила: – Господин Лагутин в своем номере, правда, у него сейчас гости.
– Гости?
– Дама, она уже бывала здесь.
Генри помялся, но все же попросил девушку сообщить господину Лагутину, что он ждет его внизу и хотел бы сделать одно предложение. Как разительно переменился голос девушки, когда она передавала его просьбу Федору, он вдруг зазвучал мелодично, чуть монотонно и нараспев, и каким деловым он снова стал, когда она обратилась к Генри:
– Господин Лагутин просит вас зайти к нему.
Генри поднялся по витой лестнице, держась одной рукой за канат, а в другой зажав картонную коробку – это были четыре медовых пирожных, купленные им в кондитерской. Стучать ему не пришлось – как по электронному сигналу, дверь распахнулась, и Федор обнял его:
– Заходи, дорогой друг, заходи, никого нет желаннее тебя.
– Осторожно, пирожные, – предостерег Генри и, подняв коробку повыше, вошел в номер.
В комнате была Барбара. Она сидела у стола и курила. Увидев брата, она радостно помахала и показала на корзину с фруктами:
– Федору нужны витамины.
– И сладости, – добавил Генри, поставив коробку возле корзины.
Барбара была уже в курсе всех событий. Не успел Генри задать вопрос, как она поведала ему, что рана не беспокоит Федора, что вряд ли имеет смысл накладывать новую повязку и что ни одно сухожилие не повреждено настолько, чтобы Федору пришлось отказаться от игры на флейте. Федор демонстративно согнул и разогнул руку и с похвалой отозвался о враче и лекарствах, которыми его лечили, не преминув упомянуть и чудодейственную мазь, изготовленную его бабушкой по старинному татарскому рецепту, он ведь уже обрабатывал ею рану Генри. Сейчас он театрально произнес:
– Мы верим в целительную силу, если нам дарит ее птица наших степей.
В хорошем настроении он взял из корзины яблоко и принялся тщательно чистить его таким образом, чтобы кожица завивалась колечками; не прерывая своей работы, Федор кивнул на письмо, лежащее на столе, – письмо из дома. Родные очень беспокоились о нем. Он написал им о случившемся, о том, как незнакомые люди, которых он до этого никогда в жизни не видел, не заговаривал с ними и ничем не провоцировал, кружили вокруг него на мотоциклах, нанося удары, а потом вынудили бежать. Он также написал, что поранился, когда искал защиты в доме своего друга, и что для него так и осталось загадкой, почему на него напали, ведь он не бросил в их сторону ни одного неодобрительного, а тем более враждебного взгляда.
– Да, – вздохнул Федор, – все это мне пришлось изложить своим близким, и я прекрасно понимаю, что они тревожатся, в особенности из-за того, что это нападение – полная для меня загадка и, пожалуй, еще надолго таковой останется. – Федор замолк, взглянул на яблочную кожуру и произнес: – Мои родные хотят, чтобы я вернулся домой. Они настоятельно рекомендуют мне это, но решение оставляют за мной.
– Ни в коем случае, – разволновался Генри, – тебе нельзя уезжать домой, вспомни, какую работу тебе здесь доверили, как высоко ценят твои знания.
– Я знаю, Генри, знаю и всегда буду благодарен коллегам из Высшей Технической школы, я достаточно часто испытываю чувство, что нас связывает удивительная коллегиальность, спаянность правдоискателей, все мы хотим найти один общий путь, но ты же видел, что произошло под твоими окнами в то воскресенье; я вблизи видел глаза окруживших меня парней, Генри, в их глазах стояла ненависть. Почему? За что? Ты сказал мне, что я, по их мнению, мог нарушить границы их территории, ты сказал, что ими руководит желание властвовать, то есть они пускают в ход силу даже для того, чтобы разведать пределы своей власти, но какова причина их ненависти?
Федор разрезал яблоко и протянул сначала кусочек Барбаре, потом Генри. Он повторил:
– Какова причина?
– Когда-то они и Генри угрожали, – заметила Барбара, – окружили и угрожали, я тогда просила, чтобы он вызвал полицию, но он не решился. – Она повернулась к Генри. – Разве не так? Ты не хотел вызывать полицию.
– Тогда я еще многого не знал, – помедлил Генри, – может, это было ошибкой, но мне всегда прежде всего хочется понять, почему что-то происходит, разобраться, что это за люди, зачем они сбиваются в банды, а потом испытывают удовольствие от того, что заставляют других почувствовать их силу, и нагоняют на всех страх.
– Ну и как, – спросила Барбара, – сейчас ты с этим разобрался?
– Нет, конечно, – ответил Генри, – но одно мне стало ясно: они считают себя обделенными. Не высказывая этого, они ощущают себя проигравшими. Они просто-напросто хотят заполучить назад то, что, по их мнению, у них отняли или недодали им. И они организуются в стаи, поскольку в стае ты заметен и что-то из себя представляешь, а в одиночку такое не под силу.
– Ну хорошо, – произнесла Барбара, – так что же, мы должны мириться с этим, проявить сочувствие, которого у них нет к нам, может, и с насилием смириться?
– Насилие иногда является следствием заблуждения, – заметил Генри, – и когда ты это осознал, ты должен попытаться предпринять что-нибудь против этого заблуждения, поговорить, например, с людьми. Мы должны поговорить с ними.
– Перестань, Генри, ты ведь прекрасно знаешь, что они говорят на другом языке, на своем собственном. Что же еще остается, если люди не понимают слов, что?
Генри долго смотрел на сестру, потом кивнул и сказал:
– Защищаться, Барбара. Если ничего больше не помогает, остается только защищаться, ты это прекрасно понимаешь.
Оба с удивлением заметили, что Федор улыбается, это была печальная улыбка разочаровавшегося человека, похоже, он не был расположен объяснять ее причину, однако на прямой вопрос Генри он ответил:
– Знаете, иногда наши разговоры не идут дальше обмена мнениями и убеждениями, и это проявляется особенно отчетливо, когда мы вот так сидим в полной растерянности.
– Точно, – сказала Барбара, – и поэтому я за то, чтобы мы наконец отправились в путь, надеюсь, что они еще открыты.
– Кто открыт?
– Это сюрприз, потерпи.
– Куда хотя бы мы идем? – спросил Генри.
– Это моя идея, – улыбнулась Барбара, – она случайно пришла мне в голову; сначала я хотела пойти туда вдвоем с Федором, но раз ты пришел, можешь к нам присоединиться.
– Может, все-таки хотя бы намекнешь?
– Хорошо, – сжалилась Барбара, – быть может, это будет путешествие домой, краткое, скромное путешествие домой, и этого с тебя вполне достаточно.
Федор тоже не знал, что затеяла Барбара; хотя она и предложила ему, пока они были наедине, нанести «один интересный визит», но кому, не сказала. Барбара позвякивала ключами и поторапливала к выходу, уже стоя у двери и боясь, что они опоздают:
– Ну пойдем же наконец!
Она припарковала машину на соседней улочке и даже во время поездки не выдала своего секрета; моментально проскочив привокзальную площадь, где, как всегда по воскресеньям, под сине-белым флагом собрались футбольные фанаты и загодя упражнялись в хоровом скандировании, Барбара спустилась вниз по шикарной улице и остановилась неподалеку от овального здания с куполом и большими окнами.
Генри не удержался и удивленно спросил:
– Музей? Этнографический музей?
Они молча поднялись по широкой лестнице, Барбара купила билеты – три взрослых – и прямиком направилась к однорукому вахтеру в служебной форме, тот любезно ответил на ее вопросы и вежливо поклонился. Им предстояло подняться выше. Время от времени они выхватывали взглядом непривычные застывшие картины: африканские женщины, обреченные вечно толочь просо, ганские рыбаки, латающие сеть, которая никогда не будет заброшена в воду. Перед одним из разделов экспозиции они невольно остановились: полуголые пигмеи сидели в кругу и нанизывали мелкие осколки на шнурок; Барбара знала, что они изготовляют ожерелья, она также знала, что это были кусочки скорлупы страусиного яйца, которое они специально раздробили. Барбара произнесла:
– На маленькой табличке все написано, можете потом почитать.
По соседству с жанровой сценой из киргизской жизни – семья, раскраивающая кожу для сапог, – они обнаружили юрту с поднятым пологом, перед ней расположились двое детей и старик; он сидел на деревянной бочке меж пчелиных ульев и курил трубку с разукрашенной головкой, мальчик держал на поводке пастушью собаку, а маленькая нарядная девочка сидела на корточках перед входом в юрту и играла на флейте. Рядом мыла глиняную посуду женщина. Барбара бросила лишь мимолетный взгляд на всю композицию: Федор интересовал ее гораздо больше, чем дышащие мирным покоем фигуры. Поначалу лицо его не выражало никаких чувств, однако уже при втором взгляде на нем отразилось слабое удивление, как бы неуверенное или даже скептическое узнавание. Она наблюдала за ним, как он подошел к табличке и прочитал: «Башкиры перед празднично украшенной юртой», потом неожиданно перелез через канат ограждения, слегка качнул фигуру старика, осторожно потрогал ульи, затем склонился к мальчику и вынул у него из рук поводок.
– Пастушьих собак у нас никогда не берут на поводок, – пояснил он Генри, словно чувствуя себя обязанным еще кое-что проверить или подправить, наклонился к фигуре сидящей на корточках девочки и аккуратно вынул у нее из рук флейту. Он осмотрел ее и поднес к губам, Барбара тут же попросила: – Сыграй что-нибудь, Федор, пожалуйста, совсем немножко.
Он уже был готов уступить ей, но в этот момент они услышали приближающиеся шаги, шла целая группа во главе с одноруким служащим. Федор пожал плечами, улыбнулся Барбаре и исчез в юрте, вероятно, предполагая, что группа быстро пройдет мимо. Он ошибся. Группа, состоявшая исключительно из пожилых людей, в основном одетых как туристы, по знаку музейного работника остановилась как раз перед башкирской идиллией.
– А здесь вы видите, – произнес вахтер, бывший, вероятно, по совместительству и экскурсоводом, – сцену из жизни башкир, народности, населяющей в основном юг Урала. Первоначально они входили в разные ханства Золотой Орды, затем были обложены данью русским царем; для своей защиты они создали Уральское казацкое войско. Кстати, в Башкирии проживают не только башкиры, большую часть населения составляют русские, кроме них там живут украинцы, чуваши, мордва и некоторые другие народности; не сложно догадаться, что раньше там постоянно происходили восстания.
Один бородатый посетитель спросил:
– А за счет чего же, собственно, живут эти люди? Сторож указал на ульи и произнес:
– Пчеловодство в большом почете у башкир, на своем черноземе они возделывают пшеницу, а в степях разводят скот. Когда-то они были прекрасными охотниками, охотились с прирученными соколами, но эти времена давно прошли.
Барбара и Генри внимательно слушали пояснения, не сводя глаз с юрты, в которой тихонько сидел Федор и, конечно, тоже слушал рассказ экскурсовода. Тот со знанием дела выдавал информацию, отвечая на конкретные вопросы или ведя рассказ по собственной инициативе; так, он сообщил, что башкирский язык очень близок татарскому, что леса в тех краях в основном лиственные и что шерстяной капюшон на женщине, моющей посуду, носят также на Кавказе, и называется он и там и тут башлык.
Любознательный турист – один из тех, которые попадаются в каждой группе, – задумчиво вгляделся в фигуры у юрты и спросил:
– Видно, бедствуют, бедолаги? Уровень развития, наверное, самый примитивный?
Экскурсовод, привыкший к любым вопросам, не удивился и не возмутился, а терпеливо, используя свои разнообразные познания, просветил, и не только одного любопытствующего, а всю группу, что башкирские земли богаты природными ископаемыми, что там найдены медь, марганец и уран и в итоге возникла развитая индустрия, черпающая необходимую энергию от ГЭС и ТЭС. Не ожидая дополнительных вопросов, он обратился к сцене из киргизской жизни и уже произнес:
– А здесь вы видите…
Но тут подала голос худощавая седая женщина; у нее появился еще один вопрос, не в последнюю очередь продиктованный профессиональным интересом. Жизнь в юрте она еще может себе представить и жизнь летом в степи тоже, но ведь башкирские дети должны ходить в школу, как там обстоят дела – на безлюдных территориях, при кочевом образе жизни – со школьным образованием, вот что она хотела бы узнать. Экскурсовод счел вопрос резонным, благосклонно кивнул и обратил свой взгляд на фигурку маленькой девочки. Повернувшись в ее сторону, он сказал:
– Она наверняка знает не меньше, чем ее сверстники в Германии. В степях школы размещают в деревянных летних домиках, а в селениях проводятся такие же стационарные занятия, как у нас. А вот той школе жизни, которую пройдет малышка в юрте, этому не научат ни в одной школе. Что касается безлюдных территорий, их можно преодолевать пешком, а можно и в седле, в давние времена некоторые башкиры держали по шестьдесят и более лошадей, бывало что дети и на свет появлялись прямо в седле, так сказать. Кстати, стоит упомянуть, что у них там есть свои университеты, и значительные, к примеру в Уфе.
Генри подошел к сестре и шепнул ей на ухо:
– Славный мужик, он мне нравится.
Барбара прошептала в ответ:
– Я его один раз уже слышала, мама меня сюда притащила, мы не уставали удивляться.
Оба не спускали глаз с юрты и думали о Федоре, toi вел себя пока тихо и, судя по всему, сконцентрировался на рассказе экскурсовода, ведь речь шла о его родине и его соплеменниках. Неожиданно они вздрогнули, да и все туристы обменялись удивленными взглядами – из юрты полились звуки флейты, поначалу неуверенные и слегка вибрирующие, временами они звонко взбирались вверх, ненадолго зависали там и внезапно обрывались, чтобы потом, после нового зачина, излиться в безудержном веселье. Радость звучала в этой музыке, может быть, радость пробуждения. «Что это с ним? – взволнованно думала Барбара. – Почему он играет, что он хочет нам сказать?» Экскурсовод перешагнул через заграждение, оторопело посмотрел на девочку, только сейчас, вероятно, заметив отсутствие флейты, выпрямился и решительно откинул полог юрты. Все еще держа флейту у губ, наружу вышел Федор, успевший напоследок издать ликующий звук – это мог быть торжествующий клич парящей над степью птицы, и вернул курай девочке. Все пребывали в полном замешательстве, сменившемся радостным ликованием, с которым группа встретила Федора, большинство посчитало его игру удачной режиссерской находкой, все зааплодировали и еще долго продолжали приветственно махать ему и хлопать в ладоши. Федору ничего не оставалось, кроме как поклониться, что он и проделал на игривый манер, чем вызвал только усиление аплодисментов и возгласы «бис!». Барбара хотела подойти к нему, чтобы выразить свой восторг, но ее опередил вахтер; улыбнувшись, он тут же принял официальный вид и спросил:
– А вы, собственно, кто такой?
– Я позволил себе переступить порог родного для меня жилища, я родился в тех краях, – объяснил с довольной улыбкой Федор, – дело в том, что в такой вот юрте прошло мое детство.
Вахтер пытливо посмотрел ему в лицо, заморгал, и его губы расплылись в широкой улыбке. Его растущее восхищение искало выхода, и когда он окончательно убедился, откуда родом посетитель, он произнес вполголоса:
– Добро пожаловать! Добро пожаловать в наш музей! – и, обращаясь к группе, сказал: – Дамы и господа! У кого еще есть вопросы, тот может получить на них ответ из первых рук, среди нас посетитель, прибывший как раз из этих дальних краев.
Он пожал Федору руку и разрешил даме, интересующейся школьным образованием, сделать снимок. Услышав, что все сведения о Башкирии попали в самую точку – «ни добавить, ни исправить», как выразился Федор, экскурсовод поклонился. Вдохновленный похвалой, он поинтересовался, не собирается ли Федор подольше задержаться в их городе; в таком случае он был бы рад вновь увидеть его в музее, можно было бы вместе зайти в кафе, там всегда найдется тихое местечко для задушевной беседы. Федор не стал связывать себя обещанием, а лишь произнес:
– У меня такое впечатление, что вы уже бывали в Башкирии.
– Пока еще нет, – ответил, смутившись, экскурсовод, – но, может, еще получится, попью кумыса, говорят, чудесный напиток.
– Это и в самом деле волшебный напиток, – подтвердил Федор, – у нас считается, что молоко кобылицы развивает мускулы и придает коже блеск, а еще оно помогает сохранить хладнокровие.
Барбара взяла его за руку и сказала с улыбкой:
– Это именно то, что мне надо, может, организуем бизнес?
– Тогда я сделаю новый коктейль и начну им торговать, – вмешался Генри, – кумыс с водкой, название подыщем, а для начала можно было бы назвать «Баво», сокращенно «башкирская водка».
– У тебя бывали идеи поинтереснее, – уколола брата Барбара и предложила еще разок взглянуть на сцену из киргизской жизни, а потом поехать домой.
Они распрощались с вахтером, каждый пожал ему руку. Молча поглядели на киргизскую экспозицию и потом еще долго молчали в машине. И лишь проехав большой кусок пути, Барбара почувствовала потребность высказаться; она начала медленно, как бы разговаривая сама с собой и подыскивая ответ на волнующие ее вопросы:
– Я не знаю, Федор, что чувствует человек, будучи далеко от дома, в чужой стране, когда он вдруг оказывается перед знакомой картиной, неожиданно видит срез родной жизни. Наверняка ты испытал при этом необычные чувства, так ведь? Могу себе представить, что человек другими глазами смотрит на место, где он родился, не знаю, как именно, но думаю, что по-другому хотя бы уже потому, что само собой напрашивается сравнение.
Она вдруг спросила его прямо в лоб:
– Ты понимаешь, что я имею в виду?
Федор взял зажженную сигарету, протянутую ему Генри, и сказал:
– Конечно, Барбара, я хорошо понимаю тебя. То, что видит человек, глядя на свое родное из другого мира, почти всегда приводит его в удивление; так происходит со многими. Какое крошечное все это, думает он, какое убогое и далекое, как мог я довольствоваться всем этим? Пару мгновений я тоже думал так, увидев эту юрту и моих соплеменников за их занятиями и не в последнюю очередь эту девочку с кураем.
– Но ты ведь обрадовался, Федор, разве ты не обрадовался? – спросила Барбара.
– Да, но гораздо больше эта картина растрогала меня, и я невольно испытал сочувствие. Тебе это подтвердит не один человек, взглянувший на родные места и испытавший то же самое.
– Но в твоей игре ничего этого не было слышно, – заметил Генри, – я слышал только восторг и ликование, порой мне казалось, что у кого-то сердце просто прыгает от радости.
– Это старинная песня, – сказал Федор, – кстати, называется «Охотничий подарок»; один охотник возвращается с охоты и привозит что-то своей любимой; его ожидания велики, он надеется, что подарок будет принят благосклонно и его единственное желание исполнится.
Генри не стал распространяться на эту тему, оставив при себе замечание, готовое сорваться с языка; если речь идет о степном зайце, надо полагать, его приняли бы; скорее, он жалел, что после игры Федора на курае, воспринятой с таким энтузиазмом, он упустил возможность разговорить членов группы, нисколько не сомневаясь, что услышал бы массу интересного.
Барбаре не понравились мысли брата; она поймала его взгляд в зеркале заднего вида и укоризненно покачала головой, потом прибавила скорость, чтобы обогнать рефрижератор из Дании.
– Куда ты едешь? – поинтересовался Генри.
Сестра ответила:
– Ко мне, мы будем одни, мама у своих подруг по бриджу; ты ведь согласен, Федор?
– Пожалуйста, не обижайтесь, – отозвался Федор, – но я хотел бы поехать в гостиницу; я должен написать два письма на родину: одно дедушке и одно моему профессору, старому университетскому ученому, он горит желанием узнать, над чем я тут работаю.
– А ты можешь писать об этом? – спросил Генри. – Я хочу сказать: ты имеешь право так открыто писать о вашем научном проекте?
– Знаешь, Генри, тот, кто занимается тем, что можно и нужно исследовать, и целиком посвящает себя этому, скоро приходит к выводу, что он не одинок. Во многих местах работают над теми же проблемами в одно и то же время. Мы все знаем друг о друге.
– То есть никакой секретности? – удивился Генри.
– Никакой, – подтвердил Федор. – Когда я здесь начинал, меня пригласил к себе руководитель проекта и ознакомил со всеми результатами исследований на сегодняшний день, не забыв и опыт, накопленный коллегами в Гренобле и Массачусетсе, а после этого обстоятельного посвящения знаете, что он сказал мне? «Пользуйтесь, господин Лагутин, все, что познал человеческий разум, нуждается в обнародовании, поскольку это всем пойдет на пользу».
Без всякого перехода он неожиданно прочел надпись на втором датском рефрижераторе, который обгоняла Барбара: «Живая форель».
– Бедняги и не знают, что находятся в пути, – сказал Генри.
– Вероятно, им кажется, что холодильник – это и есть весь мир, – подхватил Федор.
Подъехав к «Адлеру», Барбара не заглушила двигатель. С заднего сиденья Генри заметил в ее руке сверточек, который она, прощаясь, передала Федору у входа в гостиницу, он также видел, как недоверчиво и робко Федор принял его. Барбара что-то говорила ему, он внимательно слушал, слегка склонив голову, а когда она отступила на шаг назад, взял ее руку и поцеловал.
– Что было в сверточке? – сразу же спросил Генри, как только сестра села в машину.
– Подарок, – ответила Барбара, – маленький подарок.
Она произнесла это с таким равнодушием, что Генри, почувствовав вызов, снова спросил:
– Можно все-таки узнать, что там было?
– А почему ты должен это знать? – улыбнулась Барбара. – Я хотела доставить Федору радость и, похоже, доставила.
– Значит, не хочешь мне сказать?
– Потерпи, Федор наверняка скажет тебе сам.
Альберт Бусман откупорил обе начатые бутылки, найденные в бременском пассажирском поезде, приставил недрогнувшей рукой оба горлышка и слил, точно рассчитав наклон, остатки шнапса из одной бутылки – «Боммерлундер» в другую – «Штейнхегер», не пролив ни одной капли. Не пузырясь и не меняя цвета, «Боммерлундер» соединился со «Штейнхегером» без проблем. Бусман сделал пробный глоток, почмокал языком, сделал еще один и объявил смесь пригодной к употреблению; полную бутылку он спрятал в стопке пледов.
Этим утром Генри отказался от глотка «для поднятия настроения», он дожидался появления Паулы; единственное, что Бусман смог ему сказать, – это то, что ее вызвали в больницу, больше он и сам ничего не знал. Ханнес Хармс, у которого Генри осторожно попытался что-нибудь выведать, тоже ответил неопределенно:
– Какие-то семейные обстоятельства.
Генри не мог себе объяснить, почему он испытывал такое беспокойство из-за отсутствия Паулы; он равнодушно распределил по полкам найденные и сданные мячи и книги, энергично затолкал плащ в переполненный ящик, сунул целлофановый пакет с вязаньем и брошюры на полку с разнородными предметами, все время поглядывая на часы. Паула, приходившая каждое утро на работу первой, все не шла и не шла.
Звонок позвал его к приемному окошку. Там стояла худенькая смуглая девушка, она вежливо извинилась за беспокойство и осведомилась, по адресу ли она попала, действительно ли здесь оседают потерянные вещи из всех поездов, в том числе из пригородных. Генри подтвердил, галантно сказав:
– Вы пришли по верному адресу.
Ему понравился низкий голос девушки, приглянулись и черные, с синеватым отливом, волосы до плеч. Прежде чем спросить, о какой потере она собирается заявить, он ободряюще кивнул ей, призывая не робеть и запастись терпением, а они уж отыщут все, что люди теряют. Он протянул ей формуляр заявления о пропаже и попросил заполнить, там, в зале, на черной конторке, карандаш висит там же на веревочке. Как же быстро она заполнила формуляр! В отличие от других заявителей, которые с огромным трудом отвечали на вопросы, – некоторые были даже не в состоянии вспомнить тип поезда, – она внесла все необходимые сведения почти без запинки, подписала бланк, крепко сжав губы, и протянула его Генри. Тот сначала взглянул на фамилию и прочел вполголоса:
– Сильвия Франк?
Девушка ответила:
– Это мой театральный псевдоним, но, надеюсь, этого достаточно?
– Конечно, – подтвердил Генри, – наверняка; я смотрю, вы и адрес указали… Камерный театр… Вы живете в Камерном театре?
– Нет, – улыбнулась девушка, – я живу за городом, в Лунтфердене, а в Камерном театре у меня ангажемент.
– Значит, вы актриса, – произнес Генри и не спеша принялся расшифровывать настроченное торопливыми каракулями описание пропажи. – «Прозрачный целлофановый пакет, – прочел он, – содержимое: тетрадка с текстом и несколько программок, наполовину связанный свитер, вязальные принадлежности, две груши; ценность – неопределенная».
– Я не смогла подсчитать ценность, – произнесла девушка.
Генри сочувствующе ответил:
– Охотно верю, большинство людей затрудняются определить ценность потерянных вещей.
– Кое от чего я могла бы отказаться, – заметила девушка, – но текст мне очень нужен, у нас как раз в разгаре репетиции.
Генри улыбнулся с явным превосходством, в его улыбке содержался намек, заставивший девушку выпрямиться и проводить его взглядом до полки с разнородными предметами, откуда он извлек целлофановый пакет и, вертя им, вернулся на свое место. Хотя девушка издала радостный возглас удивления, Генри спросил ее с серьезной миной:
– Это то, что вы потеряли?
Она схватила свой пакет, вытащила из него голубую тетрадку, сунула ему под нос и радостно воскликнула:
– Вот, это именно то, что мне безумно важно! Как я могу вас отблагодарить? – Она полистала текст и показала Генри отмеченные светло-зеленым маркером фразы: – Это моя роль.
– А как называется пьеса? – поинтересовался Генри.
– «Перемена погоды».
– «Перемена погоды»?
– Главный герой – метеоролог, старый предсказатель погоды; один из его прогнозов приводит к трагедии.
– Понимаю, – серьезно ответил Генри и спросил с невинным видом: – А вы кого играете? Зону высокого давления или ураганный шквал?
– Я расследую всю историю: то, что вначале выглядит как несчастный случай, под конец оказывается преступлением.
– Понимаю, – снова сказал Генри и добавил с наигранным участием: – А преступление, я думаю, совершено на почве ревности?
Вместо ответа девушка спросила:
– Я могу забрать свое имущество?
– Не так сразу, – отозвался Генри, – сначала вы должны доказать, что вещь действительно принадлежит вам; у нас на это есть свои инструкции.
– О боже, вы шутите, – взмолилась девушка, – что значит – доказать? Как это делается?
Она, похоже, не замечала, что Генри разыгрывает ее, требуя доказательств, это и забавляло, и в то же время раздражало ее, и когда Генри объяснил ей, что связан по рукам инструкциями, она фыркнула:
– Я сейчас со смеху помру.
Генри в напряжении сморщил лоб, потом неожиданно взял у нее из рук текст, раскрыл наугад и пробормотал:
– Акт второй, сцена вторая, надеюсь, вы помните.
– Разумеется, – ответила девушка, – сцена происходит в Метеорологическом институте, ну и что из этого?
– Господин Пойкерт и есть тот самый предсказатель?
– Ну.
– А Лора – это вы?
– Да, я играю Лору.
– Значит, вы, вероятно, помните, что должны ответить этому господину Пойкерту; вот он здесь говорит: «Но область низкого давления над Британскими островами поначалу не имела тенденции перемещаться на восток».
Девушка пожала плечами и равнодушно произнесла:
– Ну хорошо, если вы настаиваете, я отвечаю ему: «Но это можно было бы предположить».
Генри в ответ:
– На это господин Пойкерт возражает: «Мы публикуем не предположения, а проверенные данные».
– «Северо-восточные ветры прогнозировались, – вступила в диалог девушка, согласно своей роли, – возрастающая сила ветра, с порывами и шквалами, позволяла кое-что предположить; во всяком случае, Дитер не выехал бы и несчастья не случилось».
Генри прочитал уверенным голосом:
– «Мы доверяем нашим приборам. Их показания надежны, хотя бы в своих основных параметрах. Бессмысленно обвинять приборы, если природа подводит их, а мы можем лишь приостановить свою работу, если нам будет разрешено с оговоркой передавать замеренные показания. Ты ведь знаешь это, Лора».
– «Послушал бы ты себя со стороны, – подхватила текст девушка, – ты говоришь так, словно я все еще твоя ассистентка».
Генри захлопнул толстую тетрадку и посмотрел через перегородку в сторону кабинета Хармса, где неожиданно увидел Паулу, она здоровалась и, очевидно, коротко отвечала на вопросы шефа, потом помахала сверху Бусману и наконец смерила его самого долгим, выразительным взглядом.
– О'кей, – произнес Генри и протянул девушке тетрадку и целлофановый пакет, – вы меня убедили, эти вещи наверняка принадлежат вам.
– Я могу теперь идти?
– Подпишите, – сказал Генри, – вам надо еще подписать квитанцию о получении вещей, кроме этого, вы должны уплатить сбор за обработку, мне причитается тридцать марок.
– Тридцать марок?
– Если у вас нет, можете заплатить позже.
Бурное проявление благодарности девушки он пропустил мимо ушей, целиком переключившись на Паулу, в сторону которой он все время поглядывал. Та, последовав приглашающему жесту Хармса, села на стул для посетителей и, опустив лицо, отвечала на его вопросы. Вот Хармс протянул ей бумажный носовой платок, она зажала его в руке. Отпуская ее, шеф вручил ей какой-то список и обнял, как бы предлагая защиту. Со списком в руках и с ключами, которые она достала из своего письменного стола, Паула подошла к сейфу с ценными вещами, отомкнула его и начала проверять содержимое. Она не заметила, что Генри последовал за ней и теперь тихо стоял за ее спиной, наблюдая, как она сличала и делала пометки. И лишь когда он просунул мимо нее руку, чтобы подхватить пару жемчужин, скатившихся с разорванной нитки, она обернулась.
– Убери руки! – бросила она, и жесткость ее тона заставила его насторожиться.
Генри положил жемчужины обратно в сейф, пытаясь встретиться взглядом с Паулой, но она отводила глаза и демонстративно продолжала выполнять задание.
– В чем дело? – спросил он. – Я просто хотел сделать тебе одно предложение.
– Прибереги его для себя! – огрызнулась Паула.
Ее отпор настолько обескуражил его, что он не решился коснуться ее плеча и уже был готов оставить ее наедине с работой, как вдруг вспомнил причину ее отсутствия и спросил:
– Тебя вызывали в больницу?
– Тебе это должно быть известно, – произнесла она, не глядя на него.
– Мне? – удивился Генри. – Не понимаю, о чем ты говоришь.
– Не притворяйся, ты ведь был при этом.
– Где я был? Ты можешь выражаться точнее?
– Вы напали на них, – с горечью произнесла Паула, – и избили их вашими хоккейными клюшками, Хуберт лежит с сотрясением мозга, он знает, что ты тоже был там.
– Послушай, Паула, – сказал Генри, – я не исключаю, что пара хоккеистов из моей команды решила навести порядок… Они знали, что эти парни вытворяют на своих мотоциклах… Как они травят людей, угрожают им, пристают. Твой брат ведь из этой компании. Вероятно, мой товарищи решили их проучить, вот и все… Кстати, эти рокеры как-то и меня взяли в оборот, а моего друга они довели до того, что у него на всю жизнь останется шрам.
– Почему ты отрицаешь, что тоже участвовал в нападении?
– Меня там не было, Паула.
– Но Хуберт слышал, как кто-то назвал тебя по имени.
– Это исключено, может, кто-то произнес похожее имя, Герман например, у нас есть такой игрок.
Паула недоверчиво взглянула на него, отказалась от предложенной сигареты и с вызовом произнесла:
– Но ты одобрял, признайся, что ты одобрял нападение… То, что они отправились со своими клюшками и по команде набросились на них, это ведь было в твоем духе, так?
По тому, как она энергично положила назад в сейф брошку, Генри понял, что разговор окончен. Паула не верила ему, но он ощущал потребность убедить ее, что это наговор.
– Я не подстрекал их, не подначивал к этому, – произнес он, – и, чтобы ты точно знала, я все еще считаю, что нужно попытаться поговорить с ними. Я хотел это сделать один, но я их не встретил. Разве это нереально, Паула, встретиться, поговорить друг с другом, выслушать каждую сторону? Я против насилия, я его ненавижу.
Паула засунула руку в глубь сейфа, порылась на ощупь и извлекла оттуда маленькую золотую монетку с приделанной булавкой. Пытаясь разобрать выбитый год, она произнесла:
– Ах, Генри, ты же сам не веришь тому, что говоришь; ты всегда следуешь лишь своим порывам, иногда мне кажется, что ты все делаешь как бы начерно, только то, что тебе сейчас приходит в голову; возможно, этого достаточно на данный момент и даже забавно, но я думаю, мы вправе ожидать от себя большего.
– А именно? – улыбнулся Генри.
– Как печально, что ты этого не знаешь, – произнесла Паула и назвала год – 1789.
На ее лице появилось недовольное выражение, не изменившееся и тогда, когда Генри дал ей понять, что он разочарован, поскольку она, очевидно, не проявляет никакого интереса к его предложению.
– Ты могла хотя бы выслушать меня, это ведь тебя ни к чему не обязывает.
Паула пожала плечами и, не прерывая своего занятия, проговорила:
– Ну давай, выкладывай, куда на этот раз? Однажды ты уже придумал необычный маршрут.
Генри пропустил мимо ушей мягкую иронию; не будучи уверен, что Паула примет его предложение, он сначала объявил, что уже все обдумал и подготовил, его сестра готова одолжить ему машину на выходные, он предлагает поехать на Балтийское побережье, туда, где нет наплыва людей из Рурской области. Паула поставила галочку в списке. Он намерен одолжить в бюро находок корзину для пикников, а еще брезентовую палатку, на пару дней можно ведь рискнуть. Он ждал ее реакции, рассчитывал на нее, во всяком случае, но Паула подняла на свет украшенную полудрагоценным камнем ложку, повертела ею в воздухе, полюбовавшись вспыхнувшим огнем, и поставила галочку. Очарованный своим проектом, он расписывал ей местечко в дюнах или стоянку у самой воды, где они могли бы до изнеможения жариться на солнце и нырять в кристально чистую воду Балтийского моря.
– А если пойдет дождь? – насмешливо спросила Паула.
Генри ответил:
– Если пойдет дождь, мы могли бы поехать в городок, там самый большой на всю округу аквариум. Можно полюбоваться треской и скатами или, к примеру, угрями и молодыми сельдевыми акулами, я там уже бывал. Ну что скажешь?
– Большое спасибо! Езжай один.
Поначалу до Генри доносились лишь обрывки разговора с самим собой, звуки, выражающие недоверие, горечь, иногда раздавался короткий язвительный смешок, однако все это еще не давало повода нанести Бусману «визит на его рабочем месте». Генри уже не впервые становился свидетелем того, как старый следопыт давал волю чувствам, как извергал проклятия, пытаясь вычислить владельцев потерянных вещей, высказывал удивление или же отпускал соленые шутки. Бусман имел привычку разговаривать с самим собой во время работы, бывали моменты, когда он обращался к себе: «Что скажешь, Альберт?», «Пожалуй, ты на ложном пути, Альберт». Однако неожиданно до Генри донесся стук упавшей на пол бутылки, он услышал натужное кряхтение и, юркнув между полками, увидел сидевшего на корточках Бусмана, тянущегося за укатившейся бутылкой. Ему удалось схватить пустую бутылку, он отнес ее на свое рабочее место и с грохотом поставил на какое-то письмо. От Генри не укрылось, что Бусман слегка пошатывался и испытал явное облегчение, опустившись наконец на табурет. – Хорошо, что ты пришел, Генри, – сказал он, показывая на рассыпанное содержимое какого-то чемодана, – можешь все это сложить обратно, я уже нашел для тебя потерявшего, похоже, что это коллекционер неоплаченных счетов и предупреждений, живет в Гамбурге. Вот, смотри, – он протянул Генри большой конверт и сказал: – Так или иначе, сынок, я распутал последний случай, теперь ты можешь взять на себя остальное, те дорожные сумки, оба пакета и еще матерчатую сумку. За короткое время ты многому научился, уж как-нибудь найдешь владельцев.
Генри ошалело посмотрел на него:
– В чем дело? Ты что, в отпуск собрался?
– Ставлю точку, – произнес Бусман. – Они посчитали целесообразным отправить меня в тупик.
– Тебя? – не поверил Генри.
– Если не веришь, почитай письмо, вон, под бутылкой, там так и написано: предпенсионный статус, перевод в предпенсионный статус в ходе реформы железной дороги; они называют это «урегулированием штатного расписания кадров».
– Но они не могут сделать этого, – возмутился Генри, – здесь же все рухнет, хотя бы один должен все уметь, ни у кого ведь нет такого опыта, как у тебя, тебе никто в подметки не годится.
– Ах, Генри, все мы заменимы, ты не поверишь, насколько легко можно заменить каждого, надо только вовремя себе в этом признаться. Дверь закрывается: кто-то ушел; дверь открывается: кто-то пришел. – Какое-то время он растерянно смотрел на Генри, потом кивнул, покусал губы и сказал: – Мне только моего старика жалко, не знаю, как ему об этом даже сказать, он все принимает на свой счет и такую отправку на пенсию тоже примет на свой счет.
– А Хармс, – Генри показал на застекленный кабинет, – что говорит об этом Хармс?
– Он и передал мне письмо, – ответил Бусман, – положил мне руку на плечо и лишь заметил: «Они хотят подарить тебе пару лет, Альберт. Очевидно, эксперт пришел к выводу, что тебе это пойдет на пользу…», больше он ничего не сказал. – Он тут же поправился: – Нет, еще сказал: «Разумеется, мы будем поддерживать связь, Альберт, после стольких совместных лет нельзя терять друг друга из виду».
Генри хорошо знал эти ничего не стоящие утешения для успокоения совести, призванные облегчить расставание. Не придав им значения, он спросил, не сказал ли Хармс еще чего-нибудь, не упомянул ли уже о преемнике, ведь не увольняют же человека, не подумав о замене.
– О преемнике Ханнес ничего не сказал.
– Но он ведь понадобится нам, – напомнил Генри.
– Это уже не моя забота, сынок, но если бы я мог выбирать, ты бы, пожалуй, подошел, ты бы справился с нашим делом. – Бусман махнул рукой, состроил гримасу, резко встал и, не сумев выпрямиться, тяжело плюхнулся обратно на табурет. – Если хочешь, Генри, я замолвлю за тебя словечко.
– Спасибо, но мне это не нужно.
Он с тревогой наблюдал, как Бусман пытается подняться, предостерегающе подхватил его и спросил:
– Как ты считаешь, Альберт, не проводить ли мне тебя домой? Все равно рабочий день подходит к концу.
– По мне, так пойдем, – согласился Бусман, – последние минуты я, пожалуй, могу себе подарить.
Генри отбуксировал своего пожилого коллегу сквозь крытый перрон, через привокзальную площадь, твердо удерживая его у светофора и уберегая от попытки перелезть через заграждение перед котлованом, по пути они почти не разговаривали. Прохожие то и дело останавливались и с интересом поглядывали на них, некоторые оборачивались и смотрели им вслед, пытаясь понять, почему тот, что постарше, нуждается в опоре. На мосту они остановились, Бусман ухватился за перила и посмотрел вниз, на канал; там навели понтон, и рабочие в забрызганных илом стеганых штанах расчищали дно. Специальными граблями и укрепленными на тросах крючьями они вытаскивали все, что осело в иле под мутной масляной поверхностью: пружины и камеры от шин, горы консервных банок, кованый стул, стальную каску, велосипед; все, что извлекалось на свет божий, бросали в лихтер. Вот плюхнулись забитые грунтом сапоги, аптечка перелетела через суденышко и снова шлепнулась в воду, детская коляска увенчала гору хлама.
– Никаких владельцев, – пробормотал Генри, – никто не заявит о потере этого мусора.
Он подумал: «Отвергнуто, утоплено. Большинство вещей утоплено тайком, в темноте. Избавились. Безымянные находки. Не потеряны, не забыты, просто выброшены, и никакой ответственности. Сколько всего под водой, на дне рек, озер, на дне морском! Сгинули, утонули».
– Это барахло уже никто не захочет получить назад, – проговорил Бусман, и Генри поддержал его:
– Да, здесь нам было бы нечего делать.
Они помахали рабочим на понтоне, понаблюдали еще, как огромные грабли выудили из канала кусок водосточной трубы, и отправились дальше. Так и шли молча, пока не очутились перед домом, где жил Бусман. Генри открыл входную дверь, давая понять, что хочет подняться вместе с ним, но Бусман опустился на ступеньку и покачал головой. Дальше его не надо провожать, до квартиры не надо. Он поблагодарил Генри, протянул ему, не глядя, руку, потом полез в карман куртки, чтобы удостовериться, что взял с собой письмо.
– Ты правда дойдешь один, Альберт?
– Тут всего несколько ступенек.
Генри хотел оставить его одного и не решался, он взглянул на лестницу, словно оценивая те усилия, которые еще предстояли Бусману, секунду раздумывал, не сесть ли рядом и не выкурить ли сигарету, но не сделал этого, так как Бусман подтянулся, ухватившись за стойку перил, и улыбнулся ему.
– Пока, Альберт, – попрощался Генри, тихонько повторив: – Пока, – и вышел.
Бросив последний взгляд на дверь, Генри уже знал, куда пойдет; целеустремленным шагом, не останавливаясь на мосту, он вернулся на вокзал и прямым ходом направился к мощному строению из клинкерного камня, в котором располагалось правление железной дороги. Синий символ «Немецких железных дорог» красовался над входом. Девушка на проходной, видевшая, как он в легком прыжке выскочил из вращающейся двери, с уважением кивнула ему, это была симпатичная девушка, наглядно демонстрировавшая изящность железнодорожной униформы; пока звонила, она одной рукой разглаживала непокорную юбочку.
– Могу я еще раз услышать вашу фамилию?
– Неф, – произнес Генри, – я хотел бы поговорить с Рихардом Нефом, это мой дядя.
Генри отвернулся и принялся разглядывать гравюру, изображавшую торжественное открытие первого железнодорожного сообщения между Нюрнбергом и Фюртом; при этом от него не укрылось, как изменился самоуверенный голос девушки, став услужливым и понятливым:
– Да-да, конечно.
Она попросила Генри еще немного подождать: там, наверху, как раз посетители. Генри смотрел на окна вагонов первого поезда, не удержавшись от ухмылки при виде отважных пассажиров, которых трепал встречный ветер, у одного слетела шляпа, другой пытался спасти свой метровый шарф, кто-то махал платком, кто-то высоко поднял бутылку с вином, по широко раскрытым ртам можно было догадаться, что все поют.
– Вот так все начиналось, – произнесла девушка, заметившая интерес Генри. – Какое, наверное, было для них приключение!
– Да, похоже, – поддержал Генри, – бюро находок тогда были излишни. Такая забывчивость, какую мы наблюдаем сегодня, – это явление нового времени.
– Это вы по опыту знаете?
– Я сталкиваюсь с этим каждый день, я работаю в бюро находок.
– У нас? Как интересно.
– Да, – согласился Генри, – пожалуй, так можно сказать: интересно.
Девушка сняла трубку, кивнула и, сказав:
– Я передам, – пропустила Генри. – Комната сто одиннадцать.
Секретарша любезно поздоровалась с ним и показала на открытую дверь. Он сразу же увидел дядю, сидевшего за огромным письменным столом, склонив голову набок, словно что-то оценивая и проверяя; на его костлявом лице застыло болезненное выражение. «Наверное, – подумал Генри, – ему приходится принимать тяжелое решение». При его появлении дядя поднялся и поприветствовал его: «Надо же, надо же, и ко мне заглянул…», затем, не дожидаясь приветствия или объяснения причины его визита, показал на мужчину, обеими руками державшего плакат.
На мужчине был выцветший летный комбинезон, длинные волосы собраны на затылке в косичку. «Художник», – мелькнуло в голове у Генри, и он не ошибся.
– Разрешите представить: господин Неф, господин Эверт, – и, показывая на плакат, дядя продолжил: – Господин Эверт как раз принес нам свой последний эскиз, скоро этот постер будет расклеен по всем поездам между Фленсбургом и Мюнхеном и станет, естественно, рекламировать «Немецкие железные дороги». Ну, каково твое мнение, Генри?
Кивком поздоровавшись с художником, Генри отступил назад и стал разглядывать рекламный плакат. На одной половине был изображен молодой контролер потрясающей внешности, он с улыбкой протягивал билет полной женщине; на другой половине постера красивая кондукторша подавала мужской компании, бывшей явно навеселе, пиво в банках. Текст, занимавший обе половины плаката, вопрошал: «Вы умеете общаться с людьми? Вы надежны в работе? Вам от двадцати до двадцати пяти?» И красным следовал призыв: «Тогда поступайте к нам – в службу сервиса общественного пассажирского транспорта».
– Ну как, Генри, нравится тебе?
Пожав плечами, Генри подошел поближе к постеру, ткнул пальцем в красавицу проводницу и спросил у художника:
– Это, наверное, Клаудиа Шиффер?
– С чего вы взяли? – удивился художник Генри заметил:
– Сходство бросается в глаза, остается только надеяться, что она согласится рекламировать сервис в поездах.
– А вы посмотрите повнимательнее на рот, – сказал художник, – у Клаудии Шиффер совсем другие губы.
– О чем речь? – вмешался дядя, не поняв причину разногласий. – Кто на кого похож?
– Проводница, – пояснил Генри, – чертовски похожа на Клаудию Шиффер-, я это только потому говорю, что у нее есть юридические права на свое лицо.
– Нет проблем, – живо отозвался художник, – если у вас сомнения, я сделаю даме рот в стиле барокко, ротик барочного ангела, с верхней губой в форме треугольного сердечка.
– Дама должна выглядеть хорошо, без этого никак нельзя, – поддержал художника дядя.
– Ясное дело, – согласился Генри, – железной дороге нужны красивые люди, я только хотел обратить внимание, что Клаудиа Шиффер обладает эксклюзивными правами на свое лицо, она всемирно известная модель и знает себе цену.
– Хорошо, – произнес художник, – чтобы избежать сложностей, проводница получит губки бантиком, о'кей?
В ожидании решения он посмотрел на дядю и, услышав наконец: «Ладно, сделайте», с большим трудом постарался скрыть свое недовольство.
Оставшись вдвоем с Генри, дядя покинул свое место за пустым громоздким столом, встал спиной к окну и поинтересовался, все ли в порядке дома и как дела у Барбары; то, что она готовится к региональным состязаниям по гребле на каноэ, вызвало его одобрение, а то, что мать Генри планирует отдохнуть на озере в Баварии, он принял к сведению со скупой улыбкой.
– Прекрасно, – проговорил он, – прекрасно.
Затем он захотел узнать, как обстоят дела у Генри на его новом рабочем месте, в бюро находок, какой климат там царит, устраивает ли его зарплата, намекнув при этом, что рассчитывал на визит Генри гораздо раньше.
– Я был бы рад, если бы ты заглянул ко мне раньше.
Ни один ответ Генри не удивил его, казалось, он был в курсе всего. Он вальяжно раскурил сигару и молча следил взглядом за колечками дыма, убежденный в том, что Генри сам назовет причину своего прихода. Что Генри и сделал. Хотя он никогда ни о чем не просил своего дядю, по совместительству высокого начальника, он произнес:
– Сегодня, дядя Рихард, я хотел бы тебя кое о чем попросить, поэтому и пришел.
– Ты хочешь, чтобы тебя перевели?
– Нет.
– Тогда о чем речь?
– О моем коллеге, о пожилом коллеге, его зовут Альберт Бусман; ему хотят дать так называемый предпенсионный статус.
– И чего ты ждешь от меня?
– Ты не мог бы распорядиться, чтобы он поработал у нас еще пару лет? Он, несомненно, самый лучший работник, какого можно себе представить для бюро находок. И кроме того…
– Да?
– И кроме того, он живет со старым отцом, заботится о нем, я был у них дома, нехорошо, если они будут целый день мозолить друг другу глаза. Ты не можешь что-нибудь сделать?
Дядя положил сигару в пепельницу, удивленно посмотрел на племянника и неожиданно спросил, не может ли он ему что-нибудь предложить, кофе, например, или чай, но Генри отказался. Он очень рассчитывал на положительный ответ. Дядя встал.
– То, что ты приходишь ко мне, Генри, чтобы попросить за пожилого коллегу, радует меня и не может не вызывать уважения. Но то, чего ты ожидаешь от меня, находится вне сферы моих возможностей, я ничего не могу сделать; железнодорожная реформа находится в самом разгаре, приведение персонала в соответствие со штатным расписанием – одно из ее нововведений; в основе урегулирования этого кадрового вопроса лежат отзывы экспертов, понимаешь? И еще, чтобы ты знал: нам дано поручение снизить расходы на персонал на три миллиарда, а чтобы добиться этого, мы должны изменить кадровую структуру.
Генри уцепился за последние слова:
– Изменить – значит увольнять, сокращать рабочие места или как?
– Это неизбежно, но все должно происходить в социально приемлемых рамках.
– Я не понимаю, с одной стороны, многие должны быть уволены, с другой стороны, предлагаются рабочие места.
– Это входит в законы санации, – ответил дядя, – сначала мы должны избавиться от огромных долгов, и, чтобы этого добиться, несколько тысяч служащих будут переведены на положение предпенсионного статуса.
Генри сделал вид, что анализирует взаимосвязь огромных долгов и увольнений, потом вдруг улыбнулся и, не меняя тональности, произнес в своей обычной наивной манере:
– Это было бы для меня идеальным решением: ты отправляешь меня на пенсию, а Альберт Бусман может остаться. Предпенсионный статус – это именно то, о чем я давно мечтаю.
Желая убедиться, что Генри всего лишь пошутил, дядя посмотрел на него, вздохнул и покачал головой:
– Тебе двадцать шесть? Если я правильно посчитал, тебе сейчас двадцать шесть лет?
– Двадцать четыре, – уточнил Генри.
– Еще хуже, – усмехнулся дядя, – в двадцать четыре года мечтать о пенсии! Бог ты мой, как вспомню, что я успел сделать к двадцати четырем годам; во всяком случае, свой путь я тогда уже проложил, у меня была цель в жизни, а у тебя есть цель?
– Что ты имеешь в виду?
– Не притворяйся, ты прекрасно знаешь, что я имею в виду: положение, к которому надо стремиться, которое тебе по душе и в котором ты максимально можешь реализовать себя или, во всяком случае, считаешь, что можешь.
Генри на секунду задумался и весело произнес:
– Когда я слышу слово «цель», я всегда думаю о станции назначения и слышу объявление: конечная станция, просьба освободить вагоны.
– Извини, Генри, но мне такая позиция не представляется веселой, абсолютно не представляется. Надо ведь как-то оправдать свою жизнь, не так ли? Какое-то время можно еще, наверное, просуществовать беспечно, впустую растратить первые годы, но рано или поздно приходит момент, когда надо сделать свой выбор и начать действовать. Ты, надеюсь, не обидишься на меня, если я скажу, что человек с твоими способностями мог бы достигнуть большего, гораздо большего.
– Конечно, не обижусь, – ответил Генри, – но я прошу тебя учесть, что мне не интересна карьера, я не хочу подниматься по служебной лестнице, не хочу штурмовать упомянутое тобой положение; я с удовольствием предоставлю это другим.
– Чего же ты хочешь?
– Вольготно чувствовать себя на работе, чтобы меня избавили от всей этой суеты и беготни.
Дядя постепенно начал терять терпение:
– Тогда подыщи себе другой мир, может, он даст тебе все, что тебе нужно для вольготной жизни, мир, в котором ты сможешь жить целиком по твоим потребностям; боюсь только, что тебе долго придется искать. Кстати, не забывай, что предпенсионный статус тоже надо еще заработать. Заработать и заслужить.
– Я все понял, – кивнул Генри и поднялся.
Он хотел уже попрощаться, как зазвонил телефон. Дядя снял трубку и так жестко выговорил их общую фамилию, что Генри показалось, будто он услышал выстрел, во всяком случае, так они в детстве подражали звуку выстрела. Дядя вдруг словно окаменел, какое-то время он не произносил ни слова и молча слушал то, что ему сообщали или докладывали, один раз перенеся трубку от правого уха к левому; Генри слышал его учащенное дыхание. Положив трубку, он встретился взглядом с Генри и сказал:
– Второй раз, это уже второй несчастный случай в этом году.
Генри прервал его молчание:
– Несчастный случай на железной дороге?
Дядя не сразу ответил; будто с трудом вспоминая, он закрыл глаза и потом проговорил:
– При подходе к платформе… Человек бросился под поезд при подходе к платформе, к четвертой.
– Мужчина? – спросил Генри.
Дядя, помедлив, ответил:
– Девушка, молоденькая девушка, это уже второй несчастный случай в этом году; она бросилась под «Вильгельма Раабе» при подходе к платформе, да…
Он плотно сжал губы, содрогнулся, словно обороняясь, что-то пробормотал, из чего Генри понял лишь слова «Благотворительная миссия», и пошел к выходу. Очевидно, он не хотел, чтобы его сопровождали. Прежде чем оставить Генри одного, он напомнил ему об обещанных пригласительных билетах на воскресный хоккейный матч:
– Мы бы хотели наконец увидеть тебя в действии, мы все придем.
Больше он не стал ничего говорить и уже вышел в коридор, но Генри догнал его:
– Минутку, дядя Рихард, еще только один вопрос.
– Да?
– Это кадровое урегулирование, оно касается и бюро находок?
– Всех подразделений; если не ошибаюсь, у вас должно быть сокращено одно место.
– Хорошо, – ответил Генри, – я только это и хотел узнать.
Он застыл, наблюдая, как удалялся дядя – короткими шагами, будто выбрасывая ногу от колена, и подумал: «Вот шагает важный человек». Он медленно побрел за ним до конференц-зала, дверь была открыта, Генри вошел и тут же увидел большой портрет человека с бакенбардами, равнодушно взиравшего на конференц-зал. Генри не сомневался, что стоит перед портретом давно умершего президента «Имперских железных дорог», и вышел из зала.
Федор Лагутин имел право привести с собой на студенческую вечеринку двух гостей и очень обрадовался, что Барбара и Генри сразу приняли его приглашение. Они заехали за ним в гостиницу, и Барбара пришла в восторг от его косоворотки в русском стиле, она не сомневалась, что такая рубаха пошла бы и ей. На груди, на кожаном шнурочке, у него висел талисман, и Федор пояснил, что это восходящее над степью солнце. Генри похвалил его мягкие и тонкие сапоги, такими они, во всяком случае, показались ему, и Федор пообещал при случае привезти ему такие же, с украшением на голенище.
Барбара поехала, как всегда не сомневаясь, что найдет место для стоянки, и действительно отыскала его, и на этот раз, поскольку она сопровождала Федора Лагутина, она припарковалась на одном из мест, зарезервированных для преподавателей. Студент, проверявший билеты при входе в столовую, радостно приветствовал их на «Вечере года», потом опустил билеты в прорезь на животе фигуры с головой в виде куба, внутри которой что-то затрещало и захрустело. Глаза металлического колосса вспыхнули, две антенны, торчащие из головы, пришли в движение, нащупали вновь прибывших, и, пожужжав, колосс объявил:
– Для нас большая честь приветствовать господина Лагутина и его гостей, ваши места за столиком номер три. Желаем вам приятного вечера.
– Слышали? – удивилась Барбара.
– Это Леопольд, – пояснил Федор, – он еще и не на такое способен, Леопольд может замерить интеллект.
– На это мы, пожалуй, не пойдем, – хмыкнул Генри, – во всяком случае, не сегодня.
За столиками уже сидело много гостей постарше, родители студентов, преподаватели и спонсоры с семьями; вероятно, именно для них звучали мелодии Гленна Миллера, встречавшие гостей. На двух соседних столиках – Генри заметил это с первого взгляда – пили шампанское, они с Барбарой заказали кока-колу и ром, Федор после некоторых уговоров – баварское пиво. Как только перед ними оказались напитки, за их здоровье захотел выпить довольно неуклюжий господин с гвоздикой в петлице, и совсем молоденькая девушка, сидевшая рядом с ним и неустанно демонстрировавшая свое веселое настроение, подняла за них свой бокал.
– Ты их знаешь? – поинтересовалась Барбара.
Федор покрутил головой и отодвинул свой стул, чтобы пропустить двух женщин, подсевших к мужчине с гвоздикой и сразу пожелавших узнать, не пропустили ли они что-нибудь. Из доносившегося до него разговора Генри узнал, что женщину с брезгливо опущенными уголками рта и мясистыми плечами звали Иоанна; когда она перехватила его оценивающий взгляд, он быстро улыбнулся ей, однако она не ответила на его улыбку. Барбара заметила, что Федор не устает забавляться манерой некоторых гостей приветствовать друг друга, невольно и она развеселилась, наблюдая, как люди обнимаются и похлопывают друг друга по плечу, поглаживают по щеке и стирают поцелуи.
Разговоры вдруг стихли, и все обратили свои взгляды на импровизированную сцену, на которой появился маленький, словно помятый человечек, он мягко улыбнулся и погасил преждевременные аплодисменты.
– Профессор Кассу, – прошептал Федор, – это Алексис Кассу, он не только слывет гением, но таковым и является. Он замещает ректора.
Высоким голоском гений высказал свое сожаление по поводу того, что ректору, профессору Воррингеру не суждено поздороваться с присутствующими, в особенности с гостями, поскольку тот заболел во время своей командировки в Массачусетс, поэтому он взял на себя честь поприветствовать всех собравшихся в этом зале. А то, что предвкушение радости от праздника испытывают все, он видит не только по лицам, то же самое уже подтвердили ему сенсорные щупальца Леопольда, того бравого господина со сверкающими глазами.
– С помощью Леопольда, – продолжил он, – мы доказываем, что принципы функционирования живого индивида и нашего, созданного совместными усилиями, коммуникативного робота на удивление схожи. Леопольд собирает информацию из внешнего мира и предоставляет ее в наше распоряжение для любой цели. – Он вытащил из кармана куртки предмет, похожий на яблоко, разделил его, чуть крутанув по резьбе, на две половины и направил одну из них, в которой горел свет, на фигуру. Выждав не больше трех секунд, он подчеркнуто внятно произнес: – Температуру, пожалуйста.
Не прошло и двух секунд, как робот ответил скрипучим голосом:
– Двадцать два и пять десятых градуса по Цельсию.
Зрители были настолько поражены, что ни один из них даже не захлопал, однако профессор Кассу не остановился на этом, он попросил робота назвать число присутствующих, кое-кто быстро огляделся и начал прикидывать количество людей в зале, но ни у кого не возникло сомнений в правильности данного ответа. Потом профессор заметил как бы между прочим, что колосс способен производить замеры совершенно необычного характера. Он вежливо поинтересовался, не мог бы тот определить настроение в зале. После измерения, занявшего не более пяти секунд, скрипучий голос констатировал:
– Радостное ожидание.
Эти слова были встречены смехом и аплодисментами. Обращаясь к гостям, профессор Кассу сказал:
– Вы можете не беспокоиться, Леопольд выдает не все замеренные результаты, он весьма деликатен, но и в своей сдержанности он обнаруживает человеческое поведение: он подражает и, подражая, раскрывает суть человека, его уникальность.
После преподнесенного в юмористическом ключе описания современных возможностей массовой коммуникации, уделив особое внимание обмену информацией между электронными машинами, профессор выразил мнение, что мы должны быть готовы к тому, чтобы стать однажды свидетелями невиданного братства человека и машины. После этого он еще раз пожелал всем приятного вечера и под аплодисменты прошел между столиками, вернувшись на свое место.
– Пир объявляется открытым, – провозгласил какой-то студент со сцены и первым ринулся к столам с холодной закуской.
Фуршет не был особенно роскошным; специалисты по вычислительным машинам были явными приверженцами простоты: столы были в два ряда заставлены глубокими овальными блюдами с салатами – картофельным, селедочным, разумеется, любимым колбасным, присутствовали и салаты из огурцов, фасоли и мяса, а также отмеченный болезненной бледностью салат со спагетти. Между салатами громоздились горы нарезанного хлеба, точно вымеренные кубики сыра мечтали попасть на острие вилки. Нашлось место и для вареных яиц, не забыты были и трубочки из ветчины, а также два батона ненарезанной сырокопченой колбасы такого размера, что наводили на мысль об изготовлении на заказ.
Гости за соседним столиком – мужчина с гвоздикой и женщина по имени Иоанна – также устремились к буфету, вооружились тарелками и приборами, обогнули стол и принялись придирчиво разглядывать блюда. Пока они нерешительно накладывали себе еду, у них было время понаблюдать за выбором других гостей, иногда с воодушевлением, иногда с молчаливым неодобрением. Генри стоял в очереди за Федором, и не успели они еще добраться до стола с закусками, как ему бросилось в глаза плохо скрываемое любопытство, с каким женщина разглядывала внешний вид Федора, да и его самого. Похоже, она рвалась узнать, что за салаты накладывает себе в тарелку человек в косоворотке. Когда Федор водрузил на свой салат со спагетти точно рассчитанное количество огурцов, украсив их парочкой кубиков сыра, она ткнула в бок своего мужа и обратила его внимание на странную комбинацию. Мужчина с гвоздикой не мог взять в толк, чему она удивляется, и нетерпеливо двинулся с добытыми вареными яйцами и свернутой в трубочки ветчиной к своему столику. Интерес женщины не ослабевал и во время еды, она то и дело поглядывала на Федора, не иначе как считая съеденные им куски или инспектируя манеру жевания. Чтобы дать ей понять, как его раздражает ее поведение, Генри вызывающе поднял бокал и подмигнул ей. Она тут же резко отвернулась и попыталась завязать разговор с мужем.
Неожиданно публика за соседними столиками замолкла. Профессор Кассу, отправлявший рукой в рот кусочки сыра один за другим, увидел Федора, на его лице засияла счастливая, удивленная улыбка, он помахал ему и, прихватив по пути редиску, подошел к их столику.
– Любезный коллега Лагутин.
– Уважаемый господин профессор Кассу.
Оба дружески обнялись, Федор представил своих спутников, и, поскольку профессор изъявил желание присесть за их столик, Генри тут же раздобыл свободный стул.
– Как приятно снова увидеть вас, коллега Лагутин.
– Помните Гренобль, господин профессор? Последний раз мы виделись именно там, я имел честь принимать участие в вашем симпозиуме.
– Помню, помню, – подхватил профессор, – тогда вся загвоздка была в этом Вольфраме, наши взгляды поначалу расходились, но потом мы пришли к единому мнению.
Генри открыл для гостя одну из стоявших на столике бутылок минеральной воды и, наполняя его стакан, спросил:
– Можно поинтересоваться, Федор, что за загвоздка у вас была?
Федор помолчал, словно предоставляя профессору рассказать о расхождении мнений, но после его подбадривающего взгляда ответил сам:
– Английский коллега Вольфрам придерживался тезиса, что закон падения есть нечто иное, нежели реальное падение яблока, расчеты этого падения, однако, то же самое, что и закон падения. – Ища поддержки, он обратился к профессору Кассу: – Или я не прав?
Тот с довольным видом кивнул и улыбнулся:
– Да-да, речь шла об этом спорном тезисе.
А потом Федор рассказал, как он познакомился с Генри, описал, как с ним произошел несчастный случай на платформе, как он лишился документов и неожиданно вновь обрел то, что считал безвозвратно утраченным. Он сказал:
– Если бы не бюро находок и особая интуиция господина Нефа, мы бы сейчас не сидели вместе, – и задумчиво добавил: – Я пока еще не совсем уверен, была ли наша встреча случайностью или необходимостью, но склоняюсь к последнему.
Он положил ладонь на руку Генри и улыбнулся ему. Профессор Кассу, умилившийся этому жесту, покачал головой: ему тоже бывает подчас нелегко определить, что есть роковая случайность, а что историческая необходимость, он не фаталист и потому чаще принципиально отдает предпочтение необходимости. Было видно, как непросто ему далась эта фраза, как он взвешивал ее и подвергал сомнению, наконец подтвердил кивком и тут же снова поставил под сомнение, пожал плечами и констатировал, что порой все же вынужден верить в мистику. Как бы странно это ни звучало, но ему приходится в это верить, в определенную мистику обретения, точнее сказать, повторного обретения. Стоит ему вспомнить, как и при каких обстоятельствах он после долгой разлуки вновь нашел сестру, это и по сей день кажется ему странным роком. Ни одно бюро находок не могло помочь ему тогда в поисках, даже международная служба розыска, к помощи которой он тоже прибегал, оказалась бессильна.
– Это было во время войны? – спросил Федор.
– Война разъединила нас, – задумчиво проговорил профессор Кассу. – Поскольку фронт приближался, нас отправили в деревню к бабушке с дедушкой; мать подкупила водителя автобуса, и он пообещал передать нас им в руки, это было не очень далеко. Моей сестре Софи тогда было шесть лет, я был на год старше. Перед расставанием мать сняла свой кулон и повесила его Софи на шею, это был маленький серебряный дельфин, качавшийся на гребне янтарной волны. Потом она поцеловала нас в последний раз.
Профессор невозмутимо рассказывал об огромной колонне людей и машин, все спасались бегством, было жарко, а самолеты летали так низко, что можно было разглядеть лица пилотов. Взрывной волной их автобус занесло, он рухнул в кювет. Софи была ранена, солдаты подняли ее на грузовик, а его придавило, и он не мог выбраться без посторонней помощи, на его глазах грузовик уехал в южном направлении, к большим портам, куда двигалась вся колонна. Профессор замолчал и показал головой на сцену, где появилась студенческая рок-группа, состоявшая из пяти одетых во все черное пареньков, выступавших под названием «Why not».[6]
– А что потом? – нетерпеливо спросила Барбара, и профессор повторил:
– А потом, да…
После войны начались поиски, они все время писали в разные инстанции и выучились ждать; немыслимое число людей, разлученных войной, хотели воссоединиться. Узнав, что в Атлантике затонул не один корабль, они не исключали, что Софи могла погибнуть.
– Первоначальное предположение постепенно переросло в уверенность, – сказал профессор Кассу, добавив, что прожил с этой уверенностью девятнадцать лет, вплоть до конференции, проходившей в Монреале, в которой он смог принять участие как ассистент профессора кибернетики Серваля.
– И там вы встретились? – спросил Генри.
– Не сразу – улыбнулся профессор, – сначала я повстречался с одной переводчицей по фамилии Мак-Фарланд, она повела меня в свой любимый ресторан.
Они ели, пили вино, говорили о канадском гостеприимстве; он заметил, что она как-то странно поглядывала на него, иногда с улыбкой, и все время смотрела на часы, потом извинилась и пошла звонить, а когда через час к их столику подошел какой-то мужчина, она встала и, сказав: «Арнольд Мак-Фарланд, мой муж – Алексис Кассу, мой брат», тут же разразилась истерическими рыданиями.
– Она сохранила тот кулон, серебряного дельфина? – нарушила общее молчание Барбара.
– Нет, – ответил профессор, – когда корабль затонул, он, вероятно, потерялся.
– Итак, – Федор казался удовлетворенным, – если не ошибаюсь, вы вновь обрели сестру благодаря предопределенному случаю или это была необходимая случайность?
– В любом случае мистика, – заключил профессор Кассу и, поднявшись, погладил Федора по плечу; его требовали к столику, за которым пили красное вино студенты старших курсов.
Как никто другой, Федор веселился, когда несколько студентов разыграли скетч, названный ими «Дистанционное управление». Они изображали строительных рабочих: облачились в спецодежду, притащили кирпичи, ведра с раствором, черепицу, оконные рамы и еще парочку сточных труб. Неожиданно все артисты замерли, и один из них объявил:
– Дамы и господа, вы присутствуете на мировой премьере – на ваших глазах с помощью самодельного дистанционного управления мы сейчас построим дом.
На передний план вышел празднично одетый мужчина с пультом в руках; по оптическому сигналу окаменевшие рабочие немного размялись, а по акустическому, прозвучавшему как пронзительный свисток, они, словно роботы, начали выполнять осмысленную работу. Выстроилась рабочая цепочка: один подносил кирпичи, другой возводил стену; управляемые оптическими или акустическими сигналами, они будто бы прокладывали трубы, делали замеры для оконной рамы – человек с дистанционным пультом давал каждому задание. Все происходило в ускоренном темпе, как в немом кино, и когда внесли и символично установили опорную балку, простенький щитовой домик начал принимать реальные очертания.
Внезапная вспышка на пульте управления, за которой последовало истошное завывание сирены, неожиданно оборвала осмысленные движения, символическая стройплощадка превратилась в забавный хаос. Человек с дистанционным пультом яростно крутил и вертел его, нажимал на разные кнопки, но ничего не мог поделать, артисты «портились» на глазах, один опрокинул раствор в сточную трубу, другой заложил окно черепицей, мастерком что-то колотили, а ножовкой не пилили, а клали стену. Строительство дома окончательно вышло из-под контроля. Как ни старался человек с пультом снова стать хозяином положения, никто и ничто не желало ему подчиняться, сколько он ни чертыхался и ни тряс пульт. Чтобы это как-то объяснить, он наконец пожал плечами и объявил:
– Вероятно, дистанционное управление неисправно. – Аплодисменты вознаградили его и артистов, они несколько раз поклонились, а потом методично и четко убрали сцену, словно не раз репетировали это.
– Это твоя идея, Федор? – поинтересовался Генри, и Лагутин признался:
– Да, я в этом немного участвовал; мне бы только хотелось, чтобы сбой при передаче сигнала был еще лучше обыгран.
Пока студенты расходились по своим столикам, им еще раз похлопали, мужчина с гвоздикой в петлице тоже аплодировал от души, и лишь его жена, выглядевшая угрюмо и почти обиженно, высказалась в полный голос, так что ее было слышно за соседними столами:
– Чушь какая, ты можешь мне объяснить, что все это значит?
Федор наклонился вперед, ища ее взгляд, явно преисполненный желания дружелюбно объяснить ей скрытый смысл скетча, но Генри мягко оттянул его назад:
– Спокойно, Федор, не стоит.
Он показал Лагутину на профессора Кассу, который за столом, где сидели «старейшины», поднял свой бокал в их честь, что, конечно же, было весьма лестно.
Неожиданно по сцене забегали разноцветные огоньки, они кружили, лучи их пересекались и наконец, словно сговорившись, сфокусировались на гитаристе, подавшем знак рок-группе; почему-то они начали с «Love, Love, Love». Старый хит щемил душу, будто пытаясь вернуть что-то утраченное. На свободной площадке тут же появились первые пары. Несколько старшекурсников, спонсоров и родителей тоже рискнули примкнуть к танцующим, лишь мужчина с гвоздикой не дал себя уговорить; хотя жена несколько раз толкала его в бок и даже попыталась поднять силком, он остался непоколебим.
Вот и Федор официально склонил голову перед Барбарой, предложил ей руку, чтобы проделать несколько шагов до танцевальной площадки, и еще раз поклонился, прежде чем коснуться ее рук Он танцевал серьезно и отрешенно, то и дело прикрывая глаза, а открывая их снова, с таким удивлением смотрел на Барбару, словно был не в состоянии объяснить себе самому неожиданно нахлынувшую на него радость. Генри не мог оторваться от обоих, никогда еще он не видел сестру танцующей столь легко и грациозно, такого не бывало даже на самых развеселых вечеринках водно-спортивного клуба. Вспомнив, как он однажды сказал ей: «Ты танцуешь, словно гребешь на каноэ: опускаешь – загребаешь», он улыбнулся и решил все-таки извиниться перед ней, хотя прошло уже немало времени.
После первого танца Федор хотел проводить Барбару на место, где они сидели, но, как и большинство пар, они остались на площадке; в ожидании следующего номера она положила ему руку на плечо. Они не произнесли ни слова, продолжали молчать и станцевав под «The Girl from Ipanema».[7] Генри не в силах был сдержаться и стал подавать им знаки одобрения и восхищения, он так увлекся, что напевал вполголоса мелодию и отбивал пальцами ритм по столу. Ему вдруг самому захотелось станцевать с сестрой.
Когда гитарист объявил «Rock around the clock»,[8] несколько пар покинули танцплощадку, но Федор с Барбарой остались – они взялись за руки, обменялись призывными, подбадривающими взглядами, набрали в легкие воздух и начали с небольшого синхронного прыжка. Как они выбрасывали ноги, вращались, удалялись друг от друга, не глядя искали вытянутой рукой партнера и с легкостью находили, как вдруг Федор притянул к себе Барбару, поднял ее и, быстро прогнувшись, поймал на плечи, перевернул, она плавно соскользнула, а он сделал вид, что бросает ее… Их танец дышал такой радостью, такой раскованностью, что привлек к себе всеобщее внимание гостей за столиками, на них уже показывали, о них говорили. От Генри не укрылось, что, несмотря на всю радость от танца, они были предельно сосредоточены; он заметил четкую команду Федора, видел, как он обхватил запястья партнерши и швырнул ее сквозь свои широко расставленные ноги, так ловко рассчитав все движения, что она не потеряла равновесия и сразу же вскочила на ноги, улыбаясь ему; она явно была счастлива, что трюк им удался. Похоже, Федор уже не мог остановиться – неожиданно он упер руки в боки и задорно пустился вприсядку, пригласив знаком Барбару последовать его примеру, но она помотала головой, посмотрела на него сверху вниз, счастливая и запыхавшаяся, и показала, что сдается. Федор резко оборвал свой танец, с легкостью выпрямился и, обняв ее рукой за плечи, проводил на место.
– Вы были неподражаемы, – похвалил Генри, – вам можно вместе выступать, в самом деле, а теперь выпейте, – и он придвинул им их бокалы.
Поскольку бокал Федора был почти пуст, Барбара протянула ему свой; пока он пил, Генри не отрывал взгляда от соседнего стола, от мужчины с гвоздикой, склонившегося к жене и шептавшегося с ней, не спуская глаз с Федора. И вдруг женщина спросила, настолько громко, что Генри ее хорошо расслышал, откуда вдруг запахло конюшней, ее муж втянул носом воздух, принюхался и также громко объявил, что здесь пахнет потом и кожей, затем вдруг поправился:
– Скорее козлом, да, точно, козлом.
– Вот и я о том же, – подхватила жена, – здесь воняет, как в загоне для коз, давай поищем другое место.
Сидевшая за их столиком девушка огорошенно посмотрела на них, очевидно, не заметив перемены в воздухе, во всяком случае, она не видела причины демонстративно принюхиваться, а ждала, когда ее пригласят на танец.
Федор не заметил протянутой ему Генри пачки сигарет, ни один мускул не дрогнул на его лице, глаза словно отсутствовали. Через какое-то время – выражение его лица так и не изменилось – Барбара помахала рукой перед его глазами и спросила:
– Эй, Федор, где ты, тебе нехорошо?
Вместо ответа он поднялся, слегка дрожа, ухватился за край стола и произнес официальным тоном, обеспокоившим Генри и Барбару:
– Извините меня, друзья, – и ушел. Бросил мимолетный растерянный взгляд на соседний столик, прошел по кромке танцплощадки к профессору Кассу, ничего не сказал ему, а лишь поклонился и покинул столовую через главный вход.
Они были уверены, что Федор вскоре вернется.
– Наверное, он пошел в туалет, – предположил Генри. Он долго и задумчиво смотрел на сестру, пока она наконец не спросила:
– С моим лицом что-то не в порядке?
– Давненько ты не выглядела так классно, – глубокомысленно изрек Генри. – Я словно впервые вижу тебя.
– Не болтай чушь, – строго ответила Барбара. – Я уверена, ты опять что-то затеваешь.
– Ну ладно, – согласился Генри, – тогда держись крепче: я хочу сделать тебе одно предложение или заявление; после основательных раздумий я хочу попросить тебя дать мне шанс поработать у «Нефа amp; Плюмбека»; мне безразлично, в какой отдел ты меня воткнешь, пусть хоть в рассылку или рекламации; ты сама знаешь, я человек без амбиций. – Поскольку Барбара лишь ошарашенно смотрела на него, он весело добавил: – О том, что я буду стараться трудиться на благо семейства, упоминать, пожалуй, не стоит. Ну так как? Ты дашь мне шанс?
Похоже, Барбара сомневалась в серьезности предложения брата. Она провела ладонью по его лежащей на столе руке и удивленно спросила:
– Ты правда этого хочешь?
И когда он повторил:
– Так ты дашь мне шанс?
Она кивнула и сказала: – В любой момент, ты же знаешь. Как раз самое время.
Взяв у сестры обещание, что следующий танец будет его, Генри встал и огляделся: Федора нигде не было видно. Тогда он извинился и прошелся вдоль столиков, заглянул во все углы и вышел в коридор. На ступеньках широкой лестницы сидели студенты со своими девушками, льнущие друг к другу; Генри улыбнулся им. У туалетов он столкнулся с профессором Кассу, тот понял, что он ищет своего башкирского друга, и с тревогой спросил, не случилось ли чего-нибудь с господином Лагутиным, он произвел на него такое странное впечатление, когда с отсутствующим видом шел мимо его столика.
– Сам не знаю, – пожал плечами Генри, – с ним что-то не так, он вдруг встал, извинился и исчез. Как бы формально попрощался.
– Он направился к выходу, – вспомнил профессор, – я ему что-то крикнул вдогонку, но он не обернулся.
Генри поблагодарил и сбежал вниз по лестнице. Огляделся в темноте, обошел здание библиотеки; завидев вдалеке одинокую фигуру, кидался к ней, но каждый раз его ждало разочарование. Генри постоял на газоне, задрав голову и всматриваясь в освещенные окна столовой, где уже снова танцевали. «Что-то, должно быть, оскорбило его, – пронеслось у него в голове, – так глубоко задело, что он был не в состоянии ничего сказать, а может, просто скверно себя почувствовал». Заметив, что в будке привратника вспыхнул свет, Генри быстро отправился туда и постучал в окошко. Господин Лагутин? Да, он был у меня, сказал привратник, попросил вызвать такси, а потом еще бегал взад-вперед, дожидаясь машины; а вот куда он поехал, этого он сказать не может. Привратник спросил с тревогой:
– Что-то случилось?
– Нет-нет, просто мы ждем его за нашим столиком. Он вернулся в столовую и от двери помахал Барбаре, подзывая к себе.
– Ты нашел его?
– Постой секунду, – бросил Генри, подошел к соседнему столику, смерил мужчину с гвоздикой долгим, невыносимо долгим взглядом и прошипел: – Мерзавец вы, жалкий негодяй.
Ошарашенный мужчина поднялся, подыскивая слова для ответа, но Генри не дал ему открыть рот:
– Из таких, как вы, нужно колья делать и в загоны для коз вбивать.
На какой-то момент мужчина лишился дара речи, он икнул, посмотрел на жену и наконец начал возмущаться:
– Что вы себе позволяете, вы…
– Заткни глотку, – с угрозой произнес Генри, – не то я тебе сейчас врежу, – он повернулся к Барбаре. – Пошли.
Он молча повел ее за собой, и только когда они оказались на улице, направились к парковке, поделился с сестрой добытой информацией и своими предположениями:
– Федор поехал к себе в гостиницу, больше некуда. Он точно в «Адлере».
– Может, нам следовало бы подождать его здесь? – неуверенно предложила Барбара. – А вдруг он вернется?
– Федор не вернется, я это чувствую, больше того, я это знаю.
– Что же нам делать?
– Поехали к нему в гостиницу.
Подавая назад, Барбара сбила табличку «Зарезервировано для преподавательского состава», выругалась, но не вышла и поехала с такой бешеной скоростью, что Генри пришлось взывать к ее здравому смыслу. Неоднократно, особенно в районе вокзала, ей казалось, что она узнала Федора в толпе пассажиров, и она была уже готова остановиться, но Генри, вероятно обладавший более острым зрением, уговаривал ее ехать дальше.
В «Адлер» прибыла новая партия гостей – перед гостиницей стояли два такси; Барбара дождалась, когда такси уедут, заехала на тротуар, и они вышли. Девушка за стойкой снова узнала Генри, дружески кивнула ему и жестом попросила подождать, пока она управится с новыми постояльцами. Это были сплошь молодые люди, девушка произносила вслух их академические звания и приветствовала по-английски и по-французски. Генри с Барбарой присели за маленький столик позади искусственных деревьев.
– Наверняка гости Высшей Технической школы, – вполголоса сказал Генри. – У них двусторонний договор.
Генри не пришлось объяснять причину их появления, освободившись, девушка подошла к ним и сама сообщила, что господина Лагутина нет, он заглянул очень ненадолго, поднялся к себе в номер и сразу же уехал из гостиницы.
– Он ничего не передавал? – спросила Барбара.
– Нет.
– А когда он уходил, у него что-то было в руках? – нетерпеливо поинтересовался Генри.
– Да нет, только его обычная сумка, которую он всегда носит с собой.
– И больше ничего?
– Я не понимаю, почему вы меня так расспрашиваете, – насторожилась девушка, – но это единственная информация, которую я могу вам дать.
– А он не сказал, когда вернется? – не унималась Барбара.
– Нет.
– Ладно, – задумчиво произнес Генри; он поблагодарил девушку и, положив руку сестре на спину, подтолкнул ее к выходу. После минутного раздумья оба сели в машину и закурили. В свете огней, льющихся из гостиницы, им была хорошо видна каждая фигура; они решили подождать, должен же Федор когда-нибудь вернуться. Поначалу они молча наблюдали, как изредка кто-то входил и выходил из дверей: мужчина, который еще при входе привел в порядок свою одежду; пара, долго препиравшаяся и в результате решившая не заходить в гостиницу; явно подвыпивший мужчина; дама, вышедшая из «Адлера», радостно размахивая сумочкой.
Но чем дольше они ждали, тем больше их охватывало волнение и беспокойство, и они не переставали спрашивать себя, куда мог пойти Федор, человек, с трудом ориентировавшийся в городе; им не давало покоя его странное бегство из столовой. Брат и сестpa не сомневались, что это не был случайный каприз, его уход не был вызван пресыщенностью или скукой, они заметили выражение его лица, на котором лежала печать обиды и растерянности.
– Какое им вдруг овладело отчаяние, – вздохнула Барбара. – Ты тоже заметил?
– Его обидели их слова, – задумчиво произнес Генри, – похоже, он особенно чувствителен к словам. Боюсь, он услышал кое-что из того, что говорили эти уроды за соседним столом, это старое пугало и идиот с гвоздикой.
– Они даже хотели подыскать себе другой столик, чтобы уйти от нас подальше.
– Козлиный запах, – возмущался Генри, – когда вы вернулись после танца, им, видите ли, почудилось, что воняет козлом. Они это брякнули, ни к кому не обращаясь, но он, конечно, услышал.
Генри коснулся руки сестры, обращая ее внимание на двух полицейских, вдруг возникших у входа в гостиницу; не колеблясь, они вошли внутрь.
– Хотел бы я знать, что им там надо, – произнес Генри, и Барбара тревожно откликнулась:
– Это же никак не связано с Федором?
– Вряд ли, – ответил Генри; почувствовав ее нарастающую тревогу, он нежно погладил сестру по руке и заверил, что полицейские наверняка всего лишь наводят какие-то справки, это их обычная рутинная работа, они скоро выйдут. И действительно, прошло совсем немного времени, и оба уже снова стояли у освещенного подъезда, на удивление довольные, один ткнул другого локтем в бок, и оба захохотали.
– Вот видишь, нет никаких причин для беспокойства, – заметил Генри и, искоса взглянув на сестру, добавил: – Он ведь нравится тебе, да? Я имею в виду, тебе нравится Федор?
– От тебя ничего не скроешь.
– Я могу тебя понять, Барбара, Федор и в самом деле симпатичный парень, я бы сам с удовольствием с ним почаще общался.
Они помолчали, потом Барбара произнесла:
– В соседнем доме есть бюро путешествий, ты его знаешь, я узнавала там: это не такой уж сложный маршрут.
– Какой маршрут?
– Из Франкфурта есть регулярные рейсы в Москву, а оттуда ходят поезда в Самару, при благоприятном расписании туда можно добраться самое большее за два дня.
Удивленный и в то же время обрадованный, Генри воскликнул:
– Так у тебя уже есть конкретный план?
– Да, – кивнула Барбара, – когда-нибудь попозже, ты, кстати, обещал составить мне компанию.
– Федору будет приятнее, если ты приедешь одна.
– Не думаю.
Они уставились на вход в гостиницу, потому что туда направлялись двое мужчин, не слишком молодых и явно не студентов. Они двигались не спеша и о чем-то оживленно дискутировали. Неожиданно оба встали как вкопанные и пожали друг другу руки. Какое-то время казалось, что сейчас они начнут душить друг друга в объятиях, но этого не произошло, уступая один другому дорогу, они вошли в гостиницу.
– Эти нашли общий язык, – прокомментировала Барбара.
– Или один убедил другого, – заметил Генри и добавил: – Иногда это удается, а иногда побеждает разум.
Все меньше людей входило или выходило из гостиницы, и Генри начал нервничать, он закурил сигарету, сказав, что это будет последняя и на этом ожидание закончится, однако сигарету он не докурил.
– Я сейчас вернусь, – сказал он, вылез из машины и бросился в «Адлер».
Увидев его, девушка за стойкой лишь с сожалением пожала плечами – господин Лагутин все еще не возвращался домой, она так и сказала: «домой». Генри кивнул: знаю-знаю, а потом попросил девушку оказать ему одну услугу. Он написал свой телефон, протянул ей записку и сказал:
– Передайте, пожалуйста, господину Лагутину, чтобы он позвонил мне в любое время, я буду ждать его звонка.
– С удовольствием, – пообещала девушка, – если хотите, я передам вашу просьбу ночному портье.
Генри положил перед ней несколько монет, поблагодарил и вернулся к машине. Барбара была поначалу не согласна с его решением и не хотела уезжать, чутье подсказывало ей, что Федор должен скоро вернуться, но под конец она согласилась:
– Хорошо, поедем к тебе, я тоже хочу прилечь.
– Ты можешь заночевать у меня.
– Тогда нужно предупредить маму. Генри улыбнулся.
– Ах, сестричка, – добродушно произнес он, – пусть это останется тайной, как часто ты произносила в последнее время эту фразу.
– В этом и состоит разница между нами: от тебя мама не ждет, чтобы ты держал свои обещания, – и медленно проезжая мимо гостиницы, она продолжила: – Не обижайся, Генри, но иногда мне кажется, что ты чересчур легко устроился.
– Как это?
– Ты живешь беспечно, делаешь то, что тебе нравится, тебе все прощают, как прощают ребенку, милому ребенку, этого у тебя не отнимешь, во всяком случае, так поступает мама. – Помолчав, она добавила: – У тебя нет цели в жизни, ты живешь не задумываясь.
– Зато я в полном ладу с самим собой, – возразил Генри и спокойно заметил, что она попала на улицу с односторонним движением, теперь ей надо ехать дальше и свернуть налево у фонтана.
Выйдя из машины на стоянке у многоэтажки, они посмотрели на окна Генри, пытаясь прислушаться, Барбара была уверена, что слышит, как разрывается телефон, и даже в коридорчике, когда они почти бегом устремились к его квартире, им все время казалось, что они слышат телефонный звонок, умолкший, как только Генри отпер дверь.
– Тебе надо немедленно позвонить в гостиницу, – потребовала Барбара. Генри набрал телефон «Адлера», и по его лицу она поняла, что они скорей всего проворонили долгожданный звонок.
Она подошла к окну и задвинула шторы, однако тут же снова раздвинула и в щелочку оглядела зацементированную площадку, по которой, согнувшись против ветра, брела одинокая фигура. Из тени противоположного дома ей навстречу двигалась другая. Они сходились, словно между ними существовала договоренность, но так и не остановились, хотя едва не коснулись друг друга.
– Что там делается снаружи? – поинтересовался Генри. – Акробаты опять там?
– Никого, кроме двух стариков, – ответила Барбара, – никаких рокеров.
– Акробаты еще, наверное, сидят в своей пивной, – заметил Генри и поставил на столик у тахты кока-колу и ром, пригласив жестом сестру сесть рядом. – Если зазвонит телефон, ты подойдешь.
– Нет, ты.
Шум мотора заставил обоих прислушаться, Генри подошел к окну, выглянул и сказал:
– Буше приехал, мой сосед, это был его «Харлей Дэвидсон».
– Он тоже один из них?
– Из кого?
– Ну из тех, кого ты называешь акробатами.
– Нет, Буше в полном порядке, он владелец химчистки, с ним можно разговаривать.
– А с теми, с другими, – спросила Барбара, – с теми ты когда-нибудь пытался поговорить?
– Вот именно, пытался, но на этом все и закончилось. Они не слушают. Они просто не умеют слушать, а если открывают рты, так только чтобы извергать оскорбления или угрозы. Хотел бы я послушать, как они разговаривают со своими девчонками.
– Но такого же не должно быть, чтобы человек, идущий к тебе вечером в темноте, испытывал страх.
– Ты права, что-то должно произойти, и я уверен: что-то произойдет, но без всякого насилия.
Когда зазвонил телефон, Барбара бросилась к нему, словно ястреб; она невольно повернулась к брату, подозвав его поближе, чтобы он по возможности тоже слышал разговор, потом ответила кому-то, назвав свое полное имя и фамилию, и проговорила, делая паузы:
– Да, вы попали по адресу… Он дома… Подождите, я передам… Вы можете все сказать ему самому… Что-что? Понимаю, я ему передам… Спасибо за звонок.
Она повесила трубку и вопросительно посмотрела на него:
– Ты все понял?
– Я понял только одно: тренировка, музыка в трубке играла слишком громко.
– Я должна тебе передать, что в среду тренировка не состоится, теперь только в четверг.
– Он назвался, тот, кто звонил?
– Герман, я поняла Герман, это ведь, кажется, ваш вратарь?
– Да, это наш вратарь. Великий игрок, он ловит шайбу, даже если она летит на него со скоростью восемьдесят или сто километров в час!
Ограничившись равнодушным «прекрасно», Барбара вытянулась на тахте и осталась лежать с открытыми глазами.
То, что Паула была вне себя от ярости, Генри понял, как только вошел в бюро находок. Перед ее письменным столом стоял мужчина в модном плаще, черные очки его были сдвинуты на середину головы, манера держаться была снисходительно-вызывающей. «Один из тех типчиков, – подумал Генри, – которые привыкли, что все их желания немедленно исполняются». Он подошел к Пауле, угадав, что может быть полезен ей:
– Я могу помочь?
Паула указала на мужчину, а потом на формуляр заявления о потерянной вещи с лежащей сверху шариковой ручкой и пояснила, что господин считает излишним заполнять графы:
– Господин заявляет о пропаже связки ключей и надеется, что она попала к нам и он может сразу забрать ее.
– Связка ключей! – повторил, театрально вздохнув, Генри. – Вот опять, – и, обращаясь к мужчине: – Боже мой, как подумаю, сколько их поступает к нам! Такое впечатление, что людям доставляет удовольствие терять ключи, в настоящее время у нас на полке лежит их не меньше десятка.
– Прекрасно, – уверенным тоном произнес мужчина, – значит, вам не составит труда показать мне то, что вы нашли.
Паула постучала указательным пальцем по бланку заявления, Генри понял ее без слов и пояснил клиенту:
– Сначала вам надо это заполнить, вы можете все сделать не спеша.
– Но с какой стати? – сердито спросил мужчина.
– У нас так принято, – ответил Генри, а Паула добавила:
– В соответствии с инструкциями.
Словно желая помочь раздраженному посетителю, Генри взял ручку и с серьезным видом начал игру в вопросы – ответы:
– Итак, такого-то числа я потерял – что? – связку ключей, – он вписал слова «связка ключей» и двинулся дальше. – В поезде, следующем – куда?
– В Бамберг.
– Итак, Бамберг. Время отправления?
– Около девяти.
– Поточнее, пожалуйста.
– Ну хорошо, в восемь пятьдесят семь.
– Номер поезда?
– Понятия не имею.
– Хотя бы название?
– Откуда мне знать?
Генри чувствовал, что незнакомец считает его вопросы издевательством, но неумолимо продолжал свою игру, и лишь от Паулы не укрылось, что это доставляло ему удовольствие. Она с огромным трудом сдерживалась, заставляя себя оставаться серьезной, когда Генри задал вопрос о предполагаемом месте потери. Прерывая вопросы многозначительными паузами, он перечислял:
– В поезде? В вагоне-ресторане? На перроне? В зале ожидания? Или, может, в билетной кассе?
Мужчина затряс головой, недовольно выхватил из рук Генри бланк и, лишь удостоверившись, что тот действительно придерживается официальных вопросов, раздраженно бросил:
– С вами с ума можно сойти, откуда мне знать, где я потерял ключи? Ну и вопросики вы задаете!
– Даже если вы этого не знаете точно, – спокойно возразил Генри, – то, быть может1, у вас есть какие-нибудь предположения. Иногда и это может навести нас на след.
– Ну хорошо, напишите: на перроне, у телефонной будки. Там есть всего одна, недействующая.
Генри записал ответ целиком, в то время как клиент бросал жалобные взгляды на Паулу, надеясь получить от нее моральную поддержку, хотя бы утешение типа: «У нас так принято, войдите в наше положение, в конце концов, все это делается ради вашего блага».
Все, даже самые мельчайшие детали и подробности, которые требовалось указать в графах заявления, были получены с многострадального клиента, под конец Генри заставил его дать точное описание связки ключей – их количество, особые приметы, брелоки, он записал все сведения и дал расписаться мужчине. Тот опять сокрушенно покачал головой, не в силах понять, почему Генри только сейчас, после этих докучливых расспросов, встал, исчез между стеллажей, поискал там, что-то проверил, удивленно присвистнул и наконец вернулся сразу с несколькими связками на выбор:
– Итак, которая из них ваша?
Ни секунды не колеблясь, мужчина взял кожаный футляр, потряс его, пока оттуда не вывалились несколько ключей, а вместе с ними массивная сова и маленькая фотография толстощекой девочки, размером не больше почтовой марки; кроме того, на кольце висела цепочка, а на конце ее была закреплена поцарапанная пуля.
– Вот мои ключи, – объявил мужчина, не удержавшись от замечания: – Почему нельзя это было сделать сразу?
Генри взял у него ключи, спокойно ощупал их, покрутил и подробно осмотрел сову:
– Она из золота?
– Разумеется, – хмыкнул мужчина.
– А этот ключ с зубчиками?
– От гаража.
– А вот этот, плоский?
– От моей городской квартиры.
– А этот, стало быть, от машины?
– Так оно и есть. Кстати, девчушка – моя дочь, если вас интересует и это, ее зовут Ангелика, ей шесть лет. – Последнюю фразу мужчина произнес с вымученной иронией, но Генри сделал вид, что не заметил этого, и в такой глубокой задумчивости ощупывал пулю, что пропустил мимо ушей его вопрос: – Этого достаточно? – Он не среагировал и на следующий вопрос клиента: – Я могу теперь забрать свои ключи?
Осматривая пулю, он произнес:
– А это, по-видимому, воспоминание не слишком приятное.
– Угадали, – ответил мужчина, – и чтобы вы точно знали, воспоминание о последней охоте – рикошетом угодила под левую лопатку. Ну а теперь отдайте мне наконец мои ключи, с меня уже достаточно.
Метнув быстрый взгляд на Паулу, подмигнувшую ему, Генри с сожалением пожал плечами: принося свои извинения за долгую процедуру и прекрасно понимая причину возрастающей нервозности клиента, он тем не менее не вправе отойти от предписания.
– Сожалею, – серьезно произнес он, – весьма сожалею, – и, не обращая внимания на раздраженность мужчины, озабоченно добавил: – Вы еще должны представить нам доказательство, что вы и есть владелец.
– Владелец чего? – не понял мужчина, на что Генри спокойно ответил:
– Убедительное доказательство того, что эта связка ключей принадлежит вам.
– Что за шутки! Разве то, что я вам сказал, не доказывает, что это мои ключи?
– Вам да, но не нам, – невозмутимо произнес Генри.
– Я что, должен вам это под присягой подтвердить? Или нам придется проверять ключи на замках – моей машины, моей квартиры?
Взгляд Генри упал на пулю, он повертел ее между пальцами и неожиданно сказал:
– Если я вас правильно понял, пуля угодила вам под левую лопатку?
– Да, вы меня совершенно правильно поняли.
И тут Генри поинтересовался без всякого высокомерия или издевки, скорее как бы между прочим:
– Я могу взглянуть на шрам?
Мужчина подскочил к Генри, лицо его конвульсивно дернулось, он не мог подыскать слов, чтобы выразить свою ярость, а когда Генри спокойно заметил: «Другого доказательства нам уже не понадобится», – он застонал, огляделся и злобно рявкнул:
– У вас есть начальник? Я хочу поговорить с вашим начальством, я не привык к такому обращению! Ваше поведение неслыханно!
Генри не сделал попытки успокоить мужчину, а лишь безразлично показал рукой на кабинет, где за стеклянной дверью, явственно различимый, сидел Ханнес Хармс:
– Вот начальник.
По его знаку Паула поднялась и пошла в кабинет; во время ее беседы с Хармсом они, казалось, в какой-то момент даже развеселились, но тут же вышли с абсолютно серьезными лицами и приблизились к возмущенному клиенту. Тот, не дожидаясь приветствия, с места в карьер начал злобно жаловаться на обращение, в особенности на совершенно унизительное требование снять пиджак и рубашку. Он категорически возражает и протестует, в конце концов, он всего лишь намеревался заявить о пропаже, а это ведь не повод подвергать его допросу и заставлять оголять спину.
Ханнес Хармс, уже введенный Паулой в курс событий, хотел теперь услышать от самого посетителя подробности инцидента и причины его негодования, он ни разу не прервал мужчину, кивая время от времени, и, дослушав жалобу до конца, дружелюбно обратился к нему.
– Господин Неф не так давно работает у нас, рвение, свойственное молодости, можно скорее поставить ему в плюс, и вообще, мне кажется, он всего лишь исполнял свой долг.
– Долг? – скривился мужчина. – Разве к исполнению долга можно отнести оскорбление клиента?
– Вы упускаете один момент, – мягко возразил Хармс, – то, чем мы здесь занимаемся, мы делаем добросовестно и в соответствии с зарекомендовавшими себя правилами, защищая, между прочим, права честных клиентов.
Не слушая его, мужчина подскочил к столу Паулы, схватил свои ключи, поднес их Хармсу под нос и прошипел:
– Значит, я наконец могу забрать свое имущество?
– Пока, к сожалению, нет, мы ведь так и не получили от вас последнего доказательства.
Потрясенный мужчина уставился на Хармса, выдвинув вперед нижнюю челюсть и сжав губы, потом резко сдернул с себя пиджак и задрал рубашку, обнажив на пару секунд лопатку.
– Этого достаточно, – невозмутимо произнес Хармс, – я благодарю вас, – и добавил деловым голосом: – Вы можете забрать вашу вещь.
– К моему величайшему сожалению, пока нет, – вмешалась Паула, – с вас еще причитается сбор – тридцать марок.
Мужчина опешил, потом презрительно захохотал, с выражением глубочайшей брезгливости подошел к столу Паулы, отсчитал положенную сумму и не прощаясь покинул бюро находок.
Паула и Генри взглянули на Хармса в ожидании нагоняя, тот молча обошел вокруг стола и, вероятно, решив придать своим словам особый вес, показал на кабинет: стало быть, разнос должен состояться там.
Они вошли в кабинет; к их удивлению, Хармс не только предложил им стул и табуретку, но и поставил на стол термос с кофе и чашки, попросив Паулу разлить кофе. В седых колючках его волос блестели капли пота. Он не произнес ни слова упрека, полностью проигнорировал эскапады Генри по отношению к заносчивому клиенту. Недавно он узнал нечто такое, сказал он, что огорчило его, он узнал об этом «сверху». Генри догадался, на что он намекает, и не ошибся: Хармс внимательно посмотрел на него и рассказал о доверительном разговоре с высокопоставленным чиновником, который сообщил ему, что один из его подчиненных собирается покинуть свое место.
– Да, Генри, – Хармс перешел от намеков к делу, – твой дядя дал мне понять, что ты хочешь уйти с работы, и даже назвал побудившие тебя мотивы, достаточно благородные, должен признать, но вынужден тебя разочаровать: то, чего ты хочешь добиться, не произойдет – в отделе кадров своя политика, люди просто должны исполнять то, что им предписано. Паула перегнулась через стол:
– Это правда, Генри? Ты хочешь уйти от нас?
Поскольку Генри не спешил с ответом, за него ответил Хармс:
– Он хочет уйти, чтобы Альберт мог остаться.
– Ты не имеешь права так поступать с нами, – воскликнула Паула, – ты же видишь, как ты нужен нам!
Хармс добавил:
– Ты прекрасно вошел в курс дела, уже постиг все премудрости, даже Альберт не смог бы еще чему-нибудь тебя научить. – Он помолчал и спросил: – Кстати, ты знаешь, что он на больничном?
– Альберт?
– Да, неизвестно, когда он сможет к нам вернуться и сможет ли вообще; твой дядя сказал мне об этом по телефону.
– Бедняга Альберт, – задумчиво произнес Генри, встал и посмотрел на вешалку у стены, на которой висел синий рабочий комбинезон Бусмана, просторный, с отвисшими карманами. Генри спросил, чем можно помочь Бусману, сейчас и в будущем, но никому не пришло ничего на ум. Для себя он решил сначала навестить старшего Бусмана.
Прежде чем выйти из кабинета, Паула отломила кусочек ржаного печенья и предложила снегирю, однако тот продолжал равнодушно сидеть на своей жердочке, не проявив никакого интереса к лакомству.
– Он больше не любит меня, – сказала она.
– Нет, Паула, – утешил ее Генри, – просто у него линька, и он потерял аппетит.
В проходе у полки с забытыми книгами и множеством фотоаппаратов Генри схватил Паулу за руку и удержал ее. Она никак не отреагировала на его вытянутые для поцелуя губы, лишь задумчиво взглянула на него и, казалось, даже не заметила руку, которую он положил ей на плечо. Он остался доволен, она поняла, что его переполняют чувства. Генри осторожно взял с полки один из фотоаппаратов, довольно дорогой, забывший его, вероятно, очень спешил или просто был крайне рассеян. Владелец наверняка скоро объявится.
– Если он придет, – посоветовал Генри, – тебе надо только спросить его о последних кадрах, я тут уже поработал и проявил пленку – карточки в этом пакетике.
Он сел на свернутый надувной матрас и постучал по нему, приглашая Паулу сесть рядом, потом вытащил одну за другой фотографии и протянул ей:
– Посмотри.
Паула заинтересовалась и просмотрела цветные снимки, отложила их в сторону и взяла снова, наконец удивленно произнесла:
– Я здесь не вижу ничего, кроме воды.
– Присмотрись повнимательнее, – посоветовал Генри, – сравни, и тебе кое-что откроется.
– И что же это?
– Если ты сопоставишь несколько фотографий, ты заметишь: на каждой сняты волны и ничего другого, фотограф запечатлел, как они возникают, идут на убыль, как образуют разные формы. – Он выложил несколько снимков в ряд, словно игральные карты, и перед ее глазами предстал настоящий калейдоскоп: волна с разорванным гребнем, будто вставшая на дыбы и готовая вот-вот обрушиться; длинный, сходящий на нет пенный язык, лижущий берег; волны, бегущие за кормой буксира, с сидящей на одной из них чайкой, и ласковые волны с солнечными бликами, омывающие голенькую малышку. – Чувствуешь, Паула, фотограф – либо ученый, исследующий волны, либо их большой любитель, во всяком случае, если он придет за своим фотоаппаратом, ты сможешь задать ему пару коварных вопросиков.
– Надеюсь, что ты это сделаешь сам, – возразила Паула, – останешься у нас и все спросишь сам.
Она слегка коснулась его щеки и, глядя на фотографии, произнесла со снисходительной улыбкой:
– Ты ничего не добьешься, я сильно сомневаюсь, чтобы Альберт вернулся; действующие здесь порядки такой обмен не предусматривают. Однако то, что ты попытался это сделать, заслуживает всяческой похвалы. Я немного старше тебя и поэтому имею право сказать: ты хороший мальчик, и мы все тебя здесь любим.
Не говоря ни слова, он обнял ее и привлек к себе, когда же они чуть было не слетели с надувного матраса, он резко выпрямился, поймал ее руку и спросил:
– Поедем? Поедем вдвоем на побережье?
Она затрясла головой и снова легонько провела рукой по его щеке; хотя в ее глазах и читалось нескрываемое расположение, он прочел в них еще и снисхождение, особенно когда она с улыбкой произнесла:
– Ты хороший мальчик, Генри, будь еще и разумным. Мы не поедем вдвоем.
– Но почему нет?
– Я не знаю, чем это закончится, но уверена, что ничем хорошим.
У нее было усталое лицо, видимо, болели глаза. Она со вздохом подняла две фотографии, сложила их вместе.
– Да, волны, – проговорила она, – помнишь, ты мне рассказывал, как тебя когда-то опрокинула волна.
– Конечно, помню, я учился в школе, и мы отправились в поход на острова, ох и наглотался же я тогда воды!
Он посмотрел на нее, удивленный ее памятью, и попытался поцеловать, но она встала и взъерошила ему волосы, потом спокойно собрала все фотографии и сложила в пакетик:
– Вот, они тебе понадобятся.
Вместе с пакетиком и фотоаппаратом, снятым с полки, она подошла к сейфу, где хранились ценные вещи. Генри медленно пошел за ней, приблизившись почти вплотную, так что ему было видно, как она расчищала в глубине место для новых вещей. Ему хотелось притронуться к ней, но он медлил, тут она оглянулась, и он смущенно улыбнулся, застигнутый врасплох. Паула попросила сигарету; поднося ей зажигалку, он спросил:
– Ты хочешь, чтобы я тут остался?
– Разумеется. – Она развеселилась. – Здесь нет никого, с кем бы так привольно чувствовали себя вещи. Ты просто рожден для нашего бюро.
– Ты знаешь, я иногда сам себе кажусь найденной вещью.
– Во всяком случае, очень забавной, – улыбнулась Паула и добавила после короткой паузы: – А как ты смотришь на то, если я приглашу найденыша Генри в рыбный ресторанчик, сейчас моя очередь?
– Согласен, буду очень рад и подумаю, чем мы займемся потом.
– Что ты подразумеваешь под «потом»?
– Потом будет видно.
Паула засмеялась:
– Нас послушать, будто дети разговаривают.
– Ну и что плохого? К разговорам детей нужно относиться серьезно.
Звонок возвестил приход посетителя. Паула лишь произнесла: «Клиент…», и Генри послушно поплелся к окошку выдачи.
Склонившись над рулем, почтальон катил свой велосипед по зацементированной площадке, потом прислонил его к водоразборному крану и открыл раздутую почтовую сумку, пристроенную на багажнике. В ней лежали рассортированные по номерам домов и стянутые резинками пачки писем. Почтальон знал номера всех многоэтажек, знал и многих адресатов на своем участке. Они звали бывшего всегда в хорошем настроении маленького нигерийца по имени Джо, как он и хотел, когда сообщал людям: «Сегодня Джо принес вам радостную весть».
Как охотно и как точно он сделал пас мячом, посланным ему соседским мальчишкой, и как обрадовался, увидев Генри, тащившего в каждой руке по пластиковому пакету к своему подъезду.
– Привет, Джо, – поздоровался Генри, и почтальон ответил с выражением сожаления:
– Сегодня ничего нет, босс, в следующий раз уж точно будет.
Генри отомкнул входную дверь и впустил Джо, который сразу принялся заполнять пустые почтовые ящики жильцов письмами и рекламой; одно авиаписьмо он с торжествующим видом поднял высоко над головой, подозвал Генри и показал на почтовую марку, изображавшую пару ласкающихся леопардов.
– Африка! – гордо воскликнул он. – Намибия, многие передают Джо привет.
Генри кивнул ему и подошел к своей квартире, с удивлением обнаружив, что дверь не заперта.
За его письменным столом сидела Барбара. Она не поднялась, когда он вошел, а лишь с облегчением посмотрела на него и вздохнула:
– Наконец-то. – Генри спросил: «Что ты тут делаешь?» – и услышал в ответ: – Жду тебя.
Генри взял ее руки в свои ладони – вечно ледяные руки – и принялся растирать, чтобы согреть. Она даже не улыбнулась ему и не поблагодарила.
– У тебя есть новости от Федора?
Она кивнула и, помедлив, рассказала, что была в Высшей Технической школе, пробилась до приемной самого ректора.
– Я разговаривала с его референтом и с секретаршей. Федор попросил отпуск, якобы его вдруг срочно вызвали домой.
– Не верю.
– Тебе ничего другого не остается, я получила официальный ответ: «Господин Лагутин подал заявление с просьбой разрешить ему прервать работу, ходатайство было удовлетворено».
– То есть он уже уехал?
– Из института я поехала в «Адлер», – продолжила Барбара, – они подтвердили его отъезд.
– И он ничего не оставил – ни словечка, ни знака?
Она протянула ему вскрытый конверт:
– Вот, это было оставлено для нас на стойке. Прочти одну эту фразу, она тебе все скажет.
Генри прочел: «Стрелу, попавшую в тебя, можно вытащить, слова же застревают навечно». Далее следовала приписка, в которой он обещал каждый день пить из чашки, подаренной ему Барбарой, но рядом всегда будет стоять вторая чашка в знак ожидания.
Они молча сидели, избегая смотреть друг другу в глаза. Генри не мог не заметить, как сильно дрожали руки сестры. Они понимали, что не смогли бы переубедить Федора, и не верили в возможность его возвращения, даже если бы они пригласили его к себе.
Барбара сходила на кухню и вернулась с двумя стаканами и бутылкой кока-колы; по пути она задержалась и выглянула в окно.
– Скорее, Генри, иди сюда, – не выкрикнула, а прошептала она. Он подбежал к ней и моментально оценил все происходящее.
Их было пятеро, они окружили Джо на своих мотоциклах, постепенно сужая круг и все ближе подъезжая к нему, и когда он, зажав в обеих руках свою почтовую сумку, попытался убежать от них, они с хохотом устремились вслед и отрезали ему путь.
– Это Джо, – пробормотал Генри, – наш почтальон.
На него сыпались удары, не очень сильные; проезжая мимо, каждый из рокеров норовил ударить его, один попытался вырвать сумку, но Джо крепко вцепился в нее руками, несколько писем все же выпало во время потасовки, и ветер подхватил их; отчаявшийся Джо побежал за ними, наступил, придерживая ногой, сумка выпала у него из рук, а может, они ее выбили, и тут же двое развернулись и проехали по ней, с торжествующим видом высоко подняв при этом руки. Джо бросился на сумку, решив собственным телом защитить то, что было ему доверено: он лег на сумку, прижавшись лицом к земле, и замер.
– Вызвать полицию? – выкрикнула Барбара. – Скажи же наконец, позвать полицию?
Генри не отвечал, он лишь таращился на площадку, чересчур долго, как показалось Барбаре, потом вдруг отодвинул ее в сторону и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. По пути он прихватил клюшку с инициалами «Е. С». Она услышала, как он твердой походкой спустился по каменным ступенькам к выходу, и тут же увидела, как брат появился на краю площадки. Оценив ситуацию, он направился к Джо, все еще лежавшему на своей сумке лицом вниз.
Двое из парней медленно поехали ему навстречу, однако Генри продолжал свой путь, несмотря на их злорадные ухмылки, вой моторов и выкрики, которых он не разобрал. Получив удар по спине, он резко обернулся и поднял, защищаясь, клюшку.
– Ну давай, рискни еще разок! – крикнул Генри парню, но тот лишь фыркнул и увернулся, сделав круг, он опять поехал на Джо.
Джо сидел на корточках возле сумки, лихорадочно соображая, куда бежать, в одной руке он держал несколько писем, которые ему удалось собрать; он протянул их Генри и сказал:
– Вот, босс, Джо спас эти письма.
Генри тоже опустился на корточки, взял письма и, затолкав их в почтовую сумку, тут же быстро вскочил. На него нацелился один из рокеров: небрежно волоча ногу по земле, он поднял внезапно мотоцикл на дыбы, так что переднее колесо угрожающе нависло над ним в воздухе. Ударом клюшки Генри вышиб рокера из седла, он держал ее двумя руками и попал обидчику по спине, Барбара не могла разглядеть в окно, куда пришелся удар, она лишь видела, что рокер сник и свалился на землю, а мотоцикл выскользнул из-под него.
– Беги, – крикнул Генри почтальону, – беги к дому 2 а, тебе откроют!
Джо послушался, поднялся, подхватив сумку, но тут они снова отрезали ему дорогу, медленно двинулись прямо на него и погнали назад. Джо инстинктивно бросился искать защиты у Генри. Увидев, как они встали, спина к спине, Барбара даже на миг обрадовалась, ее растрогало их взаимное доверие, попытка защитить друг друга перед лицом обидчиков. Генри держал клюшку наперевес и попал по руке одному рокеру, слишком близко подъехавшему к нему. Чертыхаясь, тот убрался, сделал большой круг, а потом снова поехал на него. Генри был уверен, что он свернет в последнюю секунду, и не сдвинулся с места, продолжая стоять намертво.
Барбара в ужасе вскрикнула, когда Генри опрокинулся, увидела, как он падает, а они пихают его ногами, проезжая мимо. Он пытался дотянуться до клюшки, лежавшей на расстоянии вытянутой руки, и не мог. Она набрала номер полиции. Описала все, что видела. Назвала адрес.
Прежде чем выбежать на улицу, она снова посмотрела в окно. Там произошли изменения: в середине площадки по-прежнему сидели, скрючившись, Генри и Джо, окруженные мотоциклами, но с разных сторон к ним двигалось все больше и больше мужчин, выходивших из расположенных напротив магазинчиков, из подъездов домов и двух припаркованных грузовиков, даже двое дорожных рабочих выбрались из колодца, вооружились лопатами и примкнули к остальным. Без суеты, спокойно и осознавая свое превосходство, они приближались к кольцу вокруг пленников, Барбара еще успела увидеть, как они скученно шли, толкая друг друга. Не мешкая ни секунды, не выкрикивая ни предупреждений, ни угроз, даже не примерившись и не оценив ситуацию, как то диктовало благоразумие, будто выполняя внутренний долг или поручение, они ринулись в неотвратимую драку.
Второй мотоцикл тоже перевернулся и остался лежать с ревущим мотором, рокер, спотыкаясь, пробовал спастись бегством. Мужские тела переплетались, катаясь по земле. За теми, кто пытался удрать, бросались вдогонку сразу не меньше двух преследователей. В воздухе мелькнула лопата и опустилась на кого-то. Вихляя, подъехал самый отчаянный рокер, притормозил перед поверженным, и тому удалось вскарабкаться на заднее сиденье, но тут же на него обрушился удар, и он свалился.
Когда Барбара склонилась над Генри, помогая ему сесть, шума моторов уже не было слышно, рев последнего мотоцикла затих вдали.
– Ты можешь идти? – спросила Барбара.
– Попробую, – ответил Генри. Пока он, упираясь двумя руками в землю, пытался привстать, замерев на мгновение, Джо подставил ему свое плечо. Кто-то из стоявших вокруг мужчин подхватил его и поднял на ноги, заботливо спросив, куда его отвести. Генри ответил не сразу, прижав кулак к бедру, он сделал несколько пробных шажков на месте и посмотрел в том направлении, в котором исчезли рокеры.
– Они не вернутся, босс, – сказал Джо, – сегодня они кое-чему научились.
– Смотри за своими письмами, – улыбнулся ему Генри и попросил Барбару отвести его домой.
Барбара взяла его под руку, все повернулись в их сторону. Когда стало ясно, куда они направляются, толпа расступилась; с верхних этажей многоэтажек могло показаться, что они идут сквозь шеренгу. На площадке их движение замедлилось, один раз им пришлось остановиться; Генри застыл в нерешительности, очевидно, не рискуя идти дальше. Но Джо как раз притащил ему клюшку, он оперся на нее и с помощью Барбары доковылял до подъезда.
Дома он не внял уговорам сестры и наотрез отказался ложиться, лишь подтащил к окну стул и сел на него.
– Ушибы, больше ничего, – категорически объявил Генри.
Барбара направилась в ванную, не закрыв плотно за собой дверь, подошла к зеркалу и критически осмотрела себя. Генри было видно, как она зачерпнула в ладонь воды и ополоснула лицо.
Он придвинул к себе второй стул и позвал сестру:
– Посмотрим, что там происходит!
Сидя рядом у окна, они увидели следующую картину:
на площадке стояли две полицейские машины, окруженные людьми, которые не хотели расходиться и отвечали на вопросы полицейских или предлагали себя в качестве свидетелей. Можно было догадаться, что они перебивали и дополняли друг друга. Вот они показывают на те места площадки, где происходили события, вот указывают направление, в котором исчезли те, кто еще мог удрать. Полицейские не удивлялись активности свидетелей, один из них делал для себя пометки.
После отъезда полицейских машин толпа постепенно рассеялась, кто-то уходил по одиночке, кто-то группами, время от времени некоторые останавливались, оборачивались и смотрели на окна многоэтажки. Вскоре на площадке никого не осталось, лишь ветер неустанно очищал ее от обрывков бумаги, листьев и пачек из-под сигарет и крутил юлой белый пластиковый пакет.
Словно его знобило, Генри поежился и вздохнул. Барбара с беспокойством взглянула на брата, и когда их взгляды встретились, она улыбнулась и спросила:
– Ну как, тебе лучше?
– Да, – кивнул Генри, – теперь получше.
Барбара встала, чтобы позвонить в бюро находок сказать, что Генри появится позже, но он удержал ее за рукав и снова усадил на стул.
– Сиди, я еще пойду в бюро, не хочу оставлять их одних; кто знает, что там еще появилось новенького.
Барбара обескураженно взглянула на него и спросила:
– Ты передумал?
– Я кое-что осознал.
– Давай-ка я заварю нам чай, – предложила Барбара и пошла на кухню.
Он слышал, как она налила воду в чайник, а потом включила радио. «Summertime». Генри любил грустно-мечтательную мелодию этой песни и невольно начал подпевать, однако замолчал, услышав, что и Барбара тихонько напевает то же самое, не просто бездумно, для себя самой, а так, словно хотела быть услышанной им и о чем-то напомнить. Потом он услышал, как она составила на поднос посуду, достала из шкафчика сахарницу и, стуча по тарелке ножом, нарезала лимон. Генри уже освободил часть стола и вытряхнул переполненную пепельницу Проделывая все это, он вспомнил Федора. «Слишком рано ты уехал от нас, Федор», – сказал он себе. Генри хотел было взять у Барбары поднос из рук, но острая боль в бедре остановила его, и ему лишь осталось, прислонившись к столу, наблюдать, как она расставляет посуду.
– Чай еще должен настояться, – сказала она и посмотрела в окно. Генри поинтересовался: «Что там происходит?» – и Барбара ответила: – Все тихо и мирно; ах, если бы Федор был с нами…
– Ты напишешь ему.
– Да, Генри, я напишу ему. Скоро.
Ханнес Хармс уже ожидал его. Он поздоровался с Генри легким рукопожатием, пригласил в свой кабинет и указал на стул:
– Садись, нам надо потолковать.
Предложив ему сигарету и помявшись, всем видом показывая, как тяжело ему начать разговор, он наконец произнес:
– Похоже, что Альберт не вернется к нам. С ним случился удар. Я об этом вчера узнал.
– Никогда не вернется? – расстроился Генри.
– Думаю, что никогда.
– А мы можем навестить его?
– Мне дадут знать.
– Может, все еще хорошо кончится, – вздохнул Генри, – у моего дяди тоже был инсульт три года назад, но он смог вернуться на работу.
– Нам остается только надеяться.
Очевидно, Хармс хотел сказать ему что-то еще, но, взглянув на Паулу, он поднялся и показал Генри на двух девочек, стоявших перед ее столом со смущенным и виноватым видом.
– Паула зовет нас.
– Так пошли к ней.
Паула представила обеих девочек, жавшихся друг к другу.
– Это Маргрит, – и она показала на Маргрит, – это Анна, – кивок в сторону Анны. И прежде чем девочки успели, следуя приглашению Генри, рассказать о своей пропаже, Паула пояснила, что обратиться в бюро находок на вокзале им посоветовала учительница; Анна очень расстроена из-за потери флейты.
– Так-так, – покивал головой Генри, – значит, ты потеряла флейту. Или забыла?
– Оставила в поезде, – ответила Анна, – мы ездили с классом на проулку в Люнебургскую пустошь.
– В поезде Анна еще играла, – вспомнила Маргрит, – на обратном пути.
– Тогда вы и в самом Люнебурге были, – вмешался Хармс, и Анна подтвердила:
– В Люнебурге мы делали пересадку; все произошло очень быстро, там я, наверное, и оставила флейту.
– Маттес приносил нам одну флейту, – сказала Паула, – я ее уже заактировала, она лежит на полке с игрушками.
Генри исчез между стеллажами, девочки шептались друг с другом, и когда он снова появился, Анна побежала ему навстречу: она сразу узнала свою флейту, он держал ее в руке.
– Это в самом деле твоя флейта? – спросил Хармс.
– Мне ее на день рождения подарили, – пояснила Анна, а Маргрит подтвердила:
– Я там тоже была.
– Хорошо, – сказал Генри, – значит, ты можешь нам что-нибудь сыграть?
– Я не знаю, что я должна играть.
– Ну, сыграй то же самое, что ты играла в поезде, когда вы ехали домой.
Анна подумала, пошушукалась с подружкой и серьезно спросила:
– Если я сыграю, я смогу потом забрать свою флейту?
– Да, ты ее получишь.
– Договорились, – кивнула Анна, – сначала я сыграю «Пробный полет».
– А что это такое – «Пробный полет»? – удивился Хармс.
– Ну, значит, таю это о маленьком птенчике, который еще никогда не вылетал из гнезда, и вот мама выманивает его перелететь к ней на соседнюю ветку, у нее ничего не получается, он боится. Потом он все-таки пробует, и ему так нравится, что он не садится на ветку, а весело летает вокруг и хочет показать маме, какая это радость. Но, приземляясь, он кувыркается.
– О, это мы хотим послушать, – улыбнулся Генри.
Анна поднесла флейту к губам, и все, кто был в бюро находок, мысленно увидели и ощутили то, о чем им рассказывала девочка: дерево, гнездо, взрослую птицу, выманивающую птенца.
– Я могу теперь забрать свою флейту?
– Можешь, – разрешил Хармс, – и знай, что мы слушали тебя с большим удовольствием. Тебе только надо еще подписать одну бумагу, – и он повернулся к Пауле: – Денежный сбор вычтем из гонорара за музыкальное представление.
Генри шутливо пригрозил ей:
– Смотри, больше нигде не оставляй свою красивую флейту.
– Не оставлю, обещаю!
Девочки серьезно попрощались, но уже на лестнице склонили друг к другу головы и захихикали. Заметивший это Генри улыбнулся:
– Симпатичная растеряшка, заодно и настроение подняла.
Паула начала готовить списки к следующему аукциону, а Хармс еще раз показал на свой кабинет и со словами:
– Мы с тобой еще не договорили, Генри, – пошел вперед. По задумчивому выражению лица начальника можно было заключить, что он собирается обсудить нечто важное, это выражение исчезло лишь, когда они сели напротив друг друга.
– Я не знаю, Генри, известно ли тебе, что по штатному расписанию мне положен заместитель, до сих пор это был Альберт. Мы не знаем, вернется ли он к нам, а если и вернется, сможет ли и захочет ли выполнять эти обязанности. Поскольку мне в ближайшем будущем предстоит ряд служебных поездок, речь идет о сборе информации по взаимодействию бюро находок, сетка нашего штатного расписания должна быть заполнена. Согласен?
– Ясное дело.
– Хорошо, Генри, во время моего отсутствия ты будешь замещать меня, совершенно официально. Ты становишься моим заместителем. Мы приняли такое решение, отдел кадров будет проинформирован.
Генри ошеломленно посмотрел на Хармса и непроизвольно отмахнулся, потом поднялся и спросил:
– А Паула? Она гораздо дольше работает здесь, и у нее больше прав.
– Паула предложила тебя, – ответил Хармс.
– Паула? – изумился Генри.
– Она считает, что ты самый лучший работник, какой только был в нашем бюро в последнее время, и я разделяю ее мнение. Мы долго говорили о тебе.
– Паула предложила меня? – все еще не мог поверить Генри.
– Она высоко ценит твою работу, – ответил Хармс, – а еще мне кажется, что ты ей нравишься.
Генри подошел к окну и взглянул на Паулу, корпевшую над своими списками и не глядевшую, вопреки его ожиданиям, на него; он слышал, что шеф задал ему какой-то вопрос, но смысл не дошел до него, и он ждал, когда тот повторит его.
– Ну так как, Генри? Я собираюсь писать докладную в отдел кадров, ты принимаешь наше предложение? – Поскольку Генри не отвечал, он добавил: – Ты не пожалеешь об этом. Чтобы начать карьеру, подчас нужен трамплин – ты понимаешь, что я имею в виду.
Генри затряс головой. Он поблагодарил и сказал:
– Я рад, что моей работой довольны, но подниматься по служебной лестнице – это не для меня, это я с удовольствием предоставлю другим.
– Отлично, ты мне об этом уже однажды говорил, тогда, при твоем первом появлении у нас; если тебя шокирует слово «карьера», назовем это по-другому, к примеру, «изменение». Разве у тебя иногда не возникает желания измениться? Твой дядя наверняка бы не возражал.
– Не исключаю, но мне нравится все так, как есть, меня не прельщает руководящая работа, я же вижу по горе бумаг на вашем столе, как она вам досаждает.
– Ну хорошо, открой мне тогда секрет, что тебе здесь нравится.
– А вы не знаете? Вы-то с вашим богатым опытом? Короче, что мне здесь нравится и даже больше, чем нравится, – это ежедневные встречи с неудачниками, с людьми, которые приходят заявить, что они что-то потеряли. Я раньше и представить себе не мог, что могут оставлять и забывать или терять на перроне люди. Я бы никогда не поверил, что по-настоящему узнаешь людей, когда они приходят сюда к нам, чтобы заявить о пропаже: они плачут, сетуют, укоряют самих себя. А какую радость испытывают, когда забрезжит луч надежды и я могу их утешить. Когда мне удается помочь человеку найти свою вещь, я испытываю не меньшее счастье, чем он.
Хармс улыбнулся, в задумчивости обошел вокруг стола и, подойдя вплотную к Генри, спокойно произнес:
– Тебя послушать, мой мальчик, так можно считать, что ты состоялся и жизнь твоя будет прожита не зря, да и моя тоже после стольких-то лет.
Что-то загромыхало у приемного окна, и оба посмотрели туда. Полицейский Маттес принес сдавать найденный предмет – громоздкий и ярко раскрашенный, тут же опрокинувшийся при попытке поставить его на пол.
– Это еще что такое? – вытаращил глаза Генри. Хармс по-деловому ответил:
– Разве ты не видишь? Шезлонг по индивидуальному заказу, вероятно, рассчитан на две персоны.
– О боже, – пробормотал Генри, – как же можно потерять такую вещь?
– Этот вопрос ты однажды уже задавал мне, – напомнил Хармс, – насчет моего малыша Пиу-пиу помнишь? Постепенно ты перестанешь удивляться, это еще придет, непременно придет.
Поглядывая на Маттеса, пребывавшего явно в хорошем настроении и разложившего шезлонг, чтобы полежать на пробу перед столом Паулы, Хармс все-таки решил довести разговор до конца:
– Ну так как, Генри, принимаешь наше предложение?
– По мне, так пусть все останется, как есть, хотя бы на первых порах.
Он пожал плечами, размышляя, не извиниться ли перед шефом за свое решение, но не стал этого делать, а только ухмыльнулся при виде полицейского, явно нашедшего самое удобное положение.
– О чем ты думаешь, Генри?
– Я уже представляю себе владельца, который явится к нам; трудно же ему будет доказать мне, что шезлонг – его собственность. Просто полежать – этот номер не пройдет.
– Что-нибудь придумаешь, – хмыкнул Хармс, – ты меня еще ни разу не разочаровал.
Он дружелюбно кивнул Генри, а потом кивнул еще разок как бы в ответ на свои мысли, довольный тем, что достаточно узнал о нем, во всяком случае, узнал все, что хотел.