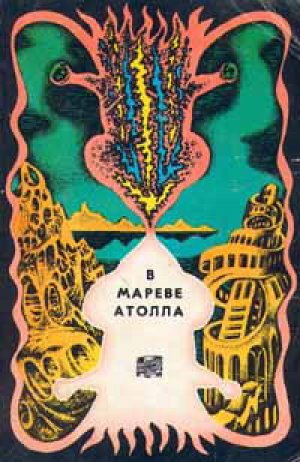
А. Р. Палей
СЕБЕ НАВСТРЕЧУ
В начале своей жизни Милу Юлду, человеку двадцать второго столетия, пришлось пережить сложное и тяжелое приключение.
В детские годы он как будто ничем не отличался от других детей. Правда, воспитывался не в детском городе, как большинство. Но и в семьях живут ведь нормальные дети.
Однако в детском городе наверняка своевременно обратили бы внимание на странность, выявившуюся в нем примерно на восьмом году от роду. Родители же прозевали.
В этом возрасте дети под влиянием бесед с окружающими, под впечатлением доступных им рассказов, телепередач, телепрогулок, теле- и непосредственных посещений театров, музеев, разных производств уже проявляют склонность к тому или иному виду деятельности. Мил такой склонности не проявлял, хотя охотно все смотрел и слушал. Был пассивен, безынициативен.
Беды в этом поначалу не видели: не все же дети развиваются одинаковыми темпами.
Но вот ему уже десять лет. Двенадцать. Тринадцать…
Во всем остальном он был вполне нормальным подростком.
Любил слушать музыку, наслаждался ею. Но никогда не пытался сам играть или петь. А инструменты были под рукой.
Родители ему их словно невзначай подсовывали. А oн возьмет, например, скрипку. Потрогает смычок. И положит обратно.
Охотно посещал с родителями или сверстниками музеи.
Любовался живописью. Около него клали бумагу, холст, карандаши, краски. То же самое: потрогает и положит. В учебной художественной мастерской неохотно пробовал писать — и бросал.
Любил наблюдать строительные-работы. Но никогда не брал в руки инструменты.
Встревоженные родители стали как можно больше времени проводить с мальчиком. Пользовались всяким случаем, чтобы заинтересовать его любой работой. Так, во время еды рассказывали о способах выработки и доставки пищи. Показывали по теле работу поваров. Он смотрел и слушал. И только.
Путешествуя с ним вместе, рассказывали о всяких транспортных средствах. Знакомили с телесвязью.
Ничего.
Мать брала его с собой в энергетическую диспетчерскую, где она работала. Мил сначала как будто заинтересованно наблюдал. Но ни разу не попросил допустить его к работе.
Отец несколько дней подряд брал его на место своей работы — книжную фабрику. Мил смотрел, как рукопись, вставленная в гнездо конвейера, в неуловимо короткое время превращается в миллионы экземпляров шрифтозвуковой микрокниги, как в определенные моменты в точно обозначенные места ложатся в них звучащие коты и отпечатки иллюстраций, как мгновенно прикрепляются линзы для чтения, пластинки для прослушивания и переплеты, как стремительный транспортер уносит уже готовые экземпляры, чтобы направить в магазины и библиотеки.
Мил смотрел, как бы интересовался. Но не проявлял желания включиться в работу.
Может быть, его призвание — театр? В Историческом театре работает множество людей: актеры, режиссеры, историки, постановщики, декораторы. Постепенно осуществляется дерзкий замысел — охватить в живых образах всю прошлую жизнь человечества — от самых ее истоков. Мил с интересом просматривал сцены прошлого. Но не обнаруживал желания участвовать в их подготовке.
Не увлекло его и освоение планет.
Самое страшное было то, что он ничуть не интересовался возможностью работать. Это гораздо хуже, чем если бы хотел и не мог. В нем не чувствовалось неудовлетворенносги пассивным образом жизни.
Родители сначала втайне переживали свое горе.
Но такой необыкновенный случай невозможно скрыть.
О нем узнало человечество.
И вот Милу исполнилось уже семнадцать лет. И ничего не изменилось.
Родители советовались с врачами.
Консилиум врачей, биологов, психологов и социологов решил прибегнуть к тяжкому и даже рискованному средству.
Милу незаметно для него дали порцию давно уже необычного лекарства снотворного и отправили в большой заповедник. Работавших там ученых предупредили, что они должны помочь полностью изолировать человека, которого туда доставят, и ни в коем случае не попадаться ему на глаза.
И вот в туманное утро Мил очнулся в незнакомом месте.
С недоумением поднялся на ноги, огляделся.
Он был в хвойном лесу. Или парке? Моросил мелкий дождь. Недовольно шумели деревья, обеспокоенные верховым ветром. Густые папоротники, лакированные листочки и блестяще-черные ягоды черники подтверждали сырость местности и, может быть, близость болота. Длинные еловые и короткие сосновые шишки топырились на мокрой пожелтевшей опавшей хвое.
Продолжая недоумевать, как он попал сюда, Мил поеживался от сырости. Правда, он был одет в непромокаемый костюм. Никак не мог припомнить, когда надел его.
Он решил по первой попавшейся тропинке выйти отсюда — погода ему не нравилась. Но найти тропинку оказалось нелегко, мешали густые заросли. Пришлось продираться через цепкие, а местами и колючие кусты. В одном месте колючка болезненно впилась в ногу через одежду. Нагнулся, выдернул.
Дальше какая-то ветка до крови оцарапала щеку. Стерев кровь, пошел осторожнее, медленнее.
Это становилось утомительным. Наконец встретилась едва намеченная тропинка. Он пошел увереннее.
Идти и теперь было нелегко. Тропинка узка, длинные ветви зачастую пересекают дорогу, хлещут по лицу, быстро двигаться нельзя. Нога иногда вязнет в болотистой почве.
Однако не может быть, чтобы пришлось идти далеко.
Но кажется, прошел уже час…
Что это? Похоже, он пришел туда, откуда начал путь?
Да разве тут сориентируешься!
Захотелось есть. Мил беспомощно огляделся. Но здесь нет вызывных панелей… Что же делать? Надо просить помощи.
А куда обратиться?
Ну хотя бы в Центр связи.
Привычно набрал индекс Центра.
Молчание.
Подождал.
Затрещали ветви. Радость! Кто-то приближается.
Приминая густой кустарник, вышел крупный зверь и два маленьких медведица с медвежатами. Без всякого страха, лишь с любопытством смстрэли друг на друга звери и человек!
Уже много поколений звери не знали охотников.
Звери постояли и пошли дальше, скрылись из виду, треща кустарником и хворссюм.
Хочется есть!
Стал повсюду шарить взглядом.
Шелест. Пока шел лесом, не заметил, как бор перешел в дубраву. Увидел на земле желуди, наклонился, собрал с десяток. Что же с ними делать?
В просвете среди листвы увидел дымок. Крайне заинтригованный, приблизился. Дымок, оказывается, поднимался над маленьким углублением, в котором кипела и клокотала вода.
Горячий источник! Не дым это, а пар.
На что может пригодиться ему кипяток? Наверное, для чего-нибудь пригодится. Но сейчас не до него: голод начал серьезно мучить.
Мил стал оглядываться. Он не мог сказать, что ищет на этой влажной, усыпанной истлевшей листвой земле. Какой-то давно забытый инстинкт руководил им. Вот он нашел широкий плоский осколок камня и другой поменьше, с острыми краями.
Не мыслью, а неопределенным сознанием почувствовал: это то, что ему нужно.
Положил желудь на широкий камень и острым сбил плюску, расколол, очистил шелуху. Обработал таким же путем остальные желуди. Ну, теперь, выходит, надо есть, ничего иного нет. Начал грызть. Мало сказать — невкусно. Однако заставил себя сгрызть все. И почувствовал, что голоден едва ли не больше прежнего. Уныло пошел куда глаза глядят. Вышел на небольшую полянку, и тут его поразило необыкновенное зрелище. Лежали какие-то кровавые куски мяса, местами с шерстью. Преодолев отвращение, подошел поближе. По шерсти, по одному уцелевшему длинному уху узнал зайца, таких зверьков видел во время телепутешествия по одному из заповедников. Можно было догадаться, что это остатки медвежьей трапезы.
Вид истерзанных останков живого существа был настолько ужасен, что Мил почувствовал тошноту и отошел.
«Почему медведи не доели зайца? — подумалось ему. — Может быть, не были голодны и медведица только приучает детенышей к охоте».
Приглушенный прихлынувшей тошнотой голод вновь резко напомнил о себе. И, содрогаясь от отвращения, юноша подумал, что это кровавое мясо может служить пищей…
Когда-то люди так питались…
Сделав огромное усилие над собой, вернулся, взял кусок мяса и при этом едва не потерял сознания. Затем вернулся к источнику. Порывшись среди валежника, нашел крепкую длинную ветвь без листьев и насадил на нее мясо. Затем опустил его в кипящую воду.
Милу казалось, что он нескончаемо долго сидит на корточках, борясь с желанием поскорее приступить к еде и в то же время думая, что не надо спешить, пусть получше сварится.
Утомляла непривычная поза.
Он знал из истории и даже видел на записях, как люди готовили для еды мясо убитых животных. Но со стороны это воспринималось совершенно иначе. Очень трудно понять, когда же будет готово.
Очевидно, все-таки поторопился.
Когда вынул мясо из природного котла, оно выглядело уже иначе, стало темным.
Горячо!
Пришлось подождать, чтобы немного остыло.
Впился зубами. Отвращение почти прошло. Остался только голод. Мясо оказалось жестким. Но крепкие зубы помогли справиться с едой. Вкус ее напомнил что-то знакомое, но что именно — не мог вспомнить. Неважный был вкус, пресный.
Насытившись, вновь с отвращением, но уже не таким сильным посмотрел на то, что осталось — обглоданную кость и кусочек шкуры.
Захотелось пить. Удача — вот ручей! Долго примеривался, как бы напиться. Наконец догадался использовать для этого собственную ладонь, сложив ее чашечкой. Пришлось повозиться, но вода оказалась очень вкусной.
Увлекшись едой и питьем, не сразу заметил, как улучшилась погода. Туман разошелся, дождь прекратился, солнце озарило сбоку желтеющие вершины сосен. Но стало ясно, что день близится к закату.
Вновь попробовал связь. Но она была абсолютна мертва.
С окрепшими после еды силами снова быстро пошел наугад: тропинку потерял, да она, видно, и не надежный путеводитель.
Идти напрямую не удалось: в одном месте наткнулся на такие дебри, что пришлось круто повернуть в сторону.
Впрочем, какая разница? Неизвестно же, какое направление верное.
Так прошло часа два. Или больше? Не имея связи, нельзя было точно ориентироваться во времени. Одно было несомненно: наступал вечер. Заметно потемнело. На небо между вершинами деревьев и среди редких облаков выбрызнули звезды Отчетливо обозначился узенький лунный серп.
Как же быть с ночлегом?
Прохладный ветерок коснулся рук и лица. Но тело не ощущало холода, наоборот, что-то приятно согревало. Расстегнув костюм и потрогав подкладку, Мил понял, что в одежду вмонтирована компактная система обогрева длительного действия.
Это немного успокоило.
Блеснула мысль: может быть, не действует только элемент связи с Центром?
Попробовал набрать индексы своих родителей.
Полное безмолвие.
Безнадежно.
В памяти всплыло когда-то читанное или слышанное: заблудившиеся в лесу влезали на дерево, чтобы осмотреть окрестности.
Гимнаст он был неплохой. Найдя тонкую, довольно высокую сосну, вскарабкался, ловко цепляясь за ветви. Устроился недалеко ст вершины, воспользовавшись сильными длинными ветвями. Стал осматриваться.
Со всех сторон — темно-зеленое море. Солнечный диск уже утонул в нем. Никакого признака опушки.
Однако сегодня уже ничего не предпримешь. Он сильно устал за этот нелепый, невероятный день. Прикорнул у мощного-ствола и разом уснул.
Проснулся утром. Оно было ясное, не в пример вчерашнему.
Мил не сразу понял, что это с ним было. Ведь люди давно уже избавлены от потребности спать.
Машинально набрал индекс времени и с недоумением услышал молчание. Спохватился, вспомнил: это уже было.
Захотелось пить.
Подошел к ручью. На этот раз оказалось легче: уже какаято сноровка.
И опять сильно захотелось есть.
Он знал, что когда-то люди ели грибы, ягоды. Но какие-то из них ядовиты. Ну, в этом ему уже не разобраться. Придется рискнуть.
Обнаружил мясистые грибы, которые на взгляд показались съедобными. Откусил кусочек. Отвратительно. Их когда-то варили или жарили, Значит, надо опустить в горячую воду.
Но в чем? Никакого сосуда у него нет…
Да, вот еще: нельзя далеко уходить отсюда, здесь питьевая вода и горячая поблизости. Это привязывает к месту, значит, усложняет положение.
Кое-как, с большим трудом сплел сеточкy из тонких ветвей, найденных на земле, положил в нее грибы и опустил в воду. Все это торопясь: очень есть хотелось.
Грибы стали теплыми, совсем мягкими, но еще более невкусными. Все же заставил себя съесть несколько кусочков.
Но голод только усилился.
Вспомнил вчерашнего зайца. Это, кажется, недалеко. Можно попытаться разыскать. Но необходимо заметить дорогу обратно. Стал обламывать, а где удавалось — завязывать узлом ветви через несколько шагов. Это отнимало с непривычки много времени. Однако другого выхода не видел.
Наконец нашел знакомое место. Но там ничего не было, лишь несколько волосков от шкуры…
Да, собственно, на что же он мог рассчитывать?
Что-то алое мелькнуло под низким кустиком с невзрачными белыми цветками. Подошел, наклонился. Сладостный аромат лесной земляники привлек его. Здесь оказалась богатейшая россыпь красных с чернотой, с утопающими в мякоти мелкими зернышками ягод. Ползая на коленях, загребал их горстями. Они отрадно таяли на языке.
Насытился. Но вскоре убедился: ягодное насыщение ненадолго.
Надо в конце концов что-нибудь придумать.
Что-то шелохнулось, мелькнуло в кустарнике, метнулось к нему.
Поднял глаза. К нему подбежал заяц, дрожавший мелкой дрожью. Возможно, за ним гнался какой-то зверь. Он искал спасения у человека.
Мил погладил доверчиво прильнувшее к нему животное.
Заяц боязливо оглядывался на кусты. Но там было тихо, недвижно. Если и был преследователь, он удалился.
Мгновенная судорога сжала желудок Мила. Голод вернулся с прежней силой. Острое воспоминание пронзило юношу: вид и вкус съеденного накануне мяса. Это воспоминание было одновременно противным и возбуждающим.
Совершенно машинально, ни о чем не думая, он взялся руками за шею зайца. Животное по-прежнему доверчиво смотрело ему в глаза.
Закрыв глаза, Мил сжал горло зайца. Послышался слабый писк, потом хрип, но он не отнял рук. Так просидел он, ужасаясь, ни о чем не думая, чувствуя только свой желудок, минут пять. Или десять?
Наконец открыл глаза, В его руках был теплый труп животного. Рот зайца был открыт, красный язык вывалился, выпученные глаза остекленели. Но Милу казалось, что он видел в них изумление и горький упрек. Он отвел взор.
Разжал руки. Мертвая тушка беззвучно упала на мягкую землю, устланную вялой листвой.
Странное оцепенение охватило его. Потом, мучимый голодом, борясь с собой и не зная, что ему делать, стал кружить по ближайшей окрестности, боясь уйти далеко, чтобы не потерять водных источников.
Он шел, погруженный не то в задумчивость, не то в беспамятство, мечтая о еде, боясь ее и не зная, как за нее взяться.
Взгляд его был потуплен. Он видел листья и ягоды земляники, ползающих муравьев, зеленоватого жучка, качающегося на стебельке маленького паука-крестовика.
Но вот увидел нечто иное, на что раньше не обратил бы ни малейшего внимания, а сейчас это захватило его…
В первый день своего пребывания в этой глуши, потрясенный неожиданностью происшедшего с ним, он не заметил…
Ничего особенного: низенький холмик. Он был слегка разрушен. Вряд ли это было делом рук человеческих, скорее вершинка холмика и часть склона обвалились сами по себе или, быть может, их размыли дожди. Что-то блеснуло там среди земли и старой травы.
Мил присел на корточки и стал разгребать влажную землю в смутной и не вполне осознанной надежде найти что-нибудь, что можно было бы использовать в качестве примитивного инструмента. Для чего — это ему было еще неясно.
Надежда неожиданно блестяще оправдалась. Он нашел настоящее богатство. Разгребая руками землю, просеивая ее сквозь пальцы, как (он читал или слышал где-то) делали археологи, обнаружил остатки какого-то древнего бронзового сосуда — чаши или кастрюли: совершенно целое днище около четверти метра в поперечнике с нижней частью круглой стенки, края ее обломаны, оборваны.
Роясь далее, нашел грубо обделанный каменный нож и нечто вроде каменного же топора с отверстием, в которое можно бы, очевидно, вставить рукоятку… если бы она была. Но рукоятки не нашлось.
Азарт поиска овладел им, он даже забыл о голоде. С увлечением продолжал рыться в остатках… чего? Древнего городища? Странное, однако, это было городище: тут и каменный век, и бронзовый… Должны, вероятно, найтись и человеческие кости… и зола древних очагов…
Но ни золы, ни костей не было.
Дальнейшие поиски не дали ничего.
Голод вновь проснулся, резко напомнил о себе.
С отвращением, но уже не таким острым, как давеча, Мил освежевал зайца. Без сноровки это было трудно, но голод подгонял и учил руки повиновению. Разрезал мясо на куски. Наложил их, сколько уместилось, в сломанный сосуд и опустил его в горячий источник. Но тотчас же вытащил: металл сразу нагрелся и жег руки.
Значит, надо сделать какое-то приспособление. Он проделал в середине каждого куска мяса каменным ножом отверстие и насадил их на длинную гибкую ветвь один за другим.
Затем опустил в кипяток, держа ветвь, как некогда рыбак — удилище.
Он сдерживал свое нетерпение, пока не решил, что мясо уже сварилось.
Наконец приступил к еде. На этот раз она показалась вкуснее, хотя все же была пресной.
Насытившись, прилег отдохнуть. Лежа на спине, он видел между вершинами деревьев синее небо, местами затушеванное светлыми облачками. Ему казалось, что оно куда-то плывет, его словно укачивало.
И с новой остротой охватило недоумение: где он, что с ним?
Опять попробовал набрать несколько индексов — и, конечно, впустую. Родители безусловно тревожатся.
Но может быть, его ищут? И не нашли пока именно из-за отсутствия связи?
Нет, это могло бы помешать в течение каких-нибудь двухтрех часов, не больше.
Вспомнил: есть неотложное дело.
Взял найденный в странном городище сосуд. Неизящно выглядят его рваные бока. Но не это важно: нужно сделать так, чтобы его можно было опускать в кипяток не обжигаясь.
Надо сделать в металле отверстие, в которое можно было бы продеть деревянную рукоятку.
Из найденных им двух каменных орудий — ножа и топора — нож больше подходит для этой цели. Но его надо бы еще обработать — заострить конец.
Положив нож на плоский камень и придерживая одной рукой утолщенный конец, служивший, очевидно, рукояткой его первоначальным владельцам, принялся отбивать обухом другой конец.
Это оказалось мучительно трудным. Топор не слушался неумелых рук и часто ударял вместо ножа по подложенному под него камню. Стал ударять слабее. Работа пошла медленнее. Но к лучшему: раза два вместо топора он ударил по пальцам, державшим нож, чтобы не соскакивал с камня от удара. Это было очень неприятно: резкая боль пронзила его, ногти посинели.
К закату солнца он уже с удовольствием мог отметить, что дело продвигается: конец ножа стал напоминать сверло или шило, что ли. Он не очень твердо помнил вид и название этих древних инструментов, которые видел когда-то в музее.
Наступила темнота, правда, неполная. Но звезды и узкий лунный серп давали слишком мало света, чтобы можно было продолжать работу.
Почувствовал усталость, сонливость. Уснул.
Проснулся, когда наступило утро. Легкий холодок заставил поежиться, но был приятен. Солнце, очевидно, уже поднялось над горизонтом, но об этом можно было судить только по отсветам, ложившимся на самые нижние части стволов. Звонко, с еще не растраченной за день энергией перекликались птицы.
Веселее стало, но только на несколько минут, пока полным сознанием не вернулся к действительности. Пальцы еще слегка болели после вчерашнего, но работать можно было.
И вот — остроконечный инструмент готов, Он полюбовался делом рук своих, хотя и видел, что инструмент весьма примитивен, выглядит аляповато. Однако испытал новое, доселе совершенно неизвестное ему чувство: удовлетворение от того, что сам сделал что-то нужное, полезное, хотя бы только для себя самого.
Кончив эту работу, он призадумался. Теперь надо проделать отверстие в сохранившейся части стенки кастрюли — для рукоятки. Но как это сделать? Попробовал сверлить. Однако это оказалось невыполнимым. Проработав часа два, увидел, что получилась едва заметная глазу вмятина в металле.
А если просто ударять по утолщенному концу сверла обухом топора?
Но это страшно: вдруг сверло сломается. Или еще того хуже — расколется стенка сосуда.
Попробовал ударять потихоньку, заставляя себя не смотреть, что получается. И лишь примерно через четверть часа взглянул.
Чудо! Вмятина — заметнее, хотя еще очень мелка.
Ободренный таким успехом, он продолжал работу, прерывая ее по мере усталости мускулатуры.
Иногда, забывшись, он усиливал удары и тут же спохватывался, с опаской взглядывая на свой инструмент.
К вечеру отверстие было готово.
Однако его еще нужно рагтприть, чтобы вдеть прочную рукоятку.
Но сейчас продолжать работу нельзя: темнеет, хочется отдохнуть.
Уснул.
Странным, тревожащим было пробуждение.
Он только что был в своем настоящем мире. Разговаривал с матерью. «Ты исчез неведомо куда, — говорила она ему, мы тебя ищем, не можем найти». «Но я здесь, — возражает он, — ты же говоришь со мной». «Я с тобой говорю, но тебя здесь нет, мы ищем тебя, не знаем, где ты». Он в отчаянии: они видят и слышат друг друга, а она не знает, где он, не может понять, что он рядом с ней. Он хочет ее обнять. Но она, оказывается, призрачна, нереальна. Его рука проходит через нее, как через воздух.
Не сразу осмыслил перемену. Потом понял: это называется сновидение.
Возвращение к ужасной действительности было невыносимо. Но радовала предстоящая работа.
Постепенно он расширял отверстие, вгоняя легкими ударами обуха по ножу все глубже сверло — до самого конца. Эта работа оказалась полегче предыдущей и заняла всего половину дня.
Нашел еще одну толстую ветвь. Пользуясь ножом и топором, отрубил ее более тонкий конец, это нужно было еще и потому, что ветвь была длиннее, чем ему требовалось. Продел ее в отверстие. Ну, хорошо. А что же сделать, чтобы сосуд не соскользнул с нее, когда будет опускаться в воду?
Это заставило его серьезно призадуматься. Но долго думать не мог: хотелось есть. Эти дни он питался ягодами, грибами (не без опаски, но как-то инстинктивно разбираясь в них). Сосредоточившись на работе, отвлекался от голода, но наконец голод одолел его. Остатков зайчатины на прежнем месте нет: наверное, съели какие-нибудь животные, может быть, птицы.
Оглядываясь вокруг, он заметил, что лес основательно заселен. Мог бы и раньше обратить на это внимание, да не до того было. По ветвям бегали белки, порой случайно сшибая наземь шишку. У подножия толстого соснового ствола желтела старой хвоей муравьиная куча. Мелкие зверьки близко подходили к нему. Одного он сразу опознал по колючкам, похожим на прошлогоднюю хвою: еж. Вдали быстро-быстро стучал дятел. Птицы, как и все животные, приближались к нему без всякой опаски.
Довольно крупная птица недалеко от него что-то клевала на земле, затем, почистив клюв, напилась из холодного ручья.
Вдруг она стала проявлять признаки тревоги. Подбежала к Милу, прижалась к его ноге. Мил взглянул вверх и в просвете меж ветвей увидел коршуна, который делал уже низкие круги.
Мил вторично совершил убийство. На этот раз оно далось легче — и морально, и физически: уже начала возникать привычка, а придушить дикого голубя не стоило усилий. В глазах птицы застыл ужас, затем они подернулись пленкой. Мил опять взглянул вверх. Коршуна не было: у него перехватили добычу, и он удалился восвояси.
Ощипать птицу было тоже легче, чем освежевать зайца.
Затем, пользуясь уже довольно умело ножом, Мил выпотрошил ее и приготовил как раньше зайца.
Подкрепившись, задумался далее: как же приспособить рукоятку к своей кастрюле?
Ему пришла идея.
Нужно сделать второе отверстие против первого и продеть ветку так, чтобы с обеих сторон торчали концы. За них можно будет держать кастрюлю в воде, и она не выскользнет, а дерево не проводит тепла.
До конца дня он успел проделать второе отверстие. Обработку ветки пришлось оставить на завтра.
На этот раз сновидения его были кратки и нетревожны, во всяком случае, проснувшись, он не помнил ничего. Осталось только впечатление чего-то смутного, отрывчатого.
Но встающее, еще не видное ему солнце, птичьи переливы и перестуки, кое-где, под первыми косыми лучами, розово просвечивающие на стебельках трав капли росы…
Нет, не это. Иное прогнало ночную сумятицу, отозвалось короткой радостью: ему предстоит работа.
Мил сравнительно быстро обработал ветку, продел ее сквозь оба отверстия, а что было лишнее, слишком удлинявшее концы, срезал.
И вот оно — созданное им самим приспособление. Он использует его позже, а сейчас испытывает совершенно бескорыстный восторг оттого, что сделал это сам.
Мозг и мышцы просят еще какой-нибудь работы. Какая это, оказывается, могучая, необходимая и (удивительно!) доселе незнакомая ему потребность!
В нем уже властно говорила воля к осмысленному труду, стремление вырваться из этого непонятного, нелепого плена.
Уйти! Но куда? Страшно покинуть это место, где есть по крайней мере минимально необходимое для жизни.
Надо все же пытаться…
Пошел по произвольно взятому направлению. Не прошел и трехсот метров, как увидел большое красивое животное. По телепутешествиям в заповедниках узнал лося. Зверь стоял, низко опустив голову, и что-то ел с земли. Это показалось странным: ведь лоси обычно едят зеленые ветви с деревьев, а что же за пища на земле?
Подойдя ближе, всмотревшись попристальнее, Мил увидел, что зверь не ест, а лижет край большого красноватого камня, высовывающегося из-под густого хвойного ковра.
Мил с любопытством стал следить за ним. Лось лизал долго.
Наконец поднял голову. Весь его облик выражал удовлетворение. Он увидел человека и не проявил ни малейшего удивления, подошел к Милу. Тот хотел похлопать его по спине, но не дотянулся. Похлопал по крутому боку. Ему показалось, что в больших выпуклых глазах животного выразилась благодарность за ласку. Затем лось повернулся и удалился в чащу, шурша и треща раздвигаемым и ломаемым кустарником.
Мил подошел к красноватому камню, лег наземь и лизнул его — соль! То, чего так не хватало его пище.
Однако он долго здесь задерживается. Решил на следующее утро, в самую рань пойти вдаль, искать путь к подлинной жизни.
Что ему нужно для таких поисков?
Отломил большой кусок соли и вернулся на свое прежнее место.
Завтра! Надо будет взять с собой хотя бы небольшой запас еды и питья, да вот и эта соль, конечно, понадобится.
Как долго придется путешествовать? Об этом и приблизительно невозможно судить. На длительное время не напасешься. Но могут же и дальше найтись еда и питье. Без риска ничего не добьешься. Стал готовиться в путь. Сборы, казалось бы, несложны. Поймал трех непуганых птиц, как раньше ловил, ощипал, выпотрошил. Теперь уже можно по-настоящему варить пищу.
Сварил мясо, положив в сосуд несколько кусочков соляного камня. Недосолил, боясь пересолить. Все же пища получилась несравненно вкуснее прежнего — подсоленная и горячая (так что пришлось дать ей немного остыть) и более мягкая. В сосуде осталось немного насыщенного отвара, и Мил с удовольствием выпил его.
Оставшиеся куски мяса еще присолил: вспомнил, что соль предохраняет от порчи. Но надо их во что-то завернуть. Во что же?
Оказывается, не так просто собраться в путь. Это и огорчило, и в то же время наполнило веселым предчувствием новой деятельности.
Солнце приблизилось к зениту. Веял прохладный ветерок, но день был теплым, как и предыдущие, кроме самого первого.
Мил положил мясо в тень толстого ствола. Но не стащат ли его, как тогда зайчатину?
С опаской бродил вокруг да около, оглядываясь на свой запас, насколько видно было за кустами. В конце концов набрел на высокую траву с очень широкими листьями. Некоторые листья были продырявлены слизняками, уцепившимися за их изнанку. Набрал целых листьев, вернулся к своему запасу, завернул в них мясо.
Но теперь хорошо бы перевязать эти листья.
Чем же?
Тут ему опять довелось испытать радость открытия. Взяв один из широких листьев, вырвал мякоть и попробовал прожилки на разрыв. Они оказались очень прочными. Годятся!
Но слишком коротки.
Подумав, стал связывать их, затягивая на концах крепкими узлами. Сначала не получалось, потом пошло на лад. Времени было потрачено немало, но зато получилась довольно длинная и прочная, хотя очень тонкая связка наподобие веревки. Бремя он определял приблизительно, разумеется, по солнцу.
На веревку пошло несколько десятков листьев.
Что еще нужно в дорогу?
Подумал о воде, но тут же отбросил эту мысль: сколько возьмешь ее в сосуд с такими невысокими краями? И свяжет такая ноша: нести осторожно, чтобы не расплескать. Придется рискнуть. Да и риск невелик: лес населен животными. А не могут же они жить без воды.
Но сосуд взять с собой надо.
Сходил на то место, где выломал кусок соли. Разгреб хвою, обнаружил несколько красных, с оранжевыми просверками соляных камней, сложенных из крепких, часто неправильных параллелепипедных кристаллов. Отбил топором еще несколько кусков.
Ну, а теперь надо подумать, во что же положить все, чтобы удобнее было нести.
Тут пришлось крепко призадуматься. Положить все, включая пищевой запас, в сосуд, перекрыть сверху широкими листьями, перевязать накрест веревками?
Примерился.
Слишком низки края сосуда. Все не помещается. Ручка молотка высовывается. Это, положим, не беда. Ну, а дальше?
Наполнив сосуд вещами, держать его в вертикальном положении за торчащие с двух сторон рукоятки обеими руками? Но идти, имея обе руки занятыми, очень неудобно.
Вот какой сложной проблемой оборачиваются самые, ка залось бы, пустяковые детали.
Но все это не обескураживало Мила.
С первого дня своего дикого, страшного приключения он страдал оттого, что не делал телесных упражнений и не мылся. Но это страдание было не полностью осознанным — столь необходимые и привычные потребности отодвигались, заслонялись нагрянувшим на него и ошеломившим его бедствием и связанными с этим заботами. Теперь наконец он полностью осознал такие столь необходимые для него потребности и впервые за все эти дни, раздевшись, выполнил простейшие упражнения.
А вымыться наконец?
Ну, что же! Горячая вода есть, и холодная. Освободив пока сосуд, окунул в горячую и набрал половину его. Опустил в ручей сосуд с кипятком и набрал холодной. Взболтал. Получилась теплая. Мало ее, правда. Несколько раз придется набирать. И экономно придется мыться.
Широкие травяные листья послужили вместо мочалки. Насухо потом растерся ладонями.
С аппетитом поел. Еда доставила удовлетворение, но не удовольствие. Однообразна, невкусна. И ужасно, что убоина уже почти не вызывает отвращения. Вспомнил, в ручье заметил довольно крупных рыб. Вот бы их употребить в еду — когда-то ели. Не так однообразно было бы.
А запас-то еды кончился. Как он наивен был, полагая, что уже обеспечил себе первые дни дороги. А еще не трогался с места.
Увязал вещи. Это с непривычки тоже было непросто, да и не такие уж удобные веревки.
Вот теперь уж, кажется, готов в дорогу.
Опять вспомнил о рыбах. Снял обувь, подкатал одежду, вошел в воду. Она охватила внезапным острым, но приятным холодком. Донный песок мягок, как ковер.
Но с рыбами ничего не получилось. Они ускользали из-под рук. Сделать какое-нибудь приспособление для ловли?
Когда-то были сети. Были более простые: удочки, крючки.
Да, он смог бы это сделать, теперь уж уверен в себе.
Но это еще затянет пребывание здесь. И так прошло уж немыслимо много времени! (Такими кажутся ему эти несколько дней.) Нет, пора, пора идти!
Тут прямо на него спокойно вышел маленький, видно еще молодой, заяц. Когда-то трудно было представить себе сайда не бегающим стремительно. Не спеша, он смешно ковылял; задние ноги заметно длиннее передних.
Что же, надо его убить. Иначе не выживешь.
Мил подошел к зайцу. Тот спокойно стоял. Руки Мила сошлись на его шее привычным уже движением. Но произошло неожиданное: заяц дернулся, рука скользнула. Животное почувствовало, что человек — враг. Заяц вырвался и ускакал, исчез в чаще.
Мил стал бродить взад и вперед и скоро опять увидел зайца. Животное, приметив его, в диком ужасе унеслось. Тот ли самый заяц или другой? Может быть, они как-то передают информацию друг другу?
Нашел, задушил и приготовил двух кроликов. На сегодня и в дорогу.
В каком направлении идти? Сколько километров ему предстоит пройти?
Кто знает?
Остаток дня прошел в размышлениях, а ночь в сумбурной путанице разорванных сновидений, перемежаемых периодами суматошной бессонницы. И все же утром почувствовал себя бодрым, возбужденным: наконец — в путь!
Взял свое имущество, бросил прощальный взгляд на приютившую его полянку, на ручей, на горячий ключ, на тот, в небольшом отдалении холмик, где нашел приспособления первобытных людей, а недалеко от него — соль.
И пошел.
Оглянулся. Обжитый уголок уже исчез в чаще.
Шел быстрым спортивным шагом, стараясь держать взятое наугад прямое направление. Удастся ли? Вспомнил, как здесь же заблудился и пришел на прежнее место. Может, так и лучше бы? Тут же побранил себя за минутную слабость.
Быстро идти пришлось недолго. Запнулся за толстый поверхностный корень и растянулся на мягкой траве. Зазвенел уроненный сосуд. Но содержимое не высыпалось: узел крепко затянут. Поднялся, поднял свое добро и пошел медленнее, тем более что мешала теснота деревьев, переплетения длинных ветвей, колючки. Кое-где приходилось делать обходы, это было неприятно, грозило потерей направления.
Все же идти было весело: он стремился к какой-то цели, правда, очень неясной. И птицы пели, щебетали, попискивали, и земляника алела на холмиках, и стволы сосен отсвечивали на пробивавшихся лучах солнца и смолисто пахли.
И невесело тоже было: теперь он не сосредоточен на работе, и тоска одиночества вновь начала глодать.
На пути попалось болото. Одна нога завязла, вытащил с трудом. Сообразил, что надо стараться ступать на травянистые кочки.
Наконец добрался до края болота и присел отдохнуть на низеньком холмике под чахлым деревом; деревья здесь были тонкие, слабые. Почувствовал голод и жажду. Запас пищи еще не кончился. Воду зачерпнул своим сосудом из болотного бочажка. Она была невкусная, отдавала ржавчиной. Спасибо и за такую.
Но на дальнейший путь надо еще запастись пищей, неизвестно, сколько придется идти.
Стал оглядываться. Мелкие животные и птицы что-то не попадаются.
А уклониться в сторону рискованно: пожалуй, еще потеряешь направление, хотя, правда, и взятое наугад.
Пришлось собирать ягоды, коренья. От грибов отказался, очень уж невкусны.
В общем день прошел без приключений. Маленький холмик послужил изголовьем на ночь. Утром поел нехитрой пищи.
Желудок как будто наполнен, а под ложечкой сосет: ни голоден, ни сыт. Но бодро двинулся дальше.
Препятствие! Река!
Попробовал пойти вверх по течению. Куда там! Верховье, видно, далеко.
Вброд попробовать?
Разулся. Подкатил одежду выше колен. Вошел в воду. Сразу показалась холодной. Нет, ничего. И тут же охватило настойчивое желание выкупаться. На кромке берега, почти свободной от деревьев, пригревало солнце. Разделся догола. Уселся по горло у самого берега. Рыбки брызнули во все стороны. Хорошо, мягкий песочек на дне. Еще лучше бы поплавать. Но нет, не надо слишком задерживаться.
Вышел на берег, поежился. Растерся широкими травяными листьями. Побегал на коротком расстоянии взад и вперед, поворачиваясь к солнцу спиной, грудью, боками. Освеженный купанием, попытался перейти реку, одевшись и не обуваясь.
Обувь прикрепил гибкими тугими ветвями к своим уже увязанным вещам.
Но с бродом у этой неширокой реки оказалось не так-то просто. Попробовал в нескольких местах, и вода доходила до горла, а дальше еще глубже. Уходить же в сторону не хотелось, тем более что на небольшом расстоянии река, оказалось, делает два крутых изгиба. Значит, переплыть? Было бы совсем не трудно, если б не одежда и вещи. Хотя бы одну руку надо оставить свободной.
Надо связать вещи и одежду в один узел. Это потребовало много труда и времени: конец текущего дня и весь следующий. Надо было достать и нарезать довольно много длинных крепких ветвей. Они не на всех деревьях. Отыскать подходящие деревья нужно было невдалеке от этого места — тем задача осложнялась. Все же отыскал. С помощью ножа и топора нарезал достаточно. Еще труднее и дольше было увязать все как следует; если во время плавания развяжется — не догонишь, верно. На стрежне речка очень быстра, мутное течение несет листья, прутья, стебли, завихряясь над невидимыми подводными камнями.
Лишь на третий день утром Мил был готов плыть.
Одной рукой подняв высоко над головой громоздкий узел, он правил другой, и это было нелегко. Но переплыл. Только обе руки так устали и затекли, что пришлось их долго растирать, массировать.
Оделся. Все-таки как приятно после воды! Если бы еще не это сосущее ощущение под ложечкой. Оно не позволяет идти тем энергичным шагом, каким начал. Но идти надо же.
Большая птица стояла на его пути, опустив голову, что-то клевала на земле. Птицу не смутило его приближение. Он схватил ее. Она сопротивлялась. Пытался задушить. С неожиданной силой она вырвалась и улетела, тревожно крича.
Второй раз дичь вырывается от него.
Почувствовал под ногой маленькое возвышение. Вроде кочки на том болоте. Но здесь сухо.
Нагнулся. Да это гнездо! Оно лежит прямо на земле, чутьчуть закрытое низенькими кустами. Но если б не нагнулся, ни за что бы не обнаружил: цветом оно полностью сливается с кустами. Неудивительно: из их же веток свито, да так ловко, что и формой не выделяется из кустарника.
А что в гнезде?
Но тут что-то сильно ударило в плечо. И тревожный крик!
Та птица вернулась, бьет его крыльями и клювом.
Стал разворашивать гнездо. Птица закричала опять, надрывно, гневно. Ничуть не боясь, норовила клюнуть в глаза.
Отбиваясь, стал развязывать свой узел. Развязать-то не трудно, а сколько труда затрачено на скрепление! Но надо же отбиться.
Все положил наземь, вынул нож, коротким ударом перебил крыло птицы. Она упала, закричала, теперь жалобно. И всетаки пыталась подползти ближе к гнезду.
На этот раз у него был обильный, хотя и невкусный обед.
Сырое птичье мясо, сдобренное солью. И три яйца из гнезда, тоже сырых и с солью. Яйца все же вкуснее мяса.
Странно: то, было, он уже привык, вернее притерпелся к убийству, а тут стал себе еще противнее, чем после первого раза.
Однако сытый желудок невольно противоречит сознанию: укрепил организм, придал силы.
Нелегко было снова увязать вещи, но все же легче, чем в первый раз.
Пошел бодро, энергично.
Внезапно споткнувшись, упал лицом вперед и тотчас же ощутил острую боль в колене. Сгоряча попытался встать, но боль стала такой резкой, невыносимой, что он испустил короткий громкий крик, безответно прозвучавший в лесу. Но не лежать же здесь! Подтянулся вперед, уцепившись обеими руками за выступавший из земли корень. Согнул здоровое колено. Попробовал опереться на него. Но каждое движение, так или иначе включавшее поворот ушибленной ноги, заставляло стонать от боли. Скосив в ту сторону глаза, увидел такой же упругий змеистый корень, еще больше выступавший над землей. Очевидно, о него и споткнулся.
Неужели перелом?
В покое нога не болит. Однако чуть малейшее движение…
Узел с вещами сильно мешал в таком неудобном положении. Пришлось опять отвязать его и положить рядом.
Какое нелепое, беспомощное состояние!
Преодолеть боль, подняться. Но ведь идти он не сможет.
В такой невольной неподвижности пролежал весь день.
Ночь почти не спал: тревожила мысль, как же быть дальше?
Рассвет, солнце, щебет наполнили бодростью. Боль? Пока лежал, она молчала. Двинулся — остро резнула. Так что же!
Надо преодолеть.
Попробовал.
Нет, невозможно!
Что делать?
Так он лежал, прикованный к земле не ощущаемой, но подстерегающей, готовой мгновенно разразиться болью.
Непроизвольное легкое движение. Отчаянная боль! Идти невозможно.
Эта мука одиночества! Никто его не слышит, никто не знает, что с ним, некому помочь!
Отвлекли голод и жажда. В первую очередь — жажда.
Страшась малейшего движения, стал дотягиваться руками до листьев травы, слизывать обильную росу. Спешил: не то солнце раньше выпьет.
Потом жевал сочные листья. Жевал и выплевывал мякоть.
Кажется, жажда утолена. По крайней мере частично. Тем сильнее почувствовался голод.
Тут ему повезло. Птицы подходили к нему, садились на него. Он выбрал более крупную. На этот раз был крайне осторожен: если ускользнет, плохо будет.
Удалось. Не двигаясь с места ощипал, выпотрошил. Так невкусно, неаппетитно — и в то же время непроходящее ощущение голода. Другие птицы сперва с любопытством смотрели, не понимая, что происходит. Потом в ужасе разлетелись, тревожно хлопая крыльями.
Раньше он считал свое положение ужасным. А теперь оно, оказывается, много хуже.
На третий день лежания ему показалось, что нога при движении болит меньше. Еще через день с трудом сел, это было уже большое достижение. Осторожно подтянул ногу, стал ощупывать и осматривать колено. Преодолевая боль (теперь это было легче), попробовал сгибать. Нет, невозможно. Но похоже перелома нет. Громадный сине-багровый кровоподтек, значит, внутреннее кровоизлияние. И вероятно, ушиб надкостницы. Остатки птицы доел мелкими кусочками.
На шестой день, увязав свби вещи, он двинулся дальше, хромая и садясь отдохнуть, когда становилось невмоготу. Все же это было движение вперед, хотя и очень замедленное.
А сколько вообще придется идти?
Не думать об этом! Взять себя в руки! Идти!
Это мы считаем сутки, а Мил уже начал терять счет. Да и к чему? И они стали сливаться в неопределенное целое. Уже возник какой-то новый быт в его неведомо куда направленном походе, на очень низком уровне быт. Ходьба, отдых, сон. Охота, собирание ягод, кореньев, листьев. Он уж как-то наловчился в этом, хотя не без опаски, как бы не напасть на ядовитые.
И наверно, все-таки напал: раза два случилось сильное расстройство желудка, боли, рвота. Пришлось делать длительные остановки. С водой было легче, часто попадались ручейки, маленькие озерца. В них он порой и умывался.
Отстал от упражнений: мешала больная нога, а потом стал беречь силы для ходьбы, здесь ведь ничего нет против усталости. Ужасно и то, что невозможно менять одежду белье Ъоль в ноге постепенно ослабевала и наконец стала чувствоваться только при сильном надавливании или при переутомлении. Продвижение ускорилось.
Вдруг он остановился, пораженный.
Странное существо стояло шагах в двадцати от него Немного оно походило на человека, хотя рост заметно превышал обычный человеческий. Но не в этом была его поражающая необыкновенность.
А в чем же?
Подошел поближе.
Нет, это совсем не человек!
Существо было розоватого цвета, и трудно было понять — голое оно или это одежда на нем такая: голова очень велика непропорционально даже к крупной фигуре. Череп безволосый, шарообразный. Телескопические глаза на выдвинутых держалках. Шесть рук, непомерно длинных, с тремя пальцами на каждой, А ноги — нормальные, человеческие.
В общем можно было подумать, что существо скомпоновано из элементов человека, глубоководной рыбы и статуи Будды, что ли. Но Мил не подумал: не до того ему было.
Он сделал несколько шагов по направлению к странному существу-и отшатнулся: оно повернуло голову и уставилось на него вдруг засветившимися зрачками выпуклых глаз. Так стояли они довольно долго, разглядывая друг друга. Затем Мил, расхрабрившись, подошел еще ближе. Существо все глядело на него блестящим, неподвижным, мертвенным взором, не то безучастным, не то пристально-внимательным.
Мил подошел вплотную, инстинктивно отклоняясь от всех длинных вытянутых рук чудовища. Но оно не шевелило ими И ногами тоже. И тупой, мертвенный, хотя и яркий взгляд не менялся.
Мил притронулся к чудовищу с опаской. Но оно никак не реагировало на прикосновение. И, осязая его, Мил ощутил под рукой твердую, упругую пластмассу, а вовсе не живое тело.
Он зашел сзади, и тотчас же голова чудища повернулась, видно, на шарнирах, неотступно глядя на него блестящими телескопическими глазами. Однако туловище его оставалось неподвижным.
Итак, это отнюдь не живое существо, а имитация его. Глаза же снабжены фотоэлементом.
Так что же это — робот? Но зачем ему придана внешность живого существа, как делалось во времена первоначального увлечения роботами? Тот обычай давно ведь оставлен.
Однако робот должен иметь какое-то назначение, что-то делать. А здесь он, видимо, только следит за появлением живых существ, пристально глядит на них, и только? В общем что-то вроде чучела, какие в давние времена ставили на огородах. Но чучела хоть руками от ветра взмахивали, а это только голову поворачивает.
Так в чем же дело?
Может быть, это какой-то памятный знак, нечто вроде монумента какому-нибудь человеку или событию? Но почему он имеет такой странный вид?
Пошел дальше. Пройдя немного, оглянулся. Фигура частично была уже скрыта переплетением ветвей, но продолжала следить за ним выпуклыми сияющими глазами. Вдруг глаза потускнели: фотоэлемент перестал реагировать на отдалившегося.
На который-то день ходьбы, в самый разгар яркого и теплого полудня вдруг все резко изменилось. В чем дело? Да, стало заметно холоднее, подул знобящий ветер, зашумели, качаясь, вершины деревьев, умолкли, исчезли птицы. Подняв голову, увидел вместо чистой лазури в просветах листвы густую, почти черную тяжелую тучу.
Собиралась гроза.
Живо представил себе что произойдет: хлынут мощные потоки. Стоять или сидеть под их хлещущими ударами — совсем небольшое удовольствие. А потом, пока еще стекут ручьи, пока почва впитает влагу!
Когда же начнется гроза? Может быть, и через час (в лучшем случае), а может быть, и через минуты. Тогда он, конечно, ничего предпринять не успеет. «И все же, — сказал самому себе, — ждать пассивно не буду. Надо бороться в самых безвыходных обстоятельствах». Это было необычайно ново для него, но удивляться себе ему было некогда.
С поразительной быстротой и таким же хладнокровием огляделся. Заметил вблизи сравнительно невысокий открытый пригорок, усыпанный цветками и ягодами земляники. С сожалением подумал, что скоро ливневые струи все это собьют и снесут.
Но думать некогда. Быстро подошел к пригорку, снял и положил рядом мешающий груз. Достал нож и топор, снял дерновый верх с широкого куска поверхности пригорка у его основания. Затем стал рыть лаз во внутренность холма. Действовал попеременно ножом и топором: и тот и другой одинаково неудобны для этой работы, так хоть пусть неудобно будет по-разному — не столь утомительно.
Работал не торопясь: все равно гроза может прорваться в любую секунду.
Потом вообще позабыл о грозе: просто и неосознанно увлекла работа.
Часа через два почувствовал усталость и присел. Огляделся, посмотрел наверх. Грозы еще не было. Однако и не прояснялось. Та же угрюмая сырая тяжесть висела над ним, над лесом.
И непонятно, когда она разрядится.
Скудно поел: маленький остаток последней охоты дополнил свежей земляникой, это почти утолило жажду. Ну, воды скоро будет вдоволь!
Отдохнув, опять взялся за работу, чередуя ее с отдыхом.
К наступлению темноты решил, что достаточно углубился в холм. Землю он выбрасывал, выносил и клал у входа в получавшуюся нору, так что образовалась довольно внушительная куча. Из нее он решил сделать заграждение, чтобы вода не прорывалась в нору. Но это уж придется отложить до утра: темно, да и сил больше не хватит. И все же даже усталость стала приятна, хотя мышцы рук изрядно болели. Зато как радостно видеть дело этих рук!
А если гроза ночью? Но ведь нельзя ее предотвратить, так что и думать об этом не стоит.
А гроза все висит и не разражается. Предгрозовой тяжестью и тревогой полон влажный воздух. Ветер, очевидно, утих давно (а Мил этого и не заметил). Но ни одна звездочка не проглядывала сквозь небесную черноту.
Сон был крепок и, показалось, мгновенен. Но когда открыл глаза — был уже день. Только мрачный, хмурый, тяжкий. Все то же, ничто не изменилось, та же грузная туча, до предела насыщенная влагой, в любой момент готовая пролиться сокрушающим ливнем. Но уже что-то привычное было в этом, хотя и неизвестно, когда же наконец разрешится тягостное ожидание. И что-то даже приятное ждет. Что бы это здесь могло быть? Ах, да: работа!
Однако не надо иллюзий; если будет очень мощный ливень (а каким он может быть иным, коль так долго копится, нарастает), то вся работа может оказаться бесполезной: все размоет, разнесет, затопит. Вот если бы крепление, как некогда в шахтах.
Но Мил сознавал, что с его ничтожными техническими средствами это немыслимо. И все же продолжал трудиться.
Радовал сам процесс работы и еще то, что он до чего-то додумался: горизонтальная нора — все же какая-то защита, лучше, чем никакая, хотя бы на первых порах.
Радость труда, но рядом тоска. И она все усиливается.
И вдруг туча стала стремительно таять, исчезать. Сверкнула синева…
Ему показалось, кто-то стоит рядом. Какое-то животное?
Быстро обернулся. Два человека, улыбаясь, смотрели на него.
Но не успел удивиться, потерял сознание.
Теперь Мил живет нормальной жизнью, работает.
Решение произвести над ним мучительный эксперимент было принято в глубокой тайне, и впоследствии не были опубликованы происходившие при этом споры, чтобы излишне не травмировать Мила.
А споры были острые. Не все соглашались сразу с допустимостью подвергнуть человека таким переживаниям. «Ну, а что же делать? — возражали инициаторы эксперимента, — оставить человека в таком состоянии?» Никто, конечно, не сомневался, что болезнь Мила — самая страшная, какая могла постигнуть человека. И никто до того вообще не думал, что она возможна.
Заранее было ясно, что, перенесенный в такие неожиданные условия, Мил должен будет выходить из мучительных затруднений и, вполне возможно, — с опасностью для жизни. Но возвратить человека к первобытной дикости, заставить убивать!
Да и не было все же полной уверенности, что он решится на это. А если не решится, то сможет ли выжить?
«Мы идем и на этот риск, — говорили инициаторы эксперимента. — Лучше гибель, чем жить с такой страшной болезнью».
Об эксперименте предупредили только близких Мила. Они не возражали.
И все-таки связь с Милом была. Только односторонняя и такая, о которой он не догадывался. Датчики в его костюме сообщали о многом: о его физическом состоянии, настроении.
Все, что он делал, что с ним происходило, было видно и тут же фиксировалось на пленке.
Кое в чем ему смягчили обстановку: поместили в таком месте заповедника, где была холодная и горячая вода. Подделали становище якобы древних насельников. Подделка была до крайности грубой, были смешаны орудия различных археологических эпох. При нормальных условиях это сразу бросилось бы в глаза. Но рассчитали правильно: ошеломленный, резко и грубо выхваченный из привычной обстановки, Мил не подумает об этом, а просто обрадуется спасительной находке.
На конечном этапе заранее намеченного пути Мила поставили странного робота с вмонтированными датчиками, чтобы можно было проследить точнее за его самочувствием перед завершением томительного приключения.
Для последнего испытания организовали длительно неразражающуюся грозу над площадью в один квадратный километр.
За все время эксперимента за Милом внимательно следили.
Какой болью в душе наблюдателей отдался его болезненный крик, когда он расшибся! И какую выдержку им пришлось проявить, чтобы довести эксперимент до конца!