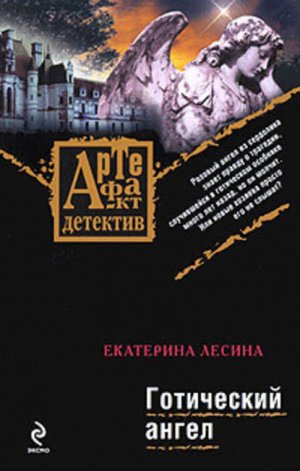
* * *
За окошком темно, но шторы задвинуты неплотно, и ночь заглядывает в комнату узкой полоской любопытного лунного света, белого, разве что самую малость отливающего серебром, как Муркина шерсть. И хочется дотянуться, погладить – а вдруг и свет, свернувшись в ладонях теплым клубком, замурлычет по-кошачьи.
– Спи, – мадемуазель Вероника пригрозила пальцем.
– А сказка?
– Взрослый ты уже сказки слушать. – Низко наклонясь, она поправляет одеяло. От нее пахнет мылом и молоком с медом, которое Вероника приносит, чтобы ему лучше спалось. Молоко Савелий не любит, но пьет, чтобы не огорчать Веронику. Она хорошая, и зря матушка говорит, что он уже слишком большой, что пора гувернера нанимать. Думать об этом страшно: а ну как и вправду наймут, а Веронику рассчитают. Что тогда?
– Но сегодня, пожалуй, можно. – Вероника садится прямо на полосу лунного света. И волосы, и лицо ее тоже становятся белыми-белыми. – Закрывай глаза. Давным-давно, в Англии, а может, во Франции или даже в Испании жил рыцарь.
– Как его звали?
Она на мгновенье задумалась:
– Ну… например, Анри.
– Тогда во Франции.
– Пускай, – соглашается Вероника. – Он был славным рыцарем, храбрым и благородным, он сражался и побеждал, но даже враги уважали его за достоинство и честность.
– Как Ричарда Львиное Сердце?
– Да. А потом однажды рыцарь влюбился… – Голос Вероники чуть дрогнул, и Савелий открыл глаза. Да и неинтересно так лежать, с закрытыми.
– Она была красивой? Как вы?
Мадемуазель Вероника улыбнулась.
– Она была очень красивой и очень гордой, как и положено красавице. Ее благосклонности… ее руки, – тут же поправилась Вероника, – добивались самые знатные люди королевства.
– И сам король?
– Возможно, что и король. Спи, закрывай глаза.
От одеяла пахнет пылью, от подушки тоже, и хочется чихнуть, но нельзя, а то Вероника решит, что он снова заболел, а значит, и обещанный поход в парк заменится пустым лежанием в постели.
– Но так случилось, что сердце свое красавица отдала другому. Рыцарь страдал, но изменить решение возлюбленной не мог и, чтобы хоть как-то унять душевную боль, отправился в странствие.
Странствия – это дорога, как в парке, широкая, вымощенная круглым булыжником, кирпично-красным, изъеденным щербинками и вылизанным солнечными лучами до блеска. Конские подковы выбивают из булыжника искры, которые тут же гаснут, колеса карет перескакивают с камня на камень, стучат, уносят на ободе желтые осенние листья, сапоги ступают мягко, а собачьи лапы еще мягче… У матушки болонка Лизетт, Вероника иногда берет ее с собой.
Лизетт не любит дорогу.
Моргнув, Савелий прогнал навалившийся сон, ненадолго, ровно настолько, чтобы дослушать сказку.
– Однажды он встретил цыганку, старую горбатую карлицу, которая раскладывала карты и рассказывала людям о том, что было и что будет. Увидев, как горит от боли и любви душа рыцаря, она предложила ему помощь.
Цыгане у Федор Федоровича, целый табор, они яркие, шумные и красивые, особенно Марко, который учил Савелия плясать, но матушка разгневалась…
– Она вынула сердце рыцаря из груди и превратила его в кусок сердолика. – Вероникин голос будто в тумане, просачивается сквозь призрачные фигуры цыган, скользит по дороге белой полосой лунного света. – А ювелир вырезал из камня ангела, которого отправили в подарок красавице.
В подарок? Зачем? Непонятная сегодня сказка.
– Потому что рыцарь очень-очень хотел быть рядом с нею, защищать и оберегать… – Вероникина рука гладит волосы, подтягивает, поправляет душное одеяло. – Вот такая вот любовь, когда себя даришь, ничего не требуя взамен. Только тебе пока не понять, маленький мой мальчик. И ты заснул…
Он не заснул. И не маленький он совсем. И понял все, ну или почти все, просто сказать не может. Туман густой, розовый и ласковый, баюкает, нашептывает что-то, слабым эхом вдалеке стучат, сталкиваясь с камнем, конские подковы.
А на следующее утро оказалось, что мадемуазель Вероника уехала, вот просто взяла и уехала, некрасиво, тайно, даже не попрощавшись. И в парк пошли с матушкой, но парка не хотелось, смотреть на дорогу было неинтересно, камни точно поблекли, листья прилипли к ним грязными тряпочками, а Лизетт норовила вывернуться из матушкиных рук и злилась, рычала на Савелия.
Вероника уехала. Она не захотела остаться рядом с ним, значит… значит, не любила?
Наверное.
– Это месье Верден, – представила матушка высокого худощавого человека в черном костюме, человек был похож на ворону и глядел недобро. – Он будет учить тебя.
Месье Верден коротко кивнул.
Тем же вечером Савелий решил, что если он когда-нибудь… когда-нибудь потом, далеко в будущем, полюбит, то никогда-никогда не бросит. Потому что нельзя бросать того, кого любишь… нельзя.
Нечестно это.
Спустя 32 года
Ижицын С.Д. Дневник
Отчего-то мне представлялось, что особняк будет иным, не столь мрачным, однако перестраивать что-либо нет ни сил, ни желания. Я устал. Я ищу тишины и покоя, вне людей с их завистливостью и непонятным стремлением очернять всех и все. Быть может, и не столь плохо, что дом такой, это поспособствует созданию репутации человека чудаковатого и нелюдимого.
Пожалуй, осталось лишь прислугу нанять, что и сделаю тут же, в городе, переслать с обозом кое-что из мебели, а там и самим переезжать. Немного волнуюсь, как Машенька перенесет дорогу, и Уля нервничает, видимо, опасается, что в Петербурге оставлю, и никакие мои уверения в том, что разлучать ее с Машенькой не стану, не приносят ей успокоения. Вот же удивительное создание, одна из тех редких людей, что не внушают мне омерзения.
Ульяну мне продали цыгане. Не помню уж, как попал в табор, не помню, как сговаривался, и с чего вообще в голову взбрела мысль карлицу приобресть, но отдал за нее перстень с изумрудом. И ни дня, ни минуты не жалел, особенно когда с Машенькой беда случилась.
Дворня поговаривала, что Ульяна и навела порчу. Глупость, рожденная невежеством и страхом. Машенька же, когда была здорова, Улю любила, верно, за готовность поддержать любое начинанье – будь то прогулка в парке, вышивание или гаданье на картах – совершенно лишенное смысла, потому как объяснить хоть что-то Уля не могла. В иное время я удивлялся, как это два столь разительно несхожих человека стали близки друг другу, и Улина немота не стала помехою, Маша понимала и без слов.
А потом все переменилось.
Была ли Ульяна, купленная у цыган карлица, дитя, изуродованное с тем, чтобы развлекать прочих своим уродством, виновна в Машиной болезни? Я не верю в ведьм и проклятья, и в докторов уже не верю, и в людей вообще с их способностью извращать правду… Я устал и от них, и от этого города, где слухов и лжи больше, чем камней в мостовых, и решил уехать отсюда. Еще не знаю куда, но надеюсь лишь, что там меня оставят в покое и люди, и их домыслы.
Уля поедет со мной. И Машенька тоже, ни о каком приюте и речи быть не может, она – моя супруга перед Богом и людьми. Я не брошу ее… никогда не брошу.
Василиса
«Готика, готика, чертова эротика… бело-черная, черно-красная, вызывающее сочетание. Лезвием по венам, сначала ласково, нежно, чуть касаясь кожи, потом сильнее. Не бойся, я не причиню тебе вреда, я помогу. Я отпущу твою боль, смотри, вот она, тягучая, густая, сползает вниз по руке, скапливается в сгибе локтя и срывается вниз. Капля за каплей.
Боли не будет.
Ничего не будет. Просто поверь, закрой глаза».
– Ну и что вы скажете? – поинтересовалась Ольга Викторовна. – Что мне с этим делать?
– Как мне кажется, вы несколько преувеличиваете, – листок в моей руке был… был всего лишь обыкновенной распечаткой, черно-белой, местами нечеткой – похоже, не мешало бы заменить картридж.
– Преувеличиваю? – переспросила Ольга Викторовна. – Я преувеличиваю?!
Ее голос легко набирал обороты, готовясь сорваться в самый пошлый крик. Ненавижу, когда кричат, а уж на меня – тем более.
– Вы это читали? Читали? – Она положила локти на стол, рукава чуть поползли вниз, обнажая рыхлые белые запястья, левое перетянуто золотой цепочкой часиков, на правом красными камушками поблескивает браслет. Тоже золотой, Ольга Викторовна подделок не носит.
– Нет, ну что вы молчите? – Она выхватила лист и потрясла у меня перед носом. – Вы ведь это читали?
– Читала.
– Вот! И это я нашла в Милочкиной сумочке! В сумочке моей бедной девочки!
– И что? – Я сдержала готовое возражение, что бедной Милочка не была, скорее уж избалованной сверх меры. – Возможно, она сама это и написала. Подписи-то нету.
– Милочка?! Да как вы смеете! Вы… я изначально была против! Я говорила Левушке, что ни к чему этот ваш кружок, что если Милочка хочет учиться живописи, то можно нанять преподавателя! Профессионала! – Голос Ольги Викторовны метался по кабинету, заполоняя те жалкие остатки свободного пространства, которые не удалось занять самой Ольге Викторовне. Пространства было мало, Милочкиной мамы, наоборот, много, а я здесь так, предмет обстановки.
К примеру, стул: серая обивка, высокая, чуть покосившаяся спинка и черные ножки. Или стол, широкий, устойчивый, исцарапанный в левом углу и с розовым комочком окаменевшей жевательной резинки на дне нижнего ящика. Или вот еще шкаф с полочками, на них книги и альбомы, мамина фотография. И Колина тоже, нужно выбросить… вчера же собиралась, и позавчера тоже.
Готика-готика, чертова эротика… а ведь и вправду эротика, особенно если в черно-белом ракурсе. Черно-красный – пошло и агрессивно, но вот же мягкие линии графики, или четкость гравюр, или двусмысленная плавность меццо-тинто, или полупризрачная дымка лависа.[1]
– Вы меня слушаете? – вдруг совершенно спокойно спросила Ольга Викторовна, и я очнулась. Стыдно, отвлеклась, увлеклась… бывает.
– Да, да, конечно.
Она подалась ко мне, и бесцветно-белые волосы на мгновенье нарушили гармонию сложной прически, но тут же вернулись на заданные дорогим стилистом позиции. Качнулись серьги, почти коснувшись щек, и массивный бюст, обрамленный кружевом, оказался в неприятной близости ко мне, вместе с золотым кулончиком, до сего момента спокойно возлежавшим на постаменте розовой плоти.
– Итак, Василиса Васильевна, вы, надеюсь, понимаете, что после данного инцидента Милочка не сможет посещать занятия. – От Ольги Викторовны пахло духами и мятой, и еще лаком для волос. – И я настоятельно рекомендую вам… даже требую уделить нашему вопросу повышенное внимание!
Я кивнула. Я не могла отвести взгляд от морщинок у основания шеи, и упругого холмика второго подбородка, и тонких волосков над губой, тщательно запудренных, но оттого лишь более заметных.
– И я вас предупреждаю: если Милочку еще раз потревожат с этим, я обращусь в милицию! В прокуратуру! В отдел образования! Я добьюсь, чтоб вашу шарашкину контору наконец разогнали!
– Я разберусь. Я непременно разберусь, – пообещала я.
Глупое обещание, ни в чем я не разобралась, да и пытаться не стала, в той бумажке и вправду не было ничего преступного, более того, понятия не имею, отчего Ольга Викторовна пришла с письмом ко мне.
После ухода Милочкиной мамы я открыла окно и долго проветривала кабинет, пусть снаружи холодно. Октябрь и привычная по осени сырость доедают остатки красок, но это лучше, чем шлейф духов.
Готика, готика, чертова эротика…
Вот же привязалось. Но кто мог написать идиотское письмо? Кто угодно, народу в кружке не так чтобы много, человек пять постоянных, еще столько же наведываются время от времени, и каждый – неординарная личность.
– Королева психов! – сказала как-то Динка. И мы поругались. Восемь лет уже вместе, а поругались впервые. Спустя неделю помирились, Динка приволокла бутылку «Мартини» и пластмассовую корону с подсветкой.
– Чем тебе не королевский венец?
Динка вообще любила слово «королевский», и еще «сказочный». К примеру, словосочетание «сказочная дура» использовала довольно часто.
Сказочная дура – это я, Василиса Васильевна Вятшина – «в» в кубе, ноль в итоге. Двадцать восемь лет, высшее образование, не замужем, детей нет, приводов в милицию тоже. Кажется, все.
– Вась, ты тут? Маринуешься? – Динка, как всегда, объявилась без предупреждения и вошла без стука. Динка-Льдинка – платиновая блондинка, метр восемьдесят плюс каблуки пятнадцать сэмэ, голубые глаза, смуглая кожа – воплощенная мечта.
Правда, дьявольски дорогая.
От этой мысли стало очень стыдно. Снова завидую, только уже не золотым побрякушкам, а росту, внешности и ауре успеха, которую Динка щедро распространяет вокруг.
– Привет.
– Привет-привет, – Динка кинула на стол пару фирменных пакетов. – Слушай, дай хлебнуть чего, устала как собака, ты не представляешь…
Не представляю. Наливаю из бутылки минералку – вчерашняя, чуть выдохлась, но из альтернатив – только хлорированная водопроводная вода – и слушаю Динкину историю.
– Он лапочка! Такая лапочка! Я прям таю… – Динка отобрала и стакан и бутылку, полила кактус – точно, а то я что-то совсем про него забыла – и, глотнув из горлышка, сморщилась. – Фу, мерзость! И теплая. Ты же знаешь, ненавижу промежуточные состояния! Чай должен быть горячим, а минералка…
– Холодной, – завершила я сентенцию.
– Точно. Ну да фиг с ней, с минералкой, я тебе работу нашла! Нормальную, хорошо оплачиваемую работу! Хозяин – лапуля… но чур – мой! Впрочем, тут без вариантов, особенно если ты и дальше будешь одеваться, как мышь на похороны…
– Стоп. Дин, давай по порядку!
– А я и рассказываю по порядку. – Она села в кресло, вытянула ноги, расстегнула белое кашемировое пальто, достала из кармана портсигар, мундштук. Ей к лицу курить. Ей вообще все идет и все прощается. Даже мокрые следы на свежеубранном ковролине.
– В общем, осень, депрессняк – сама понимаешь. Короче, просыпаюсь и понимаю, что скоро сдохну от тоски. – Черный мундштук в белых Динкиных пальчиках.
Снова готика.
– Ну и решила немного по шопам прошвырнуться, такой блузончик себе прикупила – королевская вещица! – Она выдохнула дым. – Потом покажу. С этого блузона мы с Ивом и познакомились.
– С кем?
– С Ивом, – недовольно повторила Динка. – Ты че, не слушаешь? Вообще он Иван, но Иван – это как-то пошло, вот Ив – другое дело. Короче, там лиловый на вешалке был и розовый еще. Лиловый, конечно, лучше смотрится, но к розовому у меня сарафан есть в пару… ну и мучилась, выбирала, а он подходит и говорит, что, типа, нельзя себя мучить и, если нравится, нужно брать и то и другое.
– И ты взяла?
– Конечно. Он же заплатил. – Динка стряхнула пепел на бумаги. – Ну и посидеть пригласил, естественно.
– А ты, естественно, пошла?
– Вась, ну не будь ты такой занудой, мужик-то классный! Испанец!
– Почему испанец?
– А почему нет? Ты вообще слушать будешь? Я только до самого интересного дошла. Мы, короче, сидели, трепались о том о сем, об искусстве опять же, и я, типа, ляпни, что по диплому искусствовед, а он и вцепился!
– В кого? – Динкино стрекотанье начало действовать на нервы, похоже, поработать сегодня не удастся, а жаль.
– В меня! Ему искусствовед зачем-то понадобился, ну прям кровь из носу просто! Бабки обещать начал. Ну да сама знаешь, какой из меня искусствовед! Короче, я на понты взяла, типа, оскорбляет, типа, я сама по себе, свободная художница… но если надо, то есть на примете подруга! Так что, лапуля, завтра идем знакомиться! – заорала Динка. – Ура! Ты, наконец, завяжешь с этим дурдомом и с малолетними психами!
Я не хочу. Я не хочу завязывать с дурдомом, потому как мой кружок – для души, и ребята не психи – они особенные. Я не хочу бросать их и устраиваться на работу к какому-то испанцу по имени Ив, или, вернее, Иван, но Иван – это не круто.
Я не хочу вообще выходить из кабинета, мне здесь хорошо…
Но говорить «нет» я не умею.
– Вась, ты че, не рада? – Динка насторожилась, подалась вперед, совсем как Ольга Викторовна, заподозрившая меня в невнимательности. – Вась, я ж как лучше… я для тебя… я уже договорилась!
Голубые глаза наполнились влагой, черные ресницы затрепетали, а по щеке мило соскользнула слеза.
– Я из-за тебя макияж порчу! – шмыгнула носом Динка. – Сейчас точно разревусь! Я как лучше хотела, а она не согласная!
– Согласная. – Крепость капитулировала, оставалось изобразить радость. – Согласная и готовая на сотрудничество с этим твоим Ивом.
– Моим! Это ты верно подметила, что моим! Увидишь – мужик отпадный!
Матвей
Мутное небо, мелкий дождь третий день кряду. Противно. Вот что Матвей ненавидел всей душою, так это осень. Унылая пора, очей очарованье… какое очарованье, мерзость из холода и смеси серо-топких оттенков, ни капли солнечного света.
Осенью Матвей мерз хронически, вне зависимости от температуры, прогноза погоды и наличия старого масляного обогревателя, который скорее успокаивал нервы, чем и вправду грел. И даже крепкий чай с припасенным на сезон холодов малиновым вареньем не спасал нисколько, равно как любимый байковый халат с серебряным шитьем и алой атласной подкладкой да толстые, не единожды штопанные на пятках шерстяные носки, которые еще бабка вязала. Она тоже осень не любила и померла аккурат в начале ноября, как подгадала. Склочная была старуха, а вот носки хорошие.
Звонок в дверь раздался ближе к обеду, когда небо за окном стало проясняться, а Матвей чуть ожил.
– Матвей Игоревич Курицын? – Тип, стоявший на пороге, рассматривал Матвея с явным удивлением. Ну да, видно, ему не приходилось сталкиваться с кем-то, кто бы выходил встречать гостей в синем байковом халате и старых носках на босу ногу. – Простите, это вы будете Курицын?
– Ну я. – Матвей запахнул халат поплотнее, с лестницы тянуло холодом и сыростью, да и сам визитер принадлежал осенне-мокрому миру. В русых, сдобренных сединою волосах блестела вода, светлый плащ украшали темные пятнышки, правда, было их не так чтобы много, и ботинки чистые. Значит, на машине приехал.
– Матвей Игоревич, мне вас порекомендовали как высококлассного специалиста по деликатным поручениям. – Человек провел рукой по волосам и брезгливо отряхнул ладонь. – Я хотел бы поговорить об условиях найма…
– Проходите на кухню. Прямо по коридору до упора. Тапочки вот.
Перспектива ввязываться в очередное «деликатное поручение» ну совершенно не вдохновляла, хотя бы потому, что придется покидать относительно уютный мир квартиры. Гость переобувался с видимой неохотой, тапочки со стойки брал брезгливо, двумя пальцами.
– Любопытно у вас здесь, – сказал он, осматриваясь. – А позвольте узнать, почему на кухне?
– Здесь теплее. – Матвей зажег две конфорки и придвинул обогреватель поближе к себе. Небо за окном снова посерело, а по стеклу, обгоняя друг друга, поползли капли воды.
– Вы извините, я не представился. Градовский Петр Аркадьевич, – гость протянул руку, Матвей послушно пожал, хотя прикасаться к белой, чуть влажноватой коже было неприятно. – Так, значит, я хотел бы вас нанять…
– Нанимайте.
Градовский кашлянул, пожал плечами и улыбнулся.
– У вас хорошее чувство юмора, мне говорили.
– Что еще вам говорили?
– Ну, что услуги ваши не дешевы, но они того стоят, что вы проницательны, умны и обладаете великолепными качествами аналитика. Что пытались пойти работать в милицию, но не прошли медицинскую комиссию, тогда открыли собственное детективное агентство, которое позже ликвидировали из-за проблем с налоговой.
Петр Аркадьевич говорил это, глядя в глаза. Ну да, в этом месте, по идее, нужно смутиться, возмутиться или удивиться подобной осведомленности, но лень. И Матвей просто кивнул.
– Однако к тому времени вы стали весьма известны в определенных кругах… эта известность позволила продолжить дело в частном, так сказать, порядке. Клиенты находят вас сами… часто по рекомендации бывших клиентов, как вот я. – И, откашлявшись, Градовский сообщил: – Мне вас Анна Кирилловна рекомендовала, вы ей очень помогли.
– Я рад.
– Ну так как?
– Что как? – Матвей подумал, что если надеть еще одну пару носков, то будет теплее…
– Вы мне поможете?
– Смотря какая вам нужна будет помощь. – Эту часть разговора Матвей не любил. – Я собираю информацию. Я работаю с информацией, анализирую, структурирую, делаю определенные выводы. В результате составляю подробный отчет. Я не ловлю преступников и не выступаю в качестве мстителя. Грубо говоря, я отвечаю на вопросы, которые задает клиент, даю ему сведения, которые он желает получить, а что он дальше с этими сведениями будет делать – уже не мое дело. Понятно?
– Вполне. – Градовский подвинул табуретку и закинул ногу на ногу. Светлые брюки вкупе с зелеными тапочками выглядели нелепо. Может, других расцветок купить? Серых или там черных?
– Эти условия меня вполне устраивают. О размере вашего гонорара мне сообщили, если он не изменился… – Пауза-ожидание, Матвей покачал головой. – …то я готов изложить дело.
– Излагайте. – Матвей чихнул. И еще раз. Ну вот, похоже, он опять заболевает, ну почему, как осень, так непременно простуда? Надо выпить чаю. Срочно. С малиной или медом. Или и с тем и другим…
– Проблема, собственно говоря, не совсем чтобы моя… точнее, она касается и меня, но лучше, наверное, по порядку, правда?
– Правда. – Матвей поставил чайник, достал варенье, мед, батон… – Вы говорите, не обращайте внимания. Холодно очень.
– Холодно? – Градовский расстегнул пиджак. – По-моему, наоборот, здесь у вас очень жарко, так что, если позволите…
Пиджак он повесил на серебристый крючок, который изначально предназначался для кухонного полотенца, но оно третий день как где-то потерялось.
– У меня есть сестра, Жанна. – Петр Аркадьевич чуть ослабил узел галстука. – Некоторое время назад она вышла замуж.
– Некоторое – это которое?
– Ну… лет шесть, наверное. Или семь. Давно, в общем. Честно говоря, изначально я был не в восторге от этого брака, ее муж – мой деловой партнер, человек, в общем-то, хороший, но старше Жанночки, к тому же вдовец и с ребенком, но вроде бы все у них сладилось. Жанна была счастлива, Игорь тоже.
Чайник пронзительно засвистел, и Градовский замолчал, дожидаясь, пока Матвей разольет по кружкам кипяток.
– Конечно, ссорились иногда, как это обычно бывает в семьях, но в целом сжились.
– А бизнес?
– Что бизнес?
– Вы упомянули, что Игорь был вашим деловым партнером.
– Почему «был»? Он и есть, в смысле, и остался. Я ему почти как себе верю, серьезный человек. И работать умеет, мы с ним к одному проекту тут подключились… с перепланировкой целого городского района связан, серьезное дело. Более того – самое серьезное из тех, за которые приходилось браться, деньги туда огромные уже вложены, а придется еще больше… но я ведь по порядку хотел.
– Да-да, – согласился Матвей.
– Вот, у Игоря от первого брака имелась дочь, Маша. На момент его с Жанночкой свадьбы девочка была достаточно взрослой, да и Жанна никогда не скрывала, что Маша ей не родная, но это не значит, что она ее не любила. – Градовский сделал паузу. – Сначала все было вроде бы как хорошо, Машка Жанночку приняла, слушалась, проблем не доставляла, а в последний год как с цепи сорвалась. Жанночка постоянно на нее жаловалась – сплошные истерики, крики, слезы, обвинения… а потом взяла и вены себе перерезала.
– Кто перерезал?
– Маша. Пришла из школы, залезла в ванную и бритвой по рукам. – Градовский шумно вздохнул. – Спасти не удалось.
Он опять замолчал, а Матвей не стал поторапливать, не тот случай. А дело вырисовывалось неприятное, вот не любил Матвей со смертью пересекаться, пусть и случайно, мимолетно, но все равно, каждый раз как отпечаток, от которого долго приходится отмываться, согреваясь коньяком, чаем и розовой резиновой грелкой, в которую влезало три литра кипятка.
– Понимаете, с одной стороны, это стопроцентное самоубийство, с другой – Игорь теперь обвиняет Жанночку в том, что она довела Машу, грядет развод…
– Вас ведь не развод беспокоит, так?
– Так. – Градовский снова дернул галстук, отчего тот съехал набок. – Дело в проекте. Игорь полностью потерял способность думать. Он зациклился на Машиной смерти и на Жанниной вине, а я вроде бы как ее брат. Но в то же время я – деловой партнер, с которым нужно работать. Разрыв в настоящее время будет означать крах как для меня, так и для него. И опять же… понимаете, дело, в котором мы участвуем, обещает огромные дивиденды, и потому…
– Возникли некоторые сомнения?
– Вот именно! Машина смерть бросает тень на деловую репутацию Игоря, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы замять некоторые слухи… Официально Маша умерла в результате не диагностированного вовремя воспаления легких. Имеется соответствующее врачебное заключение, а заведенное дело изъято вместе со всеми протоколами… Девочку все равно не вернуть, а для бизнеса, особенно когда имеешь дело с иностранцами, подобные вещи вредны.
– И что вы от меня хотите?
– От вас – информацию. Заключение по поводу Машиной смерти. Действительно ли самоубийство? Если да, то его причину – записки при ней не нашли, а комнату обыскивать не стали.
– Почему?
– Меньше документов, меньше денег на их изъятие, – жестко ответил Градовский. – Я сразу сообразил, что эту историю лучше замять… Считаете меня циничным?
– Практичным, – совершенно честно ответил Матвей, прикидывая, с чего тут начать.
– Это верно, я практичен и не собираюсь мстить или вершить правосудие. Я всего лишь хочу знать правду. Если ее довели до самоубийства – то кто это сделал и по каким причинам. Однако любые обвинения должны быть обоснованы.
– Будут.
– Тогда… наверное, все. Но поймите, дело срочное… я готов платить вдвое-втрое, как скажете, просто время – это…
– Важно, – закончил Матвей. Перевернув кружку, он выпил последние капли уже холодного, но крепкого и сладкого чая. – Ваша сестра ведь не откажется поговорить со мной? И комнату девочки осмотреть… и хорошо бы с вашим партнером побеседовать. Что до изъятых документов, то надеюсь, они у вас остались?
Градовский кивнул.
– Вот и хорошо. С собой?
– Нет. В машине. Я сейчас принесу, аванс тоже. Отчетов не надо. Результат!
Набросив на плечи пиджак, Градовский с почти неприличной поспешностью выскочил из кухни, спустя секунду хлопнула входная дверь… ну вот, даже не переобулся, попритаскивает на тапочках грязи, а Матвею потом полы мыть.
– Графинюшко? А што графинюшко? Она ж того, ласка́вая была до усих, добрая, только тихенечкая больно, иным разом и словечка-то не услышишь, пока везешь, а заговорит – голосок тоненький, звонкий, ну точно птаха. И завсегда этак по-господски, с политесом… будьте любезны, Остап Ефимович, окажите милость остановиться тут. А я што? Я ж завсегда услужить-то рад… Выходит, нету боле нашей Натальи Григорьевны? Ох беда. – Остап, служивший при доме конюхом и извозчиком, говорил спокойно, неторопливо, как полагается человеку, в преступленьи не замешанном. Только вот руки выдавали некоторую нервозность: кривые заскорузлые пальцы с синюшными грязными ногтями беспрестанно мяли шапку, столь же грязную, как и ногти.
Шумский поглядел допрашиваемому в глаза, обычно взгляда его люди не выдерживали, начинали нервничать и говорить больше, чем собирались изначально. Однако Остап будто бы и не заметил. Что взять с мужика-то, темный, необразованный…
– Ваша хозяйка часто ссорилась со своим супругом?
– Графинюшко? Ссорилась? Да вы што, ваше благородие, я ж кажу, тихая она была, скромная, такая-то и слово поперек не скажет… да и он не больно-то говорливым был, жил как бирюк, никуда не выезжал, и она при нем, бедолажная. В первый-то год особо тяжко, поблагла вся, с лица сошла, уж думали, все, не выживет-то наша, однако ничего, как понесла, так поправилася, покруглела. А этот ей опосля дружку нанял.
– Кого?
– Эту… бабу, чтоб чтениями да музыкой графиню развлекала.
– Компаньонку, что ли?
– Ее, – кивнул Остап. Вот ведь диво-человек, даже кивок у него степенным вышел, преисполненным чувства собственного достоинства.
– А то и верно, что нанял, где ж это видано, чтоб баба взаперти сидела, ни словечком ни с кем перемолвиться не могла? Они ж того, поговорить-то любют, вот и говорила с этой, компаньонкою, пока та не удавилася.
Шумский от неожиданности дымом поперхнулся, даром что табак крепкий, американский, по специальному заказу доставленный. Разве ж можно этакие страсти под руку-то говорить?
– Удавилась? Повесилась, в смысле?
– Ну да, аккурат в графовой спальне-то, простыню связала да через балку перекинула, и голову в петлю. Не по-божески это, – прокомментировал поступок компаньонки Остап. – Графинюшка потом спереживалась вся… хотя… о мертвых худо не говорят. А вышло, что ненадолго Наталья Григорьевна пережила подружку… ох, чудны дела Твои, Господи.
Чудны, согласился Шумский, правда, мысленно, потому как вслух не произнес ни слова – говорить-то нечего, все уже ясно, установлено и подписано, а что дворню допрашивать приходится, так процедура такая… вот ведь трагедия, самые что ни на есть настоящие шекспировские страсти, страдания, чистая любовь и роковая страсть… хоть пьесу пиши.
Может статься, и напишет когда-нибудь, в глубокой старости, когда на покой отправится… но до этого пока далеко. И если вправду писать про Ижицыных, то начинать надобно не с допроса дворового мужика, а со сцены изящной и прелестной, скажем, со знакомства. А и вправду, где они познакомились-то?
Я все время думаю о той встрече, случившейся на Любонькиных именинах, до сих пор в толк взять не могу, с чего бы меня пригласили, ведь никогда же не звали, а тут вдруг. Я ведь и идти-то не желала, к чему бедностью кузину смущать, однако маменька была настойчива, все надеялась сладить мое замужество, о Сереженьке и слышать-то не желала, хотя, казалось бы, чем плох: пусть не знатен, не богат, не в чинах пока, однако же умен и пытлив, и верю – многого добьется.
Но я вновь не о том.
Любонькины именины. На мне синее муслиновое платье, перешитое из старого маменькиного, и белая не по погоде теплая шаль. Собственную неуместность и неприкаянность я ощущаю остро и болезненно. Вероятно, поэтому его и заприметила, будто собственное отраженье увидела: бледен, некрасив и одет кое-как. Иные гости держались с ним вежливо, но мне в той вежливости чудилась некая не вполне ясная насмешка.
– Натали, милая моя, ты все хорошеешь, – Алевтина Филипповна обратилась ко мне сугубо из уважения к маменьке, с которой ее некогда связывали узы дружбы и Смольный институт. Правда, в отличие от маменьки Алевтине Филипповне посчастливилось в браке, супруг ее пребывал в немалых чинах, да и сыну прочили скорую карьеру. Некоторое время матушка болела мыслью породниться со старой подругой, однако же, к счастью, та подобные стремления не поддержала, тем самым избавив меня от брака с человеком, которого я если и любила, то сугубо родственной, сестринскою любовью.
– Наряд, конечно, ужасный, – покачала головой Алевтина Филипповна. – Но в этой простоте есть некоторый изыск, а господин граф – большой фантазии человек… ты, верно, слышала про ижицынский дом? Вот уж и вправду соригинальничал.
Про дом я слышала, да и как не слышать, когда только и разговоров о доме у кладбища и о чудаке, избравшем для строительства место столь неприятное.
– Но богат, очень богат. И холост. – Алевтина Филипповна крепко держала меня за локоть и без малейшего стеснения разглядывала приезжего графа сквозь стеклышки лорнета. – Я просто обязана тебя представить…
Он был невзрачен, сутул, как-то поразительно неуклюж, причем неуклюжесть эта сквозила в каждом его движении. Светловолос, пожалуй, несколько в рыжину, но блеклую, невыразительную, сухощав, черты лица вяловатые, а голос с легкою болезненною хрипотцой.
– Наталья Григорьевна Нуршина. – Представляя меня, маменькина подруга заслонилась от неприятного собеседника золоченою тросточкою лорнета. – Дочь моей подруги…
– Премного рад, – ответил Ижицын, разглядывая не меня, но шаль.
В тот момент, помню, стало очень неловко, показалось вдруг, будто видит и заштопанные дыры, и подвыцветшее платье. Должно быть, от этого внимательного, чуть настороженного взгляда я и повела себя с недозволительной грубостью, прежде мне несвойственной, – столь же пристально стала разглядывать наряд графа.
Скучноват, ничего не скажешь – добротной темной шерсти сюртук, но все чуть примято, ей-богу, от Сереженькиного костюма этот отличался разве что дороговизною материи. Помню некоторое разочарование: от человека, прибывшего из столицы, я ожидала одеяния более изысканного.
А Ижицын смутился, покраснел и поспешил ретироваться, чем премного раздосадовал Алевтину Филипповну, которая не преминула воспользоваться ситуацией, дабы выговорить мне за недостойное поведение.
– Он же все-таки граф, Натали, – печально вздохнула она, прижимая к груди лорнет. – А тебе, голубушка, девятнадцать уже… не девичий возраст, чай.
Эти намеки были неприятны, как и маменькины сетования по поводу моей неприкаянности и заведомой невозможности отыскать сколь бы то ни было удачную партию.
– Шанс, конечно, невелик, – продолжила Алевтина Филипповна, – но раз уж граф показал себя оригиналом, то…
В тот день Ижицын еще раз решился приблизиться ко мне, пригласив на танец. Увы, партнером он оказался неважным, чем окончательно меня разочаровал. Вот Сереженька танцует великолепно, он от природы грациозен, наделен превосходным слухом и той телесной памятью, что позволяет усваивать сложнейшие фигуры танца с невероятной быстротою. Как бы я хотела танцевать с ним, а не с утомительно беспомощным и неуклюжим Ижицыным. Но я превосходно понимала – в этом доме Сереженьку, невзирая на все его таланты и заслуги, не примут, оттого и мучилась.
– Простите, – Ижицын напоследок коснулся губами руки. – Мне показалось, вы были одиноки.
– Вам показалось. – Боже мой, в тот момент я испытывала горячее желание ударить его. А стоило графу отойти, как желание сменилось стыдом. Снова я ни за что обидела человека.
– А ты ему приглянулась, – заметила Алевтина Филипповна, которая немедля оказалась рядом. Увы, к несчастью, она оказалась права.
Юлька
– Опять? Ты понимаешь, что творишь? Да ты без ножа меня режешь! – Верка схватилась за сердце. Ну да, сейчас начнется концерт по типу: Юлька – тварь неблагодарная, добра не ценит, мамку до инфаркта доводит. А она не мать… – Нет, я вижу, ты ничего не понимаешь! И не делай вид, будто не слышишь!
– Слышу, – буркнула Юлька. Попробуй тут не услышь, голосок-то у Верки еще тот, вон даже тарелки звякают.
– Наказание, а не девка. – Верка плеснула из графина воды. – Таблетки дай.
Юлька дала. Похоже, концерт отменялся, а что до таблеток, то Верка постоянно от чего-то лечится, уже все и привыкли. Картонная коробка, отведенная под аптечку, была доверху забита темными склянками, запечатанными и распечатанными разноцветными коробочками, примятыми и кое-как втиснутыми пластинами. Анальгин, цитрамон, но-шпа, активированный уголь… а это что? Зеленка? Йод? Банка с крохотными желтыми катышками нитроглицерина, как нарочно, провалилась на самое дно. Пришлось выворачивать содержимое на стол. А Верка тут же замотала головой.
– Папаверин, Юль.
Нет, ну а сразу сказать нельзя было? Пришлось заново перелопачивать разномастную груду, и папаверин почти закончился, две таблетки осталось. Верка проглотила, запила водой и, задрав голову, закрыла глаза. И чего она так? Запоздало стало стыдно, ну не совсем чтоб стыдно, скорее неудобно, все ж таки Верка старая уже, ей за сорок, и с сердцем взаправду проблемы, в прошлом году до больницы вон дошло.
– Убери тут, – велела Верка, подымаясь, при этом оперлась рукой на стол, тот качнулся, и стоявшая на краю склянка тут же соскользнула вниз. Разбилась. По кухне поплыл резкий спиртовой запах.
– Эх ты, – Верка только головой покачала – таблетки действовали на нее умиротворяющее. – Горе ты мое, в кого ж ты такая косорукая-то?
Ни в кого.
И никто не нужен, Юлька сама по себе. Всегда сама по себе… Мелкие осколки стекла на ладони воняют больницей. То ли от обиды, то ли от вони защипало глаза. Ну уж нет, плакать Юлька не станет… вот не станет, и все. Она так давно решила.
Крупные осколки собрать – и в ведро, мелкие – смести веником и тоже в ведро, надо бы мусор вынести, а то уже полное, того и гляди, через верх переваливаться начнет. Хотя… пускай Анжелка выносит, а то тоже взяла моду ничего не делать. Верочкина радость… доченька… родная… Першение стало невыносимым, и Юлька всхлипнула. Потом еще раз. И успокоилась.
Уборка на кухне заняла минут пятнадцать и завершилась мытьем пола с помощью кухонного полотенца, которое Юлька тут же запихнула в ящик с грязным шмотьем. Теперь все, единственным свидетельством разыгравшейся трагедии был запах, но и он исчезнет – Юлька открыла окно и, улегшись животом на подоконник, высунулась наружу. Девятый этаж… внизу двор маленький и серый, только выделяются яркими пятнами не облетевшие еще клены да автомобили на стоянке. Белый, синий, желтый, красный… похожи на детские игрушки.
Вот бы нарисовать так, как из окна видно, чтобы земля далеко-далеко внизу и вся такая зыбкая, нечеткая, будто в тумане. А может, попробовать? Прям сейчас? А завтра Василисе Васильевне показать? Ей бы понравилось.
– Че, снова пару схватила? – Анжелка нарисовалась на кухне, как всегда, бесшумная и бесцеремонная. Рисовать не выйдет, как тут порисуешь, когда эта над душой торчит?
– Мамка папаше твоему нажалуется, – меланхолично заявила она, открывая холодильник. – О… молока нету. Ты выпила?
– Больно надо. – С некоторым сожалением Юлька закрыла окно. Двор она нарисует, непременно нарисует, мелками или пастелью… или тонкими черными штрихами, чтоб как гравюра…
– А кто? – Анжелка надулась, ну коровища, а туда же, в модели. На диете сидит, молоко обезжиренное, творог обезжиренный, йогурт обезжиренный, и сама такая же – пресная и обезжиренная.
– Я такое дерьмо не пью!
Анжелка скорчила рожу.
Дура. И подружки у нее такие же дуры!
В комнате пахло Анжелкиными духами, сладкими и модными. На полу валялся Анжелкин свитер, на кровати – ее же колготки, а на столе, конечно, косметика. Ну да, она ж из комнаты носу не покажет, не намалевавшись. Юлька сгребла косметику в кучу и бросила на покрывало – пускай сама разбирается, задолбала уже. Теперь включить комп, конечно, еще рано, он редко появляется раньше десяти, но вдруг повезет.
Повезло. Дух был в Сети.
Мотылек: Привет. Ты здесь?
Дух: Здесь.
Мотылек: Я рада.
Подумав, Юлька добавила улыбающийся смайлик и в который раз вяло удивилась, почему Дух ими не пользуется, ведь удобно же. На смайл он не прореагировал и на фразу тоже. Обижается.
Или занят. Ведь все кругом чересчур заняты, чтоб поговорить с Юлькой, так чего Духу быть исключением? Все, надоело, надо отключаться и…
Дух: Прости меня, пожалуйста, прошлый раз я был слишком резок с тобой.
Мотылек: Проехали.
Юлька облегченно вздохнула, значит, не сердится! И не обижается, а мог бы, это ведь она его придурком обозвала!
Дух: Сегодня дождь. Ты любишь дождь?
Мотылек: Не-а, мерзко.
И ноги промокают, и отчего-то плакать хочется, закрыться где-нибудь в ванной, обнять Анжелкиного медведя и реветь, просто, без причины. И чтобы пожалели, неважно кто, лишь бы сказал…
Дух: Что-то случилось? Плохое настроение? Или кто-то обидел?
Мотылек: Настрой – да, обидели – нет.
Хотела дописать, что сама кого хочешь обидит, но передумала, все-таки Дух странный слегка, еще не поймет шутки и исчезнет в очередной раз. В первый раз, когда он пропал, Юлька не сильно расстроилась, подумаешь, найдет она с кем потрепаться. Во второй испытывала некое непонятное и необъяснимое беспокойство, не могла отойти от компа, пока Верка не наорала, пригрозив вообще обрубить инет. И даже потом, наплевав на угрозу, все равно сидела до ночи, пытаясь убедить себя, что она просто… просто общается, а не ждет.
В третий раз он исчез на прошлой неделе, ненадолго – каких-то три дня, но за эти три дня Юлька почти сошла с ума. Плохо было, больно было так, будто наизнанку вывернули. Даже Верка испугалась и отстала со своими нравоучениями.
Дух: Ты замолчала. Ты все-таки обижена на кого-то.
Мотылек: Ты ни при чем. Это личное.
Дух:?
Мотылек: Не хочу говорить. Может, потом. Лучше ты расскажи.
Дух: О чем? Спрашивай.
Спрашивать? Он никогда не отвечал на ее вопросы, игнорировал или отшучивался, только шутки у него, конечно, были какие-то двусмысленные, что ли. Ну ладно, если сам разрешил, то…
Мотылек: Где ты живешь? Как тебя зовут? Натуральное имя, а не ник.
Дух: Зачем тебе?
Мотылек: Ну просто.
Дух: Если из любопытства, тогда не надо.
Мотылек: Почему? Стесняешься?
Дух: Опасаюсь, что, ответив на вопросы, поставлю тебя перед неприятным выбором. А мне бы не хотелось доставлять тебе неприятности.
Ну, с неприятностями она уж как-нибудь сама разберется. А чем больше он отнекивался, тем любопытнее становилось. И Юлька торопливо отстучала:
Мотылек: Ты сам говорил, что нельзя решать за других. А теперь пытаешься за меня.
Дух: Извини. Ты права. Нехорошо не отвечать за свои слова. Но если вдруг ты решишь отказаться от бесед со мной, я не обижусь и не стану тебя винить.
Фу-ты ну-ты, какой вежливый. Юлька фыркнула, подалась вперед и локтем столкнула на пол Анжелкину кружку, керамическую, украшенную розовыми и золотыми сердечками. Правда, благодаря ковролину кружка уцелела – и хорошо, а то было бы визгу. А Дух еще месседж прислал.
Дух: Значит, ты хочешь знать, как меня зовут и где я живу?
А серьезный-то какой! Юльке вдруг стало весело, с разговора этого, с Духа с его вежливой обходительностью и скрытностью, с того, что она, Юлька Цыгунко, сидит и треплется по аське. А может встать и уйти, или не уходить, а отключиться, или даже не отключаться, а внести Духа в черный список.
Но никогда не сделает, он – другой, не похожий ни на Анжелку, ни на Верку, ни на папашу, ни вообще на кого бы то ни было из знакомых. Он – особенный. И очень важный, самый важный человек в Юлькиной жизни.
На клавиатуре розовое пятнышко лака, буква «а» почти стерлась, и шифт западает. Надо бы новую купить.
Мотылек: Хочу.
Дух: Сергей Владимирович Ольховский.
Ольховский. Сергей Владимирович. Красиво. Юлька повторила имя про себя, потом еще раз вслух. И еще… ей понравилось. И ему подходит.
Дух: А живу я на кладбище.
Мотылек: На кладбище? Шутишь?
Дух: Увы, мой ангел, нет.
Мотылек: Не гони, я знаю, что там домов нету, ни на Новом, ни на Старом. Я там часто бываю.
Дух: Я знаю.
Мотылек:?
Дух: Я не знаю, какое это кладбище, в мое время оно было одно. Наверное, если исходить из логики, вероятно, оно будет Старым. Ты появляешься там часто, раз в неделю – обязательно, летом почти каждый день. И вчера приходила.
Приходила. И допоздна, до темноты осталась, и именно поэтому так кричала Верка, и отцу непременно нажалуется, и тот тоже орать будет, а потом за ремень возьмется. Правда, ударить навряд ли посмеет, но и без того приятного мало.
Можно подумать, Юлька на кладбище оргии устраивает… кому она мешает? Никому. И еще этот, Дух, шутки шутит.
Мотылек: С чего ты решил, что это я?
Дух: Я давно за тобой наблюдаю. Прости, пожалуйста, я понимаю, что это недостойное поведение, и единственным оправданием может служить лишь мое одиночество. Если ты скажешь, я больше не стану досаждать.
Мотылек: Не финти. С чего ты решил, что я – это я? На кладбище?
Вопрос вышел слегка идиотским, но он поймет.
Мотылек: Ты ошибся.
Дух: Черные волосы, черная куртка, черные брюки, в ухе крестик. Сидела возле Агафьи Петровны, слушала музыку. Потом пошла к Евдокии Федоровне, у нее лавочка есть, прямо под ангелом. Евдокия Федоровна очень переживала, что холодно, а ты одета плохо.
Мотылек: Разводишь!
Дух: Отвечаю. Я понимаю, что это не совсем увязывается с твоим мировоззрением, однако прошу тебя отнестись к моим словам со всей серьезностью. Если вдруг случится так, что ты не пожелаешь больше беседовать со мной, скажи, я не люблю навязываться.
Он отключился. И не попрощался даже! На глаза навернулись слезы, и теперь сдержать их было невозможно… плакать в ванной привычно и даже немного приятно. А Дух… он пошутил. Всего лишь пошутил. Завтра извинится и снова заведет беседу ни о чем.
– Эй ты, – Анжелка затарабанила в дверь. – Пусти! Я в душ хочу!
– Иди в жопу! – с наслаждением ответила Юлька, вытирая слезы. Стало легче.
Ижицын С.Д. Дневник
Влюблен. Боже мой, до чего нелепо вышло, всего-то один взгляд, несколько слов, танец… я не мастер танцевать, а тут вот не сдержался, пригласил. Мальчишество, которое дорого мне обойдется. Нехорошее предчувствие, и Ульяна со своими картами зачастила, приходит, раскладывает пасьянс прямо на полу и головою качает, а то вдруг принимается бегать, размахивая руками. Не понимаю. Вот Машенька, та понимала…
Машеньке хуже. Застудилась на днях, кашлять стала и горячая вся, никак врача вызвать придется, а не хотелось бы, снова слухи пойдут. Ульяна травами пока отпаивает, но если к завтрему лучше не станет – пошлю за доктором.
Вот пишу, и из головы Наталья не идет, знаю, что и думать-то о любви права не имею, а все одно… у нее волосы светлые, не золото, не колос пшеничный, а легкий такой цвет, который и сравнить-то не с чем, а глаза – голубые. Лицо живое очень, меняется, точно волны под ветром, то обида, то раздражение, то тут же раскаянье от нечаянной резкости…
О чем я пишу? О чем я думаю?
Не должен.
Василиса
Ив-Иван был ярким, как павлин, готовый распустить перья перед любой цесарочкой, пусть даже столь невзрачной с виду, как я. Хотя тут же Динка, это он перед нею красуется, впечатление производит. Тошно. И завидно, передо мною вот никто и никогда, даже, наверное, мысли не было… разве что Костик с его розой к Восьмому марта и тремя на день рождения, если, конечно, не забывает.
Такие, как Ив, розы дарят корзинами или вагонами – реноме обязывает. И вправду на испанца похож. Высокий, сухопарый, прожаренный солярием до той изысканной смуглости, что навевает мысли о море и пляже, он держался с нарочитой небрежностью. Растрепанные черные волосы, голубые глаза, нос с горбинкой – эх, Динка-Льдинка, ты пропала, против такого не устоять.
– Значит, вы и есть Василиса? – Иван – ах, простите, Ив – приложился к ручке, старомодно, галантно, совершенно по-идиотски. – Бесконечно рад…
Врет. Вот по глазам вижу – врет. Рад он был бы встретиться наедине с Динкой, ну или, как вариант, скоренько поговорить со мной о деле, а потом, вежливо выпроводив, наслаждаться Динкиным обществом.
– Что пить изволите?
– Минералку. Без газа.
Динка фыркнула и в качестве наглядного урока поведения в приличном обществе потребовала себе коктейль «Розовая каравелла». Господи, ну зачем я вообще согласилась на эту встречу, а? Чего мне надо? Вела бы и дальше кружок живописи в Доме творчества, малевала потихоньку шедевры, которые раз в полгода перекочевывали бы в Костикову мастерскую согласно сложившейся традиции, тянула бы от зарплаты до зарплаты, потихоньку растрачивая выплаченные за шедевры деньги…
– Вася у нас скромница, – нарушила паузу Динка. – Сказочная скромница! Но специалист классный! У нее дипломов – куча! И рекомендаций столько же!
– Для меня достаточно одной – вашей, – Ив продолжал проявлять галантность. – Однако мой друг, увы, не столь доверчив, посему, боюсь, понадобится продемонстрировать ваш диплом…
Минералку подали в высоком бокале и все-таки с газом, пузырьки которого прилипли к стеклу и казались крохотными жемчужинами.
– Понимаете, Василиса… Надеюсь, вы не против, что я так, по имени? – Ив заглянул в глаза, доверчиво, дружелюбно, как-то по-женски взмахнул ресницами и, не дожидаясь ответа, продолжил: – У меня есть друг, очень близкий…
– Да-а? – протянула Динка. – Ты про друга ничего не говорил.
– Евгений – человек в высшей степени порядочный, поэтому, милая Диана, не стоит волноваться, вашу подругу не обидят, даю слово!
Ну да, хорошее воспитание: говорить обо мне, будто меня тут и нету. Ладно, нечего злиться, раз уж сама согласилась прийти сюда. И вообще, раз попала в один из самых дорогих ресторанов в городе, следует наслаждаться… вот хотя бы ледяной минералкой.
Или кружевными салфеточками в серебряных кольцах. Или розовой орхидеей в стеклянном кубе. Или горящей свечой… Наслаждаться не получалось.
– Мой друг – коллекционер, правда, не совсем умелый и опытный, поэтому нуждается в советах профессионала. Он хочет создать нечто вроде частного музея, понимаете?
– Неужели? – вежливо поинтересовалась Динка. – И где этот музей будет располагаться?
– Евгений приобрел особняк, самый настоящий, в готическом стиле, этакое торжество сумрачного германского гения над здравым смыслом. – Иван звонко засмеялся, и Динка подхватила. А они подходят друг другу, до того подходят, что смотреть больно.
– И что за особняк? – кажется, начинаю ворчать. Лучше пить минералку и не мешать людям. Минералка ледяная и воняет мятой. Терпеть не могу мяту.
Иван вопрос услышал, приосанился и, глубоко вдохнув, провозгласил.
– Дом графа Ижицына. Вы, как местные, должны быть в курсе.
О да, я в курсе. Дом графа Ижицына. Дом-с-привидениями. Угрюмого вида сооружение за чертой города, неподалеку от Старого кладбища – более чем неприятное соседство. Впрочем, и само здание, безотносительно месторасположения, производило впечатление донельзя тягостное. Причем неизвестно, то ли в силу запущенности и того полуразрушенного состояния, в котором находилось, то ли из-за естественной мрачности, сквозившей в каждой его линии.
Темный кирпич, тяжелый плющ, черные провалы окон и тонкие кокетливые фиалы, венчающие контрфорсы, узорные вимперги на фасаде, и данью традиции – тоскливые, поизбитые временем горгульи, сторожащие лестницу.
– Конечно, здание находилось в весьма плачевном состоянии. – Иван говорил, глядя только на Динку, а потом, вдруг повернувшись ко мне, спросил: – Василиса, вы ведь, как профессионал, должны были интересоваться домом? Что скажете?
Экзамен? Что ж, почему бы и нет.
– Особняк графа Ижицына, собственно говоря, относится к псевдоготическим, выстроенным в середине XIX века, когда пошла мода на архитектуру с долей мистицизма. От чисто готического стиля в доме лишь планировка: структура, сложенная из прямоугольных ячеек-травей, каждая из которых ограничивается четырьмя столбами и четырьмя арками. Все вместе и дополнительные арки-нервюры образуют основу крестового свода, заполненного облегченными небольшими сводами – распалубками. Подобная конструкция придает зданию легкость и воздушность, правда, в Ижицынском доме ее не видно, полагаю, нарочно строили, чтобы помрачнее. Да и годами он помоложе, конец XIX века. Или даже самое начало XX, точную дату, извините, забыла.
– Великолепно! Василиса, вы чудо! – Иван пригубил вино. – Евгений будет доволен. Представляете, он в этот дом просто влюбился. С первого взгляда. Я ему говорю, что дорого станет, что за эти деньги можно точно такой себе отстроить и новый, с отоплением, светом, газом и прочими удобствами, а он уперся рогом, и все. Как ребенок!
– Неужели? По-моему, это глупо. – Динка взмахом руки подозвала официанта и, указав на пустой бокал, велела: – Повторить. Два раза. Вась, ну нельзя же быть настолько занудной трезвенницей! Так что твой друг, все равно купил?
– Представьте себе, дамы! Купил! Никому ни слова, только неделю назад звонит, приглашает на новоселье! Я был поражен до глубины души. Оказывается, он приобрел эту развалину с полгода назад и занялся реконструкцией! Довольно успешно, кстати, провел электричество, канализацию, газ опять же, прислугой обзавелся, уже там живет, хотя ремонт все еще продолжается, особняк-то огромный.
Мне показалось или в голосе Ивана прозвучали завистливые ноты? Нет, конечно, показалось, это я завистливая, а ему-то чего? Он богат, успешен, красив.
– Теперь решил разместить там коллекцию… он немного странный, но в целом очень неплохой человек, вот увидите.
– У тебя вряд ли могут быть плохие друзья. – Динка покрутила в пальчиках соломинку от коктейля. Ага, дальше знаю, взмах ресниц, томный взгляд, нарочито расслабленная поза и тягучая беседа ни о чем.
А я тут лишняя. И коктейль на вкус омерзительно сладкий…
– Может, все-таки останетесь? – вяло поинтересовался Иван, разглядывая Динкины коленки.
– Нет, извините, спешу… я встречу назначила.
– Тогда завтра? В семь часов пополудни? Я вас отвезу, поговорим, потом поужинаем… Евгений гостеприимный хозяин, да и с тобой будет рад познакомиться.
Динка кивнула, соглашаясь. Конечно, все рады познакомиться с Динкой.
На улице ветер гонял по мокрой мостовой желтые листья, будоражил рябью серебристые зеркальца луж и норовил выкрутить зонты у редких прохожих. У меня зонта не было. Нестрашно, дождь мелкий, город в серой зыби, расплывчатые линии, размытые силуэты, растекающиеся светом пятна фонарей… Нужно будет нарисовать, красивая вещь получится, я даже название уже придумала – «Одиночество».
Матвей
В комнате пахло мандаринами, резко, тяжело, как на овощном складе, от этой цитрусовой вони першило в горле и свербело в носу.
– Здесь все осталось, как при ней. – Жанна Аркадьевна прижала к носу черный кружевной платочек. – Я ничего не трогала… ничего.
Она слабо всхлипнула и кончиком ногтя поправила ресницы. Ноготь был длинный, вызывающе белый с крошечной черной капелькой в уголке. Кажется, цветок. Или звездочка. Или просто случайное пятно, хотя нет, в облике Жанны Аркадьевны не было ничего случайного. Черная полупрозрачная блуза, оттеняющая аристократическую бледность кожи, длинная, строгого кроя юбка, строгая прическа, выдержанный по случаю макияж, туфли на каблуке… Матвей отмечал детали машинально, походя.
– Она была такой милой девочкой. – Жанна Аркадьевна чуть сморщилась. – Господи, ну и запах! Это все свечи ароматические. Машенька увлекалась… чересчур увлекалась.
Запах рассеивался, то ли и вправду выползал за приоткрытую дверь, то ли просто Матвей уже попривык, но ни чихать, ни кашлять больше не хотелось. Хотелось же остаться одному в этой комнате – крайняя, дальняя, в самом конце коридора, точно нарочно упрятанная, этакий скелет в шкафу, точнее, в гардеробной. Дамы, подобные Жанне Аркадьевне, вряд ли используют шкафы.
А вот в комнате таковой имелся, темно-зеленый, разрисованный ромашками, совершенно неуместными на фоне синих в узкую полоску обоев, стильных, взрослых. И обстановка мрачноватая: узкая кровать, полукруглый стол, черное зеркало монитора и отражением его – черное же покрывало на кровати. Белый плюшевый медведь. Розовый бант. Вазочка с сухой розой.
– Откуда цветы? – Матвей коснулся желтых лепестков, вроде осторожно, но один все равно отломился, упал на припыленную поверхность ярким пятнышком.
– Понятия не имею. Машенька, она хорошая девочка была, но неудачная… Поймите, я любила ее как родную. – Жанна Аркадьевна осторожно присела на край кровати, провела ладонью по покрывалу, разглаживая появившиеся морщинки. – И она меня мамой называла… давно, еще когда мы с Игорем только сошлись, но мне было приятно. А как подросла, то…
– Она вас ненавидела?
– Ненависть? Вряд ли, скорее уж обыкновенный подростковый антагонизм. Все принимала в штыки… Думаю, большая часть проблем тут во внешности.
– А что с внешностью? – Матвей видел фотографию Маши, старую, двухлетней давности – новее не нашлось. Самая обыкновенная девчонка.
– Она была милой, но невыразительной, и характер мягкий, вечно затирали ее. А ей внимания хотелось. Ох, я столько раз говорила – не спеши, все будет, немного косметики, немного стиля… хирургия, в конце концов, но она не слушала. Начинала кричать, что я считаю ее уродкой.
На столе, рядом с розовой вазочкой, лежала тетрадь. Белые листы, синие линии, отведенные поля… и выведенная аккуратным почерком фраза на первой странице.
«Больше не будет больно и плохо – сегодня не кончится никогда».
– Это ее?
– Тетрадь? Да, наверное. Не знаю. – Жанна Аркадьевна обняла себя за плечи. – Вы спрашивайте, я отвечу, я… смогу. Давайте расскажу, как это случилось?
– Расскажите.
– Мы отдохнуть собирались, я и Игорь. Швейцария… горы, маленький городок, снег, огонь, тишина… здесь не хватает тишины, я любила такие поездки.
– А Маша? – Матвей пролистал тетрадь и, обнаружив сложенную вчетверо записку, не удивился. Если было самоубийство, то должна быть и записка.
– Маша? Маше учиться надо… у нее с учебой не очень, если бы пропустила – пришлось бы потом сложно. Мы с ней летом ездили в Крым.
Матвей кивнул. Крым так Крым, в конце концов, не его дело.
– Думаете, она обиделась? Из-за того, что ее не взяли? Но… но это просто глупо! – Жанна Аркадьевна даже чуть покраснела. Правда, может, и не чуть, но под пудрой не видно.
А что до глупостей, то шестнадцать лет – самый подходящий для сотворения глупостей возраст.
– Она мне мстила! Мне! Игорь считает теперь, что это я виновата, недосмотрела. А как бы я досмотрела, если в салоне была? Прихожу, а квартира открыта. Я думала, это Галя, домработница наша, и пошла к себе в комнату… отдохнуть.
О том, что было дальше, Матвей знал.
Тело Марии Игоревны Казиной обнаружила та самая домработница Галя, причем случилось это около десяти часов вечера. Судя по данным экспертизы, смерть наступила между двумя и тремя часами дня вследствие кровопотери, несовместимой с жизнью.
– Она к ужину не выходила, Игорь злиться начал, он вообще жутко бесится, когда нарушают порядок…
– А вы знали, что Маша дома? – Матвей развернул записку, по ходу отметив тонкую, не слишком подходящую для принтера писчую бумагу, и бледные буквы – пора менять картридж.
– Да, знала. Ботинки в коридоре стояли, и рюкзак тоже, такой, со значками… как дитя, ей-богу… я говорила, что пора бы ей повзрослеть, следить за собой, а она с рюкзаком этим. Кошмар просто! Игорь теперь считает, что я к ней нарочно цеплялась, а я не нарочно. Она же взрослая почти, в свет выходить надо, а куда в таком-то виде? Ох, простите, не то говорю. – Дрожащие пальцы мнут кружево, а оно распрямляется, распускается черным цветком. – Теперь уже все равно ведь… вены перерезала… в ванну забралась и перерезала. Игоревой бритвой… у него такая, складывающаяся, от отца осталась.
Бритвой по венам. Розовеющая вода и черные потеки на белой коже. Красиво, особенно если в кино, а в жизни – отвратительно, Матвей видел фотографии, цветные и до отвращения четкие. Ванна в розовых тонах и белый узор по бордюру, а пол терракотовый, пронизанный псевдомраморной жилкой, роскошный. И сама ванна роскошная, этакое корыто на львиных лапах, в корыте – девушка. Мертвая и некрасивая.
– Зачем она это сделала? – тихо спросила Жанна Аркадьевна.
А Матвей наконец сосредоточился и прочел текст:
«Я буду паузой между ударами твоего сердца, прелюдией к выдоху и предвкушеньем вдоха. Я буду рядом, всегда и везде. Не бойся. Не прячься. Дай руку… пожалуйста, мне так одиноко. Ты ведь знаешь, насколько больно быть одному.
Поверь.
Помоги.
Я жду».
И чуть ниже, наползая на блеклые буквы, приписка, сделанная тем же аккуратным круглым почерком, что и в тетради.
«Сегодня! я сделаю это сегодня».
Паузой между ударами сердца… красиво.
– Жанна Аркадьевна, вы не будете против, если я тут покопаюсь? – не дожидаясь разрешения, Матвей включил компьютер.
– Полюбил он ее, ваше благородие, вот с первого, можно сказать, взгляду полюбил. – Старшая горничная всхлипнула и обтерла слезы кружевным платочком, по всему видать, из хозяйских. Ну да, верно, смотреть-то за добром боле некому, а поди докажи, что платочек не даренный любимою хозяйкой к Пасхе или там Рождеству Христову.
– Я ж с самого начала в доме. – Прасковья говорила быстро, торопливо, испуганно, то и дело обтирая лицо, поправляя черный платок на голове или беленький накрахмаленный воротничок. – По случаю попала, сюда-то никто наниматься не хотел, жуткое место, ночью, бывало, проснешься, а будто ходит кто, или дитя плачет, или воет… это Маланьин дух. Вы ведь, ваше превосходительство, слышали про Маланью-то?
Шумский покачал головой, и Прасковья затараторила:
– Бедовая девка была, ох бедовая… Мы-то вместе нанималися, ее с прежнего места рассчитали, оттого что хороша больно, а у меня хозяйка померла, молодая-то, невестка ейная со своей дворней прибыла, а меня, значит, вон, на улицу, и без рекомендациев.
– Рекомендаций, – машинально поправил Шумский.
– Вот, и я о том, что без рекомендациев в приличный дом не устроишься, а тута оклад хороший дали, оно и понятно, кто ж в страх-то этакий работать пойдет? Ну Маланья-то по первости тихо себя держала, скромно, и работала прилежно… – Прасковья прижала руки к щекам, будто опасаясь выдать лишнее, кружевной платочек, к этому моменту изрядно измятый, торчал из красного кулака.
– А тут аккурат пошли слухи, будто бы у графа любовь случилась, причем такая, что вот-вот свадьбу сыграют. Маланья-то на самом деле не больно работящая была, а тут и вовсе такое послабление дала, что я уж и не чаяла с нею управиться. А еще по ночам исчезать стала и плакать беспричинно… ну а как с лестницы скатилася, то сразу все и поняли.
Круглое Прасковьино лицо блестело капельками пота, особенно над переносицею и верхнею губою, где из бляшки черной родинки торчали три рыжие волосины.
– Полюбовник у ней имелся! – выдала Прасковья громким шепотом. – К нему она бегала, от него и понесла, оттого и слезы, и страх – а ну как прознают про брюхатость и за двери выставят? Граф-то дальше носу собственного ничего не видел, с ним бы увязываться можно было б до самых родов, а там и подкинуть младенчика к приюту, а графиня – другое дело, бабы-то такие вещи в момент примечают. Вот и боялась Маланья, а оно вон как со страхом ее вышло.
Шумский сморщился, мысленно, конечно, не хватало еще этой дуре собственную брезгливость выказать. А история уродливая, почти как баба, сидящая напротив, с ее мешковатым платьем, розовой распотевшейся шеей да ворованным платочком в руке. Нет, таким в пьесе не место, если уж писать, то про любовь.
Ижицын объявился третьего дня, Матрена аккурат пироги затеяла, с капустою да яйцом рубленым, тесто замесила и, прикрыв чистою тряпицею, в печь сунула, чтоб в тепле и тишине подымалось. Я любила пироги и наблюдать за Матреною тоже любила. Круглолица, полнотела, двигалась величаво, неторопливо и вместе с тем с поразительным проворством, успевая и дров в печь подкинуть, и с капустою управиться, и грибы сушеные варом окатить, и, понадергав с луковой косы круглых крепких головок, во мгновенье ока счистить с них ломкую золотистую кожуру.
Вот лукового запаху я не любила, глаза моментально начинали слезиться, а Матрена ничего, режет меленько, только время от времени глаза рукою вытирает.
– Шли б вы, барыня, – пробурчала Матрена, ссыпая лук на сковороду. – А то Полина Павловна внове сердиться станут.
И то правда, маменька, поди, обыскалась… но уходить не хочется, в комнатах тоскливо и сыро, второй день кряду идет дождь, мелкий, осенний и зябкий, и маменька мучится мигренью, а я мерзну, кутаюсь в шаль, но все равно мерзну, и нет желания ни читать, ни вышивать, плакать вот только хочется, беспричинно и горько.
А на кухне тепло, растопленная печь пышет жаром, воздух кипит от запахов, а Матрена, управившись с готовкою, самовар поставит. И под горячий чай со вчерашними, но нисколечко не черствыми булками станет рассказывать о том, что в городе происходит.
Чаю я так и не дождалась, и пирогов тоже – матушка самолично за мною явилась, недовольная, взбудораженная чем-то и оттого раскрасневшаяся.
– Натали! – На Матрену она и не глянула, только губы поджала недовольно, но знаю – мне выговорит потом и за Матрену, и за сидение это, и за то, что от одежды вновь кухнею пахнет. – Боже мой, в каком ты виде?! Ужасно!
Матрена, фыркнув, повернулась спиной, матушку она не то чтобы недолюбливала, скорее уж относилась к ней с неким непонятным мне превосходством, какое обычно испытывают здоровые и сильные люди над больными и слабыми. Это мне так чудилось, на эту тему я не заговаривала ни с Матреною, ни уж тем более с матушкой.
– Натали, к нам… к тебе с визитом… Савелий Дмитрич… прибыть изволили. – Каждое слово матушка произносила чуть более тихо, чем предыдущее, а под конец и вовсе вздохнула тихонько. – А ты в таком виде.
Признаться, в тот момент я совершенно не поняла, о каком Савелии Дмитриче она говорит, и, увидев в гостиной Ижицына, несказанно удивилась. Он сидел на стуле у самого окна, почти касаясь локтем низкого темного подоконника, на который весьма некстати натекла лужица воды. При моем появлении Ижицын вскочил, поклонился и, густо покраснев, пробормотал:
– Вечер добрый, Наталья Григорьевна, я вот… с визитом… не знаю, сколь уместно без предупреждения… оказался поблизости, а Алевтина Филипповна была столь любезна…
Намокшие рыжие волосы Ижицына слиплись тонкими прядками, сквозь которые проглядывала бледная кожа. А робкая, какая-то заискивающая улыбка совершенно не шла этому блеклому, невыразительному лицу, как и глаза, бледно-голубые, почти белые, обрамленные длинными рыжими ресницами.
У Сереженьки глаза серые, а когда сердится или горячится, доказывая некую очередную свою теорию, они темнеют, загораются внутренним огнем души, и Сереженька в такие моменты хорошеет несказанно.
Сереженьку матушка не привечает, а с Ижицыным пили чай с вареньем, булками и пирогами, которые остыли на кухне без моего пригляду. С Ижицыным мы беседовали, уж и не вспомню о чем, но и в разговоре, как и в танцах, он оказался неуклюж, запинаясь в словах, путаясь, краснея по поводу и без.
И чай расплескал.
А матушке он понравился, уж не знаю чем, скорее всего, той робкой надеждой на мое замужество, которой, я не сомневалась, вскорости суждено было погаснуть.
Я ошибалась.
Юлька
– Шапку надень. – Верка едва ли не силой всучила вязаное уродство. – А то заболеешь!
Ага, конечно, заботу проявляет… Юлька, оказавшись на улице, первым делом стянула шапку и запихнула ее в рюкзак. До начала уроков оставалось двадцать минут, нормально, можно не сильно торопиться, тем более что первым – физра, а у Юльки освобождение, она вообще в такую рань в школу выперлась, чтоб Анжелку проводить…
– Мама сказала, чтоб я за тобой приглядывала, – заявила та, цепляясь за рукав. – Слушай, ну у тебя и видон! Я фигею, как такое носить можно?
– Обыкновенно.
– Мне Ленка сказала, что ты на бомжиху похожа! – Анжелка неловко покачнулась, запнувшись носком ботинка за бордюр. Когда-нибудь шею себе свернет на этих каблучищах, ну и правильно, будет тогда знать.
– Дура твоя Ленка. – Юлька хотела добавить, что и сама Анжелка тоже не слишком-то умна, но не стала, не резон сейчас с Анжелкой ссориться, с ней договориться надо. Она мелко семенила, стараясь обходить лужи и лужицы, и – странное дело – молчала. Насупившись, разглядывала черные пятнышки грязи на светлой замше ботинок и тянула руку с зонтом на себя.
– Там Танька Володшина вечерину устраивает, – Юлька решила начать разговор сейчас. – В субботу. Предки сваливают, а хата свободна.
– И что?
– Ничего. Думала, тебе интересно будет.
– Ну… – Анжелка задумалась. Сто пудов, ей было интересно, но виду не показывает, можно подумать, ее любовь к Витьке Рыбцеву для кого-то тайна, вон фотку в мобилу сунула и любуется по вечерам.
Оборжаться.
– Хошь сказать, она тебя пригласила? – Анжелка прикусила губу, уже не заботясь, что съест помаду.
– Типа того… – Юлька не стала уточнять, что Володшина вряд ли обрадуется ее визиту, но и возражать не станет, небось еще четвертные контрольные не прошли. Впрочем, не собиралась Юлька на эту тусовку, чего она среди мажоров забыла? Вот Анжелку туда отправить – самое то… а заодно!..
– Правда, не знаю, идти или нет, компания не моя, Витек, Жорка, Алька из твоей параллели…
Анжелка скривилась. Алька – ее первейшая конкурентка за Витькину любовь, и конкурентка удачливая, оттого обсуждаемая в кругу Анжелкиных подруг с особым усердием.
До школы осталось совсем ничего, нужно договариваться поскорее, иначе с Анжелки станется самой напроситься, а это будет не то.
– Просто Витька как-то про тебя спрашивал…
– Чего ты хочешь? – До Анжелки наконец доперло. – Если про комп, то я им и так не пользуюсь.
Ага, ей и телефона хватает, трындит по часу-полтора.
– Мы вместе идем к Володшиной и вместе возвращаемся.
– А ты куда собралась? – Анжелкины глаза вспыхнули любопытством.
– А тебе дело? Не хочешь – не надо, одну тебя Верка не пустит, а я скажу, что простыла, вот нарочно скажу, и пусть с твоим Витьком Алька любезничает.
– Ты злая, – Анжелка сказала это тихо и спокойно. – Почему ты такая злая, а, Юль?
– По кочану, – в глазах снова вспыхнули слезы. Она злая? А они добрые? Папаша если и замечает, то только чтобы наорать. Верка вечно с замечаниями лезет и пытается построить. Анжелка, чуть что, стучит… это потому, что Юлька – лишняя и всегда лишней была.
До школы шли молча. В дожде здание выглядело блеклым, только окна блестели да выкрашенные в белый цвет бордюры выделялись искусственной яркостью на сером школьном дворе. На центральной клумбе мокли лиловые астры и грязно-желтые бархатцы, а высаженный в прошлом году можжевельник осыпался жухлой хвоей.
Зато в вестибюле тепло и сухо, к раздевалкам, как обычно, очередь, а до первого урока всего пара минут осталось. Анжелка торопливо стянула куртку, запихала в рукав берет и, сунув в руки какому-то пацану, велела:
– Повесь.
Ну да, у нее и среди мелюзги поклонников море. Зато у Юльки есть Дух…
– Юль, ты ведь ничего такого не задумала, да? – Анжелка заглянула в глаза. – Если ты просто сходить хочешь… ну, туда… то я согласна.
В классе было тихо и пусто, редкое состояние. Можно историю повторить, или инглиш… или ничего не повторять, а лечь на парту и вспоминать вчерашний разговор.
Дух… Дух – он, конечно, немного странный, но… но ведь если он умер, то как Сетью пользуется? А с другой стороны, почему бы и нет?
Нет, разводит, сидит себе и стебется над дурочкой, которая в сказку про привидение поверила… хотя Дух не такой, он вежливый и всегда Юльку понимает, даже лучше, чем она сама, и описал же, в чем она на кладбище приходила!
Значит… ничего не значит.
– О, какие люди! – Витек открыл дверь в класс ногой. – Неужели решила почтить нашу обитель знаний?
– В отличие от некоторых я ее часто посещаю.
– Зато я – метко. – Витек плюхнул мокрый рюкзак на парту рядом с Юлькой. – Не возражаешь?
От него несло одеколоном, понтово зачесанные волосы чуть растрепались, а рожа сияла загаром. И прыщей нету… хотя все равно, отсутствие прыщей – еще не повод, чтоб влюбляться.
– Слухай, Юлёк, а сеструха твоя натуральная или крашеная?
– Натуральная.
– Отпад. А че, она и вправду тебе неродная?
– Вправду. – Юлька, подвинув рюкзак, рукавом смахнула капли воды и математику достала – авось этот придурок отстанет. Какое ему дело, родная Юльке Анжелка или нет?
– По морде видно, – отставать он и не думал. – Она вся такая лапонька, а ты – мымра! – Витек заржал.
Мымра. Это с его руки прозвище прикрепилось, правда, в лицо говорить смелости не хватает, за спиною шепчутся. Юлька собрала чуть влажные волосы в хвост и открыла учебник. Плевать на Витька и на остальных тоже – моральные уроды, сбились в стаю и кайф ловят.
У Юльки есть Дух. Он другой, он настоящий, он понимает…
– Слышь, Мымра, дай скатать домашку? – В голосе Витька появились просительные нотки.
– Отвянь.
– Не, ну че тебе, впадлу, да?
Впадлу. Тошнит и от Витька, и от остальных, от нравоучений, от сравнений постоянных, от того, что из нее пытаются вылепить Анжелкино подобие – зефирно-розовое и сладкое до тошноты. А Юлька другая, она сама по себе. И с Духом.
– Психованная, – заключил Витек и, забрав рюкзак, перебрался на обычное место. – Юлёк, вот скажи, с чего ты такая психованная, а? Че тебе для счастья не хватает?
Юлька прикусила губу, чтоб не разреветься. Счастья не бывает, бывает одиночество и понимание своей ненужности и никчемности.
Но никто не знает об этом, никто, кроме Духа.
«Прости меня, если напугал, поверь, я никогда, ни при каких обстоятельствах не причиню тебе вреда. Ты – мое единственное спасение от одиночества, моя надежда и моя жизнь. Пожалуйста, не исчезай… умоляю».
Ижицын С.Д. Дневник
Уля сердится, прослышала о моем романе, который и романом-то назвать нельзя, потому как ясно вижу – не мил я Наталье. Ульяна трижды раскладывала свои карты, в кабинете, не на полу, как обычно, а на столе, поверх бумаг, а под конец сгребла все и ушла, бросив на колени одну-единственную, засаленную, не слишком-то чистую карту, такую, что по своей воле и не прикоснулся бы.
К слову, картинка преотвратительная: человек, подвешенный за ногу на дерево. Что бы это могло означать? Навряд ли что-нибудь хорошее. Впервые я задумался о том, что, может, Ульяна и вправду ведьма.
Хотя, конечно, глупость, такая же, как моя любовь, с которой я не знаю, что делать. Я даже благодарен Наталье за ее равнодушие, которое дает мне отсрочку… от чего?
И сам не знаю.
А Машенька выздоровела. Хорошо.
Верно, хорошо, но… ежели б она вдруг умерла, то я был бы свободен. Отчего такая мысль пришла только сейчас? И отчего мне за нее не совестно?
Василиса
Иван опоздал на полчаса, за это время я успела обрадоваться – перспектива работать на полусумасшедшего типа, которому вздумалось жить в доме-с-привидениями, не прельщала. И огорчиться из-за незаработанных денег. Да и не люблю, когда планы ломаются.
– Умоляю о прощении, – Иван легонько пожал руку. – Виноват в задержке не я, но некоторые обстоятельства…
– Ничего страшного, – соврала я. Обстоятельства… ага, Динка никогда не умела приходить вовремя. Динка сидела в машине и зевала, на личике ее было выражение столь откровенной скуки, что мне стало неудобно.
– Сказочно выглядишь, – сказала Динка. – Прям-таки по-королевски… вдовствующая королева. Ага.
Иван с готовностью засмеялся.
Ехали долго, а мне казалось, что ижицынский дом ближе – кладбище-то в городской черте, а оттуда дом уже виден.
– Об одном прошу. – Иван остановил машину. – Не удивляйтесь и ничего не бойтесь. Евгений – личность весьма специфического характера, однако же безобиден.
Дом-с-привидениями кутался в сиреневую ночь, стыдливо прикрывая башенки, колонны и тонкие ребра-полуарки.
– На самом деле, – Иван подал руку Динке, помогая выбраться из машины, – он замечательный человек… вот увидите. Осторожнее, к сожалению, реконструкция пока коснулась только особняка…
И вправду, в этой темноте на узкой скользкой дорожке и шею свернуть недолго… все-таки интересно будет поглядеть на оригинала, решившего поселиться в подобном месте.
Он был болезненно невзрачен, сверх меры худощав и сутул. Черный дорогой костюм выглядел нелепо и чуждо, съехавший набок галстук казался и вовсе неуместной деталью, как и трубка, которую Евгений держал осторожно и даже брезгливо, точно не мог понять, что ему с этой вещью делать.
– Боже мой, – прошептала Динка. – Вот уродец.
Евгений дернулся, ссутулился еще больше и раздраженно швырнул трубку на стол. Неужели услышал? Кабинет огромный, а Динка говорила тихо.
– Добрый день. Рад. Очень рад вас видеть. – Радости в его голосе я не услышала. – Присаживайтесь.
Он говорил резко, отрывисто, так, как будто на полноценную фразу не хватало воздуха. Признаться, приближаться к нему было страшновато, но Динка, вцепившись в руку, потянула вперед. Динка улыбалась, Динка лучилась радостью от встречи.
Притворщица.
– Иван вынужден был отлучиться. Просил передать – ему жаль. Дела. Бизнес. – Вблизи хозяин реконструируемого особняка выглядел еще более некрасивым. Я разглядела блекло-рыжие, цвета застиранной майки волосы и такие же блеклые глаза. Господи, бедный, ему, наверное, тяжело приходилось, особенно раньше, когда некрасивость не уравновешивалась деньгами.
– Иван опоздает? А ужин? – Динка надулась.
– К ужину вернется. Мы пока о деле. Если не возражаете. Василиса – это вы? – Он смотрел на Динку с такой отчаянной надеждой, что мне стало неловко.
– Она, – ответила подруга, усаживаясь в кресло с высокой спинкой. Тяжелые линии, замысловатая резьба… дорогая копия дорогой вещи.
– Прошу, – Евгений указал на другое кресло и руку протянул для пожатия. Ладонь сухая, горячая и жесткая. А вот Динке он лапку поцеловал…
Снова зависть. Завидовать нехорошо. А не завидовать не получается.
– По поводу работы. – Евгений повернулся к Динке. – Хотел бы нанять. Вас и ее… обеих. Оплата по согласованию. Проживание здесь. Содержание за мой счет. В распоряжении машина. Город недалеко.
– Содержание – понятие расплывчатое. – Динкины пальчики задумчиво скользнули по подлокотнику.
– Пять тысяч в месяц. Евро. – Намек по поводу содержания Евгений пропустил мимо ушей. – Работы на месяц. Или два. Не больше. Досрочное выполнение – премия. Двойной оклад.
Его манера речи все-таки раздражала, и сам раздражал, карлик-гремлин в сказочной пещере. Богатый и самоуверенный. А я – неудачница. Завистливая, мелочная неудачница.
– Жить здесь я не хочу, – заявила Динка. – Приезжать на время еще можно, но чтобы совсем… мрачновато как-то, вы не находите?
– Хорошо. Приезжайте. Это несущественно. – Евгений снова проигнорировал Динкино замечание. А по мне – дом в отличие от хозяина великолепен. Торжественный полумрак, сводчатые потолки, стрельчатые окна… жаль, витражи не уцелели.
– От вас потребуется, – продолжил Евгений, переключая внимание на меня, вот уж спасибо, лучше б и дальше на Динку пялился. Глаза-то ледяные… и не бесцветные вовсе, а бледно-бледно-голубые: октябрьское небо, талый лед и капля ультрамарина в тюбике титановых белил.
– Составить каталог. Выделить экспонаты, нуждающиеся в реставрации. Экспонаты спорного авторства и требующие экспертизы. Экспонаты, нуждающиеся в специальных условиях хранения…
Динка шумно вздохнула.
– Если нет принципиальных возражений, то о деталях – после ужина. В гостиной есть зеркало. – Он сказал это, глядя в глаза, отчего вдруг сразу как-то стыдно стало за то, что некрасивая и не такая, наверное, как он себе представил, и зеркало мне совершенно точно не поможет.
– Премного благодарны, – ехидно отозвалась Динка, подымаясь. – Особенно за зеркало.
– Пожалуйста, – Евгений ехидства не уловил. Или проигнорировал. – Значит, принципиальных разногласий нет? А к дому привыкнете, готика всегда воспринимается неоднозначно.
Готика-готика, чертова эротика… вот, значит, как оно получилось. Забавно. И еще отчего-то страшно.
– Ну и как тебе этот придурок? – поинтересовалась Динка, придирчиво изучая свое отражение в зеркале. Зеркало было старинным, отражение мутным, и Динка злилась. – Псих и урод. Но богатый. Как я выгляжу?
– Великолепно.
– Спасибо. – Динка чуть взбила прическу. – Боже, я в этом музее сдохну со скуки. И зачем я согласилась?
Действительно, зачем? Деньги? Для меня сумма заоблачная. А Динка в неделю тратит больше.
– Ради тебя, глупая. – Она чмокнула меня в щеку, потом, послюнявив палец, принялась оттирать отпечаток помады, потом поправлять ту, которая осталась на губах. – Ты ж так и будешь коллекцию описывать. Экспонаты туда, экспонаты сюда…
– Ну… да.
– Балда. Ну подумай, когда еще такой шанс будет? Богатый, неженатый и, более того, одинокий!
– А в чем разница? – Я подвинула Динку и уставилась на собственное отражение. Ужас! Из-за рыжих волос кожа бледная, в синеву, и красная помада на ней кровяным пятном.
– Разница в том, что даже если не женат, то еще не факт, что одинок. А тут бабы нету, Ив говорит, что с бабами этому не везет. Ну да теперь понимаю почему… Не смей стирать помаду! И выпрямись! А гардеробом твоим я займусь. – Динка окинула меня задумчивым взглядом.
– Дин, я работать собираюсь, а не романы крутить.
– Одно другому не мешает. И зря набычилась, ну Вась, ну да, страшный, зато при бабках! Заживешь нормально, как белый человек… а что до внешности… привыкнешь. И вообще, если разобраться, то какая разница с кем, если в темноте? На крайняк любовника заведешь…
Спорить с ней бесполезно, поэтому я промолчала.
Ижицын С.Д. Дневник
Я не знаю, что мне делать. Я боюсь потерять ее, зная, что не любит, продолжаю преследовать ее своим вниманием. Химеры надежды, демоны желаний и страх их исполнения. Полина Павловна откровенно ждет, когда же я сделаю решительный шаг, Наталья столь же откровенно боится… а я пребываю в полной растерянности.
Затеять развод? Вероятно, мне удалось бы получить его, но какой ценой? Слухи, сплетни, разговоры вокруг моего имени, презрение, непонимание… у Натальи будет повод отказать. Я и сейчас не уверен, что она ответит согласием, я радуюсь титулу и состоянию, тому, что они позволяют мне получить ту единственную радость, которая вдруг стала нужна, как воздух.
Я мерзок самому себе, потому как понимаю, что совершаю подлость. Двойную, тройную подлость. И по отношению к Маше – пускай она и не поймет, пускай в ее безумном мире ровным счетом ничего не изменится. И по отношению к Наталье – покупая ее любовь и обрекая на позор, если правда вдруг выплывет наружу.
Не выплывет. Не должна. Машенька изрядно постарела и болеет часто, Бог даст, скоро я освобожусь…
Господи, о чем я думаю?
Но неужели я не имею права на счастье?
Матвей
Офис компании «Золотое руно», принадлежавшей Игорю Казину, занимал отдельное здание – уютного вида двухэтажный особняк с толстыми колоннами, поддерживающими щедро сдобренный лепниной портик. С лепнины на горшки с нарядными вечнозелеными шарами можжевельника текла вода. Ох и мерзкая же осень… холодно, адски холодно, и в горле снова першит. Вот чует сердце, что за все труды праведные ждет его ангина.
Внутри особняка было тепло, и личный секретарь Казина, солидного вида дама в строгом костюме, к шефу пустила без проблем.
– Вы только аккуратнее с ним, – попросила она, открывая массивную дверь. – Игорь Юрьевич – хороший человек, просто у него… сложная жизненная ситуация.
Игорь пребывал в той кондиции опьянения, которая свидетельствует о длительности и непрерывности процесса. Выглядел он отвратительно: немытые волосы прилипли ко лбу, физиономия опухла и покраснела, да еще и редкая белесая щетина придавала облику некую логическую завершенность.
– От Жанки? – Игорь поднялся навстречу, но зацепился ногой за изящный столик на колесиках, который и опрокинул вместе с содержимым. Бутылки покатились по полу, добавляя к букету запахов резкую спиртовую вонь.
– Вали отсюда! И скажи – развод! Сегодня же подам! Сегодня!
– Меня нанял ваш компаньон. – Подходить близко к неприятному типу, провонявшему потом, чесноком и водкой, желания не было, но, наверное, придется. Все-таки дело – прежде всего. Попытавшись проявить вежливость, Матвей представился: – Матвей Курицын.
– И на кой ты Генке? За сеструху просить прислал? Ведьма! Всегда знал, что ведьма! Покойная-то моя жена добрая была, ласковая, а Жанка – стервозина! Истеричка! Чего тебе надо?
– Я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти вашей дочери. – На всякий случай Матвей отодвинулся, мало ли, алкоголики – народ непредсказуемый. Но Казин повел себя спокойно и даже по-деловому. Сел, кое-как отряхнул мятую грязную рубашку, волосы пригладил и, водрузив локти на колени, задумчиво произнес:
– Обстоятельства… ну загнул, обстоятельства… дерьмо, а не обстоятельства… но Генка – молодец… правильно, нужно разобраться, кто Машеньку подговорил. Ведь не сама же она решила?
В карих глазах Казина была такая надежда, что Матвей смутился, чего с ним не случалось уже давно. От смущения и ляпнул:
– Пока не уверен, но кое-какие сомнения возникли.
– Сомнения, значит… Генка говорит, конкуренты копают… и тебя нанял. Я сам должен был. Пить будешь?
– Благодарю, но не употребляю.
– Брезгуешь, – по-своему решил Игорь. – Ну и насрать, что брезгуешь. Я сам, я один… теперь вот один совсем остался, сдохну, и не заметит никто… Машенька, доченька единственная…
Смотреть на пьяные слезы было противно, и Матвей принялся разглядывать кабинет. Кабинет самый обыкновенный, внушающий уважение размерами и дорогой, нарочито массивной, «под старину», мебелью. Правда, бежевый диван пестрел разномастными и разноцветными пятнами, ковер сбился, задрался, открывая припыленный участок пола, а с вычурной скульптуры, неясно кого или что изображающей, свисал галстук.
– Ты спрашивай, спрашивай. – Игорь наклонился за бутылкой и, отхлебнув из горла, занюхал собственным рукавом. – Это правильно, что расследуешь. Я премию дам, если найдешь уродов, которые Машеньку угробили…
Похоже, разговор все-таки имел шансы состояться. Матвей, выбрав кресло почище, сел.
– Расскажите о Маше. Характер. Привычки. Друзья-подруги-увлечения.
– Не было у нее подруг. И увлечений тоже, она в школе училась. Она у меня тихая, в Шурку – это моя первая жена, – пояснил Игорь. – И характером в нее… ну с Жанкой-то они лаялись, но из-за чего, не вникал. Я ж вкалывал, с утра до вечера, без выходных, без праздников… все им, Машеньке и стервозине этой. А ведь поначалу-то как было? Влюбился. Вот увидел и влюбился. Жанночка тоненькая, светленькая, чистенькая такая вся, глядеть и то страшно, чего уж про трогать… ухаживал. Букеты, ресторации, презентации… кольцо в корзине с розами, зеленый алмаз на пять карат и топазы… ей понравилось. И Машка тоже. Точно не выпьешь? Один не хочу, я ж не алкаш – горе у меня…
Матвей покачал головой.
– Ну дело твое. – Игорь снова сделал глоток, но, прополоскав рот, сплюнул на пол. – Мерзость. Я ж не пил, вообще не пил… и с бабами чтобы – ни-ни. Ну разве уж совсем выпадет… корпоратив или баня с партнерами, но какие ж там бабы – шлюхи. Генка не встревал, понимал, что иногда надо гульнуть, Жанка скандалила, конечно, но не сильно, браслетик ей купишь, шубку – успокоится. А оно вон как – отомстила!
– Полагаете, это была месть с ее стороны?
– Полагаю? – переспросил Казин. – Не знаю. Она ж по первости с Машкой ладила, в школу водила, уроки делала, а потом вдруг беременность…
– И что? – Матвей напрягся. О беременности Жанна Аркадьевна ни словом не обмолвилась.
– И ничего, ну, в смысле, ничего не вышло, выкидыш, а у Жанки – истерика. И от Машки ее как отрезало. Гувернантку наняла… а мне сказала – типа, в строгости держать надо, манеры воспитывать, чтоб настоящая леди. Я, дурак, и поверил. Да и не вникал особо, говорю ж, на работе упахивался…
– Скажите, компьютер в Машиной комнате – это ее?
– А чей же? У Жанки свой, правда, не пользуется, но есть. И у меня в кабинете, а у Машки – в комнате.
– Давно купили?
– Ну… с год где-то… – Игорь одернул рукава рубашки, попытался застегнуть воротничок, но пальцы не слушались.
– И часто она им пользовалась?
– Машка? Понятия не имею, пользовалась, наверное.
– А одежду девочке кто покупал?
– Шмотки – Жанка и сама Машка, у нее ж карточка была, я специально открыл, на карманные расходы… А что, ей мало было?
Много. В общем-то, дело не столько в количестве, сколько в разномастности Машиного гардероба: блузы, сарафаны, платья, юбки, костюмы – строгие, стильные, дорогие. И тут же драные джинсы, мешковатые брюки-унисекс, вызывающе дешевые свободные свитера.
– Жанка что-то говорила… типа, Машка всякую хрень китайскую скупает… мне-то что, пусть скупает, если нравится. А теперь уже все. – Он снова заплакал, а Матвей отвернулся. Можно было уходить, все, что нужно, он выяснил.
– Из-за поездки этой поссорились… Машку не нужно брать, а она хотела. Просилась. Дождалась как-то с работы и говорит: «Папа, возьми меня с собой, пожалуйста, я мешать не стану. Обещаю». А я отказался и наорал еще: пришел на взводе, на работе проблемы, поездка срывается, Жанка запилит, она уже и билеты купила, и настроилась… душу и без того воротит, а тут еще и Машка… Я ей… я ее дурой обозвал… а она вены перерезала. Я виноват, да?
– Не знаю, – честно ответил Матвей.
«Скажи, зачем держаться за воздух? Чего искать? К чему стремиться? Зачем любить тех, кто болен равнодушием? Не оценят. Не поймут. Даже не заметят ухода.
Извини, сегодня снова осень, а мир не изменился, в нем так же мало правды, как и прежде. Давай я лучше расскажу тебе о любви…»
Это письмо нашлось в Машином рюкзаке.
«Любовь – это больно. И немного страшно. Любовь – это жертва. Стать на край и шагнуть вниз, веря, что тебя поймают. Ты веришь мне?»
И сделанная от руки приписка: «Конечно, верю. Только тебе и верю».
– Натали, Натали – ангелом была, тонкая, нежная, чувственная… не в телесном плане, я о душе говорю. – Ольховский закрыл глаза, был он бледен и дышал тяжело, и видно было, что разговор этот отнимает последние силы. – Вы не думайте, мы не были любовниками… никогда не были… она для меня – все, сама жизнь. Видите, не стало Натали, ухожу и я. Завтра уже. Или послезавтра. Доктор, собака, врет… не выживу.
Не выживет, вот тут Шумский был совершенно согласен с Сергеем Владимировичем, и доктор, который вначале был преисполнен оптимизма, сегодня уже не спешил с уверениями, что пациент всенепременно поправится.
– Я ее любил, только ее… всегда… с самой первой встречи нашей… и она меня. Свадьбу сыграть думали… поначалу Полина Павловна не протестовала… не особо радовалась, но и совсем от дома не отказывала, а как рыжий этот объявился, мигом переменилась. – Ольховский облизал губы. – Пить охота… дайте… глупая затея была… с дуэлью.
И снова Шумский согласился, глупая, наиглупейшая, а ввиду последствий дуэли еще и трагичная. Ижицын мертв, а Ольховский вскорости отправится за ним.
А хорош! Той самою диковатою красотою, свойственной людям пылким и резким, наделенным от рождения горячей кровью, – оттого и неспокойным, неуемным. Про кровь и неуемность понравилось, надо будет всенепременнейше отметить и использовать, к примеру, в той же пьесе, которая даже начала писаться, но мысленно, тайно и как-то стыдливо, что ли.
Поить Ольховского пришлось самому, горничная куда-то запропастилась, видимо, собирая по дому мелочишку навроде платков, салфеток и серебряных ложечек, которые теперь-то уж точно никто не станет пересчитывать.
Сергей Владимирович пил мелкими осторожными глоточками, но кружка была большая, неудобная, и вода пролилась на подушку.
– Никогда таким слабым не был, – сказал Ольховский. – Всегда сильный… всегда… а тут… руки поднять не могу… дрожит. И больно, все время больно… Думается, скорей бы уж… но сначала рассказать, верно? Должен рассказать… чтоб по порядку. Он к ней приезжать повадился, с подарками, цветами… и матушка радовалась… а я ревновал… я позволил этой ревности и себялюбию уничтожить мою любовь.
Матушка расцвела, матушка только и говорила, что об Ижицыне, каждый день выискивая все новые и новые достоинства, большею частью вымышленные, меня же его визиты несказанно утомляли, и с превеликою охотой я бы отказалась и от графа, и от его подарков, которые становились все дороже, что, по мнению матушки, говорило о серьезности намерений Ижицына.
Сереженька думал так же. Сереженька ревновал, страшно, исступленно, до нервических припадков, когда он срывался на крик и угрозы в адрес Савелия Дмитриевича, и глухого молчания, что пугало меня больше, чем все угрозы.
В один из редких Сереженькиных визитов в наш дом матушка указала ему на дверь, он и ушел. А на следующий день, объявившись у Матрены на кухне – та в отличие от матушки Сереженьку привечала, – предложил мне обвенчаться.
Я испугалась, и за него, и за себя, и за матушку… как можно без родительского благословения? Я попросила время подумать, всего-то день, а он снова ушел, кинув мне в лицо обвинение, будто бы ижицынские деньги важнее любви.
– Ох и бедовый, – сказала Матрена, растапливая самовар. – Тяжко будет с таким жить-то…
Мы пили чай, горячий и безвкусный, и я все думала над Матрениными словами. Бедовый, и вправду бедовый, горячий без меры и резкий, даже со мною резкий.
На следующий день Сереженька не появился, и день спустя, и еще один… Я считала каждый из них, да что там дни – я считала часы и минуты одиночества. А потом получила записку, и ожидание потеряло смысл.
«Я всегда любил тебя, однако выносить сложившуюся ситуацию дальше не имею сил. Полина Павловна никогда не даст согласия на наш брак, а сама ты решиться не способна, потому я решил за нас обоих. Сегодня я отправляюсь в Петербург, оттуда… Впрочем, вряд ли тебе интересны мои дальнейшие планы, потому как в них для тебя места нету. Желаю счастья в браке. Ольховский».
Я читала и перечитывала, не веря, что Сереженька мог быть настолько жесток, настолько несправедлив ко мне, а Матрена, пожав плечами, повторила:
– Бедовый.
Бедовый. Единственно дорогой и любимый, предавший вот так, просто, походя, несправедливый… Я плакала, прямо там на кухне, уткнувшись в пропахшее луком, чесноком да базиликом Матренино плечо. И ночью плакала, и когда принесли очередной букет от Ижицына – крупные карминово-черные розы с тяжелым назойливым ароматом, – тоже расплакалась, а матушка принялась хлопотать, успокаивать и говорить всякие глупости про то, что время лечит и все, что делается, – к лучшему.
Розы я велела выкинуть. Но когда спустя неделю граф Ижицын, по обыкновению запинаясь и краснея, сделал предложение, согласилась.
Какая мне теперь разница, как дальше жить… а матушке приятно будет.
Юлька
Осенние сумерки – это лиловый, фиолетовый и синий, немного желтизны круглых фонарей, немного черноты луж на асфальте, немного белизны на звезды и луна цвета розового перламутра. Надо будет нарисовать сегодня же, пока не забылось, пока не исчезла картинка, растворившись в памяти среди других таких же. Юлька даже постояла немного, запоминая, вслушиваясь, вбирая в себя оттенки.
А ведь нормально вышло, Верка сразу согласилась отпустить в гости к «девочке», велела, правда, вернуться до полуночи, ну да Юльке много времени не надо.
По удачному совпадению Старое кладбище находилось в получасе ходьбы от дома Володшиной, беленая стена слабо светилась, и разлом выглядел обыкновенным черным пятном. Зацепившись штаниной за ржавый штырь, Юлька едва не упала. Но все-таки не упала, а то пришлось бы объяснять, где это она так перемазалась. Протоптанная через заросли крапивы дорожка сильно размокла и скользила, а держаться тут не за что, разве что за ту же крапиву, пусть и пожухшую, поникшую, но все еще жгучую.
Ох, наверное, зря она сюда полезла… забыла, что темнеет рано. А батарейки в фонарике старые, в любой момент сесть могут, хорошо хоть кладбище она знает, как дом родной. Вот слева массивный, чуть скосившийся влево крест… за ним – простой обелиск со скрученной звездой… теперь налево, мимо каменной глыбины с табличкой, кажется, на ней что-то о вечной любви. И прямо. Вот он, памятник с ангелом и скамеечкой, на которой она обычно отдыхает. Ржавая оградка уцелела лишь частично, зато в каменной вазе со сколотым краем стояли ветки можжевельника, которые Юлька в прошлый раз сунула – как-то грустно выглядела ваза без цветов.
Имя пришлось искать долго, желтое пятно света скользило по мокрому камню, выхватывая трещины и пятна лишайника, пока наконец не наткнулось на буквы. «Девица Евдокия Анишина. 1871—1912 гг. От возлюбленной сестры и ея супруга».
– Девица. Евдокия Анишина. – Юлька повторила вслух. – Девица…
Могилка Агафьи Петровны сыскалась неподалеку… а вот Ольховского не было. Юлька искала, пока батарейки не сели, искала, перебирая все могилы в этой части кладбища.
Не было Ольховского!
Или памятника не сохранилось.
Снова зарядил дождь, и ноги промокли, и куртка, и Верка теперь ни за что не поверит, что Юлька в гостях у подруги была, начнет орать, что Анжелку бросила и сама потащилась неизвестно куда, дома запрет, отцу нажалуется…
Под дождем казалось, что постаревший ангел сорокалетней девицы Евдокии Анишиной льет слезы, сочувствуя Юльке. А на обратном пути она все-таки упала, прямо коленями в лужу и ладонями в скользкую холодную глину, и руку порезала, до крови.
Анжелка стояла на улице, у фонарного столба и ревела, уже без слез, всхлипывая и подвывая.
– Ты чего? – Юлька даже не разозлилась. Больно было и холодно, и ноги промокли, а джинсы все в грязи. Надо пойти наверх, попытаться отчистить, хотя бы немного.
– Че, прогнали? Сейчас, да погоди ты, помыться надо, не видишь, какая я?
Анжелка только головой замотала и подняться в квартиру не дала, еле-еле удалось ее в подъезд затащить, там хоть немного теплее, а то руки задубели и пальцы совсем не чувствуются, особенно на той, которая порезана.
– Это… это где ты? – Анжелка уставилась на порез с ужасом и отвращением, и вправду страшно выглядит, грязная рука, частью в глине, частью в крови, разодрана наискось, и платок, которым Юлька еще там, у кладбища, кое-как рану замотала, побурел и съехал набок. – Это ты там?
– Там, – Юлька поправила платок так, чтоб хоть как-то закрывал царапину, рука в тепле начала отходить и гореть, и дергать болью. А если вдруг заражение?
И штаны грязнючие, такие не отмоешь, значит, Верка снова заведет песню про то, какая Юлька тварь неблагодарная и ничего-то не ценит. А Анжелка, значит, благодарная и ценит.
Анжелка стояла рядом, жалась к грязной батарее, на которую кто-то бросил драный сапог, и время от времени всхлипывала. Ну и страшная же она, мокрые волосы слиплись желто-бурыми прядками, тушь и тени растеклись сине-черными дорожками, а размазавшаяся, частью съеденная помада делала рот огромным и отчего-то съехавшим набок.
Анжелка всхлипнула и, потерев ладонью глаза, пожаловалась:
– Т-ты долго. Я ждала, ждала… а ты не идешь. Замерзла вот. Они сказали, что ты – психованная, придурошная и припадочная… что тебя в дурку сдать надо или в школу для дебилов…
– Самих их в дурку… для дебилов. – Грязь не отчищалась, только больше размазывалась, покрывая немногие относительно чистые участки ткани скользкой пленкой глины.
– Сказали, что ночью нормальный человек на кладбище не попрется, – продолжала жаловаться Анжелка, она дрожала, то ли от холода, то ли от страха, и даже жалко ее стало. – И что я, наверное, такая же, как ты.
– Не такая.
– И я им так. А В-Витька, о-он д-доказать потребовал.
– Чего он потребовал? – Юлька даже про боль в руке забыла. Вот придурок, урод чертов, ну все, ему кабздец полный, завтра же зубы из-под парты выметать будет, и наплевать, кто у него там в родителях.
– Д-доказать. П-полез ц-целоваться и лапать, и Кузя с ним… и Тихон тоже. Я… я кричать н-начала…
Юлька вдохнула поглубже, успокаиваясь, правда, не больно-то вышло.
Дауны. Твари безмозглые, что Витек, что дружбаны его – Кузьминичев с Тихомириным.
– А В-Валька сказала, чтоб отпустили, что я малолетка и предкам нажалуюсь… а мне, чтоб убиралась.
– И ты убралась?
Анжелка кивнула, скривилась и снова заплакала. Вот же…
– Ну, не реви, – утешать как-то не получалось, не умела Юлька утешать. – Я им завтра челюсть сверну. Всем троим. Или отобью чего-нибудь, или… или порчу наведу. Хочешь?
– Д-давай домой пойдем? М-мама волнуется.
Ижицын С.Д. Дневник
В моем доме погибла девушка, горничная, кажется, ее звали Маланьей. До чего неуместная, нелепая смерть – упасть с лестницы. Полиция утверждает, что девушка пребывала в интересном положении, что вкупе с незамужним ее статусом придает ситуации определенную пикантность.
Снова ложь и снова слухи. Надеюсь, до Натальи они не дойдут, мне кажется, в последнее время она изменилась ко мне, стала не то чтобы мягче, скорее уж задумчивей, мечтательнее. Считаю это добрым знаком, хотя и понимаю, что выходит она за меня по велению матери.
Пусть так. Пусть хотя бы даст мне шанс, я постараюсь заслужить ее любовь.
И все же эта смерть несколько беспокоит. Не хотелось бы привлекать внимание к дому, который и без того вызывает чересчур уж много интересу. Пожалуй, мысль строить по собственному плану оказалась неудачною.
Василиса
Обеденный зал вобрал в себя все оттенки серого – от легкой жемчужной дымки свежеоштукатуренных стен до резкой графитовой черноты под высоким сводчатым потолком.
– Боже мой! – Динка взяла меня под руку. – Только не говори, что ужинать мы будем тут! Мрак.
Мрак, тьма, ночь, загадка, тайна, готика… Не удержавшись, я провела рукой по стене. Холодная и сухая, неровная и нарочито состаренная.
– Декоративная штукатурка, – сказал Евгений, заметив мой интерес. – Прошу к столу.
Стол располагался в самом центре зала на небольшом постаменте и поражал размерами. Здесь человек сорок уместилось бы или сто сорок, а нас только четверо… Динка и я по одну сторону стола, Ив и Евгений по другую. Противостояние.
Не знаю, почему вдруг в голову пришла мысль про противостояние, но как-то… неуютно вдруг стало. В черном полированном дереве отражалось пламя свечей, салфетки сияли белизной, в круглых вазах плавали темно-бордовые, почти черные в неровном свете розы…
– Мило, – Динка нервно улыбнулась. – Несколько эксцентрично, но в целом – сказочно!
– Благодарю, – вежливо отозвался Евгений. Вот уж кто абсолютно не вписывался в обстановку – блеклый, неуклюжий, совершенно теряющийся на фоне этой псевдоисторической роскоши. От тишины, воцарившейся за столом, стало совсем тоскливо. Динка и та молчала, поэтому, когда Иван заговорил, я, честно говоря, обрадовалась.
– У этого дома темная история. – Иван наполнил бокалы вином, а я вдруг подумала, что сему великолепному действу недостает слуг. Вышколенных, тихих, мелькающих за спиной неназойливыми тенями… Подумала и обрадовалась, что их все-таки нет.
– Что за история? – Динка подняла бокал и прищурилась, разглядывая сквозь жидкое винное золото огоньки свечей.
– Неприятная, – отозвался Евгений.
– Скорее уж мрачная и кровавая, вполне подходящая этому месту…
– Рассказывай, – велела Динка. – Должна же я знать, куда по твоей милости попала. А то с моим сказочным везением… Вы ведь не станете возражать?
Евгений пожал плечами и уставился в тарелку, смотреть на меня он избегал, на Динку, наверное, стеснялся, а больше смотреть было не на что. Я вот розы разглядывала, черные лепестки в стеклянных бокалах, вода искажает свет и линии… Нужно будет попробовать написать, тяжелый плотный фон и в центре яркое пятно вазы… масло, только масло… гармония иссиня-черного, нежно-лазурного… а розы желтыми будут, красные – чересчур мрачно.
– Да в общем-то, если разобраться, самая обыкновенная бытовая трагедия. Просто коснулась лиц знатных и, как принято говорить, облеченных властью. Началось с того, что в городе появился некий граф Ижицын, который предпочел Петербургу покой здешних мест. Одни говорили, что из столицы он уехал из-за сердечной травмы, другие искали причины переезда в политических взглядах. – Иван рассказывал с удовольствием, а вот нынешнему хозяину особняка его откровенность была явно не по душе. Вроде бы сидит, ни словом, ни жестом не пытаясь прервать, а я нутром чую – не нравится.
– Ижицын в провинции прослыл великим оригиналом. Взять хотя бы этот дом, построенный вблизи кладбища. Судя по всему, подобное соседство Ижицына не смутило. Как и затраты на строительство или тот факт, что вряд ли кто здесь оценил мрачноватую эстетику особняка.
– Откуда ты знаешь, что не оценили? – влезла Динка.
– Предполагаю. Пусть будет творческое допущение, если ты не против.
– Да ладно. – Динка пригубила вино и, сморщившись, отставила бокал в сторону. – Кислятина. Не люблю сухие…
Вино и вправду было резковатым, но резкость эта лишь придавала вкусу выразительности. Хотя… я совершенно не разбираюсь в винах, может, и вправду кислятина.
– Красное? – Иван тут же исправил упущение. – Итак, дом был построен, граф кое-как обжился и даже завел себе знакомства в местном высшем обществе. Его приняли, пусть и оригинал, но граф, ко всему состоятельный и холостой… редкое совпадение.
– Надо же, время идет, а ничего не меняется, – пробормотала Динка.
– Спустя некоторое время граф женился на некой Наталье Григорьевне Нуршиной, девице из рода не самого знатного и ко всему обедневшего, оттого фактически обреченной либо на вечное девичество, либо на мезальянс с каким-нибудь купцом или помещиком. Опять же предполагаю, что местная аристократия потере жениха столь выгодного вряд ли обрадовалась, и пару перестали приглашать в свет. Или же граф, желая насладиться обществом молодой жены, сам отказывался от выездов, во всяком случае, на люди супруги не показывались, предпочитая вести замкнутый образ жизни в этом самом доме.
…Среди сумрака и теней, в печальной темноте обеденного зала, или в гулкой тишине бального… в пыли пустующих комнат, в одиночестве музыкального салона… ей, наверное, было очень страшно… Любила ли она своего мужа? Или просто поняла, что его предложение – последний шанс вырваться из бедности и безнадежности?
И почему мне так жаль Наталью?
– Спустя год после свадьбы Наталья родила ребенка, мальчика, а спустя некоторое время умерла. Хотя нет, интрига требует раскрыть сюжет иначе. – Иван определенно вошел во вкус. – Итак, первая трагедия случилась в доме перед самой свадьбой. Некая Палахина Маланья, служившая в доме горничной, свалилась с лестницы и свернула себе шею. Печальное событие, особенно с учетом полицейского протокола, где обращалось внимание на то, что погибшая находилась на сносях, но живот увязывала, что и привело к несчастному случаю, решили, что у нее голова закружилась. Граф женился, про Маланью забыли, а меж тем спустя полтора года история повторилась, но на сей раз жертва покончила с собой, повесившись не где-нибудь, а в опочивальне графа, и была она не горничной, а платной компаньонкой, нанятой развлекать молодую графиню.
Иван ненадолго прервался, и, удивительное дело, даже Динка не решилась влезть в паузу со своими комментариями.
– А надо сказать, у Натальи в прежней дозамужней жизни имелась сердечная привязанность в образе некоего Сергея Ольховского, человека бедного, безродного и обделенного чинами, а следовательно, совершенно негодного в качестве жениха. Не берусь судить, как отнесся Ольховский к предательству возлюбленной, но… – Иван поднял палец, привлекая внимание к тому, что собирался сказать, – …известно, что спустя некоторое время после свадьбы он устроился к графу секретарем. Полагаю, в этом деле не обошлось без протекции. Интересный ход, верно?
– И что он сделал? – поинтересовалась Динка-Льдинка – любительница дамских романов и фильмов про любовь, но таких, чтобы герои обязательно остались вместе.
– Многое. К примеру, отыскал в доме первую супругу графа, запертую в одной из комнат. Бедная женщина сошла с ума в заключении. Далее, Ольховский выяснил, что компаньонка Натальи и граф состояли в любовной связи и смерть ее была убийством, как и смерть горничной. – Иван снова замолчал, на этот раз нарочно, выдерживая паузу, а я уже поняла, чего не удалось сделать молодому Ольховскому.
– Но увы, в одном он опоздал. Наталья умерла, вернее, была убита.
– Как? – Динка оглянулась на меня. Динка не любила трагедий и всегда всем героям желала счастья. – Убита?
– Однажды утром ее нашли мертвой со вскрытыми венами… – Иван перешел на трагический шепот. – Ижицын отомстил за нелюбовь.
– Бездоказательно, – неожиданно встрял Евгений. – Слухи.
– История, – возразил Иван. – Трагическая история о любви и не-любви… Ольховский, вне себя от горя, вызвал графа на дуэль, которая состоялась в саду за домом.
– И что? – Динка подалась вперед, чуть не опрокинув бокал. – Отомстил, да?
– Да. Ольховский убил Ижицына, но… увы, случилось так, что и сам был ранен и вскорости скончался, правда, успел дать показания полиции. Состоялось разбирательство.
– По результатам которого первая супруга графа отправилась в сумасшедший дом, где вскорости скончалась от воспаления легких, второй брак был признан недействительным, а ребенок – незаконнорожденным, не обладающим правами наследника. Правда, племянник графа оказался человеком порядочным, не отправил бастарда в приют и даже образование дал… и во Францию увез, когда началась революция. Извините. – Евгений, с грохотом отодвинув стул, поднялся. – Дела.
Господи, неужели это вялое блеклое существо способно на такие эмоции? Он зол! Более того, он в бешенстве и ушел потому, что не хотел демонстрировать насколько. Откуда я знаю? Без понятия, но, глядя на его сгорбленную спину, я буквально ощущала клокотавшую в нем ярость.
– Неудобно получилось, – заметил Иван. – Как-то увлекся, позабыл, что для Женьки эта история – семейная.
– Неужели? – Динка отправила в рот виноградину.
– Его прадед или прапрадед – тот самый незаконнорожденный сын Ижицына, во всяком случае, Женька в этом уверен, и дом купил в память… хотя, по-моему, от такой памяти избавляться надо.
На полированную поверхность стола упала круглая восковая капля. Похоже на слезу…
Матвей
Осень вдруг переменилась, убрала дожди, расчистила небо, скупо плеснула солнечным светом, холодным, но ярким. И люди, блаженно щурясь, избавлялись от зонтов, шапок, шарфов, расстегивали плащи, куртки, дубленки… доверчивые.
К осеннему теплу Матвей относился с опаской, пожалуй, не любил даже больше, чем дождь, потому как дождь – оно понятно, от него бережешься, а тут вроде бы и хорошо, но попробуй-ка куртку расстегни, и вечером же в горле запершит, а то и насморк с кашлем появятся. Нет уж, пусть и жарко, пусть и катится по спине пот, а шарф царапает шею, но лучше потерпеть, чем потом лечиться.
Искомый лицей располагался в добротном и даже вычурном здании, явно выстроенном еще в довоенное время. Строгие и вместе с тем легкие линии, два крыла, порог с колоннами, чугунные вазы с жухлыми бархатцами и узорчатая кованая решетка вокруг территории. Прелюбопытнейше.
Выложенные плиткой дорожки радовали глаз чистотой, ни окурков, ни оберток от конфет, ни даже запоздалых желто-бурых листьев. Внутри было тепло и даже жарко, узкий коридор тянулся вглубь, туда, где сизо-зеленые стены смыкались друг с другом, поглощая и ковролиновую дорожку, и длинные трубы ламп дневного света.
На дверях директорского кабинета висела медная табличка: «Директор Шакунова Д.А.».
Диана, что ли?
Доната, Доната Андреевна. Редкое имя, красивое, а вот сама директриса не очень хороша.
– Маша Казина? Сложная девочка, очень сложная. – Доната Андреевна к появлению Курицына отнеслась с пониманием.
Ширококостная, широколицая, с черной косой, уложенной вокруг головы, она совершенно естественно выглядела в строгой обстановке кабинета.
– Не буду лгать, что мы ждали чего-то подобного. Нет, конечно же нет, если бы хоть намек… подозрение, с Машей поработал бы наш психолог. Валентин Витальевич великолепный специалист, уникальный в своем роде… нам несказанно повезло… вы не представляете, он чудеса творит. В прошлом году был у нас мальчик, Юрочка Тихомирин, Господи, ну и натерпелись мы от него, хамоватый, наглый, а еще с явными садистскими наклонностями. Представляете, крал из живого уголка мышей, относил в младшие классы, обливал духами и поджигал!
Доната Андреевна поджала и без того узкие губы, отчего квадратное лицо ее обрело черты жесткие и неприятные.
– После той истории мы поставили вопрос об отчислении, так Валентин Витальевич попросил дать ему месяц…
– Помогло?
– Представьте себе, да. Помогло. Оказалось, что Юрочка вовсе не так и безнадежен, стал лучше учиться, в самодеятельности участвует… и этот пример еще раз доказывает, что нельзя спешить с выводами. – Доната Андреевна встала из-за стола. Росту она была небольшого, но при этом умудрялась выглядеть солидно и даже внушительно. Подойдя к шкафу с разноцветными папками, она вынула одну, ярко-красную, блестящую. – Но Маша, Маша – совсем иное дело, признаться, мы были в шоке, когда это случилось. Более того, на следующий же день здесь появился Игорь Юрьевич, принялся обвинять нас, грозился судом.
Доната Андреевна, положив папку на стол, принялась перелистывать содержимое, Матвей не торопил, слушал.
– Ситуация крайне неприятная, прежде всего для репутации лицея… и даже не в суде дело, это совершеннейшая глупость – обвинять школу в собственном недосмотре, но слухи, вы же понимаете!
Матвей кивнул.
– Я пыталась поговорить с Казиным, но он был нетрезв и неадекватен, правда, с тех пор больше не появлялся. Вот, – она вытащила несколько листов, соединенных синей пластмассовой скрепкой. – Это личное дело Маши, но повторюсь, это – единственный случай, когда лицей покидают по… такой причине.
– А по каким покидают?
Доната Андреевна поджала губы.
– По разным. К примеру, родители ученика переезжают в другой город или не способны платить за обучение.
– Дорого берете? – Матвей свернул листики трубочкой и сунул во внутренний карман. Бумага бумагой, но ему живые впечатления нужны, а личное дело он и потом почитает, на досуге.
– Дорого, – с вызовом произнесла директор. – Но мы даем крепкие, хорошие знания… а если кто-то надеется, что, заплатив, автоматически получит аттестат с отличием, то он глубоко ошибается.
– И насколько распространенная ошибка?
– Увы, бывает. Вот, кстати, вы о Маше спрашивали, так она не справлялась. У нас программа повышенной сложности, особенно в физико-математических классах, а у девочки ну совершенно не было таланта к математике. Понимаете, там нужен особый стиль мышления, логика, четкость, холодность, а она – эксцентрична, я бы сказала, даже хаотична, не способна к долгой методичной работе, отсюда и проблемы с успеваемостью. Опять же, когда проводили тестирование, Валентин Витальевич настоятельно рекомендовал поменять Маше профиль обучения, у нее явный гуманитарный склад ума.
– Поменяли?
– Нет, что вы. – Доната Андреевна поднялась, вытащила откуда-то из-под стола ярко-оранжевую пластмассовую лейку и принялась поливать цветы. Занятие тем примечательное, что из цветов в кабинете стояли лишь кактусы, большие, маленькие, круглые, плоские, с длинными желтыми колючками, красными бархатными на вид мушками или и вовсе укутанные в белую паутину. Крохотные горшочки из разрисованной глины стояли и на столе, и на полках, и на подоконнике.
– Вы простите, я, когда нервничаю, сидеть не могу, вот просто не по себе прямо, обязательно должна чем-то заняться, а цветы, они разговаривать не мешают, – пояснила Доната Андреевна, подливая воду под зеленый шар, ощетинившийся желтыми, изогнутыми на концах иглами, похожими на рыболовные крючки. – И Валентин Витальевич говорит, что нужно для релаксации… Так о Маше. Я несколько раз вызывала ее родителей в школу, вернее, сначала Алина Павловна, Машина классная дама, потом уже я.
– Полагаю, безрезультатно?
– Совершенно верно! Точнее, результат кое-какой был, нас посетила Жанна Аркадьевна… – Директриса фыркнула как-то презрительно и совершенно по-женски, что вовсе не вязалось с ее квадратной мужиковатой внешностью. – Не сочтите меня за сплетницу, я понимаю, что в жизни случается всякое, что и второй, и третий, и десятый брак – еще не повод осуждать кого-то, да и поначалу она произвела на меня самое лучшее впечатление. Ухоженна, воспитанна, вежлива… и равнодушна. Вот что меня совершеннейшим образом поразило. Обычно родители, которых вызывают в школу, нервничают, начинают то оправдываться, то, наоборот, хамить, защищая ребенка. Она же молча выслушала, пожала плечами и ответила, что вопрос о Машином образовании ее не касается.
– Может, так оно и было? – осторожно поинтересовался Матвей.
– Если бы. – Доната Андреевна замерла с лейкой в руке, тонкая струйка воды, переливаясь через край горшка, поползла по столу, докатилась до черты и громко закапала вниз, на плотный красный ковер. – Ох ты боже мой, простите, случается… сейчас, только вытру.
На ликвидацию катастрофы ушли доли секунды.
– Вот так, постоянно отвлекусь, и это случается… Я к цветоводству не способна, как и к домашнему хозяйству, а Валентин Витальевич говорит, что дело не в способностях, а в том, что их надо развивать, вот и поставил тут эту… прерию. Нарочно мелкие и много, чтоб дисциплинировать. – Доната Андреевна зарделась. – Так вот, с переводом на параллель. Для этого нужно заявление от родителей, Жанна Аркадьевна писать его отказалась и пообещала передать просьбу и заключение психолога Машиному отцу, но я сомневаюсь, что сделала… Я пыталась дозвониться ему сама, однажды даже получилось, но стоило представиться и завести разговор, как он бросил трубку. Сказал, что некогда ему всякими глупостями заниматься, а над успеваемостью он поработает. Вот уж совершеннейшая чушь! Нет трех минут на разговор, зато есть время на работу. Я вам скажу, в чем эта работа заключалась: ребенка отчитали, пригрозили… ну не знаю, содержание урезать, компьютер отобрать или еще что-нибудь, а вместо этого всего-то и надо было…
– Про перевод Казины не упоминали.
– Не сочли нужным. – Полив последний кактус, плоское, усыпанное мелкими серебристыми волосками существо, Доната Андреевна спрятала лейку под стол. – Это же мелочь, пустяк. Для них. А для девочки общение в чуждом обществе, ежедневный стресс… Извините за резкость, конечно, может, я и не права, но эта история очень уж задела… и репутация опять-таки.
– Спасибо большое. – Матвей поднялся и, потянувшись, пощупал один из кактусов, темно-зеленый, с бордовыми красными пятнышками, похожими на прилипшие к растению кусочки бархата.
– Ой, что вы, нельзя!
Он уже и сам понял, что нельзя, на ощупь пятнышко было колючим, и палец теперь саднило.
– Это опунция, у нее очень мелкие иглы, они обламываются, остаются в коже! – Доната Аркадьевна густо покраснела, то ли от смущения, то ли от возмущения. – Что вы как ребенок, ей-богу!
Она подвинула кактус поближе к монитору.
– У вас все? Извините, но я и так потратила много времени на разговор.
– П-простите, пожалуйста, уже ухожу. – Жутко хотелось сунуть саднящий палец в рот, но это уже совсем неприлично. – А вы бы не могли… не могли бы вы подсказать, кто дружил с Машей… ну из одноклассников?
– Поинтересуйтесь у Алины Павловны, она их ведет. Найдете ее в учительской. Или в сорок шестой учебной аудитории. Только попросила бы вас быть крайне корректным в вопросах, мне бы не хотелось, чтобы о лицее пошли слухи… Господи, да чего там расследовать-то! – вдруг сорвалась Доната Аркадьевна. – Кого расспрашивать? Пусть себя спросят, где были, когда девочка внимания искала! Всего лишь внимания!
– А свадьба-то, свадьба богатая была, наш-то расстарался, наряд невестин ажно из Петербургу выписали, по журналу модному, и прочих платиев тоже. Графиня-то из бедных была, за душою, окромя гордости, ни копеечки, рубашки-то нижние и те он покупал.
– По журналу? – уточнил Шумский.
Прасковья зарделась.
– Ну не знаю, по журналу али нет, но вещи-то все новехонькие, ни разочку не надеванные. Это он так задобрить хотел, ан не выходило. – Она давно уж перестала всхлипывать, изображая горе, и теперь рассказывала о господской жизни увлеченно, радостно и охотно. – Он к ней и так, и этак, а она все носом крутила. Я вот что скажу, это она его до душегубства довела!
– Неужели?
– А то, конечно, какой мужик-то снесет, когда жена в родном-то доме блудит? А еще полюбовника к мужу в доверенные устроила. Граф-то терпел, терпел, все на ответную любовь надеялся, а тут, видать, взыграло… рыжие-то, они горячие. – Последние слова Прасковья произнесла со вздохом и даже затаенною печалью в голосе. Неужто… а почему б и нет? Баба-то молодая еще, в самом соку, круглолица, круглобока, глаз голубой, ясный, а волос, напротив, темный, точно у цыганки. Это из-за платья строгого да платка, почти на самые брови надвинутого, Прасковья выглядела старше и строже, а одень такую в шелка с бархатами – покраше иной графини будет.
– Что? – Точно почуяв недобрые мысли, Прасковья встрепенулась, выпрямилась, спрятала под плат выбившуюся смоляную прядь и, скрестив руки на груди, спешно заговорила: – Наталья-то Григорьевна, вы не подумайте чего, она хорошею была, вежливою. Вот такого, чтоб кричала на кого или там бранилась, – никогда, из другой породы. Если чего не по ней, замолкала, отворачивалась и будто леденела вся. Вот крест на душу, ежели вру, от нее прям так холодом и тянуло… а как с мужем-то встречалась, аж страшно становилось. Другой-то на его месте давно б плюнул или поучил бы уму-разуму, а Савелий Дмитревич терпел, только с подарками все… с подарками… а она и подарки-то не принимала. Спасибо скажет, и велит унесть… только ангелочка при себе и оставила… понравился, значит.
– Погоди, – попросил Шумский. Прасковьина речь виделась ему этаким ледоходом, в котором льдины-слова то норовили обойти друг друга, то сталкивались, то цеплялись, образуя диковинные фигуры, напрочь лишенные смысла. – Ты про свадьбу расскажи, по порядку.
– Про свадьбу-то? – переспросила Прасковья, отчего-то заерзав на стуле. – А что свадьба-то? Говорю ж, богатая…
День выдался солнечный, ясный, преисполненный какой-то невероятной легкости. Прозрачное небо, облака белыми шерстяными нитками, то растянутыми, распростертыми путаною сетью, то сбившимися в лохматые клубки. Воздух дрожал дымом костров – палили осеннюю листву, влажную, поистратившую позолоту в бесконечных сентябрьских дождях и оттого неприглядную, нехорошую. Костров было нежданно много, и дыма тоже, он подымался по-над домами и растворялся в блекло-голубом небе.
– Натали, улыбайся, – велела матушка. В платье темно-зеленого муара она выглядела на удивление хорошо, даже помолодела как будто. – А то люди подумают…
До людей мне не было никакого дела, ни до Алевтины Филипповны с ее болонкою и лорнетом, ни до супруга ее, который явился на свадьбу в мундире и с орденскою лентой, ни до кузины Любоньки, на чьих именинах я познакомилась с Ижицыным, ни до самого Ижицына.
Мне хотелось невозможного – убежать, подняться дымом в это болезненно-прозрачное, будто отмытое оконное стекло, небо и раствориться в нем, чтоб ни следочка моего на земле не осталось, быть может, разве что платье это… белая тафта, шитье серебром, жемчужные пуговки, кружево французское на отделку. И ожерелье в три ряда крупных, с бледно-розовым отливом жемчужин, а к нему серьги – свадебный подарок. По мне, не подарок – откуп за то, чтоб полюбила, как будто бы сердцу прикажешь. Неужто не видит Ижицын, что не мил мне? Ни сам, ни подарки его? Неужто не нашел бы себе иной жены, ведь каждая, та же Любонька с радостью пошла б за богатого.
А я? Я ведь согласилась, и до того, до предложения его, в доме принимала, приветлива была, как матушкою велено, а Сереженька ушел. Бросил меня, и теперь уже как-то все равно, с кем под венец, хоть с Ижицыным, хоть с другим.
Признаться, сама подготовка к свадьбе, торопливая, приправленная матушкиной нескрываемой радостью и нервозностью, которую она пыталась скрывать, прошла мимо меня. Я жила точно во сне, вернее было бы сказать, что именно во сне и жила. Там я была свободна от данного Ижицыну слова, более того, там Ижицына не было, и свадьбы, и портних, и примерок, и ежедневных визитов Алевтины Филипповны, которая то принималась пенять мне за безучастие, то начинала говорить о том, как мне повезло. В моих снах не было даже Сереженьки, равно как и обиды, вызванной тем его письмом. Во снах я была одинока и счастлива, покойна и умиротворенна, я была миром, и небом, и солнцем, и чем-то, что не имеет названия.
Душная церковь, сквозь крохотные, упрятанные под самым потолком окна проникает слишком мало света, чтобы разогнать полумрак, и оттого лики святых кажутся особенно суровыми. Будто и Иисус, и милосердная Матерь Божия в драгоценном окладе, и Петр, сжимающий в руке ключи от Царствия Божия, и иные, чьи имена внезапно вдруг исчезли из памяти моей, – будто бы все они меня осуждают.
За что?
Тонкие свечи, за здравие и за упокой, хор многоголосный тяжестью на и без того придавленную, разбереженную душу, Святое Писание речитативом и сухая и жесткая рука Ижицына… вино из чаши горчит, а проходя третий круг, я споткнулась. На ровном месте. Если б Ижицын не поддержал, упала бы.
Недобрая примета… но я в приметы не верю. Я уже ни во что не верю. Встретившись со мною взглядом, Ижицын робко улыбнулся, и так мне от этой его улыбки мерзко стало, что и словами-то не рассказать. Господи, что же я наделала-то?
– Я уехал тогда. В Петербург. Решил, что если сразу не согласилась, то нехорош. А и вправду, зачем я ей? Кто я? Ни дома своего, ни чинов, ни званий, ни родни, которая помогла бы на ноги стать. Да, я ее любил… ну так разве ж любовь – это много? – Ольховский замолчал. А сердится. Сколько лет минуло, а он все сердится, раскраснелся вон, пошел испариною и даже задышал ровнее, видать, тоже со злости.
Шумский не торопил, а Ольховский не торопился, и когда снова заговорил, то голос его изрядно подрастерял пылкости.
– За письмо то до сих пор себе пеняю. Загулял я тогда, вот и взбрела во хмелю идейка исчезнуть, чтоб помучилась, пострадала так же, как и я, а потом, когда Ижицын от нее отказался бы, вернуться… я уверен был, что откажется. – Сергей закашлялся, сухо, коротко, как-то особенно неприятно. Шумский даже хотел подняться – а ну как заразно, – но потом подумал, что Ольховский на подобное действие и оскорбиться может. Человек-то гордый, даже горделивый, вона как с невестою обошелся.
– Он же граф. Титул. Деньги. На любой жениться б мог… а он Наталью выбрал. Мою Наталью. Я и уехал сразу после письма, чтоб искушение перебороть…
– Какое искушение?
Шумский, преодолевая брезгливость – никогда он не любил вот таких больничных запахов, – склонился ниже. После приступа кашля голос Ольховского стал тих, а речь неразборчива. Видимо, на сегодня допрос придется закончить, а с другой стороны – а ну как помрет ночью, что тогда?
– Вернуться… – Глаза Ольховского пылали чернотой, зрачок разошелся, расползся, вытесняя радужку, от которой осталось тонкое бледно-серое колечко. – Я б вернулся, через день, через два, но вернулся бы… а она простила… и тогда, и теперь… она добрая, настоящий ангел… а я демон… как теперь… быть? Как мне… теперь быть?
Бредит, вот уж нехорошо вышло, а ведь толковый разговор поначалу складывался. Печально… стало быть, не выйдет продолжения беседы? Или выйдет? Кто знает, а вдруг к завтрему снова в сознание придет?
– Она… не любила… врала… и ангел потерялся.
Шумский тихонько вышел из комнаты. Надо доктора найти и горничную прислать, помоложе, пожалостливей. Пускай уж за раненым приглядят.
В доме царила тишина, гулкая, готовая поглотить любой звук, хоть шорох мышиный, хоть колокольный набат… А красиво, может, и вправду у него дар литераторский имеется? Шумский даже остановился перед зеркалом. Нет, не то чтобы в отражении своем пытался найти какие-то прежде неизвестные либо же незамеченные черты – это было бы странно в сорок пять-то лет, – скорее уж попытался представить, как бы смотрелся портрет за подписью «Шумский Егор Емельянович, литератор».
Шумский повернулся одним боком, потом другим, скрестил руки на груди, но вышло не совсем хорошо: пиджак задрался, полы разошлись, а живот, который, чего уж тут скрывать, выдавал человека солидного и степенного, вдруг оказался чересчур уж большим. Нет, лучше, если за столом, чтоб живота видно не было, а так внешность благостная, самая что ни на есть литераторная – баки, отпущенные на английский манер, щедро сдобрены сединою, лоб широк, украшен морщинами, брови, правда, кудловаты, глаз под ними почти и не видно, зато нос с благородною горбинкой…
Нет, портрет надо будет заказать всенепременнейше, и чтоб не хуже того, который внизу висит, графа Ижицына изображая.
Шумский, выходя из дому, даже задержался в сумеречном, холодном – следить за тем, чтоб камины топили и свечи ставили, некому – помещении, пристально разглядывая каждую черточку на лице покойного ныне графа. Портрет-то хоть и талантливою рукою писан, но все одно граф на полотне вышел неказистым, бесцветным и даже будто бы потерянным. Вот только взгляд острый, неприятственный… и улыбка этакая непонятненькая, скособоченная, то ли виноватая, то ли, наоборот, ехидство скрывающая.