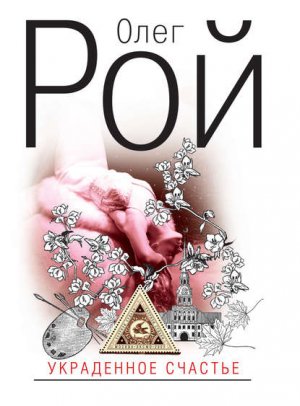
Часть I
Анрэ
Этюд в ностальгических тонах
1943 год – 16 октября 1996 года
Я спустился с крыльца, прошел не торопясь в гараж, завел машину, долго прогревал мотор. Когда выехал за ворота и двинулся вверх по улице, утреннее солнце светило прямо в лобовое стекло. Люблю солнце осенью.
Ехал медленно, мимо знакомых домов и редких прохожих, с которыми машинально здоровался. Здесь меня знала каждая собака, и я тоже знал всех. Правда, последнее время в Лугано появилось много пришлых. Так много, что иногда казалось, будто ты не у себя дома, а в каком-то чужом, неизвестном городе…
Раньше все было иначе. После войны наш маленький городок едва ли насчитывал полтора десятка тысяч жителей, и практически все были знакомы. Прогуливаешься ли по улице, обедаешь ли в любимом гротто, отправишься ли за покупками, заглянешь ли на виллу Фаворита, в церковь Святого Антония или в Музей изящных искусств – всюду одни и те же лица. Каждый вновь прибывший был на виду. Например, мне запомнились встречи с Максом Фришем, который одно время приезжал в Лугано к другу и нередко посещал городской музей изящных искусств. Тогда он еще не стал мировой знаменитостью, но уже был известен своими романами – «Юрг Райнхард», «Трудные люди», «Штиллер» и особенно четвертым, нашумевшим, – «Homo Фабер». Я в те годы уже не сомневался, что Макс станет великим писателем. Так со временем и произошло. А познакомились мы случайно: ему нужно было увидеть картину Питера Брейгеля Старшего, и я провел его по музею, который знал как свои пять пальцев, и рассказал о картинах. Он был тронут. Потом мы сидели в маленьком кафе на площади и говорили о книгах, о политике, о женщинах; мне показалось, что, несмотря на разницу в возрасте, я нашел в нем родственную душу.
Позже, когда вышел его новый роман – «Назову себя Гантенбайн», Макс специально встретился со мной, чтобы вручить книгу с дарственной надписью, и сказал, что многое для этой вещи взял из нашего разговора. Хотя лично я ничего такого там не заметил. С тех пор мы с ним изредка переписывались: последнюю открытку от него я получил на Рождество, а сам 15 мая поздравил его с восьмидесятилетним юбилеем. Подаренная книга всегда стоит в моем шкафу на самом видном месте. На первой странице красуется сделанная размашистым почерком надпись: «Гантенбайну-1 от Гантенбайна-2. Декабрь 1965 г. Поздравляю со свадьбой. Макс». Последнее время я часто брал книгу с полки, не для того даже, чтобы перечитать роман, который знал чуть ли не наизусть, а с целью вновь увидеть эту надпись и хоть на миг мысленно вернуться в те благословенные годы. Славное было время! Создание моего банка, юная Софи, рождение дочки… Тогда я и помыслить не мог, какой неожиданный и страшный удар нанесет судьба в последнем акте странной пьесы, именуемой моей жизнью…
Я выехал за город. Вел машину, а сам смотрел по сторонам. Да, что говорить, со времен шестидесятых Лугано значительно изменился. Стал похож на многие другие города – не в центре, конечно, где еще сохранилось его настоящее лицо, но на окраинах и в пригородах, которые так разрослись за последние десятилетия. Здесь, глядя вокруг, даже не сразу можешь определить, где находишься: в Лугано или где-нибудь в Беллинцоне, Церматте или Локарно? Все стало какое-то стереотипное, безликое – и архитектура, и жизнь, и люди. Только пейзаж остается прежним, изменяясь лишь от времени года.
Осень. Моя родная, любимая пора. Осенью Лугано всегда напоминал мне стареющую матрону, демонстративно одетую и накрашенную, силящуюся подчеркнуть остатки стремительно уходящей красоты… Мой город особенно хорош в октябре, когда жара уже спала и наступило время не загорать, а любоваться его великолепием. Падают каштаны, листья желтеют, сворачиваются, как гаванские сигары… Краски буйствуют, беснуются: красный, желтый, бордовый, золотой – цвета царят в природе, они и под ногами, и над головой, и в мыслях, и в сердце.
Я припарковался на обочине, вышел из машины. Передо мной расстилались Швейцарские Альпы, манили снежные вершины. Город лежал внизу в легкой дымке и весь был виден отсюда – грузовые пароходики, прогулочные яхты, Виа Нисса, Пьяцца Федерале, наш дом, мой «Лугано Прайвитбанк», великолепный старинный парк – и все это в сочных красках осенней листвы, последних в этом году цветов и живучей зелени газонов. Казалось, можно было бы вечно любоваться этим, наслаждаться и блаженствовать…
Однако в тот солнечный октябрьский день я был как никогда далек от блаженства. На душе было тяжело. Меня угнетало то, что происходило с Анжелой. Вот уже несколько лет я с каждым днем, с каждой минутой терял мое обожаемое дитя, мою малышку, мою ненаглядную дочку. Чужой человек, русский, сын женщины, когда-то заставившей меня так страдать и чуть не погубившей всю мою жизнь, – этот человек буквально околдовал мою девочку, как когда-то околдовала меня его мать, заставил ее забыть обо всем на свете, включая ее отца, который всегда души в ней не чаял! Я боготворил свою Анжелу с самого ее рождения и даже еще до этого – с того момента, когда Софи призналась, что ждет ребенка. А может быть, даже еще раньше, быть может, и Софи-то появилась в моей жизни только затем, чтобы родить мне дочь… И я полюбил Анжелу еще тогда, когда встретил Софи, когда впервые поцеловал… Когда жена забеременела, я окружил ее вниманием и заботой, достойной особы королевской крови: поил свежими соками, пичкал фруктами и ягодами, исполнял все ее желания, приглашал в лучшие рестораны, водил на прогулки, концерты, выставки.
Когда родилась Анжела, я даже на время забросил свой бизнес, нанял управляющего и передал ему все текущие дела, а сам полностью посвятил себя девочке. Настольной книгой для меня в то время был роман выдающегося итальянского педагога Иоганна Песталоцци «Лингард и Гертруда». Я с упоением занимался воспитанием дочки, и с первых дней ее жизни мы были неразлучны. Первым словом нашего ангелочка было «папа», что, помнится, неприятно задело Софи. Впрочем, обиделась она не слишком сильно. Быстро поняв, что материнство – не ее призвание, жена с облегчением переложила на мои плечи большинство забот о ребенке. Именно я постоянно находился рядом с Анжелой, учил ее ходить и говорить, играл с ней, читал ей сказки, сидел у ее кроватки, когда она болела. Именно со мной она ходила на прогулку в парк, именно со мной делилась самым сокровенным, меня и только меня впускала в самые потаенные уголочки своей души. Она была моей и только моей девочкой… До тех пор, пока не появился этот русский. Он ворвался в нашу жизнь как ураган, безжалостно сломав и разметав все, что нам было привычно и дорого. Если бы я только мог предвидеть, чем обернется то письмо… Дернул же черт меня, сентиментального старого дурака, его вскрыть!.. Знал бы, чем это грозит, выбросил бы, не читая. Но тогда позволил себе удариться в воспоминания, поддаться ностальгии по молодости и любви… И вот результат. Семья наша распалась. Про Софи я даже не думал, она давно отдалилась от нас и больше бывала в Милане, чем дома. Но мне это только на руку, она хотя бы оставила меня в покое. Теперь в ее жизни появилось то, к чему она, собственно, всегда стремилась, – показы мод, вечеринки, глянцевые журналы, шопинг, салоны красоты… Наверное, завела себе и любовника, скорее всего, молодого, охочего до денег. Но Софи меня нисколько не волновала, а вот Анжела… Мою дочь словно уносил отлив все дальше и дальше от меня. Я с ужасом ожидал, что в один прекрасный день она вообще могла бы забыть о моем существовании. И, что самое ужасное, я сам был во всем этом виноват! Именно я, поддавшись уговорам, пригрел этого русского, взял на работу в свой банк. И проглядел, слепец, проморгал, как он в ответ на мои благодеяния украл у меня из-под самого носа самое ценное сокровище. Видела бы Анжела своего избранника в первый момент, когда он только пришел наниматься на работу в банк, как он был жалок, робок, плохо одет! Теперь этот типчик, конечно, уже совсем не таков, отъелся, приобрел лоск, набрался спеси. Дошел до того, что имел наглость вмешиваться в дела банка и указывать мне, его владельцу, что и как я должен делать! Лез во все, даже в то, в чем совершенно не смыслил. Однажды мы с ним, например, поспорили о картинах. Что он может понимать в живописи? А туда же, раскритиковал мою «Сирень» – это, мол, банально и примитивно. Да помолчал бы уж! Сирень на картине как живая, в каплях росы, зовущая, прекрасная, едва ли не говорящая… Как он вообще смел, сопливый мальчишка, самодовольный щенок!
Конечно, я не мог этого терпеть. Я боролся всеми средствами: говорил по душам с дочкой, пытался как-то вывести из игры этого русского, попробовал их развести… Но все безрезультатно. Анжела точно ослепла, она не желала слушать ни мои доводы, ни мои мольбы. Другие методы тоже не подействовали. Вернее, пока не подействовали. Ведь я не привык проигрывать! Я легко не сдамся, рано еще списывать меня в утиль!..
…сейчас двадцать минут одиннадцатого, значит, осталось ждать всего несколько часов. Несколько часов – и все закончится. Да, конечно, какое-то время еще будет нелегко… Но я справлюсь. Мы с Анжелой справимся, потому что снова будем вместе.
Уверен, что все будет хорошо. Надо только очень сильно захотеть. И помолиться. Как тогда, когда маленькая Анжела заболела двусторонним воспалением легких. Все боялись, что наш ангелочек умрет, даже врачи говорили, что шансов немного… А я боролся. День и ночь не отходил от ее кроватки, держал в своих руках горячие ладошки и молился, молился, молился, чтобы Бог не забирал у меня мою девочку… И он смилостивился. Так будет и теперь, я знаю, просто надо верить. Верить и молиться. Помоги, Господи! Не оставь раба твоего в трудную минуту…
…Человека, вознесшего небесам эту выстраданную мольбу, звали Анрэ Орелли. Около месяца назад ему исполнился шестьдесят один год, но этих лет ему никто не давал – настолько моложавым, подтянутым и энергичным он выглядел. Высокий, спортивная фигура, густые каштановые волосы и красивый низкий голос придавали ему сходство с киногероем, о чем неоднократно говорили заинтересованные собеседницы самых разных возрастов. А несколько глубоких морщин, покрывавших его лицо, по мнению дам, совсем не портили Анрэ, а, наоборот, придавали ему более мужественный вид.
Орелли слушал комплименты со снисходительной улыбкой, но никогда не относился к ним серьезно. Кому, как не ему, было знать, что пересекавшие его лоб морщины – совсем не украшение, а печать множества страданий, которые ему довелось пережить на своем веку…
Кто-то сказал, что все дороги ведут в Рим, но при этом забыл добавить: да, в Рим, но через Лугано. Последней мировой войны в Швейцарии не было, страна оставалась нейтральной. Однако «великая битва народов» и здесь присутствовала и в быту, и в прессе. И даже в природе. Когда война наконец закончилась, все изменилось, даже небо сделалось другим, стало выше, голубее. Или маленькому Анрэ так только казалось?
Лугано находится на самой границе с Италией, в которой почти у каждого жителя города есть родственники или знакомые. И когда в дома по ту сторону границы приходили похоронки, плач и проклятия в адрес Гитлера и «ирода Муссолини» слышались и на этой стороне. В некоторых домах Лугано приютили раненых или дезертиров – и власти смотрели на это сквозь пальцы, словно не замечали. У ближайших соседей Орелли, семьи Факетти, довольно долго жил молодой черноволосый зубоскал Альберто, сбежавший с итальянского фронта. Он открыто прогуливался по Виа-Нисса, стрелял у знакомых сигареты, заглядывался на местных красоток, шутил со всеми встречными и ничего не боялся. Но чем явственнее ощущался финал войны, тем осторожнее становились власти. В начале 1945 года Альберто и еще двоих таких же «фашистов» арестовали и выдали итальянцам.
Отец Анрэ, Энцо Орелли, как-то сказал: «Гитлер – идиот, сексуальный маньяк, выживший из ума неврастеник, а Муссолини его любовник (они оба, по его мнению, были «голубыми»). Ты почитай «Превращение» Франца Кафки, там все написано – и про них, и про нас!»
Десятилетний Анрэ ничего толком не понял из его слов. И тем более из Кафки, через которого честно попытался продраться после того разговора. Тогда ему было очень стыдно за это перед отцом, к которому он испытывал странные противоречивые чувства, включавшие и уважение, и неприязнь, и благоговение, и страх. Он почти боготворил Энцо – и в то же время никак не мог простить ему, что мать, пока не покинула этот мир, всегда была ближе к мужу, чем к сыну.
Мать Анрэ, Марианна, была коренной жительницей Лугано. Их было четыре сестры Верфель: Фелица, Ганна, Анна и Марианна. Три старших, погодки, походили друг на дружку как близнецы – все как одна, высокие, ширококостные, жилистые, с крупными и некрасивыми чертами лица. Марианна, родившаяся на одиннадцать лет позже Анны, самой младшей из сестер, представляла собой их полную противоположность. Небольшого роста, нежная, хрупкая, с удивительно белой кожей и вечно смеющимися карими глазами, она была на редкость хороша собой. «Бывало, только посмотришь в ее сторону, – любил вспоминать Энцо, – и у тебя словно язык отнимается. Она улыбнется, поздоровается, – а ты, как дурак, молчишь или мямлишь что-то невнятное…» Казалось бы, при таком контрасте старшие сестры должны были бы ненавидеть Марианну и завидовать ей, но у Верфелей все вышло наоборот. Меньшая дочь всю свою короткую жизнь была любимицей в семье. После смерти родителей Фелица, Анна и Ганна разделили между собой все заботы и из кожи вон лезли, чтобы «их малышка» не знала горя, ни в чем не нуждалась и могла бы заниматься тем, что ей нравится, – Марианна неплохо рисовала и очень любила музыку. Собственной семьи ни одна из старших сестер не создала. Фелица и Анна не вышли замуж, Ганна приняла предложение пожилого соседа-бакалейщика, но, не прожив в браке и полутора лет, овдовела и вернулась в родной дом. Красавица Марианна стала единственной продолжательницей рода – едва ей минуло восемнадцать, когда она пошла под венец, не устояв перед обаянием красноречивого и статного итальянца, неизвестно откуда прибывшего в ее тихий город.
Энцо Орелли жил контрабандой продовольствия – перевозил через границу тюки с запрещенными товарами. Анрэ хорошо помнил, как в иные дни у их дома чуть ли не выстраивалась очередь из полицейских и таможенников, желающих получить взятку. Ближе к вечеру обогатившиеся визитеры накупали на радостях вина, пива, сосисок и устраивали пирушку. Они горланили итальянские народные песни, послушать которые собиралось пол-Лугано, травили анекдоты, рассказывали байки из жизни контрабандистов… Словом, бывало весело, так весело, что все с нетерпением ждали следующей раздачи денег. Каждый раз, когда Анрэ с отцом, гуляя по городу, встречали кого-нибудь из представителей закона, тот обязательно похлопывал Энцо по плечу, называл «дружище» и словно невзначай спрашивал: «Что-то ты давно нас не собирал, а?» Отец угощал его сигаретой и отшучивался, но старался не оставлять намеков без внимания и вскоре обязательно устраивал очередную шумную пирушку, после которой самых нестойких ему приходилось развозить по домам на своем велосипеде.
Конечно, все вместе эти взятки составляли внушительную сумму, но, даже несмотря на это, семья жила неплохо. После свадьбы Орелли поселились в большом доме Верфелей, где хватало места всем. Фелица, Ганна и Анна с радостью приняли молодоженов под свое крыло и окружили заботой сначала их, а вскоре и появившегося на свет Анрэ. Сами лишенные радости материнства, тетки обрушили на мальчика всю свою нереализованную любовь и нянчили его втроем, поскольку после тяжелой беременности и трудных родов у хрупкой Марианны резко пошатнулось здоровье. Маленький Анрэ до безумия любил мать, такую милую, ласковую и веселую, готов был ни на минуту не расставаться с ней и очень страдал оттого, что к маме часто было «нельзя», потому что ей «нездоровилось». Самым обидным казалось то, что на отца эти запреты не распространялись, он в любое время мог войти к ней в спальню и сколько угодно там находиться. И в такие минуты Анрэ готов был ненавидеть отца. Но, на его счастье, Энцо был неглупым человеком и хорошим родителем. Каким-то непостижимым образом ему удалось преодолеть детскую ревность и из преграды на пути к обожаемой матери превратиться для сына в мудрого и авторитетного советчика. Уже став взрослым, Анрэ много раз благодарил небеса за то, что ему так повезло с отцом, который сумел воспитать его настоящим мужчиной. Будь старший Орелли чуть менее строгим и рассудительным, и младший, избалованный вниманием и заботой теток, наверняка вырос бы маменькиным сынком, размазней и бесплодным мечтателем, тем более что все задатки для этого у него в полной мере присутствовали. В детстве ему нравились не шумные игры с лучшим другом Максом Цолингером по прозвищу Лиса и другими приятелями, как обычно это бывает у мальчишек, а книги, музыка и живопись. Он проводил чуть не все свободное время за чтением и часами напролет готов был слушать, как Марианна играет на рояле. Матери пришлось по нраву, что он с самых ранних лет пробовал рисовать, и не было для мальчика большего счастья, чем прозвучавшая из ее уст похвала какого-нибудь его рисунка, наброска или этюда.
Чем ближе и явственнее ощущался финал войны, тем слабее становилось здоровье Марианны. Напрасно наивная детская душа лелеяла мечту: «Когда война кончится, мама поправится» – в декабре сорок пятого, под Рождество, Марианна умерла. С тех пор Анрэ на всю жизнь невзлюбил этот праздник, самый, наверное, популярный и веселый в их краях.
После смерти матери он как-то особенно сблизился с отцом, старался как можно больше времени бывать в его обществе, прислушивался к каждому слову. А за углом уже притаилась новая беда. Не прошло и четырех лет, как, вернувшись из школы, мальчик увидел, что в доме переполох, а у теток заплаканны глаза. Анрэ пришлось долго приставать к ним с расспросами, пока наконец Фелица, старшая, не выдавила из себя три страшных слова: «Твой отец умер». Что стало истинной причиной гибели Энцо Орелли, его сыну так и не суждено было узнать. Возможно, тот действительно скончался от сердечного приступа, как считалось официально, но не исключено, что ему помогли уйти на тот свет конкуренты и недоброжелатели, которых у контрабандиста хватало. Смерть отца еще несколько лет занимала Анрэ, не давая ему спокойно спать. Он пытался разобраться во всем, даже провел собственное расследование, но из этого ничего не вышло.
Потеря кормильца, разумеется, стала значительным ударом для семьи, не только психологическим, но и финансовым. Но и тут за дело снова взялись сестры Верфель. Они работали не покладая рук: шили, вышивали, делали искусственные цветы и продавали их сначала местным, а потом – иностранцам, туристам. Кроме того, часть большого дома начали сдавать внаем, для желающих – с полным пансионом. Все это позволило Анрэ не только без проблем окончить школу, но и – несказанное везение! – поступить на математический факультет Бернского университета. У него всегда были способности к математике, конечно, не столь гениальные, как это представлялось любящим теткам, но весьма неплохие. Таким образом, незадолго до своего девятнадцатилетия юный Орелли простился с Максом Цолингером и другими друзьями и впервые в жизни покинул родные края, отправившись в столицу изучать неэвклидову геометрию.
Берн стал для Анрэ открытием. Лугано, конечно, место красивое и с древними традициями, но большой город – это большой город! Юного Орелли удивляло и приводило в восторг все – толпы нарядных прохожих, столичная суета, огромные магазины, множество автомобилей, трамваи, светящиеся вывески, театры, ночные клубы…
Он поселился в съемной комнате на улице Карла XII вдвоем с Франсуа Жерве, молодым французом, тоже учившимся в университете. Комната, уже изначально не очень дорогая, вскоре и вовсе стала обходиться им почти даром, когда Анрэ начал заниматься с хозяйским сыном математикой. А уж после того, как мальчик получил несколько отличных отметок, хотя до этого был одним из последних в классе, хозяин только что не расцеловал жильца и заявил, что отныне они с французом могут вообще не думать об оплате жилья. «Живите так, не нужно ни франка, только почаще занимайся с моим оболтусом, хорошо?» Анрэ с радостью согласился, тем более что «оболтус» был хоть и ленивым, но весьма толковым малым. Двух полуторачасовых занятий в неделю ему было более чем достаточно, чтобы сохранить позицию если не отличника, то, по крайней мере, хорошего ученика.
Учеба же самого Анрэ держалась на высшем уровне. И по математике, и по физике он получал только отличные оценки, и преподаватели были о нем очень высокого мнения. Профессор Франц Глаузер не раз приглашал студента Орелли домой, чтобы за чашкой чая поговорить о тонкостях и загадках математики. Знаменитый глаузеровский чай с альпийскими травами, мятой и листьями вишни заваривала и подавала дочь профессора, толстушка Франсуаза. При появлении Анрэ она всякий раз краснела до корней белокурых волос, а потом усаживалась поодаль, подпирала пухлой рукой румяную щечку и глядела на гостя полными восхищения голубыми глазами. Сам профессор тоже смотрел на Анрэ ласково, почти как на сына, приглашал отобедать или отужинать с ними, обещал замолвить за него словечко, чтобы Орелли оставили на кафедре, и первое время юному студенту это все очень нравилось. Однако года через полтора, когда Франсуаза каждый раз, проходя мимо, стала задевать его то круглым локотком, то пышным бедром, то упругой грудью, а профессор все чаще начинал заговаривать о том, как мечтает о внуках, Анрэ сделалось в их доме неуютно. Что поделать, сердцу не прикажешь – Франсуаза никогда ему не нравилась. Будущего математика привлекали совсем другие девушки – тоненькие, стройные, изящные и непременно с темными смеющимися глазами, какие были у его матери. И он все реже стал бывать в гостях у Глаузеров, ссылаясь на те или иные неотложные дела. Профессор, будучи умным человеком, быстро разобрался, в чем дело, и с тем же энтузиазмом переключился на Франсуа Жерве. Здесь его усилия оказались вознаграждены. Сразу после окончания курса Франсуа стал мужем профессорской дочки. Свадьба получилась веселой и шумной, студенты и их подруги напились, наелись, натанцевались, нашутились и насмеялись от души. Анрэ был шафером и в глубине души очень радовался, что избавился от этой обузы. Он почему-то был уверен, что Франсуа с Франсуазой не уживутся, но ошибся. Жерве окончил университет, его оставили на кафедре, и он сделал головокружительную карьеру: стал профессором, опубликовал много книг, вырастил даровитых и известных учеников и получил несколько престижных научных премий. А Франсуаза родила пятерых детей и совсем располнела. Они были счастливы, так, по крайней мере, считали все их знакомые и близкие, да и сама мадам Жерве. Но это все было уже потом…
На втором курсе Анрэ Орелли вдруг снова увлекся живописью. Без особого труда вспомнив уроки, данные ему в детстве матерью и нанятыми ею учителями, он сначала просто зарисовывал виды окрестностей, используя мягкие карандаши, которые все равно не годились для учебных работ по техническому черчению. Потом попробовал себя в акварели, нарисовал несколько пейзажей, натюрмортов и даже портрет Франсуа – и все получилось неплохо. Конечно, он понимал, что до совершенства настоящих мастеров, с чьим творчеством был хорошо знаком по музеям, альбомам и открыткам, ему очень далеко, но самого Анрэ собственные рисунки вполне удовлетворяли. Ему каким-то непостижимым образом удавалось передать то красоту заснеженной горной вершины, то необыкновенно легкую тень, бросаемую на черепичные крыши Берна ломаным контуром готического собора, то удивительный свет под сенью изящной колоннады, одной из тех, которыми так славится этот город. Занятие живописью словно подарило ему другой взгляд на мир – он смотрел на то, что его окружало, и наслаждался увиденным, дивясь этой своей неизвестно откуда взявшейся тонкости восприятия. Теперь Анрэ уже и не мыслил себе выходных без вылазки на этюды или посещения музеев. Обычно он бывал в городской ратуше, в готическом соборе Санкт-Винценц, на колокольне Цитглоггетурм или других старинных зданиях, осматривал средневековые укрепления, забирался на башни и подолгу смотрел вдаль. Но чаще всего он бродил по набережным реки Ааре, делая там свои зарисовки, и Жерве постоянно дразнил его тем, что «Анрэ женился на Ааре». Эта глупая шутка, видимо, забавляла его созвучием имени приятеля и названия реки – подобно тому, как его собственное имя было созвучно с именем его невесты. Раздосадованный Анрэ отвечал, что Ааре не в пример лучше Франсуазы Глаузер. Жерве лез в драку, но не проходило и нескольких минут, как приятели мирились, брали бутылочку вина и принимались за рюмкой обсуждать прелести и недостатки знакомых и незнакомых швейцарских красавиц.
Когда Анрэ учился на третьем курсе, произошло событие, которое перевернуло всю жизнь. Однажды, поднявшись на открытую с четырех сторон верхнюю площадку Тюремной башни, молодой человек увидел у самого проема тоненькую фигурку. Девушка, одетая в шелковое цветастое платье и просторный сиреневый свитер крупной вязки, стояла спиной к нему и глядела вниз, ветер трепал расклешенную юбку и играл темно-русыми волосами. Незнакомка выглядела настолько легкой, почти невесомой, что казалось – еще миг, и она раскинет тонкие руки, расправит, точно крылья, рукава свитера и поднимется высоко-высоко в небо, навстречу перистым облакам. В то время Анрэ был еще очень робок с девушками, редко заговаривал с ними первым – но в тот раз слова вырвались сами собой:
– Вы не боитесь, что вас унесет ветром?
Незнакомка слегка вздрогнула – вопрос явно вывел ее из мечтательного забытья – и обернулась:
– Что вы сказали?
У нее было милое узкое лицо с чуть заостренным подбородком и удивительной красоты глаза насыщенного медового оттенка, в которых прятались смешинки. Он еще больше смутился, но повторил:
– Вы стоите так близко к проему… Я вдруг испугался, что порыв ветра подхватит вас, и вы улетите.
Она засмеялась и снова посмотрела вниз:
– А что? Было бы неплохо!
И добавила странную фразу:
– «Отчего это люди не летают, как птицы?»
– Я сам тоже часто об этом думаю, – признался Анрэ. Девушка окинула его заинтересованным взглядом и заметила в его руках альбом и карандаши.
– Вы художник?
– Ну, это слишком громко сказано… – поскромничал он. – Вообще-то я студент, изучаю математику в университете. А рисую просто так, для собственного удовольствия.
– А можно посмотреть?
– Конечно! – Он торопливо раскрыл альбом.
В тот период Анрэ Орелли никак не мог похвастаться обилием желающих ознакомиться с его творчеством. Меж тем ему всегда хотелось показать свои работы кому-нибудь понимающему, даже необязательно специалисту, просто человеку, который любит и ценит искусство. А эта девушка – Анрэ чувствовал это сердцем – была как раз из таких людей.
Интуиция его не подвела. Прекрасная незнакомка долго и с удовольствием разглядывала его зарисовки, отмечая в них именно те моменты, на которые обращал внимание он сам, и отпуская толковые замечания.
– Я вижу, вы очень хорошо разбираетесь в живописи, – не мог не признать он. – Это ваша профессия?
– Нет, только хобби. Я по образованию переводчик, работаю в газете.
– Правда? В какой же?
– В газете Степана Янко.
– Первый раз о такой слышу.
– Ничего удивительного. Это ведь газета для выходцев из России. Я русская, – с непонятной гордостью проговорила она и добавила: – Здесь меня называют Натали, но вообще-то мое имя Наташа или Наталья.
– На-та-лия, – с некоторым трудом повторил он.
– Нет, не совсем так! – поправила она. – Не Наталия, а Наталья, с мягким знаком. Есть в русском языке такая буква…
Взглянула на Анрэ и, поняв его замешательство, рассмеялась:
– Впрочем, можете не ломать язык и называть меня Натали. А как зовут вас?
– Анрэ. Анрэ Орелли. Мой отец был итальянец…
Признание девушки в том, что она русская, и особенно тон, которым были произнесены эти слова, слегка удивили Анрэ. Тогда среди его знакомых не было ни одного представителя этого странного народа. Русские казались ему каким-то непостижимым, алогичным явлением – возможно, благодаря тем противоречиям, которыми они были буквально переполнены. Он знал, что в этой дикой стране люди до сих пор живут в убогих деревянных домиках без всяких удобств и с печным отоплением, – но знал также и то, что именно эта нация дала миру многих великих поэтов, писателей, актеров и художников, чьи книги не выходят из моды на Западе, а картины служат настоящим украшением музеев, – Анрэ сам неоднократно любовался и восхищался этими полотнами. Русские приняли на себя самый значительный удар фашистских войск и вместе с союзниками сумели одержать победу в страшной войне – но до этого собственными руками устроили в своей стране кровавую и безумную революцию, после которой народ потерял свободу, а к власти приходит один тиран за другим. Все это никак не укладывалось в единую понятную схему, и оттого Анрэ привык относиться к русским, как относятся к человеку не то чтобы душевнобольному, но, как бы это сказать… со странностями. И ему было в диковинку, что его новая знакомая так гордится своей принадлежностью к этой специфической нации.
В тот раз вышло как-то само собой, что молодые люди вместе покинули старинное здание и отправились бродить по городу. Им было о чем поговорить – ведь они ровным счетом ничего не знали друг о друге, но оба почувствовали интерес к личности другого и трудно поддающееся объяснению влечение. День пролетел как одно мгновение, а следующим вечером Анрэ уже прохаживался по улице у подъезда невзрачного одноэтажного здания, где располагалась русская газета, нетерпеливо поглядывал на часы и ждал, когда из-за массивной двери выпорхнет, наконец, легкая фигурка.
Они стали встречаться часто, настолько часто, насколько это позволяли ее работа и его занятия в университете. Взявшись за руки, бродили по городу, осматривали архитектурные памятники, заходили в музеи, в маленькие кафе, обсуждали новости, книги, фильмы. И очень скоро Анрэ понял, что просто без ума от этой девушки, от ее тихого, нежного голоса, мелодичного смеха, задорной искорки в медовых глазах, непокорных темно-русых волос и ненового просторного свитера, который она носила не снимая. Этот свитер с вышитой на нем буквой F – что она означала, Наташа понятия не имела – был ее главной приметой, своеобразной визитной карточкой. Девушка говорила, что это память об отце. Эжен Алье был французом, мелким чиновником. В начале войны он вступил в ополчение и через несколько месяцев погиб. Натали до сих пор горевала о нем, и Анрэ, сам недавно потерявший обоих родителей, отлично ее понимал.
В своей газете Наташа выполняла обязанности редактора и корректора, а в свободное время писала стихи, рецензии на книги и переводила русских авторов на европейские языки и наоборот. Она свободно владела русским, английским, немецким и французским, у нее была потрясающая память и великолепное чувство слова. Анрэ искренне восхищался ее способностями, но Наташа только смеялась в ответ:
– Ой, ну ты скажешь тоже… Никакая я не способная, самая обычная. Ты просто не знаешь нашего редактора, Степана Янко. Вот кто действительно гений!
Скоро Анрэ познакомился и с ним. Тогда этот человек еще не был широко известен, его имя еще не упоминалось в литературных справочниках и энциклопедиях. Он лишь руководил скромной газетой для эмигрантов, вел в ней раздел культуры, писал о литературе и терпеть не мог, когда его тексты называли статьями.
– Это очерки, а не статьи! – горячился он. – Очерк – это широта, возможность высказаться не только на основную тему, но и на другие… В художественном смысле очерк стоит гораздо выше статьи. Кто этого не понимает, тот ничего не понимает не только в творчестве, но и в жизни!
Янко запомнился Анрэ, врезался в память, но вовсе не литературными очерками, а теми, что были опубликованы под рубрикой «От нашего стола». Ничего лучше по кулинарной теме Орелли не читал ни до того, ни после. Это были скорее даже не очерки, а кулинарные эссе. Как вкусно они были написаны! Анрэ даже как-то выучил наизусть отрывок из эссе «Много раз в году» и до сих пор помнил его: «Потом они ели приготовленное им блюдо прямо со сковороды, вымазывая хлебом острый соус, пили «Шардоне» и целовались, и луком не пахло, и суббота была, как всегда, такая короткая. Нет, короче, чем всегда. И не потому, что сегодня они полдня бродили в музее-усадьбе кого-то из очень бывших. Просто каждая суббота была короче предыдущей. Хотя при расставании часы показывали всегда одно и то же время. Она разглядывала его профиль на подушке, морщины у глаз, мелкие, как от дробинок, шрамики на скулах, водила по ним кончиками пальцев, вдыхала его запах…»
Наташа тогда сказала, что это не кулинарное эссе, это прямо-таки «Темные аллеи» знаменитого русского писателя-эмигранта Бунина, лауреата Нобелевской премии. Это его, бунинский, стиль, преломившийся через стенки хрустального бокала с «Шардоне», стерлядь, фаршированную крабами, и лобстеры с королевскими креветками. Ах, какие слова находил Янко, сколько там было нежности, сколько любви и счастья!
Прошлое дело. Но тогда Анрэ даже ревновал Наташу к этому Степану. Как-то они опубликовали в своем «листке» (так Анрэ презрительно называл их газету) стихи Янко, по мнению Орелли, очень слабые. Что-то там про любовь, про черные глаза и секс на лестнице в пролете между вторым и первым этажом – в общем, кошмар! Анрэ заподозрил неладное, подумал, что, возможно, так оно и было, как описано в стихотворении. Перед глазами появилась картинка: Янко и Наташа на лестнице, между первым и вторым этажом… К счастью, их редакция размещалась в одноэтажном доме. Но еще долго Анрэ мучился подозрениями, допытывался: было – не было? Наташа отшучивалась, смеялась. Но однажды, когда они поссорились и наговорили друг другу много неприятного, она очень тихо сказала ему: было. Потом, на другой день, когда они простили друг другу все вчерашние обиды, он снова спросил про эти чертовы этажи.
– Я пошутила, дурачок, – улыбнулась Наташа. – Неужели я променяю тебя на него?
И он успокоился.
Впервые в жизни Анрэ по-настоящему влюбился и с удивлением прислушивался к своим новым ощущениям, пытаясь понять, что же это за сила, что так неудержимо влечет его к ней? Почему из тысяч живших в этом городе девушек, многие из которых были красивы и интересны, он все-таки выбрал Наташу? Что в ней нашлось такого? Простота, с какой она умела обходиться с каждым, кто бы он ни был? Непривычное равнодушие к деньгам – иной раз у нее не было ни гроша, а вела она себя так, будто у нее миллионы? Непосредственная, почти детская радость и любопытство, с каким она смотрела на мир? Конечно, и все это тоже притягивало и завораживало его, но, наверное, главным было все-таки то, что он, Анрэ, привыкший к постоянному вниманию дома, изнывал в Берне от одиночества. Порой ему не с кем было поговорить даже о погоде, не то чтобы поделиться мыслями о прочитанной книге или показать новый этюд. А Наташе он был действительно интересен, она готова была часами слушать его рассказы о детстве или обсуждать его рисунки. Она стала ему по-настоящему близким человеком, и это чувство душевного родства было в нем порой даже сильнее, чем физическое влечение… Хотя последнее ну уж никак нельзя было назвать слабым. Он буквально терял голову даже от одной мысли о Натали. Стоило Анрэ, сидя на лекции, хоть на минуту вызвать в памяти образ любимой, представить, например, как ветер с реки играет ее легким платьем, облепляя им точеную фигурку и подчеркивая изящные формы, как он тут же надолго забывал о занятиях…
Однажды – это было примерно через месяц после их знакомства – Анрэ, наконец, осмелился поцеловать Натали. Как бы неудержимо его ни тянуло к ней, он все никак не решался сделать первый шаг – слишком уж мало походила она на тех девиц, с которыми ему довелось приобрести небогатый сексуальный опыт. В начале их дружбы Наташа казалась ему воплощением чистоты, он относился к ней с таким трепетом, что утром всякий раз сгорал от стыда, когда буйное юношеское воображение являло ему ее образ в отнюдь не целомудренных сновидениях. В тот вечер он, наконец, набрался мужества и, прощаясь с ней у подъезда, попытался коснуться губами ее губ, но девушка отстранилась.
– Не нужно, Анрэ.
– Что? – растерялся он. – Ты не хочешь? Я тебе не нравлюсь, да?
Она грустно улыбнулась:
– Нет, что ты… Дело совсем не в этом. Ты мне очень нравишься, боюсь, даже больше, чем нравишься… Но я дала себе слово избегать привязанностей.
– Во имя чего?
– Во имя того, чтобы не разбивать ничьего сердца. Ни собственного, ни того, кто меня полюбит.
– Но почему, почему?
– Потому что мы с мамой скоро уезжаем.
– Надолго? И куда?
– Надеюсь, что навсегда. Домой, в Россию.
Анрэ был в полной растерянности.
– И что, из-за того, что ты собираешься уехать, мы не можем… – он оборвал фразу, так как не нашел подходящих слов.
Наташа выразительно посмотрела на него:
– Пойми, Анрэ, так будет лучше для нас обоих. Давай останемся просто друзьями. Ведь это так чудесно – встречаться, ходить в кино, кафе и музеи, обсуждать книги и фильмы, делиться друг с другом тем, что у нас на душе… Если мы станем любовниками, все будет уже совсем не так. Но дело даже не в этом! Мне хочется, чтобы мой отъезд был радостью, а не поводом для страданий.
– Когда ты едешь? – глухо спросил он.
– Точной даты еще не знаю, но скоро. Мы уже собираем документы.
Эта новость стала для него ошеломляющей. Анрэ знал, что мать Наташи, Ольга Петровна, урожденная княжна Горчакова, покинула Россию маленькой девочкой – ее родители бежали от красного террора. Несколько лет семья жила в Алжире, потом переехала в Марсель, где Ольга встретила своего избранника Эжена Алье, вышла за него замуж и родила дочь. А незадолго до войны, когда обстановка в мире становилась день ото дня тревожнее, им помог перебраться в нейтральный Берн двоюродный брат Наташиного отца, имевший какое-то отношение к министерству иностранных дел. Во всю эту историю Анрэ уже был посвящен, не раз уже бывал в их маленькой квартирке на последнем этаже, был представлен и Ольге Петровне, и даже дяде, также носившему фамилию Алье, но звавшемуся немецким именем Дитер. Видел молодой человек и семейные фотоальбомы, где на снимках были запечатлены и живописные пейзажи вокруг усадьбы Горчаковых, и Наташины дед с бабкой на крыльце скромного алжирского домика, и торжество бракосочетания Ольги Петровны, и сама Наташа лет шести от роду, худенькая, со смешно торчащими косичками, на фоне живописной Марсельской гавани. Но вот о том, что девушка и ее мать намереваются ехать в Россию, Анрэ слышал впервые.
– Вы что, с ума сошли? – недоумевал он. – Зачем вам это нужно? Здесь у вас хорошая, спокойная, обеспеченная жизнь. А там… Страшно подумать, что может вас там ожидать! Голод, нищета, разруха… И даже того хуже – концентрационные лагеря ЧК!.. Что, если красные не простят тебе, что ты княгиня?
– Не княгиня, а княжна.
– Все равно. Тебя посадят в тюрьму или сошлют в Сибирь.
Наташа посмотрела на него, как на ребенка, который не понимает самых элементарных вещей:
– Анрэ, дорогой мой… Ты наивен, как все европейцы, у вас почему-то такое странное представление о нашей стране… Нищета, разруха, лагеря, репрессии – все это, слава богу, в прошлом. Теперь в России другая власть, другие порядки. Сталин умер, культ его личности развенчан, все изменилось…
– Что-то не верится!.. – перебил он.
– Не хочешь – не верь, это твое личное дело, – похоже, она обиделась. – А мы с мамой верим. Мы уже занимаемся оформлением документов, еще немного – и нам разрешат вернуться.
Молодой человек пребывал в полном замешательстве.
– Наташа, вот ты говоришь – «вернуться». Но как можно вернуться туда, где никогда не был? Твою маму увезли совсем ребенком, сколько ей было лет – шесть, семь? Даже она почти ничего не может помнить, настолько была мала. Но ее еще хоть как-то можно понять. А вот тебя… Тебе-то зачем в Россию?
Девушка покачала головой, веселые огоньки в карих глазах потухли.
– Боюсь, я не сумею тебе этого объяснить… Понять мои чувства может только русский. Уж такими нас создал Господь – мы не можем быть счастливы нигде, кроме родины. Прости, мне пора.
В тот вечер раздосадованный Анрэ допоздна бродил по улицам, продолжая мысленный спор со своей возлюбленной. Ее позиция удивляла и возмущала его. Взрослая девушка – Наталья была двумя годами старше Анрэ, – а повторяет все за матерью, точно дитя! Насмотрелась старых фотографий, всех этих особняков в стиле модерн, беседок на обрывах и авто на деревянных колесах и вбила себе в голову: «Вернуться на родину!» Какая родина!.. И ведь она даже не чисто русская, а полукровка, ее отец француз! Далась же ей эта злосчастная Россия, эти альбомы с древними снимками, эти заумные и скучноватые книги русских писателей, эти печальные песни, называемые странным словом романс, этот проклятый мягкий знак в ее имени! Негодованию молодого человека не было предела, однако он прекрасно отдавал себе отчет в том, что столь бурная его реакция вызвана лишь одним – отчаянным нежеланием потерять Наташу. Удивительная девушка, так упорно называвшая себя русской, уже слишком много значила для него.
Он неоднократно пытался поговорить с ней, привести какие-то разумные доводы, но Наташа продолжала настаивать на своем. Отъезд в Россию был для нее уже делом решенным, все было продумано и запланировано. Она вообще обожала строить планы, даже по мелочам. Когда он звонил ей, предлагая встретиться, обязательно спрашивала: «А куда мы пойдем?» При этом ответ: «Просто погуляем по набережной, сегодня отличная погода» – вполне ее устраивал, но все равно прогулка должна была быть запланированной, а не спонтанной. Само собой разумеется, что при такой любви к прогнозам будущая жизнь Натальи казалась расписанной до мелочей.
– Мы поселимся в большом городе, в Москве или в Петрограде, то есть в Ленинграде, – говорила она, – я устроюсь работать в какое-нибудь издательство и буду переводить на русский язык современных французских, немецких, английских авторов. А через несколько лет выйду замуж и обзаведусь детьми.
– И сколько же у тебя будет детей?
– Обязательно двое или даже трое. Но только девочки – я понятия не имею, как воспитывать мальчиков… Пусть будут три девочки. Как у Чехова, знаешь такого писателя? У него есть пьеса «Три сестры»… Главное – найти мужчину, которого не испугает перспектива жить в доме, где столько женщин. Многим это, наверное, покажется ужасным!
– Но почему же? – возражал Анрэ. – У моего деда Верфеля было четыре дочери – моя мать, Марианна, и ее старшие сестры.
– Да, я помню, конечно, ты рассказывал и про маму, и про теток… Но четыре – это все-таки чересчур. С меня хватит трех.
Очень скоро эти полушутливые разговоры сделались неприятны Анрэ. Каждый раз Наталья точно подчеркивала: у нас с тобой нет общего будущего. Для него эти слова равнялись словам «ты для меня ничего не значишь». Он обижался, негодовал, много раз давал себе слово порвать с девушкой, которая просто играет им, временно использует, чтобы после отъезда тотчас забыть, – но никак не мог этого сделать. Он настолько дорожил Наташей, его так сильно влекло к ней, что ради сохранения их отношений он был готов на многое. Даже на обман, к которому в конце концов и прибег.
Максимально задействовав весь свой математический ум, Анрэ проанализировал ситуацию и сумел, как ему показалось, найти выход из положения. Он решил притвориться, что он полностью согласен с Наташей. Надо сделать вид, что у них легкие и ни к чему не обязывающие отношения, которые можно будет в любой момент прервать без лишних драм. А раз все так легко и просто, то ничто не мешает сойтись поближе. Притворялся он довольно ловко. Волевым усилием загнал глубоко внутрь все свои чувства, не позволял себе ни словом, ни даже взглядом выдать обуревавшие его страсти. И девушка, как ни странно, довольно быстро приняла предложенные им правила. Анрэ так и не понял, разгадала она его тактику или нет, так и не узнал, любила ли она его. Натали, точно так же, как и он, ни разу ни словечком об этом не обмолвилась и лишь однажды, ласково ероша его волосы, вдруг посмотрела ему в глаза и процитировала какое-то неизвестное Анрэ стихотворение: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Но у него хватило сообразительности не выпытывать, что именно она имела в виду.
Они продолжали встречаться, общаться легко и весело, так же легко и весело целоваться где-нибудь на мосту через Ааре. И однажды, в небольшой квартирке на последнем этаже, когда ее матери не оказалось дома, так же просто и естественно случилось то, что просто не могло не случиться. К удивлению Анрэ, Наташа проявила еще больший пыл и страстность, чем он, – молодой человек хоть как-то пытался сдержать себя и даже вспомнил об отсутствии контрацептивов, но она успокоила его, заверяя, что у нее сегодня безопасный день, и очертя голову кинулась в его объятия.
Потом они долго лежали рядом, просто лежали, не разговаривали, старались не смотреть друг на друга и друг друга не касаться. Первой заговорила Наташа. Она украдкой взглянула на него и сказала нарочито весело:
– Но это ведь ничего не значит, правда? Мы по-прежнему останемся друзьями?
– Конечно-конечно! – поспешил заверить он. – Дружеский секс – вполне нормальное современное явление. Как-никак мы живем уже во второй половине двадцатого века. Просто в следующие разы мы все-таки обязательно будем пользоваться контрацептивами.
– Да, ты прав, это необходимо, – кивнула она. – Сложности не нужны ни тебе, ни мне. Тем более теперь, когда наши с мамой документы уже почти готовы.
Он поморщился. По крайней мере сейчас уж можно было бы об этом не говорить…
– Хочешь пить? – Она подала ему полный стакан воды.
– Хочу. – Он протянул руку, но стакан как-то выскользнул у них из пальцев и упал на пол, украсив его стеклянными осколками. Вода разлилась по паркету.
– Вот черт! – пробормотал Анрэ, но Наташа только засмеялась:
– Не переживай! У нас, русских, есть такая примета – посуда бьется к счастью.
– Глупости какие!
– И ничего не глупости. В приметах заключена народная мудрость.
Теперь, когда они уже отведали запретного плода, их влекло друг к другу еще сильнее. Влюбленные использовали каждую возможность для встречи, то у нее дома, то в комнатке Анрэ – Франсуа, который тогда еще не был женат, тактично оставлял их наедине, едва Наташа появлялась на пороге.
Даже в постели, в объятиях друг друга, они не позволяли себе говорить о чувствах, ни разу слово «люблю» или какое-нибудь другое нежное словечко не сорвалось с их губ. Но никаких других ограничений их страсть не знала, да и не хотела знать. Наташа оказалась замечательной любовницей, возможный недостаток опыта с лихвой компенсировался чувственностью и удивительным качеством, которое Анрэ никогда больше, ни до, ни после нее, не встречал в женщинах, – жаждой сделать его счастливым. Для нее это было не игрой на зрителя, демонстрацией, которая нередко встречается у продажных женщин и жен, давно охладевших, но стремящихся сохранить семью, а настоящей потребностью, искренним свойством ее натуры. Анрэ не уставал благодарить небеса, подарившие ему столь страстную и чуткую подругу.
Некоторое время они оба были как в угаре, и только спустя где-то пару месяцев Анрэ стал замечать, что с его возлюбленной творится что-то неладное. Наташа сделалась печальной, задумчивой, у нее появилась привычка ни с того ни с сего замолкать и надолго погружаться в себя, иногда даже не слыша и не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Расспросы молодого человека длительное время оставались без ответа, но наконец девушка призналась, что беременна. Тот разговор, состоявшийся в их любимом кафе-кондитерской на набережной Ааре, он запомнил на всю жизнь.
Наталья, как обычно, заказала кофе и песочное пирожное, но не притронулась ни к тому, ни к другому. Сидела, задумчиво помешивая ложечкой густой ароматный напиток, который уже давно остыл, и думала о своем. Анрэ не обращался к ней ни с какими вопросами, уже зная, что это все равно бесполезно. Просто сидел и ждал, когда она сама выйдет из оцепенения. На этот раз поводом послужило появление в кафе семейства с двумя шумными ребятишками. Наташа словно очнулась, некоторое время со странным выражением лица наблюдала за детьми, а потом спокойно и просто, точно о какой-то самой обыденной вещи, сказала:
– У меня тоже будет ребенок.
– Что?! – он решил, что ему это послышалось. Но она повторила, по-прежнему не глядя на него:
– Да, это так. Я беременна.
– Но как же это может быть?.. – растерялся Анрэ. – Мы же с тобой всегда предпринимали меры, и все было нормально…
– Не всегда. Помнишь самый первый раз? Я думала, что тот день безопасный, а оказалось…
За столиком у окна повисла неловкая пауза.
– И что же ты будешь делать, Наташа? – с тревогой спросил он.
– Мы с мамой уже все решили. Я оставлю ребенка. Мама говорит, что первый аборт очень вреден, после такого я уже, скорее всего, вообще никогда не смогла бы иметь детей. И потом – разрешение на выезд мы должны получить уже в самое ближайшее время. Так что я повезу свою дочь через границу в животе – контрабандой. А появится на свет она уже в России.
Внутри у Анрэ все клокотало. Они с мамой, видите ли, уже все решили! Мнением отца ребенка никто даже не поинтересовался! Эта проклятая Россия всегда была для Натали дороже, чем он, Анрэ… Он хотел бы сказать многое, очень многое, но взял себя в руки, сдержался и только спросил:
– Дочь? Почему ты решила, что будет именно дочь?
Наташа впервые за долгое время улыбнулась, ее потухшие глаза снова засветились:
– Не знаю. Но я почему-то абсолютно уверена, что родится девочка. Такая пухленькая, розовенькая и непременно с кудряшками. Я бы хотела назвать ее Ольгой, но мама считает, что одинаковые имена в одной семье – дурная примета. Так что сейчас я колеблюсь между Марией и Екатериной… Тебе что больше нравится: Катя или Маша?
– Зачем ты меня об этом спрашиваешь? – не выдержал он.
Она посмотрела на него и мягко накрыла ладонью его руку.
– Ты сердишься… Да, я понимаю. Все это так нелепо, так не по-людски… Но я, право, не знаю, что делать и как все изменить…
– Что же тут непонятного?! – он даже повысил голос, так, что на них обернулись официанты и посетители кафе. – Тебе нужно сию же минуту выбросить из головы все эти глупости с отъездом. И начать думать только о ребенке, о его будущем. Конечно, все это так неожиданно, мы еще молоды и не совсем готовы стать родителями… Но Там лучше нас знают, что и когда должно случиться. И нам остается только принять свою судьбу. Мы с тобой должны пожениться и жить семьей – я, ты и наш ребенок. Мне придется бросить университет и найти работу, но это меня не пугает…
Она глядела на него с такой тоской, что у Анрэ защемило сердце.
– Увы, это невозможно…
– Но почему?
– Я же тебе сказала: мы совсем скоро уезжаем. О какой женитьбе и семье может идти речь, если я буду там, а ты – здесь?
– Наташа, ты должна остаться.
– Это исключено.
– Мы должны быть вместе!
– Мы не можем быть вместе, Анрэ, это было ясно изначально.
– Я не вижу причины, по которой ты не можешь остаться в Швейцарии.
Она помолчала, залпом допила кофе, очевидно, совершенно не почувствовав вкуса.
– Кажется, я придумала, как это тебе объяснить… Представь на минуту, что я позвала бы тебя с собой. Ну да, не делай круглых глаз. Что бы ты сказал?
Анрэ не ожидал такого поворота событий и в первую минуту действительно не нашелся что ответить. Такая абсурдная мысль никогда не приходила ему в голову. Он, Анрэ Орелли, родившийся и выросший в Лугано, студент Бернского университета, – и вдруг уехать в варварскую Россию. Бред.
– Вот то-то и оно, – покачала головой Наташа, словно прочла его мысли. – Для тебя это немыслимо. А для меня, пойми, точно так же немыслимо не отправиться на родину, раз есть такая возможность. И хватит об этом. Лучше позови официанта, нам пора идти.
Если бы Наташа и Ольга Петровна тогда уехали сразу, как намеревались, все могло бы еще как-нибудь обойтись. Да, конечно, он какое-то время еще страдал бы, но потом встретил другую женщину, влюбился бы с новой силой… И образ Натали потихоньку стерся бы из памяти. Но вышло по-другому: отъезд откладывался, русские власти требовали все новые и новые документы, выясняли, кто из родственников Наташи и ее матери остался жив, где похоронены умершие, чем и те и другие занимались и занимаются. Особенное внимание уделялось военным годам, от Ольги Петровны требовали чуть не по дням расписать свое пребывание в Швейцарии во время войны с фашистами.
– Но ведь это просто абсурд какой-то! – возмущался Анрэ. – Как можно жить в стране, которая позволяет себе доходить до такого идиотизма?
– Да не волнуйтесь вы так, мой друг, ничего особенного в этом нет, обычные бюрократические проволочки, – спокойно отвечала мадам Алье, урожденная Горчакова. – К сожалению, наше Отечество всегда славилось подобными вещами… Очевидно, при большевиках только усилилось то, что было при государе императоре Николае Александровиче. А до него – при его батюшке и при других венценосных предках.
Наташа в этих разговорах почти не участвовала. Она тяжело переносила беременность, ей постоянно нездоровилось. И ранее не отличавшаяся полнотой, молодая женщина заметно похудела, ее узкое лицо еще больше заострилось, побледнело и осунулось. Анрэ глядел на нее, и сердце разрывалось от любви и жалости к ней, он мучился чувством вины оттого, что не знает, как и чем помочь ей, облегчить ее страдания, физические и моральные. Наташе вскоре пришлось уволиться с работы, и она целыми днями лежала на старом диване, а он сидел рядом, вытирал с ее бледного лба крупные капли пота, осторожно сжимал в руке ее тонкие пальцы и постоянно спрашивал:
– Тебе что-нибудь нужно? Может, еще чаю?
Она отрицательно мотала головой:
– Нет, много чаю нельзя, я и так сильно отекла…
– Но ты чего-нибудь хочешь?
– Только одного, – тихим голосом отвечала она. – Поскорее бы пришло разрешение на выезд. А то я просто не представляю, как поеду в таком состоянии…
Но разрешение все не приходило, и кончилось дело тем, что везти ребенка «контрабандой» не пришлось. В тот день Анрэ, как всегда, выйдя с лекций, сразу же поспешил к телефону, чтобы позвонить Наташе, но никто ему не ответил. Он отправился на знакомую улицу и на лестнице столкнулся с Ольгой Петровной. Глаза женщины были опухшими и красными от слез, но лицо освещалось счастливой улыбкой.
– Андрюша, такая радость… У Наташеньки преждевременно начались роды, но все завершилось благополучно, врач сказал, что можно не опасаться ни за ее здоровье, ни за здоровье малютки. Слава Господу и Пресвятой Богородице, теперь у меня две девочки…
Новорожденную назвали Татьяной и окрестили в русской церкви. Анрэ это имя не нравилось, казалось каким-то грубоватым, но женщины в два голоса принялись доказывать, что никаких иных вариантов и быть не может, раз девочка родилась 25 января, в студенческий день. Он даже не пытался взять в толк, какая связь между именем и студентами, важно было другое – в сердце поселилась надежда, что теперь, когда у нее крошечный ребенок, Наташа вынуждена будет отложить отъезд. Или ее не впустят в Россию, снова начнут бесконечно проверять, от кого у нее дочь да что за тип этот Анрэ Орелли… Так или иначе ему это было только на руку.
Маленький человечек, воцарившийся в квартирке на последнем этаже, вызывал в Анрэ смешанные чувства. С одной стороны, крохотный орущий комочек выглядел так умильно и будил в его душе такую нежность, которую он и сам бы не мог в себе представить… Но в то же время будто бы кто-то очень жестокий постоянно проникал в его сознание и повторял: «Не смей привязываться, не вздумай полюбить этого ребенка! Вдруг Наташа все-таки уедет – и что будет с тобой? Представь хоть на минуту, как ты будешь страдать от мысли, что больше никогда не увидишь свою дочь! Тебе мало в жизни трагедий, ты недостаточно переживал?»
И Анрэ сдерживал себя, старался пореже подходить к «Танюшке», как называли ее женщины, никогда не брал ее на руки и всегда норовил выйти из комнаты, когда Наташа собиралась перепеленать или покормить дочку. Его подруга, в которой проснулась любящая и заботливая мать, не понимала его и очень обижалась. Однажды Анрэ случайно, сам того не желая, подслушал их разговор с Ольгой Петровной – Наташа жаловалась на его холодность и невнимание к девочке; в ответ на что мать уверяла ее, что она слишком многого хочет от мужчины, да еще такого молодого. Анрэ Орелли в то время было только двадцать два года. Впрочем, эти мудрые увещевания не помогли, Наташа продолжала отдаляться от Анрэ, переключив все внимание на ребенка, а он в свою очередь находил в ее поведении оправдание себе и подтверждение своим опасениям. Он стал все реже бывать у Алье, ссылаясь на занятия в университете.
Так продолжалось два месяца и одиннадцать дней – ровно столько прожила на свете крошечная Танюшка. Начало весны в том году выдалось удивительно холодным, девочка заболела, как утверждала потом Наташа – заразилась вирусным гриппом от любопытной соседки, которая беспардонно сунулась в коляску «поглядеть на прелестную крошку». Была в том вина соседки или нет, установить невозможно, да и не имело смысла; так или иначе у Танюшки к вечеру резко поднялась температура, начался сильный, изнуряющий кашель. Первое время все думали, что это обычная простуда, и тем страшнее оказался диагноз, прозвучавший как приговор, – двусторонняя пневмония. Врачи оказались бессильны, болезнь развивалась и в считаные дни сгубила несчастного ребенка. Анрэ, примчавшийся к Алье, как только услышал страшную новость, в первый миг не узнал Наташу. За одну ночь в ее чудесных темно-русых волосах появились серебряные нити, молодая женщина словно постарела на двадцать лет и сделалась так похожа на мать, что в полутьме прихожей он сначала принял ее за Ольгу Петровну.
Ссору, что произошла между ними в то утро, Анрэ запомнил на всю жизнь. Он примчался на зов Натали так быстро, что опередил карету «Скорой помощи», и с ужасом глядел на крошечное мертвое тельце в кроватке, среди заботливо вышитых руками двух княжон Горчаковых белоснежных пеленок. Рыдания вырвались из груди, и, всхлипнув, Анрэ упал в кресло. Все происходящее казалось ему кошмарным сном. Он пришел в себя лишь некоторое время спустя и с удивлением увидел, что Наташа не плачет, не бьется в истерике на соседнем диване, не пьет успокоительное. Его возлюбленная стояла у гладильной доски и методично водила утюгом по белоснежной льняной простыне.
– Что ты делаешь? – поразился он. – Неужели этим надо заниматься сейчас?
– Нужно завесить большое зеркало, – бесстрастным тоном отвечала Натали. – А простыня помялась, пока лежала в шкафу. Я ее глажу.
– Но зачем это, зачем?
– Таков обычай. Когда кто-то умирает, надо вымыть полы и занавесить зеркала. – Она переступила с ноги на ногу по еще влажному паркету и вернулась к своему занятию. Вид свежевымытого пола почему-то напомнил Анрэ их первую близость, разбитый стакан, лужу воды на паркете… Да уж, сбылась примета, настало счастье, ничего не скажешь! Вот тебе и народная мудрость!
– Как ты можешь? – он сорвался на крик. – Как ты можешь оставаться такой спокойной, когда у нас только что умерла дочь? И эти ваши идиотские приметы и обычаи!.. Вечно вы, русские, придумываете что-то вечно живете в вымышленном мире, вместо того чтобы видеть и понимать то, что происходит вокруг. Таньюшка мертва – а у тебя в голове не смерть ребенка, а полы, зеркала и простыни!
На его крик примчалась из соседней комнаты встревоженная Ольга Петровна, но Анрэ это не остановило.
– Ты всегда была такой, – продолжал он. – Бесчувственной, бессердечной, жестокой. Теперь я понимаю, откуда взялись ваши большевики! У вас у всех просто нет сердца! Эта твоя проклятая Россия всегда была тебе дороже всего! Дороже ребенка! Дороже меня! Конечно, мы патриоты, мы «любим Родину»! Разве мы можем при этом еще полюбить какого-то занюханного швейцарца! Прощай!
Он сорвался с места и двинулся к выходу. Ольга Петровна кинулась было к нему, видно, хотела удержать, как-то успокоить, но Наташа остановила ее:
– Не надо, мама. Пусть идет. Пусть уходит навсегда. Я не хочу его больше видеть.
Но они все-таки увиделись, месяца два или три спустя. Анрэ, с тех пор с головой погрузившийся в учебу, как обычно, допоздна занимался в своей комнате. Около десяти часов вечера в дверь постучали.
– Кого там несет? – недовольно крикнул он. Жерве уехал на каникулы домой, и гостей Анрэ не ждал. – Открыто.
На пороге стояла Наташа. Та самая Наташа, которая не хотела никогда больше его видеть.
– Впустишь? – тихо спросила она и, не дождавшись ответа, прошла в комнату. Анрэ молча стоял и смотрел на нее. Натали была почти совсем прежней. Та же хрупкая фигурка, тот же сиреневый свитер с загадочной буквой F, те же непокорные пряди темно-русых волос. Вот только смешинка в медового цвета глазах пропала.
– Вот, зашла проститься перед дорогой, – проговорила она, пряча взгляд. – Поезд завтра утром, в девять двадцать шесть. Ты не хочешь меня видеть, да? Мне уйти?
– Ну, вообще-то… – только и сумел сказать Анрэ.
А потом была их ночь. Их последняя ночь.
Оба не сомкнули глаз ни на минуту. Они любили друг друга жадно, неистово, отчаянно, и блаженство обладания смешивалось с горечью непоправимой утраты. Оба понимали, что больше не увидятся никогда, и оттого, упав в изнеможении на подушки, тут же начинали разговор и все никак не могли наговориться. Говорили обо всем: об умершей девочке, о стольких счастливых днях, проведенных вместе в Берне, о далекой России, о тех, кто, на их несчастье, придумал государственные границы. Не говорили они только об одном – о своей любви. Эта тема по-прежнему оставалась табу для обоих, и ни разу слова признания не слетели с их губ – даже в ту, последнюю ночь.
Утром он поехал провожать ее на вокзал, помог Ольге Петровне справиться с немногочисленными чемоданами. Подача поезда задерживалась. Они стояли на перроне, не глядя друг на друга, и впервые не знали, о чем говорить. Ольга Петровна деликатно отошла в сторону и смотрела на плоскую крышу старого здания вокзала, на вокзальную площадь, на вязы, растущие по ее бокам, на яркие трамваи, весело бегущие по узким улочкам. Затянувшееся молчание угнетало.
Наконец подали состав, пассажиров пригласили занимать места. Ольга Петровна трижды поцеловала Анрэ, перекрестила, пробормотала что-то вроде: «Прости нас за все, Андрюша, храни тебя Господь!» – и торопливо шагнула в вагон. Наталья двинулась было следом за матерью, но вдруг обернулась, кинулась в объятия Анрэ и разрыдалась. Впервые за все время их знакомства он увидел ее плачущей. У него у самого к горлу подкатил ком, сердце словно сдавило в железных тисках. Не в силах вымолвить ни слова, он лишь все крепче и крепче прижимал ее к себе. До тех пор, пока седоусый начальник состава буквально не оторвал их друг от друга и не помог беспамятной от горя Наташе забраться на подножку уже тронувшегося поезда.
Больше Анрэ никогда ее не видел. Первое время он еще получал редкие и краткие весточки от Ольги Петровны – в основном полусмятые открытки с видами Кремля или города Ленинграда, где они с Наташей поселились. Написанные аккуратным, четким, почти каллиграфическим почерком строки нейтрально сообщали, что у них «все благополучно», «устроились на новом месте хорошо», «Наташа нашла хорошую работу». Анрэ на открытки не отвечал. Самый первый раз попробовал было это сделать, но никак не мог решить, о чем писать, не сумел найти подходящих слов, извел целую стопку бумаги на черновики и в конечном счете разорвал их. Потом открытки прекратились, видно, что-то случилось – скорее всего, умерла Ольга Петровна. Связь оборвалась, и о дальнейшей судьбе Натали он больше ничего не знал.
Со временем боль начала стихать, и вскоре Анрэ почти убедил себя, что и русскую девушку Наташу, и все бурные чувства, что были связаны с нею, он просто придумал. Был молодым, глупым, восторженным, начитался сентиментальной литературы… Однако стоило ему вспомнить, что у него был ребенок, как тоска возвращалась вновь. Иногда ему снилась дочка – не Таньюшка, крохотная и так рано умершая, а подросшая девочка то трех, то пяти лет и даже двенадцати, хорошенькая, черноглазая, очень похожая на него, и во сне Анрэ твердо знал, что это его дочь, она жива и с ней, слава тебе господи, все в порядке.
Иногда он доставал из стола фотографию и долго рассматривал ее. На снимке, сделанном дядей Дитером всего за несколько дней до болезни Таньюшки, они были изображены втроем – Анрэ, у которого почему-то был очень глупый вид, и похудевшая осунувшаяся Наташа с дочкой на руках.
А всепобеждающая жизнь шла своим чередом.
Получив новенький, пахнущий типографской краской диплом в кожаном переплете, Анрэ возвратился из Берна в Лугано.
К его удивлению, дома ровным счетом ничего не изменилось, разве что лучший друг, рыжий Макс Цолингер, унаследовал от отца юридическую практику и заметно растолстел, скончался булочник Карл, да дочь соседа Факетти, которую Анрэ, уезжая, запомнил девчонкой, голенастой пигалицей, вдруг стала взрослой девушкой и настоящей красавицей. А так все было по-прежнему: те же пароходики на озере, те же разговоры в кафе на площади, те же добрые улыбки на лицах теток и тот же запах кофе и свежей выпечки по утрам.
Анрэ неловко было признаваться в этом самому себе, но он понятия не имел, чем займется в родном городе. «Отдохну недельку-другую, а там видно будет, – решил он. – Самое главное – я дома. Здесь, вдали от Берна, где каждая улица в центре города, каждое кафе, каждый камень на набережной Ааре напоминали мне о Натали, я сумею забыть все свои печали».
Увы, на деле все вышло совсем иначе. В первую же ночь, когда Анрэ, еле дыша после обильного праздничного ужина в честь его приезда, отправился к себе в комнату и улегся на приготовленную заботливыми руками теток мягчайшую и пахнущую свежестью постель, уснуть он не сумел. Тяжким гнетом навалились воспоминания, Анрэ словно заново пережил все самые трагичные минуты своей жизни, и горечь утраты при мыслях о матери и отце слилась с болью от смерти дочки и отъезда Наташи. В ту ночь он почти не спал и поднялся в прескверном расположении духа. Но и утром дурное настроение не покинуло Анрэ. На душе становилось все тоскливее, ни прогулки по городу, ни встречи со старыми знакомыми, ни пребывание в родном доме не грели душу. Бедные тетки, с такой радостью встретившие своего любимца, не знали, что и подумать.
Так продолжалось несколько дней, до тех пор, пока однажды вечером не раздался звонок в дверь. Пришел Зигмунд Фляйшман, старинный приятель Анрэ, невысокий, голубоглазый, с белоснежными зубами, густой черной шевелюрой и такой же бородкой. Эта самая бородка в юности была предметом зависти для всех других мальчишек – в четырнадцать лет ни у кого, кроме Зигмунда, еще не появилось на лице никакой растительности. Анрэ с радостью отметил, что друг детства совсем не изменился, даже одет был в прежнем своем стиле: в темный полосатый шерстяной костюм с ярким, полосатым галстуком.
Приятели распили бутылку вина, вспоминая, как вместе росли, тайком учились курить, ухаживали за девушками. Но вскоре Анрэ понял, что Фляйшман заглянул к нему не без умысла. Так и оказалось – Зигмунд поделился с другом идеей, которая уже некоторое время не давала ему покоя. Речь шла об открытии банка, который финансировал бы небольшие компании, мелких дилеров, продающих сигареты в Италии и Швейцарии, занимающихся контрабандой продуктов питания; их развелось множество, и все требовали себе места под солнцем – один поедал другого, а потом сам становился чьей-то добычей. Фляйшман собирался поговорить со своим отцом, советником бюро по страхованию рабочих от несчастных случаев: он думал, что отец, как специалист, знающий эту среду и контингент будущих клиентов, не откажет – ведь дело это выгодное, тем более что за него берутся такие корифеи, как Зигмунд (у него было юридическое образование и некоторый опыт адвокатской работы) и выдающийся математик Анрэ!
Сначала у Орелли еще оставались какие-то сомнения, но вскоре вино, юная горячность и радужные перспективы, обрисованные другом детства, сделали свое дело. Анрэ сидел разгоряченный, с красным лицом, размахивал руками, доказывая преимущества мелких банков, словно именно ему и пришла первому в голову эта идея. Зигмунд со всем соглашался и лишь, когда Анрэ утихал, подбрасывал свои доводы.
– Ты что, не согласен со мной? – спрашивал Анрэ.
– Конечно, согласен, дружище! Но сейчас я говорю о другом. Дело не в том, чтобы открыть банк, а в том, чтобы он работал, как часы, и приносил прибыль, – отвечал приятель.
– Ну а я о чем? И я о том же. Привлечем Карла Шпиттелера – он хорошо разбирается в финансах, можно пригласить Лису – Макса Цолингера…
– Нет, нельзя сразу так раздувать штаты. Начинать надо вдвоем, а потом будет видно, – возражал Зигмунд.
– Точно говоришь. Молодец! Годок протянем на пару, а там посмотрим, – соглашался Анрэ.
– Значит, для начала нужно будет составить подробную смету, поработать над финансовым планом и помозговать, кто из нас чем будет заниматься. Лучше всего сразу разделить между собой сферы, чтобы не было осложнений в дальнейшем…
– Главное – доверять друг другу. По-моему, это золотая идея – заняться мелкими посредниками. Я кое-кого знаю, кому все время нужны деньги… Такие пойдут на любой процент, лишь бы достать их немедленно. У меня есть один знакомый – Ганс Келлер, могучий мужик! Он прокручивает миллион мелких сделок, и деньги ему нужны постоянно. И знаешь где он их берет? У живоглота Цюбельбюллера, под неслыханные проценты! Так он, понятное дело, лучше пойдет к нам, чем к этому новоявленному Гобсеку! – горячился Анрэ.
– Кто ж не знает прохвоста Цюбельбюллера! Да его пол-Лугано ненавидит. Имея такой гешефт[1], ходит в старом сюртуке и, вы подумайте, носит старую, засаленную шляпу! Разве может порядочный человек ходить в такой шляпе? Его дети не знают, что такое подарки. Им неизвестно такое слово…
– Постой-постой, а что, если и нас начнут ненавидеть, как этого Цюбельбюллера? – Анрэ как бы заглянул в свою душу с этим вопросом. – Нет, мы такими не будем. Не может быть! Я не такой, да и ты не такой, я же знаю…
– Что ты не такой – это точно, – Фляйшман широко улыбнулся. – Но сейчас нам еще рано говорить о прибыли. Надо трезво оценивать свои возможности и перво-наперво решить вопрос о начальном капитале. Я завтра же поговорю с отцом… Вернее, уже сегодня, на часах давно за полночь. Пожалуй, мне пора.
– Может, останешься у меня? – Анрэ очень не хотелось отпускать друга и прерывать такой интересный разговор.
– Нет, спасибо, я пойду. Порядочный еврей должен ночевать дома. Да и мама будет волноваться.
– Зигмунд, стыдись, ты же взрослый мужчина! Неужели твоя мать не разрешает тебе, как какому-нибудь школьнику, проводить ночи вне дома? Это же просто смешно!
Лицо Зигмунда побелело.
– Ты, видно, не знаешь, что с моей мамой?
– Нет. А что с ней такое? Она нездорова?
– Нездорова… Три года назад у нее был удар, с тех пор мама лежит без движения. Ее нужно кормить с ложечки, точно малого ребенка, переодевать, мыть, то и дело менять белье… При этом она сохранила ясность ума и оттого стыдится своего положения, плачет и умоляет о смерти. Но Господь ее не забирает. Значит, она нужна здесь, на этом свете… И я знаю зачем! Чтобы я научился ухаживать за близкими мне людьми, научился думать не только о себе… – Зигмунд внезапно замолчал и отвернулся. Видимо, ему стало неловко за этот неожиданный срыв. Повисло молчание. Фляйшман откашлялся и уже спокойно продолжил: – Извини, что так получилось. Я не должен был так с тобой говорить. Боль каждого принадлежит только ему, и больше никому! Никогда не нужно выпячивать свое, только тебе принадлежащее. А я это сейчас сделал. Мне стыдно. Если не соблюдать это правило, то что получится? Тебе хочется поговорить о своих проблемах, а я, вместо того чтобы тебя слушать, завел песню о своих. Разве друг должен так поступать? Да так никто поступать не должен. Только тогда мы будем угодны Господу.
Анрэ готов был провалиться сквозь землю. Он получил урок на всю жизнь. Он ничего не знал о матери Зигмунда, думал только о своих переживаниях, считая, что у других все хорошо, прекрасно, отлично… А ведь, как ни ужасно это звучит, по сравнению с Фляйшманом ему повезло. И мать, и отец умерли быстро, годами не лежали парализованными и не были в тягость самим себе и своим близким…
– Прости меня, дружище, – только и смог выдавить Анрэ.
– Что ты, что ты! Я же не в укор тебе говорю. Просто тоже волнуюсь – как там мама, как она себя чувствует? – сказал Зигмунд. – Конечно, кто-то из сестер всегда рядом с мамой, они прекрасно ухаживают за ней, но все равно на душе как-то тревожно.
– Тогда не смею тебя задерживать. До встречи, Зигмунд!
– До скорой встречи, Анрэ!
Они крепко обнялись и наконец расстались.
Анрэ поднялся к себе, и вдруг ему страшно захотелось, чтобы рядом была Наташа – он бы рассказал ей об их с Зигмундом затее, о том, что они стоят у нового поворота и, быть может, за ним начнется настоящий успех… Она бы выслушала его, а потом, в знак одобрения и благодарности, отдалась ему со всем пылом молодой женщины, желающей успеха своему мужчине, потому что его успех – это и ее успех, ее будущее, дом – словом, нормальное женское счастье. От которого она сбежала…
Он улегся было в постель, но сон снова не шел – правда, впервые за эти дни уснуть мешали не грустные мысли и воспоминания, а радостное перевозбуждение. Энергия, поднявшаяся в нем после окрыляющего разговора с Зигмундом, требовала какого-то выхода. Анрэ вдруг понял, что ему сейчас нужнее всего: он остро захотел женщину, захотел неистово, как подросток, впервые услышавший зов плоти. Закрыв глаза, он живо представил себе ее– молодую, красивую, обольстительную, почувствовал ее всем телом, всем своим естеством.
И, кажется, знал, что надо делать.
Было три часа утра. До рассвета еще далеко. Он вышел из дома, и ноги сами собой понесли его к озерному порту, где круглые сутки не утихала жизнь, работали кафе, играла музыка, бродили неугомонные ночные гуляки. У причала на парапете сидели четыре девицы, скорее всего, француженки. Догадаться об их принадлежности к самой древней профессии было нетрудно. Клиентов рядом не было. Возможно, что уже не было.
На какой-то миг Анрэ вдруг стало неловко, и даже мелькнула мысль уйти. Но он снова вспомнил о Натали, и ему почему-то страшно захотелось доказать бывшей подруге ее неправоту, продемонстрировать, что и он, Анрэ, чего-то стоит. Пусть даже таким способом.
Все еще испытывая некоторое смущение, Анрэ подошел к женщинам и спросил: «Сколько?» Одна, что побойчей, ответила: «А сколько дашь?» Она была молодой, ладной, высокой; короткая юбка бесстыдно открывала колени, чуть полноватые и такие соблазнительно-круглые, что Анрэ бросило в жар. Желание обладать именно ею захлестнуло его, женщина манила его, завораживала, кружила голову.
– Встань! – приказал он, сделавшись от застенчивости чрезвычайно развязным.
Она, усмехнувшись, поднялась.
Анрэ оценивающе осмотрел ее с ног до головы, протянул руку, коснулся груди, бесцеремонно сжал. На ощупь грудь оказалась тяжелой и упругой, и это окончательно заставило его потерять разум.
С трудом переведя дыхание, Анрэ сглотнул и еле смог выдавить из себя несколько слов, обозначивших сумму.
Женщина помолчала, минуту подумала, потом спокойно взяла его под руку и повела к маленькому домику. Он вдруг вспомнил, что в детстве отец показывал ему этот домик и говорил, что здесь бывал Франц Кафка. По дороге то ли в Милан, то ли в Париж знаменитый писатель проезжал через Лугано и посетил бордель, располагавшийся как раз в этом здании. Очевидно, с тех пор ничего не изменилось, и публичный дом все еще находился на старом месте. «Франц Кафка и я, – подумалось Анрэ. – Тоже мне параллели!»
Он пробыл там всю ночь и почти целый день. Проститутка оправдала самые смелые ожидания, и он сам поразился, насколько, оказывается, может быть силен, неутомим и ненасытен в постели. Позднее у него перебывало множество женщин – красивых и не очень, молодых и закатного возраста, закомплексованных и раскрепощенных, но такого не случалось больше никогда. А ведь был всего лишь секс, никакой любви – ни возвышенной, ни сдержанной, ни даже какой-нибудь самой завалящей. Так к черту же Наташу и к черту все эти книги, стихи и разговоры о любви! Много позже, когда он познакомился с Софи, он уже был и неутомимым любовником, и сексуальным разбойником, и итало-швейцарским донжуаном, и ангелом, и демоном… Но даже в самые яркие моменты он лишь приближался к тому блаженному состоянию, которое испытал тогда с проституткой.
Когда Анрэ вышел на улицу, вечерело. Солнце уже скрылось из глаз, небо на западе приобрело багряный оттенок, облака полыхали оранжевым, точно языки пламени. И такое спокойствие было разлито вокруг, казалось, во всем мире царит покой и благоденствие… Листья на деревьях не колыхались, на тихом-тихом озере неподвижно стояли парусники – в воздухе не было никакого движения, ни дуновения ветерка.
А на парапете возле домика сидели все те же девицы и так же глядели вдаль, на запад. И хотя Анрэ качало от усталости, он ощущал необыкновенный прилив сил. Хотелось жить, творить, смеяться, говорить глупости. Он был необыкновенно горд собой.
Больше Анрэ не ходил в тот домик.
Через пять месяцев они с Зигмундом открыли «Лугано-Прайвит-банк». Этот период жизни остался в памяти словно записанным буквами – Анрэ впоследствии знал, что это было, но никогда не мог вспомнить подробностей. Впрочем, и не стремился. Тогда им пришлось нелегко – слишком много сил ушло на преодоление формальностей, заполнение анкет, составление каких-то бумажек, хождение по инстанциям. Но они одолели весь этот трудный путь от начала до конца, и старания увенчались полным успехом.
Нужно отдать должное Зигмунду – он генерировал идеи, был мозгом предприятия. К тому же он вложил в дело основные деньги (пай Анрэ был небольшим, чисто символическим), а это было главное, что им на том этапе требовалось. Конечно, это совсем не значило, что Анрэ стал иждивенцем. Сначала он действительно ощущал себя на вторых ролях и оттого взялся за работу с удвоенной силой. Недостаток паевых денег он покрывал тем, что искал клиентов, вел с ними переговоры, уговаривал тех, кто долго раздумывал, склонял их к сотрудничеству с банком. И ему это хорошо удавалось. Мало того, Орелли взял на себя обязанности бухгалтера, заполнял ведомости, составлял отчеты, сводил дебет с кредитом. Новое дело чрезвычайно увлекло его, хотя совсем недавно он вообще не имел никакого представления о бухгалтерии. Еще несколько лет назад Анрэ искренне полагал, что сальдо – это такое вкусное блюдо, приготовляемое из муки и фруктов. А оказалось, что это чрезвычайно важная в банковском деле вещь и вообще чертовски интересное занятие – выводить положительное сальдо!
Дела «Лугано-Прайвит-банка» пошли в гору. Вскоре Анрэ стал в банке первым человеком. Зигмунд не был ни честолюбив, ни меркантилен, хотя тоже мог бы вести бухгалтерию, хорошо считал деньги и любил это занятие. Но он смотрел на вещи трезво и никогда не лез вперед. Они по-прежнему дружили, более того, еще сильнее сблизились и обменивались сокровенными мыслями. В этом смысле Фляйшман был надежнее, чем сейфы их банка, – он с детства славился тем, что никогда не разглашал чужих секретов. Но даже ему Анрэ долго не решался рассказать о своем визите в домик на озере, где когда-то побывал Кафка. Порой самому Орелли казалось, что все это было не с ним: где он, Анрэ, и где проститутки! Но та женщина с упругой грудью снилась ему ночами, мучила его, дразнила, то утоляя мужскую похоть, то еще больше разжигая ее. И однажды, как-то вдруг, Анрэ решил исповедоваться Зигмунду и рассказал ему о той ночи. Во всех подробностях, ничего не утаивая: о круглых коленях, тяжелой груди, о способах любви, которым она его обучила, – словом, обо всем. Рассказал, и стало легче. А главное, что он тогда понял, – не стоит хранить в себе воспоминания, когда лучше делиться ими с близкими друзьями. А с кем было делиться Анрэ, как не с Зигмундом? Никогда еще в жизни, ни с верным товарищем по детским играм Максом Цолингером, ни с Франсуа, соседом по комнате в Берне, у Анрэ не было такого понимания, таких доверительных отношений.
Эта мужская дружба помнилась Анрэ и через много лет, когда Зигмунда не стало. Были у него и другие друзья, тот же Макс Цолингер, юрист, которого еще в детстве прозвали Лисой за хитрость и рыжие волосы, но заменить Зигмунда не мог никто. Анрэ часто приходил на кладбище, ставил свечку и подолгу сидел на могиле друга. «Как же так? – подумал он однажды в свой очередной такой приход. – Я, в сущности, ведь ничего о Зигмунде и не знал. Хотя мы столько времени были самыми близкими – ближе не бывает – друзьями».
Что же было известно Анрэ о друге? Он знал, что мать у него тяжело больна, парализована, но никогда ее не видел. Отца Зигмунда, Бору Фляйшмана, ортодоксального еврея в ермолке и с длинными пейсами, несколько раз встречал, разговаривал с ним, но все больше о делах, деньгах, гешефте. А ведь, по слухам, тот был талантливым музыкантом, первой скрипкой в филармоническом оркестре в Цюрихе. Но потом болезнь Паркинсона поставила крест на его музыкальной карьере, и Фляйшман-старший переселился в Лугано, устроился в бюро страхования рабочих; дела у него пошли превосходно, рабочие его любили, во всяком случае, уважали…
А что Анрэ знал о самом Зигмунде? Да ничего особенного. Ну, разговаривали на отвлеченные темы – о финансах, о музыке, о живописи… Если же разговор переходил на личную жизнь, то никогда не обсуждали проблемы Зигмунда, только Анрэ. При этом Зигмунд Фляйшман совсем не был скрытен. Скорее, это можно было бы назвать скромностью – он никогда себя не навязывал, хотя был для Анрэ примером и в работе, и в отношениях с людьми, и в отношении к Богу. Зигмунд был религиозным человеком, но не фанатиком. Он мог запросто говорить о Боге как о своем знакомом, недавно встреченном на улице. Бог в таком варианте становился для Анрэ и понятнее, и ближе. Он даже поймал себя на мысли, что в какую-то минуту делится с Богом своими проблемами, – и тот его понимает. Чрезмерных вольностей Зигмунд не допускал, но дружить умел как никто другой. И днем и ночью можно было зайти к Фляйшманам на огонек, и ты всегда будешь обласкан, тебе подадут горячие лепешки и форшмак, знаменитый форшмак Зигмунда, к изготовлению которого он не допускал никого – будь даже здорова его родная мама, не допустил бы, наверное, и ее. «Геакте эринг», – говорил он, называя так это блюдо на иврите, и взгляд его источал нежность, а губы складывались в загадочную улыбку Моны Лизы. И действительно, оставалось загадкой, отчего это у Зигмунда его «геакте эринг» получался всегда воздушнее, мягче и таял во рту словно мороженое, а у Анрэ не выходило ничего подобного. А ведь именно у него Анрэ учился готовить форшмак, записал рецепт и строго ему следовал. И получалось у Орелли неплохо, некоторые даже говорили, что очень вкусно, но все-таки это не был «геакте эринг» Фляйшмана.
– Это делается так, – наставлял друга Зигмунд. – Берется селедочка, вымоченная четыре часа в молоке. Посмотри на нее! Она стала почти прозрачной и светится, как опал… – Тут он сладострастно причмокивал губами, а у Анрэ рот уже наполнялся слюной, и щемило железы: хотелось тут же впиться в этот «опал» зубами. – Мы аккуратно, остреньким ножичком отрезаем край брюшка, голову и хвостик, откладываем их в сторону: голова и хвост нам еще пригодятся, а брюшко мы дадим пожевать нашему другу Анрэ, чтобы он не упал в обморок от переизбытка гастрономических чувств. Тэ-экс… Теперь потрошим ее и все ненужное выбрасываем. Делаем надрез вдоль спинки и ласково, не затрагивая саму тушку, снимаем тоненькую кожицу, а вот теперь уже отделяем мякоть от костей. Знаешь, дружище, – продолжал Зигмунд свою песнь Соломона, посвященную селедке, – многие, очень многие, даже выдающиеся специалисты по приготовлению форшмака, пардон, ферцайхен зи битте, извините, пожалуйста, пропускают мякоть через мясорубку. Но только не Зигмунд Фляйшман!
Анрэ давно заметил, что это была единственная, но повторяющаяся из раза в раз ситуация, когда этот записной скромник вдруг утрачивал свою застенчивость настолько, будто никогда ею не страдал и даже не знал о существовании таковой. Анрэ усмехался, а его друг продолжал:
– Да, только не Зигмунд Фляйшман! Мы рубим ее специальной тяпочкой в специальном деревянном корытце, вместе с замоченной в молоке мякотью свежайшей венской булочки, очищенным зеленым яблоком и луком. Потом все это перемешиваем, добавляя размягченное сливочное масло и хорошенько растираем, как бы взбивая в пышное суфле, постепенно добавляя сок лимона, сахар, черный молотый перец… И никаких металлических взбивалок! Только деревянная ложка или деревянная вилка. Тем временем у нас сварилось несколько яиц. Охлаждаем, чистим, белок мелко рубим и добавляем в фарш, который выкладываем в селедочницу и в меру наших художественных способностей лепим из него рыбку. Вот тут-то нам и пригодятся голова и хвостик. Так, рыбка как живая – готова, а «геакте эринг» – еще нет. Что надо, чтобы довести дело до конца? Растираем желток с лимонной кислотой, добавляем сахарок, перчик… По-о-осыпаем мелко-мелко нарезанным зеленым лучком… Вот теперь все готово? Нет, опять чего-то недостает. А-а-а, чуть не забыл!
И Зигмунд доставал графинчик домашней водки, изготовленной его сестрами и настоянной на травах альпийских лугов. Выпивалось по стопке, затем по второй, в теле форшмачной селедки появлялись пробелы, и только тогда разговор заходил о делах.
Как раз в те годы Зигмунд как-то очень тихо и незаметно женился на дочери гинеколога Шварца, смуглой и улыбчивой Саре, у них родилась дочь, которую назвали Марией, потом вторая – Роза. Личная жизнь Анрэ в тот период была на удивление спокойной, точнее, удобной. С одной стороны, работа занимала очень много времени, и заводить серьезные отношения было некогда. С другой стороны – появились деньги, а это всегда привлекает девушек. Орелли пользовался большим и легким успехом, но никому ничего не обещал, сразу давая понять, что хочет лишь весело провести время, без всяких обязательств. И многих девушек это вполне устраивало.
Круг общения Анрэ необычайно расширился. Некогда застенчивый и не слишком уверенный в себе, он теперь вел активные переговоры, подыскивал новых клиентов, заводил знакомства в туристических фирмах, ездил в командировки, преимущественно в Италию, и в крупные города – Милан, Турин, Геную, – и в маленькие городишки, такие, как Бергамо, Комо, Брешиа. Эта страна ему очень нравилась. Анрэ побывал в Палермо – на родине своего отца, навестил родственников. С тех пор он полюбил предгорья Альп, эти красивые, глубокие озера – Гарда, Комо, Лаго-Маджоре, все эти высокогорья, красивые снежники и ледники…
И в то же время его каждый раз неудержимо тянуло назад, в Лугано. Когда он возвращался сюда, первым его желанием было пройти по знакомым улицам и переулкам, вдохнуть целебного воздуха озера, побывать в Музее изящных искусств, выпить на центральной Виа Нисса бокал терпкого сухого вина и, конечно, поскорее увидеться с Зигмундом.
– Ты знаешь, а я по тебе скучал! – признавался Анрэ при встрече. – Такая тоска вдруг нахлынула, что хоть сейчас же беги в Лугано. Но я дал зарок – сначала выполнить все намеченное и только тогда, готовым к новым подвигам, вернуться домой.
– Да я тоже переживал – как ты там, что привезешь из поездки? Ну, главное – жив, здоров, прекрасно выглядишь. Как Италия? Как «Милан» сыграл с «Интером»? Был ли ты на матче Италия – СССР? Говорят, русские разделали их вчистую: ноль – два в Москве и один – один в Риме. Хорошо еще, хоть Ривера от окончательного позора спас… Стыд и срам! Нет, ты скажи мне, зачем притворяться, что ты играешь в футбол, когда твое призвание – есть макароны?!
– Да ладно тебе! К черту футбол. Расскажи лучше о себе. Как мама? Как жена, дети? У них все нормально? Как дела в банке? Договорился ли о кредитах со строительной фирмой? Как идут переговоры с «Интуристом»?
– С «Интуристом» неважно. Эти люди с ног до головы завернуты в инструкции, не хотят идти на компромиссы. Но там есть один человек, ты знаешь, наверное, Макс Шапп… Говорят, он там у них всему голова. Вот бы с кем встретиться да поговорить.
– Ты думаешь, получится?
– Я знаю, что Шапп – скотина и кретин, но уверен, что он один решает дело. Ну и пусть. Мы его прижмем с другого бока.
– С какого?
– Шапп дружит на взаимовыгодных условиях с Феликсом Рамю. Этот Рамю – наш потенциальный клиент. Занимается перевозками туристов на автобусах и жаждет кредитов на расширение дела. Дадим Рамю кредит, он нажмет на Шаппа, тот станет сговорчивей и…
– Ну, Зигмунд!..
– Да-да, я вас внимательно слушаю…
– Нет слов, Зигмунд! Ты гений!
– Конечно. А ты до сих пор не знал этого?
Анрэ хохотал и обнимал друга.
Была у них одна традиция. Раз в месяц они собирались у Орелли и расслаблялись – если не напивались, то бывали навеселе, и здорово навеселе. Происходило это обычно десятого числа каждого месяца, и за день-другой до их маленького праздника Анрэ уже начинал готовиться к нему, стараясь загодя переделать все важные дела.
В этот день он не выходил на работу, а шел с утра на рынок, не доверяя теткам даже закупку продуктов и стремясь все сделать сам. Да-да, именно так, в молодости он страстно увлекался кулинарией, это хобби возникло под влиянием очерков Степана Янко. На рынке Анрэ долго выбирал молодой чеснок, зеленые перышки лука, свежую петрушку, ароматную кинзу, кудрявый укроп, пахучую пряную мяту, луковицы фенхеля, черные цукини, блестящие лиловые баклажаны, кедровые орешки, красный перец, сочные лимоны, римские помидоры, морковь, пармезан, мидии, бараньи ребрышки, молоденький картофель и много, очень много итальянского красного и белого вина и, придя домой, начинал над всем принесенным священнодействовать. Он запекал мясо, сам подбирал приправы, изобретал оригинальные гарниры и восхитительные соусы. Но лучше всего удавались Анрэ жареные огурчики с укропом, покрытые хрустящей корочкой. Он сам придумал этот рецепт и очень им гордился. Эту горячую закуску Анрэ всегда подавал перед обедом, для аппетита, под бокал-другой хорошего вина.
Анрэ давно знал – по Зигмунду никогда не скажешь, что он пьян, даже когда он прилично и даже неприлично много выпьет. Орелли догадывался о том, что его друг нетрезв, только тогда, когда тот начинал читать стихи. Раз стихи – значит, Зигмунд Фляйшман пьян в стельку. Каких только стихов он не знал! Читал Гете и Гейне, вагантов и миннезингеров, Беранже и Франсуа Вийона, поэзию Микеланджело и отрывки из «Божественной комедии»… Когда дело доходило до сонетов Петрарки, друзья понимали – пора переходить в библиотеку и вновь, в который уже раз, погружаться в нескончаемый разговор о любимых книгах. Библиотека была любимым детищем и гордостью Орелли. Книги здесь содержались в удивительном порядке: стояли стройными рядами, блестели золотом тиснения на черных кожаных переплетах, на полках не было ни пылинки, а стекла шкафов сверкали чистотой. Несколько шкафов были посвящены английской литературе, которая нравилась Анрэ больше всего. Тут можно было найти и памфлеты Свифта, и «Опыты и наставления» Ф. Бэкона, и редкие издания «петраркистов» Т. Уайета и Г. Сарри, и сборники стихов Роберта Бернса. А произведения авторов из плеяды английских романистов – Чарлза Диккенса, Уильяма Теккерея, Шарлотты Бронте, Элизабет Гаксел – вообще занимали на полках библиотеки Анрэ самое видное место.
В библиотеке разговор друзей становился тихим, сдержанным, тек неторопливо. О книгах они никогда не спорили, несмотря на разницу в пристрастиях, – Зигмунд предпочитал немецких писателей, Анрэ, как уже было сказано, англичан. Друзья были едины во мнении, что литература этих стран схожа не более чем земля и небо, черное и белое или холод и жара. Если Диккенса можно читать в любое время суток (так считал Анрэ), то Томас Манн лучше всего воспринимается днем или утром (эта идея принадлежала Зигмунду). Но на настоящем, высоком уровне эти разные произведения, несомненно, все равно имели что-то общее, потому что назывались – Художественная Литература. И неудивительно, что, отдавая предпочтение немецким авторам, Фляйшман детально знал и литературу английскую.
Зигмунд шевелил пальцами, будто перелистывал книги, и в его речи то и дело всплывали эпитеты, более уместные в кулинарии: аппетитно, приправа, разносол, пережаренный текст, шампуры… Он словно говорил не о романах и повестях, а готовил еду – приперчивал, мариновал, тушил, доводил до кондиции. Он так вкусно рассказывал, что книгу хотелось съесть, во всяком случае, попробовать.
Фляйшман немного пренебрежительно сравнивал Джеймса Джойса и его роман «Улисс» со щепоткой корицы, а роман «Повелитель мух» Уильяма Голдинга – с недоваренным картофелем, который нужно было бы сдобрить укропом и добавить туда немного сливочного масла, а затем посыпать красным перцем.
Но, что самое интересное, никогда во время таких встреч друзья не разговаривали ни о работе, ни о личных делах, ни о женщинах. Для подобных бесед существовали каждодневные будни. А эти, почти праздничные дни было негласно решено посвятить возвышенному.
Искусство, в особенности живопись, тоже было излюбленной темой бесед на посиделках. Но тут, как не без гордости мог признаться себе Орелли, редко кто мог сравниться с ним в области знания изобразительного искусства, и если интересом к кулинарии Анрэ заразил Зигмунд, то с коллекционированием картин вышло наоборот – именно Орелли увлек друга своей давней страстью. Зигмунд и раньше неплохо разбирался в живописи, но под влиянием Анрэ его интерес разгорелся с новой силой, и он увлеченно принялся собирать работы современных художников. Результатом стала неплохая коллекция, которая несколько раз выставлялась в местном художественном музее. Но все-таки лидировал всегда именно Орелли. У него давно сформировались свои пристрастия, существовали любимые картины, сюжеты и направления. Например, ему очень нравились примитивисты, он просто с ума сходил от полотен Анри Руссо. Анрэ часто говорил, что муза, вдохновляющая поэта, в состоянии вдохновить и банкира. Именно по примеру Руссо, чьи работы он увидел еще в детстве, Анрэ и начал в свое время рисовать. Как и знаменитый французский художник, он делал это чересчур примитивно, упрощая формы, меняя пропорции, но всегда старался выписывать на рисунках каждую веточку, листочек, лепесток цветка, камешки или кирпичики, из которых построены дома. Позднее, под влиянием матери и учителей, он овладел и другими стилями, но тяга к письму Руссо сохранилась в нем навсегда. Анрэ был твердо убежден, что примитивизм, как никакое другое направление, способен выразить дух времени, и никто из оппонентов в искусствоведческих спорах ни разу не смог переубедить его.
Возможно, именно поэтому второй, после Руссо, любовью швейцарского банкира стали современные советские художники. Почти случайно познакомившись с их творчеством, он сделался горячим поклонником русской школы примитивизма. Правда, это случилось значительно позже.
В начале восьмидесятых годов Анрэ Орелли попал по делам в Россию, точнее, тогда еще Советский Союз. Один из клиентов банка, польский эмигрант Михель Гавликовский, сделал ему рисковое, но довольно заманчивое предложение. С точки зрения бизнеса план был чистой воды авантюрой и, вероятнее всего, абсолютно пустой затеей. Однако, если бы задуманное удалось, это могло бы быть чрезвычайно полезно для «Лугано-Прайвит-банка». Решив, что даже один шанс из ста не стоит упускать, Орелли согласился на поездку. И, разумеется, мотивом принятия такого решения были не только возможные успехи в бизнесе. В душе Анрэ все еще жила тайная надежда встретиться с Наташей, хотя в то время были и жена, и обожаемая дочь. У Орелли был ее ленинградский адрес – проспект Обуховской Обороны. И ничто, как казалось, не мешало ему разыскать свою бывшую возлюбленную. Конечно, прошло двадцать с лишком лет, она изменилась и наверняка уже мало была похожа на тоненькую темноглазую девушку в сиреневом свитере, с летящими по ветру волосами… Но даже подобные мысли ничуть не умаляли его желания вновь ее увидеть.
Увы, свершиться этому было не суждено, разыскать Наташу не удалось. Дома, указанного в обратном адресе на открытках, больше не существовало, вернее, он был, но выглядел совсем новым, построенным максимум лет десять назад. Старое здание давно снесли, куда переехали бывшие жильцы, было неизвестно. Анрэ попытался вести розыск официальным путем и вынужден был преодолеть множество препятствий, объясняя, кто эта женщина и зачем ему нужна. Но после долгой волокиты и нервотрепки выяснилось, что ни Наталья (с мягким знаком!) Алье, ни Наталья Горчакова интересующего его года рождения в Ленинграде не проживают. Вероятно, она вышла замуж и сменила фамилию, не исключено, что и переехала в другой город. Словом, следы обрывались, и единственное, что удалось узнать, – Ольга Петровна действительно умерла в 1959 году.
Деловые переговоры также ни к чему не привели. Потенциальные русские клиенты, с которыми его свел Гавликовский, не вызвали у Анрэ доверия, и контракт не состоялся. Впрочем, Орелли не жалел об этом. Иметь дело с коммунистами, пусть даже в качестве вкладчиков банка, после визита в Советский Союз ему совершенно не хотелось. Но в то же время поездку никак нельзя было назвать безрезультатной. Во-первых, сбылась давняя мечта Анрэ – он посетил крупнейшие советские музеи и наконец-то своими глазами увидел хранившиеся там шедевры живописи. А во-вторых, во время турне по провинциальным городам СССР ему удалось познакомиться с замечательными непризнанными художниками, представителями никому в России не нужного направления, именуемого советским андеграундом. Вот здесь-то и было положено начало знаменитой коллекции Анрэ Орелли. Он приобрел у ошалевших от неожиданности живописцев их полотна, сумел привезти в Швейцарию, успешно миновав все таможенные препоны, достойно оформил.
Позже Орелли еще несколько раз ездил в Союз – специально за картинами облюбованных им мастеров, со многими из которых подружился. Он неоднократно приглашал художников к себе, готов был даже взять на себя все расходы, но понравившиеся ему русские все равно не могли приехать – их, бывших на плохом счету у власти, не выпускали.
Но все это произошло потом – поездка в Россию, русские художники, меценатство… Зигмунда к тому времени уже не было на свете. А сначала было дело – свое дело, свой банк, заботы о котором однажды целиком легли на его плечи.
Зигмунд Фляйшман внезапно и серьезно заболел.
– Думаю, я скоро умру, – сказал он другу, пришедшему его навестить. – И до этого мне нужно…
– Да брось ты городить ерунду! – перебил Анрэ. – Доктора утверждают, что ничего страшного…
– Дай мне сказать! Ты должен услышать это до того, как я отправлюсь на тот свет. Твой банк…
– Наш.
– Да, наш, наш с тобой банк, это так. Мы с тобой начинали вдвоем, вдвоем подымали его… – Зигмунд закашлялся, и Анрэ торопливо подал ему стакан воды:
– Вот, выпей.
– Спасибо. Так вот… Мы всегда все делали вдвоем. Сейчас я болен, часть моей работы перешла на тебя. И ты справляешься, да еще и со мной возишься – все эти твои лекарства, доктора-профессора…
– Оставь, Зигмунд. Профессора из Женевы сами к тебе прибежали, как только услышали, что ты болен. Еще бы – банкир приболел, есть шанс хорошо заработать.
– Не смеши меня.
– А может, и не из-за денег. Ведь ты единственный еврей, которого любит вся Швейцария.
– Ха-ха-ха…
– Не веришь?
– Конечно, верю…
– То-то.
– И все же давай о деле, о твоем банке.
– О нашем банке.
– Твоем, твоем… Ну скажи, какое отношение этот банк имеет к еврею Фляйшману, который вот-вот отправится в отпуск на тот свет? Надо смотреть на вещи реально.
– Дружище, лично я не собираюсь тебя хоронить. Мы еще поборемся за еврея Фляйшмана! Положим тебя в самую лучшую клинику, сделаем тебе операцию – лучшие профессора к твоим услугам – и тогда посмотрим, кто из нас сильнее – «старая костлявая» или мужская дружба.
– «Старую костлявую» еще никто не победил… Но мужская дружба… она мне сейчас очень пригодится. Обещай, что не оставишь мою Сару и девочек – Марию и Розу…
– Тебе не стыдно, старый еврей Фляйшман, ну скажи, тебе не стыдно?
– Ну вот… Значит, договорились…
Похоронили Фляйшмана на еврейском кладбище Лугано. Зигмунд был старше Анрэ всего на год, но выглядел перед смертью на все шестьдесят с гаком. На кладбище все были в черном, и в душе у каждого, кто знал Фляйшмана, тоже было черно. Старинная поговорка «О мертвых или хорошо, или ничего» в этот раз была неактуальна. О покойном никто не мог не только сказать ничего плохого, но даже подумать. Такой уж он был светлый человек, Зигмунд Фляйшман.
Спустя два года, в 1963 году, Анрэ снял прекрасный офис на Виа Нисса, а еще через три года и вовсе выкупил все здание целиком. На первом этаже разместилось несколько бутиков, а остальное пространство занял «Лугано-Прайвит– банк».
На Виа Нисса все знали Анрэ. Он был богатым и красивым холостым мужчиной, и девушки-продавщицы, когда он заглядывал в свои бутики, строили ему глазки, улыбались – словом, всячески старались ему понравиться. Все говорили, что в нем присутствует шарм, и Орелли очень хотелось верить, что речь идет о некоем сексуальном магнетизме, а не притягательности его быстро растущего состояния, которая как шлейф тянулась за ним.
После смерти Зигмунда он постепенно рассчитал всех старых сотрудников, оставив троих, профессионализму и преданности которых стопроцентно доверял, и набрал в штат одну молодежь. От новых служащих Анрэ строго требовал твердых знаний, исполнительности, добросовестности и увлеченности любимым делом. Раз в неделю он устраивал собрания, где обсуждал замеченные ошибки, выслушивал мнения и все подробно записывал в специально заведенную для этой цели тетрадь.
Дела банка продвигались успешно, число вкладчиков росло, причем в большинстве своем это были солидные люди, хотя Орелли совсем за этим не гнался. Он не уставал повторять своим служащим: «Нам нужен любой вкладчик. Для нас все равно, кто он – преуспевающий бизнесмен или пенсионер. Мы должны быть рады любому клиенту, ко всем относиться в равной степени уважительно и соблюдать все основные правила нашего дела: строгую конфиденциальность, оговоренные проценты и так далее».
В тот день он получил письмо из Италии, где говорилось, что на завтра назначены торги на бирже и, по слухам, будут продаваться акции компании «Петролеум», торгующей нефтью, по цене в два раза выше, чем в прошлый раз. Следовательно, акции пошли в гору.
Анрэ задумался. Нефть дорогого стоит… Заняться нефтью было его давнишней мечтой. Но как это сделать? В нефтяной бизнес просто так не пробьешься. Все места там заняты. А что, если одно место оказалось вакантным? Скупить завтра акции «Петролеума» и занять его? А с другой стороны, кто даст гарантии, что акции тут же не упадут в цене? И тогда Анрэ просто-напросто обанкротится. Вот бы когда пригодился Зигмунд! Как сейчас был бы нужен совет трезвого, знающего человека…
Своему источнику, который сообщил о торгах, Анрэ мог доверять как самому себе. Человек этот – Джулио Гризи – давно знал Зигмунда, а знакомые Зигмунда Фляйшмана не нуждались в рекомендациях. Недаром Фляйшман написал перед смертью письмо Гризи, тот встретился с Анрэ, и с тех пор они проворачивали такие дела, что без Гризи «Лугано– Прайвит-банк» уже не мог обходиться, если хотел что-то собой представлять в финансовом мире. У Гризи были знакомства среди политиков, бизнесменов, просто полезные знакомства. А поскольку банк, сообразно его расположению, ориентировался не только на Швейцарию, но и на Италию, эти знакомства были очень нужны.
«Завтра же выезжаю в Италию, – решил Анрэ. – Это шанс. Я это чувствую».
Он позвонил секретарше:
– Констанция, закажите билет на завтра на утренний рейс до Рима. И забронируйте мне на три дня номер в «Санкта-Чечилия».
– Вам звонил господин Гризи, – сказала Констанция. – Просил перезвонить, как только вы появитесь.
– Соедините.
Через десять минут раздался звонок.
– Чао, Джулио!
– Чао, Анрэ!
– Я завтра вылетаю утренним рейсом к тебе. Ждешь?
– Жду, жду как манны небесной.
– Когда торги?
– В двенадцать.
– Успею. В девять буду в гостинице. В одиннадцать на бирже.
– Ты что-нибудь уже решил?
– Да как же я буду принимать такое ответственное решение без тебя? Без Гризи нельзя никак! Часа нам хватит, чтобы все обсудить?
– Надеюсь, хватит.
– Как погода в Риме?
– Дожди зарядили. Но сегодня вроде бы распогодилось.
– Ну до завтра?
– До завтра.
– Тебе привезти что-нибудь?
– Себя. Привози себя.
– Это я обещаю.
На следующий день рано утром Анрэ был в Риме.
Ровно в одиннадцать он приехал на биржу, где его уже ждал Джулио.
– Все говорят, что акции «Петролеума» на этом не остановятся, – начал он с места в карьер, едва они поздоровались. – Их рост, похоже, не обусловлен мировыми ценами на нефть. В связи с выбросом на рынок дешевой нефти из Саудовской Аравии цены должны упасть. Но есть и другие сведения! – Джулио сделал многозначительную паузу. – Шейх Саудовской Аравии неизлечимо болен. Хотя он совсем недавно здесь, в Риме, устраивал приемы и гулял на широкую ногу, дни его сочтены! Об этом никто не знает: мне рассказал под большим секретом человек, приближенный ко двору. Естественно, не бесплатно! За все нужно платить. Так вот, когда шейх уйдет в мир иной, в Аравии начнут делить власть, претендентов там предостаточно! Будет явно не до нефти. По меньшей мере потребуется год, чтобы положение в стране нормализовалось. Цены на нефть подскочат еще больше! Сегодня за один баррель дают около тринадцати долларов, а завтра дадут двадцать пять, двойной тариф!
– Заманчиво! – в глазах Анрэ появился блеск.
– Еще как заманчиво!
– А какие гарантии?
– Никаких, – весело хохотнул Джулио.
– То-то и оно…
– Ну что, рискнем? – Джулио потер руки.
– Ты-то чем рискуешь? Что ты вкладываешь?
– Даю двадцать пять процентов от стоимости акций.
– А я, выходит, семьдесят пять?
– Идеи наши стоящие! Я это шкурой чувствую!
– Заманчиво, ох, заманчиво! – Анрэ не мог от волнения усидеть на месте.
– Ты только поверь мне, Анрэ! Все думают, что акции «Петролеума» завтра непременно упадут, что здесь игра на бирже, и ничего больше. А они завтра взлетят! Может быть, в два раза. – Джулио тоже не мог стоять на месте и покачивался с пятки на носок.
– А если нет? Что тогда?
Орелли редко курил в последнее время. Но тут отчего-то захотелось. Очень. Прочищались мозги, легче думалось. «Гризи меня ни разу не подводил, – размышлял он. – Но когда-нибудь его везение может и закончиться. Не всегда же должно везти, верно? Девяносто девять раз везло, а на сотый – облом!» Он посмотрел на Джулио. Тот был весь в напряжении, но держался спокойно. Анрэ ему позавидовал: «Хорошая выучка, отличная школа».
Когда-то Зигмунд рассказывал ему о Гризи такие вещи, в которые трудно было поверить. Он прыгал в каньон в районе Тессинских водопадов с высоты пятьдесят метров. И вода в каньоне была не теплой – не больше десяти градусов. Но самое главное – прыгал на спор, поставил на кон все, что у него было, – сэкономленную тысячу долларов. Он копил эту сумму три года, недоедал, не покупал ничего лишнего, мечтал вложить их в какое-то дело. Для него эти деньги тогда были богатством. И он выиграл!
Все это Анрэ вспомнил сейчас, глядя на нетерпеливо напряженного Джулио.
– А, была не была! – сказал он. – Ставим на зеро! Вдруг повезет?
– Не вдруг, а повезет, – спокойно ответил Джулио.
И оказался прав. Дела с нефтью пошли отлично. А вскоре в жизни Анрэ появилась Софи.
Отрывки из дневника Анрэ Орелли
19 сентября 1947 года
Меня зовут Анрэ Орелли. Сегодня мне исполнилось двенадцать лет. Отец подарил мне эту тетрадь и сказал: «Ты уже становишься взрослым, пора тебе начинать вести дневник. Записывай сюда события твоей жизни и мысли, которые придут в голову». Я пообещал папе, что сегодня же начну вести дневник, а он сказал: «Только не ленись и не забрасывай дневник. Потом, когда подрастешь, будет очень интересно читать о том, что тебя волновало много лет назад». И я дал себе слово, что буду вести дневник всегда-всегда, всю свою жизнь.
26 декабря 1947 года
Вчера было Рождество. Когда я был маленький, то очень любил этот праздник, всегда с нетерпением ждал каникул, веселья и подарков. Теперь все изменилось. После смерти мамы я стал совсем другим. Мама умерла два года назад, как раз в сочельник. С тех пор я не люблю Рождество. И в доме у нас в этот день всегда грустно. Мы вспоминаем маму и плачем. Даже у отца сегодня красные глаза, и он вытирает слезы. Я знаю, что маму забрал Господь и она теперь на небесах и счастлива. Но мне все равно очень плохо без нее.
15 февраля 1948 года
Вчера справляли День святого Валентина. Я сначала не хотел никому писать валентинок, а потом все-таки сочинил четверостишье и отправил письмо одной девушке по имени Эмма, по фамилии Штейн. Мне нравится, что у нее тонкая талия, большие карие глаза и длинные ресницы. И то, что она все время улыбается, не хихикает глупо, как некоторые другие девчонки, а просто улыбается, будто у нее радостно на душе. Эмма подруга Анны Фляйшман, они вместе учатся и дружат. Когда мы встретились сегодня днем на улице, Эмма ничего не сказала мне про валентинку, но покраснела и засмеялась. А Зигмунд потом говорил, что Анна ему рассказывала, как обрадовалась Эмма, получив от меня валентинку. И еще – будто бы Эмма сказала Анне, что я симпатичный и у меня красивый профиль. Я весь вечер сегодня пытался рассмотреть в зеркало свой профиль, но у меня ничего не получилось. Тогда я взял второе зеркало, маленькое, чтобы посмотреть сразу в два, но тут в комнату пришла тетя Ганна и спросила, что я делаю. И мне почему-то стало стыдно.
5 мая 1949 года
Вчера мы с отцом ходили в порт гулять. По дороге он показал мне домик на берегу, где когда-то, кажется, в 1911 году, бывал писатель Франц Кафка. Отец очень любит книги Кафки, и я тоже несколько раз пытался читать произведения этого автора, но, наверное, мне еще рано. Во всяком случае, я почти ничего не понял.
14 октября 1949 года
Сегодня умер отец. Не могу ничего писать.
20 января 1950 года
В школе нам задали написать сочинение на тему «Воспоминание детства». Обычно я не слишком силен в сочинениях, и вообще я больше люблю математику. Но сегодня у меня получилось хорошо. Учитель похвалил меня, а я даже решил переписать свое сочинение в дневник. Вот оно:
«Я отчетливо вижу себя в возрасте примерно трех лет – в синих рейтузах, в синенькой курточке с матросским воротничком и берете с большим помпоном. Мои глаза удивленно глядят на мир, где все живет и движется. Маленькая песчаная горка кажется мне Альпами, заросли лопухов – джунглями, а серый гусь, прогуливающийся у ворот, – невиданным чудовищем с длинной-предлинной шеей.
Но больше всего меня интересует колодец. Он уже давно манит меня, несмотря на запреты взрослых. Они говорят, что там живет страшный-престрашный волк. Волк тащит к себе в колодец непослушных маленьких детей и там их съедает.
Но я-то тут при чем, ведь я уже большой! Во всяком случае, мне так кажется.
Мне очень страшно и в то же время очень любопытно. Так хочется хоть одним глазком увидеть ужасного волка!
И вот наконец подходящий момент. Взрослые увлеклись разговорами (им только дай поговорить!), а я потихоньку сбегаю с крыльца и, озираясь, вприпрыжку мчусь прямиком к колодцу.
Я еще раз оглядываюсь – не заметили ли мое отсутствие – и, ухватившись руками за край сруба, лезу по трухлявым бревнам вверх. Вот голова моя уже у заветной цели. Распластавшись животом на бортике колодезного окна, я свешиваюсь и жадно смотрю вниз. Но никакого волка там нет! Только блестящая серая вода и мое смутное отражение в ней. Может, волк спрятался под водой?
Тут я слышу такой родной, до боли знакомый и ласковый голос моей мамы Марианны: «Анрэ, Анрэ…» Я тут же забываю и о волке, и обо всем на свете, сползаю вниз, на землю, и бегу к матери.
Она встречает меня на крыльце, подхватывает на руки, прижимает к себе и покрывает поцелуями, тихо приговаривая что-то, и я готов заплакать от звуков дорогого голоса, от ее запаха и тепла родного тела…
Позже, когда я уже вырос, мои тетки много раз рассказывали, что в тот момент все страшно испугались за меня. Мама чуть не закричала от страха, но отец зажал ей рот рукой и сказал вполголоса: «Тише, не кричи! Ты можешь напугать его своим криком, и тогда он сорвется и упадет. Позови его спокойно, как будто ничего не случилось».
Который раз, когда я слушаю эту историю, жуткий мороз продирает меня по коже. Я ужасаюсь от мысли, что моя жизнь могла бы тогда закончиться».
14 сентября 1950 года
Мне сегодня приснилось такое! Такое… Вспоминаю, а у самого даже щеки горят от стыда. Мне приснилось, что мы с Эммой Штейн гуляем по берегу озера Черезио, светит солнце, цветут цветы и вокруг – ни одной души. Эмма смотрит на меня карими глазами, смеется и вдруг начинает раздеваться, расстегивает пуговки, стаскивает через голову платье, снимает чулки, лифчик, трусики и остается совершенно голой. Я протягиваю к ней руки, трогаю ее, ласкаю – а она нисколько не противится, только смеется. Я обнимаю ее, заглядываю в лицо – и вдруг понимаю, что в моих объятиях не Эмма, а Марианна, моя мама! Но, что самое страшное, там, во сне, меня это нисколько не остановило, а наоборот, еще больше разожгло… Ужас, как стыдно. Я проснулся с бешено колотящимся сердцем и долго не мог прийти в себя. На постельном белье остались пятна…
Ни за что и никому на свете я не рассказал бы этот сон. Но и не думать о нем я тоже не могу. Как хорошо, что есть дневник, которому я доверяю все свои тайны!
30 апреля 1951 года
Сегодня самый худший день в моей жизни. Мы с Лисой – это прозвище моего друга Макса Цолингера – гуляли по парку и встретили Эмму Штейн под руку с Иоганном Готхельфом. Он что-то увлеченно рассказывал ей, а она смотрела ему в лицо и смеялась. Они были так заняты друг другом, что даже не заметили меня. Теперь понятно, почему, когда я звоню ей, ее мать говорит все время, что Эммы нет дома!
Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Я хочу умереть, как мама и папа, и, наверное, сегодня же ночью покончу с собой. Вот только не решил, что лучше сделать – повеситься или утопиться в озере. Но и то, и другое так некрасиво… Жалко, у меня нет пистолета, тогда я бы застрелился. Как в кино.
14 августа 1952 года
Уже неоднократно я задумываюсь о том, откуда я есть. Не я, Анрэ, как существо с руками, ногами, а я – как определенный человеческий характер. Откуда взялись мои взгляды, кто и что оказало наибольшее влияние на становление моей личности? Это загадка загадок. А существует ли эта личность? Вот вопрос вопросов!
Христос был образованнейшим человеком и учителем. Гегель пишет в «Жизни Иисуса», что о формировании его личности с юных лет вплоть до тридцатилетия почти ничего не известно, кроме встречи с Иоанном Крестителем. И никто, видимо, не узнает, как текли мысли Иисуса, когда он подолгу уединялся.
И никто никогда так и не отгадает, откуда берется Человек со всеми его мыслями, чувствами, поступками, достоинствами и недостатками.
22 марта 1953 года
Сегодня по-настоящему весенняя погода, мы с Максом сбежали с последнего урока и целый день гуляли по городу. Я так люблю наш Лугано! Мне здесь так привольно и спокойно! Здесь я родился, здесь я, видимо, и умру. Впрочем, о смерти я не думаю. Думаю лишь о том, какой будет моя жизнь дальше. Скоро окончу гимназию и буду поступать в Бернский университет. Почему Берн? Не знаю. В Берне у меня нет ни знакомых, ни родственников. Но тем интересней жить в городе, в котором ни ты никого не знаешь, ни тебя никто не знает. Экзамены, конечно, трудные, но это меня не пугает. Занимаюсь математикой по усложненной программе. Берну скоро исполнится 760 лет. Какой древний! Но он всего лишь этап моей жизни, после которого (если я поступлю, конечно, в университет) я снова вернусь в Лугано. И прославлю и его, и себя.
7 июня 1953 года
Гейне писал в предисловии ко второму изданию своего «Солона»: «Говоря по совести, мне было бы приятно, если бы моя книга вовсе не появилась в печати. Дело в том, что после появления ее многие мнения мои о многих вещах… значительно изменились, и многое такое, что я утверждал тогда, противоречит теперь моим убеждениям. Но стрела не принадлежит стрелку, после того как он спустил ее с лука».
Как это верно. Так что нет ничего страшного в том, если я в чем-то ошибаюсь, что-то не так понимаю. А как нужно понимать? Так или эдак? Кто в этом разберется? Иногда мне кажется, что я вообще ни черта не могу понять, любой пустяк видится мне мировой загадкой. Хотя бывали моменты, когда я чувствовал себя таким же счастливым, как Капабланка, чемпион мира по шахматам, в то время как другие не могли отличить пешку от слона.
11 сентября 1954 года
Начинаю описывать свои прогулки по Берну. Около двенадцати часов на Ратушной площади собирается народ. Старики и молодежь рассаживаются на зеленые скамейки, некоторые, расстелив газету, устраиваются на каменных парапетах, расположенных вдоль ровно подстриженных газонов. Ровно в двенадцать на колокольную башню поднимается старик. Ему уже 80 лет, но он бодр, хотя, по его словам, трудно каждый день преодолевать 376 ступенек по узкой винтовой лестнице, ведущей на самый верх башни, где установлены колокола разных размеров. Каждый день в двенадцать часов, невзирая на погоду, он преодолевает эти 376 железных перекладин, чтобы доставить своим землякам и туристам радость игрой на колоколах.
Колокола причудливо звонят, образуя мелодию, которая летит над домами, над ратушей, над готическим собором, над новым и старым городом…
29 января 1955 года
Читаю «Дневники» Франца Кафки. Оказывается, он и правда бывал в Лугано, в Порто Цезарио. Останавливался в гостинице «Бельведер». А как он рассуждает о Тессинском кантоне (общее население: две трети – немцы, одна треть – французы и итальянцы). Тем не менее Лугано хочет отделиться от Швейцарии, как итальянский кантон! Но немцы против. Их большинство – две трети. В префектуре, в банках, в ресторанах. Нет, в последних преобладают итальяшки. Они лучше готовят.
Но сейчас речь не об этом, а о том, что отец был прав. Похоже, Кафка действительно бывал в том домике на берегу озера, ну там, где бордель. Как он описывает жизнь проституток! В глубине переулков Милана он увидел светящуюся вывеску над борделем: «Al vero Eden». На верхнем этаже одного дома углядел (ну и глазастый!) девушку, прислонившуюся к решетке. А еще – толстуху в прозрачном платье, сквозь которое виднелся бесформенный живот «над и между расставленными ногами». А еще – женщину, фигура которой походила на памятник; она засовывала в чулок только что заработанные продажей тела деньги. Как замечательны описания заведений, в которых, несомненно, бывал Кафка: «У нас в борделях немецкие женщины на какое-то время отчуждают своих гостей от их нации, здесь это делают француженки. Возможно, тут проявляется недостаточное знание местных отношений». Еще запись: «Бегал за проститутками на Соборной площади и в галерее. Утром извинялся перед Максом за бордель».