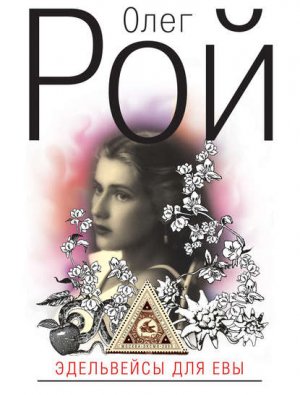
Глава 1
«Кладоискатели», или Лучше бы этот день никогда не наступал
– Ну что же никак не объявят мой рейс? – от нетерпения Юлька только ногой не притопывала. – Ведь уже давно пора! Меньше часа осталось!
– Успеешь, не волнуйся, – как мог, успокаивал я.
– Ну да, тебе легко говорить – не волнуйся! А мне такое предстоит!
– Не дрейфь, все будет нормально…
Я изо всех сил старался ее поддержать, но в глубине души надеялся – да что там надеялся, просто мечтал! – что в последнюю минуту что-нибудь произойдет, и мой Дельфиненок никуда не полетит, останется здесь, со мной и Светкой… Ну мало ли что может случиться? Может, погода испортится, и аэропорт закроют. Может, с документами выйдет какая-нибудь закавыка. А может, в последний момент позвонят с этого треклятого телевидения и скажут, что поездка отменяется. И тогда у нас в семье все будет по-прежнему…
Глядя на переминавшуюся с ноги на ногу Юльку, я подумал о том, какой она, в сущности, еще ребенок – несмотря на двадцать три года и почти четырехлетний стаж семейной жизни. Иногда мне кажется, что она немногим старше нашей Светки. Эта егоза, такая же белобрысая и такая же неугомонная, как и ее мать, крутилась у наших ног, одной рукой держала за матерчатую лапу своего обожаемого смешарика Бараша, а другой дергала то меня, то жену за штанины джинсов и канючила:
– Ну, Гелман! Ну, Юля!.. Ну пойдем…
Если б она знала, с каким удовольствием я был готов выполнить ее просьбу!
Этой зимой, едва дочке стукнуло три, Юлька отдала ее в сад, «чтобы привыкала к детскому коллективу». Я был против, но Дельфиненок заняла принципиальную позицию:
– А кому с ней сидеть? Мои мама с папой, как ты знаешь, работают, им до пенсии еще далеко, а у тебя здесь родни нет.
– А матери у ребенка что, тоже нет?
– Ну, знаешь!.. Я не собираюсь на всю жизнь записаться в домохозяйки! У меня совсем другие планы.
К счастью, Светка, будучи существом общительным, в сад ходила охотно. Увидев, что она там прижилась, Юлька заговорила было о том, чтобы выйти на старую работу в больницу – когда мы познакомились, она была медсестрой в хирургическом отделении. Но тут я решительно воспротивился.
– Чтобы всякий, кому не лень, тебя там за задницу хватал? Ну уж нет! Только через мой труп!
Юля не слишком расстроилась (похоже, ей и самой не очень-то хотелось возвращаться ко всем этим капельницам, уколам и анализам) и вскоре задумалась о поступлении в медицинский университет имени Данила Галицкого. Эта идея понравилась мне куда больше. Пусть учится, авось моей зарплаты начальника львовского автопарка хватит на то, чтобы дать ей образование. Она накупила учебников и справочников для поступающих, записалась на подготовительные курсы и уже начала перечитывать «Мертвые души», как тут на нашу голову свалились эти чертовы «Кладоискатели».
Дельфиненок всегда была любительницей острых ощущений. Все горки, «тарзанки», аттракционы в парке – были ее. Плаванием она увлекалась с детства, в бассейн ходила регулярно до самых последних месяцев беременности и очень быстро возобновила свои занятия после родов. Именно там, в водно-спортивном комплексе на улице Княгини Ольги, и выловили ее телевизионщики.
Когда в начале весны Юлька, взволнованная, с горящими глазами, вернулась из бассейна и рассказала, что какой-то не то режиссер, не то продюсер предложил ей принять участие в телепередаче, я поднял ее на смех.
– Такая большая девочка и веришь в сказки! – сказал я тогда. – В твоем возрасте уже пора бы знать, что подобным способом вот уж лет шестьдесят-семьдесят разводят смазливеньких дурочек. Приглашают сниматься в кино, а на самом деле они оказываются в постели таких вот режиссеров в кавычках.
Но Юлька, разобиженная до слез, замахала у меня перед носом какими-то проспектами и визитками, тут же принялась звонить по указанным телефонам на телевидение, и там подтвердили, что да, действительно, начат совместный для России и Украины проект, называется «Кладоискатели». Полтора десятка человек из разных городов и весей закинут на необитаемый остров где-то посреди Тихого океана. Там они будут жить несколько недель, искать запрятанный на острове клад и бороться с дикой природой и друг с другом – клад достанется только одному, самому-самому.
– Ну-ну! – только и смог сказать я. – Чем бы дитя ни тешилось…
Первое время я все эти ее кастинги, собеседования и отборочные туры даже всерьез не воспринимал. Не верилось, что девчонка с улицы, пусть даже и такая хорошенькая (а она действительно очень хорошенькая, моя Юлька, у нее милое личико, длинные стройные ножки и совершенно обалденная фигурка), сможет пробиться на телевидение. Так что пусть поиграется в новую игрушку, авось ничего. Но она прошла сначала конкурс у нас в городе, потом съездила в Киев раз, другой, третий… И вскоре меня уже стало раздражать, что по вечерам моя жена, вместо того чтобы поджидать мужа дома с горячим ужином, пропадает неизвестно где, а ребенка забирают из сада ее родители, и я, усталый после работы, вынужден заезжать за дочкой к теще с тестем чуть не на другой конец города, сам кормить Светку и укладывать спать. Дочку нашу я, конечно, очень люблю и с удовольствием с ней вожусь в свободное время, но все-таки уход за ребенком – это дело матери. И когда за пару недель до окончательного решения Юльке по нескольку раз в день стал названивать какой-то мужик, я взорвался.
– Вот что, надоело мне это! – заявил я. – Не поедешь ты никуда, и точка.
В ответ жена разрыдалась, что случалось с ней нечасто.
– Ты что, с ума сошел?! – кричала она сквозь слезы. – Ты не представляешь, чего мне это стоит, какая там борьба идет за этот остров! Сказать, какие у меня конкурентки? Катька Здоровега – племянница ректора Киевского университета, Наташка Головко – дочь мэра Винницы, а Кристинка Притула, фотомодель, вообще знаешь, чья любовница?
– Мне наплевать, чья любовница Кристинка, мне важно, чтобы моя жена…
– Ты думаешь только о себе!
– А ты о ком? О муже? О ребенке? Или о том типе, который обрывает нам телефон?
– Так ты что, ревнуешь? – рассмеялась Юлька с облегчением. – Брось, вот это уж совершенно зря. Михаил Борисович очень приличный человек, тут ничего такого нет, да и быть не может. Уж поверь мне.
– И почему же я должен в это поверить?
– Да потому что он уже старик совсем!
– И сколько же ему лет, твоему старику?
– Ну не знаю, я ему в паспорт не смотрела. Но очень много! За пятьдесят – это точно.
В голосе Юльки была такая убежденность, что полтинник – это уже глубокая старость, что я чуть не рассмеялся. А потом огорчился. Ведь мне самому скоро должно стукнуть сорок… Правда, пока я еще выгляжу вполне прилично, и женщины это замечают. Даже молоденькие. И я, грешная душа, иногда этим пользуюсь. Ну, люблю я прекрасный пол, что уж тут поделаешь. Наследственность у меня такая. И счастье еще, что Юлька в этом отношении вполне современная жена. Если и догадывается о чем-то, то скандалов не устраивает.
До последнего дня Юлька так и не знала, попала она в команду или нет. Но на всякий случай ко всему подготовилась, все продумала. И выяснилось, что попала – на мое несчастье.
– Увидишь, я обязательно выиграю приз! – щебетала она, собирая чемодан. Многочисленные наряды нужны были только для поездки в Москву. По правилам игры, на остров разрешалось взять с собой только одну какую-то вещь, и Юлька выбрала целебный шампунь, призванный защитить ее тонкие светлые волосы от морской воды и палящего тропического солнца. – Три миллиона рублей – это почти сто тысяч долларов и больше пятисот тысяч гривен. Это огромные деньги! Мы столько всего сможем купить…
– Не выиграешь ты ничего! – готовил я ее к худшему. – Съедят тебя там твои соплеменники. А еще скорей – соплеменницы. Из ревности к твоей красоте.
– Я не дамся! – смеялась она. – А за Светку не беспокойся. Сад работает до первого июля, но у мамы уже с семнадцатого июня отпуск, они с папой заберут ее на дачу, почти на все лето.
– Да, я все помню… Дельфиненок, а может, ты все-таки передумаешь? Дался тебе этот остров! Лучше купили бы путевки да съездили на море, хочешь со Светкой, хочешь – без нее. Куда-нибудь в Египет, в Анталию или на Кипр…
Но Юлька, казалось, не слышала:
– А какие перспективы передо мной откроются после «Кладоискателей»! Стану фотомоделью или буду сниматься в сериалах, а может, даже предложат передачу вести по телевизору… Как думаешь, мне какой купальник брать – этот или лучше тот?
И что я мог? Я мужественно стерпел все – даже съемку для будущей передачи, запечатлевшую, как любящие муж и дочь провожают кладоискательницу в далекие края. По требованиям телевизионщиков сцену проводов пришлось разыграть за четыре дня до настоящего отъезда.
Табло, около которого мы стояли, замигало, текст задергался, сменяя старую информацию на новую. Одновременно из динамиков зазвучал официальный женский голос:
– Шановни пассажиры! Оголошуеться посадка на рэйс 1452 Львив – Москва!
– Мой! Наконец-то! – Юлька наклонилась и торопливо чмокнула Светку, машинально пригладила почти растрепавшиеся белые волосики. – Ну пока! Не скучай, я скоро приеду и привезу тебе большую ракушку и настоящего краба.
– Мама, не уходи! – вдруг заревела девочка, и сейчас мне больше всего на свете хотелось к ней присоединиться.
– Герман, ну возьми же ее!
Я подхватил дочурку на руки, и оттого наш прощальный супружеский поцелуй вышел каким-то скомканным. Мыслями Юлька была уже на острове.
– Не плачь, доню! – утешал я. – Мама скоро вернется. Помаши-ка ей ручкой, а я пока подержу твоего Бараша…
Не переставая рыдать, Светка замахала ладошкой, но Юля этого уже не видела. Не оборачиваясь, она спешила навстречу приключениям.
Дочка меж тем расплакалась не на шутку, и я, чтобы утешить ее, не сразу отправился из аэропорта домой, а повез кататься по городу. Мы заехали в магазин игрушек, купили новое «Лего» – пони с тележкой и кукольную посуду, потом остановились около одного из моих любимых кафе, на улице Низкий замок. Светке я заказал большую порцию шоколадного мороженого с орехами и взбитыми сливками, себе же взял пятьдесят граммов коньяка. Обычно я, как всякий уважающий себя профессионал, не позволяю себе спиртного за рулем, тем более если в пассажирах Светка, но нынче день выдался особый, и выпить было необходимо.
Когда мы вышли из кафе и вернулись в мой старенький «Форд», уже вечерело, солнце клонилось к закату. Светка, утомленная обилием сегодняшних впечатлений, задремала на заднем сиденье, положив под голову своего кудрявого приятеля, и я старался ехать медленно и плавно, чтобы ее не разбудить. До дома было уже недалеко. Я свернул в узкий переулок – и вдруг перед лобовым стеклом мелькнула не пойми откуда взявшаяся фигура, раздался глухой стук, машина испуганно вздрогнула. Я резко ударил по тормозам и выскочил из автомобиля. У правого переднего колеса лежала высокая девушка. Лицо ее было бледно, глаза закрыты, длинные распущенные волосы темно-рыжего цвета разметались по асфальту, юбка задралась, обнажая красивые стройные ноги. Господи, и откуда она только взялась, как я мог сбить ее?! Неужели насмерть? Что теперь делать? Словно в поисках поддержки я оглянулся по сторонам, но переулок был безлюден. Я склонился над девушкой, и тут, на мое счастье, она открыла глаза. Поморгала и с ужасом посмотрела на меня.
– Вы живы? – прерывающимся голосом спросил я.
– Кажется, да, – неуверенно отвечала девушка.
– Как вы себя чувствуете? Что у вас болит?
– Нога… – Она осторожно села, морщась от боли. Я опустил взгляд на ее бедро. От колена и выше колготки были разорваны, сквозь дыру виднелась широкая свежая рана.
– Я отвезу вас в больницу. Вы можете встать?
– Попробую, – опираясь на меня, она с трудом поднялась. Я помог ей добраться до машины и сесть на переднее сиденье. За этой сценой с любопытством наблюдала проснувшаяся Светка.
– Гелман, а что ты делаешь с тетей? – поинтересовалась она.
– Доня, помолчи, не до тебя сейчас! – Я очень нервничал. – Черт, даже не соображу, где здесь ближайший травмопункт…
Светка обиженно засопела, но притихла.
– Не надо никакого травмопункта! – горячо заявила моя невольная жертва. – Лучше отвезите меня домой. Я живу на Двирцевой площади, недалеко от вокзала.
– Сначала обязательно нужно в больницу, там сделают рентген, посмотрят, нет ли переломов, сотрясения мозга…
– Нет-нет, с этим все в порядке, я чувствую. Просто ушибла ногу, вот и все.
Сколько я ни уговаривал девушку обратиться к доктору, она лишь отрицательно мотала головой:
– Нет, ни за что. Терпеть не могу эти муниципальные больницы! Грязь и нищета. У нас есть свой семейный врач, если что-то будет не так, я ему позвоню, он направит меня в хорошую частную клинику.
– Так, может, поедем прямо к нему, чтобы он сразу вас посмотрел?
– Нет, домой.
Мы вернулись в центр, быстро нашли нужный дом, въехали через высокую арку и остановились у одного из подъездов. Посреди двора рос огромный, только что отцветший каштан, крона его, как крыша, нависала чуть не над всем свободным пространством. Я помог девушке выйти из машины. Чувствовалось, что без моей поддержки ей трудно даже стоять. Я оглядел старинное, построенное не меньше века назад, здание.
– Вы на каком этаже живете?
– На самом последнем, четвертом, – виновато улыбнулась девушка.
– И лифта, конечно, нет?
– Нет… Даже не представляю, как я доберусь до квартиры.
Ее можно было понять. Путь предстоял непростой, если учесть, что в таких домах лестницы обычно крутые, а высота потолков метра четыре, а то и побольше.
Я стал прикидывать про себя. С девушкой все ясно, ее придется нести вверх на руках, с этим я справлюсь, я мужик крепкий. Но вот как быть с дочкой? Вскарабкаться на такую высоту без посторонней помощи ей будет не по силам. Придется оставить ее в автомобиле.
– Светик, – ласково обратился я к дочке. – Мне нужно помочь бедной тете добраться до дома. Видишь, она сама не может, у нее болит ножка. Ты посиди в машине, а я скоро вернусь.
Светка наморщила носик – это был плохой признак.
– Хочу с тобой! – заныла она.
– Со мной не получится, – принялся терпеливо объяснять я. – Там очень много ступенек, и они высокие-высокие. Ты сама не дойдешь, а взять тебя на ручки я не могу. А я тебе потом куплю «Киндер-сюрприз».
– Ну, ладно, – неожиданно легко согласилась Светка. – Только ты быстро.
Я включил свет в салоне, чтоб малышка не боялась, подхватил на руки ожидавшую окончания нашего разговора девушку и вошел в прохладный полутемный подъезд. Внутри не было ни души, мои шаги гулко отдавались под высокими сводами. Я нес свою ношу, крепко обхватив руками. Ее дыхание горячей волной касалось моей щеки и шеи, от рыжих волос шел горьковатый запах полыни.
– Вас как звать? – спросил я.
– Региной. А вас?
– Герман. Как вы себя чувствуете?
– Я никогда так хорошо себя не чувствовала, как сейчас, – засмеялась она.
Я улыбнулся:
– Я серьезно. До сих пор в себя прийти не могу. Откуда вы взялись? Вообще не успел заметить, как вы оказались на моем пути.
– Вы меня обижаете, – хихикнула она. – Разве меня можно не заметить?
Она была права – не заметить такую очень трудно, и я успел это рассмотреть почти сразу же: стройная, длинноногая, с аппетитными пухлыми губками и зелеными, в желтую крапинку, глазами. У меня есть давняя привычка сравнивать женщин с животными. Эта напомнила мне ящерицу из сказок Бажова, которыми я зачитывался в детстве. Были там такие золотые ящерки, кажется, даже Хозяйка Медной горы превращалась в одну из них.
– Вы настоящая женщина, – снова улыбнулся я. – Кокетничаете даже в таком положении.
– А что мне еще остается делать в таком положении? – Она сильней обхватила меня за шею, и я почувствовал, как ее губы коснулись моего уха.
На дверях квартиры, перед которой она велела мне остановиться, висела табличка: «Профессор Збигнев Бартошинский».
– Похоже, я сбил профессорскую дочку? – Я осторожно поставил девушку на ноги.
– Вы совершили еще большее преступление – вы сбили профессорскую внучку, – засмеялась она, открывая двери.
Квартира была, очевидно, отнюдь не немаленькой – во всяком случае, холл, в который мы вошли, оказался площадью метров двадцать, не меньше. Стены, от пола до потолка, сплошь заставлены книжными шкафами.
– Это библиотека моего деда, – объяснила Регина, зажигая свет – холл был без окон, а двери во все комнаты закрыты. – Он сейчас в Нидерландах, на международном конгрессе.
Прихрамывая, она кое-как доковыляла до стоявшего здесь же покрытого клетчатым пледом дивана и с облегчением повалилась на него. Я помог ей устроиться поудобней. Нисколько не смущаясь, Регина приподняла юбку и осмотрела рану. Я неловко переминался с ноги на ногу.
– Для начала надо приложить холодное, чтобы не было синяка, – авторитетно произнесла она. – Принесите, пожалуйста, лед из холодильника. Кухня вон там, вторая дверь направо.
– Да-да, – заторопился я.
В большом холодильнике я не сразу отыскал то, что было нужно. Открыл дверцу и бессмысленно глядел на свертки, банки и кастрюли, даже зачем-то снял крышку с одной из них, почему-то оказавшейся пустой.
– Лед в морозильнике! – донесся из холла голос Регины. – В мо-ро-зиль-ни-ке!
«Ну да, конечно», – прошептал я. В морозильнике, кроме льда, ничего и не было. Кое-как вытряхнув лоток, я попытался насыпать его в ладонь, но обжигающие кубики выскальзывали из рук. Тогда я снял с крючка полотенце, завернул в него лед, отнес в холл и протянул узел Регине.
Рыженькая еще выше подняла юбку, так что обнажились черные кружевные трусики, соблазнительно оттенявшие молочную белизну ее кожи. Рваные колготки она уже успела снять. Трусики были почти прозрачными, и я против своего желания не мог отвести от них взгляда.
– Приложите вот сюда! – показала она.
Я осторожно опустил узел на стройное бедро. Регина вскрикнула.
– Больно?
– Холодно, – тихо ответила она, накрыла своей ладонью мою руку и призывно взглянула мне в лицо.
И тут на меня накатила такая волна… Сам не знаю, откуда что взялось, ведь я только что проводил Юльку, и проводил по всем правилам – чтобы не забывала обо мне на этом своем проклятом острове. Звериное желание, вдруг проснувшееся внутри, даже испугало меня – до этого я каждую секунду помнил о том, что Светка ждет меня одна в машине, а тут все вмиг вылетело из головы. Я весь отдался захватившему меня течению; где-то в самом далеком уголке сознания еще горел слабый огонек тревоги… Но рыженькая одним движением гибкого тела потушила его: уж она-то точно не сопротивлялась, она очень даже не сопротивлялась, только повизгивала, когда ее кожи касались разбросанные по всему дивану холодные до колючести кубики льда. Очень скоро лед под нашими горячими телами растаял, и весь диван покрылся мокрыми пятнами. Нам уже ничего не могло помешать.
– Я рад, что наехал на тебя, – сказал я, одеваясь. – А ты?
– Мне под тобой было очень хорошо, – улыбнулась она в ответ.
– Нужно бежать, дочка уже, наверно, заждалась… Тебе помочь дойти до спальни?
– Нет, не нужно, я сама. Знаешь, ты оказался отличным доктором! После твоего лечения нога уже почти не болит…
– Дай мне свой телефон, завтра позвоню, узнаю, как ты себя чувствуешь.
– А ты что, хочешь еще раз встретиться со мной? – она лукаво поглядела на меня сказочными зелеными глазами. Цвет их вызывал во мне какое-то смутное воспоминание, но сейчас мне некогда было об этом думать.
– Ну еще бы!
– Тогда лучше ты дай мне свой номер. У тебя ведь есть мобильный? А то знаю я вас, мужчин. Я буду ждать, а ты так и не позвонишь.
– Как скажешь, – я быстро черкнул в протянутом мне блокноте цифры. Пускай звонит сама, если ей так больше нравится. А Юльке всегда можно будет сказать, что это клиентка… Ах да, Юлька же теперь далеко, на острове. Ну что же, тем более.
– Все, побежал! – Я поцеловал ее в пухленький ротик и бегом ринулся вниз по лестнице.
Светки в машине не было.
Все было так, как я оставил. Кроме нее. В салоне горел свет, на переднем сиденье лежали перевязанные веревкой коробки с новыми игрушками, заднее было пусто. Ни Светки, ни этого ее смешарика.
«Как же она могла выйти, ведь двери были закрыты? – лихорадочно размышлял я. – Она никогда не смогла бы их открыть, у нее просто силенок не хватит! Или все-таки научилась? Черт их разберет эту малышню, они так быстро все осваивают… Помню, уходил на работу, она еще ползала, а возвращаюсь – топает мне навстречу на собственных ножках и даже не держится ни за что.
– Светик! Светик! – позвал я, оглядываясь вокруг. Ответом мне была тишина. Я обежал двор, выскочил на улицу, заглянул в соседний, потом в другой. Сгущались поздние майские сумерки. Немногочисленные прохожие испуганно посматривали на меня и только мотали головой, когда я накидывался на них с расспросами, не видели ли они маленькую беленькую девочку в голубом платьице. Это было каким-то абсурдом, какой-то дикостью. Я просто не мог понять, что происходит.
Вконец растерянный, я вернулся в Регинин двор, к огромному каштану и своей опустевшей машине. Тут запиликал мобильник – звонила Юлька.
– Привет! – затараторила она. – Слушай, мы так быстро долетели, всего за четыре часа! Все в порядке, меня встретили, отвезли в гостиницу, поселили в отдельный номер. Номер, кстати, шикарный, с холодильником, с телевизором и даже с телефоном, представляешь? Слушай, Герман, Москва, оказывается, такая огромная! Мы столько ехали от аэропорта до гостиницы! И такая красивая! Особенно вечером, тут так здания здорово подсвечивают, обалдеть можно!
– Да-да, – бормотал я, просто чтобы не молчать. Ее звонок был как нельзя более некстати.
– Ну, а вы где ходите? – весело поинтересовалась Юлька. – Звоню домой, а там никто трубку не берет.
– Да мы тут со Светкой… – я судорожно придумывал, что бы такое сказать. – …к Андрею зашли…
– Ты с ума сошел? У вас ведь уже почти десять, ребенку давно спать пора!
– Да мы… Уже домой едем.
– Ну, то-то же! Ладно, дай мне Светку, я ей пожелаю спокойной ночи.
– Юль, она… Задремала там сзади…
– А, вот оно что! А то я все не могу понять, почему ты так странно разговариваешь.
– Да-да! – ухватился я за эту отмазку, как утопающий за соломинку. – Боюсь ее разбудить.
– Ну ладно, целую вас! И тоже пойду спать, завтра у меня трудный день.
Беседуя с Юлькой, я ни на секунду не переставал шарить глазами по темным углам двора, выискивая знакомый матросский воротничок-капюшон Светкиного платьица. Но тщетно, девочки нигде не было видно. А едва закончился разговор с женой, как телефон опять засветился и снова заиграл мелодию из «Кармен». Я взглянул на экран, чтобы определить номер звонившего, и удивился странной надписи «скрыт».
– Да?!
– Куда это ты сейчас звонил? – спросил странный глуховатый голос.
– А вам какое дело? Кто вы?
– Такое дело, что твоя девчонка у нас. И не вздумай звонить в милицию, если хочешь получить ее назад живой и здоровой.
Я застыл на месте, чувствуя, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Раньше со мной такое случалось только в кошмарных снах.
– Слушай меня внимательно! – продолжал странный голос. – Девчонке твоей сейчас – я подчеркиваю: сейчас! – мы ничего плохого не сделаем.
– Сволочи! – вырвалось у меня.
– Тихо-тихо. Не зли меня, это не в твоих интересах. Твое дело – ждать наших дальнейших указаний. А потом, конечно, исполнять их. И знай, что мы наблюдаем за каждым твоим шагом. Мы люди серьезные. Сунешься к ментам или другую какую-нибудь глупость выкинешь, частного детектива там вздумаешь нанять или еще что – пеняй на себя. Не удивляйся потом, если получишь свою Светку обратно по частям, в разных посылках.
Он довольно засмеялся, будто сказал что-то очень остроумное. Я задохнулся.
– Судя по тому, как ты пыхтишь, ты меня понял. Ну вот и веди себя хорошо, мальчик. Никому ничего не говори. Повторяю для тех, кто туго соображает: никому и ничего. Ведь тебе очень дорога твоя дочь, не правда ли? – На том конце не стали дожидаться моего ответа – в трубке раздались короткие гудки.
Не знаю, сколько еще времени я провел в темном колодце двора со старым каштаном посередине. А когда очнулся, то увидел, что так и стою, сжимая в руке сотовый, около своего «Форда», в салоне которого все еще горит свет. Аккумулятор, наверное, вот-вот сдохнет. Я машинально сунул в карман телефон, открыл машину, выключил лампочку, запоздало включил сигнализацию. Ноги сами понесли меня уже в знакомый подъезд, вверх по лестнице, к высокой двери с медной табличкой: «Профессор Збигнев Бартошинский».
Регина открыла не сразу и предстала передо мной во всей красе: нога от колена перемотана бинтом, руки перепачканы йодом и зеленкой, рыжие волосы растрепаны – видно, что лежала.
– Ты! – радостно воскликнула она. – Вернулся?! Неужели уже успел соскучиться?
Но при одном взгляде на меня она, очевидно, сразу поняла, что мне сейчас не до шуток.
– Герман, что случилось? На тебе лица нет!
– Регина, у меня дочь украли… Только что… – я никак не мог перевести дыхание.
– Господи, да что ты такое говоришь! Она, наверное, просто вылезла из машины и убежала куда-нибудь. Ты хорошо искал?
– Я хорошо искал. А потом мне позвонили и сказали, чтобы я не искал.
– Что сказали? Кто позвонил? – похоже, рыженькая ничего не могла понять.
– Те, кто ее украл.
– Да ты что?.. – Ее зеленые в крапинку глаза округлились, казалось, они вот-вот вылезут из орбит. – Даже так? Господи, ужас какой!.. Ты, наверное, хочешь в милицию позвонить, да? Телефон вон там, на столике.
– Нет, в милицию звонить нельзя ни в коем случае. Если они узнают об этом, Светке конец.
– Они так сказали?
– Да.
– Тогда, наверное, и правда лучше не звонить… – Девушка осторожно опустилась на стул. – Я где-то читала… Похитители редко оставляют заложников в живых. Свидетели им не нужны, это очень опасно.
Меня передернуло, она это заметила и торопливо заговорила:
– Но у тебя ведь не тот случай! Твоя дочка ведь еще совсем маленькая, какой из нее свидетель! Надо верить и надеяться, что все будет хорошо. Чего они хотят от тебя? Денег? Сколько?
– Не знаю, они еще ничего не сказали. Только велели никому ничего не говорить.
– А ты вот сказал мне! – грустно улыбнулась рыженькая. – Знаешь, мне кажется, единственное, чем ты можешь спасти свою девочку, – это во всем их слушаться. Постарайся все делать, как они велели, и никому об этом не рассказывать… А сейчас поезжай скорее домой – вдруг они позвонят туда?
– Ты права. Пока.
Через пятнадцать минут я уже был на пороге своей квартиры и, спешно открывая дверь, слышал, как внутри разрывается телефон. Как назло, руки дрожали, и я никак не мог попасть ключом в скважину. Когда я, наконец, справился с замком и подбежал к аппарату, на том конце уже положили трубку. Я выругался и бессильно опустился на пол. Но тут телефон вновь зазвонил:
– Да? – поспешно выкрикнул я. Но это были не похитители.
– Герман? – раздался сквозь помехи далекий женский голос. – Это Виктория.
– Кто?
– Ну я, Виктория, твоя сестра! Ты что, не слышишь меня?
– Нет, слышу, только очень плохо…
– И я тебя плохо слышу. Герман, у меня к тебе очень важное дело! Нам немедленно нужно увидеться!
– О чем ты, Виктория? Мне сейчас не до чего…
– Что? Говори громче!
– Я говорю, что мне сейчас некогда! – почти прокричал я.
– Все равно ничего не могу разобрать, что ты говоришь… Герман, ты слышишь меня? Я завтра же к тебе выезжаю, уже билет взяла. Встречай меня послезавтра вечером…
Глава 2
Герман. Детство на улице Герцена
Виктории даже в голову не могло прийти, насколько лишним был для меня ее визит. Но, видимо, и у нее произошло что-то важное, если вдруг она решила преодолеть добрую тысячу километров, разделяющих Москву и Львов, только чтобы поговорить со мной. Признаться, я был сильно удивлен – раньше ничего подобного никогда не случалось. Мы практически не общались друг с другом, не виделись, наверное, уже лет десять, не переписывались и не созванивались. И дело не в ссоре или каких-то принципиальных разногласиях, из-за которых мы не поддерживаем отношений. Просто так получилось. Я знал Викторию с самого своего рождения и часто, даже очень часто, бывал в ее доме, но при этом ни я, ни она понятия не имели, кем мы приходимся друг другу. К тому же у нас разница шестнадцать лет, а это значит, что когда я пешком под стол ходил, она была уже вполне взрослым человеком, со своей взрослой жизнью, взрослыми интересами и взрослыми заботами. Занятая своими проблемами, которых у нее всегда было предостаточно, Виктория все эти годы практически не замечала меня. О том, что я ее брат, а она моя сестра, мы узнали сравнительно поздно, и ошеломляющее известие, свалившееся на наши головы, конечно, не сумело моментально сделать нас родными людьми.
История моя вообще не совсем обычна. Меня вырастила бабушка Барбара, или Бася, как называли ее в генеральской семье, в которой она прослужила верой и правдой почти всю свою жизнь. Родителей своих я не помнил и знал о них только по рассказам Баси. А она говорила, что мой отец был альпинистом и сорвался в пропасть во время восхождения на Эльбрус не только до моего рождения, но даже еще не успев узнать, что я должен появиться на свет. По ее словам, родители не успели расписаться, и оттого я носил фамилию мамы и бабушки – Шмидт.
Мальчишкой я часто пытался представить себе отца, и воображение рисовало что-то высокое, плечистое и мужественное, но очень расплывчатое – ни одной его фотографии в доме не было. Зато сохранилось много маминых снимков, и вечерами я очень любил, забравшись с ногами на диван, листать в уютном свете торшера плотные серые листы старого альбома, рассматривать приклеенные к ним черно-белые карточки и читать чернильные подписи, сделанные аккуратным округлым почерком Баси: «Берта и Вика в зоопарке, 20 мая 1949 года», «Первый раз в первый класс, 1 сентября 1952 года», «Берту приняли в пионеры, 22 апреля 1956 года», «Новый, 1959-й, год», «Выпускной бал, 25 июня 1962 года», «Берта с друзьями на Московском море, 12 июля 1962 года». Мама, тоненькая, белокурая, большеглазая, казалась мне самой красивой на свете. Больше всего она мне нравилась на фотографии с мотоциклом – одетая, как парень, в брюки и кожаную куртку, мама держит в руках мотоциклетный шлем и улыбается, а ветер играет ее длинными волосами. А бабушка не любила этот снимок, потому что именно на этом мотоцикле мама разбилась, не вписавшись на скорости в поворот, когда мне было всего два года.
Мы с бабушкой жили на одной лестничной площадке с ее хозяевами: героем войны генералом-лейтенантом Валерием Курнышовым, его женой Марией Львовной, пышноволосой и черноокой, и их дочкой Викторией. Правильнее будет сказать, даже не на одной лестничной площадке, а в одной квартире.
В дореволюционные времена «приличные» дома всегда строились с учетом запросов состоятельных людей. В любом, даже относительно скромном по тем меркам, комнаты так в три-четыре, жилье всегда делалось помещение для прислуги. У нас же это была не просто каморка за кухней, а целая отдельная квартира, с собственным входом, с ванной, прихожей, кухней и большой жилой комнатой. В ней и обитали мы с Басей, а генеральская семья занимала «барскую» квартиру – из семи комнат, общей площадью под двести квадратных метров. Только став взрослым, я узнал, что обе квартиры на одной площадке имеют общего ответственного квартиросъемщика. И все мы – и я, и бабушка, и мама, пока была жива, и генерал с женой и дочкой – были записаны на одном лицевом счете. Ну, вроде как большая семья.
Бабушка служила у Курнышовых экономкой, покупала продукты, готовила еду, сдавала белье в стирку, мыла окна, натирала полы мастикой, смахивала пыль с завитков антикварной мебели. До смерти генерала я почти каждый день бывал в соседней квартире и очень гордился, когда Курнышов заглядывал к нам. Но это почему-то случалось нечасто. Бабушка всегда добродушно ворчала:
– Ой, смотрите, Мария Львовна прознает…
А генерал бодро отвечал:
– Не прознает, она сегодня у портнихи, раньше девяти не придет!.. Налей-ка мне лучше чайку покрепче, а ты, Герман, тащи шахматы, я тебя обыгрывать буду.
Приносились шахматы, расставлялись фигуры. Начинался упоительный бой. А надо сказать, что мы с моим закадычным дружком Сашкой Семеновым с шести лет занимались в кружке юного шахматиста при Доме пионеров, и там я быстро приобрел кое-какой опыт по части применения коварных ходов. Многие взрослые, усаженные по настоянию генерала со мной за доску, очень быстро меняли снисходительное отношение сначала на удивление, затем на восхищение, а далее на азарт. Финальная реакция противника зависела от того, кто выигрывал. Если гость первым говорил «мат», то в его глазах можно было прочесть: «Да, ты силен, малыш, но и я не лыком шит!» Если же удача улыбалась мне, то мой противник смущенно улыбался или преувеличенно громко смеялся и выдавал что-нибудь в духе: «Вот молодежь пошла!», «Ну, это я просто поддался» или «А куда это моя ладья так незаметно запропастилась?». Генерал обнимал проигравшего и уверял его, что продуть мне совсем не стыдно, а ладья ушла, потому что зевать не надо. Но второй раз играть со мной никто не садился.
Шахматы у меня были необыкновенные, не деревянные и не пластмассовые, а янтарные, из светлого и темного камня. Искусно вырезанные фигурки вызывали у приходящих ко мне приятелей нескрываемую зависть, и даже взрослые, пощелкав ногтем по полупрозрачным бежевым и коричневым клеткам доски, редко удерживались от восхищенного «Ого!». Эти шахматы я получил в подарок от генерала на свое восьмилетие. Он поощрял мое увлечение и был, по-моему, очень счастлив, что его подарок не пылится на полке. Сам Курнышов играл неплохо, обычно сдержанный и рассудительный, наверное, только во время шахматных баталий со мной и позволял себе проявлять эмоции. Он то и дело удивленно крякал, нервничал, теряя фигуры, обдумывая ход, постукивал ногой об пол, а в драматические моменты даже вскакивал. Когда проигрывал, жал мне руку, широко улыбался и говорил неизменное: «Ну, Герман, как ты меня… как ты меня!» Когда же он сам победно выкрикивал: «Мат!», то его радости не было предела. «Есть еще порох в пороховницах!» – довольно заявлял он, расплываясь в широкой улыбке и оглаживая лысину. Потом он хлопал себя по карманам, вытаскивал оттуда мелочь, давал ее мне «на ситро и на кино», обнимал на прощание и уходил к себе.
– Бабушка, а что такое ситро? – спросил я, когда это случилось в первый раз.
– Лимонад раньше такой был, вроде твоего любимого «Буратино», – отвечала Бася.
Возможность таким легким способом заработать «на ситро» сначала смущала меня, однако потом, насладившись благами, которые давали деньги, я стал часто поддаваться. В один из таких счастливых для меня проигрышей генерал посмотрел исподлобья тяжелым взглядом, смахнул рукой свою победоносную армию вместе с жалкими остатками моей и, с грохотом отодвинув стул, встал.
– Запомните, молодой человек, – строго сказал он, обратившись ко мне, к моему ужасу, на «вы», – я люблю побеждать. Но – побеждать, а не играть в победу! А если вы полюбили проигрывать, это не делает вам чести.
Суровый тон, каким были сказаны эти слова, будто окатил меня ледяной волной. От этого холода мне стало жарко-жарко. Я покраснел и не знал, куда деть глаза от стыда.
С того дня я стал бояться проигрывать, а это только мешало. И я начал жульничать. Стоило генералу отвернуться, с его поля пропадали фигуры. Он не замечал, и я снова легко выигрывал. Но Бася как-то сказала мне:
– Герман, а тебе не совестно так выигрывать? Ведь ты же просто воруешь победу.
Мне снова стало стыдно, и я заплакал.
После ее слов я стал бояться садиться с генералом за шахматы и старался увильнуть от игры под любым предлогом. И взрослые, как я догадался лишь много лет спустя, организовали против меня заговор. Скорее всего, это бабушка смекнула, в чем дело, и, видимо, поделилась своими догадками с генералом. Однажды поздним вечером, когда мне, десятилетнему пацаненку, было уже не с руки говорить, что «надо к Сашке переписать задание на завтра», к нам пожаловал генерал.
– Ну что, – бодрым голосом сказал он, – сыграем?
Я понуро побрел расставлять фигуры.
– Мы с тобой будем играть на интерес, – кинул мне вдогонку генерал.
– На интерес?.. – не понял я.
– На интерес – значит, на деньги, – Курнышов полез в карман.
– На деньги? Но у меня… – начал было я, но генерал остановил меня.
– Я тебе дам в долг для начала. Отыграешь – твои.
И, надо сказать, именно с этой игры, когда «ситро и кино» мне могло принести не поражение, а выигрыш, я обрел душевное равновесие и волю к победе: боролся, как лев, за каждую фигуру, был предельно собран и нацелен только на успех. В тот раз я поставил ему мат за двадцать три хода. Курнышов пожал мне руку, и я с радостью заметил, что он совсем не огорчен своим промахом. Наоборот, в его глазах светилось такое торжество, будто это не его король, а мой был загнан в угол доски мощным ферзем, резвым конем и несокрушимой ладьей.
– Молодец! – искренне воскликнул он, вручая мне деньги, да не мелочь, а целый рубль! И с тех пор повторял это слово и действие каждый раз, когда я выигрывал. А побеждал я, довольный тем, что недоразумение разрешилось столь благоприятно, довольно часто.
– Да ты разоришь меня, – смеялся генерал, доставая очередную желтую бумажку или, изредка, большую серебристую монету.
Бабушка только головой качала, наблюдая, как ее внук складывает свою добычу в коробку из-под зефира:
– Какие-то легкие деньги, не испортить бы мальчишку.
– Легкие? – не соглашался генерал. – Легкие – это когда украл, а здесь все по-честному: игра есть игра.
– Но не на деньги же! – сокрушалась Бася.
– Почему – нет? Мужчина должен уметь играть в карты, шахматы и бильярд. А игра без интереса – не игра, а так, кружок «Умелые руки».
Но если случалось, что Мария Львовна приходила от портнихи раньше, чем мы заканчивали свою мужскую игру, то это всегда оборачивалось конфликтом в соседней квартире. Один раз я не удержался, тихонечко подкрался к комнате, где происходила ссора, и принялся подслушивать под закрытой дверью, но мало что услышал и почти ничего не понял. Генеральша строго отчитывала супруга, а тот вяло возражал что-то своей половине, но было ясно, что он полностью признает ее правоту. Я не мог понять, почему генералу нельзя к нам ходить, ведь бывал у них и я, а бабушка так вообще проводила целый день в «барской» квартире, наводя порядок и занимаясь стряпней. Я спросил об этом у Баси.
– Генерал должен быть там, где его всегда могут найти, – отвечала Бася. – А вдруг война, пришлют за ним солдата – а командира и дома нет.
Такое объяснение меня вполне устроило.
К генералу часто приходили его боевые друзья. Накрывался большой круглый стол в зале, бабушка суетилась с тарелками и закусками, бегала туда-сюда на кухню и обратно, Мария Львовна помогала ей. Если я оказывался в такой момент рядом, генерал усаживал меня подле себя.
– Садись, парень, ближе, – говорил он. – Садись и слушай.
– Зачем ребенку наши разговоры? – встревала Мария Львовна. – Пусть идет погуляет во двор.
– Во дворе он такого не услышит. Пусть мужчина растет мужчиной, – хлопал ладонью по столу генерал и этим как бы ставил точку.
Мария Львовна, как я слышал от бабушки, почти всю войну была рядом с мужем. Но если Валерий Курнышов и в старости сохранил военную выправку и какую-то особую, истинно генеральскую, стать, заметную не только, когда он надевал увешанный орденами китель и брюки с лампасами, но и в обычном спортивном костюме, то генеральшу, с ее расплывшейся фигурой и визгливыми нотками в голосе, я ну никак не мог представить себе на поле боя. Однако когда Валерий Андреевич доставал альбомы с фотографиями и, дымя сигаретой, рассматривал старые снимки, я с трудом, но все-таки узнавал в молодой черноволосой женщине в шинели, строго глядящей в объектив, нынешнюю Марию Львовну. Большие выразительные глаза и прямой пробор гладко уложенных волос были как опознавательный знак. Уже будучи в возрасте, она в первую очередь привлекала к себе внимание именно черными горящими глазами. И волосы были по-прежнему стянуты в тугой пучок на затылке. Мария Львовна красила их в иссиня-черный цвет, но неизменный пробор на голове предательски посверкивал серебром. Я не помню ее улыбающейся: генеральша всегда была сосредоточена на каких-то важных взрослых делах. По мне, она была очень строгой. Я немножко ее побаивался. Часто замечал, что жена генерала пристально меня рассматривает, словно хочет увидеть на моем лице что-то особенное. Я смущался и отводил глаза.
– Герман, разве тебя не учили, что, когда разговариваешь с человеком, надо смотреть ему прямо в глаза? – Мария Львовна любила делать замечания.
– Учили… – мямлил я и еще ниже опускал голову.
В день своего одиннадцатилетия я стал свидетелем очередного, пожалуй, самого бурного за всю историю скандала генерала и Марии Львовны. Вышло это из-за того, что, по заведенной традиции, мои дни рождения всегда отмечались на генеральской половине. Я привык к этому, но как же завидовали мне мои приятели, приглашенные в этот день в гости! Семикомнатные хоромы, наградная сабля на стене и вид Курнышова в генеральской форме с орденами на груди производили на них неизгладимое впечатление. В такие дни еду подавали не как обычно – в столовой, а в зале, где накрывался тот самый большой стол, за которым сиживали друзья генерала.
Начало торжества я помню смутно. Был мой лучший друг Сашка Семенов и еще с полдюжины приятелей – одноклассников и товарищей по двору, был сам генерал, была Мария Львовна, разумеется, была моя бабушка Бася и еще, совершенно точно, Виктория, хотя она появлялась на моих днях рождения нечасто. Впрочем, в этом не было ничего удивительного – к моему одиннадцатилетию ей уже исполнилось двадцать семь, она успела закончить Консерваторию по классу скрипки, выйти замуж, развестись, устроиться в оркестр Большого театра и уйти оттуда!
Итак, мы уселись за стол. В честь праздника передо мной был поставлен бокал венецианского стекла – одна из самых больших ценностей в доме. Таких бокалов в генеральской семье было два, каждый с цветным изображением. На одном нарисована Ева с надкушенным яблоком в руке, на другом – Адам, протягивающий руку в сторону. Когда бокалы ставили рядом, получалась копия с известной гравюры Дюрера, только вольная – неизвестный мастер, создавший эти фужеры, превратил черно-белое изображение в цветное. В его интерпретации волосы Евы приобрели восхитительный рыжеватый оттенок, а змея, свисающая с ветки Древа познания, стала изумрудно-зеленой в золотистую крапинку. В тот день мне налили вишневый компот как раз в бокал с Евой, фужер с Адамом, по традиции, был в руках у генерала.
– Ну что, за именинника! – поднял он первый тост. – За его одиннадцать лет, которые он прожил на этой земле.
Все потянулись ко мне со своими бокалами (попроще, но тоже старинными и очень красивыми), комната наполнилась мелодичным перезвоном. Тут же настенные часы пробили пять часов вечера – бум-бум-бум-бум-бум, – и праздник начался. Я гордился перед друзьями и моим генералом, и этим большим залом, заставленным горками со стеклянными витринами, посудой и всякими дорогими диковинами, старинной мебелью с замечательными охотничьими сценами, шикарной сервировкой стола: белоснежной крахмальной скатертью, серебряными приборами, дрезденским сервизом на двадцать четыре персоны и фужерами из цветного стекла. Мальчишки, конечно, стеснялись взрослых и такой торжественной обстановки, сидели тихо-чинно, не произносили ни слова, кроме «спасибо» и «пожалуйста», и изо всех сил старались есть красиво, ничего не разбив, не пролив и не уронив. Мне перед генералом и Марией Львовной было за них не стыдно.
– А ну-ка, виновник торжества, подойди сюда! – пробасил Курнышов с того конца стола. Я оторвался от вкуснющей рыбы под маринадом и приблизился к нему. Генерал, улыбаясь, протянул мне какой-то сверток, напоминающий по форме большую книгу.
– С днем рождения! Расти большой, оправдай наши надежды! – Он крепко, по-мужски, пожал мне руку.
Я торопливо разорвал бумагу и с трудом удержался, чтобы не заорать от восторга. Внутри был кляссер для марок – толстый, новенький, остро пахнущий кожей. А я к тому времени уже месяца четыре просто бредил филателией, собирал конверты со всего дома, осторожно отпаривал марки, менялся с Сашкой и другими друзьями и хранил свою коллекцию в коробке из-под печенья «Светлячок». О специальном альбоме я и мечтать не смел – они были слишком дороги. Само появление кляссера уже было для меня неземным счастьем, а тут, приоткрыв его, я убедился, что альбом еще и не пустой – по крайней мере несколько плотных желтых страниц с кармашками в виде узких прозрачных полосок были заполнены разноцветными квадратиками и треугольниками.
– Ну-ну, не увлекайся, потом посмотришь! – добродушно проговорил генерал. – А сейчас иди на место, да только не садись! Второй тост за родителей, нам его надо пить стоя. Помянем твою маму, пусть ей земля будет пухом…
И тут – не знаю, что потянуло меня за язык, должно быть, ошалел от радости, что сбылась моя мечта, – я ляпнул:
– А почему только маму? И папу надо! Тост ведь за родителей, значит, за обоих. За маму, ну, и за отца. Пусть и ему земля будет пухом!
И сам не понял, почему взрослые вдруг так прореагировали на мои слова. Мария Львовна как-то нервно и злорадно засмеялась, генерал побледнел, а бабушка выронила из рук бокал, закрыла лицо руками и выбежала из зала. Курнышов нахмурился, встал и вышел вслед за Басей. Мария Львовна тяжело вздохнула, обвела взглядом нашу притихшую компанию и сказала:
– Вот так, юноши, бывает в жизни.
Мы дружно засопели носами, и, хотя никто так и не понял, что же, собственно, произошло, постарались на всякий случай принять важный вид.
– А что случилось, мама? – растерянно спросила Виктория, но та ей не ответила.
Неловкость замяли, генерал вернулся и как ни в чем не бывало уселся за стол рядом с супругой, Бася быстро подмела осколки разбитого фужера, вытерла пятно от разлитого вина и вскоре уже подавала горячее, а потом и свой фирменный торт «Высокий замок». Торт был большой, но мы с ребятами смели его за десять минут, после чего нам позволено было выйти из-за стола и поиграть, только не очень шуметь.
– Отдыхайте, орлы, квартира в вашем распоряжении! – напутствовал нас генерал.
– Кроме спальни и комнаты Виктории! – уточнила Мария Львовна. – Ну и, конечно, кабинета.
– Да ладно, что уж там! – милостиво разрешил ее супруг. – Можете и в кабинет зайти. Только чтобы ни в столе, ни на столе ничего не трогать!
Мы с Сашкой первые вскочили и вылетели из зала, за нами, с радостью, переходящей в буйство, бросились остальные ребята. Что может быть привлекательнее для мальчишек, чем кабинет настоящего генерала? Такую возможность нельзя было упустить. Чего там только не было – и полевой бинокль, и кобура для пистолета «ТТ», и именной кортик, и рында с корабля «Смелый», и альбомы с изображениями нашей и иностранной техники, и старые военные карты, и коллекция солдатиков в диковинном обмундировании – словом, целое богатство. Время так незаметно пролетело, что, когда на пороге появилась Бася и сказала, что уже поздно и ребятам пора домой, мои друзья ахнули. Нам дали еще полчасика на все про все, затем последовал ритуал прощания с гостями. Каждый получил свой подарок – так было принято в генеральской семье. Мальчишкам вручили по маленькой иностранной машинке – тогда это было целое состояние – и по пакетику с бананом, апельсином, яблоком, конфетами и парой Басиных пирожков.
Проводив друзей, я вернулся в пустой зал, где давно убрали со стола, отыскал свой кляссер, залез с ногами в большое кресло, полностью меня поглотившее, стал рассматривать подаренные марки и сам не заметил, как уснул. Сквозь дрему я ощутил чье-то осторожное прикосновение. Кто-то очень бережно, явно стараясь не потревожить мой сон, взял меня на руки, и я, не открывая глаз, понял, что это генерал – догадался по характерному запаху ароматного табака «Золотое руно». Курнышов аккуратно опустил меня на диван, накрыл теплым пушистым пледом, заботливо его подоткнул, а потом вдруг поцеловал в лоб.
– Мальчик мой, – прошептал он, и в его голосе было столько нежности, что в другое время я, не привыкший к таким проявлениям с его стороны, наверное, очень бы удивился. Но в тот момент я был в полудреме. А когда проснулся, то уже не был уверен, что это мне не приснилось.
Вокруг было темно и незнакомо, и мне понадобилось несколько минут, чтобы сообразить, где я нахожусь. Я сел на диване и стал всматриваться в выступающие из темноты предметы. Но вот за стеной часы пробили двенадцать раз, и все мои сомнения развеялись. Конечно же, я в генеральской квартире!
Очень хотелось в туалет. В одних носках – ботинки с меня сняли, а надевать и зашнуровывать их вновь было лень – я пробежал по залу и вышел в коридор. Миновал два поворота и уже почти добрался до цели, как вдруг услышал из-за дверей гостиной громкие голоса и странные булькающие звуки. Я остановился у двери, прислушался (мне это было не впервой) и вскоре понял, что это за шум. В гостиной плакала Мария Львовна, она, как это называется, выясняла отношения с мужем.
– Ты думаешь только о себе! – говорила она сквозь рыдания. – Ты всегда все делал так, как тебе хотелось.
– Маша, ну сколько можно: одно и то же!
– А ты что хотел… Чтобы я молчала, молчала да еще радовалась?! – Мария Львовна сорвалась на крик.
– Тише, ребенка разбудишь…
– Ты так о дочке своей, о Вике, не печешься, как об этом мальчишке!
– Ну зачем ты так? Я люблю Вику, и ты это прекрасно знаешь.
– У девочки и так неприятности – и в работе, и в личной жизни! А теперь еще ты хочешь лишить ее всего…
– Не говори так, Маша. Да, я виноват. Перед тобой, перед этим мальчишкой, перед… перед Басей. Но что же мне теперь-то делать?! Что?! Душа ведь болит. Думаешь, мне легко жить с этим?
– Раньше надо было думать! Прежде чем ложиться в постель с этой!.. С этой!..
– Не смей ничего о ней говорить, слышишь?!
Тишина, наступившая в комнате, то и дело прерывалась всхлипываниями Марии Львовны.
– Ну, хорошо, – вновь заговорила генеральша, и в голосе ее послышались просящие нотки. – Я и так сделала для тебя все, что могла! Он живет здесь, рядом с тобой, постоянно у тебя на глазах. И я терплю его, хотя один бог знает, чего мне это стоит! Но зачем же усыновлять?.. Ты же опозоришь этим и меня, и Вику…
– Маша! – Генерал явно был раздражен и еле сдерживал себя. – Я же объяснил тебе, что с усыновлением ничего не получилось!..
– И слава тебе Господи! – прошелестела генеральша, но Курнышов не обратил внимания на ее слова.
– Мне объяснили, что по закону я не имею права его усыновлять. Видите ли, я уже стар для этого! Так что речь идет не об усыновлении, а о завещании.
– О завещании? Ты что же, хочешь?..
– Да, Маша, хочу! Я хочу быть честным перед сыном и перед собой. Он же моя кровинка, и я люблю его, черт возьми!
– А о другой твоей кровинке, о Вике, ты подумал?
– Представь себе, подумал! Ничего с ней не случится из-за того, что она получит не все картины и стекляшки, а только половину. Уж поверь, бедствовать она не будет.
– Да я даже не об этом! Неужели ты не понимаешь, каким это будет для нее ударом?! Узнать всю правду. Какой позор!
– Успокойся, Маша. Вот, выпей воды.
– Я спокойна! – В комнате раздался звон.
– Ну вот, разбила мой любимый бокал, – печально констатировал генерал. – Теперь не будет у нас Адама, одна Ева останется… А с Викторией я поговорю сам. Она уже взрослый человек, как-никак больше четверти века за спиной, она поймет.
– Что поймет? Что ее отец, боевой генерал, уважаемый человек, добропорядочный семьянин, оказался любителем малолеток и чуть под статью не попал за растление несовершеннолетней?! – Мария Львовна была в бешенстве. – Да если бы не мой отец, ты бы потерял и свои звезды, и все свои ордена, и доброе имя!
– Да, твой отец, царствие ему небесное, хороший был мужик. Но, черт возьми, лучше бы я потерял все – и звезды, и ордена, и доброе имя, – но зато не слушал бы каждый день твоего нытья, не видел бы этой гримасы, с которой ты на него смотришь! Да, я виноват. Сто, тысячу раз виноват. Но чем виноват ребенок?!! Чем?! – Чувствовалось, что генерал уже не владел собой.
– Тем, что я его ненавижу! И этого щенка, и его мать, твою шлюху малолетнюю! Счастье еще, что она сдохла! Ненавижу, ненавижу, ненавижу! – Мария Львовна орала в полный голос и, судя по звуку, колотила по чему-то кулаками.
– Заткнись! Заткнись, слышишь! Убью… – Голос генерала сорвался и перешел в хрип.
Я стоял под дверью, ни жив ни мертв, забыв даже, куда и зачем шел.
– Что с тобой? – в ужасе закричала вдруг Мария Львовна. – Валера?! Валерочка, тебе плохо?
Генерал сдавленно прохрипел что-то, но я не разобрал его ответа.
– Я сейчас, сейчас… Врача… Лекарство… Неотложку… – забормотала его жена.
Послышались шаги, и я в ужасе кинулся прочь, в считаные мгновения вернулся в зал, захлопнул за собой дверь и прислонился к ней спиной, пытаясь унять сердцебиение. Я мало что понял из услышанного, но твердо осознал одно – в моих интересах скрыть ото всех, что я стал свидетелем этого разговора. И я решил, что никому не стану об этом рассказывать.
Очень хотелось в туалет. Я выждал некоторое время, прислушался: вроде все было тихо. Больше ждать не было никаких сил. Я тихонько выглянул и только хотел выйти, как вновь послышался шум, и я вновь испуганно закрыл дверь. Судя по звукам, Мария Львовна помогала генералу дойти до спальни.
– Вот так, так… – приговаривала она. – Потерпи еще чуть-чуть. Сейчас ляжешь в кроватку, и все будет хорошо…
Но я лично терпеть больше не мог. Вспомнилось, что на одной из горок в зале стоял большой кубок – подарок генералу. Я подставил стул, снял со шкафа кубок и облегченно расстался с содержимым мочевого пузыря. Теперь надо было решать новую проблему – с кубком. Я подождал минут десять в надежде, что путь к туалету свободен, и вновь отправился к заветной комнате. Но меня опять подстерегала неудача – дверь в спальню была открыта, в коридор падала полоска света, и доносились голоса: взволнованный – Марии Львовны и сдавленный – генерала, невнятно бормотавшего что-то вроде: «Ничего, прорвемся!» Пройти мимо спальни незамеченным не было никакой возможности. Надежда избавиться сейчас от содержимого кубка испарялась на глазах. Сначала я ждал в коридоре, переминаясь с ноги на ногу, потом вернулся в зал, поставил кубок в угол и сел на диван.
«Утром, – решил я, – незаметно вылью это в туалет». Я прилег, сон сморил меня, я отключился и проснулся уже на рассвете. В квартире была какая-то странная суета, слышались незнакомые голоса, сильно пахло лекарствами. Я вышел и наткнулся на хмурую Басю. Она была необычно бледна, нос ее как-то заострился, глаза покраснели и припухли, точно она не спала всю ночь или много плакала.
– Ба, что случилось? – испуганно спросил я. Меня пугали перешептывания взрослых, всхлипы, доносившиеся из генеральской спальни.
– Сегодня ночью скончался Валерий Андреевич, – сказала она, сжав губы. – Иди домой и сиди там.
– Валерий Андреевич? – переспросил я. – А кто это?
– Валерий Андреевич – это Валерий Андреевич.
– Генерал?!! – ахнул я. – Не может быть!
Глава 3
Виктория. Детство на улице Герцена
Путь от Москвы до Львова был неблизким. Шутка ли – целые сутки в поезде! Самолетом, конечно, быстрее, но летать Виктория не любила – при взлете и посадке у нее почему-то всегда разбаливалась голова. Да и стоил билет на поезд намного дешевле. Теперь, когда в ее жизни появился Игорь, она стала не то чтобы жадной, но, скажем так, экономной.
За двадцать три с лишком часа Виктория успела познать все прелести дороги из Москвы на Западную Украину – дважды за ночь была разбужена для встречи с пограничниками и таможенниками обеих стран, полюбовалась бескрайней красотой Днепра, вдоволь наелась свежайшего «Киевского» торта, который предприимчивые жительницы украинской столицы приносили продавать прямо к поездам, купила мягкую игрушку в Конотопе и два кило крепких, румяно-красных яблок в Жмеринке.
Купе у них получилось чисто женское. Попутчицами оказались бойкая украинка, торгующая в столице на рынке и теперь ехавшая навестить своих с огромными баулами, и две москвички, мать и дочка лет шестнадцати, обе такие свеженькие, веселые и жизнерадостные, что Виктория даже приняла их сначала за сестер. Едва поезд отошел от вокзала, хохлушка тут же принялась рассказывать о жизни в родной деревне, о ненаглядном маленьком сынишке Хриньке, которого видит четыре раза в год, стала показывать гостинцы и ругать бывшего супруга, никчемного и непутевого. Разговор быстро перешел на мужчин и уже не сходил с этой благодатной темы на протяжении всего пути. Украинка призналась в своей симпатии к хозяину Алику, который «хоть и хачик, но мужик что надо», мама с дочкой наперебой щебетали о своих сердечных делах, и Виктория, не удержавшись, тоже поведала попутчицам о своей столь внезапно и столь счастливо обретенной любви. Даже говорить об Игоре – и то было для нее величайшим наслаждением, она могла бы делать это, не переставая, на протяжении многих и многих часов. И попутчицы реагировали именно так, как надо – слушали внимательно, ахали, удивлялись, вздыхали: «Ведь бывает же! А говорят, нету настоящей любви!» – и, казалось, искренне радовались за нее и желали ей счастья.
Расставались почти как родные. Хохлушка сошла в Хмельницком, расцеловавшись со всеми и только что не всплакнув, мама с дочкой ехали дальше, до Ужгорода. При подъезде к Львову Виктория, уже полностью собранная, стояла с вещами в коридоре и глядела в окно, соседки по купе вертелись рядом.
– Уже совсем скоро. И лучше с этой стороны смотреть, отсюда вид просто бесподобный! – говорила старшая.
– Обожаю Львов, он такой красивый! – вторила ей младшая.
Их руки лежали рядом на поручне, и взгляд Виктории невольно сравнил пухленькую ладошку юной соседки с собственной, и сравнение это оказалось никак не в пользу Виктории – кожа дряблая, морщинистая, на пальцах уже заметно выделяются суставы. Увы, время не обманешь… Даже если тебе повезло с фигурой – на свое счастье, Виктория комплекцией пошла не в склонную к полноте мать, а в отца, остававшегося стройным и подтянутым до самой старости. С тех пор как в ее жизни появился Игорь, Вика стала очень следить за собой, не реже раза в неделю посещала салон красоты и даже сделала несколько очень дорогих косметических операций, ради чего пришлось продать одну из лучших картин – летний пейзаж Левитана. Так что с лицом у нее сейчас все было в порядке, но вот шея и руки, неподвластные ухищрениям современной медицины, предательски выдавали возраст. Когда Виктория работала в Большом театре, одна старая примадонна любила повторять, что с годами лицом женщины становятся шея и руки. Тогда Вику, еще молоденькую, эта поговорка приводила в недоумение. А теперь каждый раз, когда Игорь брал ее за руку или целовал кисть, у нее болезненно сжималось сердце.
«Господи, – подумала Виктория, – почему все так? Только-только начинаешь понимать всю прелесть жизни, только-только ощутишь свободу от условностей, предрассудков, каких-то обязанностей, а старость – вот она. На пороге. А сколько же еще хочется: и одеться красиво, и жизнь посмотреть, и даже – она закрыла глаза и сладко вздохнула, – завести семью».
Мысли ее то и дело возвращались к Игорю. Не проходило и четверти часа, чтобы она не подумала о нем. С думами о любимом Виктория засыпала, почти каждую ночь он снился ей во сне – вне зависимости от того, проводили они эту ночь вместе или порознь, первая ее мысль, когда она просыпалась утром, тоже была о нем. Его образ, еще чуть в смутной дымке полудремы, появлялся у нее перед глазами, и тогда Виктория замирала от счастья, больше всего на свете боясь, что все это окажется сном. Не может быть, чтобы Игорь, такой красивый, такой замечательный, такой заботливый, существовал на самом деле, просто не может быть, чтобы он любил ее, Викторию, да еще так любил… Она была счастлива. По-настоящему счастлива, впервые в жизни.
– Ну вот, въезжаем во Львов! – прокомментировала мама-попутчица, и Виктория, прерванная в самый разгар своих радужных мыслей, торопливо схватилась за вещи.
– Не спешите, еще не пора, тут до вокзала долго ехать, чуть ли не полчаса, – успокоила ее дочка. – Красиво, правда?! Обожаю старые города!
Виктория полностью разделяла ее восторги. Ей тоже всегда нравились старинные города. Они как антикварная вещь: их можно рассматривать до бесконечности. Вот так возьмешь какую-нибудь серебряную солонку из далекого века, начнешь вертеть ее перед глазами: кто те люди, первыми насыпавшие в нее соль, какая судьба была им уготована, сколько соли было съедено за семейным столом, какие разговоры слышала солонка? Никто не знает. Один Господь. Можно, конечно, пофантазировать, но это не то. Как бы узнать наверняка? Если бы только вещи могли говорить… Но они молчат – хранят семейные тайны.
Вечернее солнце в самом выгодном свете представляло старые, столь непохожие на московские, дома, уютные дворики, полные деревьев и цветов, узкие улочки… Вот из окна в окно на уровне третьего этажа протянута веревка, и на ней висит белье. Надо же, как это мило! Подобную картину Виктория недавно видела в каком-то итальянском фильме, годов, кажется, пятидесятых. Когда все эти хлопоты закончатся, они с Игорем обязательно поедут в Италию. Будут гулять, взявшись за руки, по таким вот старинным улочкам, мощенным булыжником, будут пить местное вино, есть настоящие спагетти, кормить голубей на главной площади Рима, увидят Колизей, Пизанскую башню, Флоренцию и Венецию… Да-да, Венецию! Закажут гондолу и всю знойную южную ночь будут плавать по каналам, а стройный гондольер со жгучими очами будет чудным голосом петь им баркаролу.
– Ну, подвинься, совсем меня в угол оттеснила! – старшая попутчица шутливо толкнула дочь округлым бедром.
– Сама подвинься, все окно занимаешь! – повторила ее движение младшая.
Соседки по купе весело завозились, и Виктория посмотрела на них с нескрываемой завистью. Ничего подобного в отношениях со своей матерью она и представить себе не могла. Ни о какой возне, шутках, необидных подначиваниях не могло быть и речи. Тем более о взаимной откровенности, доверительных разговорах, обмене душевными переживаниями. С самого детства Виктория привыкла носить все свои радости и горести только в себе. Знала – ее никогда не поймут, более того, осудят и накажут. И очень рано научилась выдавать вслух только то, что от нее хотели услышать. Потому что мать, пока была жива, ни на минуту не прекращала своих расспросов. Мария Львовна хотела знать о своей дочери буквально все, вмешивалась в каждую сторону ее жизни, контролировала каждый шаг – где она бывает, с кем говорит по телефону, во сколько приходит домой и даже о чем задумалась. Не помогали ни отмалчивания, ни слезы, ни скандалы, ни серьезные разговоры, ставящие своей целью втолковать тезис «я уже взрослая». Диктат матери продолжался до самой ее смерти. И касался всего, даже одежды, которую носила ее дочь.
Никогда в жизни Виктория не могла позволить себе красиво и модно одеваться. И совсем не потому, что у нее, как у большинства ее сверстниц, чья молодость пришлась на шестидесятые, не было на то средств или возможностей, как тогда говорили, «достать» нечто приличное. Наоборот, денег в семье хватало, и родители, если бы захотели, вполне были в состоянии без всякого ущерба для семейного бюджета приобрести единственной дочери модные вещи. Но Мария Львовна была убеждена, что все эти кофточки-лапши, расклешенные кримпленовые брюки и джинсы – неподходящая одежда для девушки или молодой женщины. Не говоря уже о мини-юбках и декоративной косметике – о, это ужасно, вызывающе, вульгарно! В таком виде только на панель! Оттого почти до пятидесяти лет Вика проходила в каких-то мешковатых костюмах тусклых цветов, сшитых материными портнихами, а из косметики ей было разрешено пользоваться лишь кремами и лосьоном да изредка – легкими ненавязчивыми духами.
Разумеется, одним только внешним обликом Вики дело не ограничивалось. Мария Львовна, казалось, поставила себе в лице дочери какую-то непонятную цель, которой надо или добиться, или умереть, и с тех пор занималась ее воспитанием с таким остервенением, с которым садист-прапорщик муштрует провинившегося новобранца.
В детстве Вике запрещалось не только дружить, но даже общаться с ребятами, чьих родителей Мария Львовна считала «неподходящими», не разрешалось гулять во дворе, играть в шумные игры, смотреть телевизор больше двух часов в неделю, нарушать режим дня. Спать она должна была ложиться ровно в девять – и это несмотря на то, что она всегда была ярко выраженной «совой», – с огромным трудом вставала, все утро ходила сонной и разбитой и собственно просыпалась-то только после обеда. И чем старше становилась Виктория, тем больше появлялось запретов. Ее подруги наряжались, то и дело меняли модные прически, ходили друг к другу в гости, в кино и на танцы, влюблялись и встречались с парнями. На переменах в школе они, собравшись в кружок, обсуждали новые фильмы или рассказывали о своих приключениях, Вика же стояла в стороне и зубрила ненавистную химию, физику, алгебру… Не дай бог ей было получить даже четверку – мать тут же поднимала крик. «Ты позоришь отца!» – вопила она. После школы Вику ждали не прогулки и развлечения, а занятия музыкой и иностранными языками. А вечером, когда сгущались поздние весенние сумерки и со двора доносились веселый смех и неумелые гитарные переборы, Вика неминуемо отправлялась в постель. В старших классах время отбоя ей милостиво сместили с девяти часов на десять. Но не секундой позже!
«Ты должна быть такой, чтобы отец тобой гордился!» – эти слова преследовали Викторию всю жизнь. Ради отца она должна была учиться на отлично, соблюдать режим дня и вообще быть во всем «хорошей девочкой». И Вика безропотно подчинялась, несмотря на то что довольно быстро поняла – вся эта муштра нужна была только матери, но никак не отцу. Генерал, как раз наоборот, был снисходителен к ней, баловал дочку и почти не бывал с ней строг. Но Марии Львовне все-таки удалось возвести стену между отцом и дочерью. Виктория обожала отца, но в то же время постоянно чувствовала некоторую дистанцию. Он был для нее чем-то священным – а значит, почитаемым, но недосягаемым. Она боготворила отца, героя Советского Союза, кавалера многих орденов и красавца – мужчину. Идя с ним за руку по улице, она каждый раз бывала вне себя от счастья и гордости. А когда он прижимал ее к себе или целовал, Вика тихо млела, буквально задыхаясь от неги и нежности, и в этом чувстве было что-то стыдное, неприличное, как сказала бы Мария Львовна, если бы дочь имела наивность поделиться с нею своими переживаниями. Отцовский запах, сочетавший в себе ароматы чистого мужского тела, хорошего одеколона и сладковатого табака «Золотое руно», Виктория запомнила навсегда. И никогда не смогла бы влюбиться в некурящего мужчину, от которого не пахло бы табаком.
Был в жизни Вики и другой человек, которого она обожала, – Берта, дочь домработницы Баси. Берта была старше на два года, а, как известно, два года в детстве – это целая эпоха. Берта была для Вики не просто старшей подругой и непререкаемым авторитетом, она была идеалом, к которому всегда хотелось стремиться. Ловкая, отчаянная, изобретательная и бесстрашная, Берта ничего не боялась и всегда знала, как выйти из любой переделки. Трусоватой Вике оставалось только завидовать и восхищаться. Как ни странно, сначала Мария Львовна не препятствовала их дружбе, и все дошкольное детство Берта была практически единственной сверстницей, с которой Вика общалась. Когда подруга стала чуть старше, ее отдали в спортивную школу, она стала реже появляться дома, и Вика очень страдала в разлуке. Но тем привлекательнее были нечастые встречи. Берта была такой красивой, такой бойкой, такой уверенной в себе! Начиная со средних классов, у нее уже появились поклонники. Но при этом она совсем не задавалась, не дразнила Вику и не унижала ее, наоборот, всегда стремилась ее понять и стать на ее сторону. Тайком девочки разговаривали о таких вещах, о которых с Викой никто никогда не говорил. К Берте можно было подойти с любым вопросом, она никогда не дразнилась, не поднимала на смех и всегда отвечала, для чего у человека пупок, почему некоторые фильмы не разрешают смотреть детям до шестнадцати и что значит слово, услышанное на улице. Именно она рассказала младшей подруге об отношениях мужчин и женщин. Без Берты Вика, наверное, до самого замужества бы думала, что влюбленные наедине только целуются, а детей покупают в специальных магазинах.
А потом, Виктория отлично помнила это время, ей было пятнадцать лет, все как-то вдруг резко переменилось. Берта стала нервной, вспыльчивой, избегала откровенных разговоров, легко могла сорваться на крик или на слезы, чего за ней даже в детстве не водилось. Удивленная состоянием подруги, Вика почти не замечала того, что и со взрослыми стало твориться что-то странное – Бася непривычно молчала целые дни и постоянно ходила с заплаканными глазами, мать и отец разговаривали на повышенных тонах и всегда замолкали при появлении Вики. Генерал старался как можно реже бывать дома, Мария Львовна днем и ночью пилила дочь, кричала на нее или читала нотации.
Как-то раз Вика вдруг заметила, что подруга поправилась – расплылась в талии, и у нее даже появился живот, что очень странно смотрелось на ее худенькой спортивной фигурке.
– Берта, как ты потолстела! – ахнула девочка. – Что с тобой? Ты больна?
– Дура, я беременна! – огрызнулась Берта.
– Что ты говоришь? Как же это так? От кого?
– Не твое дело. Отвали! – еще более грубо отвечала та. Вика испугалась и не решилась задавать вопросы, хотя ей и очень хотелось узнать, что же произошло.
У Берты родился сын, Герман. Вика, как большинство девочек ее лет, была очень рада возможности поиграть в живую куклу и с нетерпением ждала, когда же ребеночка принесут из роддома. Берту с мальчиком встречали только Бася и шофер. Генерал заранее – он был в какой-то длительной командировке – распорядился, чтобы за ними послали машину. Вика очень просилась с ними, но Мария Львовна не позволила ей пропустить занятия. Но, разумеется, вернувшись из школы, Вика даже не зашла домой, а сразу же побежала к соседям.
– Знаешь, он такой смешной! – взахлеб рассказывала она потом матери. – Ручки маленькие, пальчики крохотные! Когда плачет, то становится весь красный и так забавно морщится! А еще он лысенький! Только на затылке волосы, ну прямо как у папы.
Лицо Марии Львовны сделалось землисто-серого цвета, потом налилось кровью. Она начала кричать на дочь и вопила так, как до этого никогда в жизни на нее не орала.
– Не смей водиться с детьми прислуги! Чтобы ноги твоей никогда в этом доме не было! Ты, генеральская дочь, опустилась до того, чтобы нянчить бастарда, ублюдка, рожденного малолетней шлюхой! Не вздумай с ней больше и слова перемолвить, слышишь!
Вика испуганно вжалась в стену.
– Хорошо, мама, я больше никогда… – пролепетала она. И с тех пор долгое время не смела не только зайти в соседнюю квартиру или заговорить с Бертой, но даже взглянуть на мальчика. Нянчила Германа в основном Бася, каким-то чудом успевавшая и продолжать свою работу в доме Курнышовых, и ухаживать за младенцем. Берта почти не занималась сыном. Сначала она впала в апатию, круглые сутки была словно во сне, но потом, стараниями все той же Баси, потихоньку стала выкарабкиваться и возвращаться к прошлой жизни. Она опять занялась спортом, снова начала смеяться, встречаться со старыми друзьями и поклонниками, заводила новых. Словом, через год после родов она стала почти прежней, вот только былой близости между ней и Викой уже не было, да и быть не могло. А потом вдруг Берта погибла – внезапно и нелепо. Это было страшным ударом для всех. Вика каждую ночь тайком ревела в подушку, на Басе лица не было, и никто не сомневался, что если бы не маленький Герман, который лишь недавно выучился ходить и еще почти не говорил, домработница не пережила бы этой потери. Даже генерал ходил туча тучей. И только Мария Львовна, внешне полная сочувствия к Басе, ничуть не грустила. Вика то и дело видела на ее лице какое-то странное, словно бы торжествующее, выражение и постоянно слышала, как мать, оставшись одна, каждый раз весело напевает хабанеру из «Кармен»: «Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей!» Мать словно бы радовалась смерти ее подруги.
Но гибель Берты случилась уже после той истории с днем рождения, перевернувшей всю жизнь Вики. Дело в том, что на молодежных сборищах она бывала крайне редко. У Виктории было лишь три знакомые сверстницы, общение с которыми было разрешено матерью, – две дочери друзей семьи и одна соученица по музыкальной школе. У них в гостях она иногда бывала – нечасто и только в сопровождении родителей. А если ее вдруг приглашали в незнакомый дом, Мария Львовна сперва всегда учиняла пристрастный допрос: что за девочка позвала, из какой она семьи, где живет? (О том, чтобы пойти в гости к мальчику, разумеется, не могло быть и речи.) Затем звонила посоветоваться с классной руководительницей или педагогом по музыке. И минимум в двух третях случаев заявляла: «Нет, Виктория, ты туда не пойдешь! Эта девочка не из нашего круга, у тебя не может быть с ней ничего общего!»
Если же именинница все же проходила первоначальную цензуру, Мария Львовна, выбрав подарок по собственному усмотрению, провожала дочь до самых дверей и непременно знакомилась с родителями, окинув строгим взглядом всю квартиру. Чаще всего ей предлагали остаться, если же этого не случалось, мать удалялась, но возвращалась ровно в девять часов и забирала дочь, не внемля никаким уговорам.
В девятом классе к ним в школу пришла новенькая, переехавшая из другого района, Танюшка Мартынова, хорошенькая, веселая и очень компанейская. В начале октября у нее был день рождения, и она пригласила к себе целую толпу народу, в том числе и Вику Курнышову. «Приходи обязательно! Такая здоровская компашка собирается! У моего старшего брата такие клевые друзья! На гитаре играют, поют… Леха обещал отпадные записи принести, потанцуем! Будет очень весело, я тебе обещаю». Виктория страшно боялась, что Танюшка не выдержит материного «отбора» – ей очень хотелось побывать у новенькой и подружиться с ней. Но все обошлось. Выяснилось, что отец Тани служит в Министерстве рыбного хозяйства, а мать преподает в университете. Это было достойное общество, и Мария Львовна милостиво разрешила дочери побывать у Мартыновых.
Стояло бабье лето, день выдался ясный, совсем не по-осеннему теплый и солнечный, клены, ясени и каштаны с мягким шуршанием роняли разноцветную листву. В душе Вики все пело. Она шла рядом с матерью по бульвару и тайком мечтала. Ей почему-то казалось, что именно на этой вечеринке она встретит свою первую любовь. Он обязательно будет высоким, статным и плечистым. Точь-в-точь как отец…
Но ее грезам не суждено было сбыться. Мария Львовна сама позвонила в дверь квартиры и, едва поздравив головокружительно хорошенькую именинницу, тут же заявила:
– Таня, я хотела бы познакомиться с твоими родителями!
– А их нет, – растерянно отвечала Танюшка. – Они к бабушке уехали на весь вечер, будут часам к одиннадцати.
– Вот как! – Сросшиеся брови Марии Львовны слились в единую черную линию. – Ну что же, тогда мы уходим.
– Мама! – застонала Вика.
Высыпавшие на порог квартиры празднично одетые девчонки и ребята хором стали убеждать Марию Львовну, что ей нечего бояться за Викторию, что здесь все приличные люди.
– И не уговаривайте меня, – холодным тоном заявила Мария Львовна. – В нашей семье не принято оставлять детей одних. Тем более, – она обвела компанию многозначительным взглядом, – мальчиков и девочек.
«Дети», кто с пробивающимся пушком над верхней губой, кто с двумя уже оформившимися пышными бугорками под кофточками, виновато улыбались, как бы извиняясь, что они не из таких семей.
– Ну, мамочка, ну я тебя очень прошу! – взмолилась Вика. Но именно в это время, как назло, снизу послышался шум голосов. По лестнице подтягивалась основная компания мальчишек. На ходу, вытаскивая из карманов белые и красные винные припасы, они демонстративно потрясли ими перед столпившимися ребятами:
– А вот и легкая артиллерия пожаловала!
Мария Львовна побелела, потом покраснела:
– Что это? Боже мой! Вино? Кто… Кто вам разрешил?..
– Не понял, – удивился очень похожий на Танюшку блондин в очках, сжимавший в руках две бутылки «Улыбки».
– Я спрашиваю, – чеканила Мария Львовна, – кто разрешил вам пить?!
На площадке повисла тишина. Виктория от стыда была готова провалиться сквозь все лестничные марши.
– Мамаша, – пробасил темноволосый парень в вельветовом пиджаке, – вы нас обижаете! Мы пришли к сестре нашего друга на шестнадцатилетие с самыми добрыми намерениями. Мы же не алкоголики какие-нибудь!.. Как вы думаете, четыре бутылки на пятнадцать человек – это много?
– Я вам не мамаша, это во-первых! А во-вторых, все и начинается с одной рюмки!
– «Все» – это что?
– Все – это рестораны, гулянки, компании подозрительные! – Мария Львовна обвела ребят таким взглядом, что ни у кого не осталось сомнений, что такая компания – это они. – А там и до тюрьмы недалеко.
– Невеселое, однако, у нас будущее, – покачал головой юноша в вельветовом пиджаке.
– А вы как думали?.. Если собираться в таком возрасте, чтобы по стаканам разливать…
– А мы еще целоваться умеем, – улыбнулся похожий на именинницу блондин в очках. – Это тоже к тюрьме дорожка?
– Та-а-ак, – протянула Мария Львовна и повернулась к Виктории. – Ты видишь, куда ты попала? – Она взяла дочь за руку, обвела всех уничтожающим взглядом и со словами: – А с вами, я думаю, ваша школьная комсомольская организация разберется! – стала спускаться вниз, таща за собой Вику. Та покорно поплелась за ней. Путь в эту замечательную компанию был для нее теперь закрыт, не оставалось ничего другого, как с позором удалиться.
– Ты хоть представляешь, от чего я тебя уберегла? – внушала Мария Львовна весь обратный путь. – Боже мой, боже мой!.. Какой ужас! Разврат! Алкоголь, мальчишек полна квартира… И родителей нет дома! Как это… Как неприлично!
Весь неудавшийся вечер Виктория проплакала в своей комнате, так и не сняв платья, считавшегося у нее нарядным. А когда, кое-как успокоившись, побрела в ванную умыться, то услышала из-за неплотно прикрытой двери кабинета гневный голос матери. До нее доносились слова «безобразие», «распущенность», «я этого так не оставлю», «надо принимать меры» и коронное «неприлично».
«Классной звонит, – с ужасом догадалась Вика. – «Сигналит». Все, мне конец…»
День рождения Танечки праздновался в субботу. Утром в понедельник Вика сослалась на боль в горле и не пошла в школу. Но во вторник этот номер уже не прошел. Мария Львовна заставила смерить температуру и стояла над дочерью все десять минут, не давая возможности прислонить градусник к батарее, натереть его об одежду или прибегнуть к каким-либо другим, знакомым каждому школьнику ухищрениям.
– Тридцать шесть и семь! – сказала мать, стряхивая градусник. – Не выдумывай, с тобой все в порядке. Поднимайся да собирайся побыстрее, а то опоздаешь в школу.
«Может быть, еще все обойдется, – уговаривала себя Вика. – Может быть, все обойдется…»
Но увы! Первое, что увидела Виктория, войдя в школьное здание, было объявление о внеочередном комсомольском собрании. На повестке дня стоял вопрос о недостойном поведении комсомолки Мартыновой. Вика так и замерла у доски объявлений.
– Курнышова, вот ты где! – поймал ее за коричневый шерстяной рукав секретарь комсомольской организации десятиклассник Леня Костюков. – Я тебя второй день по всей школе ищу. Объявление о собрании видела? Будем прорабатывать. Для тебя явка обязательна. И подготовь выступление о моральном разложении Мартыновой.
– Какое… выступление? – еле смогла выдавить из себя Вика.
– Ну, про сборища, которые она у себя устраивает. Про эти, как их… Про оргии. Выпивка там и прочее разложение… Ты же очевидец!
– Я не смогу… Я не знаю, что говорить…
– Да брось ты, придумаешь! Про пьянки, про разврат, про несознательность, несовместимую с обликом комсомольца и будущего строителя коммунизма… Да разберешься, мать попроси помочь в крайнем случае… Значит, чтобы завтра после шестого урока была, как штык!
Вика развернулась и выбежала из школы. Первый раз за все учебные годы она прогуляла занятия. Пока не стемнело, она бродила по улицам и пыталась что-нибудь придумать, но ничего подходящего в голову так и не пришло. И посоветоваться было не с кем. Единственным человеком, который мог бы ей помочь, была Берта. Но у той шел девятый месяц беременности, и ей, конечно, было не до Вики и ее проблем.
А дома ожидала грозная Мария Львовна, которая уже каким-то непонятным образом была в курсе всех событий. Такого скандала, который случился вечером, ко всему привычные Курнышовы еще не видывали. Вика первый и последний раз в жизни попыталась возразить матери. Но стоило ей заикнуться, что она не хочет идти на комсомольское собрание и обвинять Танечку, как мать словно с цепи сорвалась:
– Да как ты смеешь! Ты сама не понимаешь, что говоришь! Это твой священный долг как комсомольца и порядочной девушки!
Вика замолчала и только перевела полный мольбы взгляд на отца, который присутствовал тут же. Генерал вздохнул и как-то неохотно вступил в разговор:
– Маша, может быть, и правда не стоит… Это же может испортить чужую жизнь! В конце концов, ребята не делали ничего такого…
Но Мария Львовна не дала ему договорить:
– Ничего такого? Ты хочешь сказать, что пьянка в этом возрасте – это ничего такого! Развратная вечеринка с мальчишками – это ничего такого? Ты хочешь, чтобы наша дочь пошла по рукам? И принесла бы в подоле в семнадцать лет? По примеру своей подружки Берты? О, эта малолетняя потаскушка еще себя покажет, вот увидишь! А ты хочешь такой же судьбы для Вики?
Генерал весь побелел, но ничего не сказал, молча встал и вышел из столовой, хлопнув дверью. Вика проводила его бессильным взглядом. В лице отца ее покидала последняя надежда.
Мария Львовна тоже поглядела ему вслед и обернулась к дочери:
– Тебе все ясно? Завтра, как миленькая, пойдешь на собрание и выступишь там. Я сама напишу тебе, что нужно говорить. И не вздумай притворяться больной! Все эти твои детские хитрости шиты белыми нитками.
Вика побрела в свою комнату в том состоянии, в котором, наверно, в древние времена осужденные шли на эшафот. В коридоре кто-то осторожно тронул ее за плечо. Девушка испуганно обернулась и увидела домработницу Басю, протягивавшую ей какой-то пузырек коричневого стекла.
– Что это?
– Касторка. Хватит одной столовой ложки.
– Басенька! Спасительница ты моя!
Вместо одной ложки Вика, зажав нос и затаив дыхание, выпила целых две и страдала потом несколько дней. И родители ни о чем не догадались. Мария Львовна решила, что с Викой от волнения случилась «медвежья болезнь», и осуждала дочь за малодушие, но ничего не могла поделать. А генерал, как мог, оправдывал Вику, напоминая жене, что на войне подобные вещи сплошь и рядом случались даже с сильными мужчинами.
Так предложенная Басей решительная мера спасла Вику от ненавистного собрания. Как потом рассказывали, оно вышло несколько скомканным и практически не достигло своей цели – «свидетели» жались и мямлили что-то невразумительное, Танечка держалась стойко и все отрицала, а Серега, ее старший брат, выступил, как адвокат, с оправдательной речью, во время которой приводил примеры из современной советской литературы о молодежи и размахивал Таниными почетными грамотами, выданными в старой школе. В результате Мартыновой даже выговора не удалось вкатить – оказалось не за что. И история эта закончилась благополучно для всех ее участников, кроме одной – Вики Курнышовой.
Как известно, общественное мнение – штука коварная. Что именно случилось – ты ли пальто украл, у тебя ли его украли, – быстро забывается, а память о том, что с тобой было связано что-то нехорошее, остается надолго. После тех злосчастных событий за Викой, в общем-то ни в чем не виноватой, прочно укрепилась репутация доносчицы.
Одноклассники отвернулись от нее, в глаза и за глаза именовали не иначе как стукачкой. Ей, как это называлось в то время, объявили бойкот. С Курнышовой никто не общался, девочка, сидевшая с ней за одной партой, попросила классную пересадить ее на другой ряд – якобы ей дует из окна, а у нее слабое здоровье. Как ни странно, единственным человеком, который не бросил Вику, была сама Таня Мартынова. Но, как назло, она очень скоро уехала – ее отцу предложили работу в Чехословакии, – и на два долгих оставшихся года школьная жизнь превратилась для Вики в настоящий ад. Представить себе, что именно чувствует изгой в детском или юношеском коллективе, может только тот, кто сам пережил нечто подобное. О своих старших классах Виктория до сих пор вспоминала с содроганием, не понимая, как же ей удалось справиться со всем этим кошмаром. Однажды, уже в десятом классе, она даже попыталась покончить с собой, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не все та же вездесущая Бася…
Виктория потрясла головой, чтобы отогнать неприятные воспоминания. Не стоит сейчас об этом думать. Теперь все позади. Все хорошо. Есть Игорь. И есть дело, которое привело ее сюда.
Лучше думать о деле, о брате Германе, о предстоящей встрече с ним. Интересно, узнают ли они друг друга в толпе на вокзале? Все-таки восемь лет не виделись! Правда, Бася все время показывает Виктории фотографии, которые внук ей регулярно присылает. А две из них – свадебная, где Герман со своей совсем юной невестой сняты на смотровой площадке на фоне Львова, и увеличенная фотография их годовалой дочки – стоят у нее в квартире на самом видном месте. Интересно, как Герман выглядит сейчас?
Как все-таки странно, как нелепо складывались все это время их отношения с братом! Пока она тянула жалкое существование, которое, за неимением другого опыта, называла жизнью, Герман потихоньку рос. Он был сначала трогательно-милым ребенком, потом озорным мальчишкой, потом умненьким подростком… Этот мальчик, немного похожий на ее лучшую и единственную подругу, всегда нравился Виктории, но она слишком боялась матери, чтобы это как-то проявлять, пусть даже и в ее отсутствие, и только изредка, тайком, передавала Басе для него маленькие подарки, какую-нибудь импортную шоколадку, жвачку или его любимые марки – и то просила не говорить от кого. Она почти никогда не разговаривала с ним – но лишь от застенчивости, поскольку совершенно не умела общаться с детьми, тем более с мальчишками. Не задавать же ему дурацких вопросов «Как ты учишься?» и «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» – Вика сама еще прекрасно помнила, как раздражают юного человека такие вот устраиваемые взрослыми допросы. А заговорить о чем-то другом, самой рассказывать что-то или предложить поиграть она просто-напросто стеснялась.
О том, что Герман ее сводный брат и сын ее замечательного отца, Вика узнала очень поздно. И долго удивлялась – как же она раньше не догадалась! Ведь об этом говорило все – от внешнего сходства до странного поведения матери. Но Вика ни о чем не подозревала, не заподозрила даже и тогда, когда услыхала, как генерал перед первым сентября велел Басе подсчитать, что нужно мальчику для школы, начиная с прописей и карандашей и заканчивая школьной формой и осенней курткой. И выдал домработнице всю необходимую сумму для покупок, а ранец выбрал сам, лично. И так продолжалось четыре года, до самой его смерти, а Вика при этом только гордилась своим отцом, тем, какой он молодец, но и мысли не допускала, что его внимание к Герману – это не просто помощь домработнице, в одиночку поднимающей внука…