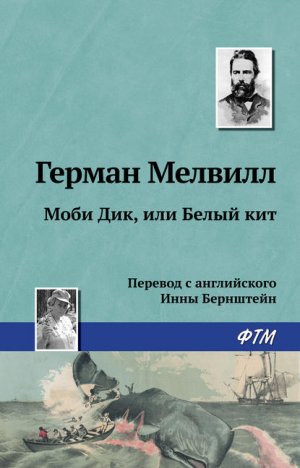
Этимология
(Сведения, собранные Помощником учителя классической гимназии, впоследствии скончавшимся от чахотки)
Я вижу его как сейчас – такого бледного, в поношенном сюртуке и с такими же поношенными мозгами, душой и телом. Он целыми днями стирал пыль со старых словарей и грамматик своим необыкновенным носовым платком, украшенным, словно в насмешку, пёстрыми флагами всех наций мира. Ему нравилось стирать пыль со старых грамматик; это мирное занятие наводило его на мысль о смерти.
«Если ты берёшься наставлять других и обучать их тому, что в нашем языке рыба-кит именуется словом whale, опуская при этом, по собственной необразованности, букву h, которая одна выражает почти всё значение этого слова, ты насаждаешь не знания, но заблуждения».[2]
Хаклюйт
«Whale*** шведск. и датск. hval. Название этого животного связано с понятием округлости, так как по-датски hvalt означает „выгнутый, сводчатый“».
Словарь Вебстера
«Whale*** происходит непосредственно от голландского и немецкого wallen, англосакск. walw-ian – „кататься, барахтаться“».
Словарь Ричардсона
Древнееврейское –
Греческое – ?????
Латинское – cetus
Англосаксонское – wh?l
Датское – hvalt
Голландское – wal
Шведское – hwal
Исландское – whale
Английское – whale
Французское – baleine
Испанское – ballena
Фиджи – пеки-нуи-нуи
Эрроманго – пехи-нуи-нуи
Извлечения
(Собранные Младшим Помощником библиотекаря)
Читатель сможет убедиться, что этот бедняга Младший Помощник, немудрящий буквоед и книжный червь, перерыл целые ватиканские библиотеки и все лавки букинистов на свете в поисках любых – хотя бы случайных – упоминаний о китах, которые могли только встретиться ему в каких бы то ни было книгах, от священных до богохульных. И потому не следует во всех случаях понимать эти беспорядочные китовые цитаты, хотя и несомненно подлинные, за святое и неоспоримое евангелие цетологии. Это вовсе не так. Отрывки из трудов всех этих древних авторов и упоминаемых здесь поэтов представляют для нас интерес и ценность лишь постольку, поскольку они дают нам общий взгляд с птичьего полёта на всё то, что только ни было когда-либо, в любой связи и по любому поводу, сказано, придумано, упомянуто и спето о Левиафане[3] всеми нациями и поколениями, включая теперешние.
Итак, прощай, бедняга Младший Помощник, чьим комментатором я выступаю. Ты принадлежишь к тому безрадостному племени, которое в этом мире никаким вином не согреть и для кого даже белый херес оказался бы слишком розовым и крепким; но с такими, как ты, приятно иногда посидеть вдвоём, чувствуя себя тоже несчастным и одиноким, и, упиваясь пролитыми слезами, проникаться дружелюбием к своему собеседнику; и хочется сказать вам прямо, без обиняков, пока глаза наши мокры, а стаканы сухи и на сердце – сладкая печаль: «Бросьте вы это дело, Младшие Помощники! Ведь чем больше усилий будете вы прилагать к тому, чтобы угодить миру, тем меньше благодарности вы дождётесь! Эх, если б мог я очистить для вас Хэмптон-Корт[4] или Тюильрийский дворец![5] Но глотайте скорее ваши слёзы и вскиньте голову, воспарите духом! выше, выше, на самый топ грот-мачты! ибо товарищи ваши, опередившие вас, освобождают для вас семиэтажные небеса, изгоняя прочь перед вашим приходом истинных баловней – Гавриила, Михаила и Рафаила[6]. Здесь мы только чокаемся разбитыми сердцами – там вы сможете сдвинуть разом свои небьющиеся кубки!»
«И сотворил бог больших китов».
Бытие
«За Левиафаном светится стезя,
Бездна кажется сединой».
Иов
«И предуготовил Господь большую рыбу, чтобы поглотила Иону».
Иона
«Там плавают корабли; там Левиафан, которого Ты сотворил играть в нём».
Псалмы
«В тот день поразит Господь мечом Своим тяжёлым, и большим, и крепким, левиафана, змея прямобегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьёт змея морского».[7]
Исайя
«И какой бы ещё предмет ни очутился в хаосе пасти этого чудовища, будь то зверь, корабль или камень, мгновенно исчезает он в его огромной зловонной глотке и гибнет в чёрной бездне его брюха».
Холландов перевод «Моралий» Плутарха
«В Индийском Море водятся величайшие и огромнейшие рыбы, какие существуют на свете; среди них Киты, или Водокруты, именуемые Balaene, которые имеют в длину столько же, сколько четыре акра, или арпана, земли».[8]
Холландов перевод Плиния
«И двух дней не провели мы в плавании, как вдруг однажды на рассвете увидели великое множество китов и прочих морских чудовищ. Из них один обладал поистине исполинскими размерами. Он приблизился к нам, держа свою пасть разинутой, подымая волны по бокам и вспенивая море перед собою».[9]
Тук. Перевод «Правдивой Истории» Лукиана
«Он прибыл в нашу страну также ещё и для того, чтобы ловить здесь китов, ибо клыки этих животных дают очень ценную кость, образцы коей он привёз в дар королю***. Наиболее крупные киты, однако, вылавливаются у берегов его родины, из них иные имеют сорок восемь, иные же пятьдесят ярдов в длину. Он говорит, что он – с ним ещё пятеро – убили по шестьдесят китов за два дня».[10]
Рассказ Оттара, или Охтхере, записанный с его слов королём Альфредом в год от Рождества Христова 890
«И между тем как всё на свете, будь то живое существо или корабль, безразлично, попадая в ужасную пропасть, какую являет собой глотка этого чудовища (кита), тут же погибает, поглощённое навеки, морской пескарь сам удаляется туда и спит там в полной безопасности».[11]
Монтень. «Апология Реймонда Себона»
«Бежим! Провалиться мне на сём месте, это Левиафан, которого доблестный пророк Моисей описал в житии святого человека Иова».[12]
Рабле
«Печень этого кита нагрузили на две телеги».[13]
Стоу. «Анналы»
«Великий Левиафан, заставляющий море пениться, подобно кипящему котлу».[14]
Лорд Бэкон. Перевод Псалмов
«Касательно же чудовищной туши кита, или орки, мы не располагаем сколь-нибудь определёнными сведениями. Оные существа достигают чрезвычайного объёма, так что из одного кита может быть получено прямо-таки невероятное количество жира».[15]
«История жизни и смерти»
«Король Генрих IV»
- «И хвалил мне спермацет
- Как лучшее лекарство от контузий».
«Гамлет»
- «Очень похоже на кита».
«Королева фей»
- «Кто может днесь его остановить?
- Он рвётся в бой и кровию залитый,
- Чтоб низкому обидчику отмстить.
- Не примет он пощады и защиты.
- Так к брегу по волнам несётся кит подбитый».[16]
«…грандиозен, точно кит, который движениями своего гигантского тела заставляет вскипать океан даже в мёртвый штиль».[17]
Сэр Уильям Давенант. Предисловие к «Гондиберту»
«Что представляет собой спермацет, этого люди, по правде говоря, не знают, ибо даже ученейший Хофманнус после тридцатилетних исследований открыто признал в своей книге: nescio quid sit»[18].[19]
Сэр Т. Браун. «О спермацете и спермацетовом ките». См. его «Трактат о распространённых заблуждениях»
- «Как Спенсеров герой своим цепом,
- Хвостом он сеет смерть и страх кругом.
«В боку несёт он копий целый лес,
Плывя вперёд, волнам наперерез».[20]
Уоллер. «Битва у Летних островов»
«Искусством создан тот великий Левиафан, который называется государством (по-латыни Civitas) и который является лишь искусственным человеком».[21]
Гоббс. Вводный параграф из «Левиафана»
«Неосторожный город Мэнсуол так и заглотал его целиком, точно кит рыбёшку».[22]
«Путь Паломника»
«Потерянный рай»
- «Тот зверь морской,
- Левиафан, кого из всех творений
- Всех больше создал бог в пучине водной».[23]
Там же
- «Левиафан,
- Величественнейший из божьих тварей,
- Плывёт иль дремлет он в глуби подводной,
- Подобен острову плавучему. Вдыхая,
- Моря воды он втягивает грудью,
- Чтобы затем их к небесам извергнуть».
«Величавые киты, что плавают в море воды, в то время как море масла плавает в них».[24]
Фуллер. «Мирская и божественная власть»
Драйден. «Annus Mirabilis»
- «Левиафан, за мысом притаясь,
- Добычу поджидает без движенья,
- И та в разверстую стремится пасть,
- Вообразив, что это – путь к спасенью».[25]
«Покуда туша кита остаётся на плаву у них за кормой, голову его отрубают и на шлюпке буксируют как можно ближе к берегу, но на глубине двенадцать-тринадцать футов она уже задевает за дно».
Томас Эдж. «Десять рейсов на Шпицберген».У Парчесса
«По пути они видели много китов, резвившихся в океане и для забавы посылавших к небу через трубы и клапаны, которые природа расположила у них в плечах, целые снопы водяных брызг».[26]
Сэр Т. Герберт. «Путешествия в Азию и Африку».Собрание Гарриса
«Здесь они встретили такие огромные полчища китов, что принуждены были вести свой корабль с величайшей осторожностью из опасения налететь на одну из этих рыб».
Скаутон. «Шестое кругосветное плаванье»
«При сильном норд-осте мы отплыли из устья Эльбы на корабле „Иона-в-Китовом-Чреве“***.
Некоторые утверждают, что кит не может открыть пасть, но это всё выдумки***.
Матросы обычно забираются на верхушки мачт и высматривают оттуда китов, так как первому, кто заметит кита, выдаётся в награду золотой дукат***.
Мне рассказывали, что у Шетландских островов был выловлен один кит, в брюхе у которого нашли селёдок больше чем на целую бочку***.
Один наш гарпунщик говорит, что как-то у Шпицбергена он забил кита, который был с головы до хвоста весь белый».
«Плавание в Гренландию» 1671 года по Р. X.Собрание Гарриса
«Здесь, на побережье Файфа, море иногда выбрасывает на сушу китов. В лето от Рождества Христова 1652 на берег был выброшен один кит, имевший восемьдесят футов в длину и относившийся к разновидности усатых; как мне сообщили, из его туши было добыто, помимо большого количества жира, не менее 500 аршин китового уса. Его челюсть установлена в виде арки в саду Питферрена».[27]
Сиббальд. «Файф и Кинросс»
«Тут я сказал, что и я, пожалуй, попробую, не удастся ли мне осилить и убить того спермацетового кита, хотя мне не приходилось слышать, чтобы такие, как он, когда-либо погибали от руки человека, – настолько они стремительны и свирепы».
Ричард Страффорд.«Письмо с Бермудских островов».Филологич. записки, 1688
«Киты в морях
Гласу божьему внемлют».
Букварь. Изд. в Новой Англии
«Здесь мы встретили также великое множество крупных китов, которых в Южных морях приходится, я бы сказал, штук по сто на одного, обитающего на Севере».
Капитан Каули. «Кругосветное плаванье», 1729 г. от Р. X.
«*** а дыхание кита часто имеет чрезвычайно сильный запах, от которого может наступить помутнение мозгов».[28]
Уллоа. «Южная Америка»
«Похищение локона»
- «Заботу же о нижней юбке лучше
- Пятидесяти верным сильфам препоручим.
- Ведь эта крепость уж не раз была взята,
- Хоть укрепляют стены рёбрами кита».[29]
«Если мы сравним по величине наземных животных с теми, что обитают в глубине моря, мы обнаружим, что размеры первых просто ничтожны. Кит, вне всякого сомнения, есть величайшая из тварей божьих».[30]
Голдсмит. «Естественная история»
«Если б Вы вздумали писать сказку для маленьких рыбок, они бы у Вас в книге разговаривали языком исполинских китов».[31]
Голдсмит – Джонсону
«Под вечер мы увидели нечто, показавшееся нам поначалу скалой; но потом выяснилось, что то был мёртвый кит, которого забили какие-то азиаты, теперь буксировавшие его к берегу. Они, видимо, пытались укрыться за тушей, дабы не быть замеченными нами».[32]
Кук. «Путешествия»
«На тех китов, что покрупнее, они редко отваживаются нападать. Иные киты внушают им такой ужас, что они боятся даже произнести в море их имена и возят с собой в вельботах навоз, известь, можжевельник и тому подобные предметы, чтобы отпугивать их».
Уго фон Троиль.«Письма о плавании Бэнкса и Солэндера в Исландию в 1772 г.»
«Спермацетовый Кит, открытый жителями Нантакета, это свирепое и подвижное существо; он требует от рыбаков чрезвычайной ловкости и отваги».[33]
Томас Джефферсон.Записки французскому министру об импорте китового жира, 1778 г.
«Но скажите на милость, сэр, что в мире может сравниться с ним?»[34]
Эдмунд Бэрк.Упоминание в парламентской речи о китобойном промысле Нантакета
«Испания, этот огромный кит, выброшенный на берег Юго-Западной Европы».
Эдмунд Бэрк (Где-то)
«Десятым источником законного королевского дохода, обусловленным, как полагают, тем обстоятельством, что король охраняет и защищает моря от пиратов и разбойников, является его право на королевскую рыбу, коей почитаются кит и осётр. Выброшенные на берег или же выловленные поблизости от оного, они объявляются собственностью короля».[35]
Блэкстон
Фолконер. «Кораблекрушение»
- «Вот уж снова
- К смертельной схватке все готовы,
- И яростный Родмонд занёс над головой
- Гарпун зазубренный и меткий свой».[36]
Каупер«На посещение королевой Лондона»
- «Тут, освещая крыши, башни, купола,
- Взлетали ввысь ракеты с громким треском,
- На миг повиснувши под куполом небесным.
- И отступала прочь ночная мгла.
- Так – если мы сравним огонь с водой —
- Взлетают кверху воды океана,
- Когда в знак торжества и ликованья
- Их к небу посылает кит струёй».[37]
«При первом же ударе из сердца с огромной силой забила струя крови. Всего вытекло галлонов пятнадцать».[38]
Джон Хантер«Отчёт об анатомировании туши кита (небольших размеров)»
«Аорта кита превосходит в диаметре самую толстую водопроводную трубу у Лондонского моста, и вода, бегущая по этой трубе, значительно уступает в скорости и напоре струе крови, изливающейся из сердца кита».[39]
Пэйли. «Теология»
«Кит – это млекопитающее, не имеющее задних конечностей».[40]
Барон Кювье
«На сорок градусов южнее мы заметили кашалотов, но не начинали промысла до самого 1-го мая, когда море было буквально усеяно ими».
Колнет.«Плаванье в целях дальнейшего расширения китобойного промысла»
Монтгомери. «Мир накануне потопа»
- «В стихии водной подо мной мелькали,
- Резвясь, играя иль сцепившись насмерть,
- Морские твари всех цветов и видов,
- Каких язык не в силах описать
- И ни один моряк не видел в жизни,
- От страшного Левиафана до ничтожных
- Мирьядами кишащих насекомых,
- Что в каждой плавают солёной капле.
- Послушные таинственным инстинктам,
- Они свой путь находят без ошибки
- В пустынном океанском бездорожье,
- Хоть всюду их враги подстерегают:
- Киты, акулы, гады, чьё оружье —
- Меч, и пила, и рог, и гнутый клык».[41]
Чарлз Лэм. «Триумф кита»
- «Слава! Пойте славу владыке рыбьему.
- Нипочём тайфун и мёртвая зыбь ему.
- Во всей Атлантике, безбрежной и суровой,
- Не сыщешь второго кита такого;
- Никогда ещё рыба жирнее, чем эта,
- Не гуляла, не плавала по белому свету».[42]
«В лето 1690-е несколько человек стояли на высоком холме и смотрели, как киты резвятся и пускают фонтаны; и один человек сказал, указывая рукой в морскую даль: там лежит зелёное поле, куда дети наших внуков отправятся добывать свой хлеб».
Овид Мэйси. «История Нантакета»
«Я построил домик для нас с Сюзанной и в виде готической арки ворот поставил китовую челюсть».
Готорн. «Дважды рассказанные истории»
«Она пришла ко мне, чтобы посоветоваться насчёт памятника человеку, которого она любила в юности и которого тому уже лет сорок назад убил кит в Тихом океане».
Там же
«Нет, сэр, это Настоящий Кит, – ответил Том, – я видел его фонтан; он выпустил к небу две радуги, до того красивые, что всякому христианину на загляденье. Эта зверюга полна маслом, что твой спермацетовый бочонок».[43]
Купер. «Лоцман»
«Были поданы различные газеты, и, просматривая берлинские театральные новости, мы узнали, что там появляются на сцене морские чудовища и киты».[44]
Эккерман. «Разговоры с Гёте»
«Ради Бога, мистер Чейс! что случилось?» – Я ответил: «Судно столкнулось с китом, и корпус пробит».
«Описание гибели китобойца „Эссекс“ из Нантакета, на которого напал в Тихом океане большой кашалот, составлено Оуэном Чейсом из Нантакета, старшим помощником капитана на упомянутом судне».Нью-Йорк, 1821
Элизабет Оукс Смит
- «Высоко на мачте моряк стоял,
- А ветер свежел и крепчал;
- То сиял, то меркнул лунный свет,
- И синим фосфором вспыхивал след
- Там, где кит вдали проплывал».[45]
«Общая длина линей, вытравленных со всех вельботов, занятых ловлей одного только кита, составила 10 440 ярдов, или почти шесть английских миль…
Кит имеет обыкновение потрясать по временам в воздухе своим чудовищным хвостом, который щёлкает, словно бич, и звук этот разносится над водой на расстояние трёх-четырёх миль».[46]
Скорсби
«Разъярённый от боли, которую причиняют ему эти новые нападения, кашалот принимается бешено кружиться в воде; он подымает свою огромную голову и, широко разинув пасть, разгрызает всё, что ни подвернётся; он бросается на вельботы и гонит их перед собой со страшной скоростью, ломая и топя их ударами могучего лба.
…Достойно всяческого удивления, что повадки столь интересного и, с коммерческой точки зрения, столь важного животного (каким является кашалот) совершенно или почти совершенно не привлекают внимания тех, весьма многочисленных, и подчас учёных, наблюдателей, которые за последние годы, безусловно, имели немало отличных возможностей наблюдать их поведение».
Томас Бийл. «История кашалота», 1839
«Кашалот (Спермацетовый кит) не только вооружён значительно лучше Настоящего (Гренландского) кита, так как он располагает смертоносными орудиями на обеих оконечностях своего тела, но к тому же гораздо чаще проявляет склонность пустить в ход эти орудия, что и проделывает с таким бесстрашием и коварством, что его считают самой опасной из всех известных разновидностей китового племени».
Фредерик Дебелл Беннетт.«Промысловое плаванье вокруг света», 1840
«13 октября.
– Фонтан на горизонте! – раздаётся с мачты.
– Где? – спрашивает капитан.
– Три румба под ветер, сэр.
– Лево руля! Так держать!
– Есть так держать, сэр!
– Эй, дозорный! А сейчас ты его видишь?
– Да, да, сэр! Их там целое стадо кашалотов! И фонтаны пускают, и из воды скачут.
– Как что увидишь – подавай голос!
– Есть, сэр. Вон фонтан! Ещё – ещё – ещё один!
– Далёко ли?
– Мили две с половиной.
– Гром и молнии! Так близко! Свистать всех наверх!»
Дж. Росс Браун.«Зарисовки во время китобойного плаванья», 1846
«Китобойное судно „Глобус“, на борту которого произошли те ужасные события, какие мы собираемся здесь изложить, было приписано к острову Нантакету».
Описание бунта на корабле «Глобус», составленное Лэем и Хази, единственными уцелевшими членами команды, 1828 от Р. X.
«Однажды подбитый кит стал его преследовать; сначала он пытался отражать его нападения при помощи остроги, однако разъярённое чудовище в конце концов всё же набросилось на вельбот, и ему с товарищами удалось спастись только благодаря тому, что они выпрыгнули в воду, когда увидели, что защищаться невозможно».
Миссионерский дневник Тайермана и Беннетта
«И сам Нантакет, – сказал мистер Вебстер, – представляет собой весьма примечательную и своеобразную статью национального дохода. Там имеется население в восемь или девять тысяч человек, которые всю жизнь живут на море, и из года в год способствуют возрастанию национального благосостояния своим мужественным и в высшей степени упорным промыслом».
Отчёт о выступлении Дэниела Вебстера в Сенате в связи с законопроектом о возведении волнореза в Нантакете, 1828
«Кит рухнул прямо на него, и, по всей вероятности, смерть его последовала мгновенно».
Достопочтенный Генри Т. Чивер.«Кит и ловцы его, или Приключения китолова и жизнеописание кита, составленные во время обратного рейса на „Коммодоре Пребл“»
«Попробуй только пикни, ты у меня своих не узнаешь, – отозвался Сэмюэл».
«Жизнь Сэмюэла Комстока (Бунтаря), описанная его братом Уильямом Комстоком».Другая версия рассказа о событиях на китобойце «Глобус»
«Плаванья голландцев и англичан по Северному океану с целью найти, буде это окажется возможным, путь в Индию, хотя и не принесли желаемого результата, обнаружили зато области, где водятся киты».
Мак-Куллох. «Коммерческий словарь»
«Такие вещи все взаимосвязаны; мяч ударяется об землю, чтобы только выше взлететь в воздух; точно так же, открыв места, где водятся киты, китобои тем самым косвенно способствовали разрешению загадки Северо-Западного прохода».
Что-то неопубликованное
«Встретив китобоец в океане, нельзя не поразиться его видом. Судно это, под зарифленными парусами на мачтах, с верхушек которых пристально всматриваются в морскую даль трое дозорных, решительно отличается от всяких прочих кораблей».[47]
«Течения и китобойный промысел».Отчёты Американской исследовательской экспедиции
«Быть может, гуляя в окрестностях Лондона или ещё где-нибудь, вы замечали длинные изогнутые кости, торчащие из земли в виде арки над воротами или над входом в беседку, и вам говорили, наверное, что это китовые рёбра».[48]
«Рассказы о промысловом плавании в Арктическом океане»
«И только когда вельботы возвратились после погони за китами, белые обнаружили, что их судно находится в кровавых руках дикарей, бывших членами его экипажа».
Газетный отчёт о том, как был потерян, а затем отбит назад китобоец «Злой Дух»
«Всем известно, что мало кто из команды китобойцев (американских) возвращается домой на борту того корабля, на котором вышел в плаванье».[49]
«Плаванье на китобойном судне»
«Вдруг из воды показалась гигантская туша и подскочила вертикально вверх. Это был кит».[50]
«Мириам Коффин, или Рыбак-китолов»
«И допустим даже, вам удалось загарпунить кита; представьте себе, как бы вы управились с резвым диким трёхлетком с помощью одной только верёвки, привязанной к репице его хвоста».[51]
«Кости и тряпки». Глава о китобойном деле
«Однажды я имел возможность наблюдать двоих таких чудовищ (китов), вероятно, самца и самку, которые медленно плыли друг за другом так близко от осенённого буковыми рощами берега (Огненной Земли), что до них, казалось, камнем можно было добросить».[52]
Дарвин. «Путешествие натуралиста»
«Табань! – вскричал старший помощник капитана, когда, обернувшись, увидел над самым носом шлюпки широко разинутую пасть кашалота, угрожавшего им неминуемой гибелью. – Табань, кому жизнь дорога!»[53]
«Уортон – Смерть Китам»
Нантакетская песня
- «Веселей, молодцы, подналяжем – эхой!
- Загарпунил кита наш гарпунщик лихой!»
Китобойная песня
- «Старый кит-кашалот в океане живёт,
- И шторм, и тайфун – нипочём ему.
- Он силою велик там, где сила всем велит,
- Он царь всему морю огромному».
Глава I. Очертания проступают
Зовите меня Измаил[54]. Несколько лет тому назад – когда именно, неважно – я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы ещё занимать меня, и тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного, чтоб поглядеть на мир и с его водной стороны. Это у меня проверенный способ развеять тоску и наладить кровообращение. Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; всякий раз, как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь; всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков и пристраиваться в хвосте каждой встречной похоронной процессии; в особенности же, всякий раз, как ипохондрия настолько овладевает мною, что только мои строгие моральные принципы не позволяют мне, выйдя на улицу, упорно и старательно сбивать с прохожих шляпы, я понимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее. Это заменяет мне пулю и пистолет. Катон с философическим жестом бросается грудью на меч[55] – я же спокойно поднимаюсь на борт корабля. И ничего удивительного здесь нет. Люди просто не отдают себе в этом отчёта, а то ведь многие рано или поздно по-своему начинают испытывать к океану почти такие же чувства, как и я.
Взгляните, к примеру, на город-остров Манхэттен, словно атолл коралловыми рифами, опоясанный товарными пристанями, за которыми шумит коммерция кольцом прибоя. На какую бы улицу вы тут ни свернули – она обязательно приведёт вас к воде. А деловой центр города и самая его оконечность – это Бэттери[56], откуда тянется величественный мол, омываемый волнами и овеваемый ветрами, которые всего лишь за несколько часов до этого дули в открытом море. Взгляните же на толпы людей, что стоят там и смотрят на воду.
Обойдите весь город сонным воскресным днём. Ступайте от Корлиерсовой излучины до самых доков Коентиса, а оттуда по Уайтхоллу[57] к северу. Что же вы увидите? Вокруг всего города, точно безмолвные часовые на посту, стоят несметные полчища смертных, погружённых в созерцание океана. Одни облокотились о парапеты набережных, другие сидят на самом конце мола, третьи заглядывают за борт корабля, прибывшего из Китая, а некоторые даже вскарабкались вверх по вантам, словно для того, чтобы ещё лучше видеть морские дали. И ведь это все люди сухопутных профессий, будние дни проводящие узниками в четырёх стенах, прикованные к прилавкам, пригвождённые к скамьям, согбенные над конторками. В чём же тут дело? Разве нет на суше зелёных полей? Что делают здесь эти люди?
Но взгляните! Всё новые толпы устремляются сюда, подходят к самой воде, словно нырять собрались. Удивительно! Они не удовлетворяются, покуда не достигнут самых крайних оконечностей суши; им мало просто посидеть вон там в тени пакгауза. Нет. Им обязательно нужно подобраться так близко к воде, как только возможно, не рискуя свалиться в волны. Тут они и стоят, растянувшись на мили, на целые лиги по берегу. Сухопутные горожане, они пришли сюда из своих переулков и тупиков, улиц и проспектов, с севера, юга, запада и востока. Но здесь они объединились. Объясните же мне, может быть, это стрелки всех компасов своей магнетической силой влекут их сюда?
Возьмём другой пример. Представьте себе, что вы за городом, где-нибудь в холмистой озёрной местности. Выберите любую из бесчисленных тропинок, следуйте по ней, и – десять против одного – она приведёт вас вниз к зелёному долу и исчезнет здесь, как раз в том месте, где поток разливается нешироким озерком. В этом есть какое-то волшебство. Возьмите самого рассеянного из людей, погружённого в глубочайшее раздумье, поставьте его на ноги, подтолкните, так чтобы ноги пришли в движение, – и он безошибочно приведёт вас к воде, если только вода вообще есть там в окрестностях. Быть может, вам придётся когда-либо терзаться муками жажды среди Великой Американской пустыни, проделайте же тогда этот эксперимент, если в караване вашем найдётся хоть один профессор метафизики. Да, да, ведь всем известно, что размышление и вода навечно неотделимы друг от друга.
Или же, например, художник. У него возникает желание написать самый поэтический, тенистый, мирный, чарующий романтический пейзаж во всей долине Сако[58]. Какие же предметы использует он в своей картине? Вот стоят деревья, все дуплистые, словно внутри каждого сидит отшельник с распятием; здесь дремлет луг, а там дремлет стадо, а вон из того домика подымается в небо сонный дымок. На заднем плане уходит, теряясь в глубине лесов, извилистая тропка, достигая тесных горных отрогов, купающихся в прозрачной голубизне. И всё же, хоть и лежит перед нами картина, погружённая в волшебный сон, хоть и роняет здесь сосна свои вздохи, словно листья, на голову пастуху, – все усилия живописца останутся тщетны, покуда он не заставит своего пастуха устремить взор на бегущий перед ним ручей. Отправляйтесь в прерии в июне, когда там можно десятки миль брести по колено в траве, усеянной оранжевыми лилиями, – чего не хватает среди всего этого очарования? Воды – там нет ни капли воды! Если бы Ниагара была всего лишь низвергающимся потоком песка, стали бы люди приезжать за тысячи миль, чтобы полюбоваться ею? Почему бедный поэт из Теннесси, получив неожиданно две пригоршни серебра, стал колебаться: купить ли ему пальто, в котором он так нуждался, или же вложить эти деньги в пешую экскурсию на Рокэвей-Бич?[59] Почему всякий нормальный, здоровый мальчишка, имеющий нормальную, здоровую мальчишечью душу, обязательно начинает рано или поздно бредить морем? Почему сами вы, впервые отправившись пассажиром в морское плавание, ощущаете мистический трепет, когда вам впервые сообщают, что берега скрылись из виду? Почему древние персы считали море священным? Почему греки выделили ему особое божество, и притом – родного брата Зевсу?[60] Разумеется, во всём этом есть глубокий смысл. И ещё более глубокий смысл заключён в повести о Нарциссе, который, будучи не в силах уловить мучительный, смутный образ, увиденный им в водоёме, бросился в воду и утонул. Но ведь и сами мы видим тот же образ во всех реках и океанах. Это – образ непостижимого фантома жизни; и здесь – вся разгадка.
Однако, когда я говорю, что имею обыкновение пускаться в плавание всякий раз, как туманится мой взгляд и лёгкие мои дают себя чувствовать, я не хочу быть понятым в том смысле, будто я отправляюсь в морское путешествие пассажиром. Ведь для того, чтобы стать пассажиром, нужен кошелёк, а кошелёк – всего лишь жалкий лоскут, если в нём нет содержимого. К тому же пассажиры страдают морской болезнью, заводят склоки, не спят ночами, получают, как правило, весьма мало удовольствия; нет, я никогда не езжу пассажиром; не езжу я, хоть я и бывалый моряк, ни коммодором, ни капитаном, ни коком. Всю славу и почёт, связанные с этими должностями, я предоставляю тем, кому это нравится; что до меня, то я питаю отвращение ко всем существующим и мыслимым почётным и уважаемым трудам, тяготам и треволнениям. Достаточно с меня, если я могу позаботиться о себе самом, не заботясь ещё при этом о кораблях, барках, бригах, шхунах и так далее, и тому подобное. А что касается должности кока – хоть я и признаю, что это весьма почётная должность, ведь кок – это тоже своего рода командир на борту корабля, – сам я как-то не особенно люблю жарить птицу над очагом, хотя, когда её как следует поджарят, разумно пропитают маслом и толково посолят да поперчат, никто тогда не сможет отозваться о жареной птице с большим уважением – чтобы не сказать благоговением, – чем я. А ведь древние египтяне так далеко зашли в своём идолопоклонническом почитании жареного ибиса и печёного гиппопотама, что мы и сейчас находим в их огромных пекарнях-пирамидах мумии этих существ.
Нет, когда я иду в плавание, я иду самым обыкновенным простым матросом. Правда, при этом мною изрядно помыкают, меня гоняют по всему кораблю и заставляют прыгать с реи на рею, подобно кузнечику на майском лугу. И поначалу это не слишком приятно. Задевает чувство чести, в особенности, если происходишь из старинной сухопутной фамилии, вроде Ван-Ранселиров, Рандольфов или Хардиканутов[61]. И тем паче, если незадолго до того момента, как тебе пришлось опустить руку в бочку с дёгтем, ты в роли деревенского учителя потрясал ею самовластно, повергая в трепет самых здоровенных своих учеников. Переход из учителей в матросы[62] довольно резкий, смею вас уверить, и требуется сильнодействующий лечебный отвар из Сенеки в смеси со стоиками[63], чтобы вы могли с улыбкой перенести это. Да и он со временем теряет силу.
Однако что с того, если какой-нибудь старый хрыч капитан приказывает мне взять метлу и вымести палубу? Велико ли здесь унижение, если опустить его на весы Нового Завета? Вы думаете, я много потеряю во мнении архангела Гавриила, оттого что на сей раз быстро и послушно исполню приказание старого хрыча? Кто из нас не раб, скажите мне? Ну, а коли так, то как бы ни помыкали мною старые капитаны, какими бы тумаками и подзатыльниками они ни награждали меня, – я могу утешаться сознанием, что это всё в порядке вещей, что каждому достаётся примерно одинаково – то есть, конечно, либо в физическом, либо в метафизическом смысле; и, таким образом, один вселенский подзатыльник передаётся от человека к человеку, и каждый в обществе чувствует скорее не локоть, а кулак соседа, чем нам и следует довольствоваться.
Кроме того, я всегда плаваю матросом потому, что в этом случае мне считают необходимым платить за мои труды, а вот что касается пассажиров, то я ни разу не слышал, чтобы им заплатили хотя бы полпенни. Напротив того, пассажиры ещё сами должны платить. А между необходимостью платить и возможностью получать плату – огромная разница. Акт уплаты представляет собой, я полагаю, наиболее неприятную кару из тех, что навлекли на нас двое обирателей яблоневых садов[64]. Но когда тебе платят – что может сравниться с этим! Изысканная любезность, с какой мы получаем деньги, поистине удивительна, если принять во внимание, что мы серьёзно считаем деньги корнем всех земных зол и твёрдо верим, что богатому человеку никаким способом не удастся проникнуть на небо. Ах, как жизнерадостно миримся мы с вечной погибелью!
И наконец, я всегда плаваю матросом из-за благодатного воздействия на моё здоровье физического труда на свежем воздухе полубака. Ибо в нашем мире с носа ветры дуют чаще, чем с кормы (если, конечно, не нарушать предписаний Пифагора[65]), и потому коммодор на шканцах чаще всего получает свою порцию воздуха из вторых рук, после матросов на баке. Он-то думает, что вдыхает его первым, но это не так. Подобным же образом простой народ опережает своих вождей во многих других вещах, а вожди даже и не подозревают об этом.
Но по какой причине мне, неоднократно плававшему прежде матросом на торговых судах, взбрело на этот раз в голову пойти на китобойце – это лучше, чем кто-либо другой, сумеет объяснить невидимый офицер полиции Провидения, который содержит меня под постоянным надзором, негласно следит за мной и тайно воздействует на мои поступки. Можно не сомневаться в том, что моё плавание на китобойном судне входило составной частью в грандиозную программу, начертанную задолго до того. Оно служило как бы короткой интермедией и сольным номером между более обширными выступлениями. Я думаю, на афише это должно выглядеть примерно так:
ОСТРАЯ БОРЬБА ПАРТИЙ
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
В СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ
ПУТЕШЕСТВИЕ НЕКОЕГО ИЗМАИЛА
НА КИТОБОЙНОМ СУДНЕ
КРОВАВАЯ РЕЗНЯ В АФГАНИСТАНЕ
Хоть я и не могу точно сказать, почему режиссёр-судьба назначила мне эту жалкую роль на китобойном судне, ведь доставались же другим великолепные роли в возвышенных трагедиях, короткие и лёгкие роли в чувствительных драмах и весёлые роли в фарсах, – хоть я и не могу точно сказать, почему так получилось, тем не менее теперь, припоминая все обстоятельства, я начинаю, кажется, немного разбираться в скрытых пружинах и мотивах, которые, будучи представлены мне в замаскированном виде, побудили меня сыграть упомянутую роль, да ещё льстиво внушили мне, будто я поступил по собственному усмотрению на основе свободы воли и разумных суждений.
Главной среди этих мотивов была всеподавляющая мысль о самом ките, величественном и огромном. Столь зловещее, столь загадочное чудовище не могло не возбуждать моего любопытства. А кроме того, бурные дальние моря, по которым плывёт, колыхаясь, его подобная острову туша, смертельная, непостижимая опасность, таящаяся в его облике, в сочетании со всеми неисчислимыми красотами патагонских берегов, их живописными ландшафтами и многозвучными голосами – всё это лишь укрепляло меня в моём стремлении. Быть может, другим такие вещи не кажутся столь заманчивыми, но меня вечно томит жажда познать отдалённое. Я люблю плавать по заповедным водам и высаживаться на диких берегах. Не оставаясь глухим к добру, я тонко чувствую зло и могу в то же время вполне ужиться с ним – если только мне дозволено будет, – поскольку надо ведь жить в дружбе со всеми теми, с кем приходится делить кров.
И вот в силу всех этих причин я с радостью готов был предпринять путешествие на китобойном судне; великие шлюзы, ведущие в мир чудес, раскрылись настежь, и в толпе причудливых образов, сманивших меня к моей цели, двойными рядами потянулись в глубине души моей бесконечные процессии китов, и среди них – один величественный крутоверхий призрак, вздымающийся ввысь, словно снеговая вершина.
Глава II. Ковровый саквояж
Я запихнул пару рубашек в свой старый ковровый саквояж, подхватил его под мышку и отправился в путь к мысу Горн, в просторы Тихого океана. Покинув славный старый город Манхэттен, я во благовремении прибыл в Нью-Бедфорд. Дело было в декабре, поздним субботним вечером. Каково же было моё разочарование, когда я узнал, что маленький пакетбот до Нантакета уже ушёл и теперь до понедельника туда ни на чём нельзя будет добраться.
Поскольку большинство молодых искателей тягот и невзгод китобойного промысла останавливаются в этом самом Нью-Бедфорде, дабы оттуда отбыть в плавание, мне, разумеется, и в голову не приходило следовать их примеру. Ибо я твёрдо вознамерился поступить только на нантакетское судно, потому что во всём, что связано с этим славным древним островом, есть какое-то здоровое и неистовое начало, на редкость для меня привлекательное. К тому же, хотя в последнее время Нью-Бедфорд постепенно монополизировал китобойный промысел и хотя бедный старый Нантакет теперь сильно отстаёт от него в этом деле, тем не менее Нантакет был великим его предшественником, как Тир был предшественником Карфагена[66], ведь это в Нантакете был впервые в Америке вытащен на берег убитый кит. Откуда ещё, как не из Нантакета, отчалили на своих челноках первые китобои-аборигены, краснокожие индейцы, отправившиеся в погоню за левиафаном? И откуда, как не из Нантакета, отвалил когда-то один отважный маленький шлюп, наполовину нагруженный, как гласит предание, издалека привезёнными булыжниками, которые были предназначены для того, чтобы швырять в китов и тем определять, довольно ли приблизился шлюп к цели и можно ли рискнуть гарпуном?
Итак, мне предстояло провести в Нью-Бедфорде ночь, день и ещё одну ночь, прежде чем я смогу отплыть к месту моего назначения, и посему возник серьёзный вопрос, где я буду есть и спать всё это время. Ночь отнюдь не внушала доверия, это была, в общем-то, очень тёмная и мрачная ночь, морозная и неприютная. Никого в этом городе я не знал. Своими жадными скрюченными пальцами-якорями я уже обшарил дно карманов и поднял на поверхность всего лишь жалкую горстку серебра. «Так что, куда бы ты ни вздумал направиться, Измаил, – сказал я себе, стоя посреди безлюдной улицы с мешком на плече и любуясь тем, как хмурится небо на севере и как мрачнеет оно на юге, – где бы в премудрости своей ты ни порешил приклонить главу свою на эту ночь, мой любезный Измаил, не премини осведомиться о цене и не слишком-то привередничай».
Робкими шагами ступая по мостовой, миновал я вывеску «Под скрещёнными гарпунами» – увы, сие заведение выглядело чересчур дорого и чересчур весело. Чуть подальше я увидел яркие окна гостиницы «Меч-рыба», откуда красноватый свет падал такими жаркими лучами, что казалось, он растопил весь снег и лёд перед домом, а повсюду вокруг смёрзшийся десятидюймовый слой льда лежал, словно твёрдая асфальтовая мостовая, и шагать по этим острым выступам было для меня довольно затруднительно, поскольку в результате тяжкой бессменной службы подошвы мои находились в весьма плачевном состоянии. «И тут чересчур дорого и чересчур весело, – подумал я, задержавшись на мгновение, чтобы полюбоваться яркими отсветами на мостовой и послушать доносящийся изнутри звон стаканов. – Но проходи же, Измаил, слышишь? Убирайся прочь от этой двери: твои залатанные башмаки загородили вход». И я пошёл дальше. Теперь я инстинктивно стал сворачивать на те улицы, которые вели к воде, ибо там, без сомнения, расположены самые дешёвые, хотя, может быть, и не самые заманчивые гостиницы.
Что за унылые улицы! По обе стороны тянулись кварталы тьмы, в которых лишь кое-где мерцал свет свечи, словно несомой по чёрным лабиринтам гробницы. Тогда в последний час последнего дня недели этот конец города казался совсем обезлюдевшим. Но вот я заметил дымную полоску света, падавшего из заманчиво приоткрытой двери какого-то низкого длинного строения. Здание имело весьма запущенный вид, из чего я сразу заключил, что оно предназначено для общественного пользования. Перешагнув порог, я прежде всего упал, споткнувшись о ящик с золой, оставленный в сенях. «Ха-ха, – сказал я себе, едва не задохнувшись в облаке взлетевших частиц праха, – уж не от погибшего ли града Гоморры этот пепел?[67] Там были «Скрещённые гарпуны», потом «Меч-рыба». А сейчас я, наверное, попал в «Ловушку»?» Тем не менее я поднялся с пола и, слыша изнутри громкий голос, толчком отворил вторую дверь.
Что это? Заседание чёрного парламента в преисподней? Ряды чёрных лиц, числом не менее ста, обернулись, чтобы поглядеть на меня; а за ними в глубине чёрный ангел смерти за кафедрой колотил рукой по раскрытой книге. Это была негритянская церковь, и проповедник держал речь о том, как черна тьма, в которой раздаются лишь вопли, стоны и скрежет зубовный. «Да, Измаил, – пробормотал я, пятясь к двери, – неприятное развлечение ждало тебя под вывеской „Ловушки“».
И я снова пошёл по улицам, пока не различил наконец поблизости от пристани какой-то тусклый свет и не уловил в воздухе тихий унылый скрип. Подняв голову, я увидел над дверью раскачивающуюся вывеску, на которой белой краской было изображено нечто, отдалённо напоминающее высокую отвесную струю туманных брызг, а под ней начертаны следующие слова: «Гостиница „Китовый фонтан“, Питер Гроб».
«Гроб? Китовый фонтан? Звучит довольно зловеще при данных обстоятельствах», – подумал я. Впрочем, ведь говорят, в Нантакете это распространённая фамилия, и сей Питер, вероятно, просто переселился сюда с острова. Свет оттуда шёл такой тусклый, вокруг в этот час всё казалось таким спокойным, да и сам этот ветхий деревянный домишко выглядел так, словно его перевезли сюда из погорелого района, и так по-нищенски убого поскрипывала над ним вывеска, что я понял – именно здесь я смогу найти пристанище себе по карману и наилучший гороховый кофе.
Странное это было сооружение – старый дом под островерхой крышей совсем перекосился на один бок, словно несчастный паралитик. Он стоял зажатый в какой-то тесный и мрачный угол, а буйный ветер Евроклидон[68] не переставая завывал вокруг ещё яростнее, чем некогда вокруг утлого судёнышка бедного Павла. А ведь Евроклидон – это отменно приятный зефир для всякого, кто сидит под крышей и спокойно поджаривает у камина ноги, покуда не придёт время отправляться ко сну. «При оценке того буйного ветра, что носит наименование Евроклидон, – говорит один древний автор, чьи труды дошли до нас в единственном экземпляре, владельцем которого являюсь я, – огромная разница проистекает из того, рассматриваешь ли ты его сквозь оконные стёкла, ограждающие тебя от холода, царящего по ту сторону, или же ты глядишь на него из того окна, в котором нет переплётов, из окна, по обе стороны которого царит холод, из окна, которое лишь некто по имени Смерть может остеклянить». «Право же, – подумал я, когда эти строки пришли мне на память, – ты рассуждаешь разумно, мой древний готический фолиант». В самом деле, глаза эти – окна, а тело моё – это дом. Жаль, правда, что не заткнуты как следует все трещины и щели, надо бы понасовать кое-где немного корпии. Но теперь уже поздно вносить усовершенствования. Вселенная уже возведена, ключевой камень свода уложен и щебень вывезен на телегах миллион лет тому назад. Бедный Лазарь, лязгая зубами на панели, что служит ему подушкой, и в дрожи отрясая последние лохмотья со своего озябшего тела, может законопатить себе уши тряпьём, а рот заткнуть обглоданным кукурузным початком, но и так он не сумеет укрыться от Евроклидона.
– Евроклидон! – говорит Богач[69] в красном шлафроке (он завёл себе потом другой, ещё краснее). – Уф-ф! Уф-ф! Отличная морозная ночь! Как мерцает Орион; как полыхает северное сияние! Пусть себе болтают о нескончаемом восточном лете, вечном, как в моём зимнем саду. Я за то, чтобы самому создавать своё лето у собственного своего очага.
А что думает по этому поводу Лазарь? Сумеет ли он согреть посиневшие руки, воздев их к великому северному сиянию? Быть может, Лазарь предпочёл бы очутиться на Суматре, а не здесь? Быть может, он с удовольствием согласился бы улечься вдоль экватора или же даже, о боги, спуститься в самую бездну огненную, только бы укрыться от мороза?
Однако вот Лазарь должен лежать здесь на панели у порога Богача, словно кит на мели, и это ещё несуразнее, чем айсберг, причаливший к одному из Молуккских островов[70]. Да и сам Богач, он ведь тоже живёт, словно царь в ледяном доме, построенном из замёрзших вздохов, и как председатель общества трезвенников он пьёт лишь чуть тёплые слёзы сирот.
Но теперь довольно ныть и стонать, мы уходим на китобойный промысел, и всё это в изобилии нам ещё предстоит. Давайте отдерём лёд с обмёрзших подошв и поглядим, что представляет собой гостиница «Китовый фонтан».
Глава III. Гостиница «Китовый фонтан»
Входя под островерхую крышу гостиницы «Китовый фонтан», вы оказываетесь в просторной низкой комнате, обшитой старинными деревянными панелями, напоминающими борта ветхого корабля смертников. С одной стороны на стене висит очень большая картина, вся закопчённая и до такой степени стёртая, что, разглядывая её в слабом перекрёстном освещении, вы только путём долговременного усердного изучения, систематически к ней возвращаясь и проводя тщательный опрос соседей, смогли бы в конце концов разобраться в том, что на ней изображено. Там нагромождено такое непостижимое скопище теней и сумерек, что поначалу вы готовы вообразить, будто перед вами – труд молодого подающего надежды художника, задавшегося целью живописать колдовской хаос тех времён, когда Новая Англия славилась ведьмами[71]. Однако в результате долгого и вдумчивого созерцания и продолжительных упорных размышлений, в особенности же в результате того, что вы догадались распахнуть оконце в глубине комнаты, вы в конце концов приходите к заключению, что подобная мысль как ни дика она, тем не менее не так уж безосновательна.
Но вас сильно озадачивает и смущает нечто вытянутое, гибкое и чудовищное, чёрной массой повисшее в центре картины над тремя туманными голубыми вертикальными линиями, плывущими в невообразимой пенной пучине. Ну и картина в самом деле, вся какая-то текучая, водянистая, расплывающаяся, нервного человека такая и с ума свести может. В то же время в ней есть нечто возвышенное, хотя и смутное, еле уловимое, загадочное, и оно тянет вас к полотну снова и снова, пока вы наконец не даёте себе невольной клятвы выяснить любой ценой, что означает эта диковинная картина. По временам вас осеняет блестящая, но, увы, обманчивая идея. – Это штормовая ночь на Чёрном море. – Противоестественная борьба четырёх стихий. – Ураган над вересковой пустошью. – Гиперборейская зима. – Начало ледохода на реке Времени… Но все эти фантазии в конце концов отступают перед чудовищной массой в центре картины. Понять, что это, – и всё остальное будет ясно. Но постойте, не напоминает ли это отдалённо какую-то гигантскую рыбу? Быть может, даже самого левиафана?
И в самом деле, по моей окончательной версии, частично основанной на совокупном мнении многих пожилых людей, с которыми я беседовал по этому поводу, замысел художника сводится к следующему. Картина изображает китобойца, застигнутого свирепым ураганом у мыса Горн; океан безжалостно швыряет полузатопленное судно, и только три его голые мачты ещё поднимаются над водой; а сверху огромный разъярённый кит, вознамерившийся перепрыгнуть через корабль, запечатлён в тот страшный миг, когда он обрушивается прямо на мачты, словно на три огромных вертела.
Вся противоположная стена была сплошь увешана чудовищными дикарскими копьями и дубинками. Какие-то блестящие зубы густо унизывали деревянные рукоятки, так что те походили на костяные пилы. Другие были украшены султанами из человеческих волос. А одно из этих смертоносных орудий имело серповидную форму и огромную загнутую рукоятку и напоминало собою ту размашистую дугу, какую описывает в траве длинная коса. При взгляде на него вы вздрагивали и спрашивали себя, что за свирепый дикарь-каннибал собирал когда-то свою смертную жатву этим жутким серпом. Тут же висели старые заржавленные китобойные гарпуны и остроги, все гнутые и поломанные. С иными из них были связаны целые истории. Вот этой острогой, некогда такой длинной и прямой, а теперь безнадёжно искривлённой, пятьдесят лет тому назад Натан Свейн успел убить между восходом и закатом пятнадцать китов. А вот тот гарпун – столь похожий теперь на штопор – был когда-то заброшен в яванских водах, но кит сорвался и ушёл и был убит много-много лет спустя у мыса Бланко[72]. Гарпун вонзился чудовищу в хвост, но за это время, подобно игле, блуждающей в теле человека, проделал путь в сорок футов и был найден в мякоти китового горба.
Пересекая эту сумрачную комнату, вы через низкий сводчатый проход, пробитый, надо полагать, на месте большого центрального камина и потому имеющий по нескольку очагов вдоль обеих стен, попадаете в буфетную. Эта комната ещё сумрачнее первой; над самой головой у вас выступают такие тяжёлые балки, а под ногами лежат такие ветхие корявые доски, что вы готовы вообразить себя в кубрике старого корабля, в особенности если дело происходит бурной ночью, когда этот древний ковчег, стоящий на якоре в своём закоулке, весь сотрясается от ударов ветра. Сбоку у стены там стоял длинный, низкий, похожий на полку стол, уставленный потрескавшимися стеклянными ящиками, в которых хранились запылённые диковины, собранные в самых отдалённых уголках нашего просторного мира. А из дальнего конца комнаты выступала буфетная стойка – тёмное сооружение, грубо воспроизводившее очертания головы гренландского кита. И как ни странно, но это действительно была огромная аркообразная китовая челюсть, такая широкая, что чуть ли не целая карета могла проехать под ней. Внутри она была увешана старыми полками, кругом уставленными старинными графинами, бутылками, флягами; и в этой всесокрушающей пасти, словно второй Иона[73] (кстати, именно так его там и прозвали), суетился маленький сморщенный старичок, втридорога продававший морякам горячку и погибель за наличные деньги.
Устрашающи были стаканы, куда лил он свой яд. Снаружи они казались правильными цилиндрами, но внутри зелёное дутое стекло прехитрым образом сужалось книзу, да и донышки оказывались обманчиво толстыми. По стенкам в стекле были грубо выдолблены параллельные меридианы, опоясывавшие эти разбойничьи кубки. Нальют вам до этой мерки – с вас пенни, до другой – ещё пенни, и так до самого верха – китобойская доза, которую вы можете получить за один шиллинг.
Войдя в помещение, я увидел у стола группу молодых моряков, разглядывавших в тусклом свете заморские диковины. Я нашёл глазами хозяина и, заявив ему о своём намерении снять у него комнату, услышал в ответ, что его гостиница полна – нет ни одной свободной постели.
– Однако постойте, – тут же добавил он, хлопнув себя по лбу, – вы ведь не станете возражать, если я предложу вам разделить ложе с одним гарпунщиком, а? Вы, я вижу, собрались поступать на китобоец, вот вам и надо привыкать к таким вещам.
Я сказал ему, что не люблю спать вдвоём в одной постели, что если уж я когда-нибудь и пошёл бы на это, то здесь всё зависит от того, что представляет собой гарпунщик; если же у него (хозяина) действительно нет другого места и если гарпунщик будет не слишком неприемлем, то, уж конечно, чем и дальше бродить в такую морозную ночь по улицам чужого города, я готов удовлетвориться половиной одеяла, которым поделится со мной любой честный человек.
– Ну, то-то. Вот и отлично. Да вы присядьте. Ужинать-то, ужинать будете? Ужин сейчас уж поспеет.
Я сел на старую деревянную лавку, вдоль и поперёк покрытую резьбой не хуже скамеек в парке Бэттери. На другом конце её какой-то задумчивый матрос, усердно согнувшись в три погибели и широко раздвинув колени, украшал сиденье при помощи карманного ножа. Он пытался изобразить корабль, идущий на всех парусах, но, по-моему, это ему плохо удавалось.
Наконец нас – человек пять-шесть – пригласили к столу в соседней комнате. Там стоял холод, прямо как в Исландии, камин даже не был затоплен – хозяин сказал, что не может себе этого позволить. Только тускло горели две сальные свечи в двух витых подсвечниках. Пришлось нам застегнуть на все пуговицы свои матросские куртки и греть оледеневшие пальцы о кружки с крутым кипятком. Но накормили нас отменно. Не только картошкой с мясом, но ещё и пышками, да, клянусь богом, пышки к ужину! Один юноша в зелёном бушлате набросился на эти пышки самым свирепым образом.
– Эй, парень, – заметил хозяин, – помяни моё слово, сегодня ночью тебя будут мучить кошмары.
– Хозяин, – шёпотом спросил я, – это не тот самый гарпунщик?
– Да нет, – ответил он мне с какой-то дьявольской усмешкой, – тот гарпунщик – смуглый молодой человек. И пышек он никогда не станет есть, нет, нет, он ест одни бифштексы. Да и те только с кровью.
– У него губа не дура, – говорю. – Но где же он сам-то? Здесь?
– Вскорости будет здесь, – последовал ответ.
Этот «смуглый» гарпунщик начинал внушать мне некоторые опасения. На всякий случай я принял решение, если нам всё-таки придётся спать с ним вместе, заставить его раздеться и лечь в постель первым.
Ужин кончился, и общество вернулось в буфетную, где я, не видя иного способа убить время, решил посвятить остаток вечера наблюдениям над окружающими.
Внезапно снаружи донеслись буйные возгласы. Хозяин поднял голову и воскликнул: «Это команда „Косатки“! Я утром читал, что „Косатка“ появилась на рейде. Три года были в плавании и вот пришли с полными трюмами. Ура, ребята! Сейчас узнаем, что новенького на Фиджи».
Из прихожей донёсся стук матросских сапог, дверь распахнулась, и к нам ввалилась целая стая диких морских волков. Вернее же – свирепых лабрадорских медведей, каковых они напоминали в своих тёплых косматых полушубках и накрученных на головы шерстяных шарфах, все в лохмотьях и заплатах, с сосульками в промёрзших бородах. Они только что высадились со своего корабля и прежде всего зашли сюда. Не удивительно поэтому, что они прямым курсом устремились к китовой пасти – буфету, где хлопотливый сморщенный старичок Иона тут же наделил каждого полным до краёв стаканом вина. Один из прибывших пожаловался на сильную простуду, и по этому поводу Иона приготовил и протянул ему большую дозу дегтеподобного джина, смешанного с патокой, представлявшего собой, по его клятвенному заверению, королевское средство от любых простуд и катаров, и свежих, и застарелых, где бы вы их ни подхватили – у лабрадорского побережья или же с подветренной стороны какого-нибудь айсберга.
Хмель скоро бросился им в голову, как это обычно и случается даже с самыми отъявленными пьяницами, когда они после плавания впервые сходят на берег, и они стали предаваться крайне буйным развлечениям.
Я заметил, однако, что один из них держался немного в стороне от остальных, и хоть видно было, что ему не хочется портить здорового веселья товарищей трезвым выражением лица, в общем-то он всё-таки предпочитал шуметь поменьше, чем другие. Этот человек сразу же возбудил мой интерес; и поскольку морские боги судили ему быть впоследствии моим товарищем по плаванию (хотя всего лишь на немых ролях, по крайней мере на страницах настоящего повествования), я попытаюсь сейчас набросать его портрет. Он имел полных шесть футов росту, великолепные плечи и грудную клетку – настоящий кессон для подводных работ. Редко случалось мне видеть такую силищу в человеке. Лицо у него было тёмно-коричневым от загара, а белые зубы по контрасту казались просто ослепительными. Но в затенённой влажной глубине его глаз таились какие-то воспоминания, видимо, не очень его веселившие. Речь сразу же выдавала в нём южанина, а отличное телосложение позволяло догадываться, что это рослый горец с Аллеганского кряжа. Когда пиршественное ликование его сотрапезников достигло наивысшего предела, человек этот незаметно вышел из комнаты, и больше я его уже не видел, покуда он не стал моим спутником на корабле. Однако через несколько минут товарищи хватились его. Видно, он по какой-то причине пользовался у них большой любовью, потому что тут же поднялся крик: «Балкингтон! Балкингтон! Где Балкингтон?» – и все они вслед за ним устремились вон из гостиницы.
Было уже около девяти часов. В комнате после этой шумной оргии наступила почти сверхъестественная тишина, и я поздравлял себя с одним небольшим планом, который пришёл мне в голову перед самым появлением матросов.
Никто не любит спать вдвоём. Право же, даже с родным братом вы всей душой предпочли бы не спать вместе. Не знаю, в чём тут дело, но только люди, когда спят, склонны проделывать это в уединении. Ну, а уж если речь идёт о том, чтоб спать с чужим, незнакомым человеком, в незнакомой гостинице, в незнакомом городе, и незнакомец этот к тому же ещё гарпунщик, в таком случае ваши возражения умножаются до бесконечности. Да и не было никаких реальных резонов для того, чтобы я как матрос спал с кем-нибудь в одной кровати, ибо матросы в море не чаще спят вдвоём, чем холостые короли на суше. Спят, конечно, все в одном помещении, но у каждого есть своя койка, каждый укрывается собственным одеялом и спит в своей собственной шкуре.
И чем больше я размышлял о гарпунщике, тем неприятнее становилась для меня перспектива спать с ним вместе. Справедливо было предположить, что раз он гарпунщик, то бельё у него вряд ли будет особенно чистым и наверняка – не особенно тонким. Меня просто всего передёргивало. Кроме того, было уже довольно поздно, и моему добропорядочному гарпунщику следовало бы вернуться и взять курс на постель. Подумать только, а вдруг он заявится в середине ночи и обрушится прямо на меня – разве я смогу определить, из какой грязной ямы он притащился?
– Хозяин! Я передумал относительно гарпунщика – я с ним спать не буду. Попробую устроиться здесь, на лавке.
– Как пожелаете. Жаль только, я не смогу ссудить вас скатертью взамен матраса, а доски здесь дьявольски корявые – все в сучках и зазубринах. Впрочем, постойте-ка, приятель, у меня тут в буфете есть рубанок. Погодите минутку, я сейчас устрою вас как следует. – Говоря это, хозяин достал рубанок и, смахнув предварительно с лавки пыль своим старым шёлковым платком, принялся что было мочи стругать моё ложе, ухмыляясь при этом какой-то насмешливой ухмылкой. Стружки летели во все стороны, покуда лезвие рубанка вдруг не наткнулось на дьявольски крепкий сучок. Хозяин едва не вывихнул себе кисть, и я стал заклинать его во имя господа, чтобы он остановился: для меня это ложе и так было достаточно мягким, да к тому же я отлично знал, что как ни стругай, никогда в жизни из сосновой доски не сделаешь пуховой перины. Тогда, снова ухмыльнувшись, он собрал стружки, сунул их в большую печь посреди комнаты и занялся своими делами, оставив меня в мрачном расположении духа.
Я примерился к лавке и обнаружил, что она на целый фут короче, чем мне надо; однако этому можно было помочь посредством стула. Но она оказалась к тому же ещё и на целый фут уже, чем необходимо, а вторая лавка в этой комнате была дюйма на четыре выше, чем обструганная, так что составить их вместе не было никакой возможности. Тогда я поставил свою лавку вдоль свободной стены, но не вплотную, а на некотором расстоянии, чтобы в промежутке поместить свою спину. Но скоро я почувствовал, что от подоконника на меня сильно тянет холодом, и понял всю неосуществимость своего плана, тем более что вторая струя холодного воздуха шла от ветхой входной двери, сталкиваясь с первой, и вместе они образовывали целый хоровод маленьких вихрей в непосредственной близости от того места, где я вздумал было провести ночь.
А, дьявол забери этого гарпунщика, подумал я; однако постой-ка, я ведь могу упредить его – заложить засов изнутри, забраться в его постель, и пусть тогда колотят в дверь как хотят – я всё равно не проснусь. Мысль эта показалась мне недурна, но, подумав ещё немного, я всё-таки от неё отказался. Кто его знает, а вдруг наутро, выйдя из комнаты, я тут же наткнусь на гарпунщика, готового сбить меня с ног ударом кулака?
Я снова огляделся вокруг, по-прежнему не видя иной возможности сносно провести ночь, как только в чужой постели, и подумал, что, быть может, я всё-таки напрасно так предубеждён против неведомого мне гарпунщика. Подожду-ка ещё немного, думаю, скоро уж он, наверно, заявится. Я рассмотрю его хорошенько, и, может быть, мы с ним отлично вместе выспимся, кто знает?
Однако время шло, другие постояльцы по одному, по двое и по трое входили в гостиницу и разбредались по своим комнатам, а моего гарпунщика всё не было видно.
– Хозяин, – сказал я, – что он за человек? Он всегда так поздно приходит?
Дело было уже близко к двенадцати.
Хозяин снова усмехнулся своей издевательской усмешкой, словно что-то недоступное моему пониманию сильно его развлекало.
– Нет, – ответил он мне, – обычно он возвращается рано. Рано в кровать, рано вставать. Ранняя пташка. Кто рано встаёт, тому бог даёт. Но сегодня он отправился торговать. Никак не пойму, что это его так задержало, разве только он никак не продаст свою голову.
– Продать свою голову? Что за небылицы ты плетёшь? – Ярость моя постепенно возрастала. – Уж не хочешь ли ты сказать, хозяин, что в святой субботний вечер или, вернее, в утро святого воскресенья твой гарпунщик занимается тем, что ходит по всему городу и торгует своей головой?
– Именно так, – подтвердил хозяин. – И я предупредил его, что ему не удастся продать её здесь: рынок забит ими.
– Чем забит? – заорал я.
– Да головами же. Разве в нашем мире не слишком много голов?
– Вот что, хозяин, – сказал я совершенно спокойно, – советую тебе угостить этими россказнями кого-нибудь другого – я не такой уж зелёный простачок.
– Возможно, – согласился он, выстругивая из палочки зубочистку. – Да только думается мне, быть вам не зелёным, а синим, если этот гарпунщик услышит, как вы хулите его голову.
– Да я проломлю его дурацкую голову! – снова возмутился я невразумительной болтовнёй хозяина.
– Она и так проломана.
– Проломана? То есть как это проломана?
– Ясное дело, проломана. Поэтому-то, я думаю, он и не может её продать.
– Хозяин, – говорю я и подхожу к нему вплотную, холоден, как Гекла[74] во время снежной бури. – Хозяин, перестаньте затачивать зубочистки. Нам с вами нужно понять друг друга и притом без промедления. Я прихожу к вам в гостиницу и спрашиваю постель, а вы говорите, что можете предложить мне только половину и что вторая половина принадлежит какому-то гарпунщику. И об этом самом гарпунщике, которого я даже ещё не видел, вы упорно рассказываете мне самые загадочные и возмутительные истории, словно нарочно стараетесь возбудить во мне неприязненное чувство по отношению к человеку, с которым мне предстоит спать в одной кровати и с которым поэтому меня будут связывать отношения близкие и в высшей степени конфиденциальные. Поэтому я требую, хозяин, чтобы вы оставили недомолвки и объяснили мне, кто такой этот гарпунщик и что он собой представляет и буду ли я в полной безопасности, если соглашусь провести с ним ночь. И прежде всего, хозяин, будьте добры признать, что эта история с продажей головы вымышленная, ибо, в противном случае, я считаю её очевидным доказательством того, что ваш гарпунщик совершенно не в своём уме, а я вовсе не желаю спать с помешанным; а вас, сэр, да-да, хозяин, именно вас, за сознательную попытку принудить меня к этому я с полным правом смогу привлечь к судебной ответственности.
– Ну и ну, – проговорил хозяин, едва переводя дыхание. – Довольно длинная проповедь, особливо если кто и чертыхается ещё понемножку. Да только зря вы волнуетесь. Этот гарпунщик, о котором я вам говорю, только недавно вернулся из рейса по Южным морям, где он накупил целую кучу новозеландских бальзамированных голов (они здесь ценятся как большая редкость), и распродал уже все, кроме одной: сегодня он хотел обязательно продать последнюю, потому что завтра воскресенье, а это уж неподходящее дело торговать человеческими головами на улицах, по которым люди идут мимо тебя в церковь. В прошлое воскресенье я как раз остановил его, когда он собирался выйти за порог с четырьмя головами, нанизанными на верёвочку, ну что твоя связка луковиц, ей-богу.
Это объяснение рассеяло тайну, только что представлявшуюся необъяснимой, и доказало, что хозяин, в общем-то, не имел намерения дурачить меня, но в то же время, что мог я подумать о гарпунщике, который всю ночь с субботы на святое воскресенье проводил на улице за таким людоедским делом, как торговля головами мёртвых идолопоклонников?
– Можете мне поверить, хозяин, этот гарпунщик – опасный человек.
– Платит аккуратно, – последовал ответ. – Однако, ведь уже страсть как поздно, пора и на боковую. Ей-богу, послушайте вы меня, это отличная кровать. Салли и я спали на этой самой кровати с той ночи, когда нас окрутили. Для двоих в этой кровати места за глаза – кувыркайся как хочешь. Отличнейшая просторная кровать. Да что там говорить, пока мы спали на ней, Сал ещё укладывала в ногах нашего Сэма и нашего маленького Джонни. Но потом мне однажды приснился какой-то сон, я стал брыкаться и спихнул Сэма на пол, так что он едва не сломал руку. После этого Сал сказала, что так не годится. Да вот пойдёмте-ка, взгляните сами.
Сказав это, он зажёг свечу и протянул её мне, пропуская меня вперёд. Но я стоял в нерешительности, и тут он, взглянув на часы в углу комнаты, воскликнул:
– Ну, вот и воскресенье! Сегодня ночью вы уже не увидите своего гарпунщика. Видно, он стал на якорь где-то в другом месте. Да пошли же, пошли! Идёте вы или нет?
Я поразмыслил ещё минуту, а затем мы зашагали вверх по лестнице, и я очутился в небольшой, холодной, как устричная раковина, комнатке, посреди которой действительно стояла чудовищная кровать, настолько большая, что в ней спокойно уместились бы четыре спящих гарпунщика.
– Ну вот, – сказал хозяин и поставил свечу на старый матросский сундук, служивший здесь одновременно и подставкой для умывального таза, и столом, – теперь устраивайтесь поудобнее. Спокойной вам ночи.
Я оторвал взгляд от кровати, оглянулся, но он уже исчез.
Тогда я отвернул одеяло и наклонился над постелью. Далёкая от какой бы то ни было изысканности, она тем не менее оказалась при ближайшем рассмотрении вполне сносной. Тогда я стал оглядывать комнату, но, помимо кровати и сундука-стола, не обнаружил здесь никакой другой мебели, кроме грубо сколоченной полки, четырёх стен и каминного экрана, обклеенного бумагой с изображением человека, поражающего кита. Из предметов, не входящих непосредственно в обстановку этой комнаты, здесь была скатанная и перевязанная койка, брошенная на пол в углу, а вместо сухопутного чемодана большой матросский мешок, содержащий, без сомнения, гардероб гарпунщика. Сверх того, на полке над камином лежала связка костяных рыболовных крючков диковинного вида, а у изголовья кровати стоял длинный гарпун.
Но что за предмет лежит на сундуке? Я взял его в руки, поднёс к свету, щупал, нюхал и всяческими способами пытался прийти относительно него к какому-нибудь вразумительному заключению. Я могу сравнить его только с большим половиком, украшенным по краям позвякивающими висюльками, наподобие игл пятнистого дикобраза на отворотах индейских мокасин. В центре этого половика была дыра, вернее, узкий разрез, вроде того, что мы видим в плащах-пончо. Но возможно ли, чтобы здравомыслящий гарпунщик нацепил на себя половик и в подобном одеянии расхаживал по улицам христианского города? Я примерил его из любопытства, и он, словно тюк с провизией, так и пригнул меня книзу, толстый, косматый и, как показалось мне, слегка влажный, как будто загадочный гарпунщик носил его под дождём. Не снимая его, я подошёл к осколку зеркала, приставленного к стене, – никогда в жизни не видел я подобного зрелища. Я с такой поспешностью выдирался из него, что едва не удавил себя.
Потом я уселся на край кровати и стал размышлять о торгующем головами гарпунщике и его половике. Поразмыслив некоторое время на краю кровати, я встал, снял бушлат и стал размышлять посреди комнаты. Потом снял куртку и малость поразмыслил в одной рубашке. Но почувствовав, что полураздетый я начинаю замерзать, и вспомнив, как хозяин уверял меня, что гарпунщик сегодня вовсе не вернётся домой, потому что час уже слишком поздний, я без дальнейших колебаний разулся и скинул панталоны, а затем, задув свечу, повалился на кровать и поручил себя заботам провидения.
Чем там был набит матрас: обглоданными кукурузными початками или битой посудой, – сказать трудно, но я долго ворочался в постели и всё никак не мог заснуть. Наконец, я забылся лёгкой дремотой и готов был уже отплыть с попутным ветром в сонное царство, как вдруг в коридоре раздались тяжёлые шаги и в щели под дверью замерцал слабый свет.
Господи, помилосердствуй, думаю, ведь это, должно быть, гарпунщик, проклятый торговец головами. А сам лежу совершенно неподвижно, преисполнившись решением не произнести ни слова, покуда ко мне не обратятся. Держа в одной руке свечу, а в другой – ту самую новозеландскую голову, незнакомец вошёл в комнату и, даже не взглянув на кровать, поставил свечу прямо на пол в дальнем углу, а сам принялся возиться с верёвками, перевязывавшими большой мешок, о котором я уже упоминал. Я горел желанием рассмотреть его лицо, но, занятый развязыванием мешка, он некоторое время стоял, отвернувшись от меня. Однако, справившись наконец с верёвками, он обернулся и, о небо! Что я увидел! Какая рожа! Цвета тёмно-багрового с прожелтью, это лицо было усеяно большими чёрными квадратами. Ну вот, так я и знал: эдакое пугало мне в сотоварищи! Он, видно, подрался с кем-то, ему изрезали всё лицо, и хирург наклеил пластырей. Но в этот самый момент он как раз обратил лицо к свету, и я отчётливо увидел, что это у него вовсе не пластыри, эти чёрные квадраты на щеках. Это были какие-то пятна на коже. Вначале я не знал, что и подумать, но скоро стал подозревать истину. Мне припомнился рассказ о белом человеке – тоже китобое, – который попал к каннибалам и был подвергнут ими татуировке. И я решил, что и этот гарпунщик во время своих дальних плаваний пережил подобное приключение. Ну и что с того, в конце концов подумал я. Ведь это всего лишь его внешний облик, можно под всякой кожей быть честным человеком. Однако как же объяснить нечеловеческий цвет его лица, вернее, цвет тех участков кожи, которые лежат по краям чёрных квадратов и не затронуты татуировкой? Возможно, правда, что это – лишь сильный тропический загар, но, право же, я никогда не слыхал, чтобы в лучах жаркого солнца белый человек загорал до багрово-жёлтого цвета. Впрочем, ведь я никогда не бывал в Южных морях; быть может, южное солнце там оказывает на кожу подобное невероятное воздействие. Между тем как все эти мысли, словно молнии, проносились у меня в голове, гарпунщик по-прежнему не замечал меня. Повозившись с мешком, он открыл его, порылся там и вскоре извлёк нечто вроде томагавка и какую-то сумку из тюленьей шкуры мехом наружу. Положив всё это на старый сундук в центре комнаты, он взял новозеландскую голову – вещь достаточно отвратительную – и запихал её в мешок. Затем он снял шапку – новую бобровую шапку, – и тут я чуть было не взвыл от изумления. На голове у него не было волос, во всяком случае ничего такого, о чём бы стоило говорить, только небольшой чёрный узелок, скрученный над самым лбом. Эта лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп. Если бы незнакомец не стоял между мною и дверью, я бы пулей вылетел из комнаты – быстрее, чем расправлялся когда-либо с самым вкусным обедом.
Но и при такой дислокации я начал быстро подумывать о том, чтобы выбраться незаметно через окно, да только комната наша была на третьем этаже. Я не трус, но этот торгующий головами багровый разбойник был вне границ моего разумения. Неведение – мать страха, и, признаюсь, я, совершенно ошарашенный и сбитый с толку этим зрелищем, до такой степени боялся теперь незнакомца, словно это сам дьявол ворвался глубокой ночью ко мне в комнату. По совести говоря, я настолько был перепуган, что не имел духу окликнуть его и потребовать удовлетворительного объяснения относительно всего того, что представлялось мне в нём загадочным.
Между тем он продолжал раздеваться и наконец обнажил грудь и руки. Умереть мне на этом самом месте, ежели я лгу, но только упомянутые части его тела, обычно скрытые одеждой, были разграфлены в такую же клетку, как и лицо; и спина тоже была вся покрыта чёрными квадратами, точно он только что вернулся с Тридцатилетней войны[75], израненный и весь облепленный пластырем. Мало того, даже ноги его были разукрашены, будто целый выводок тёмно-зелёных лягушек карабкался по стволам молодых пальм. Теперь было совершенно ясно, что это – какой-то свирепый дикарь, в Южных морях погрузившийся на борт китобойца и таким образом попавший в христианскую землю. Меня просто трясло от ужаса. И к тому же ещё он торгует головами – быть может, головами своих братьев. А что, если ему приглянется моя голова… господи! какой жуткий томагавк!
Но мне уже некогда было трястись, ибо дикарь теперь стал проделывать нечто, полностью поглотившее моё внимание и окончательно убедившее меня в том, что передо мной действительно язычник. Приблизившись к своему тяжёлому пончо, или плащу, или покрывалу – уж не знаю, как это назвать, – который он перед тем повесил на спинку стула, он стал рыться в его карманах и вытащил наконец какого-то удивительного горбатого уродца, в точности такого же цвета, как трёхдневный конголезский младенец. Вспомнив набальзамированную голову, я уже готов был впрямь поверить, что это чёрное создание – настоящий младенец, законсервированный подобным же образом, но, отметив про себя, что предмет этот твёрд, как камень, и блестит, как хороший кусок полированного чёрного дерева, я заключил, что это, должно быть, всего лишь деревянный идол, что тут же и подтвердилось. Ибо я вдруг вижу, что дикарь подходит к пустому камину, отодвигает экран и ставит своего горбатого божка, словно кеглю, под сводами очага. Боковые стенки камина и все его кирпичные внутренности были покрыты густым слоем сажи, и мне подумалось, что этот камин – вполне подходящий алтарь, вернее, капище для африканского идола.
Я, как мог, скосил глаза в направлении полузапрятанного божка и, хоть мне было сильно не по себе, стал следить за тем, что же будет дальше. Смотрю, он выгребает из кармана плаща две горсти стружек, насыпает их осторожно перед идолом; потом кладёт сверху кусок морского сухаря и свечой поджигает стружку – вспыхнуло жертвенное пламя. Тут он стал быстрыми движениями совать пальцы в огонь и ещё быстрее отдёргивать их (причём, он их, кажется, сильно обжёг) и в результате вытащил, наконец, сухарь из пламени; потом он раздул немного жар, разворошил золу и почтительно предложил обугленный сухарь своему чернокожему младенцу. Но маленькому дьяволу, видимо, не по вкусу было это подгорелое угощение, потому что он даже губами не шевельнул. И все эти странные манипуляции сопровождались ещё более странными гортанными звуками, издаваемыми моим набожным идолопоклонником, который, как я понимаю, молился нараспев или же распевал свои языческие псалмы, корча при этом противоестественные гримасы. Наконец он потушил огонь, самым бесцеремонным образом вытащил из камина своего идола и небрежно засунул его обратно в карман плаща, словно охотник, отправляющий в ягдташ подстреленного вальдшнепа.
Вся эта загадочная процедура лишь увеличила моё смущение, и видя определённые признаки того, что близится завершение описанных деловых операций и что сейчас он полезет ко мне в кровать, я понял, что наступил момент, сейчас или никогда, покуда ещё не погашен свет, разрушить чары, так долго мною владевшие.
Но несколько секунд, ушедших на размышление о том, как же всё-таки приступить к делу, оказались роковыми. Схватив со стола томагавк, он какое-то время разглядывал его с обуха, а затем сунул на мгновение в пламя свечи, взяв в рот рукоятку, и выпустил целое облако табачного дыма. В следующий миг свеча была погашена, и этот дикий каннибал со своим томагавком в зубах прыгнул ко мне в кровать. Это уж было выше моих сил – я взвыл от ужаса, а он издал негромкий возглас изумления и принялся ощупывать меня.
Заикаясь, я пробормотал что-то, сам не ведая что, откатился от него вплотную к стене и оттуда стал заклинать его, кто бы он ни был такой, чтобы он не двигался и позволил мне встать и снова зажечь свечу. Но его гортанные ответы тут же дали мне понять, что он весьма неудовлетворительно улавливал смысл моих слов.
– Какая чёрт твоя? – произнёс он наконец. – Твоя говорить, а то я убивать, чёрт не знай.
И при этих словах огненный томагавк стал в темноте описывать кривые у меня над головой.
– Хозяин! Бога ради, Питер Гроб! – вопил я. – Хозяин! Караул! Гроб! Ангелы! Спасите!
– Твоя говорить! Твоя сказать, кто такая, а то я убивать, чёрт не знай, – зарычал людоед, устрашающе размахивая томагавком, из которого сыпались на меня огненные искры, так что бельё на мне едва не загорелось. Но в этот самый миг, благодарение господу, в комнату вошёл хозяин со свечой в руке, и я, выскочив из кровати, бросился к нему.
– Ну-ну, можете не бояться, – сказал он, по-прежнему ухмыляясь, – наш Квикег вас не обидит.
– Да перестанете ли вы ухмыляться? – заорал я. – Вы почему не сказали мне, что этот гарпунщик – чёртов каннибал?
– А я думал, вы сами догадаетесь, я ведь говорил вам, что он торгует в городе головами. Да вы напрасно волнуетесь, не бойтесь и ложитесь спокойно спать. Эй, Квикег, послушай, твоя моя понимай, этот человек с тобой будет спать, твоя понимай?
– Моя много-много понимай, – проворчал Квикег, сидя на кровати и часто попыхивая трубкой.
– Твоя сюда полезай, – добавил он, махнув в мою сторону томагавком и откинув край одеяла. И, право же, он проделал это не просто любезно, а я бы сказал даже, очень ласково и по-настоящему гостеприимно. Минуту я стоял и глядел на него. Несмотря на всю татуировку, это был в общем чистый, симпатичный каннибал. И с чего это я так расшумелся, сказал я себе, он такой же человек, как и я, и у него есть столько же оснований бояться меня, как у меня – бояться его. Лучше спать с трезвым каннибалом, чем с пьяным христианином.
– Хозяин, – заявил я, – велите ему запрятать подальше свой томагавк или трубку, уж не знаю, как это у вас называется. Короче говоря, скажите ему, чтобы он перестал курить, и тогда я лягу с ним вместе. Я не люблю, когда в одной кровати со мной кто-нибудь курит. Это опасно. К тому же, я не застрахован.
Просьба моя была пересказана Квикегу, он сразу же её удовлетворил и снова вежливо знаком пригласил меня в кровать, отодвинувшись к самому краю, словно хотел сказать – я и ноги твоей не коснусь.
– Спокойной ночи, хозяин, – сказал я. – Можете идти.
Я забрался в кровать и уснул так крепко, как ещё не спал никогда в жизни.
Глава IV. Лоскутное одеяло
Назавтра, когда я проснулся на рассвете, оказалось, что меня весьма нежно и ласково обнимает рука Квикега. Можно было подумать, что я – его жена. Одеяло наше было сшито из лоскутков – из множества разноцветных квадратиков и треугольничков всевозможных размеров, и его рука, вся покрытая нескончаемым критским лабиринтом узоров, каждый участок которых имел свой, отличный от соседних оттенок, чему причиной послужило, я полагаю, его обыкновение во время рейса часто и неравномерно подставлять руку солнечным лучам, то засучив рукав до плеча, то опустив немного, – так вот, та самая рука теперь казалась просто частью нашего лоскутного одеяла. Она лежала на одеяле, и, право же, узоры и тона все так перемешались, что, проснувшись, только по весу и давлению я мог определить, что это Квикег меня обнимает.
Странные ощущения испытал я. Сейчас попробую описать их. Помню, когда я был ребёнком, со мной однажды произошло нечто подобное – что это было, грёза или реальность, я так никогда и не смог выяснить. А произошло со мною вот что.
Я напроказничал как-то – кажется, попробовал пролезть на крышу по каминной трубе, в подражание маленькому трубочисту, виденному мною за несколько дней до этого, а моя мачеха, которая по всякому поводу постоянно порола меня и отправляла спать без ужина, мачеха вытащила меня из дымохода за ноги и отослала спать, хотя было только два часа пополудни 21 июня, самого длинного дня в нашем полушарии. Это было ужасно. Но ничего нельзя было поделать, и я поднялся по лестнице на третий этаж в свою каморку, разделся по возможности медленнее, чтобы убить время, и с горьким вздохом забрался под одеяло.
Я лежал, в унынии высчитывая, что ещё целых шестнадцать часов должны пройти, прежде чем я смогу восстать из мёртвых. Шестнадцать часов в постели. При одной этой мысли у меня начинала ныть спина. А как светло ещё; солнце сияет за окном, грохот экипажей доносится с улицы, и по всему дому звенят весёлые голоса. Я чувствовал, что с каждой минутой положение моё становится всё невыносимее, и наконец я слез с кровати, оделся, неслышно в чулках спустившись по лестнице, разыскал внизу свою мачеху и, бросившись внезапно к её ногам, стал умолять её в виде особой милости избить меня как следует туфлей за дурное поведение, готовый претерпеть любую кару, лишь бы мне не надо было так непереносимо долго лежать в постели. Но она была лучшей и разумнейшей из мачех, и пришлось мне тащиться обратно в свою каморку. Несколько часов пролежал я там без сна, чувствуя себя значительно хуже, чем когда-либо впоследствии, даже во времена величайших своих несчастий. Потом я, вероятно, всё-таки забылся мучительной кошмарной дремотой; и вот, медленно пробуждаясь, – ещё наполовину погруженный в сон, – я открыл глаза в своей комнате, прежде залитой солнцем, а теперь окутанной проникшей снаружи тьмой. И вдруг всё моё существо пронизала дрожь, я ничего не видел и не слышал, но я почувствовал в своей руке, свисающей поверх одеяла, чью-то бесплотную руку. И некий чудный, непостижимый облик, тихий призрак, которому принадлежала рука, сидел, мерещилось мне, у самой моей постели. Бесконечно долго, казалось целые столетия, лежал я так, застыв в ужаснейшем страхе, не смея отвести руку, а между тем я всё время чувствовал, что стоит мне только чуть шевельнуть ею, и жуткие чары будут разрушены. Наконец это ощущение незаметным образом покинуло меня, но, проснувшись утром, я снова с трепетом вспомнил его, и ещё много дней, недель и месяцев после этого терялся я в мучительных попытках разгадать тайну. Ей-богу, я и по сей день нередко ломаю над ней голову.
Так вот, если отбросить ужас, мои ощущения в момент, когда я почувствовал ту бесплотную руку в своей руке, совершенно совпадали по своей необычности с ощущениями, которые я испытал, проснувшись и обнаружив, что меня обнимает языческая рука Квикега. Но постепенно в трезвой осязаемой реальности утра мне припомнились одно за другим все события минувшей ночи, и тут я понял в каком комическом затруднительном положении я нахожусь. Ибо как ни старался я сдвинуть его руку и разорвать его супружеские объятия, он, не просыпаясь, по-прежнему крепко обнимал меня, словно ничто, кроме самой смерти, не могло разлучить нас с ним. Я попытался разбудить его: «Квикег!», – но он только захрапел мне в ответ. Тогда я повернулся на бок, чувствуя словно хомут на шее, и вдруг меня что-то слегка царапнуло. Откинув одеяло, я увидел, что под боком у дикаря спит его томагавк, точно чёрненький остролицый младенец. Вот так дела, подумал я, лежи тут в чужом доме среди бела дня в постели с каннибалом и томагавком! «Квикег! Ради всего святого, Квикег! Проснись!» Наконец, не переставая извиваться, я непрерывными громогласными протестами по поводу всей неуместности супружеских объятий, в которые он заключил своего соседа по постели, исторг из него какое-то нечленораздельное мычание; и вот он уже снял с меня руку, весь встряхнулся, как ньюфаундлендский пёс после купания, уселся в кровати, словно аршин проглотил, и, протерев глаза, уставился на меня с таким видом, точно не вполне понимал, как я тут очутился, хотя какое-то смутное сознание того, что он уже меня видел, медленно начинало теплиться у него во взгляде. А я тем временем лежал и спокойно разглядывал его, не испытывая более относительно него никаких опасений и намереваясь поэтому как можно лучше рассмотреть столь удивительное создание. Когда же наконец он, видимо, пришёл к определённому выводу о том, что представляет собой его сосед по постели, и как будто бы смирился с существующим положением вещей, он спрыгнул на пол и дал мне жестами и возгласами понять, что готов, если мне так больше нравится, одеваться первым и оставить меня затем в одиночестве, уступив комнату полностью в моё распоряжение. Ну, Квикег, думаю я, при данных обстоятельствах это в высшей степени культурное начало. Да ведь, по правде говоря, как тут ни верти, а дикарям вообще свойственна некоторая врождённая деликатность; удивления достойно, насколько вежливы они по своей природе. Я с такой похвалой отзываюсь о Квикеге просто потому, что он проявил немало учтивости и предупредительности, в то время как я повинен был в грубой бестактности: лёжа в постели, я разглядывал его, внимательно следя за всеми стадиями его туалета – на сей раз любопытство взяло верх над моей благовоспитанностью. Ведь такого человека, как Квикег, не каждый день увидишь – и сам он, и его повадки заслуживают самого внимательного рассмотрения.
К одеванию он приступил сверху, водрузив на макушку свою бобровую шапку – надо сказать, весьма высокую, – а затем, всё ещё без брюк, стал шарить по полу в поисках башмаков. Для чего это делалось, я, клянусь богом, не знаю, но в следующий момент он – в бобровой шапке и с башмаками в руке – очутился под кроватью, где, насколько я мог судить по его прерывистому дыханию и надсадному кряхтенью, он стал старательно натягивать башмаки на ноги, хотя никакими законами благопристойности не предусмотрено, чтобы человек должен был обуваться в уединении. Но, понимаете ли, Квикег был существом в промежуточной стадии – ни гусеница, ни бабочка. Он был цивилизован ровно настолько, чтобы всевозможными невероятными способами выставлять напоказ свою дикость. Образование его ещё не было завершено. Он ещё только учился. Не будь он уже в малой степени цивилизован, он бы, по всей вероятности, вовсе не стал затруднять себя башмаками; с другой стороны, если б он не оставался всё ещё дикарём, ему бы никогда не пришло в голову надевать башмаки под кроватью. Наконец он вылез из-под кровати в шапке, которая вся промялась и сдвинулась на самые глаза, и стал со скрипом, хромая, ходить по комнате, видно он не очень-то привык к обуви, а эта пара башмаков из воловьей кожи, сырых и сморщенных, и сшитых, надо думать, не на заказ, в то немилосердно холодное утро поначалу мучительно жала ему ноги.
Ну а так как занавесей у нас на окне не было и из дома напротив через узенькую улочку отлично видно было всё происходящее в нашей комнате, а Квикег, расхаживающий в одной только шапке и башмаках, представлял собою в высшей степени нелепое зрелище, я стал уговаривать его по возможности понятнее, чтоб он хоть немного ускорил свой туалет, главное же, чтоб он поспешил надеть наконец брюки. Он внял моей просьбе, а затем приступил к умыванию. В тот утренний час всякий христианин на его месте стал бы мыть лицо. Квикег же – поразительно – ограничился лишь тем, что подверг омовению грудь, плечи и руки. Потом он надел жилет, взял с сундука, служившего столом и подставкой для умывальника, кусок твёрдого мыла, окунул его в воду и стал намыливать щёки. Я с интересом ждал, чтоб он извлёк откуда-нибудь свою бритву, но тут он вдруг вытаскивает из угла за кроватью гарпун, отделяет длинную деревянную рукоятку, снимает чехол с лезвия, несколько раз проводит им по своей подошве и, остановившись перед обломком зеркала у стены, начинает энергично брить, вернее гарпунировать себе щёки. Да, думаю, Квикег, здорово же ты распоряжаешься первосортными лезвиями фирмы Роджера. Впоследствии я уже не так дивился описанной операции, потому что узнал, из какой высококачественной стали изготовляются гарпуны и как необыкновенно остро затачиваются их длинные прямые лезвия.
Туалет Квикега был вскорости завершён, и он величественно вышел из комнаты, облачённый в длинный лоцманский бушлат, неся в руке, словно маршальский жезл, свой неизменный гарпун.
Глава V. Завтрак
Я сразу же последовал за ним и, спустившись в буфетную, вполне дружелюбно приветствовал ухмыляющегося хозяина. Я не питал к нему недобрых чувств, хотя он немало позабавился на мой счёт в связи с происшествиями минувшей ночи.
Но ведь до чего ж хорошо бывает иной раз посмеяться как следует. Превосходная это вещь – смех от души, превосходная и довольно-таки редкая, и это, между прочим, жаль. И потому, если какой-нибудь человек своей собственной персоной поставляет людям материал для хорошей шутки, пусть он не скаредничает и не стесняется, пусть он весело отдаст себя на службу этому делу. Уверяю вас, что тот, в ком заложена щедрая доля смешного, гораздо значительнее, чем вы, вероятно, предполагаете.
В буфетной к этому времени собралось уже полно постояльцев, которые прибыли минувшей ночью и которых я вчера не видел. То были почти сплошь одни китобои: первые, вторые и третьи помощники капитана, корабельные купоры и корабельные кузнецы, гарпунщики и гребцы – смуглые, мускулистые люди с дремучими бородами, заросшая, косматая команда, с утра облачённая в матросские бушлаты вместо шлафроков.
Можно было с лёгкостью определить, как давно каждый из них покинул палубу своего корабля. Вот у этого здоровяка-юноши щёки напоминают цветом напоённые солнцем груши, от них и запах-то, кажется, исходит такой же сладкий; он не далее как три дня назад вернулся сюда из Индии. А тот, что сидит с ним рядом, не такой смуглый – это уже оттенок красного дерева. У третьего лицо ещё сохранило тропический загар, но только теперь порядком выцветший – этот человек, без сомнения, уже не одну неделю провёл на берегу. Но кто мог бы похвастаться такими щеками, как Квикег, чья рожа, исполосованная разноцветными линиями, казалось, подобно западному склону Анд, украшена была в одном замысловатом узоре всеми климатическими зонами?
– Эге-гей! Еда готова! – возгласил наконец хозяин, распахнув дверь, и мы проследовали в соседнюю комнату к завтраку.
Говорят, что люди, повидавшие свет, отличаются непринуждённостью манер и не теряются в любом обществе. Но это отнюдь не всегда так: Ледьярд[76], великий путешественник из Новой Англии, и шотландец Мунго Парк[77], оба они в гостиных всегда совершенно тушевались. Быть может, путешествия по бескрайней Сибири в санях, запряжённых собаками, вроде того, какое совершил Ледьярд, или продолжительные прогулки натощак и в одиночестве к сердцу чёрной Африки, к чему, собственно, сводились все достижения бедного Мунго, быть может, говорю я, подобные подвиги не являются лучшим способом приобретения светского лоска. Но всё-таки лоск – это, в общем, не редкость.
Настоящие рассуждения вызваны следующим обстоятельством: когда все мы уселись за стол и я приготовился услышать боевые рассказы о китобойном промысле, оказалось, к немалому моему изумлению, что все присутствующие хранят глубокое молчание. И мало того, у них даже вид был какой-то смущённый. Да, да! Вокруг меня сидели эти морские волки, из которых многие в открытом море без малейшего смущения брали на абордаж огромных китов – совершенно чужих и незнакомых – и, глазом не моргнув, вели с ними смертный бой до победного конца; а между тем здесь они сидели за общим завтраком – все люди одной профессии и сходных вкусов – и оглядывались друг на друга с такой робостью, словно никогда не покидали пределов овчарни на Зелёных горах[78]. Удивительное зрелище – эти застенчивые медведи, эти робкие воины-китобои!
Но возвращаюсь к моему Квикегу – а Квикег сидел среди них и, по воле случая, даже во главе стола, невозмутим и холоден, как сосулька. Разумеется, его манеры оставляли желать лучшего. Даже самый горячий из его почитателей не мог бы, не покривив душой, оправдать присутствие гарпуна, который он принёс с собой к столу, где и орудовал им без всяких церемоний, протягивая его через весь стол к вящей опасности для соседских голов, чтобы загарпунить и притянуть к себе бифштексы. Но всё это он, надо отдать ему должное, проделывал крайне невозмутимо, а ведь всякий знает, что в глазах большинства невозмутимость равноценна всем светским приличиям.
Мы не будем здесь перечислять других странностей Квикега, не будем говорить о том, как он тщательно избегал горячих булочек и кофе, как посвятил полностью своё внимание непрожаренным бифштексам. Достаточно будет сказать, что, когда завтрак был окончен, он вместе со всеми перешёл в буфетную, разжёг трубку-томагавк и так сидел в своей неизменной шапке, предаваясь пищеварению и спокойно покуривая, в то время как я вышел прогуляться.
Глава VI. Улица
Если я испытал удивление, впервые увидев такую диковинную личность, как Квикег, вращающуюся в культурном обществе цивилизованного города, удивление это тут же улетучилось, когда я предпринял свою первую – при дневном свете – прогулку по улицам Нью-Бедфорда.
Во всяком мало-мальски крупном портовом городе на тех улицах, что расположены поблизости от пристаней, можно часто встретить самых неописуемых индивидуумов со всех концов света. Даже на Бродвее и Чеснет-стрит случается иной раз, что средиземноморские моряки толкают перепуганных американских леди. Риджент-стрит посещают порой индийские и малайские матросы, а в Бомбее на Аполло-Грин туземцев, бывало, часто пугали живые янки. Но Нью-Бедфорд побивает всех – и Уотер-стрит, и Уоппинг[79]. Последние в изобилии посещаются только обыкновенными моряками; а в Нью-Бедфорде настоящие каннибалы стоят и болтают на перекрёстках; самые подлинные дикари, и у некоторых из них кости ещё покрыты некрещёной плотью. Как же на них не глазеть?
Но, помимо жителей островов Фиджи, Тонгатобу, Эроманго, Пананджи и Брайтджи[80] и помимо диких представителей китобойного ремесла, которые кружатся по здешним улицам, не привлекая внимания прохожих, мы можем увидеть в Нью-Бедфорде зрелище ещё более любопытное и, уж конечно, более комичное. Еженедельно сюда прибывают стаи новичков из Вермонта и Нью-Гэмпшира, жаждущих приобщиться к чести и славе китобойного промысла. Это всё больше молодые, дюжие парни, недавние лесорубы, вознамерившиеся променять топор на китобойный гарпун. Юнцы, зелёные, как те Зелёные горы, откуда они приехали. Иной раз кажется, что им не более нескольких часов от роду. Вон, к примеру, тот парень, который с важным видом вышел из-за угла. На нём бобровая шапка, и фалды у него наподобие ласточкина хвоста, однако подпоясался он матросским ремнём да ещё прицепил кинжал в ножнах. А вот идёт ещё один, в зюйдвестке, но в бомбазиновом плаще.
Никогда городскому франту не сравниться с деревенским, со стопроцентным денди-мужланом, который на сенокос надевает перчатки из оленьей кожи, дабы уберечь от загара руки. И вот, если такой деревенский франт заберёт себе в голову, что ему необходимо отличиться и сделать карьеру, и решит поступить на китобойное судно, – посмотрели бы вы, что он выделывает, очутившись наконец в порту! Заказывая себе матросское облачение, он обязательно посадит на жилет модные пуговицы колокольчиками и прикажет снабдить штрипками свои парусиновые брюки. Увы, бедный деревенщина! Как прежалостно полопаются эти штрипки при первом же порыве свежего ветра, когда тебя, вместе со всеми твоими пуговицами и штрипками, захватит свирепый шторм!
Однако не подумайте, что сей славный город может похвастаться перед приезжим только гарпунщиками, каннибалами и деревенскими простофилями. Это вовсе не так. Ведь Нью-Бедфорд и впрямь место удивительное. Когда бы не мы, китобои, этот участок земли и по сей день оставался бы, наверное, в таком же плачевном состоянии, как берега Лабрадора. Да и теперь за городом, чуть в глубь от побережья, встречаются места, до того голые, костлявые, что просто страх берёт. Но сам город прекрасен, пожалуй, во всей Новой Англии не сыщешь города лучше. Настоящая земля елея, право же, но только, в отличие от Ханаана[81], к тому же ещё – земля хлеба и вина. Улицы не текут молоком, и по весне их не мостят свежими яйцами. Однако, несмотря на это, нигде во всей Америке не найдёшь домов царственнее, парков и садов роскошнее, чем в Нью-Бедфорде. Откуда они? Каким образом разрослись здесь, на этой некогда скудной, усыпанной вулканическим шлаком земле?
Ступайте и разглядите хорошенько железную решётку, в которой каждый прут загнут наподобие гарпуна, разглядите решётку вокруг вон того высокого особняка, и вы найдёте ответ на свой вопрос. Да, все эти нарядные здания и пышные сады прибыли сюда из Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Всё это в своё время загарпунили китобои и выволокли сюда со дна морского. Способен ли был сам герр Александер[82] на подобный подвиг?
Говорят, отцы в Нью-Бедфорде дают за своими дочерьми в приданое китов, а племянниц наделяют дельфинами. Поезжайте в Нью-Бедфорд, если хотите поглядеть настоящую блистательную свадьбу, ибо у них там, говорят, в каждом доме есть целые резервуары китового жира и каждую ночь щедро сжигаются спермацетовые свечи высотой в человеческий рост.
Летом город особенно приятен для взгляда, весь утопающий в клёнах, – длинные зелёные и золотые аллеи. А в августе высоко в небе прекрасные пышные каштаны, словно канделябры, протягивают над прохожим удлинённые, как свечи, конусы своих соцветий. Столь всемогуще искусство, которое по всему Нью-Бедфорду разбило яркие террасы цветников на голых обломках скал, сваленных здесь в последний день творения.
А женщины Нью-Бедфорда! Они цветут, подобно розам, что посажены их же нежными ручками. Но розы цветут лишь летом, тогда как нежные гвоздики у них на щеках рдеют круглый год, точно солнце на седьмом небе. Цветения, равного этому, не сыщешь на всей земле, разве только в Сейлеме, где, как я слышал, дыхание молодых девушек так полно мускуса, что моряки за много миль от берега по запаху угадывают близость своих возлюбленных, словно идут к ароматным Молуккам, а не к пуританским прибрежным пескам.
Глава VII. Часовня
В том же самом Нью-Бедфорде стоит Часовня Китобоев, и мало найдётся суровых рыбаков, готовящихся к отплытию в Индийский или Тихий океан, кто пренебрёг бы случаем зайти сюда в воскресенье. Я, по крайней мере, зашёл. Вернувшись с первой утренней прогулки, я вскоре опять вышел на улицу – только ради того, чтобы сходить в часовню. Небо из ясного, солнечного и холодного превратилось в сплошной туман и летящий снег с дождём. Завернувшись поплотнее в свою ворсистую куртку, сшитую из ткани, которая носит название «медвежья шкура», я пробился сквозь свирепую бурю. Когда я вошёл в часовню, там было немного народу – всего несколько моряков да несколько матросских жён и вдов.
Стояла глухая тишина, прерываемая по временам лишь возгласами бури. Казалось, каждый безмолвный молящийся намеренно уселся в стороне от остальных, как будто каждое безмолвное горе было непередаваемо и замкнуто в себе. Священника ещё не было. Только сидели, словно немые островки, эти мужчины и женщины, не отводя глаз от мраморных плит с чёрной окантовкой, вделанных в стену по обе стороны от кафедры. Три из них имели приблизительно такие надписи (на точность цитат не претендую):
ПАМЯТИ ДЖОНА ТОЛБОТА,
ПОГИБШЕГО В ВОЗРАСТЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ЗА БОРТОМ КОРАБЛЯ ВБЛИЗИ ОСТРОВА ЗАПУСТЕНЬЯ У БЕРЕГОВ ПАТАГОНИИ НОЯБРЯ МЕСЯЦА ПЕРВОГО ДНЯ 1836 ГОДА.
ЭТУ ПЛИТУ ВОЗДВИГЛА В ПАМЯТЬ О НЁМ ЕГО СЕСТРА
ПАМЯТИ РОБЕРТА ЛОНГА, ВИЛЛИСА ЭЛЛЕРИ, НАТАНА КОЛМЕНА, УОЛТЕРА КЭННИ, СЕТА МЭЙСИ И СЭМУЭЛА ГЛЭГА, СОСТАВЛЯВШИХ КОМАНДУ ОДНОГО ИЗ ВЕЛЬБОТОВ С КОРАБЛЯ «ЭЛИЗА» И УВЛЕЧЁННЫХ КИТОМ В ОТКРЫТОЕ МОРЕ ВБЛИЗИ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 31 ДЕКАБРЯ 1839 ГОДА.
СЕЙ МРАМОР УСТАНОВИЛИ ЗДЕСЬ ИХ ОСТАВШИЕСЯ В ЖИВЫХ ТОВАРИЩИ
ПАМЯТИ ПОКОЙНОГО КАПИТАНА ЕЗЕКИИЛА ХАРДИ,
УБИТОГО НА НОСУ СВОЕГО ВЕЛЬБОТА КАШАЛОТОМ У БЕРЕГОВ ЯПОНИИ 3-ГО АВГУСТА 1833 ГОДА.
ЭТУ ДОСКУ УСТАНОВИЛА В ПАМЯТЬ О НЁМ ЕГО ВДОВА
Отряхнувши мокрые льдинки со шляпы и с куртки, я уселся недалеко от двери и стал оглядываться по сторонам, как вдруг, к изумлению своему, заметил поблизости Квикега. В этой торжественной обстановке он внимательно глядел вокруг с выражением недоверчивого любопытства во взгляде. Дикарь оказался единственным, кто обратил внимание на моё появление, поскольку он был здесь единственным, кто не умел читать и, следовательно, не был занят чтением упомянутых бесстрастных надписей по стенам.
Были ли среди собравшихся в часовне родственники тех моряков, чьи имена значились на плитах, этого я не знаю, но несчастные случаи на море столь многочисленны и столь многие среди присутствующих женщин несли на лицах, если не в одежде, печать неизбывного горя, что с уверенностью могу сказать: здесь собрались те, в чьих незаживающих сердцах при взгляде на эти хладные плиты начинают вновь кровоточить старые раны.
Вы, чьи усопшие погребены под зелёным травянистым покровом, кто может, стоя среди цветов, сказать: здесь, здесь лежит тот, кого я любила, – вам неведомо страдание, гнетущее эти сердца. Сколько горестных пробелов между траурными гранями мрамора, под которым не покоится прах! Какое отчаяние в этих холодных надписях! Какая мертвящая пустота, какое неожиданное безбожие в этих строках, подтачивающих всякую веру и словно лишающих надежды на воскресение тех, кто погиб на неведомых широтах и не получил погребения. Этим плитам подобало бы стоять в пещерах Элефанты[83], а не здесь.
В какую перепись живущих включены наши мертвецы? Почему повсеместно гласит пословица, будто могилы немы, хоть и хранят они не меньше тайн, чем Гудвинские пески?[84] Как объяснить, что перед именем того, кто вчера отправился в мир иной, помещаем мы слово, столь значительное и столь кощунственное, однако не награждаем подобным же титулом того, кто отплывает к берегам отдалённейших Индий на нашей земле? Почему страховые компании выплачивают крупные суммы в случае кончины бессмертных? В каком вечном, неподвижном параличе, в каком мёртвом, безнадёжном трансе лежит сейчас древний Адам, скончавшийся круглых шестьдесят столетий тому назад? Как объяснить, что мы столь безутешно оплакиваем тех, кому, согласно нашим же утверждениям, уготовано вечное несказанное блаженство? Почему все живущие так стремятся принудить к молчанию всё то, что умерло? Отчего даже смутного слуха о каких-то стуках в гробнице довольно, чтобы привести в ужас целый город?
Все эти вопросы не лишены глубокого смысла.
Но вера, подобно шакалу, кормится среди могил, и даже из этих мёртвых сомнений извлекает она животворную надежду.
Едва ли надо говорить, с каким чувством разглядывал я накануне своего отплытия в Нантакет эти мраморные плиты и читал в пасмурном свете унылого гаснущего дня о судьбах китобоев, до меня отправившихся этой дорогой. Да, Измаил, быть может, и тебя ожидает та же участь. Однако постепенно я вновь развеселился. Ведь это же просто заманчивое приглашение пуститься в плавание и отличный случай добиться успеха; ей-богу, разбитый вельбот пожалует мне бессмертие без повышения оклада. Это верно, в китобойном ремесле смерть – дело обычное: краткий хаотический миг, так что и ахнуть не успеешь, а уже тебя спровадили в Вечность. Но что же из этого? Думается мне, мы порядком понапутали в этом вопросе Жизни и Смерти. Мне думается, то, что именуют моею тенью здесь на земле, и есть на самом деле моя истинная сущность. Мне думается, что, рассматривая явления духовные, мы уподобляемся устрицам, наблюдающим солнце сквозь толщу воды и полагающим, будто эта мутная вода есть наипрозрачнейший воздух. Мне думается, что тело моё – лишь некий осадок моего лучшего бытия. Да право же, пусть кто хочет забирает моё тело, пусть забирает, говорю, оно – не я. И потому: трижды «ура» Нантакету, а также проломленному днищу вельбота и проломленному черепу, ибо душу мою даже самому Юпитеру не сломить.
Глава VIII. Кафедра проповедника
Так просидел я совсем недолго, когда в часовню вошёл какой-то человек чинного вида и крепкого телосложения, и по тому, как все тотчас же устремили к нему почтительные взоры, едва захлопнулась под натиском метели впустившая его дверь, я мог с уверенностью заключить, что этот славный пожилой человек и есть сам священник. Действительно, это был отец Мэппл, как звали его китобои, среди которых он пользовался большой известностью. Когда-то в юности он был моряком, гарпунщиком, однако вот уже много лет как он посвятил себя служению богу. В те дни, о которых я пишу, отец Мэппл переживал бодрую зиму своей здоровой старости, той здоровой старости, которая словно переходит исподволь в цветущую юность, ибо в бороздах его морщин виднелись мягкие проблески нового расцвета – так весенняя зелень проглядывает даже из-под февральского снега.
У всякого, кому известна была его история, отец Мэппл не мог не вызвать величайшего интереса, потому что в его священническом облике проявлялись необычайные черты, находившие объяснение в той суровой корабельной жизни, которую он некогда вёл. Ещё когда он входил, я заметил, что он без зонта и, уж конечно, прибыл не в экипаже, ибо мокрый снег, тая, ручьями стекал с его парусиновой шляпы, а тяжёлый брезентовый плащ, наподобие лоцманского, казалось, так и давил к земле весом всей впитанной им воды. Тем не менее шляпа, плащ и калоши были в должном порядке сняты и развешены в уголке у двери, после чего он в приличествующем облачении спокойно приблизился к кафедре.
Как большинство старомодных кафедр, она была очень высокой, а поскольку обычные ступеньки при такой высоте должны были бы немало протянуться и в длину, значительно сокращая и без того небольшую площадь часовни, архитектор, вероятно по совету отца Мэппла, установил кафедру без ступенек, снабдив её вместо этого сбоку подвесной лестницей, наподобие тех, какими пользуются, чтобы подниматься с лодки на борт корабля. Жена одного капитана-китобоя пожертвовала в часовню два отличных каната из красной шерсти, служивших теперь поручнями этой лестницы, которая, украшенная сверху резьбой и морёная под красное дерево, казалась, принимая во внимание общий стиль часовни, вполне уместным и отнюдь не безвкусным приспособлением. Отец Мэппл задержался на мгновение у подножия лестницы и, крепко ухватившись обеими руками за шерстяные шары на концах поручней, взглянул вверх, а затем с чисто моряцкой, но в то же время чинной сноровкой взобрался по лестнице, перебирая руками, словно подымался на грот-мачту своего корабля.
Продольные части этой лестницы представляли собой, как у настоящего трапа, простую верёвку, обшитую клеёнкой, деревянными были только ступеньки. И я ещё с первого взгляда отметил, что такое устройство может быть очень удобно на корабле, но в данном случае кажется излишним. Ибо я никак не ожидал, что, поднявшись на кафедру, отец Мэппл спокойно обернётся и, перегнувшись через борт, будет неторопливо выбирать лестницу ступенька за ступенькой, покуда вся она не окажется наверху, превратив кафедру в маленький неприступный Квебек[85].
Слегка озадаченный, я некоторое время тщетно раздумывал над смыслом того, что увидел. Отец Мэппл пользовался славой человека большой простоты и святости, так что я не мог заподозрить его в попытке завоевать подобными трюками дешёвую популярность. Нет, думал я, здесь должен быть какой-то особый смысл, более того, какая-то скрытая символика. В таком случае, не хочет ли он показать этим актом физической изоляции, что он на некоторое время духовно уединился, порвав все внешние мирские связи и узлы? В самом деле, ведь для истинно религиозного человека эта кафедра, несущая неистощимые запасы словесного вина и мяса, – несокрушимая твердыня, возвышенный Эренбрейтштейн[86], в стенах которого не иссякнет вечный источник.
Подвесная лестница была здесь не единственной странностью, позаимствованной из прежней матросской жизни пастора. Между мраморными надгробиями, расположенными по обе стороны позади кафедры, на стене была большая картина – одинокий корабль, доблестно сражающийся с бурей, которая гонит его прямо на чёрные береговые скалы, опоясанные белоснежными бурунами. А в вышине, над летящими облаками, над чёрными клубами туч, виднеется островок солнечного света и на нём – лицо ангела, устремившего вниз свой взор. Светлое это лицо отбрасывает на корабль, который носится по волнам далеко внизу, маленькое лучезарное пятнышко, вроде серебряной дощечки, вделанной теперь в палубу «Виктории» на том месте, где пал Нельсон[87]. «О славное судно! – как бы говорит этот ангел. – Смелое, славное судно, держись! Пусть твёрдо стоит твой отважный штурвал. Ведь вдали уже проглядывает солнце, тучи расходятся – проступает безмятежная лазурь».
Сама кафедра тоже несла на себе следы морского вкуса, породившего подвесную лестницу и эту картину. Обшитая спереди панелью, она имела форму крутого корабельного носа, и Библия покоилась на выступе, украшенном завитками, напоминавшими старинную резьбу на носу корабля.
Что может быть многозначительнее этого? Ведь кафедра проповедника искони была у земли впереди, а всё остальное следует за нею: кафедра ведёт за собой мир. Отсюда различают люди первые признаки божьего скорого гнева, и на нос корабля приходится первый натиск бури. Отсюда возносятся к богу бризов и бурь первые моления о попутном ветре. Воистину, мир – это корабль, взявший курс в неведомые воды открытого океана, а кафедра проповедника – нос корабля.
Глава IX. Проповедь
Отец Мэппл поднялся и скромным, мягким голосом отдал повеление своей разбредшейся по часовне пастве собраться и сесть потеснее: «Эй, от левого борта! Податься вправо! От правого борта – влево! В середину, в середину!»
Глухо загрохотали в проходах между скамьями тяжёлые матросские сапоги, зашаркали едва слышно башмаки женщин, и вновь воцарилась тишина, и все глаза устремились на проповедника.
Мгновение он стоял неподвижно, затем опустился на колени, в носовой части своей кафедры, сложил на груди большие смуглые ладони и, устремив вверх взор своих закрытых глаз, начал молиться с таким глубоким благоговением, точно возносил молитву со дна морского. По окончании молитвы, голосом протяжным и торжественным, словно погребальный звон колокола с палубы тонущего в тумане корабля, – вот таким голосом начал он читать гимн, постепенно меняя интонации к заключительным строфам, и окончил чтение звучным благовестом восторга и ликования:
Ему подпевали почти все присутствующие, и гимн ширился, устремляясь в вышину и покрывая завывание бури. Потом ненадолго установилась тишина; проповедник медленно переворачивал страницы Библии и наконец, опустив сложенные ладони на открытую книгу, произнёс:
– Возлюбленные братья-матросы! Возьмём последний стих первой главы книги пророка Ионы – «И создал Бог большого кита и повелел ему поглотить Иону».
– Матросы! Эта книга, содержащая всего четыре главы – четыре рассказа, – лишь тончайшая нить, вплетённая в могучий канат Писания. Но каких глубин души достигает глубинный Ионин лот! Как поучителен для нас пример этого пророка! Как прекрасен гимн во чреве рыбы! Сколь подобен он валам морским и неистово величав! Мы чувствуем, как хляби вздымаются над нами, вместе с ним погружаемся мы на вязкое дно моря, а вокруг, со всех сторон, – морская трава и зелёный ил! Но каков же тот урок, что преподносит нам книга Ионы? Друзья мои, это сдвоенный урок: урок всем нам, грешным людям, и урок мне, кормчему Бога живого. Всем нам, грешным людям, это урок потому, что здесь рассказывается о грехе, о закосневшей душе, о внезапно пробудившемся страхе, скором наказании, о раскаянии, молитве и, наконец, о спасении и радости Ионы. Так же, как и у всех грешников среди людей, грех сына Амафии был в своенравном неподчинении воле Господней – неважно сейчас, в чём эта воля заключалась и как сообщена была ему, – ибо он нашёл, что выполнить её трудно. Но помните: всё, чего ожидает от нас Господь, трудно исполнить, и потому он чаще повелевает нами, нежели пытается нас убедить. И если мы повинуемся Богу, мы должны всякий раз ослушаться самих себя; вот в этом-то неповиновении самим себе и состоит вся трудность повиновения Богу.
Но взяв на себя сей грех неповиновения, Иона и дальше надругался над Господом, ибо пытался бежать от Него. Он думает, что корабль, построенный людьми, перенесёт его в такие страны, где владычествует не Бог, а Капитаны земли. Он шныряет у пристаней Иоппии и высматривает судно, направляющееся в Фарсис. В этом заключён, надо думать, особый, доселе не понятный смысл. По всем расчётам Фарсис не может быть не чем иным, как теперешним Кадисом. Таково мнение людей учёных. А где находится Кадис, друзья мои? В Испании, так далеко от Иоппии, как только мог Иона добраться по морю в те старинные времена, когда воды Атлантики были почти неведомы людям. Потому что Иоппия, собратья мои матросы, это современная Яффа, она находится на самом восточном берегу Средиземного моря, в Сирии. А Фарсис, или Кадис, расположен на две тысячи с лишком миль к западу, у выхода из Гибралтарского пролива. Вы видите, матросы, что Иона пытался бежать от Господа на край света. Несчастный! О, жалкий и достойный всяческого презрения человек! С виноватым взором в очах, скрывается он в шляпе с опущенными полями от своего Бога; рыщет у причалов, подобный подлому грабителю, торопится пересечь море. У него такой беспокойный, такой саморазоблачающий вид, что, существуй в те времена полиция, Иона за одну лишь подозрительную внешность был бы арестован, не успев ступить на палубу корабля. Ведь очевидно, что он беглый преступник: при нём ни багажа – ни одной шляпной картонки, ни дорожной корзинки или саквояжа, – ни друзей, чтобы проводить его до пристани и пожелать счастливого плавания. Но вот наконец после долгих опасливых поисков он находит корабль, направляющийся в Фарсис. Идёт, приближаясь к концу, погрузка; и когда он всходит на палубу, чтобы переговорить в каюте с капитаном, все матросы прерывают на мгновение работу и говорят между собой, что у этого человека дурной глаз. Иона слышит их; но напрасно пытается он придать себе вид спокойный и самоуверенный, напрасно пробует улыбнуться своей жалкой улыбкой. Моряки бессознательно чувствуют его вину. Обычным своим шутливым и в то же время серьёзным тоном они шепчут друг другу: «Говорю тебе, Джек, он ограбил вдовицу», или «Видал, Джо? Это двоеженец», или «Сдаётся мне, Гарри, дружище, что он прелюбодей, сбежавший из тюрьмы в старой Гоморре, или, может, беглый убийца из Содома». Один из матросов подбегает к причалу, возле которого ошвартовано судно, и читает наклеенное на свае объявление, в котором предлагаются пятьсот золотых монет за поимку отцеубийцы, а ниже имеется описание внешности преступника. Он читает и поглядывает то на Иону, то на бумагу, а его товарищи сгрудились вокруг Ионы и понимающе молчат, готовые сразу же схватить его. Устрашившись, дрожит Иона, призывая на помощь всю свою храбрость, чтобы скрыть страх, и только выглядит от этого ещё большим трусом. Он не признается себе, что его в чём-то подозревают, но это само по себе довольно подозрительно. Вот он и стоит там, покуда матросы не убеждаются, что он – не тот человек, о котором говорится в бумаге, и расступаются, пропуская его вниз к капитанской каюте.
«Кто там? – кричит капитан, не поднимая головы над своим столом, за которым он в спешке выправляет бумаги для таможни. – Кто там?» О, как жестоко этот безобидный вопрос ранит душу Ионы! Он уже, кажется, готов повернуться и снова бежать прочь. Но потом овладевает собою. «Мне нужно добраться на этом судне до Фарсиса. Скоро ли вы отплываете, сэр?» До сих пор капитан, занятый своими бумагами, сидел, не поднимая головы, и не видел Ионы, хотя тот и стоит прямо перед ним. Но при звуках этого глухого голоса он сразу же устремляет на Иону пристальный взгляд. «Мы отплываем с приливом», – медленно отвечает он наконец, всё ещё внимательно глядя на своего посетителя. «Не скорее, сэр?» – «И так достаточно скоро для всякого честного пассажира». Ага, Иона, ещё один удар! Но Иона быстро переводит разговор в другое русло. «Я иду с вами, – говорит он. – Вот деньги. Сколько это будет стоить? Я заплачу сейчас». Ибо здесь недаром нарочито говорится, собратья мои матросы, что он «отдал плату за проезд» ещё до того, как корабль отчалил. И в общей ткани рассказа эта подробность полна особого смысла.
Капитан этот, друзья мои, был из таких людей, чья проницательность различает всякое преступление, но чья алчность разоблачает лишь преступления неимущих. В этом мире, братья, Грех, который может заплатить за проезд, свободно путешествует и не нуждается в паспорте, тогда как Добродетель, если она нища, будет задержана у первой же заставы. Капитан решает измерить глубину Ионина кармана, прежде чем высказать о нём своё мнение. Он запрашивает с него тройную цену, и Иона соглашается. Теперь капитан убедился, что Иона – беглый преступник, но он всё же решает помочь беглецу, златом мостящему себе дорогу. Однако, когда Иона без колебаний вытаскивает свой кошелёк, благоразумные подозрения охватывают капитана. Каждую монету он бросает об стол, чтоб проверить, не фальшивая ли она. Ну, во всяком случае, это не фальшивомонетчик, говорит он себе и вносит Иону в список пассажиров. «Укажите мне мою каюту, сэр, – обращается тогда к нему Иона. – Я устал, добираясь сюда, и нуждаюсь в отдыхе». – «По тебе и видно, – замечает капитан. – Вот твоя каюта». Иона входит в каюту и поворачивается, чтобы запереть дверь, но в замке нет ключа. А капитан, слыша, как он там без толку возится с дверью, смеётся тихонько и бормочет себе под нос что-то относительно тюремных камер, которые не разрешается запирать изнутри. Иона прямо, как был, в одежде и покрытый пылью, валится на койку и видит, что потолок в этой маленькой каюте чуть ли не касается его лба. Воздух здесь спёртый, Ионе трудно дышать. Уже теперь, в этой тесной норе, расположенной ниже ватерлинии, испытывает Иона вещее предчувствие того удушливого часа, когда кит заключит его в самой тесной темнице своего чрева.
Слегка покачивается привинченная к переборке висячая лампа; под тяжестью последних тюков судно накренилось в сторону причала, и лампа вместе с язычком пламени висит теперь немного косо по отношению к самой каюте; хотя в действительности, безукоризненно прямая, она лишь делала очевидной всю обманчивость и лживость тех уровней, среди которых она покачивалась. Лампа тревожит, пугает Иону; лёжа у себя на койке, он усталыми глазами обводит каюту, и не на чём отдохнуть беспокойному взору этого доселе удачливого беглеца. А двусмыслие лампы внушает ему всё больший страх. Всё перекошено – пол, потолок, переборки. «Вот так же и совесть моя висит во мне, – стонет он, – прямо вверх устремлено её жгучее пламя, но искривлены все приделы моей души».
Как человек, который после пьяного ночного пиршества торопится к своему ложу, хоть голова у него ещё кружится, а уже укоры совести начинают запускать в душу стальные крючья вроде тех шипов на упряжи римского скакуна, что тем глубже впиваются ему в грудь, чем сильнее рвётся он вперёд; подобно этому человеку, который в мучительной дурноте мечется у себя на постели, моля Бога, чтобы Он даровал ему небытие, покуда длится это жалкое состояние, и наконец среди водоворота мук чувствует, как его охватывает глубокое оцепенение, подобное тому, в какое погружается умирающий от потери крови, ибо больная совесть – это та же рана, и ничем нельзя унять кровотечения; вот так и Иона, проведя на своей койке долгие мучительные беспокойные часы, наконец под тяжестью чудодейственного страдания погружается в зелёные глубины сна.
Но вот наступило время прилива; отданы швартовы, и от безлюдной пристани, сильно кренясь, отваливает судно и уходит в море, взяв курс на Фарсис. Это был первый в истории контрабандистский корабль, друзья мои. И контрабандой был Иона. Но море восстаёт, оно не желает нести неправедный груз. Разразился ужасный шторм, он грозит разнести корабль в щепы. Но теперь, когда боцман зовёт всех наверх, когда с гулом летят за борт ящики, тюки и кувшины, под вой ветра и людские вопли, под дробный топот ног, от которого ходуном ходит дощатая палуба прямо у него над головой, – среди всего этого неистового рёва Иона спит своим страшным сном. Он не видит чёрного неба и бушующего моря, не чувствует, как рассаживаются шпангоуты, и не чует, не ведает, что уж теперь издалека, рассекая волны, мчится за ним вдогонку, разинув пасть, огромный кит. Ибо Иона, братья мои матросы, спустился во внутренность корабля, улёгся на койку в своей каюте и спит теперь крепким сном. Но перепуганный шкипер приходит к нему и кричит ему прямо в сонное ухо: «Ты что спишь, безумный? Вставай!» Пробудившись от этого отчаянного вопля, Иона опускается на ноги, спотыкаясь и теряя равновесие, выбирается на палубу и, уцепившись за канат, глядит на море. Но в этот самый миг огромная волна, подобно пантере, бросается на него из-за борта. Вал за валом обрушивается на корабль, и вода, не находя стока, с рёвом мчится на корму и на нос, и вот уже моряки тонут, хоть корабль ещё держится на воде. И всякий раз, как бледная луна показывает свой испуганный лик в глубоких промоинах среди бурного мрака на небе, объятый ужасом, видит Иона, как вздымается бушприт корабля, чтобы тут же снова нырнуть вниз, навстречу беснующемуся водному лону.
С воплями теснятся страхи в его душе. Как ни жмётся, как ни прячется он, бегущий Господа, он теперь отмечен для всех взоров. Матросы замечают его, утверждаются в подозрениях, и наконец, только затем, чтоб удостовериться в истине, прибегнув к суду Небес, решают они бросить жребий и узнать, кого ради постигла их великая буря. И пал жребий на Иону. Убедившись в этом, с какой яростью забрасывают они его вопросами: «Чем занимаешься ты? Откуда идёшь? Где твоя страна? И из какого ты народа?» Но вы заметьте, матросы, как себя держит теперь Иона. Возбуждённые моряки спрашивают его всего лишь, кто он и откуда, но получают они не только ответ на свои вопросы, но также и другой ответ на вопрос, не заданный ими, неожиданный ответ, исторгнутый из Иониной груди твёрдой десницею Бога.
– Я еврей! – кричит он, а потом добавляет: – Я чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу.
Ты чтишь Его, Иона? Надлежит тебе ныне трепетать перед Ним. И Иона тут же, не сходя с места, признаётся во всём, и, выслушав его рассказ, люди испытывают великий страх, но всё же они жалеют его. И когда Иона, не решаясь ещё молить Господа о милосердии, ибо ему слишком хорошо известна вся глубина собственных прегрешений, когда несчастный Иона кричит им, чтоб они взяли его и бросили в море – ведь он знал, что это его ради постигла их великая буря, – они в жалости отворачиваются от него и пытаются спасти корабль иными способами. Но усилия тщетны, всё оглушительней вой негодующего шторма; и тогда, воздев призывно одну руку к небесам, другую они, сами не желая того, всё же наложили на Иону.
Глядите! Вот Иону поднимают, словно якорь, и бросают в море; и тотчас же спокойствие маслом растекается по волнам с востока, и утихает море от ярости своей, и буря вместе с Ионой остаётся далеко за кормой, и гладкие волны окружают корабль. Иона идёт ко дну среди такого дикого беспорядочного водоворота и бурлящего смятения, что он и не замечает даже, как попадает в поджидающую его разинутую пасть; кит захлопывает челюсти, лязгнув белыми зубами, словно бесчисленными засовами на дверях темницы. И тогда Иона помолился Господу Богу своему из чрева кита. Но обратите внимание на его молитву и усвойте важный урок. Как ни грешен Иона, он не вопит и не молит об освобождении. Он чувствует, что ужасное наказание справедливо. Освобождение своё он полностью предоставляет на волю Божию, довольствуясь сам лишь тем, что наперекор всем тяготам и мукам устремляет свой взор ко святому храму Его. А это, собратья мои матросы, и есть истинное и подлинное раскаяние, не требующее прощения, но благодарное за наказание. И сколь приятно это было Богу в Ионе – показывает его последующее освобождение и спасение от моря и от кита. Братья, я не ставлю в пример Иону, чтоб вы подражали ему в его грехе, но я ставлю его в пример как образец раскаяния. Не грешите, но, совершив грех, непременно покайтесь в нём, подобно Ионе.
Так говорил проповедник, а доносившиеся снаружи пронзительные завывания яростной метели, казалось, придавали ещё больше силы его словам, и когда он описывал шторм на море, то чудилось, будто и самого его охватил бушующий шторм. Его широкая грудь вздымалась, словно от мёртвой зыби, раскинутые руки казались двумя борющимися стихиями; раскаты грома вырывались из-под тёмного чела, а взгляд метал молнии – и всё это заставляло простосердечных слушателей взирать на него с непривычным им чувством страха и почитания. Но теперь наступило затишье; снова он молча принялся листать страницы священной книги; а затем, закрыв глаза, мгновение стоял неподвижно, в общении с богом и самим собой.
Потом он снова наклонился вперёд к своей пастве и, всё ниже и ниже опуская голову, с видом глубочайшего и мужественнейшего смирения произнёс такие слова:
– Собратья мои матросы! Одну лишь длань наложил на вас Бог, обеими дланями давит Он на меня. При тусклом свете, отпущенном мне, я прочёл вам урок, которому учит Иона всех грешников и, стало быть, вас, а ещё больше – меня, ибо я – больший грешник, чем вы. С какой радостью спустился бы я сейчас с этой мачты и уселся бы на палубе, где вы сидите, и стал бы слушать, как слушаете вы, чтобы кто-нибудь из вас читал мне этот второй, ещё более страшный урок, которому Иона учит меня, кормчего Бога живого. Как, будучи помазанным кормчим-пророком, прорицателем истины, Иона, получив приказание от Господа возвестить неприятные истины погрязшей во зле Ниневии, но, устрашившись возбудить вражду жителей этого города, бежал от возложенного на него Богом и пытался укрыться от долга своего и от Господа, взойдя на корабль в Иоппии. Но Бог – повсюду; и до Фарсиса Иона так и не добрался. Вы помните, во образе кита Бог настиг его и поглотил, ввергнув в кипящую бездну погибели, и, быстро погружаясь, повлёк с собой «в сердце моря», где бурлящие водовороты утянули его в тысячемильную глубину, «и морскою травою была обвита его голова», и весь текучий мир скорбей катился над ним. Но и оттуда, из бездны, недоступной лоту, «из чрева преисподней», когда уже кит погрузился на самое дно океана, – и оттуда услышал Бог голос раскаявшегося в пучине пророка. И тогда Господь сказал киту, и из содрогающегося хладного морского мрака кит устремился навстречу тёплому, ласковому солнцу, навстречу всем чудесам воздуха и земли и «изверг Иону на сушу»; тогда слово Господне прозвучало опять, и Иона, израненный и избитый, но всё ещё слыша в ушах своих, словно в двух морских раковинах, многоголосый рокот океана, – Иона исполнил повеление Всемогущего. Каково же было это повеление, братья? Возвещать Истину перед лицом Лжи!
Вот, друзья мои, вот в чём состоит второй урок, и горе тому кормчему Бога живого, который пренебрежёт им. Горе тому, кого отвлекает этот мир от божественного долга! Горе тому, кто льёт масло на волны, когда Бог повелел быть буре! Горе тому, кто стремится льстить, а не устрашать! Горе тому, кому доброе имя дороже добродетели! Горе тому, кто бежит бесчестия в этом мире! Горе тому, кто отступится от истины, даже если во лжи – спасение! Да, горе тому, кто, как говорил великий кормчий Павел, проповедуя другим, сам остаётся недостойным!
Он поник и на мгновение как бы забылся; потом, снова подняв к ним лицо, озарённое теперь глубокой радостью, воскликнул в божественном вдохновении:
– О братья мои матросы! Справа по борту рядом со всяким горем движется неизменная благодать, и вершина этой благодати уходит дальше ввысь, чем уходит вниз глубина горя. Подобно тому, как высота грот-мачты превосходит глубину кильсона. Благодать, устремлённая высоко вверх и глубоко внутрь, благодать тому, кто против гордых богов и владык этой земли, непреклонный, ставит всегда самого себя. Благодать тому, чьи сильные руки ещё поддерживают его, когда корабль этого предательского, подлого мира идёт ко дну у него под ногами. Благодать тому, кто не поступится крупицей правды, но будет разить, жечь, сокрушать грех, даже сокрытый под мантиями сенаторов и судий. Благодать, высокая как брамсель, благодать тому, кто не признаёт ни закона, ни господина, кроме Господа своего Бога, у кого одно отечество – небеса. Благодать тому, кого все волны неистового океана толпы не могут смыть с этого надёжного Корабля Столетий. Вечная благодать и радость – удел того, кто сможет сказать, испуская последнее дыхание: «Отец мой (знакомый мне более всего своими ударами), смертный или бессмертный, вот я умираю. Я стремился принадлежать Тебе, скорее нежели этому миру или себе самому. Но сие всё – неважно. Я оставляю Тебе вечность, ибо что есть человек, чтобы пережить ему своего Бога?»
Больше он ничего не сказал, но медленным жестом благословил сидевших, закрыл ладонями лицо и так стоял коленопреклонённый, покуда все не разошлись, оставив его в одиночестве.
Глава X. Закадычный друг
Вернувшись из часовни в гостиницу «Китовый фонтан», я застал там одного только Квикега, который покинул часовню незадолго до благословения. Он сидел на табурете у камина, поставив ноги на решётку, и одной рукой держал у самых глаз своего маленького чёрного идола, уставившись пристально ему в лицо и легонько проводя лезвием ножа по его носу, и при этом напевал про себя что-то на свой языческий манер.
Увидев меня, он отложил своего бога и тут же, подойдя к столу, снял оттуда большую книгу, которую поместил у себя на коленях, и принялся сосредоточенно считать в ней листы; каждый раз, насчитав полсотни, он, как я заметил, на мгновение останавливался, озирался растерянно и недоуменно, издавал протяжный переливчатый присвист, а потом принимался за следующие полсотни, опять, видимо, начиная счёт сначала, как будто бы больше, чем до пятидесяти, он считать не умел, и всё изумление его перед множеством листов в книге вызвано было лишь тем, что их здесь так много раз по пятьдесят.
Я наблюдал за ним с большим интересом. Хотя он и был дикарём и хоть лицо его, по крайней мере на мой вкус, так жутко уродовала татуировка, всё-таки в его внешности было что-то приятное. Душу не спрячешь. Мне казалось, что под этими ужасными шрамами я могу различить признаки простого честного сердца; а в его больших глубоких глазах, огненно-чёрных и смелых, проглядывал дух, который не дрогнет и перед тысячью дьяволов.
Но помимо всего остального, в жестах этого язычника было нечто величавое, что даже его неуклюжесть не могла исказить. У него был вид человека, который никогда не раболепствовал и никогда не одолжался. И потому ли, что голова его была обрита, так что рельефнее становился и казался особенно вместительным его высокий лоб, этого я не берусь решить, но, несомненно, с точки зрения френолога, у него был великолепный череп. Может показаться смешным, но мне его голова напомнила голову генерала Вашингтона с известного бюста. У Квикега был тот же удлинённый, правильный, постепенно отступающий склон над бровями, которые точно так же выдавались вперёд, словно два длинных густо заросших лесистых мыса. Квикег представлял собой каннибальский вариант Джорджа Вашингтона.
Покуда я так пристально разглядывал его, одновременно притворяясь, будто смотрю в окно, за которым бушевала метель, он не обращал на меня ни малейшего внимания, не потрудился ни разу даже взглянуть в мою сторону – так поглощён он был пересчитыванием листов в своей удивительной книге. Помня, как по-дружески провели мы с ним минувшую ночь, в особенности же, как любовно обнимала меня его рука, когда я проснулся утром, я нашёл это равнодушие весьма странным. Но дикари – странные существа, подчас и не знаешь толком, как к ним относиться. Поначалу они нам внушают благоговение, их спокойная простота и невозмутимость кажутся мудростью Сократа.
Я, кстати, заметил, что Квикег почти не общался с другими моряками в гостинице. Он не делал никаких попыток к сближению, словно не имел ни малейшего желания расширить круг знакомств. Всё это показалось мне в высшей степени необычайным; однако, поразмыслив немного, я понял, что в этом было даже какое-то духовное превосходство. Передо мной сидел человек, заброшенный за тысячи миль от родного дома, проделавший долгий путь вокруг мыса Горн – потому что другого пути оттуда нет, – один среди людей, столь чуждых ему, точно он очутился на Юпитере; и тем не менее он держится совершенно непринуждённо, сохраняя полнейшее хладнокровие, довольствуясь собственным обществом и всегда оставаясь самим собой. Право же, в этом виден тонкий философ, хотя он, разумеется, никогда о философии и не слыхивал. Но, вероятно, мы, смертные, только тогда можем быть истинными философами, когда сознательно к этому не стремимся. Если я слышу, что такой-то выдаёт себя за философа, я тут же заключаю, что он, подобно некоей старухе, просто «животом мается».
Кроме нас, в комнате не было ни души. Огонь в очаге горел слабо, пройдя уже ту стадию, когда своим первым жаром он обогрел помещение и теперь поблёскивал лишь для того, чтобы было на что смотреть в задумчивости; а за окном столпились вечерние призраки и тени заглядывали в комнату, где мы сидели вдвоём в одиночестве и молчании; вой метели то торжественно нарастал, то замирал за стеною; и странные чувства стали зарождаться в моей душе. Что-то во мне растаяло. Я почувствовал, что моё ожесточённое сердце и яростная рука уж больше не ведут войну против здешнего волчьего мира. Его искупителем стал этот умиротворяющий дикарь. Вот он сидит передо мною, и самая его невозмутимость говорит о характере, чуждом затаившегося цивилизованного лицемерия и вежливой лжи. Конечно, он дикий, и при этом – редкостное страшилище, но я чувствовал, что меня начинает как-то загадочно тянуть к нему. И притягивало меня, словно сильный магнит, именно то, что оттолкнуло бы всякого другого. Попробую-ка я обзавестись другом-язычником, думал я, раз христианское добросердечие оказалось всего лишь пустой учтивостью. Я пододвинул к нему мою табуретку и стал делать разные дружелюбные знаки и жесты, в то же время всячески стараясь завязать с ним разговор. Вначале он не обращал внимания на мои попытки, но после того как я сослался на его ночное гостеприимство, он сам задал мне вопрос, будем ли мы с ним и в эту ночь спать вместе. Я ответил утвердительно, и мне показалось, что он остался этим доволен, может быть, даже несколько польщён.
Потом мы стали с ним вместе листать ту толстую книгу, и я попытался объяснить ему цель книгопечатания и растолковать смысл нескольких помещённых там иллюстраций. Таким образом мне удалось скоро заинтересовать его, и немного спустя мы уже болтали с ним, как могли, обо всех тех необыкновенных вещах, которые встречаются в этом славном городе. Потом я предложил: «Закурим?», – и он вытащил свой кошель-кисет и томагавк и любезно дал мне затянуться. Так мы с ним и сидели, по очереди попыхивая его дикарской трубкой и неторопливо передавая её из рук в руки.
Если до этого в груди моего язычника ещё оставался лёд равнодушия, то теперь дружеский, сердечный огонёк нашей трубки окончательно растопил его, и мы сделались задушевными приятелями. Он проникся ко мне такой же естественной, непринуждённой симпатией, как и я к нему. И когда мы накурились, он прижал свой лоб к моему, крепко обнял меня за талию и сказал, что отныне мы с ним повенчаны, – подразумевая под этим традиционным в его стране выражением, что мы с ним теперь неразлучные друзья и что он готов умереть за меня, если возникнет в том необходимость. В моём соотечественнике столь скоропалительная вспышка дружелюбия показалась бы весьма преждевременной и не заслуживающей доверия – но к бесхитростному дикарю такие старинные мерки не подходили.
Мы поужинали, и опять немного поболтали, выкурили ещё одну трубку и вместе отправились к себе в комнату. Здесь он преподнёс мне в подарок новозеландскую бальзамированную голову, а также, вынув свой огромный кисет и порывшись в табаке, извлёк оттуда что-то около тридцати долларов серебром, разложил их на столе и, поделив на две равные кучки, пододвинул одну из них ко мне и сказал, что это – моё. Я вздумал было отказываться, но он и слушать меня не стал, а просто ссыпал мне монеты в карман. Ну, я уж их там и оставил.
После этого он начал готовиться к своей вечерней молитве, вытащил идола и отодвинул бумажный экран. По некоторым признакам и симптомам я понял, что ему бы очень хотелось, чтобы я к нему присоединился, но, помня всю процедуру, я решил поразмыслить, соглашаться мне, если он меня пригласит, или же нет.
Я честный христианин, рождённый и воспитанный в лоне непогрешимой пресвитерианской церкви. Как же могу я присоединиться к этому дикому идолопоклоннику и вместе с ним поклоняться какой-то деревяшке? Но что значит – поклоняться? Уж не думаешь ли ты, Измаил, что великодушный бог небес и земли – а стало быть, и язычников и всего прочего – будет ревновать к ничтожному обрубку чёрного дерева? Быть того не может! Но что значит поклоняться богу? Исполнять его волю, так ведь? А в чём состоит воля божья? В том, чтобы я поступал по отношению к ближнему так, как мне бы хотелось, чтобы он поступал по отношению ко мне – вот в чём состоит воля божья. Квикег – мой ближний. Чего бы я хотел от этого самого Квикега? Ну конечно же, я хотел бы, чтобы он принял мою пресвитерианскую форму поклонения богу. Следовательно, я тогда должен принять его форму, ergo[88] – я должен стать идолопоклонником. Поэтому я поджёг стружки, помог установить бедного безобидного идола, вместе с Квикегом угощал его горелым сухарём, отвесил ему два или три поклона, поцеловал его в нос, и только после всего этого мы разделись и улеглись в постель, каждый в мире со своей совестью и со всем светом. Но перед тем как уснуть, мы ещё немного побеседовали.
Не знаю, в чём тут дело, но только нет другого такого места для дружеских откровений, как общая кровать. Говорят, муж с женой открывают здесь друг другу самые глубины своей души, а пожилые супруги нередко до утра лежат и беседуют о былых временах. Так и мы лежали с Квикегом в медовый месяц наших душ – уютная, любящая чета.
Глава XI. Ночная сорочка
Так мы лежали в кровати, то болтая, то засыпая ненадолго, и чувствуя себя настолько непринуждённо и по-приятельски свободно, что Квикег даже время от времени дружелюбно вытягивал свои коричневые татуированные ноги поверх моих; но в конце концов наши задушевные разговоры совершенно разогнали последние остатки сонливости, и мы хоть сейчас готовы были встать, несмотря на то, что заря ещё не занималась и утро было ещё делом далёкого будущего.
У нас с ним сна не осталось ни в одном глазу, мы даже лежать устали и через некоторое время уже сидели, плотно укутавшись одеялом, прислонившись к деревянной спинке кровати и тесно сдвинув наши четыре колена, над которыми низко свисали наши два носа, точно в коленных чашечках у нас, как в жаровнях, лежали раскалённые угли. Нам было очень хорошо и уютно, тем более что на улице стоял мороз, да и не только на улице, но и в комнате, ведь камин-то был нетоплен. Я говорю «тем более», потому что только тогда можно до конца насладиться теплом, когда какой-нибудь небольшой участок вашего тела остаётся в холоде, ибо нет такого качества в нашем мире, которое продолжало бы существовать вне контраста. Ничего не существует само по себе. Если вы льстите себя мыслью, что вам очень хорошо и удобно – всему вашему телу, с ног до головы, – и притом уже давно, то, значит, вам уже больше не хорошо и не удобно. Но если у вас, как у нас с Квикегом, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы и испытываете общее восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить; тёплая спальня – это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами. Ведь высшая степень наслаждения – не иметь между собою и своим теплом, с одной стороны, и холодом внешнего мира – с другой, ничего, кроме шерстяного одеяла. Вы тогда лежите точно единственная тёплая искорка в сердце арктического кристалла.
Мы уже довольно долго просидели так, поджав колени, когда я вдруг решил, что пора открыть глаза. Дело в том, что в постели – днём ли, ночью ли, сплю ли я, или бодрствую – я имею обыкновение всегда держать глаза закрытыми, дабы полнее сосредоточиться на удовольствии пребывать под одеялом. Ибо человек может до конца осознать собственную индивидуальность только тогда, когда веки его сомкнуты, будто именно тьма – родная стихия нашего существа, а не свет, более привлекательный для нашей бренной оболочки. И вот, открыв глаза, я из мною созданной уютной тьмы попал в навязанный мне извне грубый мрак неосвещённой полночи – перемена очень резкая и довольно неприятная. Так что я отнюдь не стал возражать, когда Квикег намекнул, что, мол, неплохо было бы зажечь свет, раз уж мы всё равно не спим, и к тому же он испытывает сильное желание сделать пару спокойных затяжек из своего томагавка. Надо сказать, если накануне ночью я был решительным образом против того, чтобы он курил в постели, то теперь заметьте себе, как гибки становятся наши твердейшие предубеждения, когда их сгибает родившаяся между людьми любовь. И мне теперь как нельзя более приятно было, чтобы Квикег курил подле меня, и даже в постели, потому что у него тогда был такой безмятежный, довольный, домашний вид. Я больше уже не испытывал неоправданного беспокойства относительно хозяйского страхового полиса. Я только чувствовал живое сердечное удовольствие оттого, что делю одеяло и трубку с настоящим другом. Накинув на плечи косматые бушлаты, мы передавали друг другу курящийся томагавк до тех пор, покуда над нами не вырос незаметно и не повис, колыхаясь в свете зажжённой лампы, синий балдахин дыма.
То ли это волнообразное колыхание увлекло мысли дикаря прочь, к отдалённым берегам, не знаю, но он вдруг заговорил о своём родном острове, а мне очень хотелось услышать его историю, поэтому я стал настойчиво просить, чтобы он продолжил начатый рассказ. Он охотно удовлетворил мою просьбу. И хотя в то время я лишь смутно понимал смысл многих его выражений, тем не менее последующие открытия, сделанные мною в результате более близкого знакомства с его отрывистой фразеологией, позволяют мне теперь привести эту историю такой, какой она здесь в сжатом виде и предлагается.
Глава XII. Жизнеописательная
Квикег был туземцем с острова Коковоко[89], расположенного далеко на юго-западе. На карте этот остров не обозначен – настоящие места никогда не отмечаются на картах.
Будучи ещё свежевылупленным дикаренком, бегавшим без присмотра среди лесных кущ в соломенном передничке, который норовили пожевать теснившиеся вокруг него, словно вокруг зелёного деревца, козы, – даже тогда Квикег в глубине своей честолюбивой души уже испытывал сильное желание поближе посмотреть на христианский мир, не ограничиваясь разглядыванием двух-трёх заезжих китобойцев. Отец его был верховный вождь, местный монарх, дядя – верховный жрец, а по материнской линии он мог похвастаться несколькими тётушками – жёнами непобедимых воинов. Так что кровь в его жилах текла высокосортная – настоящая королевская кровь, хотя, боюсь, прискорбно подпорченная людоедскими наклонностями, которые он свободно удовлетворял в дни своей безнадзорной юности.
Однажды в залив его отца зашло судно из Сэг-Харбора[90], и Квикег стал проситься, чтобы его отвезли в христианскую землю. Однако команда судна была полностью укомплектована, так что его просьбу отклонили, и даже всё влияние его монаршего отца ничего не смогло тут изменить. Но Квикег дал себе клятву. Один в своём челноке он уплыл к далёкому проливу, через который, как ему было известно, должно было, покинув остров, пройти судно. По одну сторону пролива тянулся коралловый риф, по другую – низкая коса, густо поросшая манграми, которые поднимались не только из земли, но и из воды у берега. В этих зарослях он спрятал свой челнок, поставив его носом к морю, а сам уселся на корме, низко держа в руке весло; а когда судно, скользя, проходило мимо, точно молния, ринулся он наперерез, подгрёб к борту, одним толчком ноги перевернул и потопил челнок, вскарабкался вверх на руслень и, плашмя растянувшись во всю длину на палубе, вцепился обеими руками в кольцо рыма, поклявшись, что не разожмёт рук, даже если его станут рубить на куски.
Напрасно капитан угрожал вышвырнуть его за борт, напрасно замахивался топором над его обнажёнными запястьями – Квикег был царский сын, и Квикег остался твёрд. Наконец, потрясённый его отчаянным бесстрашием и столь горячим желанием посетить христианский мир, капитан сменил гнев на милость и сказал Квикегу, что тот может оставаться и устраиваться, как ему будет удобнее. Но этот благородный юный дикарь – принц Уэльский Южных морей – так и не увидел даже капитанской каюты. Его поместили в кубрике с матросами, и он стал китобоем. Подобно царю Петру, с удовольствием плотничавшему на верфях в чужеземных портах, Квикег не гнушался никаким самым презренным занятием, если только оно дарило ему возможность просветить умы его тёмных соотечественников. Ибо, как признался он мне, в глубине души он руководствовался сокровенным желанием обучиться среди христиан искусствам, способным сделать его народ ещё счастливее и, более того, ещё лучше, чем он был. Но, увы, жизнь среди китобоев вскоре убедила его, что и христиане могут быть несчастливы и порочны, несравненно несчастливее и порочнее, чем любой язычник, подданный его отца. Когда же он наконец прибыл в старый Сэг-Харбор и увидел, как вели себя там матросы, а потом добрался и до Нантакета и увидел, на что растрачивали они и здесь свои деньги, бедняга Квикег окончательно махнул на всё рукой. Зло живёт в этом мире под любым меридианом, сказал он себе, так что уж лучше я умру язычником.
Так и получилось, что он, исконный идолопоклонник в душе, жил тем не менее среди христиан, носил такую же, как они, одежду и учился говорить на их, с позволения сказать, языке. И отсюда – все его странности, хоть он давно уже покинул отчий дом.
Как можно тактичнее я спросил его, не намерен ли он вернуться домой и короноваться на царство, поскольку его старого отца, ещё давно, как он слышал, впавшего в немощь, теперь уже, конечно, нет в живых. Он ответил, что нет, пока не намерен; и добавил, что боится, не сделало ли его христианство, вернее христиане, недостойным взойти на чистый, незапятнанный отчий престол, где до него восседали тридцать языческих царей. Но когда-нибудь, сказал он, он ещё вернётся – как только снова почувствует себя очищенным от скверны. А покуда он собирается предаться увлечениям юности и поплавать вдоволь по всем четырём океанам. Его научили владеть гарпуном, и теперь это колючее орудие у него взамен скипетра.
Я спросил, каковы его планы на ближайшее будущее. Он ответил, что хотел бы снова пойти в плавание в своей прежней должности. Тут я сообщил ему, что также задумал поступить на китобойное судно, и поделился с ним своим намерением попасть для этого в Нантакет – самый многообещающий порт для начинающего китобоя и любителя приключений. Он тут же принял решение вместе со мной отправиться на остров, поступить на то же судно, что и я, попасть со мной в одну вахту, в один вельбот, за один стол – короче говоря, разделить со мной все превратности судьбы, чтобы мы могли, крепко взявшись за руки, смело черпать от всего, что пошлёт нам удача и в Старом, и в Новом Свете. На всё это я с радостью согласился, ибо, помимо той привязанности, которую я теперь к нему испытывал, меня поддерживало ещё сознание, что Квикег – опытный гарпунщик и поэтому в плавании незаменимый товарищ для такого человека, как я, совершенно несведущего в тайнах китобойного промысла, хотя и неплохо знакомого с морем, насколько это возможно для моряка с торгового судна.
Окончив свой рассказ с последней затяжкой, Квикег обнял меня и прижался лбом к моему лбу, после чего мы задули свечу и вскоре уже спали, откинувшись друг от друга по обе стороны кровати.
Глава XIII. Тачка
На следующее утро, в понедельник, сбыв одному цирюльнику бальзамированную голову в качестве болванки для париков, я уплатил по своему счёту и по счёту моего друга – воспользовавшись для этого, однако, деньгами друга. Как веселился наш ухмыляющийся хозяин, а с ним и все постояльцы при виде той внезапной дружбы, которая завязалась у меня с Квикегом, ведь несусветицы и небылицы, рассказанные Питером Гробом, раньше очень сильно напугали меня и настроили против того самого человека, с которым я теперь сдружился.
Мы позаимствовали у кого-то тачку и, погрузив на неё свои пожитки, в том числе мой жалкий саквояж, а также парусиновый мешок и свёрнутую койку Квикега, покатили прочь к пристани, откуда отходил «Лишайник» – маленький нантакетский пакетбот. Мы двигались по улицам, а прохожие с изумлением глазели на нас, и не столько на Квикега – потому что к людоедам в этом городе привыкли, – сколько именно на нас обоих, поражаясь нашей с ним близости. Но мы не обращали на это ни малейшего внимания – мы шагали вперёд, по очереди катили тачку и останавливались время от времени, чтобы Квикег мог поправить чехол на лезвиях своего гарпуна. Я поинтересовался, зачем он на суше носит с собой такой неудобный предмет – разве на всяком китобойном судне не достаточно своих гарпунов? На это он мне ответил, что в сущности я, конечно, прав, но что он особенно дорожит своим собственным гарпуном, так как лезвие у него из сверхзакаленной стали, испытанное во многих смертельных схватках и близко знакомое с китовым сердцем. Короче говоря, подобно многим жнецам и косарям, которые выходят на фермерский луг, вооружившись собственными косами, хоть они вовсе и не обязаны их приносить, – точно так же и Квикег по каким-то своим личным соображениям предпочитал собственный гарпун.
Перехватывая у меня рукоятки тачки, он рассказал мне забавную историю о том, как он увидел тачку впервые. Дело было в Сэг-Харборе. Хозяева судна дали ему тачку, чтобы он перевёз на ней в матросский пансион свой тяжёлый сундук. Дабы не показаться неосведомлённым в этом деле – а он и понятия не имел о том, как, собственно, с ней обращаться, – Квикег устанавливает на неё свой сундук, накрепко его привязывает, а потом взваливает всё вместе себе на плечи и так шагает по пристани.
– Господи, Квикег! – говорю я. – Неужели же ты не знал таких простых вещей? Люди, наверно, смеялись над тобою?
Тогда он рассказал мне другую забавную историю. На его родном острове Роковоко, устраивая свадебные пиршества, туземцы выжимают сладкий сок молодых кокосов в большую раскрашенную тыкву, наподобие чаши для варки пунша, и эта тыква всегда является главным украшением в центре большой циновки, где расставляются яства. Однажды в Роковоко зашло большое купеческое судно, и капитан – по всем отзывам, весьма достойный и безупречный джентльмен, во всяком случае, для морского капитана, – был приглашён на пир по случаю свадьбы юной сестры Квикега – очаровательной молодой царевны, только что достигшей десятилетнего возраста. И вот, когда все гости собрались в бамбуковой хижине невесты, входит этот капитан и усаживается на предназначенное ему почётное место прямо против тыквы между верховным жрецом и его царским величеством – отцом Квикега. Прочитали молитву – ибо у этих людей, точно так же как и у нас, есть свои молитвы, только Квикег говорил мне, что, в отличие от нас, взирающих во время молитвы вниз, на свои тарелки, они, наоборот, подражают уткам и устремляют взоры кверху, к великому Подателю всех угощений, – так вот, прочитали молитву, и тогда верховный жрец открыл празднество особой древней церемонией – он окунул в тыкву свои освящённые и освящающие пальцы, после чего благословенный напиток должен идти по кругу. Но капитан, сидевший подле жреца, увидел это и, считая, что ему, капитану большого судна, безусловно должно принадлежать право первенства перед простым царём какого-то острова, тем более в доме этого самого царя, – капитан преспокойно ополаскивает пальцы в пуншевой чаше, полагая, вероятно, что она для того и поставлена здесь, чтобы в ней мыли руки. «Ну, – говорит Квикег, – что ты теперь скажешь? Думаешь, наши люди не смеялись?»
Но вот, заплатив за проезд и пристроив свой багаж, мы очутились на борту пакетбота. Поставлены паруса, и мы скользим вниз по реке Акушнет. Справа от нас террасами своих улиц поднимался Нью-Бедфорд, весь сверкая обледеневшими ветвями деревьев в холодном прозрачном воздухе. На пристанях высокими горами громоздились груды наваленных друг на друга бочек, и тут же один подле другого безмолвно стояли на якоре китобойные суда, избороздившие весь свет и наконец вернувшиеся в тихую гавань; но уже с иных палуб доносился звон плотничьих и бондарных инструментов, слышался согласный гул горнов и костров, на которых топили смолу, – всё это означало, что готовятся новые рейсы, что окончание одного долгого, опасного плавания служит лишь началом другого, окончание второго – началом третьего, и так без конца, на вечные времена. Вот она, нескончаемая, нестерпимая бесцельность всех дел земных!
По мере того как мы удалялись от берега, свежий ветер крепчал, и маленький «Лишайник» стал раскидывать носом быструю пену, словно фыркающий жеребёнок. С какой жадностью вдыхал я этот воздух кочевий! С каким презрением спешил оставить позади все заставы земли, этой изъезженной дороги, покрытой бессчётными отпечатками рабских подошв и подков, чтобы восхищаться великодушием моря, которое не сохраняет следов на своём лоне.
И Квикег вместе со мною упивался брызгами пенного фонтана. Смуглые его ноздри раздувались, ровные заострённые зубы обнажались. Всё вперёд и вперёд летели мы. Очутившись в открытом море, «Лишайник» низко поклонился порыву ветра, с разбега зарывшись носом в волну, словно раб, павший ниц перед султаном. Накренившись, неслись мы куда-то вбок, и натянутые снасти звенели, как проволока, а две высокие мачты выгибались, словно тростинки под ветром. Стоя у ныряющего бушприта, мы были настолько поглощены этим головокружительным зрелищем, что не сразу заметили глумливые взгляды, которые бросали в нашу сторону пассажиры, – целая компания сухопутных увальней, поражённых тем, что два человека могут быть так дружны, – как будто белый человек – не тот же негр, только обеленный. Было среди них несколько болванов и дубин, до такой степени неотёсанных и зелёных, точно их только что поналомали в самом сердце лесной чащи. Квикег схватил одного из этих недорослей, корчившего рожи у него за спиной, и я уже решил было, что час бедного дурня пробил. Выпустив из рук гарпун, жилистый дикарь сгрёб парня в охапку, с удивительной ловкостью и силой швырнул его высоко в воздух, слегка поддав ему в зад, заставил проделать двойное сальто, после чего юнец, задыхаясь, благополучно опустился на ноги, а Квикег повернулся к нему спиной, разжёг свою трубку-томагавк и дал мне затянуться.
– Капитан! Капитан! – заорал дурень, отбежав к почтенному командиру судна. – Видали, что этот чёрт делает?
– Эй, вы, сэр, – раздался окрик капитана, тощего и долговязого, словно ребро корабельного шпангоута. Он с важным видом подошёл к Квикегу и произнёс: – Какого дьявола вы это делаете? Разве вы не видите, что так и убить парня можно?
– Чего она сказать? – мягко обратился ко мне Квикег.
– Он говорит: твоя мал-мало убивать тот человек, – и я указал на юнца, всё ещё дрожавшего в отдалении.
– Моя убивать? – воскликнул Квикег, и татуированное его лицо исказила гримаса нечеловеческого презрения. – О! Такой маленький рыбка! Квикег не убивать маленький рыбка. Квикег убивать большой кит!
– Послушай, ты! – гаркнул тогда капитан. – Я тебя самого буду убивать, проклятый людоед, если ты ещё позволишь себе такие шутки у меня на судне! Ты у меня смотри!
Но случилось так, что в этот миг смотреть нужно было самому капитану. Невероятный напор ветра на парус оборвал шкот, и теперь огромное бревно гика стремительно раскачивалось над палубой от борта к борту, покрывая в своём полёте всю кормовую часть палубы. Бедного парня, с которым так жестоко обошёлся Квикег, тяжёлым гиком столкнуло за борт; команду охватила паника; и всякая попытка задержать, остановить бревно представлялась просто безумием. Оно проносилось слева направо и обратно за какую-то секунду и, казалось, вот-вот разлетится в щепы. Никто ничего не предпринимал, да как будто бы и нечего было предпринять; все, кто был на палубе, сгрудились на носу и оттуда недвижно следили за гиком, словно то была челюсть разъярённого кита. Но среди всеобщего ужаса и оцепенения Квикег, не теряя времени, опустился на четвереньки, быстро прополз под летающим бревном, закрепил конец за фальшборт и, свернув его, наподобие лассо, набросил на гик, проносившийся как раз у него над головой, сделал могучий рывок – и вот уже бревно в плену, и все спасены. Пакетбот развернули по ветру, матросы бросаются отвязывать кормовую шлюпку, но Квикег, обнажённый до пояса, уже прыгнул за борт и нырнул, описав в воздухе длинную живую дугу. Минуты три он плавал, точно собака, выбрасывая прямо перед собой длинные руки и поочерёдно поднимая над леденящей пеной свои мускулистые плечи. Я любовался этим великолепным, могучим человеком, но того, кого он спасал, мне не было видно. Юнец уже скрылся под волнами. Тогда Квикег, вытянувшись столбом, выпрыгнул из воды, бросил мгновенный взгляд вокруг и, разглядев, по-видимому, истинное положение дел, нырнул и исчез из виду. Несколько минут спустя он снова появился на поверхности, одну руку по-прежнему выбрасывая вперёд, а другой волоча за собой безжизненное тело. Вскоре их подобрала шлюпка. Бедный дурень был спасён. Команда единодушно провозгласила Квикега отличнейшим малым; капитан просил у него прощения. С этого часа я прилепился к Квикегу, словно раковина к обшивке судна, и не расставался с ним до той самой минуты, когда он, нырнув в последний раз, надолго скрылся под волнами.
Он был бесподобен в своём героическом простодушии. Видно, он и не подозревал, что заслуживает медали от всевозможных человеколюбивых обществ Спасения на водах. Он только спросил воды – пресной воды, – чтобы смыть с тела налёт соли, а обмывшись и надев сухое платье, разжёг свою трубку и стоял курил, прислонившись к борту и доброжелательно глядя на людей, словно говорил себе: «В этом мире под всеми широтами жизнь строится на взаимной поддержке и товариществе. И мы, каннибалы, призваны помогать христианам».
Глава XIV. Нантакет
Больше по пути с нами не произошло ничего достойного упоминания; и вот, при попутном ветре, мы благополучно прибыли в Нантакет.
Нантакет! Разверните карту и найдите его. Видите? Он расположен в укромном уголке мира; стоит себе в сторонке, далеко от большой земли, ещё более одинокий, чем Эддистонский маяк[91]. Поглядите: ведь это всего лишь маленький холмик, горстка песку, один только берег, за которым нет настоящей суши. Песку здесь больше, чем вы за двадцать лет могли бы использовать вместо промокательной бумаги. Шутники расскажут вам, что здесь даже трава не растёт сама по себе, а приходится её сажать; что сюда из Канады завозят чертополох, а если нужно заделать течь в бочонке с китовым жиром, то в поисках втулки отправляются за море; что с каждой деревяшкой в Нантакете носятся, словно с обломками креста господня в Риме; что жители Нантакета сажают перед своими домами мухоморы, чтобы летом можно было прохлаждаться в их тени; что одна травинка здесь – это уже оазис, а три травинки за день пути – прерия; что здесь ходят по песку на специальных лыжах, вроде тех, на которых в Лапландии передвигаются по глубокому снегу; что Нантакет до такой степени отрезан от мира океаном, опоясан им, охвачен со всех сторон, окружён и ограничен водой, что здесь нередко можно видеть маленькие ракушки, приставшие к столам и стульям, словно к панцирям морских черепах. Но все эти преувеличения говорят лишь о том, что Нантакет не Иллинойс.
Зато существует восхитительное предание о том, как этот остров был впервые заселён краснокожими людьми. Легенда гласит, что однажды, в стародавние времена, на побережье Новой Англии камнем упал орёл и унёс в когтях индейского младенца. С горькими причитаниями провожали глазами родители своего ребёнка, покуда он не скрылся из виду за водной ширью. Тогда они решили последовать за ним. На своих челнах пустились они по морю и после тяжёлого, опасного плавания открыли остров, а на нём нашли пустую костяную коробочку – скелетик маленького индейца.
Что же удивительного, если теперешние нантакетцы, рождённые у моря, в море же ищут для себя средства существования? Вначале они ловили крабов и собирали устриц в песке, осмелев, стали заходить по пояс в воду и сетями вылавливать макрель, потом, понабравшись опыта, отплывали в лодках от берега и промышляли треску и наконец, спустив на воду целый флот больших кораблей, занялись исследованием нашего водянистого мира, одели его непрерывным поясом кругосветных путешествий, заглянули и по ту сторону Берингова пролива и во всех океанах, на все времена объявили нескончаемую войну могущественнейшей одушевлённой массе, пережившей Великий Потоп, самому чудовищному из всех колоссов, этому гималайскому мастодонту солёных морей, облечённому столь безграничной стихийной силой, что он и в испуге своём несёт больше зловещей опасности, чем в самых отчаянных яростных нападениях!
Так эти нагие жители Нантакета, эти морские отшельники, отчалив от своего островка, объехали и покорили, подобно многочисленным Александрам, всю водную часть нашего мира, поделив между собой Атлантический, Тихий и Индийский океаны, как поделили Польшу три пиратские державы. Пусть Америка присоединяет Мексику к Техасу, пусть хватает за Канадой Кубу[92]; пусть англичане кишат в Индии и водружают своё ослепительное знамя хоть на самом Солнце, – всё равно две трети земного шара принадлежат Нантакету. Ибо ему принадлежит море. Моряк с Нантакета правит океанами, как императоры своими империями; а другие моряки обладают лишь правом прохода по чужой территории. Купеческие суда – это всего лишь те же мосты, их морское продолжение; военные корабли – только плавучие крепости; даже пираты и каперы, хоть и рыщут по морям, словно разбойники по большим дорогам, только грабят другие суда – такие же крупинки суши, какими остаются и они сами, – а не ищут источников существования там, в бездонных глубинах. Моряк с Нантакета, он один живёт и кормится морем; он один, как сказано в Библии, на кораблях своих спускается по морю, бороздит его вдоль и поперёк, точно собственную пашню. Здесь его дом, здесь его дело, которому и Ноев потоп[93] не помешал бы, даже если б и затопил в Китае всех бесчисленных китайцев. Он живёт на море, как куропатка в прериях, он прячется среди волн, он взбирается на них, точно охотник за сернами, взбирающийся на Альпы. Годами он не ведает суши, а когда он наконец на неё попадает, для него она пахнет по-особому, точно какой-то другой мир, – так и Луна, наверное, не пахла бы для жителя Земли. Как чайка вдали от берегов складывает крылья на закате и засыпает, покачиваясь меж морских валов, так и моряк из Нантакета свёртывает с наступлением ночи паруса и отходит ко сну, опустив голову на подушку, а в глубине под ней стадами проносятся моржи и киты.
Глава XV. Отварная рыба
Был уже поздний вечер, когда маленький «Лишайник» встал потихоньку на якорь и мы с Квикегом очутились на берегу, так что в этот день мы уже не могли заняться никакими делами, кроме добывания ужина и ночлега. Хозяин гостиницы «Китовый фонтан» рекомендовал нам своего двоюродного брата Урию Хази, владельца заведения «Под котлами», которое, как он утверждал, принадлежало к числу лучших в Нантакете и к тому же ещё славилось, по его словам, своими блюдами из отварной рыбы с приправами. Короче говоря, он совершенно недвусмысленно дал нам понять, что мы поступим как нельзя лучше, если угостимся чем бог послал из этих котлов. Но указания его насчёт дороги – держать жёлтый пакгауз по правому борту, покуда не откроется белая церковь по левому борту, а тогда, держа всё время церковь по левому борту, взять на три румба вправо и после этого спросить первого встречного, где находится гостиница, – эти его угловатые указания немало нас озадачили и спутали, в особенности же вначале, когда Квикег стал утверждать, что жёлтый пакгауз – первый наш ориентир – должен оставаться по левому борту, мне же помнилось, что Питер Гроб определённо сказал: «по правому». Как бы то ни было, но порядком поплутав во мраке, стаскивая по временам с постели кого-нибудь из мирных здешних жителей, чтобы справиться о дороге, мы наконец без расспросов вдруг поняли, что очутились там, где надо.
У ветхого крыльца стояла врытая в землю старая стеньга с салингами, на которых, подвешенные за ушки, болтались два огромных деревянных котла, выкрашенных чёрной краской. Свободные концы салингов были спилены, так что вся эта верхушка старой мачты в немалой степени походила на виселицу. Быть может, в то время я оказался излишне чувствителен к подобным впечатлениям, только я глядел на эту виселицу со смутным предчувствием беды. У меня даже шею как-то свело, покуда я рассматривал две перекладины – да-да, именно две: одна для Квикега и одна для меня! Не дурные ли это все предзнаменования: некто Гроб – мой хозяин в первом же порту, могильные плиты, глядящие на меня в часовне, а здесь вот – виселица! Да ещё пара чудовищных чёрных котлов! Не служат ли эти последние туманным намёком на адское пекло?
От подобных размышлений меня отвлекла веснушчатая рыжеволосая женщина в рыжем же платье, которая остановилась на пороге гостиницы под тускло-красным висячим фонарём, сильно напоминавшим подбитый глаз, и на все корки честила какого-то человека в фиолетовой шерстяной фуфайке.
– Чтоб духу твоего здесь не было, слышишь? – говорила она. – Не то смотри, задам тебе трёпку!
– Всё в порядке, Квикег, – сказал я. – Это, конечно, миссис Фурия Хази.
Так оно и оказалось. Мистер Урия Хази находился в отлучке, предоставив жене в полное распоряжение все дела. Когда мы уведомили её о своём желании получить ужин и ночлег, миссис Фурия, отложив на время выволочку, препроводила нас в маленькую комнатку, усадила за стол, изобилующий следами недавней трапезы, и, обернувшись к нам, произнесла:
– Разинька[94] или треска?
– Простите, что такое вы сказали насчёт трески, мадам? – с изысканной вежливостью переспросил я.
– Разинька или треска?
– Разинька на ужин? Холодный моллюск? Неужели именно это хотели вы сказать, миссис Хази? – говорю я. – Не слишком ли это липкое, холодное и скользкое угощение для зимнего времени, миссис Фурия, как вы полагаете?
Но она очень торопилась возобновить перебранку с человеком в фиолетовой фуфайке, который дожидался в сенях своей порции ругани, и, видимо, ничего не разобрав в моей тираде, кроме слова «разинька», подбежала к раскрытой двери в кухню, выпалила туда: «Разинька на двоих!» – и исчезла.
– Квикег, – говорю я. – Как ты думаешь, хватит нам с тобой на ужин одной разиньки на двоих?
Однако из кухни потянул горячий дымный аромат, в значительной мере опровергавший мои безрадостные опасения. Когда же дымящееся блюдо очутилось перед нами, загадка разрешилась самым восхитительным образом. О любезные други мои! Послушайте, что я вам расскажу! Это были маленькие, сочные моллюски, ну не крупнее каштана, перемешанные с размолотыми морскими сухарями и мелко нарезанной солёной свининой! Всё это обильно сдобрено маслом и щедро приправлено перцем и солью!
Аппетиты у нас порядком разыгрались на морозном воздухе после поездки, особенно у Квикега, неожиданно увидевшего перед собою любимое рыбацкое кушанье; к тому же на вкус это блюдо оказалось просто превосходным, так что мы расправились с ним с великой поспешностью, и тогда, на минуту откинувшись назад, я припомнил, как миссис Фурия провозгласила: «Разинька или треска!», и решил провести небольшой эксперимент. Я подошёл к двери в кухню и с сильным чувством произнёс только одно слово: «Треска!» – после чего снова занял место у стола. Через несколько мгновений вновь потянуло дымным ароматом, только теперь с иным привкусом, а через положенный промежуток времени перед нами появилась отличная варёная треска.
Мы снова принялись за дело, сидим и орудуем ложками, и я вдруг говорю себе: «Интересно, разве это должно действовать на голову? Кажется, есть какая-то дурацкая шутка насчёт людей с рыбьими мозгами? Но погляди-ка, Квикег, не живой ли угорь у тебя в тарелке? Где же твой гарпун?»
Тёмное это было место «Под котлами», в которых круглые сутки варились немыслимые количества рыбы. Рыба на завтрак, рыба на обед, рыба на ужин, так что в конце концов начинаешь оглядываться: не торчат ли рыбьи кости у тебя сквозь одежду? Пространство перед домом сплошь замощено раковинками разинек. Миссис Фурия Хази носит ожерелье из полированных тресковых позвонков, а у мистера Хази все счётные книги переплетены в первоклассную акулью кожу. Даже молоко там с рыбным привкусом, по поводу чего я долго недоумевал, пока в одно прекрасное утро не наткнулся случайно во время прогулки вдоль берега среди рыбачьих лодок на пятнистую хозяйскую корову, которая паслась там, поедая рыбьи останки, и ковыляла по песку, кое-как переступая ногами и волоча на каждом своём копыте по отсечённой тресковой голове.
По завершении ужина мы получили от миссис Фурии лампу и указания относительно кратчайшей дороги до кровати, однако, когда Квикег начал было впереди меня подыматься по лестнице, эта леди протянула руку и потребовала у него гарпун – у неё в спальнях гарпуны держать не разрешается.
– Почему же? – возразил я. – Всякий истинный китолов спит со своим гарпуном. Почему же вы-то запрещаете?
– Потому что это опасно, – говорит она. – С того самого раза, как нашли молодого Стигза после неудачного плавания, когда он уходил на целых четыре с половиной года, а вернулся только с тремя бочонками жира, как его нашли у меня в задней комнате на втором этаже мёртвого с гарпуном в боку, так с самого того раза я не разрешаю постояльцам брать с собой на ночь опасное оружие. Так что, мистер Квикег (она уже выяснила, как его зовут), я у вас беру этот гарпун, а утром сможете получить его назад. Да вот ещё: что закажете на завтрак, разиньку или треску?
– И то и другое, – ответил я. – И вдобавок пару копчёных селёдок для разнообразия.
Глава XVI. Корабль
Улёгшись в постель, мы принялись составлять планы на завтра. Но, к изумлению моему и немалому беспокойству, Квикег дал мне понять, что он успел подробно проконсультироваться с Йоджо – так звали его чёрного божка – и что Йоджо три или четыре раза подряд повторил ему одно указание и всячески на нём настаивал: вместо того чтобы нам с Квикегом вдвоём идти на пристань и объединёнными усилиями выбирать подходящее китобойное судно, вместо этого Йоджо настоятельно предписывал мне взять выбор корабля полностью на себя, тем более что Йоджо намерен был нам покровительствовать и с этой целью уже заприметил один корабль, на котором я, Измаил, действуя сам по себе, обязательно остановлю свой выбор, как будто бы тут всё дело чистого случая; и на это самое судно мне надлежало не медля наняться, независимо от того, где будет в это время Квикег.
Я забыл упомянуть, что Квикег во многих вопросах очень полагался на выдающиеся суждения Йоджо и на его удивительные пров'идения; он относился к Йоджо весьма почтительно и считал его, в общем-то, неплохим богом, которому искренне хотелось бы, чтобы всё было хорошо, да только не всегда удавалось осуществить свои благие намерения.
Однако этот план Квикега, вернее план Йоджо, относительно выбора корабля мне вовсе не пришёлся по вкусу. Я-то очень рассчитывал, что осведомлённость и проницательность Квикега укажут нам китобойное судно, наиболее достойное того, чтоб мы вверили ему себя и свои судьбы. Но все мои протесты не возымели ни малейшего действия, мне пришлось подчиниться; и я приготовился взяться за дело с такой энергией и решительностью, чтобы одним стремительным натиском сразу же покончить с этим пустячным предприятием.
На следующее утро, пораньше, оставив Квикега в нашей комнатке, где он заперся вместе со своим Йоджо – поскольку у них наступил, кажется, какой-то Великий Пост, или Рамадан, или День Умерщвления Плоти, Смирения и Молитв (что именно, я выяснить не сумел, потому что хоть и пытался многократно, но никак не мог усвоить его литургии и тридцати девяти догматов[95]), – предоставив Квикегу поститься и курить трубку-томагавк, а Йоджо греться у жертвенного огня, разведённого на стружках, я вышел из гостиницы и зашагал в сторону гавани. Здесь после длительных блужданий и попутных расспросов я выяснил, что три судна готовились уйти в трехгодичное плавание: «Чёртова Запруда», «Лакомый Кусочек» и «Пекод». Что означает наименование «Чёртова Запруда», я не знаю; «Лакомый Кусочек» – это понятно само по себе; а «Пекод», как вы несомненно помните, это название знаменитого племени массачусетских индейцев, ныне вымерших, подобно древним мидянам[96]. Я облазил и осмотрел «Чёртову Запруду», потом перебрался на «Лакомый Кусочек», наконец поднялся на борт «Пекода», огляделся по сторонам и сразу же решил, что это и есть самый подходящий для нас корабль.
Спорить не стану, быть может, вам и приходилось в жизни видеть всевозможные редкостные морские посудины: тупоносые люггеры, громоздкие японские джонки, галиоты, похожие на соусники, и прочие диковины; но можете мне поверить, никогда не случалось вам видеть такую удивительную старую посудину, как этот вот удивительный «Пекод». Это было судно старинного образца, не слишком большое и по-старомодному раздутое в боках. Корпус его, обветренный и огрубелый под тайфунами и штилями во всех четырёх океанах, был тёмного цвета, как лицо французского гренадера, которому приходилось сражаться и в Египте, и в Сибири. Древний нос корабля, казалось, порос почтенной бородой. А мачты – срубленные где-то на японском берегу, когда прежние сбило и унесло за борт штормом, – мачты стояли прямые и несгибаемые, как спины трёх восточных царей[97] из Кёльнского собора. Старинные палубы были ветхи и испещрены морщинами, словно истёртые паломниками плиты Кентерберийского собора, на которых истёк кровью Фома Бекет[98]. Но ко всем этим диковинным древностям добавлялись ещё иные необычайные черты, наложенные на судно тем буйным ремеслом, которым оно занималось вот уже более полустолетия. Старый капитан Фалек[99], много лет проплававший на нём старшим помощником – до того, как он стал водить другое судно, уже под собственным началом, – а теперь живший в отставке и бывший одним из основных владельцев «Пекода», этот старик Фалек, пока плавал старшим помощником, весьма приумножил исконное своеобразие «Пекода», разделав его от носа до кормы и покрыв такими редкостными по материалу и узору украшениями, с которыми ничто в мире не могло бы идти в сравнение – разве только резная кровать или щит Торкила-Живоглота[100]. Разряженный «Пекод» напоминал варварского эфиопского императора с тяжёлыми и блестящими костяными подвесками вокруг шеи. Всё судно было увешано трофеями – настоящий каннибал среди кораблей, украсившийся костями убитых врагов. Его открытые борта, словно огромная челюсть, были унизаны длинными и острыми зубами кашалота, которые служили здесь вместо нагелей, чтобы закреплять на них пеньковые мышцы и сухожилия судна. И пропущены эти сухожилия были не через деревянные блоки, они проворно бежали по благородно желтоватым костяным шкивам. С презрением отвергнув простое штурвальное колесо, почтенное судно несло на себе необыкновенный румпель, целиком вырезанный из длинной и узкой челюсти своего наследственного врага. В бурю рулевому у этого румпеля, должно быть, чудилось, будто он, словно дикий монгол, осаживает взбесившегося скакуна, вцепившись прямо в его оскаленную челюсть. Да, это был благородный корабль, да только уж очень угрюмый. Благородство всегда немножко угрюмо.
Оглядывая шканцы в поисках какого-нибудь начальства, которому я мог бы предложить себя в качестве кандидата на пост матроса в предстоящем плавании, я сперва никого не видел. Однако от взгляда моего не могла укрыться какая-то необычайного вида палатка – что-то вроде вигвама, – разбитая сразу же позади грот-мачты. Видимо, это было временное сооружение, используемое только пока корабль стоит в порту. Оно имело форму конуса высотой футов в десять и составлено было из огромных упругих чёрных костяных пластин, какие извлекаются из срединной и задней частей китовой челюсти. Установленные в круг широкими концами на палубе и плотно сплетённые, эти пластины китового уса, сужаясь кверху, смыкались, образуя острую верхушку, украшенную султаном из гибких ворсистых волокон, которые развевались в разные стороны, точно пучок перьев на макушке старого индейского вождя Поттовоттами[101]. К носу корабля было обращено треугольное отверстие, и через него находящиеся внутри могли видеть всё, что делалось на палубе.
И вот в этом-то странном жилище я наконец разглядел человека, кому, по внешности судя, принадлежала здесь власть и кто, поскольку дело происходило в полдень и все работы были прерваны, предавался сейчас отдыху, скинув покамест её бремя. Он сидел на старинном дубовом стуле, сверху донизу покрытом завитками самой замысловатой резьбы, а сиденье этого стула было сплетено из прочных полос того же самого материала, какой пошёл на возведение вигвама.
Ничего чрезвычайного в облике пожилого джентльмена, пожалуй, не было; он был смугл и жилист, как и всякий старый моряк, и плотно закутан в синий лоцманский бушлат старомодного квакерского[102] покроя; только вокруг глаз у него лежала тонкая, почти микроскопическая сеточка мельчайших переплетающихся морщин, образовавшаяся, вероятно, оттого, что он часто бывал в море во время сильного шторма и всегда поворачивался лицом навстречу ветру – от этого мышцы возле глаз напрягаются и сводятся. Такие морщины придают особую внушительность грозному взгляду.
– Не вы ли будете капитан «Пекода»? – проговорил я, приблизившись к входу в палатку.
– Допустим, что так, а чего тебе надобно от капитана «Пекода»? – отозвался он.
– Я насчёт того, чтоб наняться в команду.
– В команду, а? Вижу, ты приезжий, – случалось ли тебе сидеть в разбитом вельботе?
– Нет, сэр, не случалось.
– И в китовом промысле ты ничего не смыслишь, а?
– Нет, сэр, не смыслю. Но я, конечно, скоро выучусь. Ведь я несколько раз плавал на торговом судне и думаю, что…
– К чертям торговое судно! Чтоб я больше слов таких не слышал! Не то – взгляни на свою ногу – я выломаю эту ногу из твоей кормы, если ты ещё посмеешь говорить мне о торговом судне. Подумаешь, торговое судно! Уж не гордишься ли ты, что плавал на торговом судне? Однако, парень, чего это тебя потянуло в китобои? Подозрительно что-то, а? Ты не был ли пиратом, а? Или, может, ты ограбил своего капитана? Может, ты задумал перерезать командиров, как только выйдешь в море?
Я заверил его, что неповинен в подобных злоумышлениях. Но я понимал, что под этими полушутливыми обвинениями у старого моряка, у этого квакера и островитянина, крылось нантакетское островное недоверие и предубеждение против всех приезжих, кроме жителей мыса Кейп-Кода и острова Вайньярда[103].
– Что же всё-таки заставляет тебя идти в китобои? Я хочу знать это, прежде чем стану думать, стоит ли тебя нанимать.
– Как вам сказать, сэр. В общем, я хочу ознакомиться с китобойным делом. Хочу посмотреть мир.
– Хочешь ознакомиться с китобойным делом, а? А ты капитана Ахава[104] видел?
– А кто такой капитан Ахав, сэр?
– Ага, я так и думал. Капитан Ахав – это капитан «Пекода».
– В таком случае, я ошибся. Я думал, что говорю с самим капитаном.
– Ты говоришь с капитаном – с капитаном Фалеком, вот с кем ты говоришь, юноша. Дело моё и капитана Вилдада – снаряжение «Пекода» перед плаванием, поставка на борт всего необходимого, а значит, и подбор экипажа. Мы совладельцы судна и агенты. Но вот что: если, как ты говоришь, ты желаешь ознакомиться с китобойным делом, я могу указать тебе способ сделать это, прежде чем ты свяжешь себя безвозвратно. Погляди на капитана Ахава, юноша, и ты увидишь, что у него только одна нога.
– Что вы хотите сказать, сэр? Разве второй ноги он лишился из-за кита?
– Из-за кита?! Подойди-ка поближе, юноша; эту ногу пожрал, изжевал, сгрыз ужаснейший из кашалотов, когда-либо разносивших в щепки вельбот! О! О!
Меня слегка напугала страстность его выражений и слегка взволновало искреннее горе, звучавшее в заключительных восклицаниях, но всё-таки, по возможности спокойно, я проговорил:
– То, что вы рассказали, сэр, без сомнения, истинная правда. Но откуда мне знать, что именно эта порода китов отличается особой свирепостью? Разве только я заключу это из вашего рассказа о несчастном случае.
– Послушай-ка, юноша, что-то у тебя голос сладковат. Говоришь ты совсем не как моряк. Ты уверен, что уже ходил в море, совершенно уверен, а?
– Сэр, – возразил я. – Мне казалось, что я уже сообщил вам, что я четыре раза плавал на торговом судне.
– Но, но! Потише! Помни, что я говорил тебе о торговых судах, не раздражай меня, я этого не потерплю. Давай-ка поймём друг друга получше. Я тебе намекнул слегка на то, каково в действительности китобойное дело. Ну как, ты всё ещё испытываешь к нему склонность?
– Да, сэр.
– Ну что ж. Очень хорошо. А теперь отвечай, только быстро: сможешь ты зашвырнуть гарпун в пасть живому киту и следом сам туда запрыгнуть?
– Да, сэр, если, конечно, это будет совершенно необходимо. То есть если уж без этого никак не обойтись, в чём я, между прочим, очень сомневаюсь.
– Ладно. А теперь вот что: ты намерен поступить на китобоец не только для того, чтобы ознакомиться с китобойным делом, но ещё и затем, чтобы поглядеть мир? Так, что ли, ты говорил? Ага! Так вот, сходи вон туда, загляни за планшир на носу, а потом возвращайся ко мне и расскажи, что видел.
Минуту я стоял в нерешительности, недоумевая, как мне отнестись к этому удивительному повелению, всерьёз или как к шутке. Но капитан Фалек, собрав у глаз все свои морщины, взглянул на меня так грозно, что я тут же бросился выполнять приказ.
Я прошёл на нос и заглянул за борт. Был прилив, и судно, покачиваясь на якоре, развернулось носом наискось в открытое море. Передо мной расстилался простор, бескрайний, но удивительно, устрашающе однообразный – не на чём было взгляду остановиться.
– Ну, докладывай, – сказал Фалек, когда я вернулся назад. – Что ж ты видел?
– Ничего особенного, – ответил я. – Только вода и вода. Но горизонт просматривается неплохо, и, по-моему, идёт шквал.
– Так как же насчёт того, чтобы поглядеть мир? Что ты теперь скажешь, а? Стоит ли ради этого огибать мыс Горн? Не лучше ли тебе глядеть на мир оттуда, где ты стоишь?
Я был слегка задет этим рассуждением, но всё равно я решил пойти в китобои, и так тому и быть: а «Пекод» – вполне подходящее для меня судно, я бы сказал даже самое подходящее. Всё это я повторил теперь капитану Фалеку, и он, видя мою решимость, выразил согласие меня нанять.
– Можешь сразу же и подписать все бумаги, – заключил он. – Ступай-ка со мной.
И он стал спускаться в капитанскую каюту; я последовал за ним. Здесь я увидел, что на транце сидит какая-то в высшей степени необычайная, удивительная фигура. Оказалось, что это капитан Вилдад, который наряду с капитаном Фалеком был одним из основных владельцев корабля, – остальные акции принадлежали, как нередко бывает в этих портах, всевозможным мелким держателям: вдовам, сиротам и ночным сторожам, и собственность каждого из них не превышала стоимости одного бревна, или доски, или двух-трёх заклёпок в корабельном корпусе. Жители Нантакета вкладывают свои деньги в китобойные суда точно так же, как вы свои помещаете в надёжные государственные бумаги, приносящие хорошие проценты.
Этот Вилдад был квакером, так же как и Фалек и многие другие обитатели Нантакета, ведь первые поселенцы на острове принадлежали именно к этой секте; и вплоть до сегодняшнего дня здешние жители сохраняют в основном всё своеобразие квакерства, видоизменив его, вместе с тем, самым замысловатым и неестественным образом в результате совершенно чуждых и разнородных влияний. Подчас, как ни у кого на свете, полнокровна жизнь этих квакеров – моряков и китобоев. Это – воинственные квакеры, квакеры-мстители.
И есть среди них такие, кто, хоть и носит библейское имя, как предписывает весьма распространённый на острове обычай, и, с молоком матери всосав привычку к суровому и величественному квакерскому этикету, ко всем обращается на «ты», – тем не менее, под воздействием бесчисленных отчаянно смелых приключений, какими изобилует вся его жизнь, начинает удивительным образом сочетать эти неизжитые странности с дерзким нравом и лихими порывами, достойными скандинавского морского конунга и романтического язычника-римлянина. И когда эти черты соединяются в человеке большой природной силы, чей мозг объёмист, а сердце весомо, в человеке, которого безмолвие и уединение долгих ночных вахт в далёких морях под яркими, неведомыми здесь, на Севере, созвездиями научили мыслить независимо, свободно, воспринимая все сладостные и жестокие впечатления прямо из девственной груди самой природы, доверчивой и открытой, и так познавать – не без случайной помощи порою – смелый и взволнованный, возвышенный язык, вот тогда появляется человек, один из целого народа, благородное, блистательное создание, предназначенное для подмостков великих трагедий. И с точки зрения сценической, достоинства его вовсе не умаляются, если в глубине его души, от рождения ли или же в силу обстоятельств, заложена, хотя бы из упрямства, некая всеподавляющая болезненность. Ибо все трагически великие люди становятся таковыми в силу своей затаённой болезненности. Помни об этом, о юное тщеславие: всякое смертное величие есть только болезнь. Но мы покуда ещё имеем дело не с таким, а совсем с иным человеком, который, однако, тоже представляет собой определённый тип квакера, возникший под воздействием особых условий.
Как и капитан Фалек, капитан Вилдад был состоятелен и уже ушёл от дел. Однако в отличие от капитана Фалека, который нимало не интересовался так называемыми серьёзными вещами, полагая эти самые серьёзные вещи сущими пустяками, капитан Вилдад не только получил образование в духе самого строгого нантакетского квакерства, но и, несмотря на свою последующую моряцкую жизнь и даже созерцание восхитительных нагих островитянок по ту сторону мыса Горн, ни на йоту не поступился своей квакерской натурой, не пожертвовал ни единым крючком на своём квакерском жилете. И всё же при такой стойкости почтенному капитану Вилдаду явно не хватало элементарной последовательности. Отказываясь по соображениям морально-религиозным защищаться с оружием в руках от наземных набегов, сам он тем не менее совершал бессчётные набеги на Атлантику и Тихий океан и, будучи заклятым врагом кровопролития, пролил, однако, не снимая своего тесного сюртука, целые тонны левиафановой крови. Как удавалось набожному Вилдаду теперь, на задумчивом закате жизни, примирить противоречивые воспоминания своего прошлого, этого я не знаю, только всё это его, видимо, не очень занимало, ибо он, вероятно, уже давно пришёл к весьма глубокомысленному и разумному выводу, что религия – это одно, а наш реальный мир – совсем другое. Реальный мир платит дивиденды. Начав с жалкой роли мальчика-юнги в короткой убогой одежонке, он стал потом гарпунщиком в просторном квакерском жилете с круглым вырезом, затем командиром вельбота, старшим помощником, капитаном и, наконец, владельцем судна. Свою бурную карьеру Вилдад окончил, как я уже упомянул, в возрасте шестидесяти лет, полностью удалившись от деятельной жизни и посвятив остаток дней своих безмятежному накоплению заслуженных доходов.
Но должен с огорчением заметить, что у Вилдада была слава неисправимого старого скупердяя, а на море он в своё время отличался суровым и жестоким обращением с подчинёнными. Мне рассказывали в Нантакете – хоть это, конечно, весьма странная история, – что, когда он приходил в порт на своём старом «Каттегате», матросов прямо с борта увозили в больницу – так они были измождены и обессилены. Для человека набожного, в особенности для квакера, у него безусловно было, выражаясь мягко, довольно бесчувственное сердце. Говорят, правда, что он никогда не бранился, но тем не менее он всегда ухитрялся вытягивать из людей все жилы, безжалостно принуждая их к непомерно тяжёлой, непосильной работе. Ещё когда Вилдад плавал старшим помощником, достаточно было его пристальному, мутному глазу уставиться на человека, и тем уже овладевало беспокойство, так что он наконец хватался за что попало – будь то молоток или свайка – и начинал работать как одержимый, только бы не оставаться без дела. Лень и праздность испепелялись под его взором. Его бережливая натура явственно отразилась и на его внешности. На худом долговязом теле не было ни малейших излишков мяса и никаких избытков бороды на подбородке, где торчал только мягкий, экономичный ворс, напоминающий ворс его широкополой шляпы.
Таков был тот, кто сидел на транце в каюте, куда я вошёл следом за капитаном Фалеком. Расстояние между палубами было невелико, и в этом тесном пространстве прямой, как палка, сидел старый Вилдад – он всегда сидел прямо, чтобы не мять фалды сюртука. Широкополая шляпа лежала подле. Он сидел в своём доверху застёгнутом тёмно-коричневом облачении, скрестив сухие, как палки, ноги и водрузив на нос очки, поглощённый чтением какой-то чрезвычайно толстой книги.
– Вилдад! – воскликнул капитан Фалек. – Ты опять за своё? Вот уж на моей памяти тридцать лет, как ты читаешь Святое Писание. Докуда же ты дошёл, Вилдад?
Видно, издавна приученный к богохульным разговорам своего старого приятеля, Вилдад спокойно, не обращая внимания на его неучтивость, поднял глаза от книги и, увидев меня, перевёл на Фалека вопросительный взгляд.
– Он говорит, что хочет наняться на «Пекод», – пояснил Фалек.
– Ты желаешь поступить на «Пекод»? – глухим голосом переспросил он, оборачиваясь ко мне.
– Желаю, – ответил я, бессознательно повторяя его высокопарное квакерское выражение.
– Как он тебе кажется, Вилдад? – спросил Фалек.
– Подойдёт, – заявил Вилдад, разглядывая меня, и тут же снова обратился к Библии и стал читать по складам, довольно громко бормоча себе под нос.
Я подумал, что ещё никогда в жизни не видел такого странного старого квакера, ведь вот его друг и компаньон Фалек был таким резким и крикливым. Но я ничего не сказал, а только внимательно осмотрелся. Фалек открыл какой-то ящик, вытащил оттуда корабельные документы и уселся за столик, поставив перед собой чернильницу и перья. Тогда я подумал, что настало время решить для себя, на каких условиях согласен я принять участие в предстоящем плавании. Мне уже было известно, что на китобойцах жалованья не платят; здесь каждый в команде, включая капитана, получает определённую часть добычи, которая называется долей и начисляется в зависимости от того, насколько важную задачу выполняет тот или иной член экипажа. Понимал я также, что, будучи новичком на китобойном судне, я не могу рассчитывать на особенно большую долю; однако, поскольку морское дело было мне знакомо, я умел стоять за штурвалом, сплеснивать концы и всякое такое, я не сомневался, что мне предложат по меньшей мере 275-ю долю, то есть одну 275-ю часть чистого дохода от плавания, каков бы этот доход ни оказался. И хотя 275-я доля была, по местному выражению, довольно «долгая доля», всё же это лучше, чем ничего, а если плавание будет удачным, то очень вероятно, что тем самым окупится сношенная мною за это время одежда, не говоря уже о пище и койке, за которые я целых три года не должен буду платить ни гроша.
Подумают, пожалуй, что это довольно жалкий способ скопить княжеские богатства, да так оно и есть на самом деле. Но я не из тех, кто особенно беспокоится о княжеских богатствах, с меня довольно, если мир готов предоставить мне кров и пищу на то время, пока я гощу здесь, под зловещей вывеской «Грозовой Тучи». В общем, я полагал, что 275-я доля – это было бы вполне справедливо, однако меня бы не удивило, если бы мне предложили 200-ю долю: ведь я был крепок и широкоплеч.
Но всё-таки имелось одно соображение, которое подрывало мою уверенность в том, что мне будет предоставлено приличное участие в общих доходах. Я ещё на берегу наслышался и о капитане Фалеке, и об его удивительном старом дружке Вилдаде – говорили, что им как двум основным собственникам «Пекода» остальные владельцы, менее значительные и к тому же рассеянные по всему острову, всецело предоставляют распоряжаться делами судна. И надо полагать, по такому вопросу, как наём экипажа, старый скряга Вилдад мог сказать своё веское слово, тем более что он оказался тут же, на борту «Пекода», и читал здесь свою неизменную Библию, с комфортом устроившись в капитанской каюте, словно у себя дома перед камином. Но пока Фалек тщетно пытался очинить перо большим складным ножом, старый Вилдад, к немалому моему удивлению – ведь и он был лицом заинтересованным в этой процедуре, – старый Вилдад, не обращая на нас никакого внимания, продолжал бормотать себе под нос: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль…»[105]
– Доль, капитан Вилдад? – подхватил Фалек, – да, да, что ты там такое говоришь насчёт доль? Сколько, по-твоему, должны мы дать этому юноше?
– Ведомо тебе самому, – последовал погребальный ответ. – Семьсот семьдесят седьмая доля – это не слишком много, как по-твоему? «…где моль и ржа истребляют, но…»
«Действительно, сокровище, – подумал я. – Семьсот семьдесят седьмая доля!» Я вижу, старина Вилдад, ты всерьёз озабочен тем, чтобы я-то, во всяком случае, не собрал больших сокровищ на этом свете, где моль и ржа истребляют. Это и в самом деле была чрезвычайно долгая доля, и хоть на первый взгляд большая цифра и может вызвать у человека неосведомлённого обратное представление, однако самое простое рассуждение покажет, что, как ни велико число семьсот семьдесят семь, всё же, если сделать его знаменателем, сразу станет очевидным, что одна семьсот семьдесят седьмая часть фартинга – это значительно меньше, чем семьсот семьдесят семь золотых дублонов; а я такого именно мнения и придерживался.
– Ах, чтоб тебе провалиться, Вилдад! – закричал на него Фалек. – Ты что же, хочешь надуть этого парня? Надо дать ему больше.
– Семьсот семьдесят седьмая, – повторил Вилдад, не отрываясь от книги, и снова забормотал: – «…ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
– Я записываю его на трёхсотую долю, – заявил Фалек. – Слышишь, Вилдад? Я говорю: на трёхсотую.
Вилдад опустил книгу и, с важным видом повернувшись к Фалеку, проговорил:
– Капитан Фалек, у тебя доброе сердце, но тебе не следует забывать о своём долге по отношению к другим владельцам корабля – а многие среди них вдовы и сироты – и тебе не следует забывать, что, слишком щедро наградив за труды этого юношу, мы тем самым лишим куска хлеба всех этих вдов и всех этих сирот. Семьсот семьдесят седьмая доля, капитан Фалек.
– Эй, ты, Вилдад! – заревел Фалек, вскочив и затопав ногами. – Лопни мои глаза, если бы я следовал в таких делах твоим советам, капитан Вилдад, у меня бы сейчас на совести скопился такой балласт, что от него пошло бы на дно самое большое судно, какое только огибало мыс Горн.
– Капитан Фалек, – твёрдо отпарировал Вилдад, – не знаю, сколь глубоко сидит в воде твоя совесть, может, на десять дюймов, а может, и на десять саженей, но ты упорствуешь в своих прегрешениях, и боюсь, совесть твоя дала большую течь, из-за которой пойдёшь в конце концов на дно ты сам, – прямо в преисподнюю, капитан Фалек.
– Ах вот как! В преисподнюю! Ты нанёс мне оскорбление, слышишь! Невыносимое оскорбление. Говорить человеку, что он попадёт в ад, это адское надругательство. Гром и молния! Попробуй только повторить это ещё раз, Вилдад, и я за себя не ручаюсь. Да я… я… я живого козла проглочу, со шкурой и рогами! Вон отсюда ты, плаксивый ханжа, ты, мутноглазый сын деревяшки! Вон – прямым кильватером!
Выпалив всё это, он бросился на Вилдада, но тот уклонился от него с каким-то небывалым скользящим проворством.
Встревоженный столь внезапной яростной схваткой между двумя главными и ответственными владельцами корабля и уже сомневаясь, стоит ли идти на это судно, с такими ненадёжными хозяевами и временными капитанами, я отступил в сторону от двери, чтобы пропустить Вилдада, который жаждал, как я был уверен, бежать проснувшегося Фалекова гнева. Но, к удивлению моему, тот преспокойно вновь уселся на транце и, видимо, не имел ни малейшего намерения уходить. Он давно свыкся с упорствующим во грехе Фалеком и его манерами. Что же до Фалека, то и он, израсходовав весь запас своей ярости, теперь уселся, кроткий как агнец, всё ещё, однако, слегка подёргиваясь, ибо нервное возбуждение его ещё не вполне улеглось.
– Уф-ф, – проговорил он наконец, отдуваясь, – шквал, кажется, ушёл по левому борту. Вилдад, ты когда-то был мастер затачивать острогу, очини-ка мне, будь добр, это перо. А то у меня нож вконец затупился. Вот так, спасибо тебе, Вилдад. Ну, юноша, как, ты говоришь тебя зовут? Измаил? Так вот, Измаил, я записываю тебя здесь на трёхсотую долю.
– Капитан Фалек, – сказал тут я, – у меня ещё товарищ есть, он тоже хочет идти в плавание. Можно, я приведу его завтра утром?
– А как же, – ответил Фалек. – Веди его сюда, и мы на него посмотрим.
– А он какую долю потребует? – закряхтел Вилдад, поднимая глаза от Библии, в которую он уже опять зарылся.
– Да не волнуйся ты об этом, Вилдад, – сказал ему Фалек. – Он уже ходил когда-нибудь за китами? – повернулся он ко мне.
– Перебил столько китов, что и не перечтёшь, капитан Фалек.
– Ну что ж, тогда приводи его.
И я, подписав бумаги, удалился, ничуть не сомневаясь в том, что отлично справился со своей задачей и что «Пекод» и есть то самое судно, на котором Йоджо предназначил нам с Квикегом обогнуть мыс Горн.
Но не пройдя и нескольких шагов, я сообразил, что так и не видел капитана, с которым мне придётся плыть; хотя, как я знал, нередко бывает, что китобойное судно уже полностью снаряжено и весь экипаж принят на борт, и только потом появляется капитан и берёт командование – ведь рейсы обычно столь продолжительны, а побывки на берегу так кратковременны, что капитан, если у него есть семья или какое-нибудь серьёзное дело, совершенно не интересуется своим стоящим в порту кораблём, предоставляя его заботам судовладельцев, покуда не будет всё готово для нового плавания. Но всё-таки не мешает взглянуть на капитана, прежде чем отдавать себя безвозвратно в его руки. Я повернул назад и, окликнув капитана Фалека, спросил, где мне найти капитана Ахава.
– А на что тебе капитан Ахав? Бумаги в порядке. Ты зачислен.
– Да, но мне хотелось бы на него посмотреть.
– Вряд ли это тебе сейчас удастся. Я сам не знаю толком, что там с ним такое, но только он всё время безвыходно сидит дома. Наверное, болен, хотя с виду не скажешь. Собственно, он не болен; но нет, здоровым его тоже назвать нельзя. Во всяком случае, юноша, он и меня-то не всегда желает видеть, так что не думаю, чтобы он захотел встретиться с тобой. Он странный человек, этот капитан Ахав, так некоторые считают, странный, но хороший. Да ты не бойся: он тебе очень понравится. Это благородный, хотя и не благочестивый, не набожный, но божий человек, капитан Ахав; он мало говорит, но уж когда он говорит, то его стоит послушать. Заметь, я предуведомил тебя: Ахав человек незаурядный; Ахав побывал в колледжах, он побывал и среди каннибалов; ему известны тайны поглубже, чем воды морские; он поражал молниеносной острогой врага могущественнее и загадочнее, чем какой-то там кит. О, эта острога! Пронзительнейшая и вернейшая на всём нашем острове! Да, он – это не капитан Вилдад, и не капитан Фалек; он – Ахав, мой мальчик, а как ты знаешь, Ахав издревле был венценосным царём!
– И притом весьма нечестивым. Когда этот преступный царь был убит, его кровь лизали собаки, верно?
– Подойди-ка сюда поближе, ближе, ближе, – проговорил Фалек с такой значительностью, что мне даже страшно стало. – Послушай, парень, никогда не говори таких вещей на борту «Пекода». И нигде не говори. Капитан Ахав не сам выбрал себе имя. Это был глупый, нелепый каприз его помешанной овдовевшей матери, которая умерла, когда он был годовалым младенцем. Правда, старая скво Тистиг в Гейхеде[106] говорила, что это имя ещё окажется пророческим. И может быть, другие глупцы повторят тебе то же самое. Но я хочу предупредить тебя. Это – ложь. Я хорошо знаю капитана Ахава, я много лет плавал у него помощником; и я знаю, каков он в действительности – хороший человек, не богобоязненный хороший человек, вроде Вилдада, а богохульствующий хороший человек, скорее вроде меня, только в нём ещё есть многое сверх этого. Да, я знаю, он никогда не отличался особой весёлостью; и знаю, что последний раз на обратном пути он некоторое время был не в своём уме, но всякому ясно, что это было вызвано мучительной, острой болью в кровоточащем обрубке. Знаю также, что с того самого дня, как он потерял в последнем рейсе ногу из-за этого проклятого кита, он всё время в угрюмом настроении, отчаянно угрюмом, а порой и в бешенстве; но это пройдёт. И раз навсегда скажу тебе, юноша, и ты можешь мне поверить, что лучше плавать с угрюмым хорошим капитаном, чем с капитаном весёлым и плохим. А теперь прощай и не будь несправедливым к капитану Ахаву из-за того, что у него дурное имя. К тому же, мой мальчик, у него есть жена – вот уже три рейса, как он на ней женился – добрая, безропотная юная женщина. Подумай, от этой юной женщины у него есть ребёнок – как по-твоему, может ли старый Ахав быть до конца безнадёжно дурным? Нет, нет, мой друг, Ахав изувечен, изломан, но и ему не чужда человечность!
Я уходил погружённый в задумчивость. То, что по воле случая открылось мне про капитана Ахава, наполнило меня какой-то неспокойной, смутной болью. Я чувствовал к нему сострадание и жалость, но за что именно, не знаю, разве только за то, что он был жестоко изувечен. В то же время я испытывал к нему и необъяснимое чувство страха; но чувство это, описать которое я никак не сумею, было, собственно, не страхом, а чем-то иным, я даже сам не знаю чем. Так или иначе, но я его испытывал, и оно не вызывало у меня к нему никакой враждебности, хотя меня и раздражала слегка связанная с этим человеком таинственность, которую я ощутил, как ни мало мне было о нём тогда известно. Однако постепенно мысли мои устремились в других направлениях, и тёмный образ Ахава на время покинул меня.
Глава XVII. Рамадан
Квикегов Рамадан, или Великий День Поста и Смирения, должен был кончиться только к ночи, и я решил, что не стоит его покамест беспокоить; ибо я питаю глубочайшее уважение ко всяким религиозным отправлениям, как бы смехотворны они ни казались, и я никогда бы не смог отнестись без должного почтения даже к сборищу муравьёв, кладущих поклоны перед мухомором; или к тем существам в некоторых уголках нашей планеты, которые с подобострастием, не имеющим равного на других мирах, поклоняются изваянию какого-нибудь скончавшегося землевладельца, потому только, что его огромными богатствами всё ещё распоряжаются от его имени.
Я считаю, что нам, набожным христианам, возросшим в лоне пресвитерианской церкви, следует быть милосерднее в таких делах и не воображать себя настолько уж выше всех других смертных, язычников и прочих, если им свойственны в этой области кое-какие полубезумные представления. Вот хоть Квикег, например, безусловно придерживается самых нелепых заблуждений относительно Йоджо и Рамадана – ну и что же из того? Квикег, надо полагать, знает, что он делает, он удовлетворён и пусть себе остаётся при своих убеждениях. Все мои споры с ним ни к чему бы не привели, пусть же он будет и впредь самим собой, говорю я, и да смилуются небеса над всеми нами – и пресвитерианцами, и язычниками, ибо у всех у нас, в общем-то, мозги сильно не в порядке и нуждаются в капитальном ремонте.
Под вечер, когда, по моим представлениям, все его ритуалы и церемонии должны были завершиться, я поднялся наверх и постучался. Ответа не последовало. Я толкнул дверь, но она оказалась заперта изнутри. «Квикег!» – шёпотом позвал я через замочную скважину. Молчание. «Квикег, послушай! Отчего ты не отвечаешь? Это я, Измаил». Но всё по-прежнему было тихо. Я начал тревожиться. Ведь я дал ему такую пропасть времени – уж не случился ли с ним апоплексический удар? Я заглянул в замочную скважину, но дверь находилась в дальнем углу комнаты, и вид через замочную скважину открывался искривлённый и зловещий. Видна была только спинка кровати и часть стены, а больше ровным счётом ничего. Но я с удивлением заметил, что к стене прислонена деревянная рукоятка Квикегова гарпуна, который был у нас изъят хозяйкой накануне вечером, когда мы поднимались к себе. Странно, подумал я, но по крайней мере раз гарпун стоит там, а Квикег без своего гарпуна никогда за порог не ступит, значит, и сам он определённо находится внутри.
– Квикег! Квикег! – Тишина. Не иначе как что-нибудь случилось. Апоплексический удар! Я попытался высадить дверь, но она упрямо не поддавалась. Я поспешно сбежал вниз по лестнице и тут же высказал все мои подозрения первому, кто мне подвернулся, а это была горничная.
– Ай-яй-яй! – закричала она. – Так я и знала, что случилась беда. Я хотела после завтрака войти убрать постель, а дверь-то заперта. И тихо – мышь не заскребётся. С самого утра – ни звука. Я думала, может, вы оба ушли и замкнули дверь, чтобы вещи целей были. Ох! Ах! Хозяйка! Убийство! Миссис Хази! Удар!
И она с воплями бросилась на кухню, а я поспешил за ней. Тут же, с горчичницей в одной руке и уксусницей в другой, появилась и миссис Фурия, оторвавшись на время от приготовления приправ и одновременной проборки чернокожего мальчишки-посыльного.
– Где у вас сарай? – орал я. – Сарай где? Сбегайте туда и принесите что-нибудь, чтобы взломать дверь – топор! Топор! С ним случился удар, уверяю вас!
Говоря всё это, я в то же время с пустыми руками опять бессмысленно мчался вверх по лестнице, но тут мне преградила дорогу хозяйка, выставив вперёд горчицу и уксус, а заодно и свою не менее кислую физиономию.
– В чём дело, молодой человек?
– Дайте мне топор! Бога ради, кто-нибудь бегите за доктором, пока я буду взламывать дверь!
– Послушайте, – проговорила миссис Фурия, поспешно ставя на ступеньку уксусницу, чтобы освободить хотя бы одну руку. – Послушайте-ка, уж не в моём ли это доме вы собираетесь взламывать дверь? – И она схватила меня за руку повыше локтя. – В чём дело, а? Что случилось, приятель?
По возможности спокойно, но быстро я обрисовал ей положение вещей. В растерянности прижав горчичницу сбоку к носу, она размышляла несколько мгновений, затем, воскликнув: «Да, да! Я как оставила его там, так больше и не видела!» – побежала к чуланчику под лестницей, заглянула туда и, возвратившись, сообщила, что Квикегова гарпуна на месте нет.
– Он зарезался, – провозгласила она. – Вся история с несчастным Стигзом повторяется сначала… Ещё одному одеялу конец… Бедная, бедная его мать!.. Эдак всё моё заведение погибнет. Остались ли у бедняги сестры?.. Где же эта девчонка? Послушай, Бетти, ступай к маляру Снарлсу и скажи, чтобы он написал для меня объявление: «Здесь самоубийства запрещены и в гостиной не курить» – так можно сразу убить двух зайцев… Убить?.. Боже, смилуйся над его душою! Что там за шум? Эй, молодой человек, ну-ка отойдите оттуда!
При этих словах она взбежала вслед за мною по лестнице и вцепилась в меня, как раз когда я предпринял новую попытку силой открыть дверь.
– Этого я не позволю! Я не допущу, чтобы ломали мой дом. Можете сбегать за слесарем, тут есть один, он живёт не дальше мили отсюда. Но нет, постойте-ка, – и она запустила руку в свой боковой карман. – Кажется, этот ключ сюда подойдёт. А ну-ка посмотрим.
Она вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Но, увы! оставался ещё засов, наложенный Квикегом изнутри.
– Придётся всё-таки её выломать, – заявил я и уже отошёл немного, чтоб лучше разбежаться, но хозяйка опять за меня уцепилась и снова стала кричать; что не позволит ломать свой дом. Я вырвался и с разбегу что было силы всем телом навалился на дверь.
Дверь с чудовищным грохотом распахнулась, угодив со всего маху ручкой в стену и вздымая к потолку облака раскрошенной штукатурки; и тут, святый боже! мы увидели Квикега – живой и невредимый, он в полной невозмутимости сидел на корточках посреди комнаты, а на макушке у него стоял Йоджо. Квикег даже глазом не моргнул, он сидел, словно изваяние, не проявляя ни малейших признаков жизни.
– Квикег, – заговорил я, подойдя к нему. – Квикег, что с тобой?
– Неужто ж он просидел так целый день? – ужаснулась хозяйка.
Но что бы мы ни спрашивали – из него мы не сумели вытянуть ни слова. Я уже прямо готов был столкнуть его на пол, чтобы только как-нибудь изменить его позу – настолько невыносимо напряжённой и мучительно неестественной она казалась, в особенности если подумаешь, что он так просидел, наверное, часов восемь-десять кряду, а то и больше, и при этом, конечно, ещё ничего не ел.
– Миссис Хази, – сказал я. – Во всяком случае, мы убедились, что он жив. Так что вы уж нас теперь, пожалуйста, оставьте, а я в этом странном деле разберусь сам.
Закрыв за хозяйкой дверь, я попытался уговорить Квикега, чтобы он сел на стул, но тщетно. Он застыл у моих ног и, несмотря на всю мою учтивость и лесть, даже бровью не повёл, не произнёс ни слова и даже не взглянул ни разу в мою сторону, ничем не показывая, что заметил хотя бы самое моё присутствие.
Ну что ж, подумал я, вероятно, во время Рамадана так и надо. Может, у него на острове все так постятся – на корточках. Вполне возможно. Да, должно быть, это и вправду полагается по его религии, а раз так, то пусть себе сидит. Рано или поздно он, конечно, встанет. Слава богу, до бесконечности это продолжаться не может, а Рамадан у него бывает только раз в году, да и то не очень регулярно.
Я спустился к ужину. Вдоволь наслушавшись за этот долгий вечер длинных историй, которые рассказывали моряки, только что возвратившиеся из «кисельного» плавания (так называли они короткий промысловый рейс на шхуне или бриге, ограниченный водами Северной Атлантики); просидев в обществе этих «кисельщиков» чуть ли не до одиннадцати часов, я вновь поднялся к себе в полной уверенности, что Квикег к этому времени уже довёл, конечно, свой Рамадан до конца. Но не тут-то было: он по-прежнему сидел там, где я его оставил, не сдвинувшись ни на дюйм. Мне даже досадно на него стало: надо же так глупо, так бессмысленно целый день и половину ночи просидеть на корточках в холодной комнате, держа на голове какую-то деревяшку.
– Бога ради, Квикег, вставай, встряхнись немножко. Вставай и пойди поужинай. Ты так с голоду умрёшь. Ты уморишь себя, Квикег!
В ответ – ни слова.
Тогда я решил махнуть на него рукой и лечь спать; а он, без сомнения, немного погодя и сам последует моему примеру. Но перед тем как забраться в постель, я взял свой косматый бушлат и набросил ему на плечи, потому что ночь обещала быть отменно морозной, а на нём была только лёгкая куртка. Но как я ни старался, мне долгое время не удавалось даже задремать немного. Свечу я задул, но как только вспомню, что он сидит тут в этой неудобной позе, футах в четырёх от кровати, не дальше, один-одинёшенек, в холоде и темноте, на душе у меня становится тошно. Подумать только – спать в одной комнате с язычником, который всю ночь не смыкая глаз сидит на корточках, блюдя свой жуткий, загадочный Рамадан.
Наконец я всё-таки забылся сном и больше уже ничего не сознавал до самого рассвета, когда, открыв глаза, я посмотрел вниз – там сидел Квикег всё в той же скрюченной позе, словно привинченный болтами к полу. Но только первые проблески солнечного света проникли через окно, как он тут же вскочил, громко скрежеща онемевшими суставами, но с видом вполне жизнерадостным, кое-как доковылял до кровати и, опять прижавши свой лоб к моему, сообщил, что его Рамадан окончен.
Как я уже говорил прежде, я готов с полной терпимостью относиться к религии каждого человека, какова бы она ни была, при условии только, что этот человек не убивает и не оскорбляет других за то, что они веруют иначе. Но если чья-то религия доходит просто до изуверства, если она становится для верующего пыткой, одним словом, если она превращает нашу планету в крайне некомфортабельный постоялый двор, тогда последователя подобной религии надлежит, на мой взгляд, отвести в сторонку и поговорить с ним на эту тему по душам. Именно это я и намерен был теперь проделать с Квикегом.
– Квикег, – произнёс я, – полезай-ка в постель и слушай, что я тебе скажу.
И я принялся за дело, начав с возникновения и развития первобытных верований и дойдя до разнообразных религий нашего времени, неизменно стараясь показать Квикегу, что все эти Великие Посты, Рамаданы и длительные сидения на корточках в нетопленных мрачных помещениях – просто полная бессмыслица: для здоровья вредны, для души бесполезны, иными словами, противоречат элементарным законам гигиены и здравого смысла. И ещё я сказал ему, что мне просто больно, ужасно больно видеть, как он, во всех других отношениях чрезвычайно рассудительный и разумный дикарь, так досадно глупо ведёт себя с этим своим нелепым Рамаданом. К тому же, убеждал я его, от поста тело слабеет, а стало быть, слабеет и дух, и все мысли, возникшие постом, обязательно бывают худосочные. Недаром же те верующие, кто особенно страдает от несварения желудка, придерживаются самых унылых убеждений относительно того, что ожидает их за могилой. Одним словом, Квикег, говорил я, несколько уклонившись от избранной темы, идея ада впервые зародилась у человека, когда он объелся яблоками, а затем была увековечена наследственным расстройством пищеварения, поддерживаемым Рамаданами.
Тут я спросил Квикега, страдал ли он когда-либо расстройством пищеварения, стараясь объяснить свою мысль по возможности нагляднее, чтоб он мог понять, что я имею в виду. Он ответил, что нет, разве только один раз и по весьма знаменательному поводу. Это произошло с ним после великого пиршества, которое устроил его отец по случаю великой победы, когда в сражении было убито к двум часам пополудни пятьдесят вражеских воинов, и в ту же ночь они все были сварены и съедены.
– Довольно, довольно, Квикег, – прервал я его, содрогаясь. – Замолчи.
Ибо я и без него представлял себе, чем это должно было кончиться. Я знал когда-то одного матроса, который побывал на этом самом острове, и он рассказывал мне, что у них там существует такой обычай: выиграв большую битву, победитель целиком изжаривает у себя во дворе или в саду каждого убитого, а потом одного за другим укладывает их на большие деревянные блюда, красиво обложив, словно пилав, плодами хлебного дерева и кокосовыми орехами и засунув им в рот по пучку петрушки, и посылает с наилучшими пожеланиями своим друзьям, как если бы то были просто рождественские индейки.
В целом, я не могу сказать, чтобы мои замечания насчёт религии произвели на Квикега большое впечатление. Во-первых, он как-то не проявил интереса к рассуждениям на столь важные темы, ведущимся с точки зрения, отличной от его собственной; а во-вторых, он и понимал-то меня не более чем на одну треть, как ни примитивно формулировал я свои мысли, и в довершение всего, он, безусловно, считал, что разбирается в истинной религии гораздо лучше, чем я. Он глядел на меня с каким-то снисходительным участием и сочувствием, будто очень сожалел, что такой рассудительный молодой человек столь безнадёжно потерян для святого языческого благочестия.
Наконец мы поднялись с кровати и оделись. Квикег с аппетитом поглотил чудовищный завтрак, состоящий из всевозможных сортов отварной рыбы – так что большой выгоды от его Рамадана хозяйка всё равно не получила, – и мы отправились на «Пекод», неторопливо вышагивая по дороге и ковыряя в зубах костями палтуса.
Глава XVIII. Вместо подписи
Мы только ещё шли по пристани к борту судна, я и Квикег со своим гарпуном, когда нас окликнул из вигвама хриплый голос капитана Фалека, который громко выразил удивление по поводу того, что мой товарищ оказался каннибалом, и тут же провозгласил, что не допускает на это судно каннибалов, пока они не предъявят свои бумаги.
– Не предъявят чего, капитан Фалек? – переспросил я, прыгнув через фальшборт и оставив своего друга внизу на пристани.
– Бумаги, – ответил он. – Пусть покажет бумаги.
– Да, да, – глухим голосом подтвердил капитан Вилдад, высунув вслед за Фалеком голову из вигвама. – Пусть докажет, что он обращённый. Сын тьмы! – повернулся он в сторону Квикега, – состоишь ли ты в настоящее время в лоне какой-либо христианской церкви?
– А как же, – ответил я, – он принадлежит к первой конгрегационалистской церкви[107].
Тут следует заметить, что многие татуированные дикари, плавающие на нантакетских судах, кончают тем, что обращаются и попадают в лоно какой-либо из церквей.
– Как! Первая конгрегационалистская церковь? – воскликнул Вилдад. – Это те, которые собираются в доме у диакона Девтерономии Колмена? – И он вытащил из кармана очки, протёр их большим жёлтым носовым платком, с особой осторожностью водрузил на нос, вышел из вигвама и, с трудом перегнувшись через фальшборт, долго и пристально разглядывал Квикега.
– Давно ли он стал членом этой общины? – спросил капитан наконец, обернувшись ко мне. – Не слишком-то давно, я полагаю, а, молодой человек?
– Разумеется, недавно, – поддержал его Фалек. – И крещение он получил не настоящее, иначе бы оно смыло у него с лица хоть немного этой дьявольской синевы.
– Нет, ты скажи, молодой человек, – сказал Вилдад. – Неужели этот филистимлянин[108] регулярно посещает собрания диакона Девтерономии? Что-то я его там ни разу не видел, а я хожу мимо каждое воскресенье.
– Мне ничего не известно о диаконе Девтерономии и его собраниях, – сказал я. – Знаю только, что Квикег рождён в лоне первой конгрегационалистской церкви. Да он сам диакон, вот этот самый Квикег.
– Молодой человек, – строго проговорил Вилдад, – напрасно ты шутишь этим. Объясни свои слова, ты, юный хеттеянин[109]. Отвечай мне, о какой это церкви ты говорил?
Почувствовав, что меня прижали к стенке, я ответил:
– Сэр, я говорил о той древней католической церкви[110], к которой принадлежим мы все, и вы, и я, и капитан Фалек, и Квикег, и всякий сын человеческий; о великой и вечной Первой Конгрегации всего верующего мира; все мы принадлежим к ней; правда, иных среди нас слишком волнуют сейчас разные мелочи великой веры, но сама она связывает нас всех воедино.
– Верно! Морским узлом! – вскричал Фалек, шагнув мне навстречу. – Юноша, тебе бы следовало поступить к нам миссионером, а не матросом. В жизни не слыхивал я проповеди лучше! Диакон Девтерономия, да чего там, сам отец Мэппл никогда не сможет тебя переплюнуть, а уж он-то чего-нибудь да стоит. Полезайте, полезайте сюда, и к чертям все бумаги. Эй, скажи ты этому Квебеку, – или как там ты его зовёшь, – скажи Квебеку, чтобы шёл сюда. Ого, клянусь большим якорем, ну и гарпун же у него! Неплохая вещь, как я погляжу, и обращается он с ним умело. Послушай, как тебя, Квебек, приходилось тебе когда-нибудь стоять на носу вельбота? Случалось уже бить китов, а?
Не отвечая ни слова на свой дикарский манер, Квикег вскочил на фальшборт, оттуда прыгнул на нос подвешенного за бортом вельбота и, выставив вперёд левое колено и занеся над головой гарпун, выкрикнул нечто подобное нижеследующему:
– Капитан! Видела капля дёготь там на вода? Видела? Пускай это у кита глаз, а ну-ка! – Прицелившись хорошенько, он метнул гарпун, и тот, просвистев возле самой шляпы старого Вилдада, перелетел над палубой корабля и разбил на бесчисленное множество осколков маленькое блестящее пятнышко. – Вот, – спокойно заключил Квикег, выбирая линь. – Пускай это у кита глаз, твоя кит уже мёртвый.
– А ну, быстро, Вилдад, – сказал Фалек своему компаньону, который, перепуганный непосредственной близостью пролетевшего гарпуна, удалился к порогу капитанской каюты. – Быстрее, говорю, Вилдад, доставай корабельные книги. Этого Любека, то есть Квебека, мы должны заполучить на один из наших вельботов. Слушай, Квебек, мы тебе даём девяностую долю, а столько ещё не получал в Нантакете ни один гарпунщик.
Мы спустились в каюту, и Квикег, к великой моей радости, был вскоре занесён в списки той же самой команды, в какой уже числился и я.
Когда все формальности были завершены и оставалось поставить подпись, Фалек обернулся ко мне и сказал:
– Надо думать, твой Квебек писать не умеет, так, что ли? Эй, Квебек, чтоб тебя! Ты будешь подписывать своё имя или крест поставишь?
При этом вопросе Квикег, которому и прежде уже приходилось раза два-три принимать участие в подобных процедурах, видимо, ничуть не растерялся, но, взяв протянутое перо, изобразил на бумаге точную копию некоего загадочного округлого знака, вытатуированного у него на руке; так что благодаря упорству Фалека касательно Квикегова прозвища всё это получило определённый вид.
Тем временем капитан Вилдад сидел, не спуская глаз с Квикега, а затем торжественно поднялся и, порывшись в огромных карманах своего широкополого коричневого сюртука, извлёк оттуда целую пачку брошюр; выбрав одну из них, озаглавленную «Последний день наступает, или Не теряйте времени» [так], вложил её в руки Квикегу, а потом схватил их вместе с книгой обеими своими руками, пристально посмотрел ему в глаза и проговорил:
– Сын тьмы, я обязан выполнить мой долг по отношению к тебе. Это судно отчасти принадлежит мне, и я не могу не заботиться об его экипаже. Ежели ты всё ещё придерживаешься своих языческих обычаев – а я очень опасаюсь, что это так, – то заклинаю тебя, не оставайся вечно рабом Вила[111]. Отринь идола Вила и мерзкого змия, беги грядущего гнева. Гляди в оба, говорю тебе. О, во имя милосердного бога! Правь прочь от огненной бездны!
В речи старого Вилдада ещё сохранились отзвуки моряцкой жизни, причудливо перемешанные с библейскими и местными выражениями.
– Ступай, ступай, Вилдад, нечего тебе портить нашего гарпунщика, – вмешался Фалек. – Набожные гарпунщики никуда не годятся. У них от этого пропадает вся хватка. А что проку в гарпунщике, если у него нет хватки? Помнишь, какой был гарпунщик молодой Нат Свейн? На всём Нантакете и Вайньярде не было храбрее. Но он стал посещать моления, и дело кончилось худо. Он до того боялся за свою ничтожную душу, что начал обходить и сторониться китов из опасения, как бы они не задели хвостом его вельбот и не пришлось бы ему отправиться к чёрту в пекло.
– Фалек, Фалек, – проговорил Вилдад, возводя очи и руки к небесам. – Ведь и ты сам, как и я, изведал немало опасностей. Ведь ты знаешь, Фалек, что означает страх смерти. Как же можешь ты прибегать к столь нечестивому пустословию? Не возведи на себя напраслину, скажи, положа руку на сердце, Фалек, разве тогда, у берегов Японии, когда вот этот самый «Пекод» потерял в тайфуне все три мачты, – помнишь, ты как раз плавал помощником у Ахава? – разве не думал ты тогда о смерти и божьей каре?
– Вы только послушайте его! – вскричал Фалек и зашагал по тесной каюте, глубоко засунув руки в карманы. – Все слышали, а? Подумать только! Ведь судно каждую минуту могло пойти ко дну! Что же, думать о смерти и божьей каре? Когда все наши три мачты с таким адским грохотом колотились о борт, а зыбь разбивалась над нами, и с кормы, и с носа! Думать в это время о смерти и божьей каре? Нет, некогда нам было думать о смерти. Жизнь – вот о чём мы думали с капитаном Ахавом. Как спасти команду, как поставить новые мачты, как добраться до ближайшего порта – вот о чём я тогда думал.
Вилдад промолчал; он застегнул на все пуговицы сюртук и гордо прошествовал на палубу, и мы последовали за ним. Здесь он остановился и стал спокойно наблюдать за работой парусных мастеров, которые на шкафуте чинили грот-марсель. Время от времени он нагибался и подбирал обрезок парусины или просмолённой бечёвки, чтоб они, не дай бог, не пропали зря.
Глава XIX. Пророк
– Братья, вы нанялись на этот корабль?
Мы с Квикегом только что покинули «Пекод» и медленно шли по набережной, каждый погружённый в собственные мысли, когда какой-то незнакомец обратился к нам с этими словами, остановившись прямо перед нами и наведя свой толстый указательный палец на корпус упомянутого судна. Человек этот был облачён в крайне ветхий, выцветший бушлат и заплатанные брюки, а шею его украшал обрывок чёрного платка. Сливная оспа пролилась по его лицу во всех мыслимых направлениях, и теперь оно напоминало замысловато изборождённое русло пересохшего потока.
– Вы нанялись туда? – повторил он свой вопрос.
– Вы имеете в виду судно «Пекод», полагаю? – переспросил я, стараясь выиграть немного времени, чтобы получше его рассмотреть.
– О, да, именно «Пекод», вот тот корабль, – подтвердил он, отведя руку назад, а затем стремительно выбросив её перед собой, так что вытянутый палец, точно штык, вонзился в цель.
– Да, – ответил я, – мы только что подписали там бумаги.
– Оговорено ли в бумагах что-нибудь касательно ваших душ?
– Касательно чего?
– А, у вас их, вероятно, нет, – быстро проговорил он. – В конце концов это не так уж важно. Я знаю многих, у кого нет души – им просто повезло. Душа – это вроде пятого колеса у телеги.
– О чём ты бормочешь, приятель? – удивился я.
– Но он имеет избыток, которого станет на то, чтоб покрыть недостаток у всех других, – неожиданно заключил незнакомец, делая особое, тревожное ударение на слове «он».
– Пошли, Квикег, – сказал я, – этот тип, видно, сбежал откуда-то. Он говорит о ком-то и о чём-то, нам с тобою неизвестном.
– Стойте! – вскричал незнакомец. – Вы правы – ведь вы ещё не видели Старого Громобоя, верно?
– Кто это Старый Громобой? – спросил я, остановленный значительностью его безумного тона.
– Капитан Ахав.
– Что? Капитан нашего корабля? Капитан «Пекода»?
– Да, многие из нас, старых моряков, называют его этим именем. Ведь вы его ещё не видели, верно?
– Пока нет. Говорят, он был болен, но теперь поправляется и скоро уже будет совсем здоров.
– Совсем здоров, а? – повторил незнакомец с каким-то торжествующе горьким смехом. – Капитан Ахав будет здоров тогда, когда опять будет здорова моя левая рука, не раньше, слышите?
– А что вам о нём известно?
– А что вам о нём рассказали?
– Да они ничего почти не рассказывали; я слышал только, что он хороший китобой и хороший капитан для своих матросов.
– Верно, всё это так – и то и другое верно. Но когда он приказывает, тут уж приходится поворачиваться. Ворчи не ворчи, вой не вой, а слово Ахава – закон. Но о том, что случилось с ним когда-то у мыса Горн, когда он три дня и три ночи пролежал, как мёртвый; о смертельной схватке с Испанцем пред алтарём в Санта – обо всём этом вы ничего не слыхали? А о серебряной фляге, в которую он плюнул? И о том, как в последнем рейсе он потерял левую ногу во исполнение пророчества? Неужели вы ничего не слышали обо всём этом, об этом и ещё кое о чём? Ну конечно, вы об этом не слыхали, откуда же вам знать? Кто вообще знает об этом, даже у нас в Нантакете? Однако о том, как потерял он ногу, вы, может статься, всё же слыхали? Да, да, вижу, об этом вам говорили. Да и кто об этом здесь не знает? То есть о том, что у него теперь только одна нога и что другую он потерял в стычке с кашалотом?
– Друг мой, – остановил я его, – что вы тут такое плетёте, я не знаю, да и знать не хочу, потому что, сдаётся мне, у вас, вроде бы, в голове не всё в порядке. Но если вы имеете в виду капитана Ахава, капитана вон того корабля «Пекода», тогда позвольте сообщить вам, что относительно его ноги мне известно всё.
– Всё известно, говорите вы? И вы в этом уверены, а?
– Абсолютно уверен.
Ещё мгновение незнакомец стоял неподвижно, погружённый в тревожную задумчивость, вытянув палец и устремив взгляд на корпус «Пекода», потом чуть заметно вздрогнул и сказал:
– Вы ведь уже зачислены, верно? Имена ваши значатся в списках? Ну что ж, что написано, то написано, а чему быть, того не миновать, то и сбудется, а может, и не сбудется всё-таки. Во всяком случае, всё уже предрешено и расписано заранее. И кому-нибудь из матросов ведь надо с ним идти. Либо этим, либо каким-нибудь ещё, господь да смилуется над ними. Прощайте же, братья, прощайте, небеса неизречённые да благословят вас. Извините, что задержал вас.
– Послушайте, друг, – сказал я, – если вы можете сообщить нам что-нибудь важное, то выкладывайте, но если вам просто вздумалось нас поморочить и запугать, то вы обратились не по адресу. Вот всё, что я хотел сказать.
– И сказано неплохо, очень неплохо, я люблю, когда говорят так складно. Вы ему отлично подойдёте, вот такие люди, как вы. Прощайте же, братья. Да вот ещё, когда вы туда попадёте, передайте им, что я почёл за лучшее к ним не присоединяться.
– Ну нет, дорогой мой, вам нас так не одурачить, не думайте. Ведь сделать вид, что тебе известна великая тайна, – это легче лёгкого.
– Прощайте, братья, прощайте.
– Прощайте, – ответил я. – Пошли, Квикег, уйдём от этого сумасшедшего. Впрочем, постойте, скажите-ка мне, пожалуйста, как вас зовут?
– Илия[112].
Илия! мысленно повторил я, и мы зашагали прочь, обсуждая каждый на свой лад этого старого оборванного матроса; под конец мы оба сошлись на том, что он всего лишь мелкий мошенник, хоть и корчит из себя великое пугало. Но не прошли мы и ста ярдов, как я, заворачивая за угол, случайно оглянулся и увидел всё того же самого Илию, который следовал за нами на некотором расстоянии. Это почему-то настолько меня взволновало, что я не сказал Квикегу ни слова, но продолжал идти, горя нетерпением узнать, свернёт ли и незнакомец за тот же угол. Он свернул, и тогда я подумал, что он, наверное, преследует нас, хотя с какой целью, я просто представить себе не мог. Обстоятельство это в сочетании с его двусмысленной, таинственной речью, изобилующей полунамёками, полуразоблачениями, породило у меня в душе всевозможные смутные недоумения и полупредчувствия, каким-то образом связанные с «Пекодом», с капитаном Ахавом, с его левой ногой, с его припадком у мыса Горн, с серебряной флягой, с тем, что сказал мне о нём накануне, когда я уходил, капитан Фалек, с пророчеством скво Тистиг, с плаванием, которое нам предстояло, и с тысячей других туманных вещей.
Я решил во что бы то ни стало выяснить, действительно ли этот оборванец Илия преследует нас, перешёл с Квикегом на другую сторону улицы и зашагал в обратном направлении. Но Илия прошёл мимо, видимо, вовсе нас и не заметив. Я почувствовал облегчение и ещё раз, теперь уже, как думалось мне, окончательно, заключил про себя, что он всего лишь мелкий мошенник.
Глава XX. Всё в движении
Миновало дня два, и на борту «Пекода» всё пришло в движение. Теперь уже не только чинили старые паруса, но и привозили новые, вместе с рулонами парусины и бухтами канатов, – одним словом, всё говорило о том, что работы по снаряжению судна спешно подходят к концу. Капитан Фалек совсем не сходил теперь на берег, он целый день сидел в своём вигваме и зорко следил за работой матросов; на берегу всеми сделками и покупками ведал Вилдад, а в трюме и на мачтах люди трудились до поздней ночи.
Назавтра после того, как Квикег подписал бумаги, повсюду, где стояли матросы с «Пекода», было передано, что к ночи все сундуки должны быть доставлены на борт, потому что корабль может отплыть в любую минуту. Поэтому мы с Квикегом переправили на судно свои пожитки, однако сами решили ночевать на берегу до самого отплытия. Но предупреждение, как всегда в таких случаях, было дано загодя, и корабль простоял у пристани ещё несколько дней. Да это и не удивительно: ведь нужно было ещё так много сделать и о стольких ещё вещах надо было позаботиться, прежде чем «Пекод» будет окончательно оснащён.
Всякому известно, какое множество предметов – кровати, сковородки, ножи и вилки, лопаты и клещи, салфетки, щипцы для орехов и прочая, и прочая – необходимы в таком деле, как домашнее хозяйство. То же самое и в китобойном рейсе, когда целых три года нужно вести большое хозяйство в океане, вдали от бакалейщиков, уличных разносчиков, врачей, пекарей и банкиров. Всё это, конечно относится и к торговым судам, но отнюдь не в той же мере, как к судам китобойным. Ибо, помимо длительности рейсов, многочисленности предметов, насущно необходимых для промысла, и невозможности обновлять их запасы в тех дальних портах, куда обычно заходят эти суда, следует также иметь в виду, что из всех кораблей именно китобойцы наиболее подвержены всевозможным опасностям, и в особенности – опасности потерять те самые вещи, от которых зависит успех всего промысла. Поэтому здесь имеются запасные вельботы, запасной рангоут, запасные лини и гарпуны – всё на свете запасное, кроме лишнего капитана и резервного корабля.
К моменту нашего прибытия на остров трюмы «Пекода» уже были почти полностью загружены говядиной, хлебом, водой, топливом, железными обручами и бочарной клёпкой. Тем не менее, как я уже упоминал, ещё несколько дней после этого не прекращался подвоз всевозможных довесков и домерков, как маленьких, так и больших.
Главным лицом среди тех, кто занимался теперь подвозом и погрузкой, была сестра капитана Вилдада, худощавая старая леди с чрезвычайно решительным и неутомимым характером, но при всём том очень добросердечная, твёрдо решившая, по-видимому, что, насколько это зависело от неё, на «Пекоде» не будет недостатка ни в чём. То она появлялась на борту с банкой солений для корабельной кладовой, то спешила со связкой перьев, чтобы поставить на стол старшему помощнику, где обычно вносились записи в судовой журнал; а то приносила кусок фланели, чтобы согревать чью-нибудь простуженную поясницу. Ещё ни одна женщина так не заслуживала своего имени, потому что эту заботливую даму звали Харита, Милосердие, – тётушка Харита, как обращались к ней все. Подобно сестре милосердия, эта милосердная тётушка Харита целый день суетилась вокруг, готовая приложить руку, а также и сердце, ко всему тому, что обещало безопасность, удобство и утешение находящимся на борту корабля, с которым связаны были деловые интересы её возлюбленного братца Вилдада и в который она сама вложила несколько десятков припасённых про чёрный день долларов.
Но уж совсем потрясающее зрелище являла собой сия выдающаяся квакерша, когда в последний день она поднялась на палубу, держа в одной руке длинный черпак для китового жира, а в другой – ещё более длинную китобойную острогу. Сам Вилдад, да и капитан Фалек, оба они тоже не отставали. Вилдад, например, носил при себе длинный список недостающих предметов, и всякий раз, как прибывала новая партия грузов, он тут же ставил галочку на своей бумажке. Время от времени из костяной берлоги, спотыкаясь, выскакивал Фалек, орал в люки на тех, кто работал внизу, орал вверх на тех, кто налаживал такелаж на мачтах, и в довершение всего, не переставая орать, убирался назад, в свой вигвам.
В эти дни мы с Квикегом часто наведывались на судно, и не менее часто я справлялся о капитане Ахаве, об его здоровье и о том, когда же он приедет на свой корабль. В ответ на все вопросы я слышал, что капитану Ахаву гораздо лучше, что он поправляется и что на корабле его ожидают со дня на день, а что пока капитаны Вилдад и Фалек позаботятся обо всём необходимом для снаряжения судна. Если бы я был до конца честен с самим собой, я бы отчётливо осознал, что в глубине души меня не слишком-то прельщала необходимость отправиться в столь длительное плавание, так и не увидев ни разу человека, которому предстояло стать абсолютным диктатором на корабле, как только мы очутимся в открытом море. Но когда подозреваешь что-нибудь неладное, иной раз случается, если ты уже вовлечён в это дело, что ты бессознательно стараешься скрыть все подозрения даже от себя самого. Я не говорил ни слова и старался ни о чём не думать.
Наконец было передано, что завтра в течение дня мы наверняка отплываем. Поэтому на следующее утро мы с Квикегом чуть свет отправились на пристань.
Глава XXI. Прибытие на борт
Было около шести часов, но серая, туманная заря ещё только занималась, когда мы вошли на пристань.
– По-моему, там впереди бегут какие-то матросы, – сказал я Квикегу. – Не тени же это. Видно, мы отплываем с восходом. Пошли скорей!
– Стойте! – раздался голос, принадлежавший человеку, который незаметно подошёл к нам сзади, положил каждому руку на плечо и, протиснувшись между нами, стоял теперь, чуть подавшись вперёд и переводя с Квикега на меня непонятный, пристальный взгляд. Это был Илия.
– Идёте на корабль?
– Эй, вы, руки прочь, слышите? – сказал я.
– Твоя ходи вон, – сказал Квикег, стряхивая с плеча его руку.
– Так вы не на корабль идёте?
– Нет, на корабль, – ответил я. – Но вам-то какое дело? Да знаете ли, мистер Илия, что вы, по-моему, изрядный невежа?
– Нет, нет, этого я не знал, – проговорил Илия, медленно и удивлённо переводя с меня на Квикега свой непостижимый взор.
– Илия, – сказал я тогда, – вы очень обяжете моего друга и меня, если немедленно удалитесь. Мы отправляемся в Индийский и Тихий океаны и предпочли бы, чтобы нас не задерживали.
– Вот как? А вы вернётесь к завтраку?
– Квикег, он помешанный, – говорю я. – Идём.
– Эге-гей! – окликнул нас Илия, когда мы отошли от него на несколько шагов.
– Не обращай на него внимания, Квикег, идём скорей.
Но он опять незаметно нагнал нас и, неожиданно ударив меня ладонью по плечу, спросил:
– А вам не показалось, будто на судно только что прошли вроде какие-то люди?
Остановленный этим простым и ясным вопросом, я ответил:
– Да, я как будто бы видел четверых или пятерых людей, но очень смутно, так что утверждать не стану.
– Да, очень смутно, очень смутно, – повторил Илия. – Прощайте.
Мы опять расстались с ним, и опять он неслышно нагнал нас и, ещё раз тронув меня за плечо, сказал:
– А вот найдёте ли вы их теперь, как вы думаете?
– Кого?
– Прощайте же. Прощайте! – повторил он в ответ и зашагал было прочь. – Ах да! Я только собирался предупредить вас… но это не имеет значения, это всё одно и то же, дело семейное… сильный мороз сегодня, а? Будьте же здоровы. Мы с вами теперь, наверно, не скоро увидимся, разве только перед Судебными Властями, – и с этими бессмысленными словами он наконец удалился, повергнув меня в немалое недоумение своей неистовой дерзостью.
Когда мы ступили наконец на борт «Пекода», нас встретила глубокая тишина – не слышно и не видно было ни души. Дверь капитанской каюты была заперта изнутри, люки все задраены и завалены сверху бухтами канатов. Мы прошли на бак и здесь увидели один незакрытый люк. Снизу шёл свет. Мы спустились, но там нашли только старика такелажника, закутанного в драный матросский бушлат. Он лежал ничком, уткнувшись носом в согнутые руки и во всю длину вытянувшись на двух сдвинутых сундуках. Глубочайший сон сковал его.
– Как ты думаешь, Квикег, куда могли деться те матросы, которых мы видели? – спросил я, в растерянности глядя на спящего.
Но Квикег на пристани ничего не заметил, и теперь я готов был и сам счесть всё это оптическим обманом, если бы только не Илия со своим таинственным вопросом. Но я подавил в себе тревожное чувство и, снова указав на спящего, шутливо заметил Квикегу, что нам с ним, пожалуй, лучше всего остаться тут и сторожить тело, так что пусть он устраивается поудобнее. Он положил ладонь спящему на зад, словно испытывая, достаточно ли тут мягко, а затем без лишних слов спокойно уселся сверху.
– Господи! Квикег, не садись так, – сказал я.
– А что? – возразил Квикег. – Совсем удобный место. Моя остров всегда так сидят. А лицо всё равно будет целый.
– Лицо! – удивился я. – Ты называешь это лицом! Ну что ж, выражение у него очень благожелательное. Но погляди, как тяжело он дышит, он просто весь вздымается. Слезай скорей, Квикег, ты слишком тяжёл, не к лицу тебе так обращаться с лицом бедного человека. Слезай, Квикег! Смотри, он тебя сейчас сбросит. И как это он до сих пор не проснулся?
Квикег слез, устроился на сундуке у самой головы спящего и разжёг свой томагавк. Я уселся у старика в ногах. И, наклоняясь над ним, мы стали передавать друг другу трубку. Покуда мы так сидели, Квикег в ответ на мой вопрос рассказал мне на своём ломаном языке, что у него на родине, где совершенно отсутствуют какие бы то ни было диваны и пуфы, цари, вожди и прочие великие люди обыкновенно раскармливают для роли оттоманок представителей низших сословий; так что, желая обставить дом с комфортом, вы можете купить восемь-десять лежебок и расположить их по своему вкусу в простенках и нишах; да и для прогулок это очень удобно, гораздо удобнее, чем садовый стульчик, который складывается в тросточку, – в случае надобности вождь подзывает к себе слугу и повелевает ему изобразить из своей особы диван где-нибудь под развесистым деревом, растущим, быть может, в сыром болотистом месте.
Каждый раз, когда я передавал Квикегу томагавк, он, не прерывая повествования, взмахивал острым концом над самой головой спящего.
– Для чего это ты делаешь, Квикег?
– Очень просто убивал. О! Очень просто!
И он погрузился в бурные воспоминания, навеянные трубкой-томагавком, которая, как можно было понять, в своей двойственной сущности не только дарила утешение его душе, но и раскраивала черепа его врагов; но тут наше внимание было наконец привлечено к спящему. Густой табачный дым доверху наполнил тёмное помещение, и это возымело на него своё действие. Сначала он стал дышать как-то особенно тяжко, потом у него, видимо, в носу защекотало, тогда он перевернулся раза два и наконец сел и протёр глаза.
– Эй, вы, курильщики, – едва продохнул он. – Вы кто такие?
– Мы из команды, – ответил я. – Когда отплываем?
– Ах вот как. Идёте, значит, на «Пекоде»? «Пекод» отплывает сегодня. Ночью капитан приехал.
– Какой капитан? Ахав?
– Ну, а какой же?
Я собирался задать ему ещё несколько вопросов относительно Ахава, но в это время на палубе послышался шум.
– Эге, Старбек хозяйничает, – сказал старик. – Боевой у вас старший помощник. Хороший человек и набожный. Но, вижу, все уже проснулись. Пора и мне. – Сказав это, он поднялся на палубу, и мы последовали за ним.
Солнце уже вставало, было совсем светло. Вскоре начал собираться экипаж; матросы прибывали по двое, по трое; такелажники трудились вовсю, помощники капитана энергично взялись за дело; разные люди всё время подвозили с берега всевозможные последние мелочи. Один только капитан Ахав по-прежнему оставался невидимым под тёмными сводами капитанской каюты.
Глава XXII. С Рождеством Христовым!
Наконец, к полудню, после того как такелажники покинули корабль и после того как с пристани было послано множество громогласных приветствий, после того как отвалила шлюпка с неизменной заботливой Харитой, которая доставила на борт свой последний дар – ночной колпак для второго помощника Стабба, приходившегося ей зятем, и ещё один экземпляр Библии для кока, – после всего этого оба капитана, Фалек и Вилдад, поднялись из капитанской каюты на палубу, и Фалек сказал, обращаясь к старшему помощнику:
– Ну, мистер Старбек, вы всё проверили? Капитан Ахав уже готов – мы только что говорили с ним. На берегу ничего не забыли, а? Тогда свистать всех наверх! Пускай выстроятся здесь на шканцах, будь они прокляты!
– Как ни велика спешка, нет нужды в дурных словах, Фалек, – проговорил Вилдад. – Однако живей, друг Старбек, исполни наше приказание.
Ну и ну! Корабль уже отплывает, а капитан Фалек и капитан Вилдад по-прежнему распоряжаются на палубе, точно им и в море, как в порту, предстоит совместное командование. А что до капитана Ахава, так его ещё никто в глаза не видел, только сказано было, что он у себя в каюте. Впрочем, ведь для того, чтобы поднять якорь и вывести корабль в открытое море, присутствие капитана вовсе не так уж необходимо. В самом деле, поскольку это входит в обязанности лоцмана, а не капитана, и к тому же капитан Ахав ещё не совсем оправился от болезни – как нам объяснили, – вполне разумно, чтобы он оставался внизу. Всё это представлялось мне естественным, в особенности же ещё потому, что многие капитаны торговых судов тоже имеют обыкновение долго не показываться на палубе, после того как поднят якорь, посвящая всё это время весёлой прощальной попойке с друзьями, которые затем покидают корабль вместе с лоцманом.
Но поразмыслить об этом как следует не представлялось теперь никакой возможности, потому что капитан Фалек взялся за дело всерьёз. Командовал и говорил по большей части он, а не Вилдад.
– Все на ют, вы, ублюдки! – орал он на матросов, замешкавшихся у грот-мачты. – Мистер Старбек, гоните их на ют.
– Убрать палатку! – таков был следующий приказ.
Как я уже говорил, шатёр из китового уса разбивался на «Пекоде» только на время стоянок, и вот уже тридцать лет, как на борту «Пекода» известно было, что приказание убрать палатку непосредственно предшествует команде поднимать якорь.
– Людей к шпилю! Кровь и гром! Живо! – последовал приказ, и матросы кинулись к вымбовкам ворота.
При подъёме якоря лоцману полагается стоять на носу. И вот Вилдад, который, да будет всем известно, в дополнение к прочим своим должностям значился ещё портовым лоцманом, – причём высказывались предположения, что он приобрёл это звание только для экономии, чтобы не нанимать нантакетских лоцманов для своих судов, поскольку чужие корабли он не проводил никогда, – так вот, этот самый Вилдад свесился теперь за борт, внимательно высматривая приближающийся якорь и время от времени подбадривая унылым прерывистым псалмопением матросов у шпиля, которые в ответ ему подхватывали во всю глотку громогласный припев про красоток с Бубл-Эллей. А ведь всего только три дня тому назад Вилдад говорил, что не допустит непристойных песен на борту «Пекода», тем более при подъёме якоря; а его сестра Харита положила в койку каждому члену экипажа по новенькой книжечке гимнов Уоттса[113].
Фалек тем временем распоряжался на палубе, ругаясь и божась самым отчаянным образом. Я уж думал, он сейчас потопит судно, не успеем мы якорь поднять. Поэтому я, понятно, выпустил вымбовку, сказав Квикегу, чтоб он последовал моему примеру, ведь подумать только, каким опасностям предстояло подвергнуться нам, начинавшим плавание под водительством столь буйного командира. Единственная надежда, утешал я себя, что, может быть, спасение придёт от благочестивого Вилдада, хоть это он придумал семьсот семьдесят седьмую долю; но тут я почувствовал внезапный резкий толчок пониже спины и, обернувшись, содрогнулся от страшного видения: капитан Фалек в этот самый момент как раз опускал ногу, выводя её из непосредственной близости с моей особой. Это был первый в моей жизни пинок в зад.
– Так вот, оказывается, как ходят на шпиле на купеческих судах! – взревел он. – А ну, поворачивайся, ты, баранья башка! Поворачивайся, чтоб кости трещали! Эй вы все, вы чего, спите, что ли? Сказано вам: поворачивайтесь! Поворачивайся, Квебек! Ты, рыжий, поворачивайся, шотландский колпак! Поворачивайся, зелёные штаны! Давай, давай, поворачивайтесь, все вы, живей, глаза ваши на лоб!
При этом он метался вокруг шпиля, то тут, то там весьма свободно пуская в ход ногу, а на носу невозмутимый Вилдад продолжал выводить свои псалмы. Да, думаю я, видно, капитан Фалек сегодня хлебнул лишку.
Наконец якорь был поднят, паруса поставлены, и мы заскользили прочь от берега. Был холодный, короткий день святого рождества; и когда скудный северный дневной свет незаметно сменился ночною тьмой, мы оказались затерянными в студёном океане, чьи смёрзшиеся брызги скоро одели нас льдом, словно сверкающими латами. В лунном свете мерцали вдоль борта длинные ряды китовых зубов и, словно белые бивни исполинского слона, свешивались на носу гигантские загнутые сосульки.
Первую вахту возглавлял в качестве лоцмана тощий Вилдад. И всякий раз, когда старое судно глубоко ныряло в зелёные волны, вздрагивая всем своим обледенелым корпусом, а ветры завывали и звенели упругие снасти, раздавался на палубе его ровный голос:
Никогда ещё эти слова не казались мне так хороши. В них звучала надежда и свершение. Ну что с того, что над нами и над всей Атлантикой нависла морозная ночь, что с того, что ноги у меня сильно промокли, а бушлат промок ещё сильнее, немало ещё солнечных гаваней ожидает нас в будущем, и луга, и лесные прогалины, такие непобедимо зелёные, где поднявшаяся весною трава и в разгар лета стоит всё такая же нехоженая, всё такая же свежая.
Наконец мы настолько удалились от берега, что лоцман больше уже не был нужен. К борту подошёл сопровождавший нас парусный бот.
Странно и трогательно было видеть, как взволнованы в этот миг были Фалек и Вилдад, в особенности Вилдад. Ему ещё не хотелось уходить, мучительно не хотелось покидать навсегда этот корабль, идущий в долгое, опасное плавание – за оба бурных мыса, – корабль, в который вложены несколько тысяч его прилежным трудом заработанных долларов, корабль, на котором уходит капитаном его старинный товарищ, почти ровесник ему самому, снова пускающийся навстречу всем ужасам безжалостной пасти, – бедному старому Вилдаду очень не хотелось расставаться с этим судном, где каждый гвоздь ему знаком и дорог, и потому он всё ещё мешкал; он взволнованно прошёл по палубе, спустился в капитанскую каюту, чтоб ещё раз обменяться там прощальными словами, снова вышел на палубу и поглядел в наветренную сторону, поглядел в широкий, безбрежный океан, ограниченный только невидимыми и далёкими восточными материками, поглядел в сторону берега, поглядел вверх, поглядел направо и налево, поглядел туда и сюда, поглядел никуда и наконец, машинально намотав какой-то трос на кофель-нагель, порывисто ухватил за руку грузного Фалека и, подняв фонарь, некоторое время героически глядел ему прямо в лицо, будто хотел сказать: «И всё-таки, друг Фалек, я это выдержу, да, да, выдержу».
Сам Фалек отнёсся ко всему несколько более философски, однако, несмотря на всю его философию, когда фонарь приблизился к его лицу, в глазах у него блеснула слеза. И он тоже метался между каютой и палубой – то перебрасываясь словом внизу, то на палубе давая последние наставления старшему помощнику Старбеку.
Наконец он с какой-то неумолимой решительностью повернулся к своему приятелю:
– Капитан Вилдад, идём, старина, пора. Эй, на палубе! Брасопить грота-рей! Эй, на боте! Готовься! К борту, к борту подходи! Полегче, полегче. Ну, Вилдад, старина, прощайся. Желаю удачи, Старбек, удачи, мистер Стабб, удачи, мистер Фласк! Прощайте все, желаю удачи! В этот самый день, ровно через три года в старом Нантакете вас будет ждать у меня на столе отличный горячий ужин. Ура и счастливого плавания!
– Бог да благословит вас, братья, и да пребудет с вами попечение господне, – едва внятно бормотал старый Вилдад. – Надеюсь, теперь установится хорошая погода и капитан Ахав скоро сможет выйти к вам – всё что ему нужно, это немного солнечного тепла, а уж этого-то у вас будет вдоволь, ведь вы идёте в тропики. Поосторожней в погоне, помощники! Не разбивайте без надобности вельботов, гарпунёры! Помните, хорошая белая кедровая доска за этот год поднялась в цене на три процента! И молиться тоже не забывайте. Мистер Старбек, проследите, чтобы купор не губил даром бочонков. Да! Парусные иглы лежат в зелёном сундучке. Поменьше промышляйте в божьи праздники, ребята; но если подвернётся хороший случай, то не упускайте его, так вы только отвергаете дары небес. Поглядывайте за бочонком с патокой, мистер Стабб, в нём как будто бы небольшая течь. Если будете высаживаться на островах, мистер Фласк, избегайте блуда. Прощайте! Не держите слишком долго сыр в трюме, мистер Старбек, он испортится. Осторожней с маслом – двадцать центов фунт оно стоило, и помните, если…
– Хватит, хватит, капитан Вилдад, довольно зубы заговаривать, – с этими словами Фалек подтолкнул его к трапу, и они оба спустились в бот.
Корабль и бот стали расходиться; холодный, сырой ночной ветер погнал их прочь друг от друга; чайка с криком пролетела в вышине; оба судна сильно болтало; с тяжёлым сердцем мы послали им вдогонку троекратное «ура» и вслепую, точно судьба, пустились в пустынную Атлантику.
Глава XXIII. Подветренный берег
В одной из предыдущих глав мы упоминали некоего Балкингтона, только что вернувшегося из плавания высокого моряка, встреченного нами в нью-бедфордской гостинице.
И вот в ту ледяную зимнюю ночь, когда «Пекод» вонзал свой карающий киль в злобные волны, я вдруг увидел, что на руле стоит… этот самый Балкингтон! Я со страхом, сочувствием и уважением взглянул на человека, который в разгар зимы только успел высадиться после опасного четырёхлетнего плавания и уже опять, неутомимый, идёт в новый штормовой рейс. Видно, у него земля под ногами горела. О самом удивительном не говорят; глубокие воспоминания не порождают эпитафий; пусть эта короткая глава будет вместо памятника Балкингтону. Я только скажу, что его участь была подобна участи штормующего судна, которое несёт вдоль подветренного берега жестокая буря. Гавань с радостью бы приютила его. Ей жаль его. В гавани – безопасность, уют, очаг, ужин, тёплая постель, друзья – всё, что мило нашему бренному существу. Но свирепствует буря, и гавань, суша таит теперь для корабля жесточайшую опасность; он должен бежать гостеприимства; одно прикосновение к земле, пусть даже он едва заденет её килем, – и весь его корпус дрожит и сотрясается. И он громоздит все свои паруса и из последних сил стремится прочь от берега, воюя с тем самым ветром, что готов был нести его к дому; снова рвётся в бурную безбрежность океана; спасения ради бросается навстречу погибели; и единственный его союзник – его смертельный враг!
Не правда ли, теперь ты знаешь, Балкингтон? Ты начинаешь различать проблески смертоносной, непереносимой истины, той истины, что всякая глубокая, серьёзная мысль есть всего лишь бесстрашная попытка нашей души держаться открытого моря независимости, в то время как все свирепые ветры земли и неба стремятся выбросить её на предательский, рабский берег.
Но лишь в бескрайнем водном просторе пребывает высочайшая истина, безбрежная, нескончаемая, как бог, и потому лучше погибнуть в ревущей бесконечности, чем быть с позором вышвырнутым на берег, пусть даже он сулит спасение. Ибо жалок, как червь, тот, кто выползет трусливо на сушу. О грозные ужасы! Возможно ли, чтобы тщетны оказались все муки? Мужайся, мужайся, Балкингтон! Будь твёрд, о мрачный полубог! Ты канул в океан, взметнувши к небу брызги, и вместе с ними ввысь, к небесам, прянул столб твоего апофеоза!
Глава XXIV. В защиту
Раз уж мы с Квикегом занялись китобойным промыслом, а китобойный промысел обычно считается на берегу занятием довольно непоэтическим и малопочтенным, я в силу всего этого сгораю от нетерпения убедить вас, людей сухопутных, в том, сколь несправедливы вы к нам, китобоям.
Для начала повторю здесь, хотя это и будет совершенно излишним, тот общеизвестный факт, что люди не относят китобойный промысел к числу так называемых благородных профессий и считают его более низким занятием. Если человек, будучи введён в смешанное столичное общество, представится собравшимся, например, гарпунщиком, такая рекомендация вряд ли прибавит ему достоинств во всеобщем мнении; и если, не желая отставать от морских офицеров, он поставит на своей визитной карточке буквы К. и Ф. (Китобойная Флотилия), подобный поступок будет расценён как в высшей степени самонадеянный и смешной.
Одной из основных причин, по которым люди отказывают нам, китобоям, в почитании, безусловно является распространённое мнение, будто китобойный промысел в лучшем случае – та же бойня и будто мы, уподобляясь мясникам, окружены бываем всевозможной скверной и грязью. Мы, конечно, мясники, это верно. Но ведь мясниками, и гораздо более кровавыми мясниками, были все воинственные полководцы, кого всегда так восторженно почитает мир. Что же до обвинения в нечистоплотности, то очень скоро вы будете располагать данными, доселе почти неизвестными, на основании которых китобойное судно нужно будет торжественно поместить в ряд самых чистых принадлежностей на нашей опрятной планете.
Но признаем на время справедливость этого обвинения; что представляют собой скользкие, загрязнённые палубы китобойца в сравнении с чудовищными горами падали, загромождающими поля сражений, откуда возвращаются солдаты, чтобы упиваться рукоплесканиями дам? Если же неизменная популярность солдатской профессии связана с представлением о грозящей опасности, то уверяю вас, что не один боевой ветеран, храбро маршировавший на штурм вражеской батареи, сразу же отпрянул бы в трепете при взмахе гигантского китового хвоста, от которого вихрями завивается воздух у него над головой. Ибо, что такое доступные разуму ужасы человеческие в сравнении с непостижимыми божьими ужасами и чудесами!
Однако, хоть мир и пренебрегает нами, китобоями, он в то же время невольно воздаёт нам высочайшие почести, да, да, мир поклоняется нам! Ибо все светильники, лампы и свечи, горящие на земном шаре, словно лампады пред святынями, возжены во славу нам!
Но рассмотрим этот вопрос и в ином свете, взвесим его на других весах: я покажу вам, что представляли и представляем собою мы, китобои.
Почему у голландцев во времена де Витта[114] во главе китобойных флотилий стояли адмиралы? Почему французский король Людовик XVI снаряжал на собственные деньги китобойные суда из Дюнкерка и он же любезно пригласил на жительство в этот город десятка два семейств с нашего острова Нантакета? Почему между 1750 и 1788 годами Британия выдала своим китобоям на целый миллион фунтов поощрительных премий? И наконец, каким образом получилось, что мы, американские китобои, превосходим числом всех остальных китобоев мира, вместе взятых; что в нашем распоряжении целый флот, насчитывающий до семисот судов, чьи экипажи в сумме составляют восемнадцать тысяч человек; что на нас ежегодно затрачивается четыре миллиона долларов; что общая стоимость судов под парусами – двадцать миллионов долларов! и что каждый год мы снимаем и ввозим в наши порты урожай в семь миллионов долларов? Каким образом могло бы это всё получиться, если бы китобойный промысел не сулил могущества стране?
Но это не всё, и даже не половина.
Я утверждаю, что ни один широко известный философ под страхом смерти не сумел бы назвать другое мирное дело рук человеческих, которое за последние шестьдесят лет оказывало бы на весь наш земной шар в целом столь всемогущее воздействие, как славный и благородный китобойный промысел. Тем или иным путём он породил явления, сами по себе настолько примечательные и чреватые целой цепью столь значительных следствий, что можно уподобить его той египетской женщине, чьи дочери появлялись на свет беременными прямо из чрева матери[115]. Перечисление всех этих следствий – задача бесконечная и невыполнимая. Достаточно будет назвать несколько.
Вот уже много лет, как китобойный корабль первым выискивает по всему миру дальние, неведомые земли. Он открыл моря и архипелаги, не обозначенные на картах, он побывал там, где не плавал ни Кук, ни Ванкувер[116]. Если теперь военные корабли Америки и Европы мирно заходят в некогда враждебные порты, пусть салютуют они из всех своих пушек в честь славного китобойца, который указал им туда дорогу и служил первым переводчиком между ними и дикими туземцами. Пусть славят люди героев разведывательных экспедиций, всех этих Куков и Крузенштернов[117], – я утверждаю, что из Нантакета уходили в море десятки безымянных капитанов, таких же или ещё более великих, чем все эти Куки и Крузенштерны. Ибо, плохо вооружённые, они один на один сражались в кишащих акулами языческих водах и у неведомых, грозящих дикарскими копьями берегов с первобытными тайнами и ужасами, на которые Кук, со всеми своими пушками и мушкетами, не отважился бы поднять руку. Всё то, что так любят расписывать старинные авторы, повествуя о плаваниях в Южных морях, для наших героев из Нантакета – лишь самые привычные, обыденные явления. И часто приключения, которым Ванкувер уделяет три главы, для наших моряков кажутся недостойными простого упоминания в вахтенном журнале. Ах, люди, люди! Что за люди!
До той поры, пока китобои не обогнули мыс Горн, длинная цепь процветающих испанских владений вела торговлю только со своей метрополией, и никаких иных связей между ними и остальным миром не существовало. Это китобои сумели первыми прорваться сквозь барьер, воздвигнутый ревнивой, бдительной политикой испанской короны; и если бы здесь хватило места, я бы мог сейчас наглядно показать, как благодаря китобоям произошло в конце концов освобождение Перу, Чили и Боливии из-под ига старой Испании и установление нерушимой демократии в этих отдалённых краях.
И Австралия, эта великая Америка противоположного полушария, была дарована просвещённому миру китобоями. После того, как её открыл когда-то по ошибке один голландец, все суда ещё долгое время сторонились её заразительно варварских берегов, и только китобоец пристал туда. Именно китобоец является истинным родителем этой огромной колонии. И мало того, в младенческие годы первого австралийского поселения сухари с радушного китобойца, по счастью бросившего якорь в их водах, не раз спасали эмигрантов от голодной смерти. И все неисчислимые острова Полинезии признаются в том же и присягают в почтительной верности китобойцу, который проложил туда путь миссионерам и купцам и нередко даже сам привозил к новым берегам первых миссионеров. Если притаившаяся за семью замками страна Япония научится гостеприимству, то произойдёт это только по милости китобойцев, ибо они уже, кажется, толкнули её на этот путь.
Но если, даже перед лицом всех этих фактов, вы всё же станете утверждать, что с китовым промыслом не связаны никакие эстетические и благородные ассоциации, я готов пятьдесят раз подряд метать с вами копья и берусь каждым копьём выбивать вас из седла, проломив ваш боевой шлем.
Вы скажете, что ни один знаменитый автор не писал о китах и не оставил описаний китобойного промысла.
Ни один знаменитый автор не писал о ките и о промысле? А кто же составил первое описание нашего Левиафана? Кто, как не сам могучий Иов? А кто создал первый отчёт о промысловом плавании? Не кто-нибудь, а сам Альфред Великий, который собственным своим королевским пером записал рассказ Охтхере, тогдашнего норвежского китобоя! А кто произнёс нам горячую хвалу в парламенте? Не кто иной, как Эдмунд Бэрк![118]
– Ну, может быть, это всё и так, но вот сами китобои – жалкие люди; в их жилах течёт не благородная кровь.
Не благородная кровь у них в жилах? В их жилах течёт кровь получше королевской. Бабкой Бенджамина Франклина[119] была Мэри Моррел, в замужестве Мэри Фолджер, жена одного из первых поселенцев Нантакета, положившего начало длинному роду Фолджеров и гарпунщиков – всех кровных родичей великого Бенджамина, – которые и по сей день мечут зазубренное железо с одного края земли на другой.
– Допустим; но все признают, что китобойный промысел – занятие малопочтенное.
Китобойный промысел малопочтенное занятие? Это царственное занятие! Ведь древними английскими законоустановлениями кит объявляется «королевской рыбой».
– Ну, это только так говорится! А какая в ките может быть царственность, какая внушительность?
Какая внушительность и царственность в ките? Во время царственного триумфа, который был устроен одному римскому полководцу при возвращении его в столицу мира, самым внушительным предметом во всей торжественной процессии были китовые кости, привезённые с отдалённых сирийских берегов[120].
– Может быть, это и так, вам виднее, но что ни говорите, а подлинного величия в китобоях нет.
В китобоях нет подлинного величия? Сами небеса свидетельствуют о величии нашей профессии. Кит – так называется одно из созвездий южного неба. Кажется, довольно и этого. Снимайте шапки в присутствии царя, но и перед Квикегом – шапки долой! И ни слова больше! Я знал одного человека, который забил в своё время три с половиной сотни китов. Этот человек в глазах моих более достоин почитания, чем какой-нибудь великий капитан античности, похвалявшийся тем, что захватил такое же число городов-крепостей.
Что же до меня самого, то, если во мне ещё есть что-то, доселе скрытое, но важное и хорошее; если я когда-либо ещё заслужу истинное признание в этом тесном, но довольно загадочном мире, которым я, быть может, не так уж напрасно горжусь; если в будущем я ещё совершу что-нибудь такое, что, в общем-то, скорее следует сделать, чем оставить несделанным; если после моей смерти душеприказчики или, что более правдоподобно, кредиторы обнаружат у меня в столе ценные рукописи, – всю честь и славу я здесь заранее припишу китобойному промыслу, ибо китобойное судно было моим Йэльским колледжем и моим Гарвардским университетом[121].
Глава XXV. Постскриптум
В доказательство величия китобойного промысла бессмысленно было бы ссылаться на что-либо, помимо самых достоверных фактов. Но если адвокат, пустив в ход свои факты, умолчит о том выводе, который напрашивается сам собой и красноречиво подтверждает точку зрения защиты, разве тогда этот адвокат не будет достоин осуждения?
Известно, что во время коронации короли и королевы, даже современные, подвергаются некоей весьма забавной процедуре – их поливают приправой, чтобы они лучше справлялись со своими обязанностями. Какими там пряностями и подливами пользуются – кто знает? Мне известно только, что королевские головы во время коронаций торжественно поливают маслом, наподобие головок чеснока. Возможно ли, что головы помазывают для того же, для чего смазывают механизмы: чтобы внутри у них всё вертелось лучше? Здесь мы могли бы углубиться в рассуждения по поводу истинного величия сей царственной процедуры – ведь в обычной жизни мы привыкли весьма презрительно относиться к людям, которые помадят волосы и откровенно пахнут помадой. В самом деле, если взрослый мужчина – не в медицинских целях – пользуется маслом для волос, мы считаем, что у него просто винтиков в голове не хватает. Как правило, такой человек в общей сложности немного стоит.
Но единственный вопрос, интересующий нас в данном случае, – какое масло используют для коронаций? Разумеется, не оливковое и не репейное, не касторовое и не машинное, не тюлений и не рыбий жир. В таком случае это может быть только спермацет в его природном, первозданном состоянии, наисладчайшее из всех масел!
Поимейте это в виду, о верноподданные бритты! Ведь мы, китобои, поставляем вашим королям и королевам товар для коронаций!
Глава XXVI. Рыцари и оруженосцы
Старшим помощником на «Пекоде» плыл Старбек, уроженец Нантакета и потомственный квакер. Это был долговязый и серьёзный человек, который, хоть и родился на льдистом побережье, был отлично приспособлен и для жарких широт, – сухощавый, как подгоревший морской сухарь. Даже перевезённая к берегам Индии кровь в его жилах не портилась от жары, как портится пиво в бутылках. Видно, он появился на свет в пору засухи и голода или же во время поста, которыми славится его родина. Он прожил на свете всего каких-то тридцать засушливых лет, но эти лета высушили в его теле всё излишнее. Правда, худощавость отнюдь не была у него порождением гнетущих забот и тревог, как не была она и последствием телесного недуга. Она просто превращала его в сгусток человека. В его внешности не было ничего болезненного; наоборот. Чистая, гладкая кожа облегала его плотно; и туго обтянутый ею, пробальзамированный внутренним здоровьем и силою, он походил на ожившую египетскую мумию, готовый с неизменной стойкостью переносить всё, что ни пошлют ему грядущие столетия; ибо будь то полярные снега или знойное солнце, его жизненная сила, точно патентованный хронометр, была гарантирована на любой климат. Взглянув ему в глаза, вы словно ещё улавливали в них тени тех бесчисленных опасностей, с какими успел он, не дрогнув, столкнуться на своём недолгом веку. Да, это был надёжный, стойкий человек, чья жизнь представляла собой красноречивую пантомиму поступков, а не покорную повесть слов. И тем не менее, при всей его непреклонной трезвости и стойкости духа были в нём иные качества, тоже оказывавшие порой своё действие, а в отдельных случаях и совершенно перевешивавшие всё остальное. Постоянное одиночество в бурных морских просторах и редкое для моряка внимательно-благоговейное отношение к миру развили в нём сильную склонность к суеверию; но то было суеверие особого рода, идущее, как это случается у иных, не столько от невежества, сколько, напротив, от рассудка. Он верил во внешние предзнаменования и внутренние предчувствия. И если суеверия порой могли поколебать закалённую сталь его души, то ещё больше способствовали этому далёкие воспоминания о доме, молодой жене и ребёнке, отклоняя его всё дальше от первоначальной душевной суровости и обнажая его сердце тем скрытым влияниям, что сдерживают подчас в очень честном человеке приступы сумасшедшей отваги, которую так часто проявляют другие при гибельных превратностях рыбацкой судьбы. «Я к себе в вельбот не возьму человека, который не боится китов», – говорил Старбек. Этим он, вероятно, хотел сказать не только то, что самую надёжную и полезную храбрость рождает трезвая оценка грозящей опасности, но также ещё и то, что совершенно бесстрашный человек – гораздо более опасный товарищ в деле, чем трус.
«Н-да, – говорил, бывало, второй помощник Стабб. – Таких осторожных, как наш Старбек, ни на одном промысловом судне не сыщешь». Но мы скоро поймём, что именно означает слово «осторожный» у таких людей, как Стабб, да и вообще у всякого китобоя.
Старбек не гонялся за опасностями, как рыцарь за приключениями. Для него храбрость была не возвышенное свойство души, а просто полезная вещь, которую следует держать под рукой на любой случай смертельной угрозы. Этот китобой, кажется, считал, что храбрость – один из важнейших припасов на судне, наряду с хлебом и мясом, и что понапрасну её расходовать нечего. По этой самой причине он не любил спускать свой вельбот после захода солнца, равно как не любил он упорствовать в преследовании кита, который слишком упорствует в самозащите. Ибо, рассуждал Старбек, я нахожусь здесь, в этом грозном океане, чтобы убивать китов для пропитания, а не затем, чтобы они убивали меня для пропитания себе; а что так были убиты сотни людей, это Старбек знал слишком хорошо. Какая судьба постигла его собственного отца? И где в бездонной глубине океана мог он собрать растерзанные члены брата?
И если Старбек во власти таких воспоминаний и, что ещё удивительнее, даже во власти суеверий сумел сохранить столь редкостную храбрость, значит, это был действительно безгранично храбрый человек. Но в природе человека с подобным складом ума, в природе человека, пережившего столько ужасов и хранящего такие воспоминания, таится опасность скрытого зарождения новой стихии, которая в удобную минуту может прорваться наружу из своего тайника и спалить дотла всю его храбрость. И как ни велика была его отвага, то была отвага смельчака, который, не дрогнув, вступает в борьбу с океанами, ветрами, китами и любыми сверхъестественными ужасами мира, но не в силах противостоять ужасам духа, какими грозит нам порой нахмуренное чело ослеплённого яростью великого человека.
Если бы впоследствии мне предстояло описывать полное посрамление Старбекова мужества, у меня едва ли хватило бы духу продолжать своё повествование; ведь так горько и даже постыдно рассказывать о падении человеческой доблести. Люди могут представляться нам отвратительными, как некие сборища – акционерные компании и нации; среди людей могут быть мошенники, дураки и убийцы; и физиономии у людей могут быть подлыми и постными; но человек, в идеале, так велик, так блистателен, человек – это такое благородное, такое светлое существо, что всякое позорное пятно на нём ближние неизменно торопятся прикрыть самыми дорогими своими одеждами. Идеал безупречной мужественности живёт у нас в душе, в самой глубине души, так что даже потеря внешнего достоинства не может его затронуть; и он, этот идеал, в мучениях истекает кровью при виде человека со сломленной доблестью. При столь постыдном зрелище само благочестие не может не слать укоров допустившим позор звёздам. Но царственное величие, о котором я веду здесь речь, не есть величие королей и мантий, это щедрое величие, которое не нуждается в пышном облачении. Ты сможешь увидеть, как сияет оно в руке, взмахнувшей киркой или загоняющей костыль; это величие демократии, чей свет равно падает на все ладони, исходящий от лица самого бога. Великий, непогрешимый бог! Средоточие и вселенский круг демократии! Его вездесущность – наше божественное равенство!
И потому, если в дальнейшем я самым последним матросам, отступникам и отщепенцам, припишу черты высокие, хотя и тёмные; если я оплету их трагической привлекательностью; если порой даже самый жалкий среди них и, может статься, самый униженный будет вознесён на головокружительные вершины; если мне случится коснуться руки рабочего небесным лучом; если я раскину радугу над его гибельным закатом, тогда, вопреки всем смертным критикам, заступись за меня, о беспристрастный Дух Равенства, простёрший единую царственную мантию над всеми мне подобными! Заступись за меня, о великий Бог демократии, одаривший даже темноликого узника Бэньяна[122] бледной жемчужиной поэзии; Ты, одевший чеканными листами чистейшего золота обрубленную, нищую руку старого Сервантеса[123]; Ты, подобравший на мостовой Эндрью Джэксона[124] и швырнувший его на спину боевого скакуна; Ты, во громе вознёсший его превыше трона! Ты, во время земных своих переходов неустанно сбирающий с королевских лугов отборную жатву – лучших борцов за дело Твоё; заступись за меня, о Бог!
Глава XXVII. Рыцари и оруженосцы
Вторым помощником плыл Стабб, уроженец Кейп-Кода. Это был не трус, не герой, а просто беспечный сорвиголова, всегда готовый встретить опасность с полным безразличием и даже на охоте, перед лицом неотвратимой угрозы, делающий своё дело спокойно и сосредоточенно, будто мастеровой-подёнщик, на целый год заручившийся работой. Весёлый, беззлобный, беззаботный, он командовал вельботом, словно любая смертельная схватка – это не более как званый обед, а вся его команда – всего лишь любезные гости. Особое внимание уделял он тому, чтобы расположиться в лодке со всем возможным комфортом, точно старый кучер, стремящийся поуютнее устроиться у себя на облучке. А сблизившись с китом в самый разгар схватки, он с такой же бесстрастной непринуждённостью действовал беспощадной острогой, как орудовал бы, посвистывая, мирный жестянщик безобидным своим молотком. Оказавшись бок о бок с обезумевшим от ярости чудовищем, он, бывало, продолжал напевать себе под нос излюбленную разухабистую песенку. В силу многолетней привычки Стабб даже в зубах у смерти чувствовал себя, как в кресле. Что он думал о самой смерти, неизвестно. Да и вообще-то думал ли он о ней, кто знает? Но если случалось ему иной раз после сытного обеда пораскинуть мозгами в этом направлении, я не сомневаюсь, что, как бравый моряк, он представлял себе смерть особой командой вахтенного, вроде: «Марсовые к вантам, на фок и грот!», по которой он должен будет немедля вскарабкаться вверх и приняться там за дело, а за какое именно, он узнает, исполнив первое приказание, и никак не раньше.
Если было ещё кое-что, со своей стороны способствовавшее выработке у Стабба его лёгкого характера и превращению его самого в такого бесстрашного, неунывающего человека, который тащит преспокойно бремя существования, легко шагая по нашему миру, где так и кишат мрачные коробейники, согбенные до земли под тяжестью своих товаров; если было ещё кое-что, вызывавшее к жизни это его почти безбожное добродушие, то таким предметом могла быть только его трубка. Ибо не в меньшей мере, чем нос, коротенькая чёрная трубка была неотъемлемой чертой его лица. Скорее уж можно было ожидать, что он встанет со своей койки без носа, чем без трубки. У него над койкой была прибита особая планка, за которую он затыкал набитые трубки; стоило ему, ложась спать, только протянуть руку – и он мог выкурить их все подряд, раскуривая одну от другой до победного конца, а потом снова набить и оставить наготове. Ибо, вставая по утрам, Стабб, вместо того чтобы сначала всунуть ноги в брюки, прежде всего совал себе трубку в рот.
Я думаю, что беспрерывное курение служило по крайней мере одной из причин его редкостного расположения духа; ведь всякому известно, как опасно заражён утренний воздух, что на берегу, что в море, несказанными муками бессчётного множества смертных, которые в предрассветный час испускают в него свой многострадальный дух; и подобно тому, как во время холерной эпидемии некоторые ходят, прижав ко рту пропитанный камфарой носовой платок, точно так же, быть может, и табачный дым служил для Стабба своего рода дезинфицирующим средством против всех человеческих треволнений.
Третьим помощником был Фласк, родом из Тисбери, что на острове Вайньярд, низкорослый, тучный молодой человек, настроенный крайне воинственно по отношению к китам, словно он считал могучих левиафанов своими личными и наследственными врагами и полагал для себя делом чести убивать их при каждой встрече. Ему настолько чуждо было всякое чувство благоговения перед многими чудесами и таинственными повадками морского исполина, настолько недоступна всякая мысль об опасности, связанной с ними, что в его примитивном представлении чудесный кит был чем-то вроде гигантской мыши или, самое большее, морской крысы, и нужно было употребить только долю хитрости и потратить немного времени и сноровки, чтобы забить и выварить его. Это невежественное бессознательное бесстрашие вызывало у него к киту отношение шутливо-легкомысленное; он охотился за китами просто веселья ради; и трёхлетнее плавание в обход мыса Горн было для него всего лишь растянувшейся на всё это время забавной шуткой. Как плотник разделяет гвозди на кованые и резаные, так можно разделить и всё человечество. И маленький Фласк был, конечно, гвоздём кованым, предназначенным для того, чтобы схватывать накрепко и надолго. На «Пекоде» его прозвали Водорезом, потому что с виду он немало походил на короткий квадратного сечения брус, известный под этим названием у китобоев Арктики, – оснащённый вделанными в него и торчащими во все стороны деревянными пальцами, он помогает кораблю отбиваться от леденящих набегов арктических волн.
Таковы были Старбек, Стабб и Фласк – самые значительные члены нашей команды. Им по универсальному закону промысла принадлежали командные посты в наших трёх вельботах. В предстоящем великом сражении, когда капитан Ахав должен будет обрушить на китов свои войска, этим трём китобоям предназначена роль трёх полковых командиров. Или, может быть, вооружённые длинными, словно пики, зазубренными острогами, они походили скорее на трёх уланских офицеров, в то время как гарпунёры определённо смахивали на метателей копий.
На китобойных судах каждый помощник капитана, возглавляющий команду вельбота, подобно средневековому рыцарю, имеет своего оруженосца – рулевого и гарпунщика, который подаёт ему в случае необходимости запасную острогу взамен безнадёжно погнутой или выбитой из рук во время нападения; обычно этих двоих людей связывают самые близкие и дружественные отношения; вот почему я полагаю, что здесь подобает перечислить гарпунщиков «Пекода» и указать, с которым из помощников каждый плавал.
Первым среди них упомянем Квикега, которого выбрал себе в оруженосцы Старбек. Но с Квикегом мы уже знакомы.
Следующим идёт Тэштиго, чистокровный индеец из Гейхеда, самой западной оконечности острова Вайньярда, где по сей день сохранились последние остатки поселения краснокожих, долгое время поставлявшего соседнему острову Нантакету самых отважных гарпунщиков. Длинные, редкие, иссиня-чёрные волосы Тэштиго, его выступающие скулы и тёмные круглые глаза, удивительно большие для индейца и с каким-то антарктическим блеском – всё это достаточно ясно выказывало в нём прямого и законного наследника гордых воинов-охотников, некогда бродивших с луком в руках по следам могучих лосей в девственных лесах Новой Англии. Но сам Тэштиго бросил след дикого лесного зверя, теперь он по морям преследовал великих китов; и верный сыновний гарпун с честью занял место без промаха бьющей отцовской стрелы. Глядя на его красновато-коричневое, жилистое и по-змеиному гибкое тело, вы готовы были понять суеверные представления ранних пуритан и почти согласиться с ними, что этот дикий индеец – сын князя Воздушной Стихии[125]. Тэштиго был оруженосцем второго помощника Стабба.
Третьим гарпунщиком был Дэггу, чёрный как смоль негр-исполин с походкой льва, настоящий Агасфер с виду. В ушах у него болтались такие огромные золотые обручи, что матросы называли их рымами и любили поговорить о том, что за них очень удобно бы крепить фалы. В юности Дэггу добровольно нанялся на китобойное судно, бросившее как-то якорь в затерянной бухте у его родных берегов. За всю свою жизнь он побывал, кроме Африки, только в Нантакете и в дальних языческих гаванях, посещаемых китобойцами, он провёл все эти годы в героической погоне за китами, плавая на судах, владельцы которых с особым вниманием относятся к подбору команд; вот почему Дэггу сохранил все дикарские добродетели и расхаживал по палубе, возвышаясь, точно жираф, во всём великолепии своих шести футов пяти дюймов росту. Глядеть на него снизу вверх было как-то физически унизительно; стоя рядом с ним, белый человек походил на маленький белый флаг, просящий о перемирии могучую крепость. И смешно сказать, этот царственный негр, этот Агасфер-Дэггу был оруженосцем маленького Фласка, который выглядел в сравнении с ним, как жалкая пешка.
Что же до остальных членов нашего экипажа, заметим здесь, что среди многих тысяч матросов, плавающих в настоящее время на американских китобойцах, едва ли половина окажется американцами по рождению, хотя командирами ходят почти исключительно американцы. То же самое можно сказать и относительно американской армии и нашего военного и торгового флота, а также и об инженерных частях, занятых на строительстве железных дорог и каналов. То же самое, – потому что во всех этих случаях Америка в изобилии поставляет мозги, а весь остальной мир не менее щедро обеспечивает предприятие мускулами. Многие китобои происходят родом с Азорских островов, куда нередко заглядывают нантакетские суда со специальной целью пополнить свою команду суровыми жителями этих скалистых берегов. Подобным же образом китобойцы из Лондона или Гулля по дороге в Гренландию заходят на Шетландские острова, чтобы окончательно укомплектовать там свои экипажи. А на обратном пути они завозят матросов-шетландцев домой. В чём тут дело, неизвестно, но лучшими китобоями всегда бывают островитяне. И на «Пекоде» тоже почти все были островитяне, так сказать, изоляционисты, не признающие единого человеческого континента и обитающие каждый на отдельном континенте своего бытия. Но какую отличную федерацию образовали теперь эти изоляционисты, объединившиеся у одного киля! Целая депутация Анахарсиса Клоотса[126] со всех островов и со всех концов земли, сопровождающая на «Пекоде» старого Ахава в его стремлении призвать к ответу все обиды мира; немногие из них вернулись живыми с этого поединка. Маленький негритёнок Пип – он вот не вернулся – какое там! он покинул нас ещё раньше. Бедный мальчик из Алабамы! Вы скоро увидите его на баке мрачного «Пекода», где он бьёт в тамбурин, предвещая тот вечный час, когда его призовут на шканцы и повелят вскарабкаться ввысь, к ангелам, и оттуда колотить со славой в свой тамбурин, чтобы, прослывши трусом здесь, там оказаться героем!
Глава XXVIII. Ахав
Вот уже несколько дней, как мы покинули Нантакет, а капитан Ахав всё ещё не показывался на палубе. Его помощники сменяли друг друга на вахте, и можно было подумать, что они – единственные командиры корабля, если бы только они не выходили порой из капитанской каюты с такими неожиданными, не допускающими возражения приказами, что сразу становилась очевидной вся условность их власти. Там, внизу, находился их верховный господин и диктатор, по сей день недоступный взорам тех, кто не обладал правом входа в святая святых капитанской каюты.
Всякий раз, подымаясь на палубу по окончании вахты внизу, я спешил взглянуть на шканцы – не появилось ли там новое лицо; ибо моё прежнее смутное беспокойство при мысли о таинственном капитане обернулось теперь, в морском безлюдье, каким-то смятением, и оно ещё усилилось под влиянием той сатанинской несусветицы, которую плёл оборванец Илия и которую я теперь всё чаще вспоминал невольно, но до тонкостей отчётливо. Я не в силах был противиться воспоминаниям, хотя в иные минуты и готов был сам смеяться над торжественно причудливыми словами пристанского пророка. Но как ни сильны были во мне дурные предчувствия, как ни глубоко было моё беспокойство, всякий раз, как я оглядывал палубу, я убеждался, насколько беспочвенны подобные ощущения. Правда, команда во всём составе, включая гарпунёров, являла собою сборище гораздо более варварское, дикое и пёстрое, чем миролюбивые экипажи купеческих судов, на которых я плавал прежде, но я относил это – и относил совершенно справедливо – за счёт свирепого своеобразия неистовой скандинавской профессии, на путь которой я уже ступил безвозвратно. А вид трёх главных командиров судна, трёх помощников капитана, был словно рассчитан на то, чтобы успокоить все эти тусклые опасения, чтобы внушать уверенность и бодрость в преддверии долгого плавания. Это были три превосходных командира, три отличных – каждый на свой лад – человека, какие не так-то часто теперь встречаются, и все трое родом американцы – с Нантакета, Вайньярда и Кейп-Кода.
Наш корабль вышел из гавани как раз на рождество, так что вначале нас сопровождал трескучий полярный мороз, хотя мы всё время убегали от него к югу, с каждым градусом и каждой минутой северной широты оставляя позади безжалостную зиму с её непереносимой стужей. И вот в одно туманное утро, уже не столь удручающее, но всё ещё достаточно серое и мрачное, когда подгоняемый попутным ветром корабль летел вперёд, с угрюмой быстротой мстительно врезаясь в морское лоно, я по зову вахтенного поднялся на палубу, взглянул, как обычно, по гакаборту и содрогнулся. Действительность превзошла опасения: на шканцах стоял капитан Ахав.
Никаких следов обычной физической болезни и недавнего выздоровления на нём не было заметно. Он был словно приговорённый к сожжению заживо, в последний момент снятый с костра, когда языки пламени лишь оплавили его члены, но не успели ещё их испепелить, не успели отнять ни единой частицы от их крепко сбитой годами силы. Весь он, высокий и массивный, был точно отлит из чистой бронзы, получив раз навсегда неизменную форму, подобно литому Персею Челлини[127]. Выбираясь из-под спутанных седых волос, вниз по смуглой обветренной щеке и шее спускалась, исчезая внизу под одеждой, иссиня-белая полоса. Она напоминала вертикальный след, который выжигает на высоких стволах больших деревьев разрушительная молния, когда, пронзивши ствол сверху донизу, но не тронув ни единого сучка, она сдирает и раскалывает тёмную кору, прежде чем уйти в землю и оставить на старом дереве, по-прежнему живом и зелёном, длинное и узкое клеймо. Была ли та полоса у него от рождения, или же это после какой-то ужасной раны остался белый шрам, никто, конечно, не мог сказать. По молчаливому соглашению в течение всего плавания на палубе «Пекода» об этом почти не говорили. Только однажды старший земляк Тэштиго, пожилой индеец из Гейхеда, стал суеверно утверждать, будто, только достигнув полных сорока лет от роду, приобрёл Ахав это клеймо и будто получил он его не в пылу смертной схватки, а в битве морских стихий. Однако это дикое утверждение можно считать опровергнутым словами седого матроса с острова Мэн, дряхлого старца, уже на краю могилы, который никогда прежде не ходил на нантакетских судах и никогда до этого не видел неистового Ахава. Тем не менее древние матросские поверья, вечно живущие фантастические вымыслы, которые он помнил без счёта, придали старцу в глазах окружающих сверхъестественную силу проницательности. И потому ни один из белых матросов не вздумал спорить с ним, когда старик заявил, что если капитану Ахаву суждено когда-либо мирное погребение – чего едва ли можно ожидать, добавил он вполголоса, – те, кому придётся исполнить последний долг перед покойником и омыть тело, убедятся тогда, что это у него белое родимое пятно от макушки до самых пят.
Мрачное лицо Ахава, перерезанное иссиня-мертвенной полосой, так потрясло меня, что вначале я даже и не заметил, что немалую долю этой гнетущей мрачности вносила в его облик страшная белая нога. Ещё раньше я слышал от кого-то о том, как эту костяную ногу смастерили ему в море из полированной челюсти кашалота. «Это правда, – подтвердил старый индеец, – он потерял ногу у берегов Японии, а его судно потеряло там все мачты. Но он смастерил себе и мачты, и ногу, не возвращаясь домой. Такого добра у него всегда вдоволь».
Меня поразила поза, в которой он стоял. С обеих сторон на юте «Пекода» под самыми бизань-вантами в настиле палубы были пробуравлены отверстия примерно на полдюйма в глубину. В такое отверстие он вставлял свою костяную ногу и, подняв одну руку, держался за ванты; он стоял выпрямившись и глядел не отрываясь вперёд, в море, которое расстилалось перед носом бегущего судна. И в этом пристальном, бесстрашном, вперёд направленном взоре была бездна несгибаемой твёрдости и непреоборимой, упрямой целеустремлённости. Ни слова не произносил он; ни слова не говорили ему помощники; но в каждом их жесте, в каждом шаге сквозило неприятное, почти болезненное ощущение того, что они находятся под внимательным хозяйским глазом. Отягчённый угрюмым раздумьем стоял перед ними Ахав, словно распятый на кресте; бесконечная скорбь облекла его своим таинственным, упорным, властным величием.
Недолго пробыв первый раз на воздухе, капитан Ахав удалился в свою каюту. Но с этого дня команда могла видеть его каждое утро: он либо стоял у своего опорного углубления, либо сидел на специальном костяном стуле, либо тяжело ходил по палубе. По мере того как небо над нами утрачивало суровость и становилось дружелюбнее, он всё меньше времени проводил в своём уединении; будто только безжизненный зимний холод, царивший в северных водах, принуждал его к затворничеству в начале плавания. И вот теперь мало-помалу мы привыкли к тому, что его можно было видеть на палубе почти что круглые сутки; но, залитый лучами долгожданного солнца, он всё ещё в своём бездействии казался здесь совершенно ненужным, словно лишняя мачта на палубе корабля. Однако «Пекод» ещё только направлялся в промысловые области, настоящее плавание было впереди, а всеми необходимыми приготовлениями к охоте распоряжались помощники, так что во внешней жизни не было пока ничего, чем мог бы заняться и увлечься Ахав, разогнав хоть на краткий миг тёмные тучи, что гряда за грядой громоздились на его челе, ибо тучи всегда избирают высочайшие горные пики.
И всё-таки спустя немного времени тёплые переливчатые увещевания ласковых, праздничных дней начали, колдуя, рассеивать понемногу его мрачность. Подобно тому как даже самый обнажённый, корявый, разбитый молнией старый дуб пускает наконец несколько зелёных побегов, радуясь приходу весёлых гостий [так], когда Апрель и Май, румяные девочки-плясуньи, возвращаются домой, в застывшие, унылые леса, так и Ахав наконец всё же поддался манящей девичьей игривости южных ветерков. И не однажды проглядывали у него во взоре тонкие ростки, которые у всякого другого человека распустились бы вскоре цветком улыбки.
Глава XXIX. Входит Ахав, позднее – Стабб
Прошло ещё несколько дней, льды и айсберги остались у «Пекода» за кормой, и теперь мы шли среди яркой эквадорской весны, неизменно царящей в океане на пороге вечного августа тропиков. Нежные, прохладные, ясные, звонкие, пахучие, щедрые, изобильные дни были, словно хрустальные кубки с персидским шербетом, через верх полные мягкими хлопьями замороженной розовой воды. Звёздные величавые ночи казались надменными герцогинями в унизанном алмазами бархате, хранящими в гордом одиночестве память о своих далёких мужьях-завоевателях, о светлых солнцах в золотых шлемах! Когда же тут спать? Нелегко сделать выбор между этими чарующими днями и обольстительными ночами. Но колдовская сила немеркнущей красоты придавала новые могущественные чары не только внешнему миру. Она проникала и внутрь, в душу человека, особенно в те часы, когда наступал тихий, ласковый вечер; и тогда в бесшумных сумерках вырастали светлые, как льдинки, кристаллы воспоминаний. Все эти тайные силы воздействовали исподволь на сердце Ахава.
Старость не любит спать; кажется, что чем длительнее связь человека с жизнью, тем менее привлекательно для него всё, что напоминает смерть. Старые седобородые капитаны чаще других покидают свои койки, чтобы посетить объятые тьмою палубы. Так было и с Ахавом; разве только что теперь, когда он чуть ли не круглые сутки проводил на шканцах, правильнее было бы сказать, что он покидал ненадолго палубу, чтобы посетить каюту, а не наоборот. «Точно в собственную могилу нисходишь, – говорил он себе вполголоса, – когда такой старый капитан, как я, спускается по узкому трапу, чтобы улечься на смертное ложе своей койки».
И вот каждые двадцать четыре часа, когда заступала ночная вахта и люди на палубе стояли на страже, охраняя сон своих товарищей внизу; когда, вытаскивая на бак бухту каната, матросы не швыряли её о доски, как днём, а осторожно опускали в нужном месте, стараясь не потревожить спящих; когда воцарялась на корабле эта ровная тишина, безмолвный рулевой начинал поглядывать на дверь капитанской каюты, и немного спустя старик неизменно появлялся у люка, ухватившись, чтобы облегчить себе подъём, за железные поручни трапа. Какая-то человечность и внимательность была ему всё же свойственна, ибо в эти часы он обычно воздерживался от хождения по шканцам; ведь в ушах усталых помощников, ищущих отдохновения всего лишь в шести дюймах под его костяной пятой, тяжкий его шаг отозвался бы такими трескучими оглушительными раскатами, что им мог бы присниться только скрежет акульих зубов. Но как-то раз он вышел, слишком глубоко погружённый в раздумье, чтобы заботиться о чём бы то ни было; своим тяжёлым, громыхающим шагом он мерил палубу от грот-мачты до гакаборта, когда второй помощник, старый Стабб, поднялся к нему на шканцы и с неуверенно-шутливой просьбой в голосе заметил, что если капитану Ахаву нравится ходить по палубе, то никто не может против этого возражать, но что можно ведь как-нибудь приглушить шум; вот если бы взять что-нибудь такое, скажем, вроде комка пакли, и надеть бы на костяную ногу… О Стабб! плохо же ты знал тогда своего капитана!
– Разве я пушечное ядро, Стабб, – спросил Ахав, – что ты хочешь намотать на меня пыж? Но я забыл; ступай к себе. Вниз, в свою еженощную могилу, где такие, как ты, спят под гробовыми покровами, чтобы заранее к ним привыкнуть. Вниз, собака! Вон! В конуру!
Ошарашенный столь непредвиденным заключительным восклицанием и внезапно вспыхнувшим презрительным гневом старого капитана, Стабб на несколько мгновений словно онемел, но потом взволнованно произнёс:
– Я не привык, чтобы со мной так разговаривали, сэр; такое обращение, сэр, мне вовсе не по вкусу.
– Прочь, – заскрежетал зубами Ахав и шагнул в сторону, словно хотел бежать от яростного искушения.
– Нет, сэр, повремените, – осмелев, настаивал Стабб. – Я не стану покорно терпеть, чтобы меня называли собакой, сэр.
– Тогда ты трижды осёл, и мул, и баран! Получай и убирайся, не то я избавлю мир от твоего присутствия.
И Ахав рванулся к нему с таким грозным, с таким непереносимо свирепым видом, что Стабб против воли отступил.
– Никогда ещё я не получал такого, не отплатив как следует за оскорбление, – бормотал себе под нос Стабб, спускаясь по трапу в каюту. – Очень странно. Постой-ка, Стабб, я вот и сейчас ещё не знаю, то ли мне вернуться и ударить его, то ли – что это? – на колени, прямо вот здесь, и молиться за него? Да, да, именно такая мысль пришла мне сейчас в голову, а ведь это будет первый раз в моей жизни, чтобы я молился. Странно, очень странно, да и он сам тоже странный, н-да, как ни смотри, а Стаббу никогда ещё не случалось плавать с таким странным капитаном. Как он на меня бросился! Глаза – словно два ружейных дула! Что он, сумасшедший? Во всяком случае, у него должно быть что-то на уме, как наверняка что-то есть на палубе, если трещат доски. И потом, он проводит теперь в постели не больше трёх часов в сутки; да и тогда он не спит. Ведь стюард Пончик рассказывал мне, что по утрам постель старика всегда бывает так ужасающе измята и изрыта, простыни сбиты в ногах, одеяло чуть ли не узлами завязано, а подушка такая горячая, будто на ней раскалённый кирпич держали. Да, горячий старик. Видно, у него, это самое, совесть, о которой поговаривают иные на берегу; это такая штуковина, вроде флюса или… как это?.. Не-врал-не-лги-я. Говорят, похуже зубной боли. Н-да, сам-то я точно не знаю, но не дай мне бог подхватить её. В нём всё загадочно; и для чего это он спускается каждую ночь в кормовой отсек трюма – так, во всяком случае, думает Пончик, – зачем он это делает, хотелось бы мне знать? Кто это ему там в трюме свидания назначает? Ну разве ж это не странно? Только где уж тут узнать. Вот всегда так. Пойду-ка я вздремну. Да, чёрт возьми, ради того только, чтоб уснуть, и то уж стоило родиться на свет. А ведь правда, младенцы, как родятся, так сразу же и принимаются спать. Как подумаешь, странно и это. Чёрт возьми, всё на свете странно, если подумать. Да только это против моих убеждений. «Не думай» – это у меня одиннадцатая заповедь; а двенадцатая: «Спи, когда спится». – Так что идём-ка ещё соснём немного. Однако постой, постой. Ведь он, кажется, назвал меня собакой? проклятье! он обозвал меня трижды ослом, а сверху навалил ещё целую груду мулов и баранов! Да он мог бы и ногой меня ударить, если на то пошло. Может, он даже ударил меня, да только я не заметил, потому что очень уж меня поразило его лицо. Оно светилось, точно побелевшая от времени кость. Да что же это за чертовщина со мной происходит? Меня ноги не держат. Словно вот поцапался со стариком и меня от этого наизнанку всего вывернуло. Клянусь богом, мне всё это, наверное, приснилось. Но как же, как, как? Остаётся только упихать всё это подальше. И скорее добраться до койки. А завтра ещё посмотрим на это проклятое колдовство при дневном свете, может, чего и надумаем. Утро вечера мудрёнее.
Глава XXX. Трубка
После ухода Стабба Ахав стоял некоторое время, перегнувшись за борт корабля; потом, как это стало у него уже привычкой, он подозвал к себе матроса и послал его в каюту за костяным стулом и за трубкой. Раскурив трубку от нактоузного фонаря и поставив стул с подветренной стороны на палубе, он сел и затянулся.
Во времена древних викингов троны морелюбивых датских королей, как гласит предание, изготовлялись из нарвальих клыков. Возможно ли было теперь при взгляде на Ахава, сидящего на костяном треножнике, не задуматься о царственном величии, которое символизировала собой его фигура? Ибо Ахав был хан морей, и бог палубы, и великий повелитель левиафанов.
Несколько мгновений он молча курил, и густой дым вылетал у него изо рта частыми, быстрыми клубами, которые ветром относило назад, ему в лицо. «В чём тут дело? – заговорил он наконец, обращаясь к самому себе и извлекая мундштук изо рта. – Курение уже не успокаивает меня. О моя трубка! Видно, круто мне приходится, если даже твои чары исчезли. Мне предстоят труды и тяготы, а не развлечения, а я, неразумный, всё время курю и пускаю дым против ветра; так отчаянно пускаю против ветра дым, точно посылаю в воздух, как умирающий кит, последние свои фонтаны, самые мощные, самые грозные. Зачем мне трубка? Ей положено в безмятежной тишине сплетать белые дымные клубы с белыми шелковистыми локонами, а не с такими седыми взъерошенными космами, как у меня. Я не стану курить больше…»
И он швырнул горящую трубку в море. Огонь зашипел в волнах; мгновение – и корабль пронёсся над тем местом, где остались пузыри от утонувшей трубки. А по палубе, надвинув шляпу на лоб, снова расхаживал Ахав своей шаткой походкой.
Глава XXXI. Королева маб[128]
На следующее утро Стабб рассказывал Фласку: – Никогда ещё не видел я таких странных снов, Водорез. Понимаешь, мне приснилось, будто наш старик дал мне пинка своей костяной ногой; а когда я попробовал дать ему сдачи, то, вот клянусь тебе вечным спасением, малыш, у меня просто чуть нога не отвалилась. А потом вдруг гляжу – Ахав стоит вроде этакой пирамиды, а я как последний дурак всё норовлю ударить его ногой. Но самое удивительное, Фласк, – ведь знаешь, какие удивительные сны снятся нам порой, – но самым удивительным было то, что, как я ни злился на него, а будто всё время думал при этом, что, мол, вовсе это и не такое уж тяжкое оскорбление, этот пинок Ахава. «Подумаешь, – говорю я себе, – чего уж тут такой шум поднимать? Ведь нога-то не настоящая». А это большая разница, чем тебя ударили: живой ли ногой или там рукой – или же каким-нибудь мёртвым предметом. Потому-то, Фласк, пощёчина в тысячу раз оскорбительнее, чем удар палкой. Живое прикосновение жжёт, малыш. И так у меня в этом сне всё перепутано и неувязано, я пока знай колочу, все пальцы на ноге разбил об чёртову пирамиду, а сам думаю про себя: «Ну что там его нога? Та же палка. Вроде костяной трости. Ей-богу, думаю, ведь это он просто шутя задел меня тросточкой, а вовсе не давал мне унизительного пинка. К тому же, думаю, погляди-ка хорошенько: вон у него какой конец ноги – там, где ступня должна быть, – прямо остриё; вот если бы какой-нибудь фермер пнул меня своей тяжёлой босой ступнёй, тогда бы это было действительно тяжкое, наглое оскорбление. А ведь тут оскорбление сведено почти что на нет, сточено в остриё». Но тут-то и случилось самое забавное, Фласк. Я всё ещё колошматил ногой по пирамиде, как вдруг меня кто-то за плечи берет. Смотрю: это какой-то взъерошенный горбатый старик, вроде водяного. Берёт он меня за плечи, поворачивает и говорит: «Что это ты делаешь, а?» Ну, знаешь, и перепугался же я. Что за рожа – бр-р! Но я всё-таки взял себя в руки и говорю: «Что я делаю? А тебе-то какая забота, хотел бы я знать, дорогой мистер Горбун? Может, тоже пинка в зад захотел?» Клянусь богом, не успел я этого сказать, Фласк, как он уже поворачивается ко мне задом, нагибается, задирает подол из водорослей – и что б ты думал я там вижу? Представь, друг, провалиться мне на этом месте, у него весь зад утыкан свайками, остриями наружу. Подумал я и говорю: «Я, пожалуй, не стану давать тебе пинка в зад, старина». – «Умница, Стабб, умница», – отвечает он мне, да так и принялся повторять это без конца, а сам шамкает, как старая карга. Я вижу, он всё никак не остановится, знай твердит себе: «Умница, Стабб, умница, Стабб», – тогда я подумал, что смело можно снова приниматься за пирамиду. Но только я поднял ногу, он как заорёт: «Перестань сейчас же!» – «Эй, – говорю я, – чего тебе ещё надо, старина?» – «Послушай, – говорит он. – Давай-ка обсудим с тобой это дело. Капитан Ахав дал тебе пинка?» – «Вот именно, – отвечаю, – в это самое место». – «Отлично, – продолжал он. – А чем? Костяной ногой?» – «Да». – «В таком случае, – говорит он, – чем же ты недоволен, умница Стабб? Ведь он тебя пнул из лучших побуждений. Он же не какой-то там сосновой ногой тебя ударил, верно? Тебе дал пинка великий человек, Стабб, и при этом – благородной, прекрасной китовой костью. Да ведь это честь для тебя. Так и относись к этому. Послушай, умница Стабб. В старой Англии величайшие лорды почитают для себя большой честью, если королева ударит их и произведёт в рыцари ордена Подвязки[129]; а ты, Стабб, можешь гордиться тем, что тебя ударил старый Ахав и произвёл тебя в умные люди. Запомни, что я тебе говорю: пусть он награждает тебя пинками, считай его пинки за честь и никогда не пытайся нанести ему ответный удар, ибо тебе это не под силу, умница Стабб. Видишь эту пирамиду?» И тут он вдруг стал каким-то непонятным образом уплывать от меня по воздуху. Я захрапел, перевалился на другой бок и проснулся у себя на койке! Ну, так что же ты думаешь об этом сне, Фласк?
– Не знаю. Только, на мой взгляд, глупый этот сон.
– Может статься, что и глупый. Да вот меня он сделал умным человеком, Фласк. Видишь, вон там стоит Ахав и глядит куда-то в сторону, за корму? Так вот, лучшее, что мы можем сделать, это оставить старика в покое, никогда не возражать ему, что бы он ни говорил. Постой-ка, что это он там кричит? Слушай!
– Эй, на мачтах! Хорошенько глядите, все вы! В этих водах должны быть киты! Если увидите белого кита, кричите сколько хватит глотки!
– Ну, что ты на это скажешь, Фласк? Разве нет тут малой толики непонятного, а? Белый кит – слыхал? Говорю тебе, в воздухе пахнет чем-то странным. Нужно быть наготове, Фласк. У Ахава что-то опасное на уме. Но я молчу; он идёт сюда.
Глава XXXII. Цетология
Мы уже смело бороздим морскую пучину: пройдёт немного времени, и мы затеряемся в безбрежной необъятности открытого океана. Но прежде чем это произойдёт, прежде чем закачается увитый водорослями корпус «Пекода» подле облепленной ракушками туши левиафана, ещё в самом начале следует уделить пристальное внимание одному общему вопросу, выяснение которого совершенно необходимо для глубокого и всестороннего понимания тех более частных открытий, сопоставлений и ссылок, какие нам ещё предстоят.
Я имею в виду подробную систематизацию всех родов китообразных, которую мне бы очень хотелось здесь привести. Но это задача нелёгкая. Она равносильна попытке классифицировать составляющие мирового хаоса. Вот что говорят по этому поводу величайшие новейшие авторитеты.
«Ни одна отрасль зоологии не является столь запутанной, как та, что именуется цетологией», – пишет капитан Скорсби, 1820 г. н. э.
«В мои намерения не входит – даже если б это было мне под силу – исследование истинных способов деления китообразных на классы и семейства. У специалистов по этому вопросу нет ни малейшего взаимопонимания», – утверждает судовой врач Бийл, 1839 г. н. э.
«Неприспособленность к проведению исследований на больших глубинах». «Непроницаемые покровы, препятствующие нашему изучению китообразных». «Поле, усеянное шипами». «Все эти неполные данные способны только терзать душу натуралиста». Так отзываются о ките великий Кювье, Джон Хантер и Лессон, эти светила зоологии и анатомии. Но хотя истинное знание ничтожно, количество книг велико. Так во всём, так и в цетологии, или науке о китах. Много было людей: великих и малых, древних и современных, моряков и неморяков, которые подробно ли, мельком ли, но писали о китах.
Пробегите глазами лишь некоторые имена: авторы Библии; Аристотель; Плиний; Альдрованди; сэр Томас Браун; Джеснер; Рэй; Линней; Ронделециус; Уиллоуби; Грин; Артеди; Сиббальд; Бриссон; Мартен; Ласепэд; Боннетерр; Демарэ; барон Кювье; Фредерик Кювье; Джон Хантер; Оуэн; Скорсби; Бийл; Беннет; Дж. Росс Браун; автор «Мириам Коффин»; Олмстед и преподобный Т. Чивер. Но к чему сводятся обобщающие результаты всех этих трудов, мы видели по вышеприведённым отрывкам.
Из всех перечисленных здесь авторов лишь те, что следуют после Оуэна, видели живых китов своими глазами; и только один из них был настоящим китоловом и гарпунёром-профессионалом. Я имею в виду капитана Скорсби. По частным вопросам, связанным с гренландским, или настоящим, китом, он является самым крупным существующим авторитетом. Но Скорсби ничего не знал и ничего не писал о великом спермацетовом ките, в сравнении с которым гренландский кит просто недостоин упоминания. Да будет здесь сказано, что гренландский кит – это узурпатор на троне морей. Он даже не самый крупный из китов. Однако в силу старинного права первенства в притязаниях, а также благодаря полнейшему людскому неведению, которое ещё каких-нибудь семьдесят лет тому назад окутывало мифического или же совершенно неизвестного тогда спермацетового кита-кашалота, каковое неведение и по сей день ещё царит во всём мире, за исключением кельи иного учёного и отдельных промысловых портов, узурпация эта была во всех отношениях полной. Достаточно просмотреть те места у великих поэтов прошлого, где упоминаются левиафаны, и станет ясно, что для них, не имея соперников, царил в океанах один гренландский кит. Но вот наконец настало время объявить новость. Мы – на Черинг-кроссе[130]: слушайте, слушайте, люди добрые, гренландский кит свергнут, ныне царствует кашалот!
Существуют только две книги, где делаются попытки изобразить живого кашалота, и притом попытки хотя бы в отдалённейшей степени успешные. Это книги Бийла и Беннета, которые оба в своё время плавали судовыми врачами на английских китобойцах по Южным морям и оба являются людьми положительными и добросовестными. Вполне естественно, что труды их содержат не так уж много оригинальных данных о спермацетовом ките, однако тот материал, что там есть, превосходен, хотя и сводится по преимуществу только к научному описанию. Тем не менее ещё и по сей день кашалот ни в научной, ни в художественной литературе не получил всестороннего освещения. Биография его в значительно большей мере, чем у других китов, всё ещё остаётся ненаписанной.
Различные виды китов необходимо подвергнуть доступной, наглядной классификации, на первых порах хотя бы в черновой схеме, которую последующие труды смогли бы заполнить по частям. И поскольку никто из более достойных не берётся за это дело, я предлагаю читателю свои собственные жалкие услуги. Ничего законченного я не обещаю, потому что всякое дело рук человеческих, объявленное законченным, тем самым уже является делом гиблым. Не берусь я и за детальные анатомические сопоставления различных видов, а также – по крайней мере в этом месте – и вообще за подробные описания. Моя цель – просто набросать здесь проект систематики китообразных. Я архитектор, а не строитель.
Но это – грандиозная задача; простому сортировщику писем в почтовой конторе она не по плечу. Вслепую пробираться вслед за ними на дно морское; шарить руками в неизречённых основах, в плечевом и тазовом поясе самого мира – разве это не жутко? Кто я таков, чтобы мне осмелиться подцепить на крючок левиафана? Ужасные дерзости Иова должны бы устрашить меня. «Сделает ли он (левиафан) договор с тобой? Ибо, гляди, тщетна надежда»[131]. Но я избороздил в долгих плаваниях библиотеки и океаны; я сам, собственной персоной, имел дело с китами; я не шучу; и я готов попытаться. Только предварительно необходимо разрешить кое-какие вопросы.
Прежде всего. Неопределённость, неразработанность цетологии как науки уже в самом начале подтверждается тем фактом, что для некоторых по сей день остаётся спорным вопрос, является ли кит рыбой. В своей «Систематике природы» (1776 г. н. э.) Линней заявляет: «Я отделяю китов от рыб». Однако по собственному своему опыту я знаю, что вплоть до 1850 года акулы и пузанки, сардины и сельди вопреки недвусмысленному указу Линнея по-прежнему обитают в одних морях с левиафаном.
В качестве основания для своей попытки изгнать китов из воды Линней добавляет следующее: «По причине их тёплого двухкамерного сердца, лёгких, подвижного глазного века, полых ушей, penem intrantem feminam mammis lactantem[132], и наконец «ex lege naturae jure meritoque»[133]. Я передал всё это на рассмотрение моим товарищам Саймону Мэйси и Чарли Коффину из Нантакета, с которыми мы вместе плавали однажды, и они единодушно высказались в том смысле, что представленные доводы явно недостаточны. А нечестивый Чарли даже дал мне понять, что это просто чушь.
Да будет вам известно, что я, с порога отказываясь от всякого обсуждения, присоединяюсь к мудрому старинному взгляду, согласно которому кит – рыба, и призываю святого Иону засвидетельствовать мою правоту.
Разрешив этот основной вопрос, мы должны теперь выяснить, каковы те внутренние особенности, которые характеризуют кита в отличие от других рыб. Выше я уже привёл основные положения Линнея. Вкратце они сводятся к следующему: кит имеет лёгкие и тёплую кровь, тогда как другие рыбы хладнокровны и лёгких не имеют.
Далее. Какое определение можно дать киту по заметным признакам его внешнего строения, так, чтобы раз и навсегда снабдить его яркой этикеткой? Если не вдаваться в детали, то кит – это рыба, пускающая фонтаны и обладающая горизонтальной лопастью хвоста. Вот вам дефиниция. При всей сжатости она является плодом широких размышлений. Морж тоже пускает фонтаны, наподобие китовых, но морж – не рыба, так как он земноводный. Особенно же убедителен в сочетании с первым последний пункт определения. Всякому известно, что все рыбы, с которыми имеют дело сухопутные граждане, обладают не плоским, а вертикальным, стоячим хвостом. В то же время те рыбы, которые пускают фонтаны, неизменно характеризуются горизонтальным положением хвоста, даже если он не отличается своеобразием формы.
Вышеприведённое определение кита отнюдь не исключает из левиафанового братства ни одного из тех морских существ, которые до настоящего времени причислялись к разряду китов наиболее авторитетными жителями Нантакета; с другой стороны, оно не относит сюда рыб, и ранее рассматривавшихся знатоками как нечто постороннее[134]. Тем самым и все мелкие рыбы, характеризующиеся фонтанами и горизонтальными хвостами, должны быть включены в генеральный план Цетологии.
Итак: основные подразделения всего китового войска.
Предварительное замечание. В зависимости от размеров я разделяю китов первоначально на три КНИГИ (с подразделением на главы), которые дают возможность охватить их всех, и малых, и больших:
I. Киты IN FOLIO; II. Киты IN OCTAVO; III. Киты IN DUODECIMO.
В качестве представителя китов in Folio назову спермацетового кита; in Octavo – кита-убийцу; in Duodecimo – бурого дельфина.
IN FOLIO. Сюда я включаю следующие главы: I. Спермацетовый кит; II. Настоящий кит; III. Финвал; IV. Горбатый кит; V. Остроспинный кит; VI. Желтобрюхий кит.
КНИГА I (in Folio). Глава I (Спермацетовый кит). Этот кит, издавна смутно известный англичанам под названиями трампа, физетер и кит-наковальня, у французов именуется «кашалотом», у немцев носит имя «Pottfisch», а по Словарю Длинных Слов значится «макроцефалом». Он, без сомнения, является самым крупным из обитателей земного шара, самым свирепым из китов, самым величественным по внешнему виду и, наконец, безусловно самым ценным с точки зрения коммерческой, поскольку он – единственное животное, из которого добывается ценнейшее вещество – спермацет. Обо всех его удивительных качествах я ещё не раз буду говорить ниже. Сейчас же меня занимает в основном его имя. С точки зрения филологической оно абсурдно. Несколько столетий тому назад, когда спермацетовый кит во всей своей подлинной индивидуальности был неведом людям, а жир его добывался только случайно, если мёртвого кита прибивало к берегу, – в те дни люди полагали, что спермацет им поставляет то самое существо, которое известно в Англии как гренландский, или настоящий, кит. Считалось также, что именно оный спермацет, как явствует из начального слога, является тем веществом, которое возбуждает и распаляет по временам гренландского кита. К тому же в те времена спермацет был большой редкостью и шёл он не на освещение, а лишь на притирания и лекарства. Его можно было достать только в аптеке, подобно тому как в наше время мы покупаем там унцию ревеня. Когда же с течением времени, как я полагаю, стала известна истинная природа спермацета, торговцы сохранили за ним его первоначальное наименование, по всей видимости для того, чтобы благодаря заключённому в нём понятию редкостности удержать высокие цены на свой товар. А уж затем название, вероятно, перешло и на самого кита, в действительности служившего источником спермацета.
КНИГА I (in Folio). Глава II (Настоящий кит). В определённом отношении это наиболее заслуженный из левиафанов, поскольку он был среди них первым, на кого начали охотиться люди. Из него получают такую вещь, которая обычно называется «китовым усом», и особый жир, известный под названием «китового жира», предмет второстепенной важности с точки зрения коммерческой. Среди китопромышленников он без разбора величается любым из следующих титулов: Кит, Гренландский кит, Чёрный кит, Великий кит, Настоящий кит. Подлинные границы этого вида, столь многоразлично окрещённого, не вполне выяснены. Какого же именно кита включаю я во второй раздел моих in Folio? Я имею в виду кита, которого английские натуралисты называют Великий Mysticetus, английские китоловы – Гренландский кит, французские китоловы – Baleine Ordinaire, а шведы – Growlands Walfisk. Кита, на которого вот уже два столетия охотятся голландцы и англичане в арктических водах; за которым издавна гоняются американские китоловы по Индийскому океану, на Бразильских отмелях, у Северо-Западного побережья и в различных других концах света, именуемых ими «Китовыми полями».
Некоторые утверждают, что между гренландским китом англичан и настоящим китом американцев существует какая-то разница. Однако во всех своих основных чертах они полностью соответствуют друг другу; и никому никогда не удавалось привести ни одного определённого факта в доказательство этого мнимого различия. Все такие разграничения и подразграничения, основанные на крайне неубедительных отличиях, и приводят к тому, что некоторые разделы естественной истории представляют собой сплошную путаницу. В дальнейшем мы ещё будем говорить о настоящем ките, и при этом будем ссылаться на данные, проливающие также свет и на природу кашалота.
КНИГА I (in Folio). Глава III (Финвал, или кит с плавником на спине). В этом разделе я рассматриваю исполина, который под разными именами – Финвал, Длинный Джон и другие – встречается во всех морях, будучи тем самым китом, чьи отдалённые фонтаны так часто наблюдают пассажиры трансатлантических линий. В длину финвал достигает размеров настоящего кита и напоминает его своим «китовым усом», однако в обхват он не столь дороден и обладает более светлой окраской, приближающейся к оливковому цвету. Его гигантские губы словно украшены витым орнаментом, который образуют косые переплетённые складки огромных морщин. Его отличительная черта – большой плавник, который часто бывает виден над водой. Плавник имеет форму треугольника длиной фута в три-четыре с очень тонкой заострённой вершиной и поднимается отвесно над задней частью спины. Даже тогда, когда это животное полностью скрыто под водой, одинокий плавник подчас отчётливо выступает над поверхностью. В тех случаях, когда море относительно спокойно и лишь слегка тронуто рябью, над которой возвышается, подобно гномону[135], этот плавник, отбрасывая тень на испещрённую водную поверхность, можно подумать тогда, что перед вами солнечные часы с волнистыми линиями делений. И часто тень на этих ступенях Ахазовых[136] указывает назад. Финвал не стадное животное. Вероятно, он китоненавистник, как некоторые люди бывают человеконенавистниками. Он очень пуглив; ходит всегда в одиночку, неожиданно всплывая на поверхность в самых отдалённых, негостеприимных водах; его отвесный одноструйный фонтан взлетает ввысь, подобно длинному угрюмому копью над бесплодной равниной; наделённый столь необычайной мощью и быстротой, что любое преследование со стороны современного человека ему нипочём, этот левиафан кажется среди сородичей непреклонным изгнанником Каином, неся на спине в виде особого знака остроконечную иглу. На основании того, что у него в пасти есть китовый ус, финвала иногда объединяют с настоящим китом в некий теоретически существующий род, называемый «баленовые киты», то есть киты, имеющие китовый ус. Весьма вероятно, что среди этих «баленовых китов» существует несколько разновидностей, однако нам о них почти ничего не известно. Киты широконосые и киты клюворылые; шипоголовые киты; горбатые киты; киты косоротые; острорылые киты – вот несколько названий, изобретённых для них китоловами.
В связи с наименованием «баленовые киты» весьма важно заметить, что подобный принцип номенклатуры хотя и облегчает обозначение одной категории китов, всё же не даёт ключа к отчётливой классификации левиафанов, ибо на чём бы мы ни основывались: на китовом ли усе, горбе, плавнике или зубах, – составить последовательную китологическую систему невозможно, несмотря на кажущуюся пригодность перечисленных ярко выраженных признаков для того, чтобы лечь в основу такой классификации. В чём же тут дело?
Дело в том, что китовый ус, горбы, плавники и зубы распределены среди китов всех видов как попало, без всякого учёта других, более важных особенностей их строения. Так, кашалот и горбач оба имеют горбы; но этим их сходство и ограничивается. С другой стороны, этот же самый горбач наряду с гренландским китом имеет китовый ус, но и тут всё сходство ограничивается только этим. То же самое и с другими упомянутыми признаками. У различных китов они образуют такие замысловатые комбинации, а у отдельно взятого кита одного какого-то вида создают такое замысловатое своеобразие, что всякие попытки провести систематизацию на этой основе заведомо обречены на полную неудачу. Об этот камень разбивали себе головы все натуралисты-цетологи.
Можно было бы, кажется, предположить, что во внутреннем строении кита, в его анатомии, там, по крайней мере, заключена возможность правильной классификации. Но это не так. Что, например, более примечательно в анатомии гренландского кита, чем его китовый ус? Однако мы видели, что наличие китового уса не может служить основанием для определения видовых границ гренландского кита. А если вы углубитесь в левиафанье брюхо, так там вы не обнаружите и сотой доли тех пригодных для систематизатора данных, какие он может найти снаружи. Что же остаётся? Остаётся только брать китов целиком, во весь рост, во всём их исполинском объёме и смело приниматься за сортировку. Именно такова принятая здесь библиографическая система – единственная, какая ещё может привести к цели, поскольку она только и приложима к данному материалу. Но я продолжаю.
КНИГА I (in Folio). Глава IV (Горбач). Этот кит нередко встречается у северных берегов Америки. Здесь его издавна били и буксировали в гавани. За плечами у него, как у старых коробейников, увесистая котомка; можно также сравнить его с вывеской гостиницы «Слон и Замок»[137]. В любом случае его обычное название недостаточно его определяет, так как у кашалота тоже есть горб, хотя и поменьше. Жир у него не очень ценный. Зато у него есть китовый ус. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной.
КНИГА I (in Folio). Глава V (Остроспинный кит). Об этом ките не известно почти ничего, кроме названия. Я видел его на большом расстоянии у берегов мыса Горн. Склонный к уединению, он равно избегает и охотников, и философов. Про него не скажешь, что он трус, но тем не менее он всегда показывает людям только спину с длинным острым хребтом. Пусть себе плавает. Мне о нём мало что известно, да и никто о нём ничего не знает.
КНИГА I (in Folio). Глава VI (Желтобрюхий кит). Ещё один необщительный джентльмен с брюшком цвета серы – окраска, которую он, несомненно, приобрёл в результате трения о черепичную крышу ада во время наиболее глубоких своих погружений. Встречается он редко; я, во всяком случае, встречал его только в далёких Южных морях, да и то всегда на таком большом расстоянии, что выражение его лица различить было невозможно. На него не охотятся: он всё равно удрал бы, утянув в глубину любой линь. А рассказывают о нём чудеса. Прощай, Желтобрюхий кит! Я не смогу больше сказать о тебе ничего достоверного, да и любой старейший житель Нантакета не сумеет тут ничего прибавить.
На этом кончается КНИГА I (in Folio) и начинается КНИГА II (in Octavo).
IN OCTAVO[138]. Сюда входят киты средних габаритов, среди которых можно назвать: I. Серого дельфина; II. Чёрного дельфина; III. Нарвала; IV. Кита-убийцу; V. Рыбу-молот.
КНИГА II (in Octavo). Глава I (Серый дельфин). Несмотря на то что эта рыба, чьё громкое, звучное дыхание, вернее, пыхтение, вошло на суше даже в поговорку, широко известна как обитатель глубин, тем не менее в народе её обычно китом не считают. Но поскольку она обладает всеми основными отличительными чертами левиафанов, большинство натуралистов включают её в их число. Она отличается умеренными размерами in Octavo, варьирующимися между пятнадцатью и двадцатью пятью футами в длину и соответствующими объёмами талии. Плавает стадами; специальным объектом охоты никогда не была, хотя у неё довольно много жиру, вполне пригодного для освещения. Некоторые китобои считают серых дельфинов предвестниками приближения великого кашалота.
КНИГА II (in Octavo). Глава II (Чёрный дельфин). Я повсеместно пользуюсь для китов названиями, под которыми те известны среди рыбаков и китоловов, потому что в целом считаю эти имена наиболее подходящими. В тех же случаях, когда название окажется расплывчатым и невыразительным, я отмечу это и предложу свой вариант. Так, например, обстоит дело с чёрным дельфином, поскольку чёрный цвет, как правило, характерен для всех китообразных. Так что можете в данном случае пользоваться названием «кит-гиена», если оно вас устраивает. Прожорливость кита-гиены широко известна, а тому обстоятельству, что углы его рта загнуты кверху, он обязан своей непреходящей мефистофельской усмешкой. Этот кит достигает в среднем шестнадцати – восемнадцати футов в длину. Встречается почти под всеми широтами. Плывя, он каким-то особым образом выставляет из воды крючковатый спинной плавник, чем-то напоминающий римский нос. Когда ничего более выгодного под рукой нет, китоловы бьют иногда и кита-гиену, чтобы пополнить запасы дешёвого жира для домашних нужд – ведь некоторые экономные хозяева жгут у себя дома, когда нет гостей, вместо ароматного воска вонючие сальные свечи. Несмотря на незначительную толщину жирового слоя, эти киты дают иногда до тридцати галлонов ворвани.
КНИГА II (in Octavo). Глава III (Нарвал, иначе говоря, Носатый кит). Ещё один любопытный пример неподходящего названия, своим происхождением, вероятно, обязанного своеобразному рогу, который прежде принимали за длинный, острый нос. Это животное имеет в длину около шестнадцати футов, а рог его в среднем насчитывает футов пять, хотя в отдельных случаях достигает десяти и даже пятнадцати футов. Строго говоря, это не рог, а удлинённый клык, торчащий у него из пасти в направлении, слегка отклоняющемся от горизонтального. Но он растёт только с левой стороны, а это придаёт его владельцу какой-то зловещий облик и некоторое сходство с неуклюжим левшой. Каково непосредственное назначение этого белого рога, этой костяной остроги, – трудно сказать. Нарвал не пользуется им в тех целях, в каких употребляют свои острые носы меч-рыба и рыба-игла; правда, некоторые мореплаватели считают, что рог у нарвала вместо граблей, чтобы взрывать им морское дно в поисках пищи. А вот Чарли Коффин утверждал, что рог служит нарвалу для взламывания льда: когда нарвал, всплывая на поверхность в полярных морях, обнаруживает, что море затянуто льдом, он протыкает его своим рогом и так пробивается на воздух. Но правильность этих предположений доказать невозможно. Я же лично полагаю, что, каково бы ни было фактическое назначение этого одностороннего нарвальего рога, в любом случае, он мог бы служить нарвалу отличным ножом для разрезания памфлетов. Насколько я знаю, нарвала называют также клыкастым китом, рогатым китом и китом-единорогом. Он, безусловно, является ещё одним любопытным примером единорожия, которое встречается почти во всех областях животного царства. У старинных авторов-монахов я читал, что рог этого самого морского единорога считался в те времена великим противоядием от любой отравы, и потому изготовление снадобий из него приносило немалые доходы. Выпаривали из него также летучие нюхательные соли для припадочных леди, всё равно как теперь делают их из оленьих пантов. Когда-то рог нарвала признавался большой редкостью и вызывал всеобщее любопытство. В старинном готическом фолианте я прочёл о том, как сэр Мартин Фробишер[139] возвратился из плавания, в которое королева Бэсс провожала его, любезно махая из окошка Гринвичского замка[140] своей унизанной бриллиантами ручкой, пока его отважный корабль спускался по Темзе: «Когда сэр Мартин вернулся из этого плавания, – говорится в старинном фолианте, – коленопреклонённый, преподнёс он её величеству чудовищно длинный рог нарвала, в течение долгого времени после этого висевший в Виндзорском замке». В то же время один ирландский автор утверждает, что и граф Лестер[141], также коленопреклонённый, преподнёс её величеству рог, принадлежавший какому-то наземному животному из породы единорогов.
С виду нарвал очень живописен и немного похож на леопарда, он молочно-белого цвета, с отчётливо выделяющимися круглыми и продолговатыми чёрными пятнами. Жир у него высокого качества, чистый и прозрачный, но его мало, и поэтому на нарвала охотятся редко. Обитает он по большей части в полярных водах.
КНИГА II (in Octavo). Глава IV (Кит-убийца). Жителям Нантакета мало что известно об этом ките, а учёным-натуралистам и того меньше. Я видел его только издали и, насколько могу судить, по размерам он близок к серому дельфину. Он чрезвычайно свиреп – таким только на Фиджи и место. Иногда он ухватывает за губу большого кита in Folio и висит на нём, словно пиявка, покуда не измучит исполина до смерти. На кита-убийцу не охотятся, и мне никогда не приходилось слышать о том, какого качества у него жир. Имя этого кита не может не вызвать протеста своей неопределённостью. Ибо все мы, и на суше, и на море, убийцы, включая бонапартов и акул.
КНИГА II (in Octavo). Глава V (Рыба-молот). Этот джентльмен широко известен благодаря хвосту, которым он колотит своих врагов, как учитель колотит линейкой школьников. Он устраивается на спине кита in Folio и плывёт на нём верхом, оплачивая свой проезд трёпкой, подобно школьным учителям, которые продвигаются в жизни с помощью тех же средств. О рыбе-молоте известно ещё меньше, чем о ките-убийце. Оба они – вне закона, даже в беззаконных морях.
На этом кончается КНИГА II (in Octavo) и начинается КНИГА III (in Duodecimo).
IN DUODECIMO. Сюда относятся малые киты: I. Ура-дельфин; II. Дельфин-пират; III. Белорылый дельфин.
Тем, кто не углублялся специально в изучение этого предмета, может показаться странным, что рыбы, обычно не превосходящие четырёх-пяти футов в длину, оказались в одной шеренге с КИТАМИ, ведь это слово в его общепринятом значении всегда содержит понятие грандиозности. Тем не менее существа, перечисленные выше под рубрикой in Duodecimo, безусловно являются китами, так как подходят под моё определение кита – как рыбы, пускающей фонтаны и обладающей горизонтальной лопастью хвоста.
КНИГА III (in Duodecimo). Глава I (Ура-дельфин). Это обыкновенный бурый дельфин, который встречается на земном шаре почти повсеместно. Имя это я выбрал для него сам; дело в том, что существует несколько разновидностей бурых дельфинов и нужно же как-то различать их. Я назвал его так, потому что эти дельфины всегда плавают по морю шумными весёлыми стаями, то и дело взмывая ввысь, словно шапки над толпой в день Четвёртого июля[142]. Мореплаватели радостно приветствуют их появление, когда они, играючи, перелетают с волны на волну. Встреча с ними считается добрым знаком. И если сами вы не издадите троекратного «ура» при виде этих резвых рыб, то – да поможет вам бог; ибо вам неведом дух божественного веселья. Один откормленный, толстый ура-дельфин даёт один галлон отличной ворвани. Но особенную ценность представляет прозрачное и нежное вещество, добываемое из его челюстей. Оно пользуется большим спросом у ювелиров и часовщиков. А матросы натирают им свои оселки. К тому же, как вы знаете, мясо дельфинов приятно на вкус. Быть может, вы никогда не замечали, что дельфин пускает фонтаны. Действительно, фонтан дельфина очень невысок, так что его довольно трудно заметить. Но всё-таки проследите, когда в следующий раз их увидите, и тогда вы поймёте, что перед вами просто великий кашалот в миниатюре.
КНИГА III (in Duodecimo). Глава II (Дельфин-пират). Очень свиреп. Встречается, по-моему, только в Тихом океане. Он немного крупнее ура-дельфина, но имеет приблизительно такой же облик. Если его разозлить, он и акулы не побоится. Много раз случалось мне пускаться за ним в погоню, но никогда ещё я не видел, чтобы его изловили.
КНИГА III (in Duodecimo). Глава III (Белорылый дельфин). Наиболее крупный из бурых дельфинов; насколько можно судить, встречается только в Тихом океане. До последнего времени был известен под именем, которое дали ему английские китоловы, – дельфин настоящего кита, – на основании того обстоятельства, что он постоянно сопровождает упомянутого китообразного. По форме он несколько отличается от ура-дельфина, у него нет той приятной округлости талии; можно сказать, фигура у него поджарая, джентльменская. У него нет спинных плавников (у большинства дельфинов они имеются), зато есть изящный хвост и грустные индейские карие очи. Вот только рыло его портит. Спина у него до самых боковых плавников чёрная как смоль, и отчётливая полоса, словно ватерлиния на корпусе корабля, опоясывает его от носа до кормы, строго разграничивая два цвета – чёрный наверху и белый внизу. Белизна захватывает часть головы и целиком всю пасть – рыльце у него в пушку, точно он только что наносил преступный визит на мельницу и втихомолку совал там нос по сусекам. В высшей степени подлый и вороватый вид! Жир у него такой же, как и у обычного дельфина.
Дальше, чем in Duodecimo, эта классификация не идёт, потому что бурые дельфины – самые мелкие из китообразных. Итак, выше перечислены все мало-мальски примечательные левиафаны. Однако, помимо них, существует ещё целое сонмище каких-то мифических, неуловимых, никому не ведомых китов, о которых я, как американский китолов, знаю только понаслышке. Я сейчас перечислю их, пользуясь теми именами, которые в ходу у нас в кубрике; быть может, этот перечень сослужит службу для будущих исследователей, которые пожелают довести до конца то, что я здесь начал. Если в дальнейшем какой-либо из нижеперечисленных китов будет выловлен и обмерен, его можно будет легко внести в настоящую систему в соответствии с его габаритами – in Folio, in Octavo или in Duodecimo. Итак: Бутылконос, Кит-Колода, Кит-Олух, Капский кит, Главный кит, Пушечный кит, Тощий кит, Кит-Медяник, Слоновый кит, Айсберговый кит, Моллюсковый кит, Синий кит и т. д. и т. п. У исландских, голландских и староанглийских авторов можно почерпнуть ещё более длинные перечни никому не известных китов, награждённых самыми невероятными и самыми неудобопроизносимыми названиями. Но я опускаю их, как совершенно устаревшие; более того, у меня даже есть основания подозревать, что это всего лишь пустые звуки, полные левиафанизма, но ничего не означающие[143].
В заключение я повторю то, что уже заявлял вначале: моя классификация не будет здесь, в один присест, доведена до полного завершения. Как видите, я своё слово сдержал. Однако на этом я теперь бросаю свою систему, не доведя её до конца, подобно тому как брошен незавершённым великий Кёльнский собор, на недостроенной башне которого так и остались краны и лебёдки. Ибо только мелкие сооружения доводит до конца начавший строительство архитектор, истинно же великие постройки всегда оставляют ключевой камень потомству! Вся эта книга – не более как проект, вернее, даже набросок проекта. О, Время, Силы, Терпение и Звонкая монета!
Глава XXXIII. Спексиндер
Здесь будет уместно упомянуть о некотором своеобразии в составе командиров китобойца, связанном с наличием на нём ранга гарпунёров, не известного ни одной флотилии, кроме китобойных.
Гарпунщик издавна считался на корабле фигурой очень значительной, о чём свидетельствует тот факт, что когда-то два с лишним столетия тому назад, в старинном голландском флоте командование китобойцем не сосредоточивалось целиком в руках одного человека, ныне именуемого капитаном, а разделялось между ним и другим командиром, носившим имя «спексиндер». Буквально это слово означает «разрубатели сала», но впоследствии оно приобрело значение «главный гарпунщик». В те времена власть капитана ограничивалась только вопросами навигации и общего управления судном; а там, где дело касалось китового промысла и всего, что с этим связано, там верховным владыкой был спексиндер, главный гарпунщик. У англичан в Гренландской китобойной флотилии этот старинный чин под искажённым названием «спекшионир» существует и по сей день, но прежнее величие его прежалостным образом урезано. Теперь это просто старший гарпунщик; и как таковой он является всего лишь одним из младших подчинённых капитана. Но всё-таки, поскольку успех плавания в большой мере зависит от деятельности гарпунщика, тем более что у американских китобоев гарпунщик это не только главное действующее лицо на борту вельбота, но также – при определённых обстоятельствах (ночные вахты в промысловых областях) – и командир на палубе корабля, в связи со всем этим великая корабельная политическая доктрина требует, чтобы он жил не в кубрике, а отдельно от матросов и почитался среди них как старший в деле; хотя матросы-то всегда относятся к нему без должного почтения, как к равному.
Основное различие между командиром и матросом в море таково: первый живёт на юте, второй – на баке. Потому-то на китобойном судне, так же как и на торговом, помощники селятся вместе с капитаном; а на большинстве американских китобойцев и гарпунёры тоже размещаются в кормовой части судна. А это значит, что они едят за капитанским столом и спят в помещении, косвенно сообщающемся с капитанским.
Несмотря на то что длительность южных китобойных рейсов (значительно более долгих, чем всякое иное плавание, предпринимавшееся человеком), их небывалые опасности и общность интересов у членов экипажа, когда все, от первого до последнего, зависят не от установленного жалованья, а от общей бдительности, неустрашимости и усердной работы; несмотря на то что всё это иной раз действительно приводит на китобойце к некоторому смягчению корабельной дисциплины, – тем не менее, какой бы патриархальной ни казалась здесь в отдельных простейших случаях совместная жизнь экипажа, строгие порядки на баке – по крайней мере внешне – редко подвергаются заметному послаблению и никогда, ни при каких условиях не отменяются. И часто на нантакетском судне можно видеть, как шкипер вышагивает по шканцам с такой величественной важностью, какой не встретишь и в военном флоте, да и поклонение ему оказывают такое, будто он облачён в императорский пурпур, а не в вытертое грубое синее сукно.
И хотя из всех людей угрюмый капитан «Пекода» был наименее склонен к мелочному высокомерию; хотя единственной формой поклонения, которой он требовал, было беспрекословное, незамедлительное послушание; хотя он никогда не заставлял никого разуваться перед ним, прежде чем ступить на шканцы; и хотя случалось в силу чрезвычайных обстоятельств, связанных с событиями, о которых речь пойдёт ниже, он обращался к подчинённым с необычными словами, снисходя ли к ним или in terrorem[144], или ещё как-нибудь, – всё-таки и капитан Ахав ни в какой мере не пренебрегал основными морскими обычаями и требованиями этикета.
В дальнейшем, вероятно, будет замечено, что он, словно маской, прикрывался иногда этими обычаями и порядками, иной раз используя их в своих собственных целях, отличных от тех, для которых они были первоначально предназначены. Некоторый султанизм его ума, по большей части остававшийся скрытым, находил выход в этом этикете, оборачиваясь непреоборимым тиранством. Ибо как ни велико интеллектуальное превосходство одного человека, оно никогда не сможет принять форму реальной, ощутимой власти над другими людьми, не прибегай он к помощи различных внешних уловок и наружных укреплений, которые сами по себе всегда более или менее подлы и мелки. Вот что удерживает богом данных истинных властителей Империи вдали от земных избирательных кампаний и предоставляет высочайшие почести, какие только может дать здешний мир, тем, кто прославился скорее потому, что он неизмеримо ниже избранной тайной горстки Божественно-Бездеятельных, нежели благодаря своему безусловному превосходству над средним уровнем толпы. Столь велика действенность, заключённая в незначительных атрибутах власти, если с ними связаны крайние политические предрассудки, что в отдельных царственных случаях они даже идиотизму и слабоумию придавали ореол могущества. Когда же, как это было с царём Николаем, круглая корона мировой империи заключает в себе императорский мозг, тогда плебейская толпа никнет, подавленная грандиозным единовластием. Пусть драматург-трагик, который станет описывать человеческое отчаянное упорство во всём его размахе и величии, непременно использует это маленькое указание, надо сказать, весьма ценное в его деле.
Но мой капитан Ахав по-прежнему стоит у меня перед глазами, по-нантакетски угрюмый и неотёсанный, и я, хоть и заговорил обо всех этих императорах и князьях, не скрою, что здесь у меня речь идёт всего лишь о бедном старом китолове, и потому королевские мантии и дворцы – не моего ума дело. О Ахав! всё величие твоё лишь в том, что сорвано с небес, поднято из глубин, вылеплено из бесплотного воздуха!
Глава XXXIV. Стол в капитанской каюте
Полдень. Стюард Пончик, высунув из люка бледную булку своей физиономии, приглашает к обеденному столу своего хозяина и господина, который, сидя в одной из шлюпок на юте, только что кончил определять положение солнца и теперь молча вычисляет широту, исписывая цифрами специально выделенную для этой процедуры гладкую овальную площадку на верхней части собственной костяной ноги. Он не обращает на слова слуги ни малейшего внимания, можно подумать, что он их не слыхал. Однако немного погодя он поднимается, ухватившись за ванты бизани, повиснув на них, перебрасывает своё тело на палубу и, ровным, невыразительным голосом проговорив: «Обедать, мистер Старбек», – скрывается в капитанской каюте.
Когда замирает последнее эхо его султанских шагов и Старбек, первый эмир, может с полным основанием предположить, что капитан уселся за стол, тогда и Старбек, очнувшись от бездействия, несколько раз обходит палубу, с важным видом заглянув по пути в нактоуз, а потом, не без любезности проговорив: «Обедать, мистер Стабб», – спускается в каюту. Второй эмир некоторое время медлит у снастей, а затем, слегка подёргав грота-брас и убедившись, что эта важная снасть не подкачает, тоже подчиняется древнему обычаю и, скороговоркой бросив: «Обедать, мистер Фласк», – спускается вслед за своими предшественниками.
Но третий эмир, оставшись теперь на шканцах в полном одиночестве, чувствует, видимо, большое облегчение, словно избавившись от какой-то обузы; хитро подмигивая направо и налево, он скидывает башмаки и пускается плясать огневую, но бесшумную джигу прямо над головой Великого Турка, а потом, необычайно ловким взмахом руки запустив шапку на верхушку бизани, где она и повисла чин чином, как на вешалке, направляется к люку с весёлыми ужимками – покуда его видно с палубы, – и замыкает с музыкой всю процессию, сводя тем самым на нет всякую торжественность. Однако внизу, перед тем как ступить через порог капитанской каюты, он останавливается, и вот, словно по волшебству подменив свою физиономию, независимый, весёлый коротышка Фласк является пред очи Короля Ахава в роли Жалкого Раба.
В ряду всевозможных странностей, порождённых крайней искусственностью корабельного этикета, видное место принадлежит тому обстоятельству, что некоторые судовые командиры, на палубе способные в острые моменты держать себя по отношению к старшему с необходимой независимостью и смелостью, в девяти случаях из десяти спустившись через секунду к обеду в капитанскую каюту, в тот же миг приобретают какую-то смиренную, а подчас даже и заискивающую, униженную манеру в обращении с тем же самым капитаном, который восседает теперь во главе стола; удивительно, право, а иной раз так просто смешно. Откуда такая разница в поведении? Неразрешимая загадка? Не думаю. Роль Валтасара, царя вавилонского[145], и притом Валтасара не надменного, а любезного, содержит в себе, без сомнения, некоторую долю мирского величия. Но тот, кто, исполненный истинно монаршего разумного духа, сидит с гостями во главе своего собственного обеденного стола, такой человек неоспоримой силой и властью личного влияния и всей царственностью положения намного превосходит Валтасара, ибо не Валтасар – величайший из людей. Кто хоть однажды угощал у себя обедом, тот испытал, что значит быть Цезарем. Такова уж волшебная сила монарха в обществе, и против неё не устоишь. Ну, а если помимо всего к ней ещё прибавить ту верховную власть, какой по закону облечён капитан корабля, то несложно будет путём умозаключений найти причину того своеобразного корабельного обычая, о котором говорилось выше.
Ахав восседал во главе своего инкрустированного китовой костью стола, подобный безмолвному, густогривому морскому льву на белом коралловом берегу в окружении свирепых, но почтительных львят. Каждый в соответствии с рангом ожидал своей порции. Они сидели перед Ахавом словно малые дети, хотя видно было, что сам Ахав ни в малейшей мере не кичится своим главенствующим положением. Как только старик взялся за нож, чтобы разрезать стоявшее перед ним жаркое, все три пары глаз в полном единодушии напряжённо уставились на него. Ни за какие блага в мире ни один из них не решился бы, наверное, нарушить святость этого мгновения малейшим замечанием, даже на такую нейтральную тему, как погода. Какое там! Когда же Ахав, протянув нож и вилку, между которыми был зажат кусок жаркого, дал тем самым знак Старбеку пододвинуть вперёд тарелку, старший помощник принял свою порцию мяса так, словно то была милостыня, и, разрезая его деликатно, вздрогнул слегка – уж не скрипнул ли он, упаси бог, ножом по тарелке, – и жевал его беззвучно, и глотал не без оглядки. Ибо подобно банкетам во Франкфурте по случаю коронаций, на которых германский император глубокомысленно обедает в обществе семи имперских электоров[146], эти обеды в капитанской каюте тоже были торжественными трапезами и проходили в полном и величественном молчании; а ведь Ахав не запрещал разговаривать за столом, он только сам оставался нем. И Стабб начинал давиться, покуда возня крыс в трюме не спасала его, нарушая на мгновение гнетущую тишину. А бедный коротышка Фласк, он изображал собою как бы младшего сына, маленького мальчика на томительном семейном пиршестве. Ему неизменно доставались все кости из солонины, как от курицы на его долю непременно пришлись бы лапки. Если бы Фласк осмелел настолько, чтобы самому положить себе мяса на тарелку, он в собственных глазах сравнялся бы с первостатейным вором и татем. Если бы он хоть раз сам протянул к блюду руку, никогда бы уж он не смог ходить с поднятой головой в этом честном мире; а между тем Ахав ведь ему ничего не запрещал. И вполне вероятно, что, если бы Фласк сам положил себе кусок, Ахав бы даже и не заметил этого. Менее всего отваживался Фласк брать масло. То ли он думал, что владельцы корабля были бы против того, чтоб он портил маслом ясный, солнечный цвет своего лица; то ли считал, что в долгом рейсе по безлюдным морям масло как продукт особо ценный не предназначается для людей его ранга, – как бы то ни было, но масла он не ел.
Но это ещё не всё. Фласк последним садился за стол, но первым вставал из-за стола. Подумать только! Ведь тем самым обед Фласка был страшно стиснут во времени. Старбек и Стабб, оба они раньше него выходили на старт, и они же пользовались привилегией задерживаться за столом после его ухода. Если, например, у Стабба, который всего только на одну зацепку выше Фласка рангом, сегодня плохой аппетит и он не склонен поэтому задерживаться за столом, Фласку тогда приходится как следует поднажать, и всё равно в этот день ему уж толком не пообедать, ибо святейший обычай не позволяет Фласку позже Стабба вернуться на палубу. Вот почему Фласк признался однажды в разговоре, что с тех самых пор, как он удостоился чести стать командиром, он всегда ходит голодный. Ибо то, что он успевал съесть, не утоляло его голода, а только постоянно обновляло его. «Мир и довольство навсегда покинули мой желудок, – думал Фласк. – Я теперь командир, но до чего бы мне хотелось выудить в кубрике свой прежний кусок говядины, как делал я раньше, когда был матросом». Вот вам плоды удачной карьеры; вот она тщета славы; вот всё безумие жизни! Да если хоть один матрос на «Пекоде» имел зуб против третьего помощника Фласка, то стоило этому матросу пройти во время обеда на шканцы и заглянуть в капитанскую каюту, где Фласк сидел бессловесным дурачком перед зловещим Ахавом, и он мог считать себя с лихвой отомщённым.
Ахав и его три помощника составляли, если можно так сказать, первую обеденную смену в капитанской каюте «Пекода». После того как все они, в обратном порядке, покидали каюту, бледнолицый стюард убирал со стола, вернее, просто оправлял торопливо холщовую скатерть, и тогда на пиршество как законные наследники приглашались трое гарпунёров. Они на время превращали величественную капитанскую каюту просто в людскую.
Удивителен был контраст между нечеловеческим напряжением, порождённым подспудным деспотизмом, царившим за капитанским столом, и той беззаботной вольностью, той буйной непринуждённостью, той прямодушной грубостью, какими отличались эти средние чины, гарпунщики. В противоположность своим командирам, которых пугал, казалось, даже скрип собственных челюстей, гарпунщики жевали пищу с таким смаком, что у них за ушами трещало и по всей каюте отдавалось. О, они наедались, как боги, они набивали себе животы, как суда в индийском порту набивают себе трюмы пряностями. У Квикега и Тэштиго были такие чудовищные аппетиты, что бледному стюарду, дабы заполнить пустоту, образовавшуюся со времени предыдущей трапезы, приходилось тащить на стол солонину гигантскими кусками, целые филейные части, добытые, можно было подумать, прямо из цельной бычьей туши. И если при этом он поворачивался недостаточно резво, если он оказывался не таким уж молниеносным «Одна-нога-здесь-другая-там», у Тэштиго был свой не слишком любезный способ подгонять его – на манер гарпуна пуская ему в спину вилку. А как-то раз в припадке веселья Дэггу решил помочь Пончику бороться с забывчивостью – он сгрёб его в охапку, сунул головой на пустующую доску для резки хлеба и так держал, покуда Тэштиго с ножом в руке ходил вокруг, готовясь приступить к сниманию скальпа. Естественно, что стюард со своей булкоподобной физиономией, этот отпрыск разорившегося пекаря и больничной сиделки, был человеком очень нервным и пугливым. Постоянное лицезрение тёмного, грозного Ахава и периодические буйные набеги трёх дикарей превратили его жизнь в сплошной трепет. Обычно, снабдив гарпунщиков всем, что им требовалось, он скрывался от них в своей маленькой кладовой и со страхом выглядывал оттуда сквозь занавески на дверцах, покуда трапеза не подходила к концу.
Стоило посмотреть на них, как они сидели, – Квикег против Тэштиго, один ослепительней другого, сверкая ровными зубами; а наискось от них, прямо на полу, – Дэггу, которого любая скамья вознесла бы траурной головой к самому потолку каюты; при каждом движении его исполинского тела потрясались низкие дощатые переборки, словно от шагов перевозимого в трюме африканского слона. Но со всем тем огромный негр отличался удивительной умеренностью, я бы сказал даже – утончённостью. Поразительно было, как это он умудрялся такими небольшими – сравнительно – глотками поддерживать жизнь, разлитую по его громоздкому, царственному, великолепному телу. Надо полагать, этот благородный дикарь мог досыта напитаться и допьяна напиться щедрым воздухом, через расширенные свои ноздри втягивая в себя жизнь из высших сфер. Не на хлебе да мясе вырастают исполины. Другое дело – Квикег; он во время еды вполне по-земному, по-варварски чавкал – звук довольно неприятный, так что дрожащий Пончик невольно принимался разглядывать свои тощие руки: не остались ли на них следы от зубов. А когда раздавался голос Тэштиго, требовавшего, чтоб стюард появился и дал им обглодать свои косточки, простодушного Пончика начинало тут так трясти, что вся посуда, развешенная по стенам кладовой, грозила попадать на пол. Да и оселки, которые носили в карманах гарпунёры, чтобы вострить остроги и прочее оружие, и на которых они во время обеда принимались демонстративно точить свои ножи; эти точильные камни с их визгливыми голосами тоже мало способствовали успокоению бедного Пончика. Разве мог он забыть, например, как Квикег, живя у себя на острове, наверняка был повинен в кое-каких душегубных пиршественных бестактностях? Беда, Пончик, беда! Плохо приходится белому лакею, который должен прислуживать каннибалам. Не салфетку следует ему повесить на левый локоть, а щит. Тем не менее, к величайшей его радости, три морских воителя наконец встают и уходят, и его суеверный, жадный до небывальщины слух улавливает на каждом шагу воинственный звон их костей, точно звон мавританских ятаганов, погромыхивающих в ножнах.
Однако, несмотря на то что эти дикари обедали в капитанской каюте и даже, как считалось, жили здесь, – всё же, будучи от природы отнюдь не оседлыми, они появлялись тут только на время совместных трапез, да ещё перед сном, проходя через каюту в своё собственное жилище.
В этом вопросе Ахав не составлял исключения среди прочих американских капитанов-китоловов, точно так же, как и все они, придерживаясь того мнения, что каюта по праву принадлежит именно ему, а остальные всякий раз допускаются сюда исключительно благодаря его любезности. Так что уж если по правде говорить, то помощники и гарпунёры на «Пекоде» жили не в каюте, а вне её. И, входя, они каждый раз уподоблялись входной двери, которая на мгновение поворачивается внутрь жилища, чтобы тотчас же снова очутиться снаружи, и, как правило, пребывает на открытом воздухе. Да и немного они проигрывали на этом; в каюте царил дух необщительности; кроме как по делу, к Ахаву было не подступиться. Принадлежа формально к христианскому миру, Ахав на деле был ему чужд. Он жил среди людей, как последний медведь-гризли на заселённых людьми берегах Миссури. И подобно тому как этот дикий лесной вождь Логан[147] с уходом весны и лета забирался в дупло и там зимовал, посасывая собственные лапы, так и душа Ахава суровой вьюжной зимой его старости запряталась в дуплистый ствол его тела и сосала там угрюмо лапу мрака.
Глава XXXV. На мачте
Погода держалась отличная; и вот в ходе установленного чередования с другими матросами подошла пора мне в первый раз стоять дозорным на топе мачты.
На всех американских китобойцах дозорных на топах мачт выставляют почти одновременно с выходом из гавани, хотя иной раз больше пятнадцати тысяч миль отделяет судно от промысловых областей. Если же после четырёх-пятилетнего плавания корабль, приближаясь к родным берегам, несёт на борту хоть один пустой сосуд, тогда дозорные у него наверху стоят до последней минуты! и покуда не затеряются его мачты среди портовых кранов, не оставляет корабль надежду добыть ещё одного кита.
Поскольку должность дозорного на верхушке мачты – на суше равно как и в море – очень интересная и древняя, я позволю себе здесь несколько распространиться. Самыми первыми мачтовыми дозорными я считаю древних египтян, так как в моих изысканиях я не обнаружил никого, кого можно было бы считать их предшественниками. Правда, их предки, строители вавилонской башни, несомненно, предприняли в своё время попытку возвести высочайшую во всей Азии, а также и в Африке мачту; однако, поскольку эта грандиозная каменная мачта (ещё до того, как был уложен последний кирпич) рухнула за борт, сбитая грозным штормом божественного гнева, мы не можем поэтому признать приоритет вавилонских строителей. Провозглашая египтян нацией мачтовых дозорных, я основываюсь на весьма распространённом среди археологов мнении, что первые пирамиды были заложены для астрономических целей: такая теория находит убедительное подтверждение в своеобразной лестничной форме этих четырехгранных построек, по которым небывалыми гигантскими шагами, чудовищно высоко подымая ноги, древние астрономы имели обыкновение забираться на самую вершину и оттуда громкими криками возвещать появление новых звёзд, подобно тому как на современном корабле дозорные криками возвещают появление на горизонте паруса, земли или кита. В лице святого Столпника, того знаменитого христианского отшельника прежних времён, который построил себе в пустыне высокий каменный столп и провёл на его вершине весь остаток своей жизни, подтягивая себе пищу на канате, в его лице мы имеем замечательный пример неустрашимого мачтового дозорного, кого ни туманы, ни морозы, ни дождь, ни град, ни метель не могли заставить спуститься и кто, мужественно выстояв до последнего, в буквальном смысле слова, умер на своём посту. В наши дни мачтовые дозорные – это бездушная когорта железных, каменных и бронзовых людей, которые выстоят не дрогнув в любой свирепый шторм, но совершенно не способны оповещать криком об увиденных чудесах. Вот, например, Наполеон, он стоит, скрестив руки, на вершине Вандомской колонны футах в ста пятидесяти над землёй, и ему безразлично теперь, кто правит внизу на палубе, – Луи-Филипп, или Луи Блан, или Луи-сам-чёрт[148]. И великий Вашингтон тоже стоит себе в недосягаемой вышине на верхушке своей величественной грот-мачты в Балтиморе, и, подобно Геркулесову столпу[149], его колонна отмечает предел человеческого величия, который мало кому из смертных дано превзойти. Также и адмирал Нельсон на топе мачты из пушечного чугуна стоит дозором на Трафальгар-сквере; и даже когда лондонский дым совершенно скрывает его из виду, всё же есть признаки, говорящие о том, что невидимый герой остаётся на своём посту, ибо нет дыма без огня. Но ни великий Вашингтон, ни Наполеон, ни Нельсон никогда не ответят, если их окликнуть снизу, как бы отчаянно ни призывали их помочь советом те, кто мечется, обезумев, по палубе у них под ногами; а ведь духовные очи их, надо думать, проникают сквозь густую дымку будущего и различают мели и рифы, которые следует обойти стороной.
Попытка объединить в каком-либо отношении мачтовых дозорных на суше и в море может показаться безосновательной; но что в действительности это вовсе не так, ясно доказывает нам одно соображение, которым снабдил нас Овид Мэйси, единственный историограф острова Нантакет. Достойный Овид рассказывает, что в прежние времена, когда китобойный промысел только зарождался и корабли ещё не пускались в регулярные рейсы в погоне за добычей, жители острова устанавливали в песке вдоль побережья высокие мачты, на которые взбирались дозорные, пользуясь для этой цели планками с гвоздями, вроде того, как куры в курятнике карабкаются кверху на свои насесты. А несколько лет тому назад к такому же способу прибегли китоловы Новой Зеландии – дозорные, заметив кита, давали знак ожидавшим у берега вельботам. Но теперь этот приём устарел, и потому обратимся к единственному настоящему топу мачты, к топу мачты китобойца в море. С восхода до заката стоят дозорные на верхушках всех трёх мачт; матросы сменяют там друг друга (как и у штурвала) через каждые два часа. В тропиках в тихую погоду стоять на мачте чрезвычайно приятно, а для мечтательного, задумчивого человека просто восхитительно. Стоишь себе, на сто футов возвышаясь над безмолвной палубой, словно шагая по бездонной пучине на гигантских ходулях мачт, а внизу между твоих ног проплывают огромные морские чудовища, точно корабли, некогда проходившие между сапогами славного колосса Родосского[150]. Так стоишь ты, затерянный в бесконечности океанов, и только волны нарушают великое спокойствие вокруг. Тихо покачивается дремлющий корабль, дуют сонные пассаты, всё располагает к покою. Во время тропических китобойных плаваний вас обычно окружает полнейшая, величайшая безмятежность; вы не слышите никаких новостей; не читаете газет; экстренные выпуски не волнуют вас попусту сенсационными описаниями заурядных событий; вы не слышите ни о бедствиях в стране, ни о банкротствах, ни о падении акций; и никогда не терзает вас забота о том, чем вы сегодня будете обедать, – ибо на три года вперёд ваше пропитание надёжно упрятано по бочонкам, и на всё это время ваше меню останется неизменным.
В трёх– или четырёхлетнем плавании на китобойце, какие нередко совершаются в водах Южных морей, общее количество часов, проведённых вами на верхушке мачты, подчас равняется нескольким месяцам. Остаётся только пожалеть, что место, где вы проводите такую значительную часть своей жизни, столь прискорбным образом лишено каких бы то ни было удобств, придающих уютную, жилую атмосферу или приятную замкнутость кровати, корабельной койке, похоронным дрогам, будке часового, кафедре проповедника, карете и прочим тесным и уютным приспособлениям, какими пользуются люди в целях временной самоизоляции. Здесь вашим насестом обычно оказывается верхушка грот-мачты, где вы и стоите на двух тонких параллельных брусках (они, кажется, бывают только на китобойцах), называемых топ-краспицами. А волны швыряют корабль, и новичку здесь не уютнее, чем на рогах у быка. Правда, в холода вы можете прихватить с собой наверх свой дом – в виде тёплого полушубка, но ведь, по существу говоря, даже самый тёплый полушубок не больше походит на дом, чем нагое тело; потому что, как душа наша прикреплена внутри своего плотского вместилища и не может свободно в нём передвигаться, тем более выбраться наружу, не подвергаясь сильному риску погибнуть (подобно неопытному путнику, зимой затеявшему перевалить через снежные Альпы), точно так же и полушубок – это не дом наш, а всего лишь конверт или второй слой кожи, покрывающей нас. И как невозможно поместить книжную полку или комод в нашем теле, так и из полушубка вам никогда не сделать уютного кабинета.
В свете всего этого, глубокого сожаления достоин тот факт, что топ мачты китобойца в южных рейсах не снабжён таким маленьким сооруженьицем, вроде скворешника, называемым «вороньё гнездо», какие укрывают дозорных на китобойцах Гренландской флотилии от суровой непогоды Ледовитого океана.
В сочинении капитана Слита, предназначенном для домашнего чтения у камелька и озаглавленном «Плавание среди айсбергов в погоне за гренландским китом с попутной целью вторичного открытия затерянных древнеисландских поселений в Гренландии»[151], в этом восхитительном повествовании дозорные на верхушке мачты пользуются детально описанным «вороньим гнездом», тогда лишь недавно изобретённым и впервые применённым на «Торосе», как назывался славный корабль капитана Слита. Он так и пишет: «Вороньё гнездо Слита», оказывая честь самому себе как изобретателю и держателю патента и полностью отвергая дурацкую ложную скромность; видимо, он считал, что если мы даём наши имена нашим детям (справедливо полагая в данном случае отцов изобретателями и держателями патентов), точно так же следует нам называть в нашу собственную честь и всякое другое наше произведение. По виду вороньё гнездо Слита напоминает большую бочку или трубу, сверху оно открыто, но снабжено передвижным боковым щитком, которым можно заслоняться от ветра во время шторма. Бочку эту устанавливают на самой верхушке мачты, так что забираться в неё приходится через узенький люк в днище. С той стороны, которая обращена к корме, устроено удобное сиденье, и под ним ящик, где хранятся зонты и тёплые вещи. А спереди в стенке имеется что-то вроде кожаного кармана, куда можно класть трубку, рупор, подзорную трубу и прочие мореходные принадлежности. Капитан Слит пишет, что сам он, когда ему случалось стоять дозором в своём вороньём гнезде, всегда брал с собой ружьё (с тем, чтобы его тоже установить, уперев в кожаный карман), пороховницу и дробь на случай неожиданного появления нарвалов, или бродячих морских единорогов, которыми кишат северные воды; дело в том, что с палубы стрелять в них невозможно – волны мешают, – а стрелять сверху – это совсем другое дело. Капитану Слиту явно доставляет удовольствие описывать в мельчайших подробностях все удобства своего вороньего гнезда; однако, хоть он и останавливается на них подолгу, хоть он и угощает нас весьма учёным описанием своих экспериментов с малым компасом, который он держал наверху, чтобы избегнуть ошибок, проистекавших, как он выражался, из «локального притяжения», воздействующего на нактоузные магниты, – ошибок, возникающих из-за горизонтальной близости гвоздей, болтов и скоб в палубе корабля, а на «Торосе» также ещё из-за того, что в составе команды было слишком много спившихся кузнецов, – так вот, говорю я, хотя капитан Слит, проявляя всю свою премудрость и учёность, так и сыплет всевозможными «нактоузными склонениями», «азимутными наблюдениями» и «ошибками в приближении», он сам отлично знает, этот капитан Слит, что он не настолько был погружён в свои глубокомысленные магнитные размышления, чтобы не поддаваться время от времени притягательной силе одной полнёхонькой фляги, которая уютно торчала в этом вороньём гнезде прямо у него под рукой. И потому, хоть в целом я весьма ценю и даже люблю этого отважного, честного и учёного капитана, я считаю, что, с его стороны, очень нехорошо так замалчивать заслуги той фляжки, ведь она была ему верным другом и утешителем, когда в треухе и рукавицах он занимался математикой в птичьем гнезде на мачте всего в каких-нибудь десяти саженях от полюса.
Но если в Южных морях китобойцы и не пользуются такими удобствами, как капитан Слит и его Гренландская флотилия, зато это обстоятельство с лихвой перекрывается преимуществом в погоде – той чарующей, ясной тишью, что царит над южными водами. Обычно, когда подходил мой черёд подменять дозорного, я медленно-медленно начинал карабкаться по вантам, останавливался на марсе, чтобы потолковать с Квикегом или с кем-нибудь другим, кто спускался мне навстречу, потом поднимался ещё немного, потом, лениво перекинув ногу через марса-рей, оглядывал для начала всё водное пастбище, а затем не спеша добирался наконец до своей цели.
Здесь я должен облегчить совесть чистосердечным признанием: дозорный я был никудышный. Как мог я, оставшись наедине с самим собой на такой высоте, где мысли рождались в изобилии, где загадка вселенной целиком овладевала мною, как мог я соблюдать во всей строгости непреложный закон китобойца: «Держи ухо востро и обо всём давай знать на палубу»!
Я должен также от всей души предупредить вас, о судовладельцы Нантакета! Остерегайтесь нанимать на ваши промысловые корабли бледных юношей с высоким лбом и запавшими глазами; юношей, склонных совершенно некстати погружаться в задумчивость; юношей, которые идут в плавание с Федоном[152], а не Боудичем[153] в голове. Остерегайтесь таких, говорю вам: ведь чтобы добыть кита, его нужно сначала увидеть, а этот юный платоник со своими впалыми глазами десять раз обведёт вас вокруг земного шара и ни одной пинтой спермацета не сделает вас богаче. И не думайте, что мои предостережения излишни. Ведь в наши дни китобойный промысел служит убежищем для многих романтично настроенных меланхоличных и рассеянных молодых людей, которые, питая отвращение к тягостным заботам сухопутной жизни, ищут отрады в дёгте и ворвани. И быть может, нередко на мачте неудачливого, разочарованного китобойца стоит сам Чайлд-Гарольд и мрачно восклицает:
Часто бывает, что капитаны принимаются отчитывать этих рассеянных юных философов, укоряя их в том, что они недостаточно «болеют» за успех плавания; что им совершенно чуждо благородное честолюбие, так что в глубине души они даже скорее предпочтут не увидеть кита, чем увидеть. Но всё напрасно: у молодых платоников, кажется, неважно со зрением, они, близоруки, какой же им смысл напрягать зрительный нерв? А свои театральные бинокли они оставили дома.
– Эй ты, мартышка, – сказал однажды гарпунщик одному такому юноше. – Мы уж скоро три года как промышляем, а ты ещё ни одного кита не поднял. Когда ты стоишь наверху, киты попадаются реже, чем зубы у курицы.
Может быть, они в самом деле не попадаются, а может быть, наоборот, плавают целыми стаями; но, убаюканный согласным колыханием волн и грёз, этот задумчивый юноша погружается в такую сонную апатию смутных, рассеянных мечтаний, что под конец перестаёт ощущать самого себя; таинственный океан у него под ногами кажется ему олицетворением глубокой, синей, бездонной души, единым дыханием наполняющей природу и человека; и всё необычное, еле различимое, текучее и прекрасное, что ускользает от его взора, всякий смутно мелькнувший над волнами плавник невидимого подводного существа, представляется ему лишь воплощением тех неуловимых дум, которые в своём неустанном полёте посещают на мгновение наши души. В этом сонном очаровании дух твой уносится назад, к своим истокам; он растворяется во времени и в пространстве, подобно развеянному пантеистическому праху Крэнмера[155], и под конец становится частью каждого берега по всему нашему земному шару.
И вот в тебе нет уже жизни помимо той, какой одаряет тебя тихое покачивание корабля, который сам получил её от моря, а море – от загадочных божьих приливов и отливов. Но попробуй только, объятый этим сном, этой грёзой, чуть сдвинуть руку или ногу, попробуй разжать пальцы, и ты тут же в ужасе вновь ощутишь самого себя. Ты паришь над Декартовыми вихрями[156]. И может статься, в полдень, в ясный, погожий полдень, когда так прозрачен воздух, ты с коротким, сдавленным криком сорвёшься и полетишь головой вниз в тропическое море, чтобы навсегда скрыться в его ласковых волнах. Помните об этом, о пантеисты!
Глава XXXVI. На шканцах
(Входит Ахав; потом остальные)
Однажды утром, вскоре после происшествия с трубкой, Ахав, как обычно, поднялся на шканцы сразу после завтрака. Здесь обыкновенно прогуливаются в это время капитаны, подобно тому как на суше иные господа прохаживаются после завтрака по саду.
И вот его тяжёлые костяные шаги зазвучали на палубе, которая, словно геологические пласты, вся уже была усеяна круглыми углублениями – следами, оставленными этой необычайной поступью. Если же вы решились бы разглядеть попристальнее его ребристый, корявый лоб, то и там увидели бы вы необычайные следы – следы бессонной, неустанной, одинокой мысли.
Но в это утро рытвины у него на лбу казались ещё глубже, чем обычно, и глубже отпечатывались на палубе следы его беспокойных шагов. И так полон был Ахав своей мыслью, что при каждом его привычном повороте – возле грот-мачты и у нактоуза, – казалось, видно было, как эта мысль поворачивается вместе с ним и вместе с ним опять принимается шагать; она настолько владела им, что была словно внутренним прообразом всякого его внешнего движения.
– Взгляни-ка, Фласк, – шёпотом сказал Стабб, – цыплёнок начинает наклёвываться. Скоро вылупится.
Прошло несколько часов. Ахав по-прежнему то сидел запершись в каюте, то расхаживал по палубе всё с той же неистовой, исступлённой решимостью во взоре.
Приближался вечер. И вдруг он застыл у борта, упёршись костяной ногой в пробитое там углубление, а рукой ухватившись за ванты, и приказал Старбеку звать всех на шканцы.
– Сэр, – только и проговорил в недоумении старший помощник, услышав приказ, который на борту корабля даётся лишь в самых исключительных случаях.
– Все на шканцы, – повторил Ахав. – Эй, мачтовые! Спускайтесь вниз!
Когда вся команда собралась и люди с опаской и любопытством стали разглядывать Ахава, грозного, точно штормовой горизонт, он, бросив быстрый взгляд за борт, а потом устремив его в сторону собравшихся, шагнул вперёд и, словно перед ним не было ни живой души, возобновил свою тяжеловесную прогулку по палубе. Опустив голову и надвинув на лоб шляпу, он всё шагал и шагал, не слыша удивлённого шёпота команды, так что под конец Стабб не выдержал и шепнул Фласку, что Ахав собрал их здесь, верно, затем, чтобы сделать свидетелями нового рекорда по ходьбе. Но это продолжалось недолго. Вот он остановился и со страстной значительностью в голосе крикнул:
– Люди! Что делаете вы, когда увидите кита?
– Подаём голос! – согласно откликнулись два десятка хриплых глоток.
– Хорошо! – крикнул Ахав с дикой радостью, заметив общее одушевление, какое вызвал, словно по волшебству, его внезапный вопрос.
– А что потом?
– Спускаем вельботы и идём в погоню!
– Под какую же песню вы гребёте?
– «Убитый кит или разбитый вельбот!»
И с каждым возгласом всё удивительнее, всё неистовее становились радость и одобрение в чертах его лица; а моряки, недоумевая, поглядывали друг на друга, словно сами удивлялись, как это столь бессмысленные, казалось бы, вопросы могли привести их в такое волнение.
И всё-таки они снова, как один, подались в нетерпении вперёд, когда Ахав, полуобернувшись у своего поворотного углубления, перехватив рукой повыше и что было силы судорожно уцепившись за ванты, заговорил так:
– Мачтовые дозорные и раньше слыхали мои приказания относительно белого кита. Теперь глядите все! Видите вы эту испанскую унцию золота? – И он поднял к солнцу большую сверкающую монету. – Ей цена шестнадцать долларов. Все видят её? Мистер Старбек, передайте мне большой молоток.
Пока старший помощник ходил за молотком, Ахав стоял молча и не спеша тёр золотую монету полой своего сюртука, словно для того, чтобы она ещё ярче заблестела, и всё время что-то без слов напевал себе под нос, издавая такие глухие, невнятные звуки, что казалось, это гудят в нём вертящиеся колёса жизни.
Получив от Старбека молоток, он приблизился к грот-мачте и, подняв его кверху в одной руке, а другой протягивая перед собой монету, громким, пронзительным голосом воскликнул:
– Тот из вас, кто первый увидит белоголового кита со сморщенным лбом и свёрнутой челюстью; тот из вас, кто первым даст мне знать о белоголовом ките с тремя пробоинами у хвоста по правому борту; тот из вас, говорю я, кто первый увидит белого кита, тот получит эту унцию золота, дети мои!
– Ур-ра! Ур-ра! – кричали матросы, приветственно размахивая зюйдвестками, покуда Ахав прибивал монету к мачте.
– Белый Кит, говорю я, – повторил капитан, роняя на палубу молоток. – Белый Кит. Глядите во все глаза, матросы. Высматривайте белую воду. Чуть только заметите хотя бы один пузырёк, подавайте голос.
Всё это время Тэштиго, Дэггу и Квикег слушали его с большим вниманием и интересом, чем остальные, а теперь, при словах о сморщенном лбе и свёрнутой челюсти, каждый из них вздрогнул, будто пронзённый каким-то своим, отдельным воспоминанием.
– Капитан Ахав, – заговорил Тэштиго, – этот Белый Кит не тот ли самый, которого называют некоторые Моби Дик?
– Моби Дик? – вскричал Ахав. – Так ты, значит, знаешь этого кита, Тэш?
– Он взмахивает на особый манер хвостом, сэр, перед тем, как уйти под воду? – спросил индеец.
– И фонтан у него особенный, верно, капитан Ахав? – подхватил Дэггу. – Кустистый даже для кашалота и очень сильный.
– И в шкура у него один, два, три – о, много-много гарпун, а капитан? – несвязно прокричал Квикег. – И всё такая крути-верти… похожий на… на… – и, не находя слова, он стал вращать рукой, словно раскупоривая бутылку, – похожий на… на…
– На штопор! – воскликнул Ахав. – Верно, Квикег, у него в теле много гарпунов, и все перекрученные и погнутые; верно, Дэггу, фонтан у него большой, словно целая копна пшеницы, и белый, как гора овечьей шерсти у нас в Нантакете в пору ежегодной стрижки; верно, Тэштиго, ныряя, он высоко вскидывает хвост, точно это лопнувший кливер треплется в шквал. Смерть и дьяволы! Это Моби Дик! Моби Дик! Моби Дик!
– Капитан Ахав, – проговорил Старбек, который всё это время стоял вместе с Фласком и Стаббом и разглядывал своего командира со всё возраставшим изумлением, но теперь вдруг нашёл как будто бы наконец какое-то объяснение происходящему. – Капитан Ахав, я тоже слыхал о Моби Дике. Не тот ли это Моби Дик, что оставил тебя без ноги?
– Кто говорил тебе об этом? – вскричал Ахав, но потом, помолчав, сказал: – Верно, Старбек, верно, молодцы мои, это Моби Дик сбил мою мачту, Моби Дик поставил меня на этот безжизненный обрубок. Верно, верно! – повторил он с каким-то жутким, нечеловеческим, громким рыданием в голосе, словно поражённый в самое сердце матёрый лось. – Верно, это он, проклятый Белый Кит, обстриг мою палубу, превратил меня на веки вечные в жалкого, неуклюжего калеку! – И, воздев руки ввысь, он выкрикнул свои безмерные проклятия: – Да! И я буду преследовать его и за мысом Доброй Надежды, и за мысом Горн, и за норвежским Мальштремом, и за пламенем погибели, и ничто не заставит меня отказаться от погони. Вот цель нашего плавания, люди! Гоняться за Белым Китом по обоим полушариям, покуда не выпустит он фонтан чёрной крови и не закачается на волнах его белая туша. Что скажете вы, матросы? Готовы ли вы ударить по рукам? С виду вы храбрые люди.
– Готовы, готовы! – подхватили гарпунщики и матросы, подавшись вперёд, навстречу неистовому капитану. – Гляди в оба и бей без промаха по белому киту!
– Благослови вас бог, люди! – не то рыдания, не то восторг звучали в его голосе. – Благослови вас бог. Эй, стюард! Неси сюда рому! Мистер Старбек, почему омрачилось твоё лицо? Или ты не согласен преследовать белого кита? Не готов померяться силами с Моби Диком?
– Я готов померяться силами с его кривой пастью и пастью самой смерти тоже, капитан Ахав, если это понадобится для нашего промысла, но я пришёл на это судно, чтобы бить китов, а не искать отмщения моему капитану. Сколько бочек даст тебе твоё отмщение, капитан Ахав, даже если ты его получишь? Не многого будет оно стоить на нашем нантакетском рынке.
– Нантакетский рынок! Что мне за дело до него? Но подойди ко мне, Старбек, здесь надо копнуть поглубже. Пусть деньги мера успеха, друг, пусть счетоводы сводят свой баланс в этой конторе – нашей планете, опоясав её всю золотыми гинеями – по три штуки на дюйм, – всё равно и тогда, говорю я тебе, и тогда отмщение принесёт мне прибыль здесь!
– Он колотит себя в грудь, – шепнул Стабб. – Это ещё зачем? Звук-то получается сильный, да какой-то полый.
– Мстить бессловесной твари! – воскликнул Старбек. – Твари, которая поразила тебя просто по слепому инстинкту! Это безумие! Капитан Ахав, питать злобу к бессловесному существу, это богохульство.
– Опять послушай то, что лежит глубже. Все видимые предметы – только картонные маски. Но в каждом явлении – в живых поступках, в открытых делах – проглядывают сквозь бессмысленную маску неведомые черты какого-то разумного начала. И если ты должен разить, рази через эту маску! Как иначе может узник выбраться на волю, если не прорвавшись сквозь стены своей темницы? Белый Кит для меня – это стена, воздвигнутая прямо передо мною. Иной раз мне думается, что по ту сторону ничего нет. Но это неважно. С меня довольно его самого, он шлёт мне вызов, в нём вижу я жестокую силу, подкреплённую непостижимой злобой. И вот эту непостижимую злобу я больше всего ненавижу; и будь белый кит всего лишь орудием или самостоятельной силой, я всё равно обрушу на него мою ненависть. Не говори мне о богохульстве, Старбек, я готов разить даже солнце, если оно оскорбит меня. Ибо если оно могло меня оскорбить, значит, и я могу поразить его; ведь в мире ведётся честная игра, и всякое творение подчиняется зову справедливости. Но я неподвластен даже и этой честной игре. Кто надо мной? Правда не имеет пределов. Не гляди ты на меня так, слышишь? Взгляд тупицы ещё непереносимее, чем дьяволов взгляд. Ага, вот ты уже краснеешь и бледнеешь; мой жар раскалил в тебе гнев. Послушай, Старбек, сказанное в пылу гнева не оставляет следов. Есть люди, чьи горячие слова не унижают. Я не хотел сердить тебя. Забудь об этом. Взгляни на эти турецкие скулы, расцвеченные пятнистым загаром, – целые одушевлённые картины, начертанные солнцем. О, эти леопарды-язычники, эти безумные, безбожные существа, которые не ведают и не ищут смысла в своей огненной жизни! Взгляни на команду, друг Старбек! Разве все они не заодно с Ахавом против Белого Кита? Погляди на Стабба! он смеётся! Погляди вон на того чилийца! он просто давится от смеха. Может ли одинокое деревце выстоять в таком урагане, Старбек? Да и о чём тут идёт речь? Подумай сам. Нужно только добыть кита – невелико дело для Старбека. Только и всего. Может ли быть, чтобы первый гарпун Нантакета не принял участия в охоте, когда каждый матрос уже взялся за оселок? А-а! Вижу, смущение овладело тобой; тебя подхватил высокий вал! Говори же, говори! Да, да, ты молчишь, твоё молчание говорит за тебя. (В сторону): Что-то выбилось у меня из расширенных ноздрей, – и он вдохнул это. Теперь Старбек мой; теперь ему придётся подчиниться, либо пойти на открытый бунт.
– Спаси меня, господь, – еле слышно пробормотал Старбек. – Спаси нас всех, господь.
Но, торжествуя и радуясь немой покорности своего зачарованного помощника, Ахав не слышал ни его зловещего восклицания, ни тихого смеха из трюма, ни грозного гудения ветра в снастях; он не слышал даже, как заполоскались, захлопали вдруг по мачте обвисшие паруса, словно они на мгновение пали духом. Снова загорелись упорством жизни опущенные глаза Старбека, замер подземный хохот, ветер наполнил тугие паруса, и снова плыл уже вперёд корабль, вздымаясь и покачиваясь на волнах. О вы, знаки и предостережения! почему, появившись, вы спешите исчезнуть? Вы не предостерегаете, о тени, вы просто указываете нам будущее! И не столько указываете будущее, сколько подтверждаете уже происшедшее в душе нашей. Ибо внешний мир только слегка сдерживает нас, а влекут нас вперёд лишь самые глубинные нужды нашего существа!
– Рому! Рому! – воскликнул Ахав.
И, взяв из рук стюарда до краёв наполненный жбан, он повернулся к гарпунщикам и приказал им обнажить гарпуны. Потом, выстроив их троих с гарпунами в руках прямо против себя, у шпиля, в то время как трое помощников с острогами встали рядом с ним, а остальная команда окружила их плотным кольцом, капитан Ахав несколько мгновений молча разглядывал лица своих подчинённых. И глаза, встречавшие его взор, горели диким огнём, словно красные зрачки койотов, устремлённые на вожака, который бросится сейчас впереди всей стаи по бизоньему следу, чтобы попасть, увы! в запрятанную индейцами западню.
– Выпей и передай соседу! – вскричал Ахав, протягивая жёлтый сосуд стоящему поблизости матросу. – Пусть пьёт вся команда. По кругу передавай, по кругу! Отхлёбывай поживей, да не спеши глотать; это жжёт, как копыто сатаны. Вот так! Питьё идёт по кругу – отлично! Оно бежит внутри вас спиралью и, раздваиваясь, выглядывает по-змеиному из ваших глаз. Прекрасно, вот уже и дно показалось. Туда ушла кружка, а возвратилась отсюда. Передай её мне, – э, да она пуста! Матросы, вы – точно годы; без следа поглотили полную чашу жизни. Стюард, наполни жбан!
Смирно теперь, храбрецы мои! Я собрал вас здесь у шпиля; вы, помощники, стойте подле меня со своими пиками; а гарпунщики пусть стоят там со своими гарпунами; а вы, бравые моряки, плотней обступите меня, чтобы я мог воскресить благородный обычай рыбаков, моих предков. Люди! Я покажу вам… ого! жбан опять возвратился? И фальшивая монета не возвратится быстрее. Давайте его сюда. Я бы снова, наполнив, пустил его по кругу, да я не приспешник святого Витта. Прочь, лихорадка трясучая! Сюда, помощники мои! Скрестите передо мной ваши остроги. Вот так! Дайте мне коснуться оси, – говоря это, он протянул руку, ухватил три ровных сверкающих остроги в центре их пересечения и внезапно сильно дёрнул их к себе, переводя напряжённый взгляд со Старбека на Стабба, со Стабба на Фласка. Казалось, своей чудовищной внутренней волей он пытался передать им ту огненную страстность, которая скопилась в лейденской банке его собственной магнетической жизни. Трое помощников не выдержали его пристального, долгого, непостижимого взгляда. Стабб и Фласк отвели глаза в сторону; честный Старбек потупился.
– Всё тщетно! – воскликнул Ахав. – Но, может быть, это к лучшему. Быть может, стоило вам хоть однажды принять полный разряд, и тогда мой магнетизм улетучился бы из груди моей. Может статься, к тому же он поразил бы вас насмерть. Может статься, вам нет в нём нужды. Опустите остроги! А теперь, мои помощники, я назначаю вас виночерпиями трём моим родичам-язычникам, вот этим трём благороднейшим, знатнейшим господам – моим доблестным гарпунёрам. Вы гнушаетесь таким назначением? А как же великий папа омывает ноги нищим, пользуясь собственной тиарой вместо кувшина? О мои любезные кардиналы! вы сами милостиво снизойдёте до этого. Я не приказываю вам – вы по собственной воле сделайте это. Эй, гарпунёры! перерубите бечёвку и отделите древки от наконечников.
Безмолвно повинуясь приказу, гарпунёры, отделив древки, подняли перед собою остриями кверху трехфутовые металлические лезвия своих гарпунов.
– Эй, вы так заколете меня! Переверните их, переверните остриями вниз! Так, чтобы получились кубки! Кверху раструбами. Вот так. Теперь вы, виночерпии, приблизьтесь. Возьмите у них из рук эти кубки; держите, пока я наполню их! – И, медленно переходя от одного к другому, он до краёв наполнил раструбы перевёрнутых гарпунов огненной влагой из большой кружки. – А теперь встаньте, вы шестеро, друг против друга. Передавайте смертельные чаши! Примите их – отныне вы связаны нерасторжимым союзом. Ну что, Старбек? Дело сделано! Солнце готово скрепить этот союз своим закатом. Пейте, гарпунёры! Пейте, вы, чьё место на смертоносном носу вельбота! Пейте и клянитесь: Смерть Моби Дику! Пусть настигнет нас кара божия, если мы не настигнем и не убьём Моби Дика!
Гарпунщики подняли длинные, колючие, стальные кубки; и под крики и проклятия Белому Киту, крякнув, разом их осушили. Старбек побледнел и, вздрогнув, отвернулся. И снова, в последний раз, в обезумевшей толпе пошёл по кругу полный жбан; потом Ахав взмахнул свободной рукой, все разошлись, и капитан спустился в каюту.
Глава XXXVII. Закат
(В каюте у кормового иллюминатора сидит Ахав и смотрит за борт)
– Белый, мутный след тянется у меня за кормой, бледные волны, побледневшие щёки – всюду, где б я ни плыл. Завистливые валы вздымаются с обеих сторон, спеша перекрыть мой след; пусть, но не прежде, чем я пройду.
Там, вдали у краёв вечно полного кубка, вином алеют тёплые волны. Золотое чело погружается в синеву. Солнце-ныряльщик медленно ныряет с высоты полудня и уходит вниз; но всё выше устремляется моя душа, изнемогая на бесконечном подъёме. Что же, значит, непосильна тяжесть короны, которую я ношу? этой железной Ломбардской короны?[157] А ведь она сверкает множеством драгоценных каменьев; мне, носящему её, не видно её сияния; я лишь смутно ощущаю у себя на голове её слепящую силу. Она железная, не золотая – это я знаю. Она расколота – это я чувствую: зазубренные края впиваются, мозг, пульсируя, бьётся о твёрдый металл; о да, мой череп – из прочной стали, мне не надобен шлем даже в самой сокрушительной схватке!
Сухой жар охватил моё чело. А было время, когда восход звал меня на благородные дела и закат приносил покой. Теперь не то. Этот небесный свет не для меня. Красота причиняет мне только страдание; мне не дано радоваться ей.
Одарённый высшим пониманием, я лишён земной способности радоваться; проклят изощреннейшим, мучительным проклятием, проклят среди райских кущ! Что ж, доброй ночи, доброй ночи! (Махнув рукой, он отходит от иллюминатора).
Это было не слишком уж трудно. Я думал, хоть один-то упрямый окажется; но нет – мой зубчатый круг пришёлся впору для всех колёс и все их привёл во вращение. Или же можно сказать, что они стоят передо мной, словно кучки пороху, а я для них – спичка! Жаль только: чтобы воспламенить других, спичка и сама сгорает! Я решился на то, чего желаю, а чего я желаю, того я добьюсь! Они считают меня безумцем – Старбек, например; но я не просто безумный, я одержимый, я – само обезумевшее безумие. То неистовое безумие, какое здраво осознаёт только самое себя! Мне было предсказано, что я получу увечье, и вот я без ноги. Теперь же я сам предсказываю, что тот, кто нанёс мне увечье, будет изувечен мною. Пусть же предсказатель сам исполнит предсказание. На это вы, великие боги, никогда не были способны. Я осмею и освищу вас, игроки в крокет, кулачные бойцы, глухие Бэрки и ослеплённые Бендиго![158] Я не стану говорить вам, как маленькие школьники великовозрастным задирам: «Найдите себе противника по росту, что вы пристали к маленькому»? О, нет, вы сбили меня с ног, да только я снова поднялся; но вы-то, вы убежали и попрятались. Выходите из своих укрытий! У меня нет большой пушки, чтобы достать вас за грудой мешков с хлопком. Выходите, Ахав шлёт вам свой привет! И посмотрим, заставите ли вы меня свернуть. Меня заставить свернуть? Это вам не под силу, скорее вы сами свихнётесь; вот оно, превосходство человека. Меня заставить свернуть? Путь к моей единой цели выложен стальными рельсами, и по ним бегут колёса моей души. Над бездонными пропастями, сквозь просверлённое сердце гор, под ложем быстрого потока мчусь я вперёд! И нет ни преград, ни поворотов на моём железном пути!
Глава XXXVIII. Сумерки
(Старбек стоит, прислонившись спиной к грот-мачте)
– Душа моя покорена, подавлена, и кем? Безумцем! Как перенести оскорбление? Здравый ум должен был сложить оружие в этой битве! Он глубоко пробурил и подорвал во мне весь рассудок. Мне кажется, я вижу его нечестивый конец; но на меня как бы возложено помочь ему добраться до этого конца. Хотел бы я того или нет, я теперь связан с ним таинственными узами; он ведёт меня на буксире, и у меня нет такого ножа, который перерезал бы канат. Страшный старик! «Кто надо мной?» – кричит он; да, этот будет демократом со всеми, кто выше, чем он; но посмотрите только, какой деспот он со своими подчинёнными! О, как ясна мне моя жалкая роль – подчиняться, восставая, и, мало того, ненавидеть, испытывая жалость. Ибо в глазах его вижу я грозовые отсветы такой скорби, которая мне бы спалила всю душу. А ведь надежда ещё не потеряна. Времени много, а время творит чудеса. Его ненавистный кит плавает по всей планете, как плавают золотые рыбки в своём стеклянном шаре. И может быть, вмешательство божие ещё расколет в щепы эти святотатственные планы. Я бы воспрянул духом, когда бы дух мой не был тяжелее свинца. Кончился завод внутри меня, опустилась гиря-сердце, и нет у меня ключа, чтобы снова поднять её. (С бака доносится взрыв веселья.)
О бог! Плыть с такой командой дикарей, почти не перенявших человеческих черт от смертных своих матерей. Ублюдки, порождённые свирепой морской пучиной! Белый Кит для них – их жуткий идол. Ого, как они беснуются! Какая оргия идёт там на носу! а на корме стоит немая тишина! Думается мне, такова и сама жизнь. Вперёд по сверкающему морю мчится ликующий, зубчатый, весёлый нос корабля, но только затем, чтобы влачить за собой мрачного Ахава, который сидит у себя в каюте на корме, вздымающейся над его пенным безжизненным следом и, словно стаей волков, преследуемой рокотанием волн! Их протяжный вой меня просто за сердце берёт. Довольно, вы, весельчаки! все по местам! О жизнь! Вот в такой час, когда душа повержена и угнетена познанием, каким питают её дикие, грубые явления, – в такой час, о жизнь! начинаю я чувствовать в тебе сокровенный ужас! Но он чужд мне! этот ужас вне меня! Я человек, я слаб, но я готов сразиться с тобой, суровое, призрачное завтра! Поддержите меня, подкрепите, препояшьте меня, о вы, благословенные влияния!
Глава XXXIX. Ночная вахта
(Стабб на фор-марсе подтягивает брас; про себя)
– Ха! Ха! Ха! Ха! Хм! что это, охрип я, что ли? Я всё время думал об этом и вот: ха-ха-ха – всё, что я могу по этому поводу сказать. А почему? Да потому, что смех – самый разумный и самый лёгкий ответ на всё, что непонятно на этом свете; и будь что будет, а утешение всегда остаётся, одно безотказное утешение: всё предрешено. Я не слышал толком, что он говорил Старбеку, но на мой неучёный взгляд, Старбеку пришлось не лучше, чем мне нынешним вечером. Ясное дело, старый Могол его тоже обработал. А ведь я знал, что так и будет, я видел; мне, вроде, откровение было, так что впору хоть пророчества изрекать; как только увидел, какой у него череп, так всё и понял. Ну, так что ж, Стабб, умница Стабб, – это мой титул, – что же с того, Стабб? В общем-то, дело ясное. Мне неизвестно толком, чем всё это кончится, но что бы там ни было, я иду навстречу концу смеясь. Как посмотришь, до чего же уморительные все эти будущие ужасы! Смешно, ей-богу! Тра-лала! Ха-ха-ха! Что-то поделывает сейчас дома моя сочная ягодка? Выплакала свои глазки? Или же угощает винцом возвратившихся из плавания гарпунёров и веселится, что твой вымпел на ветру? Вот и я тоже веселюсь – трала-ла! Ха-ха-ха! Эх!..
Славный куплет! Кто там зовёт меня? Мистер Старбек? Слушаюсь, сэр! (в сторону): Он моё начальство, но и над ним, если не ошибаюсь, тоже кое-кто есть. Иду, сэр, вот сейчас только ещё разок подтяну – вот и всё – иду, сэр!
Глава XL. Полночь на баке
Гарпунёры и матросы.(Поднимается фок, и теперь видна ночная вахта – на баке в самых различных позах стоят, сидят, лежат люди; все хором поют.)
1-й матрос с Нантакета. Эй, ребята, что это вы тоску наводите? Только животы расстраиваете. Ну-ка, подтягивайте для бодрости! (Поёт и все подхватывают.)
Голос старшего помощника со шканцев. Эй, на баке! Пробить восемь склянок!
2-й матрос с Нантакета. Помолчите, вы! Восемь склянок; слышишь, малый? Эй, Пип, пробей-ка восемь раз в свой колокол, черномазый! А я пойду подыму подвахтенных. У меня для такого дела глотка как раз подходящая. Как гаркну – что твоя пушка! Ну-ка, ну-ка (просовывает голову в люк). Первая вахта! Эхой, ребята! Восемь склянок пробили! По-ды-майсь!
Матрос голландец. Ну и здоровы же они сегодня спать, приятель. Это всё вино старого Могола, я так считаю. Одних оно насмерть глушит, другим жару поддаёт. Мы вот поём; а они спят, да ещё как! Завалились, чисто колоды. Ну-ка, угости их ещё разок! Вот тебе брандспойт – кричи в него. Им красотки снятся, вот расставаться и неохота. Крикни, что пора воскреснуть; пусть поцелуются напоследок и являются на Страшный Суд. Ну-ка, ну-ка. Вот это так гаркнул! Да-а, у тебя глотка амстердамским маслом не испорчена.
Матрос француз. Знаете что, ребята? Давайте-ка спляшем с вами джигу, прежде чем бросать якорь в Постельной Гавани. Согласны? А вот и новая вахта. Становитесь-ка все! Пип! Малый! Тащи сюда свой тамбурин!
Пип (недовольный и сонный). Да не знаю я, куда он делся.
Матрос француз. Ну так колоти в своё брюхо да хлопай ушами! Спляшем, братцы! Повеселимся вволю! Ур-ра! Чёрт меня подери, кто не хочет с нами плясать? Давай, ребята, становись гуськом, скачи да притопывай! Выше ноги! Шевелись!
Матрос исландец. Мне, брат, такой пол не подходит; он под ногой поддаётся. Ты уж меня извини, что я тебя расхолаживаю, только я привык танцевать на льду.
Матрос мальтиец. И меня, брат, уволь. Какая же пляска без девушек? Только последний дурак станет пожимать себе правой рукой левую и приговаривать: «Здравствуйте». Нет, мне так подавай девушек!
Матрос сицилиец. Вот-вот. Девушек! И чтоб лужайка была! – тогда я готов прыгать хоть до утра, не хуже кузнечика.
Матрос с Лонг-Айленда. Ладно, ладно, привередники, мы и без вас обойдёмся. Жни, где можешь, говорю я. Вот сейчас соберём мы ногами обильную жатву. А вот и музыка. Ну, начали!
Матрос с Азорских островов(появляется в люке с тамбурином в руках). Держи-ка, Пип. И вот тебе вымбовки от шпиля. Полезай вот сюда! Ну, ребята, пошли! (Половина из них пляшет под тамбурин; некоторые спускаются в кубрик; другие валяются на палубе среди снастей; кое-кто уснул. Звучит смачная ругань.)
Матрос с Азорских островов(танцуя). Давай-давай, Пип! Бей сильнее, малый! Бей веселей, колоти, не жалей! Чтобы искры летели! Чтобы все бубенцы повысыпались!
Пип. Они и так сыплются. Вот ещё один оторвался – разве можно так сильно колотить?
Матрос китаец. Тогда зубами брякай да стучи громче. Сделайся пагодой, Пип!
Матрос француз. Веселись как чёрт! Ну-ка, подыми свой обруч, Пип, я через него прыгну! Эй, лопни все паруса! Рви! Жги!
Тэштиго (спокойно курит). Вот это белые люди называют весельем. Гм! Я лично пот проливать понапрасну не стану.
Старый матрос с острова Мэн. Пляшут здесь эти весёлые ребята, а думают ли они о том, что находится у них под каблуками? «Я ещё спляшу на твоей могиле» – что может быть страшнее этой угрозы, которую крикнет иной раз нам вслед уличная тварь на перекрёстке, где она борется с ночным ветром. Господи! Как подумаешь о позеленевших подводных флотилиях, о грудах увитых водорослями черепов! Ну что ж. Видно, весь мир – это бал, как говорят люди учёные; значит, так и надо, чтобы все плясали. Пляшите, пляшите, ребята, пока вы молоды. Был когда-то молод и я.
3-й матрос с Нантакета. Уф, передышка! – да, это потяжелее, чем выгребать в штиль за китом. Дай-ка затянуться, Тэштиго. (Они перестают плясать и собираются кучками. Между тем небо нахмурилось; усилился ветер.)
Матрос индус. О Брама! Видно, сейчас нам прикажут убирать паруса, ребята. Небеснорожденный полноводный Ганг, оборотившийся ветром! Ты явил нам своё тёмное чело, о Шива!
Матрос мальтиец(развалясь на палубе и помахивая зюйдвесткой). Глядите, а теперь и волны – в белоснежных чепчиках – принимаются плясать джигу. Сейчас начнут скакать. Вот если бы все волны были женщинами, я б тогда с радостью, мы бы уж наплясались вместе с ними вдоволь. Разве может быть что лучше на свете, – даже царствие небесное, – чем когда мелькают в танце разгорячённые пышные груди, когда прикрывают скрещённые руки такие спелые сочные гроздья!
Матрос сицилиец(приподнявшись на локте). Ох, не говори мне об этом! Помнишь, а? на лету переплетаются руки и ноги, покачиваются гибко, в смущении трепещут! Уста к устам, сердце к сердцу, бедро к бедру! Всему есть пища: мимолётное касание. А отведать нельзя, не то наступит пресыщение. Верно, ты, язычник? (Толкает того локтем.)
Матрос таитянин(лёжа на циновке). Благословенна будь святая нагота наших танцовщиц! Хива-Хива! О ты, окутанный туманным покрывалом, высокими пальмами поросший Таити! Вот и сейчас я отдыхаю на твоей циновке, но уж нет подо мной твоей мягкой почвы! Я видел, как плели тебя в лесу, циновка! Ты была зелёной в тот день, когда я принёс тебя из лесу; а теперь ты вытерлась и пожухла. Горе нам! Ни ты, ни я, мы не можем снести такой перемены! Что же будет с нами, когда мы очутимся на небе? Но что я слышу? Так ревут бешеные потоки, низвергаясь по утёсам с вершины Пирохити и затопляя селения! Вот так рвануло! Встанем во весь рост навстречу ветру! (Вскакивает на ноги.)
Матрос португалец. С какой силой ударяют в борт волны! Готовься, ребята, сейчас будем брать рифы! Ветры только ещё скрестили шпаги, а теперь вот начнётся самая схватка.
Матрос датчанин. Потрескивай, поскрипывай, старая посудина! Покуда ты скрипишь, ты жива. Молодчина! Старший помощник направил тебя как надо. Он испугался не больше, чем форт, поставленный у входа в Каттегат, чтобы воевать против Балтики пушками, у которых на исхлёстанных штормами жерлах запеклась морская соль!
4-й матрос с Нантакета. Да, только и он ведь исполняет приказ. Я слыхал, как старый Ахав учил его всегда резать шквал – вроде как палят из пушки по водяному смерчу, – прямо ударить судном шквалу в самое сердце!
Матрос англичанин. Вот это я понимаю! Да, наш старик – парень что надо. Уж мы ему добудем этого кита!
Все. Верно! Верно!
Старый матрос с острова Мэн. Ух, как дрожат наши три сосны! Сосна труднее другого дерева приживается на чужой почве, а здесь у нас только и есть почвы, что бренная матросская плоть – тлен да прах. Было прахом – будет прахом. Эй, рулевой! Крепче держи руль! В такую погодку разрываются храбрые сердца на берегу и раскалываются в море крутоносые корабли. Взгляни-ка, ребята, у нашего капитана есть родимое пятно, а вон там, в небе, другое такое же: вон, вон светится бледным светом, а кругом-то всё чёрно, хоть глаз выколи.
Дэггу. Ну так что ж? Кто боится чёрного, тот боится меня! Я сам вырублен из цельного куска черноты!
Матрос испанец(в сторону). Опять он кичится своей силищей. А тут ещё старая обида гложет мне сердце (подходит к Дэггу). Что верно, то верно, гарпунщик, твоя раса – это чёрное пятно на человеческом роде, чернее дьявола, не в обиду тебе будь сказано.
Дэггу (зловеще). Меня не обидишь.
Матрос из Сант-Яго. Испанец спьяну ума лишился. Да только откуда бы? Выходит, у него в голове жидкое пламя нашего старого Могола не сразу расходилось.
5-й матрос с Нантакета. Что это сверкнуло? Верно, молния?
Матрос испанец. Да нет, это Дэггу оскалил зубы.
Дэггу (бросается на него). А ты у меня сейчас все свои зубы проглотишь, мелюзга! Белая шкура – бледная немочь!
Матрос испанец(не отступая). Ох, с каким же удовольствием я всажу в тебя нож! Каланча трусливая!
Все. Дерутся! Дерутся!
Тэштиго (выпуская дым). Внизу драка и наверху драка, там боги, тут люди, любят пошуметь – и те и другие! Пуф-ф!
Матрос из Белфаста. Драка! Ур-ра! Святая дева, драка! Бей его!
Матрос англичанин. По правилам! Отберите у испанца нож! В круг, становитесь в круг!
Старый матрос с острова Мэн. Стали в круг, как по команде. Вот оно, кольцо горизонта! В этом кольце Каин поразил Авеля. Отличная работа, правильная работа! А если нет, то для чего же ты, бог, создал это кольцо?
Голос старшего помощника со шканцев. Марсовые к вантам! Убрать брамсели и бом-брамсели! Взять рифы у марселей!
Все. Шквал! Шквал идёт! Живей, красавцы! (Разбегаются.)
Пип (в страхе забился под шпиль). Красавцы? Хороши красавцы, господи спаси! Трах-бах! это кливер-леер лопнул. Бум-бах! Господи! Забейся поглубже, Пип, это спускают бом-брам-рей. Здесь ещё пострашнее, чем под Новый год в лесу во время бури! Разве тут хватит духу лазить за каштанами? А вот они лезут и ругаются на чём свет стоит, а я сижу здесь. Им же лучше, они уже на полдороге к небесам. Держись крепче! Ух ты! Ну и шквал! Но эти люди, они ещё пострашнее – хуже белых штормовых валов. Белые валы, Белый Кит – чур меня, чур! Послушал я тут, как они толковали о белом ките, – чур, чур меня! – вот только недавно, нынче вечером, а уж меня всего трясёт, не хуже, чем мой тамбурин. Этот старый аспид заставил всех поклясться, что они с ним заодно. О, большой белый бог где-то там в тёмной вышине, смилуйся над маленьким чёрным мальчиком здесь внизу, спаси его от всех этих людей, у которых не хватает духу бояться!
Глава XLI. Моби Дик
Я, Измаил, был в этой команде; в общем хоре летели к небу мои вопли; мои проклятия сливались с проклятиями остальных; а я орал всё громче и заворачивал ругательства всё круче, ибо в душе у меня был страх. Извне пришло ко мне и овладело мною всесильное мистическое чувство: неутолимая вражда Ахава стала моею. И я с жадностью выслушал рассказ о свирепом чудовище, которому я и все остальные поклялись беспощадно мстить.
Вот уже много лет, как одинокий Белый Кит появлялся время от времени в тех безлюдных водах, куда заплывали изредка только китоловы в погоне за кашалотами. Но и среди них не все знали о его существовании; видели его сравнительно немногие; а число тех, кто когда-либо отважился и сумел дать ему бой, было совсем ничтожно. Ибо великое множество промысловых судов, разбросанных без всякого порядка по всей водной сфере, из которых многие гонялись за своей опасной добычей на пустынных широтах, где иной раз за целые двенадцать месяцев не встретишь ни паруса и не услышишь ни единой новости; необычайная длительность китобойных рейсов; неопределённые сроки отплытия и прибытия – всё это в сочетании с другими воздействиями, прямыми и косвенными, издавна затрудняло распространение в мире китобоев точных и подробных сведений о Моби Дике. Не подлежит сомнению, что отдельные суда сообщали о своих столкновениях, в такое-то время и под таким-то меридианом, с кашалотом, отличавшимся чрезвычайной величиной и свирепостью, который, причинив напавшим на него немалый ущерб, в конце концов скрывался от них; и многие считали вполне вероятным, что кашалот этот и есть не кто иной, как Моби Дик. Однако, благодаря тому обстоятельству, что за последнее время охотниками за кашалотами было отмечено немало случаев проявления величайшей свирепости, хитрости и злобы со стороны преследуемых китов, многие из числа тех, кому случилось по неведению вступить в схватку с Моби Диком, предпочитали относить весь ужас таких столкновений за счёт опасностей охоты на кашалотов вообще, а не за счёт данного отдельного животного. Именно в таком свете и рассказывалась обычно история о гибельной стычке между Ахавом и китом.
Вначале те китобои, кому случалось, уже наслышавшись о Белом Ките, встретить его в дальних морях, обязательно спускали вельботы и уходили в погоню, страшась и опасаясь его ничуть не больше, чем всякого другого кашалота. Но страшные бедствия, вызванные такой охотой, – не только вывихи запястий и лодыжек, переломы костей, потеря руки или ноги, – но самые губительные, смертельные опасности и сокрушительный отпор, который не раз получали люди от Моби Дика, – всё это, накапливаясь и усугубляя его жуткую славу, поколебало в конце концов отвагу многих смелых добытчиков.
Всевозможные ужасные слухи только преувеличивали и сгущали то истинное, что было в рассказах о столкновениях с Моби Диком. Ведь любое удивительное и страшное событие неизменно даёт почву для возникновения всевозможных невероятнейших слухов – так на разбитом стволе дерева вырастают грибы и лишайники; а тем более в море, где самые дикие слухи возникают в значительно больших количествах, чем на terra firma[159], если только есть для них хотя бы маленькая зацепка в реальной жизни. И насколько море превосходит в этом отношении сушу, настолько же китобои превосходят всех остальных моряков чудовищностью и неправдоподобностью своих рассказов. Потому что китобоям не только свойственны обычные среди мореплавателей невежество и суеверия – им чаще и ближе, чем другим морякам, приходится сталкиваться со всем ужасным и непостижимым, что только есть в океанах, не только разглядывать, очутившись с ними лицом к лицу, величайшие морские чудеса, но и вступать с ними – руки против зубов – в смертельные битвы. Затерянный в далёких морях, где можно проплыть тысячу миль, миновать тысячу берегов и нигде не найти резной каминной плиты или другого гостеприимного знака под солнцем; на тех долготах и широтах, где ему приходится заниматься своим нелёгким делом, китолов оказывается во власти таких влияний, которые порождают у него в душе немало могущественнейших вымыслов.
И потому неудивительно, что раздутые слухи о Белом Ките, которые нарастали, словно снежный ком, перекатываясь над бурными морскими просторами, в конце концов вобрали в себя всевозможные глухие намёки и полувысказанные зачатки предположений об участии сверхъестественных сил, и что всё это придало Моби Дику такую жуткую славу, какую не могла породить одна видимая сторона явлений. И под конец он стал внушать людям такой ужас, что редко кто из тех, кому случалось хоть по слухам познакомиться с Белым Китом, отважился бы испытать опасность стычки с этим животным.
Но были к тому и другие, более важные и реальные причины. И сегодня жива ещё среди китобоев древняя слава кашалота, выделяющегося свирепостью среди всех других левиафанов. И по сей день существуют китобои, готовые со сноровкой и отвагой дать бой гренландскому, или настоящему, киту, но – в силу ли неопытности, неумения или же робости – отступающие перед кашалотами; во всяком случае, есть немало китобоев, в особенности тех национальностей, которые плавают не под американским флагом, чьи сведения о левиафане, поскольку им самим никогда не приходилось сталкиваться со спермацетовым китом, ограничены лишь тем презренным чудовищем, за которым издавна охотятся на Севере; сидя на палубе, эти мужи, точно малые дети у камина, готовы со страхом слушать, разинув рот, удивительные, буйные истории о промысловых плаваниях в южных морях. Однако нигде так не чувствуют, не осознают всю жуткую необычайность великого кашалота, как на борту того судна, чей форштевень направлен ему вослед.
Жестокая мощь кашалота, с которым мы познакомились сравнительно недавно, кажется, ещё с древних времён порождала о себе смутные предчувствия-легенды; потому что у некоторых учёных-натуралистов – у Повельсона и Олассена, например, – мы читаем, что спермацетовый кит – не только гроза для всей обитающей в морях живности, но к тому же настолько свиреп, что им владеет неутолимая жажда человечьей крови. Подобные убеждения сохранялись даже во времена Кювье. И сам барон в своей «Естественной истории» утверждает, что при появлении спермацетового кита все рыбы (включая акул) бывают «охвачены сильнейшим страхом», и «часто в своём поспешном бегстве с такой силой ударяются о скалы, что причиняют себе мгновенную смерть». И несмотря на все те поправки, какие внёс в подобные утверждения опыт китобоев, сами эти поверья во всей своей устрашающей сущности, вплоть до кровавого описания Повельсона, нередко оживают в душах китобоев под влиянием превратностей их опасной профессии.
Понятно поэтому, что многие китоловы, слушая таинственные и чудесные рассказы о Моби Дике, припоминали прежние времена, когда опытных охотников за настоящим китом не удавалось иной раз склонить к преследованию кашалотов, потому что, как утверждали они, можно с немалой выгодой промышлять других левиафанов, но поднимать острогу на такое чудище, как спермацетовый кит, смертному не подобает. Сделать это – значит сразу же оказаться вышвырнутым в текучую вечность. Существует немало интересных документов, из которых можно почерпнуть кое-какие сведения по этому поводу.
Были, однако, и другие, готовые даже перед лицом всех этих легенд померяться силами с Моби Диком, а ещё больше было таких, кто слышал о нём очень смутно и отдалённо, без достоверных убийственных подробностей и без обычного мистического сопровождения, и сохранял довольно мужества, чтобы не избегать боя при встрече.
Среди людей суеверных ходили о Белом Ките самые невероятные рассказы, один из которых содержал, например, утверждение о том, будто Моби Дик вездесущ, будто его в одно и то же время встречали под разными широтами.
И надо сказать, что при указанной предрасположенности ума, это утверждение не лишено было на особый, сверхъестественный манер какого-то намёка на правдоподобие. Дело в том, что тайны морских течений остаются сокрытыми даже от ученейших умов; и таинственные подводные пути кашалотов тоже по большей части непостижимы для китобоев; это обстоятельство порождает время от времени в высшей степени любопытные и противоречивые теории относительно тех загадочных приёмов, благодаря которым спермацетовому киту удаётся, нырнув на большую глубину, в немыслимо короткий срок очутиться вдруг в каком-нибудь крайне отдалённом месте.
И на американских, и на английских китобойных судах отлично известен тот факт, уже давно подтверждённый к тому же авторитетными высказываниями Скорсби, что в северных областях Тихого океана вылавливают иногда китов, в чьём теле обнаруживаются гарпуны, заброшенные у берегов Гренландии. При этом никак нельзя отрицать, что промежуток времени между запусками последнего и предпоследнего гарпунов иногда, безусловно, не превосходит нескольких дней. На этом основании многие китоловы пришли к выводу, что знаменитый Северо-Западный проход[160], так долго недоступный человеку, для кита никогда не представлял трудностей. Можно сказать, что в данном случае сама живая действительность на глазах живых людей не уступает чудесам, которые приписывались в древности горе Стрелло в Португалии (где у самой вершины якобы находится озеро, на поверхность которого всплывают обломки кораблей, потерпевших крушение в дальних морях); или же ещё более удивительным поверьям об источнике Аретузе близ Сиракуз (воды которого якобы по подземному каналу поступают из Святой Земли); всем этим басням и россказням мало в чём уступает действительность китобойного промысла.
Вот почему не следует особенно удивляться, что некоторые китоловы, поневоле свыкнувшись с описанными чудесами и зная, кроме того, что Белый Кит уходил живым от многократных отчаянных нападений, зашли в своём суеверии ещё дальше и объявили Моби Дика не только вездесущим, но и бессмертным (поскольку бессмертие – это всего лишь вездесущность во времени); они утверждают, что даже если целые рощи острог вырастут на его боках, он всё равно уплывёт живой и невредимый; если же всё-таки он станет когда-нибудь пускать кровавые фонтаны, это будет всего лишь дьявольской хитростью, ибо пройдёт немного времени, и за сотни лиг оттуда снова можно будет видеть, как он выбрасывает над зелёными валами прозрачный столб воды.
Но даже если откинуть сверхъестественные свойства, в земном облике этого чудовища, в его необоримом норове остаётся довольно силы, чтобы потрясти человеческое воображение. Среди других китов его выделяли не столько сами грандиозные размеры туши, сколько – как уже упоминалось выше – небывалый белоснежный, изборождённый складками лоб и высокий пирамидальный белый горб. Таковы были его отличительные черты, знаки, по которым он даже в бескрайних диких морях позволял своим старым знакомцам узнавать себя с большого расстояния.
И всё его тело было покрыто полосами, пятнами и прожилками того же мертвенного цвета, так что в конце концов за ним и закрепилось прозвище Белый Кит; да он и вправду казался совершенно белым, когда в самый полдень скользил по тёмно-синим волнам, оставляя за собою млечный путь желтоватой пены, тут и там искрящейся золотистыми отблесками.
Однако своей ужасной славой он был обязан не грандиозности своей, не удивительному цвету и даже не изуродованной нижней челюсти, а той беспримерной расчётливой злобе, которую он, по рассказам, не однажды проявлял, нападая на людей. Особый ужас внушали его предательские отступления. Ибо он имел обыкновение делать вид вначале, будто в страхе пытается уйти от своих ликующих преследователей, но потом вдруг поворачивался и, устремляясь им навстречу, либо в щепы разносил гнавшийся за ним вельбот, либо влёк его, к ужасу команды, прямо навстречу кораблю.
На его счёту уже значилось несколько убийств. И хотя такие вещи, как ни мало о них известно на берегу, в китобойном промысле довольно часты, в Белом Ките тем не менее видели столько адской преднамеренной свирепости, что всякую причинённую им смерть и всяческое увечье считали чем-то большим, нежели просто игрой неразумных сил.
Судите же, в какие глубины жгучей, отчаянной ярости бросало его незадачливых преследователей, когда среди обломков расщеплённых вельботов, среди растерзанных трупов они всплывали из-под белого кипеня ужасного звериного гнева навстречу непереносимо безмятежному сиянию солнца, которое по-прежнему с улыбкой светило вокруг, будто освещало рождение младенца или свадебный пир.
Один капитан, увидев вокруг себя обломки всех трёх своих вельботов и быстрые водовороты, в которых крутились доски, вёсла и люди, этот капитан выхватил из кормы своей разбитой лодки большой нож и бросился на кита, словно арканзасский дуэлянт[161] на своего противника, в слепой ярости пытаясь шестидюймовым лезвием достигнуть непомерных глубин китовой жизни. Этим капитаном был Ахав. И вот тогда-то молниеносным движением своей серповидной челюсти Моби Дик скосил у Ахава ногу, словно косарь зелёную травинку на лугу. Ни один турок в тюрбане, ни один наёмный убийца венецианец или малаец не мог бы поразить его с такой очевидной умышленной жестокостью. Едва ли можно сомневаться, что именно со времени этой свирепой схватки в душе Ахава росла безумная жажда отомстить киту, и она всё больше овладевала им, ибо, погружённый в угрюмое неистовство, он постепенно стал видеть в Моби Дике не только причину своих телесных недугов, но также источник всех своих душевных мук. Белый Кит плыл у него перед глазами как бредовое воплощение всякого зла, какое снедает порой душу глубоко чувствующего человека, покуда не оставит его с половиной сердца и половиной лёгкого – и живи как хочешь. Белый Кит был для него той тёмной неуловимой силой, которая существует от века, чьей власти даже в наши дни христиане уступают половину мира и которую древние офиты[162] на Востоке чтили в образе дьявола; Ахав не поклонялся ей, подобно им, но в безумии своём, придав ей облик ненавистного ему Белого Кита, он поднялся один, весь искалеченный, на борьбу с нею. Всё, что туманит разум и мучит, что подымает со дна муть вещей, все зловредные истины, всё, что рвёт жилы и сушит мозг, вся подспудная чертовщина жизни и мысли, – всё зло в представлении безумного Ахава стало видимым и доступным для мести в облике Моби Дика. На белый горб кита обрушил он всю ярость, всю ненависть, испытываемую родом человеческим со времён Адама; и бил в него раскалённым ядром своего сердца, словно грудь его была боевой мортирой.
Трудно предположить, чтобы эта навязчивая идея возникла у него вдруг, в один определённый момент, когда ему было нанесено физическое увечье. Тогда, бросившись на зверя с ножом в руке, он только дал выход внезапно вспыхнувшей, жгучей инстинктивной ярости; а получив тот страшный, растерзавший его удар, он не испытал, вероятно, ничего, кроме мучительного физического страдания. Но пока, принуждённый из-за этого столкновения повернуть домой, корабль огибал в разгар зимы угрюмый, суровый Патагонский мыс, Ахав и его страдание долгие дни, недели и месяцы провалялись вместе, в одной койке; и тогда-то его истерзанное тело и израненная душа слились, изойдя кровью; и он обезумел. Свидетельством тому, что его теперешняя мания овладела им уже на обратном пути, после стычки с китом, служит тот факт, что по пути домой на него временами находили припадки буйного помешательства; и даже искалеченный, он сохранял в своей жаркой цыганской груди столько могучей силы, ещё возраставшей под действием горячки, что помощники вынуждены были привязывать его во время этих приступов буйства прямо к койке. Так, в смирительной рубашке, лежал он, раскачиваясь в такт с неистовыми размахами штормовых валов.
Когда же корабль вышел к более тихим широтам и, поставив лиселя, поплыл, пересекая безмятежные тропики, бред вместе с бурями мыса Горн как будто бы оставил старого капитана, и он начал выходить из своего тёмного логова навстречу благословенному свету и воздуху; но и тогда, с хладнокровным и решительным, хотя и бледным лицом снова отдавая спокойную команду, так что помощники благодарили господа за то, что его ужасное помешательство наконец прошло, – даже тогда в глубине своей души Ахав продолжал безумствовать.
Человеческое сумасшествие нередко оказывается по-кошачьи хитрым и коварным. Иной раз думаешь, его уже нет, а на самом деле оно просто приняло какую-нибудь более утончённую форму. Безумие не оставило Ахава, оно только сжалось и ушло вглубь, подобно неукротимому Гудзону, когда этот благородный норманн по узкому, но бездонному ущелью пробивается сквозь горные теснины. Однако, как в узком потоке бреда не утратилась ни одна капля первоначального безбрежного безумия, так и в этом безбрежном безумии Ахава не утерялась ни единая крупица его огромного ума. Только прежде ум его был властелином, а ныне стал послушным орудием человеческого помешательства. Можно сказать, если позволительны столь несдержанные метафоры, что частное помешательство взяло штурмом всё его общее здравомыслие и обратило захваченные пушки на собственную свою безумную мишень, так что Ахав не только не лишился сил, но, наоборот, для достижения одной-единственной цели обладал теперь в тысячу раз большим могуществом, чем ему когда-либо в здравом рассудке дано было направить на разумный объект.
Этим сказано многое; но ещё более значительная, более глубокая, более тёмная сторона в Ахаве остаётся нераскрытой. Тщетны попытки сделать глубины доступными всякому; а истина всегда скрыта в глубине. Теперь отсюда, из самого сердца этого островерхого Отеля де Клюни[163], где мы стоим, по винтовой лестнице спуститесь глубоко вниз; как бы роскошен и великолепен он ни был, покиньте его и спуститесь, о благородные, печальные души, в просторные залы римских терм; туда, где глубоко под причудливыми замками внешней человеческой жизни таится самый корень людского величия, сама устрашающая сущность человека, где, засыпанная грудой древностей, покоясь на троне из обломков античных статуй, восседает тысячелетняя, с седой бородой, сама древность! Великие боги потешаются над пленным царём на разбитом троне; а он сидит, безропотно, словно кариатида, поддерживая на своём застывшем челе нагромождённые своды веков. Спуститесь же туда, о гордые, печальные души! И спросите этого гордого, печального царя. Вас поражает фамильное сходство? о да, от него произошли вы все, о юные монархи в изгнании; и лишь от своего угрюмого предка услышите вы древнюю Государственную Тайну.
Где-то в глубине души Ахав догадывался о ней, он сознавал: все мои поступки здравы, цель и побуждение безумны. Но, не имея власти ни уничтожить, ни изменить, ни избегнуть этого, он долго притворялся перед людьми, да в какой-то мере продолжал притворяться и теперь, но то была лишь видимость, воля его и решимость оставались неизменны. Однако прятал своё безумие он столь успешно, что, когда наконец ступил своей костяной ногою на песок Нантакета, никто из его земляков ничего не заподозрил – все считали, что он просто до глубины души потрясён постигшим его страшным несчастьем.
Той же причине приписывали люди приступы исступления, по слухам, находившие на него в море. А также и ту беспросветную угрюмость, которая постоянно, вплоть до самого дня отплытия на «Пекоде», тучей висела над его челом. И очень может быть, что расчётливые жители этого благоразумного острова, далёкие от того, чтобы из-за таких смутных причин подвергать сомнению его способность возглавить промысловый рейс, наоборот, склонны были на этом же самом основании считать, что он только лучше подготовлен и настроен теперь для такого отчаянного и кровавого дела, как охота за китами. Опалённый снаружи, терзаемый изнутри цепкими, безжалостными клыками неизлечимой мании, подобный человек, если только найти его, как нельзя лучше приспособлен для того, чтобы метать гарпун и заносить острогу в схватке с ужаснейшей из тварей живых. Если же по причине какого-либо физического увечья он считается на это неспособным, всё равно никто лучше, чем он, не мог бы криком подбадривать своих подчинённых, побуждая их к смертельной битве. Как бы то ни было, несомненно одно: заточив в себе за семью замками тайну своей неугасимой ненависти, Ахав ушёл на этот раз на «Пекоде» с единственной и всепоглощающей целью – настичь и одолеть Белого Кита. Если бы кто-нибудь из его старых друзей в Нантакете мог только предположить, что затаил он в душе, с какой поспешностью праведного негодования вырвали бы они судно из рук этого злодея! Но их мысли были заняты удачей плавания, доходы с которого будут исчисляться звонкими долларами. И он ушёл искать безумной, неутолимой, сверхъестественной мести.
Вот он, этот седоголовый нечестивый старик, с проклятиями гоняющийся по всему свету за китом Иова во главе своей команды ублюдков, отщепенцев и каннибалов, пороки которых становились ещё явственнее рядом с неумелой доблестью и беспомощным добронравием Старбека, неистребимой весёлостью равнодушного и безрассудного Стабба и всепроникающей посредственностью Фласка. Кажется, что такую команду, да с такими командирами, одержимому местью Ахаву словно нарочно подбирали в помощь адские силы. Как случилось, что эти люди с такой готовностью откликнулись на гневный клич старого капитана; что за чёрные чары владели их душами, превращая порою его ненависть в их ненависть, а Белого Кита – в такого же заклятого врага для них, как и для него; каким образом всё это сталось; чем был для них в действительности Белый Кит и как, быть может, в их подсознательных представлениях он неожиданно всплывал смутным и великим демоном, скользящим по морю жизни, – растолковать всё это – значит нырнуть глубже, чем это по плечу Измаилу. Разве можем мы по приглушённому, то тут, то там раздающемуся стуку лопаты угадать, куда ведёт свою штольню тот подземный труженик, что копается внутри каждого из нас? Кто из нас не чувствует, как его подталкивает что-то и тянет за рукав? Разве может маленький ялик сохранять неподвижность, если его тащит на буксире семидесятичетырехпушечный линейный корабль? Что до меня, то я отдался на волю времени и пространству; но, даже горя нетерпением встретиться с Белым Китом, я видел в нём одно только смертельное зло.
Глава XLII. О белизне кита
Что означал Белый Кит для Ахава, я уже дал читателю понять; остаётся только пояснить, чем он был для меня.
Помимо тех очевидных причин, которые не могли не порождать у каждого в душе чувства понятной тревоги, было в Моби Дике и ещё нечто, какой-то смутный, несказанный ужас, достигавший порой такого напряжения, что всё остальное совершенно им подавлялось, но неизменно остававшийся таинственным, невыразимым, так что я почти не надеюсь связно и понятно описать его. Ужас этот для меня заключался в белизне кита. Ну как тут можно что-нибудь объяснить? А ведь всё-таки, как угодно туманно и несвязно, но объяснить свои чувства я должен, иначе все эти главы не будут иметь цены.
Хотя в природе белизна часто умножает и облагораживает красоту, словно одаряя её своими собственными особыми достоинствами, как мы это видим на примере мрамора, японских камелий и жемчуга; и хотя многие народы так или иначе отдают должное царственному превосходству этого цвета, ведь даже древние варварские короли великого Пегу[164] помещали титул «Владыки Белых Слонов» над всеми прочими велеречивыми описаниями своего могущества, а у современных королей Сиама это же белоснежное четвероногое запечатлено на королевском штандарте, а на Ганноверском знамени имеется изображение белоснежного скакуна, в то время как и великая Австрийская империя, наследница всевластного Рима, избрала для своего имперского знамени всё тот же величественный цвет; и хотя, помимо всего, белый цвет был признан даже цветом радости, ибо у римлян белым камнем отмечались праздничные дни; и хотя по всем остальным человеческим понятиям и ассоциациям белизна символизирует множество трогательных и благородных вещей – невинность невест и мягкосердие старости; хотя у краснокожих в Америке пожалование белого пояса-вампума считалось величайшей честью; хотя во многих странах белый цвет горностая в судейском облачении является эмблемой правосудия и он же в виде молочно-белого коня поддерживает в каждодневности величие королей и королев; хотя в высочайших таинствах возвышеннейших религий белый цвет всегда считался символом божественной непорочности и силы – у персидских огнепоклонников белое раздвоенное пламя на алтаре почиталось превыше всего, а в греческой мифологии сам великий Зевс принимал образ белоснежного быка; и хотя у благородных ирокезов принесение в жертву священной Белой Собаки в разгар зимы рассматривалось, согласно их теологии, как самый торжественный праздник, а это белейшее, преданнейшее существо считалось наиболее достойным посланцем для встречи с Великим Духом, которому они ежегодно посылали донесения о своей неизменной преданности; и хотя христианские священники позаимствовали латинское слово «albus» – белый для обозначения стихаря – некоторой части своего священного облачения, надеваемой под рясу; хотя среди божественного великолепия римской церкви белый цвет особенно часто используется при прославлении страстей господних; хотя в Откровении Святого Иоанна праведники наделены белыми одеждами и двадцать четыре старца, облачённые в белое, стоят перед великим белым престолом, на котором восседает Владыка Святый и Истинный, белый, как белая в?лна, как снег[165], – всё-таки, несмотря на эти совокупные ассоциации со всем что ни на есть хорошего, возвышенного и благородного, в самой идее белизны таится нечто неуловимое, но более жуткое, чем в зловещем красном цвете крови.
Именно из-за этого неуловимого свойства белизна, лишённая перечисленных приятных ассоциаций и соотнесённая с предметом и без того ужасным, усугубляет до крайней степени его жуткие качества. Взгляните на белого полярного медведя или на белую тропическую акулу; что иное, если не ровный белоснежный цвет, делает их столь непередаваемо страшными? Мертвенная белизна придаёт торжествующе-плотоядному облику этих бессловесных тварей ту омерзительную вкрадчивость, которая вызывает ещё больше отвращения, чем ужаса. Вот почему даже свирепозубый тигр в своём геральдическом облачении не может так пошатнуть человеческую храбрость, как медведь или акула в белоснежных покровах[166].
Или вот альбатрос – откуда берутся все тучи душевного недоумения и бледного ужаса, среди которых парит этот белый призрак в представлении каждого? Не Кольридж первым сотворил эти чары[167], это сделал божий великий и нельстивый поэт-лауреат по имени Природа[168].
У нас на Дальнем Западе особой известностью пользуются индейские сказания о Белом Коне Прерий – о великолепном молочно-белом скакуне с огромными глазами, маленькой головкой, крутой грудью и с величавостью тысяч монархов в надменной, царственной осанке. Он был единовластным Ксерксом[169] необозримых диких табунов, чьи пастбища в те дни были ограждены лишь Скалистыми горами да Аллеганским кряжем. И во главе их огнедышащих полчищ нёсся он на Запад, подобный избранной звезде, ведущей за собой ежевечерний хоровод светил. Взвихрённый каскад его гривы, изогнутая комета хвоста были его сбруей, роскошней которой никакие чеканщики по золоту не могли бы ему поднести. То было царственное, небесное видение девственного западного мира, воскрешавшего некогда пред глазами зверобоев те славные первобытные времена, когда Адам ходил по земле, величавый, как бог, крутолобый и бесстрашный, как этот дикий скакун. Шествовал ли царь коней, окружённый адъютантами и маршалами в авангарде бесчисленных когорт, что лились, подобно реке Огайо, нескончаемым потоком по равнине, или, поводя тёплыми ноздрями, краснеющими на фоне холодной белизны, осматривал на скаку своих подданных, растянувшихся по прерии куда ни глянь до самого горизонта, – в каком бы обличии ни предстал он пред ними, всё равно для храбрых индейцев он неизменно оставался объектом трепетного поклонения и страха. И если судить по тому, что гласят легенды об этом царственном коне, то истоком всей его божественности, вне всякого сомнения, служила только его призрачная белизна, и божественность эта, вызывая поклонение, одновременно внушала какой-то необъяснимый ужас.
Однако можно привести и такие примеры, когда белизна выступает совершенно лишённой того таинственного и привлекательного сияния, каким окружены Белый Конь и Альбатрос.
Что так отталкивает нас во внешности альбиноса и делает его порой отвратительным – даже в глазах собственных родных и близких? Сама та белизна, которая облачает его и дарит ему имя. Альбинос сложён ничуть не хуже всякого – в нём не заметно никакого уродства – и тем не менее эта всепроникающая белизна делает его омерзительнее самого чудовищного выродка. Почему бы это?
Да и сама Природа, уже совсем в ином виде, в своих наименее уловимых, но от этого отнюдь не менее зловредных проявлениях, не пренебрегает услугами этого довершающего признака, свойственного всему ужасному. Закованный в латы демон Южных морей получил благодаря своему льдистому облику имя Белый Шквал. И человеческое коварство, как показывают нам примеры из истории, не гнушалось в своих ухищрениях столь могущественным вспомогательным средством. Насколько возрастает впечатление от той сцены из Фруассара, где Белые Капюшоны Гента[170], скрывая лица под снежными эмблемами своей клики, закалывают графского управляющего на рыночной площади!
Да и сам обыденный многовековый опыт человечества тоже говорит о сверхъестественных свойствах этого цвета. Ничто не внушает нам при взгляде на покойника такого ужаса, как его мраморная бледность; будто бледность эта знаменует собой и потустороннее оцепенение загробного мира, и смертный земной страх. У смертельной бледности усопших заимствуем мы цвет покровов, которыми окутываем мы их. И в самых своих суевериях мы не преминули набросить белоснежную мантию на каждый призрак, который возникает перед человеком, поднявшись из молочно-белого тумана. Да что там перечислять! Вспомним лучше, пока от этих ужасов мороз по коже подирает, что у самого царя ужасов, описанного евангелистом, под седлом – конь блед[171].
Итак, какие бы возвышенные и добрые идеи ни связывал с белизной человек в определённом настроении ума, всё равно никто не сможет отрицать того, что в своём глубочайшем, чистом виде белизна порождает в человеческой душе самые необычайные видения.
Но даже если этот факт и не вызывает сомнений, как можем мы, смертные, объяснить его? Анализировать его не представляется возможным. Нельзя ли в таком случае, приведя здесь несколько примеров того, как белизна – совершенно или частично лишённая каких бы то ни было прямых устрашающих ассоциаций – тем не менее оказывает на нас в конечном счёте всё то же колдовское воздействие, нельзя ли надеяться этим путём напасть ненароком на ключ к секрету, который мы стремимся разгадать?
Попытаемся же. Но в подобных вопросах тонкость рассуждения рассчитана на тонкость понимания, и человек, лишённый фантазии, не сумеет последовать за мной по этим чертогам. И хоть некоторые по крайней мере из тех фантастических впечатлений, о которых здесь пойдёт речь, несомненно, были испытаны и другими людьми, мало кто, наверное, отдавал себе в них отчёт, и не все поэтому смогут их припомнить.
Почему, например, у человека, не получившего глубокого религиозного образования и весьма мало осведомлённого относительно своеобразия церковных праздников, простое упоминание о Троицыном дне, который называется у нас Белое Воскресенье, порождает в воображении длинную унылую и безмолвную процессию пилигримов, медленно бредущих, уставя очи долу, и густо запорошённых свежевыпавшим снегом? Почему также в душе тёмного и невинного протестанта в центральных штатах даже беглое упоминание о Белых Братьях или Белой Монахине вызывает видение некоей безглазой статуи?
Чем – помимо древних сказаний о заточении рыцарей и королей, которые, однако, не дают нам исчерпывающего ответа, – чем можно объяснить то удивительное свойство Белой башни лондонского Тауэра воздействовать на воображение приезжих простаков-американцев сильнее, чем соседние многоэтажные постройки, – Боковая башня, и даже Кровавая? А башни ещё более возвышенные, Белые горы Нью-Гэмпшира, отчего при упоминании о них нисходит порой в душу ощущение грандиозной призрачности, в то время как мысли о Голубом кряже Виргинии исполнены столь мягкой, росистой, поэтической мечтательности? Почему, невзирая на долготы и широты, Белое море оказывает на наши души такое потустороннее влияние, тогда как Жёлтое море убаюкивает нас земными представлениями о длинных и приятных вечерах на лакированных волнах и наступающих к их исходу цветистых и сонных закатах? Или же, если обратиться к примерам уже совсем не материальным, рассчитанным исключительно на людское воображение, почему при чтении старинных сказок Центральной Европы образ «высокого бледного человека» в лесах Гарца, чей бескровный лик бесшумно скользит среди зелёных рощ, почему этот белый призрак внушает больше страха, чем вся завывающая нечисть Блоксберга?[172]
И нельзя сказать, что только память о рушащих соборы землетрясениях; или неудержимые набеги бушующего моря; или бесслёзная засушливость небес, из которых никогда не падают дожди; или вид самого города – целого поля покосившихся шпилей, вывернутых каменных плит и поникших крестов, будто на кладбище кораблей; или его пригороды, где стены домов громоздятся одна над другой, словно раскиданная колода карт, – нельзя сказать, что, мол, вот они все причины, делающие Лиму самым странным и самым печальным городом в мире. Ибо Лима, подобно монахине, скрыла лицо своё под белой вуалью, и в белизне её скорби таится нечто возвышенное и жуткое. Древняя, как Писарро[173], эта белоснежность придаёт вечную новизну её руинам; она не допускает жизнерадостной зелени окончательного распада и простирает над развалинами укреплений недвижную бледность апоплексии, застывшей в своей гримасе.
Я знаю, что во всеобщем мнении белизна отнюдь не считается первопричиной ужаса, внушаемого явлениями, которые ужасны сами по себе; и точно так же для лишённых воображения людей в явлениях, которые внушают иным страх исключительно своей белизной, попросту нет ничего страшного, в особенности если белизна выступает в форме немой и всеохватывающей. Я хотел бы привести примеры, долженствующие разъяснить обе эти мои мысли.
Во-первых. Мореплаватель, который, приблизившись к незнакомому берегу, услышит ночью рёв прибоя, пробуждается ото сна, весь насторожённость и внимание, и ощущает страх ровно настолько, чтобы все его способности лишь обострились; но если при совершенно сходных обстоятельствах он по свистку поднимается с койки и видит, что их судно плывёт среди ночи по молочно-белым водам – словно это не пенные гребешки, а целые стада белых медведей подплыли сюда с близлежащих мысов, – вот тогда испытывает он немой и сверхъестественный ужас; призрачная пелена пенного моря страшит его, как подлинное привидение; напрасно убеждает его лот, что дно ещё не промеривается; всё равно, сердце у него уходит в пятки и остаётся там до тех пор, покуда под килем корабля вновь не забурлит синяя волна. А между тем какой мореплаватель признается вам: «Сэр, я не так перетрусил, что мы наскочим на подводные рифы, как испугался этой жуткой белизны»?
Во-вторых. У индейца-перуанца вечное зрелище снегами осёдланных Анд не вызывает страха, помимо, быть может, представления о бесконечной ледяной пустыне, которая царит на такой огромной высоте, и помимо вполне естественных мыслей о том, как ужасно было бы затеряться среди этого мёртвого безлюдья. Или же поселенцы Дальнего Запада, они тоже с относительным безразличием разглядывают бескрайнюю прерию, затянутую снежной пеленой, где нет ни сучка, ни деревца, чтобы отбросить тень на эту застывшую, недвижную белизну. Но не то испытывает моряк в водах Антарктики, где порой, когда ему, иззябшему и замученному, грозит, казалось бы, неотвратимое кораблекрушение, вместо радуги, сулящей надежду и утешение в его страдании, какая-то адски хитрая игра морозного воздуха представляет его взору лишь бесконечный церковный погост, который с издёвкой ухмыляется ему своими убогими ледяными надгробиями и расщеплёнными крестами.
Но вы скажете мне, быть может, что эта убелённая глава о белизне – это всего лишь белый флаг, выброшенный трусливой душой; ты покорился ипохондрии, Измаил.
Тогда ответьте мне лучше, чем объяснить поведение сильного и здорового жеребёнка-однолетка, появившегося на свет где-нибудь в мирной долине Вермонта, вдали от всяких хищников, который в любой солнечный день, если вы только встряхнёте у него за крупом новой бизоньей полостью, так что он и не увидит её даже, а только почует дикий запах мускуса, непременно вздрогнет, захрапит и, выкатив глаза, ударит копытами в землю, объятый паническим страхом? Ведь он не может помнить о том, как сшибались рогами дикие быки на его зелёной северной родине, и поэтому запах мускуса не напоминает ему о былых опасностях; ибо что знает он, однолеток из Новой Англии, о чёрных бизонах далёкого Орегона?
Ничего, разумеется; но здесь, в этой бессловесной твари, мы сталкиваемся с врождённым знанием о демонических силах мира. Пусть тысячи миль отделяют его от Орегона – всё равно, когда он чует воинственный запах мускуса, свирепые, всесокрушающие бизоньи стада для него становятся такой же реальностью, как и для отбившегося от табуна жеребёнка прерий, которого они, быть может, в этот самый миг затаптывают в прах.
И точно так же приглушённое рокотание пенных валов, и холодный шорох инея в горах, и безжизненное колыхание снежной пелены, которую сдувает с места на место ветер прерий, – всё это для Измаила – всё равно что бизонья полость для перепуганного однолетка!
И он, как и я, не знает, где таятся неизречённые ужасы, которые нам с ним дано учуять, но оба мы знаем, что где-то они существуют. Ибо многое в этом видимом мире построено на любви, но невидимые сферы сотворены страхом.
Но и теперь не разгадали мы тайну магической силы в белизне и не узнали, почему так воздействует она на души; не узнали – что ещё непонятнее и много чудеснее, – почему, как мы видели, она является многозначительным символом духовного начала и даже истинным покровом самого христианского божества и в то же время служит усугублению ужаса во всём, что устрашает род человеческий.
Может быть, своей бескрайностью она предрекает нам бездушные пустоты и пространства вселенной и наносит нам удар в спину мыслью об уничтожении, которая родится в нас, когда глядим мы в белые глубины Млечного Пути? Или же всё дело тут в том, что белизна в сущности не цвет, а видимое отсутствие всякого цвета, и оттого так немы и одновременно многозначительны для нас широкие заснеженные пространства – всецветная бесцветность безбожия, которое не по силам человеку? Если же мы припомним другую теорию натурфилософов, согласно которой все земные краски, все разноцветные эмблемы и гербы величия и красоты, нежные тона небес и кущ на закате и позлащённый бархат бабочек, и пушистые, как бабочки, щёки юных девушек – всё это лишь изощрённый обман, свойства, не присущие явлениям, а нанесённые на них извне; и, стало быть, вся наша обожествлённая Природа намалёвана, как последняя потаскушка, чьи соблазны скрывают под собой лишь могильный склеп; если мы припомним вслед за этим, что само таинственное косметическое средство, которое даёт природе все её тона и оттенки – сам по себе свет в его великой сущности неизменно остаётся белым и бесцветным и что, падая на материю не через посредство посторонних сил, а прямо, он все предметы, даже тюльпаны и розы, окрасил бы своим собственным несуществующим цветом – если представить себе всё это, то мир раскинется перед нами прокажённым паралитиком; и подобно упрямым путешественникам по Лапландии, которые отказываются надеть цветные очки, жалкий безбожник ослепнет при виде величественного белого покрова, затянувшего всё вокруг него.
Воплощением всего этого был кит-альбинос. Можно ли тут дивиться вызванной им жгучей ненависти?
Глава XLIII. Тс-с!
– Тс-с! Ты слышишь там какой-то шум, Кабако?
Была ночная вахта; ярко светила луна; матросы стояли цепочкой от бочонков с пресной водой на шкафуте до пустой бочки-лагуна, привинченной к палубе гакаборта. Передавая друг другу вёдра, они наполняли водой лагун. Те, кому выпало стоять на пустующих шканцах, остерегались произнести хоть слово, остерегались переступить ногами. Вёдра переходили из рук в руки в глубокой тишине, только слышно было, как заполощет вдруг на ветру парус да ровно поёт вода под неотступно бегущим килем.
И тогда-то среди этого безмолвия Арчи, который стоял поблизости от кормового люка, шепнул своему соседу метису:
– Тс-с! Слыхал там какой-то шум, Кабако?
– Бери-ка ведро, Арчи, не зевай. Какой ещё шум?
– Вот… вот опять… из люка… неужели не слышишь? кашлянули… да, вроде кашля.
– Передавай-ка сюда порожнее ведро.
– А вот опять… слышишь? Словно там человека три храпят и во сне ворочаются.
– Карамба! кончай чепуху молоть, брат. Это у тебя в брюхе три сухаря ворочаются, какие ты за ужином умял. Вот и всё. Держи ведро!
– Что хочешь говори, брат, но у меня слух острый.
– Ну, ясное дело, не ты ли это слышал в море, за пятьдесят миль от Нантакета, как звякают спицы твоей старухи квакерши?
– Смейся, смейся, мы ещё посмотрим, что дальше будет. Поверь мне, Кабако, там в трюме есть кто-то, кого ещё на палубе не видели. И чую я, старый Могол тоже об этом кое-что знает. Я слыхал, на днях Стабб в утреннюю вахту говорил Фласку, что в воздухе пахнет чем-то в этом роде.
– Да будет тебе! Держи ведро!
Глава XLIV. Морская карта
Если бы вы спустились вместе со старым Ахавом в его каюту, когда прошёл шквал, налетевший на судно в ночь после того, как его безумный замысел был принят разгорячённой командой, вы увидели бы, как он подходит к шкафу в переборке, вынимает из него большой сморщенный рулон пожелтевших морских карт и разворачивает их у себя на столе. Потом вы увидели бы, что он сел и стал внимательно разглядывать представившиеся его взору бесчисленные линии и знаки, медленно, но уверенно прокладывая карандашом новые курсы через ещё не перечёркнутые пространства. Время от времени он поднимает голову и заглядывает в старые судовые журналы, высокой стопкой лежащие подле него, и по ним справляется, в какое время года и под какими широтами был убит или замечен хоть один кашалот.
Так он сидел и работал, а тяжёлая висячая лампа у него над головой мерно раскачивалась на цепях в лад с корпусом корабля, отбрасывая бегучие отблески и теневые полосы на его нахмуренный лоб, так что под конец стало казаться, что, пока он сам наносил линии и курсы на сморщенные карты, невидимый карандаш провёл такие же линии и курсы на глубоко изборождённой карте его чела.
Не в первый раз сидел Ахав ночью в своей одинокой каюте, погружённый в изучение морских карт. Они извлекались из-под замка чуть ли не каждую ночь; и чуть ли не каждую ночь стирались с них одни карандашные пометки и появлялись на их месте другие. Ибо Ахав, разложив перед собою карты всех четырёх океанов, наносил на них лабиринты течений и водоворотов только для того, чтобы тем вернее достигнуть своей безумной всепоглощающей цели.
Для человека, недостаточно знакомого с повадками левиафанов, попытка выследить таким способом в океанах нашей планеты, не схваченной бочарными обручами, какое-то одно определённое животное может показаться до нелепости безнадёжной. Но Ахав знал, что это не так. Ему известны были направления всех приливов и течений; а значит, высчитав, как передвигается пища кашалотов, и выяснив по записям очевидцев, в какое время года под какими широтами они встречались, он мог заключить с точностью чуть ли не до одного дня, когда, в каком месте удастся ему застать свою добычу.
В самом деле, периодичность появления кашалотов в определённых районах оказывается фактом весьма твёрдо установленным, и многие китоловы считают, что если бы можно было проследить за кашалотами во всех морях, если бы удалось тщательно сопоставить судовые журналы всех китобойных флотилий за год, то обнаружилось бы, что кашалоты появляются в тех или иных местах с такой же неизменностью, как ласточки во время своих перелётов или косяки сельдей. В связи с этим предпринимались уже попытки вычертить подробные карты миграции кашалотов[174].
Кроме того, совершая переходы с одного водного пастбища на другое, кашалоты, руководимые безошибочным инстинктом – или, вернее сказать, быть может, тайными указаниями свыше – передвигаются, как у нас говорят, по каналам, держа курс в океане с такой неуклонной точностью, какая ни одному кораблю, обладающему самыми подробными картами, даже и не снилась. Несмотря на то что общее направление, взятое каждым отдельным китом, всегда бывает прямым, как борозда землемера, и гнаться за ним неизбежно приходится строго в его же прямом кильватере, ширина канала, по которому он плывёт, может сильно колебаться, достигая нескольких миль (иногда больше, иногда меньше, как окажется), но никогда не превосходит пределов видимости с топа мачты китобойца, скользящего вдоль по этой загадочной магистрали. А это значит, что в какое-то определённое время года в этих узких границах на всём протяжении такого канала можно с полным основанием рассчитывать на встречу с китами.
Поэтому Ахав не только мог в установленное время настичь свою добычу в общеизвестных районах китовых пастбищ, но умел ещё так мастерски рассчитать курс, чтобы, бороздя широчайшие океанские просторы, даже по пути не терять надежды на желанную встречу.
И всё-таки было одно обстоятельство, которое на первый взгляд как будто бы затрудняло осуществление его бредовых, но тщательно продуманных планов. (Однако и это на поверку оказывалось не так.) Несмотря на то что кашалоты как стадные животные действительно проводят определённое время в том или ином районе, отсюда ещё нельзя заключить с уверенностью, что именно то стадо, которое находилось на данной широте и долготе в прошлом году, окажется на этом же месте и на следующий год; хотя были засвидетельствованы отдельные, не подлежащие сомнению случаи, когда дело обстояло именно так. То же самое в основном относится – но только в более узких границах – и к одиноким китам, китам-отшельникам, старым, матёрым кашалотам. И таким образом, даже если Моби Дик был, допустим, замечен в прошлом году в Сейшельском районе Индийского океана или у Вулканического залива на японском побережье, это вовсе не означало, что «Пекод», окажись он в этих местах в соответствующее время года, непременно застанет его там. Там или в каком-либо другом районе, где он до этого иногда появлялся. Всё это были для него лишь случайные кратковременные пристанища, так сказать, его океанские заезжие дворы, а не места длительного пребывания. Вот почему, когда до сих пор шла речь о достижении Ахавом его цели, имелись в виду лишь предварительные добавочные, попутные возможности, прежде чем будет достигнуто некое идеальное сочетание времени и места, когда всё вероятное станет возможным, а что возможно, как верил и мечтал Ахав, то уже, можно сказать, и осуществлено. Это идеальное сочетание места и времени обозначалось одним промысловым термином: «сезон на экваторе». Ибо именно там и именно тогда вот уже несколько лет подряд замечали Моби Дика, который оставался в тех водах какой-то промежуток времени, подобно тому, как солнце в своём годовом круговороте пребывает под одним знаком зодиака. Именно там произошли все смертельные схватки с Белым Китом, там сами волны хранят легенды о его подвигах, и там именно находится то трагическое место, где у одержимого старика зародилась его мстительная мания. Но в неусыпной насторожённости и неустанной бдительности, с какими устремил Ахав свою угрюмую душу в эту беспощадную погоню, он не позволил бы себе возложить все надежды на один только этот завершающий миг, о котором шла речь выше, каким бы многообещающим он ни казался; мучимый бессонной мыслью о своей клятве, он не мог усмирить неспокойное сердце, отложить на будущее всякие поиски.
«Пекод» отплыл из Нантакета в самом начале «сезона на экваторе». Никакие сверхчеловеческие усилия не помогли бы его командиру за такой короткий срок проделать большой переход к югу, обогнуть мыс Горн и, поднявшись на шестьдесят градусов широты, вовремя очутиться в экваториальных водах Тихого океана, чтобы успеть заняться здесь промыслом. Таким образом, ему оставалось только ждать следующего сезона. Однако преждевременное, казалось бы, отплытие «Пекода» было, вероятно, правильно назначено Ахавом, если принять во внимание всю сложность его замысла. Ибо теперь в его распоряжении было триста шестьдесят пять дней и ночей – срок, который он, вместо нетерпеливого бездеятельного ожидания на берегу, сможет посвятить попутной охоте, на тот случай, если Белый Кит, проводящий каникулы вдали от своих постоянных пастбищ, высунет на поверхность сморщенный лоб в водах Персидского или Бенгальского залива, в китайских морях или в любой другой области, посещаемой его родичами. Так что и муссоны, и памперо, и норд-вест, и гарматан, и пассаты – любой ветер, кроме левантинца[175] и самума, смог бы занести Моби Дика на замысловатый зигзагообразный кругосветный след «Пекода», опоясавший белой пеной весь земной шар.
Но даже если это в самом деле так, всё равно, разве по хладнокровном, здравом рассуждении не покажется безумной сама мысль о том, будто, встретив в широком безбрежном океане одного какого-то кита, охотник сможет узнать и отличить его, как белобородого муфтия на людных улицах Константинополя? Да, да, сможет, представьте себе. Потому что белоснежный лоб Моби Дика и его столь же белоснежный горб, раз увидев, уже ни с чем спутать нельзя. И потом, разве я сам не пометил этого кита, размышлял обыкновенно Ахав, вновь предаваясь своим безумным грёзам после того, как далеко за полночь просидел над картами, я пометил его, а он уйдёт? Его широкие плавники все в зазубринах и дырах, как уши у заблудшей овечки. И он пускался безумной мыслью в отчаянную погоню, покуда наконец усталость не затуманивала его рассудок. Но тогда на свежем воздухе палубы он вновь искал подкрепления своим силам. Великий боже, какою пыткою оказывается сон для человека, снедаемого единым неосуществлённым желанием мести. Он спит, сжав кулаки, а когда просыпается, его вонзённые в ладони ногти красны от его собственной крови.
Нередко, когда его подымали с постели мучительные и непереносимо яркие ночные сновидения, которые, подхватывая неустанную дневную думу, влекли её за собой туда, где бушевало безумие; когда они вихрем кружили, кружили, кружили в его пламенеющем мозгу, пока самый пульс его жизни не становился нестерпимой мукой; когда, как это порой случалось, в смерчах духа существо его отрывалось от земли и пропасть отверзалась в нём, а из неё выбивались языки пламени и молнии и мерзкие демоны знаками звали его спуститься к ним; когда внизу зиял его ад – дикий вопль раздавался тогда по всему кораблю; и Ахав, сверкая очами, выскакивал из каюты, словно бежал с огненного ложа. То не были знаки тайной слабости, которая страшится своей собственной решимости, то были неоспоримые доказательства того, насколько тверда эта решимость. Ибо не безумный Ахав, упорно, бесстрашно, неотступно преследующий Белого Кита, тот Ахав, который недавно лёг спать, не сам он был той силой, что заставляла его в ужасе вскакивать с постели. Этой силой было вечное, живое начало – его душа; во сне, освобождённая на время из-под власти рассудка, который постоянно толкал её на достижение своих целей, она стремилась избавиться от жгучей близости его неистовства, перестав на время составлять с ним единое целое. Но рассудок не может существовать в человеке отлучённый от души: вот почему, когда Ахав весь свой разум и волю отдал единому, высшему замыслу, замысел этот силой своей и неискоренимостью в конце концов, вопреки всем богам и дьяволам, сам по себе приобрёл отдельное самостоятельное существование. Теперь он мог, пылая, жить своей зловещей жизнью, в то время как та жизнь, в которой он возник, бежала, объятая страхом, от нежеланного, незаконного чада. И когда то, что казалось Ахавом, выбегало из каюты, страждущий дух, глядевший сквозь телесные очи, был в действительности лишь опустевшая оболочка, бесформенная сомнамбула, луч живого света, не имеющий, однако, перед собой ничего, что бы он мог осветить, и потому сам по себе – пустота. Бог да смилуется над тобой, старик, твои мысли породили новое существо внутри тебя; а тот, кого неотступные думы превращают в Прометея, вечно будет кормить стервятника кусками своего сердца; и стервятник его – то существо, которое он сам порождает.
Глава XLV. Свидетельствую под присягой
Если говорить о том, что есть интересного в этой книге, то предыдущая глава, поскольку она косвенно затрагивает кое-какие любопытные и своеобразные особенности в повадках кашалотов, является не менее важной, чем любая другая в этом томе; однако главная её тема нуждается в ещё более глубоком и тщательном рассмотрении; в противном случае многое останется непонятным и мне не удастся рассеять возникшего, быть может, у некоторых из-за полной неосведомлённости в этом деле сомнения в достоверности описываемых событий.
Я не собираюсь приниматься за дело с научной систематичностью; с меня довольно будет, если я добьюсь желаемого результата перечислением отдельных фактов, известных мне как китобою из личного опыта или от надёжных людей: необходимые выводы, как я рассчитываю, вытекут сами по себе.
Во-первых. Мне лично известны три случая, когда кит, вырвавшийся и спасшийся бегством с гарпуном в боку, был через какой-то промежуток времени (в одном случае – через три года) вторично загарпунен и убит тем же охотником, и из туши его были извлечены два гарпуна, оба с одинаковой личной меткой гарпунщика. В том случае, когда между двумя попаданиями гарпуна прошло три года – а может быть, даже и больше, человек, который их метал, поступил в промежутке на торговое судно, ходившее в Африку, там высадился на берег, присоединился к исследовательской экспедиции, проник с нею в самые недра континента, где путешествовал около двух лет, подвергаясь нападениям змей, туземцев, тигров, действию ядовитых миазм и прочим опасностям, какие обыкновенно встречаются на пути тех, кто блуждает в сердце неведомой страны. А тем временем кит, которого он загарпунил, тоже, должно быть, путешествовал; он, без сомнения, не менее трёх раз опоясал земной шар, задевая боками берега Африки, но всё понапрасну. Человек и кит снова встретились, и первый уничтожил второго. Я говорю, что мне лично известны три подобных случая; то есть дважды я видел, как были запущены гарпуны и как после второго столкновения из китовых туш были извлечены по два изогнутых лезвия с одинаковыми метками. А в случае, когда кит вторично попал под гарпун через три года, я даже сам сидел оба раза в вельботе и в последний раз определённо узнал у кита под глазом что-то похожее на колоссальную родинку, на которую я обратил внимание три года тому назад. Я говорю: три года, но на самом-то деле, я уверен, больше. Таким образом, вот вам три примера, за истинность которых я лично ручаюсь; а ещё я слышал о многих других случаях от людей, в чьей правдивости у меня нет оснований сомневаться.
Во-вторых. В истории китобойного промысла засвидетельствовано – как ни мало знают об этом на суше – несколько памятных достоверных случаев, когда на протяжении многих лет один какой-нибудь кит был широко известен и всеми отличаем в океанских просторах. Объяснялось это в конечном счёте не его телесными особенностями, выделявшими его среди остальных китов: ибо, как ни значительны были эти особенности, им очень скоро приходил конец, если кита убивали и перетапливали на особенно ценный жир. Нет, причина тут была иная: трагические эпизоды окутывали таких китов зловещей, убийственной славой, подобной славе Ринальдо Ринальдини[176], так что в большинстве случаев китолов при встрече с ними ограничивался лишь тем, что притрагивался в знак приветствия к своей зюйдвестке, не стремясь завязывать более близкого знакомства. Так и на суше иной бедняк, состоя в знакомстве с раздражительным и великим человеком, завидев его на улице, скромно раскланивается издалека, опасаясь, как бы, приблизившись, не получить в конце концов по шее за самонадеянность.
Но мало того, что каждый из этих замечательных китов пользовался большой личной известностью – или, вернее сказать, всеокеанской славой; мало того, что он был при жизни знаменит, а после гибели приобрёл бессмертие в матросских легендах; он обладал к тому же ещё всеми правами, привилегиями и отличиями владельца собственного имени; имел своё имя, не хуже Камбиза[177] или Цезаря. Разве это не так, о Тиморский Том![178] прославленный левиафан, весь в рубцах, словно айсберг, ты, так долго таившийся на Востоке в водах пролива, носящего это же имя, где фонтан твой нередко замечали с зелёных тропических берегов Омбая?[179] Разве это не так, о Новозеландец Джек! гроза всех китобойцев, бороздивших волны по соседству от страны татуировок? Разве это не так, о Моркан! владыка Японии, ты, чей высокий фонтан напоминал, говорят, порой белоснежный крест на фоне неба? Разве это не так, о Дон Мигуэль! чилийский кит, чья спина, словно панцирь старой черепахи, была покрыта загадочными иероглифами? А говоря простой прозой: существовали на свете четыре кита, чьи имена так же хорошо знакомы специалистам по Китовой Истории, как имена Мария или Суллы знатокам классической древности.
Но это ещё не всё. В конце концов и на Новозеландца Джека, и на Дона Мигуэля, производивших бесчисленные опустошительные нападения на вельботы многих кораблей, была организована планомерная охота, и они оба были выслежены и убиты отважными капитанами-китобоями, которые, ещё снимаясь с якоря в своём порту, поставили перед собой именно эту цель, не менее определённую, чем была когда-то у капитана Батлера, когда он углубился в дебри Наррагансеттских лесов, чтобы изловить прославленного и свирепого дикаря Аннавона, воинского предводителя у индейского короля Филипа [так][180].
Вряд ли мне удастся найти где-нибудь более подходящее место, чем это, для того чтобы привести ещё некоторые данные, на мой взгляд, весьма существенные, так как они помогут мне печатно подтвердить достоверность всей этой истории с Белым Китом, в особенности же её трагического конца. Ибо здесь перед нами один из тех горестных случаев, когда истина не менее, чем ложь, нуждается в подтверждениях. Люди сухопутных профессий в большинстве своём столь несведущи относительно самых очевидных и осязаемых чудес света, что, если бы я не привёл здесь простейших фактов из прошлого и настоящего китобойных флотилий, они вздумали бы рассматривать Моби Дика как некий чудовищный миф или же, что ещё отвратительнее и ужаснее, как невыносимо страшную аллегорию.
Во-первых. Хоть многие имеют кое-какие смутные и шаткие общие понятия об опасностях этого великого промысла, ни у кого нет точных и жизненных представлений о них, так же как и о том, сколь часты они в нашем деле. Объясняется это, возможно, в частности тем, что из пятидесяти несчастных случаев на промысле вряд ли один становится достоянием гласности на родине, хотя бы ненадолго, чтобы тут же оказаться забытым. Думаете, имя того бедняги, которого, быть может, в это самое мгновение, захлёстнутого линём у берегов Новой Гвинеи, утянул на дно морское нырнувший левиафан, – вы думаете, имя этого бедняги вы сможете найти завтра за чашкой утреннего кофе в газетном некрологе? Нет, слишком уж нерегулярно почтовое сообщение между нашими местами и Новой Гвинеей. Да и вообще-то, случалось ли вам когда-нибудь услышать вести с Новой Гвинеи? А между тем я могу сказать вам, что как-то во время одного плавания по Тихому океану мы встретили тридцать кораблей, каждый из которых потерял во время охоты одного или нескольких членов команды, и три корабля, у которых погибло целиком по экипажу вельбота. Бога ради, будьте поэкономнее со своими лампами и свечами! Помните, что за каждый сожжённый вами галлон была пролита по крайней мере одна капля человеческой крови.
Во-вторых. Люди на берегу имеют, конечно, кое-какие неясные представления о том, что кит – это огромное существо, обладающее огромной силой; но когда бы я ни пытался поведать им о каком-нибудь отдельном эпизоде, где проявилась эта двойная огромность, они всякий раз начинали многозначительно расхваливать моё остроумие, хотя, видит бог, я не больше стремился к остроумию, чем Моисей, когда он описывал чуму в Египте.
Но, к счастью, на этот раз для доказательства своей правоты я могу прибегнуть к свидетельствам совершенно посторонним. Я утверждаю, что кашалот обладает в отдельных случаях достаточной силой, достаточным умением и злобной рассудительностью, чтобы преднамеренно протаранить, сломать и потопить большой корабль; больше того, я утверждаю, что всё это кашалотом неоднократно и проделывалось.
Во-первых. В 1820 году судно «Эссекс» из Нантакета под командой капитана Полларда вело промысел в Тихом океане. Однажды вахтенные увидели на горизонте фонтаны, были спущены вельботы, и началась погоня за целым стадом кашалотов. Вскоре несколько китов было подбито; и вдруг огромный кашалот отделился от стада и, обогнув лодки, устремился на корабль. На полном ходу ударившись лбом в борт судна, он проломил корпус, так что «не прошло и десяти минут», как оно перевернулось и пошло ко дну. Ни щепки не осталось на поверхности моря. После жесточайших мучений часть команды на шлюпках достигла берега. Вернувшись в конце концов на родину, капитан Поллард на другом судне снова отправился в Тихий океан, но боги судили ему снова потерпеть крушение, разбив судно о неведомые рифы, а потеряв второй раз судно, он навеки отрёкся от моря и с тех пор никогда уже не плавал. Капитан Поллард и по сей день проживает в Нантакете. Я встречался с Оуэном Чейсом, который был старшим помощником на «Эссексе», когда всё это случилось; я читал его незамысловатый правдивый рассказ; я разговаривал с его сыном; и всё это в каких-нибудь нескольких милях от места катастрофы[181].
Во-вторых. Судно «Юнион», также из Нантакета, было в 1807 году потоплено близ Азорских островов при сходных обстоятельствах, но достоверных подробностей о его гибели мне нигде не удалось обнаружить, хотя от китобоев я не раз об этом слыхал.
В-третьих. Как-то лет восемнадцать-двадцать тому назад коммодору Дж., командовавшему тогда американским корветом первого класса, пришлось однажды в порту Оаху на Сандвичевых островах[182] обедать на борту нантакетского корабля в обществе нескольких капитанов-китобоев. Речь зашла о китах, и коммодор позволил себе отнестись скептически к рассказам о необычайной силе, которую приписывали им присутствовавшие джентльмены. Он решительно утверждал, например, что ни один кит не сможет с такой силой ударить по его корвету, чтобы прочный корпус дал течь и набрал хотя бы один напёрсток воды. Ну что ж, отлично; но этим дело не кончилось. Несколько недель спустя коммодор поднял паруса на своём непробиваемом судне и взял курс на Вальпараисо. Но в пути ему встретился осанистый кашалот, который попросил у него минуточку внимания в связи с одним неотложным делом. Дело это состояло в том, чтобы нанести кораблю коммодора столь сокрушительный удар, что тому осталось только, пустив в действие все насосы, полным ходом мчаться в ближайший порт и стать в доке на ремонт. Я не суеверен, но в этом свидании коммодора с китом я вижу перст божий. Разве Савл из Тарса[183] не был отвращён от неверия, также испытав испуг? Говорю вам, с кашалотом шутки плохи.
А теперь разрешите мне сослаться на «Путешествия» Лангсдорфа[184] в связи всё с тем же вопросом, представляющим для меня большой интерес. Лангсдорф, как вам должно быть известно, принимал участие в знаменитой исследовательской экспедиции русского адмирала Крузенштерна, предпринятой в начале нашего столетия. Свою семнадцатую главу капитан Лангсдорф начинает следующим образом: «К тридцатому мая наш корабль был готов к отплытию, и на следующий день мы уже находились в открытом море, держа курс на Охотск. Погода стояла ясная и тихая, но мороз был так жесток, что мы не снимали меховых шуб. Несколько дней держался почти полный штиль, только девятнадцатого числа подул наконец с северо-запада свежий ветер. У самой поверхности воды лежал огромный кит, туша которого превосходила размерами наше судно, но на борту его заметили только тогда, когда корабль, идущий под всеми парусами, приблизился к нему почти вплотную и столкновение было неизбежно. Нам угрожала ужасная опасность, ибо исполинское существо, выгнув спину, подняло судно по крайней мере на три фута над водой. Мачты задрожали, все паруса обвисли, и мы, находившиеся внизу, в тот же миг повыскакивали на палубу, уверенные, что корабль налетел на подводную скалу; вместо этого мы увидели, однако, морское чудовище, которое уплывало прочь с чрезвычайно важным и торжественным видом. Капитан Д'Вольф[185] тут же поспешил к насосам, чтобы выяснить, не пострадал ли от удара корпус судна, но было обнаружено, что, по счастью, мы обошлись без всяких повреждений».
Этот капитан Д'Вольф, о котором здесь упоминается как о командире корабля, происходил родом из Новой Англии и в настоящее время, проведя на море целую жизнь, полную всевозможных приключений, проживает в посёлке Дорчестер близ Бостона. Я имею честь быть его племянником. Я специально расспрашивал его по поводу этого места из Лангсдорфа. Он подтверждает каждое слово. Правда, корабль у них был небольшой – русское судно, построенное на сибирском побережье и приобретённое моим дядей в обмен на то, которое доставило его туда с родных берегов.
В другой книге старомодных приключений, исполненной духа отваги и богатой честными описаниями чудес, – в путешествиях Лайонеля Вэйфера, одного из соратников старика Дэмпира[186], я наткнулся на рассказ, столь сходный с тем, который я только что приводил из Лангсдорфа, что не мог удержаться и вставил его сюда в качестве ещё одного подтверждающего примера, на случай, если в таковом возникнет надобность.
Дело происходило на пути к острову «Джон-Фердинандо», как называет Лайонель современный Хуан-Фернандес. «По дороге туда, – пишет он, – часов около четырёх утра, когда мы находились лигах в ста пятидесяти от американского материка, всё наше судно вдруг потряс страшный толчок, от которого людей охватило такое смятение, что никто не знал, что подумать и что предпринять, и все стали готовиться к смерти. Толчок был внезапным и сильным, мы не сомневались, что корабль налетел на риф; однако, когда первый испуг прошёл, мы бросили лот, но дна не нащупали… Толчок был так резок, что пушки подскочили на станках и люди попадали с коек. А капитана Дэвиса, который спал, положив под голову свой пистолет, просто вышвырнуло из каюты!» Лайонель далее пытается объяснить толчок землетрясением, ссылаясь в доказательство на то, что примерно в это же время большое землетрясение действительно причинило заметный ущерб на всём протяжении испанского побережья. Но я лично не удивился бы, если бы в конце концов оказалось, что это был удар, нанесённый в тёмный предрассветный час никем не замеченным китом, который всплыл вертикально из глубины, едва не протаранив корпус судна.
Я мог бы привести ещё немало тем или иным путём дошедших до меня примеров силы и злобности кашалота. Иной раз бывало, что он не только преследовал напавшие на него вельботы, покуда те не возвращались на своё судно, но преследовал также и само судно, не обращая внимания на остроги, которыми китоловы поражали его с бортов. Об этом могла бы рассказать кое-что команда английского судна «Пьюзи-Холл»; а что касается китовой силы, то могу упомянуть здесь о тех случаях, когда линь от гарпуна, сидящего в туше кашалота, во время штиля перебрасывали на палубу судна и закрепляли здесь, и кит тащил за собой по морю тяжёлый корабль, будто лошадь телегу. Кроме того, многократно было замечено, что, если раненому кашалоту давали время прийти в себя, он, как правило, не проявлял слепой ярости, а действовал с сознательной злонамеренностью, стремясь погубить противника; не лишена также красноречивой характерности такая деталь: подвергаясь нападению, он часто разевает свою пасть и по нескольку минут держит её в таком угрожающем положении. Но я вынужден ограничиться лишь ещё одним, заключительным примером, также весьма интересным и убедительным, который неопровержимо докажет вам, что чудесное происшествие, описанное в этой книге, не только согласуется с событиями современности, но к тому же это чудо является (как и все чудеса на свете) лишь повторением того, что уже было в стародавние века; так что в миллионный раз говорим мы вслед за Соломоном: воистину, ничего нет нового под солнцем, аминь.
В шестое христианское столетие, в те дни, когда Юстиниан был императором, а Велизарий полководцем, жил некто Прокопий, христианский магистрат в Константинополе. Как многие, должно быть, знают, он написал историю своего времени, книгу необычайно ценную во всех отношениях. Самые крупные знатоки всегда считали его наиболее правдивым и заслуживающим всяческого доверия историком – за какими-то весьма незначительными исключениями, которые не имеют касательства к тому, о чём сейчас пойдёт речь.
Так вот, в своей истории Прокопий пишет, что в годы его префектуры близ Константинополя из глубин Пропонтиды, иначе Мраморного моря, было выловлено огромное морское чудовище, которое больше пятидесяти лет топило корабли в прибрежных водах. Этот факт, чёрным по белому записанный в анналах истории, отрицать не приходится. Да и незачем, казалось бы. К какому именно виду относилось это морское чудовище, в истории не говорится. Но поскольку оно топило корабли, а также и по ряду других соображений, я полагаю, что это был кит; более того, я очень склонен считать его кашалотом. А почему, сейчас объясню. Я долгое время думал, что кашалоты никогда не водились в Средиземном море и прилежащих к нему глубинах. Я и сейчас убеждён, что в этих местах при современном положении вещей не могут и не смогут жить стада кашалотов. Однако недавние подробные исследования показали мне, что в христианскую эру были засвидетельствованы отдельные случаи появления кашалотов в Средиземном море. Мне рассказывали люди, заслуживающие всяческого доверия, что некий британский коммодор Дэвис обнаружил скелет кашалота у Варварийского побережья[187]. Ну а если военный корабль свободно проходит через Дарданеллы, то и кашалот мог бы тем же путём из Средиземного моря перебраться в Пропонтиду.
В Пропонтиде, насколько мне удалось выяснить, нет этого своеобразного вещества, называемого планктоном, которым питаются настоящие киты. Но у меня есть все основания предполагать, что пища кашалота – кальмары и каракатицы – в изобилии прячется на дне этого моря, поскольку на его поверхности встречаются отдельные крупные особи, хотя, конечно, не самые крупные для этого вида. Если же вы теперь должным образом сопоставите все эти данные и поразмыслите над ними немного, вам станет ясно, что морское чудище Прокопия, в течение полустолетия разбивавшее корабли римского императора, – это, по всей вероятности, и есть спермацетовый кит.
Глава XLVI. Догадки
Хотя сжигаемый жарким пламенем своего стремления, Ахав все мысли и действия подчинил конечной цели – поимке Моби Дика; хотя, казалось, он готов пожертвовать во имя единой страсти всеми земными интересами, он всё-таки, вероятно, – и по природе своей, и в силу долголетней привычки, – слишком прочно был связан с горячим китобойным делом, чтобы полностью отказаться от попутного промысла. А если это было не так, значит, у него в избытке имелись иные побуждения. Было бы слишком уж заумно предполагать – даже несмотря на его манию, – будто его ненависть к Белому Киту распространялась в какой-то степени на кашалотов вообще или что чем больше морских страшилищ он убивал, тем более возрастала вероятность, что следующий встреченный им кит как раз и окажется ненавистным объектом его поисков. Но даже если подобная гипотеза была бы приемлема, существовали также и дополнительные соображения, которые, не находясь в строгом соответствии со всем неистовством его главной страсти, тем не менее, безусловно, оказывали на него своё воздействие.
Для достижения задуманной цели Ахаву нужны были орудия; а из всех орудий, какими пользуются под луной, чаще всего приходят в негодность люди. Так, например, он сознавал, что как ни сильна была его магнетическая власть над Старбеком, эта власть всё же не подавляла целиком душу помощника, то было лишь физическое превосходство, нередко влекущее за собой и господство духовное. Тело Старбека и его пленённая воля принадлежали Ахаву до тех пор, пока Ахав держал свой магнит приставленным к его виску; а всё-таки он знал, что в глубине души главный помощник ужасается намерениям капитана и, будь это возможно, с радостью устранился бы от такого дела или даже само бы дело загубил. Быть может, немало времени пройдёт, пока они найдут Белого Кита. За это время Старбек будет постоянно впадать в открытое неподчинение власти своего капитана, если только не отвлечь его какими-то каждодневными, положительными мелочными заботами. Но и это ещё не всё; само изощрённое безумие Ахава особенно ярко проявлялось в той рассудительности и зоркости, с какими он увидел, что необходимо покуда лишить плавание фантастически нечестивого облачения, которое его окутывало, что весь жуткий смысл этой охоты следует держать в тени (ибо редко чья храбрость устоит против длительных размышлений, не перемежаемых действием), что его командирам и матросам нужно думать о чем-нибудь более близком и простом, чем Моби Дик, когда они стоят свою долгую ночную вахту. Ибо как ни бурно, как ни страстно приветствовала его дикая команда провозглашение этой охоты, все моряки на свете – народ довольно непостоянный и малонадёжный; они находятся под воздействием переменчивой погоды и перенимают её неустойчивость; и если их всё время вести к достижению отдалённой и смутной цели, каких бы буйных радостей ни сулила она в конце, прежде всего необходимо, чтобы всякие будничные дела и занятия постоянно держали их наготове для решающей схватки.
Известно было Ахаву и другое. В минуты величайшего возбуждения люди презрительно отметают всякие низменные интересы; но такие минуты быстролетны. Обычное, естественное состояние для этого божьего творения, думал Ахав, – жалкое корыстолюбие. Допустим, что Белый Кит воспламенил сердца моей дикарской команды и даже породил в их нечестивых сердцах нечто вроде рыцарского великодушия и благородства; всё равно, гоняясь из чистого воодушевления за Моби Диком, они в то же время должны получать пищу и для утоления своих обычных, каждодневных желаний. Ведь даже высоко вознесённым рыцарям-крестоносцам старинных времён мало было проделать по суше две тысячи миль, дабы сражаться за святую гробницу, – по пути они должны были совершать кражи со взломом, шарить по чужим карманам и прибегать к прочим благочестивым способам стяжания случайных доходов. Будь они вынуждены строго ограничиваться своей конечной романтической целью, сколь многие из них отвернулись бы с отвращением от этой конечной романтической цели. Я не стану лишать моих людей, думал Ахав, всякой надежды на плату – да, да, на плату. Сейчас они, быть может, презирают мысль о корысти; но пройдёт несколько месяцев, и эта дремлющая корыстная мысль о плате в один прекрасный день взбунтуется в них, и тогда, пожалуй, расплачиваться придётся Ахаву.
Существовало также и ещё одно соображение, ближе связанное с самим Ахавом. Открыв под влиянием момента и при этом, как видно, несколько преждевременно, главную, но сугубо личную цель плавания, Ахав теперь ясно сознавал, что тем самым он поставил себя в такое положение, в каком он ничем не смог бы защититься от обвинений в узурпации; так что матросы с полным моральным и законным основанием могли бы, если бы им вздумалось и удалось, отказаться от подчинения своему капитану и даже силой отнять у него командование. Ахав же, безусловно, стремился себя оградить даже от невысказанных обвинений в узурпации, от всех возможных последствий, какие могли бы возникнуть, если бы подобные сокровенные мысли получили распространение. А для этого, помимо властного ума и сердца и руки, необходимо было ещё и неотступное, пристальное внимание ко всяким малейшим атмосферным воздействиям на команду.
В силу всех этих, а также и других, слишком сложных для того, чтобы выразить их словами, доводов Ахав отчётливо понимал, что он должен внешне по-прежнему хранить верность первоначальному, исконному назначению китобойца, соблюдать все обычаи промысла и вообще всячески демонстрировать свою всем известную горячую заинтересованность в китобойном деле.
Как бы то ни было, голос его теперь нередко раздавался на палубе, когда он окликал дозорных и приказывал им хорошенько следить за горизонтом и сообщать, если покажутся хотя бы дельфины. И вскоре эта бдительность была вознаграждена.
Глава XLVII. Мы ткали мат
День был пасмурный и душный, матросы лениво слонялись по палубе или, перегнувшись через борт, бездумно следили за свинцовыми волнами. Мы с Квикегом мирно ткали мат для нашего вельбота. Так тихо было всё кругом, в воздухе словно притаилось какое-то волшебство, какое-то обещание радости, и каждый примолкший матрос был словно невидим, растворившись в самом себе.
За тканьём мата я играл роль помощника или пажа при Квикеге. И в то время как я пропускал уток – марлинь между длинными прядями основы, пользуясь вместо челнока своей собственной рукою, а стоящий сбоку Квикег подсовывал время от времени между нитями свой тяжёлый дубовый меч – бёрдо и, рассеянно вперившись в морскую даль, не глядя, не думая, подгонял вплотную поперечные волокна, над кораблём и над всем морем царила такая странная дремотная тишина, нарушаемая по временам лишь глухими ударами деревянного меча, что мне стало казаться, будто передо мною – Ткацкий Станок Времени, а сам я – только челнок, безвольно снующий взад и вперёд и плетущий ткань Судьбы. Передо мной были натянуты нити основы, неподвижные, если не считать лёгкого, но неизменно возобновляющегося подрагивания, от которого поперечные нити плотнее переплетаются с ними. Основа, думал я, – это необходимость, и я своей собственной рукою пропускаю по ней свой собственный челнок и тку свою собственную судьбу на её неподвижных нитях. А между тем капризно-равнодушное бёрдо Квикега толкает уток, иной раз сильно, иной раз слабо, иной раз криво, иной раз косо, как придётся; и от этого заключительного толчка зависит, как будет выглядеть готовая ткань; этот меч дикаря, думал я, придающий окончательный вид работе утка по основе; это равнодушное, беззаботное бёрдо – это случай; да, да, случай, свобода воли и необходимость, ни в коей мере друг друга не исключающие, а переплетающиеся во взаимодействии. Прямые нити основы-необходимости, которых ничто не заставит изменить своего направления, и даже лёгкое подрагивание лишь придаёт им устойчивости; свободная воля, которой дана свобода протягивать свой уток по заданной основе; и случай, хоть и ограниченный в своей игре прямыми линиями необходимости и направляемый в своём движении сбоку свободной волей, так что он подчиняется обоим, случай сам попеременно управляет ими, и ему принадлежит последний удар, определяющий лицо событий.
Так мы ткали и ткали, как вдруг какой-то странный звук, протяжный, нечеловеческий, дикий и певучий, заставил меня вздрогнуть, моток свободной воли выпал у меня из рук, и я уставился в облака, откуда упал, будто на крыльях, этот крик. Высоко надо мной стоял на салинге этот безумец из Гейхеда – Тэштиго. Устремившись вперёд всем телом и, словно скипетр, простёрши вдаль руку, он с короткими, внезапными перерывами тянул свой дикий вопль. Надо думать, в это самое мгновение такой же крик испустили по всему морю сотни дозорных, вознесённые над палубами своих китобойцев на такую же головокружительную высоту; но мало из чьей груди мог этот древний китобойский клич вырваться с такими великолепными модуляциями, как у индейца Тэштиго.
Краснокожий страж как бы парил над нами в воздухе, с такой неистовой жадностью вглядываясь в горизонт, что казалось, это некий пророк или провидец, узревший тени Судьбы и своими дикими воплями возглашающий их приближение.
– Фонтан на горизонте! Вон, вон! Фонтан на горизонте! Фонтан!
– Где, где?
– Справа на траверзе, милях в двух отсюда! Целое стадо!
В тот же миг всё пришло в движение.
Кашалот пускает фонтаны с такой же надёжной размерностью, с какой тикают часы. И по этому признаку китоловы отличают эту рыбу от других представителей её рода.
– Хвосты показывают! – снова раздался голос Тэштиго; киты скрылись под водой.
– Живей, стюард! – вскричал Ахав. – Время!
Пончик кубарем скатился вниз, взглянул на часы и с точностью до одной минуты сообщил Ахаву время.
Корабль между тем был приведён к ветру и теперь спокойно покачивался на волнах. Тэштиго дал знать, что киты ушли под воду, держа курс по ветру, так что мы твёрдо рассчитывали увидеть их теперь прямо по носу. Ибо к своему чудесному искусству, нырнув в одном направлении, развернуться в глубине под прикрытием водной толщи и плыть с огромной скоростью в прямо противоположную сторону, к этому коварному приёму, многократно замеченному за кашалотом, на этот раз киты не стали бы прибегать; ведь нельзя же было предположить, что замеченные Тэштиго киты могли от этого всполошиться, да и вообще как-то почуять наше присутствие. А пока что один из матросов, который не входил в команду вельбота и должен был всё время оставаться на судне, сменил индейца на верхушке грот-мачты. Дозорные с фок– и бизань-мачт спустились на палубу, кадки с линём были установлены на своих местах, шлюпбалки выведены за борт, грота-рей обрасоплен, и три вельбота повисли над волнами, словно три коробочки морского укропа на крутых прибрежных скалах. А их команды, охваченные нетерпением, выстроились у борта, одной рукой ещё держась за поручни и поставив уже ногу на планшир. Так стоят наготове матросы у бортов военного корабля, идущего на абордаж.
Но в этот решающий миг вдруг раздалось восклицание, заставившее всех перевести взгляд с китов на сумрачного Ахава. И мы, содрогнувшись, увидели, что он стоит в окружении пяти тёмных призраков, казалось, только что возникших из воздуха.
Глава XLVIII. Вельботы спущены
Призраки – ибо таковыми они тогда предстали перед нами – двигались по другой стороне палубы, бесшумно и быстро снимая тросы и крепления с висевшей там шлюпки. Эта шлюпка всегда считалась у нас запасной, хотя и называлась капитанской, из-за того что висела на шканцах у правого борта. На носу в ней стояла теперь высокая темнолицая фигура с единственным белым зубом, зловеще торчащим между серо-стальных губ. Облачение этого человека состояло из сильно помятой чёрной хлопчатобумажной китайской куртки и таких же точно широких чёрных штанов. Но всю эту эбеновую погребальную черноту удивительнейшим образом увенчивал сверкающий белый витой тюрбан, под которым были уложены вокруг головы скрученные в косу волосы. Его помощники казались менее смуглолицыми, их кожа имела тот яркий, тигрово-жёлтый оттенок, какой присущ некоторым из древних и исконных обитателей Филиппин – этому племени, известному своим дьявольским коварством, из-за чего многие простодушные белые матросы считают их платными шпионами и тайными агентами дьявола на воде, а контора их повелителя, как полагают матросы, находится где-то в другом месте.
Экипаж корабля всё ещё в замешательстве разглядывал этих неведомых людей, когда раздался голос Ахава, обращавшегося к старику в белом тюрбане, который командовал ими:
– Всё готово, Федалла?
– Готово, – прошипел тот в ответ.
– Спустить вельботы на воду! – гаркнул Ахав через всю палубу. – Слышите? Спустить вельботы!
В голосе его была такая громовая сила, что матросы, несмотря на своё замешательство, тут же перепрыгнули через планшир; закрутились, завизжали блоки; три вельбота с размаху плюхнулись на воду; а люди с проворством и бесстрашием, обычными только среди китобоев, попрыгали, словно козы, с борта в лодки, раскачивавшиеся на волнах далеко внизу.
Но едва только они отгребли с подветренной стороны, как, обогнув корму, из-под противоположного борта показалась четвёртая лодка с теми же пятью незнакомцами на вёслах и Ахавом, который, стоя на корме во весь рост, громко крикнул Старбеку, Стаббу и Фласку, чтобы они растянулись по воде подальше друг от друга, охватив как можно более широкое пространство. Но все взоры снова были прикованы к темнолицему Федалле и его команде, и поэтому на вельботах не услышали приказа.
– Простите, капитан? – переспросил Старбек.
– Растянитесь, – крикнул Ахав. – Пошире! Все четыре лодки. Эй, Фласк, спускайся ниже по ветру!
– Слушаю, сэр! – весело откликнулся коротышка Водорез, занося назад своё огромное рулевое весло. – Навались, ребята! А ну ещё! ещё! ещё разок! Вот они, прямо по носу! Навались!
– Чего ты уставился на этих жёлтых молодчиков, Арчи?
– Да я ничего, сэр, – ответил Арчи. – Я и раньше знал обо всём этом. Разве же я не слышал, как они возились в трюме? Я вот и Кабако говорил. Ну, что ты теперь скажешь, Кабако? Это безбилетные пассажиры, мистер Фласк.
– Жмите, жмите сильнее, молодцы, жмите, дети мои, жмите, малютки, – проникновенно и успокаивающе тянул единым выдохом Стабб, в чьей команде ещё чувствовалось беспокойство. – Что это вы так лениво спину гнёте? Куда уставились? На тех парней в капитанской шлюпке? Вот невидаль! Пятью работниками больше у нас стало – так не всё ли равно, откуда они взялись? Чем больше, тем веселее. А ну, нажмите, нажмите посильней! Что нам за дело до серного духа? Черти тоже неплохие ребята. Вот так, вот так! Совсем другая работка, вот это толчок на тысячу фунтов, такой толчок сорвёт все ставки! Да здравствует золотая чаша спермацета, молодцы мои! Трижды ура, братцы, – с вами не пропадёшь! Эй, потише, потише; не торопиться, не торопиться! Ломайте вёсла, вы, мошенники! А ну, вгрызайтесь, собаки! Так, так, хорошо, легче, легче! Вот так, вот так! Заноси подальше и навались посильнее. Эй, полегче! Ах, дьявол вас забери, лоботрясы и ободранцы, вы что там, уснули, что ли? Кончайте храпеть и навалитесь на вёсла. Навалитесь, слышали? Навалитесь, вам говорят! Да навалитесь вы или нет? Почему, во имя всех дьяволов, вы не наваливаетесь? Навалитесь, хоть тресни хребет! Навалитесь, и пусть у вас глаза на лоб повылезут! А ну! – и он выхватил острый нож из-за пояса. – Все как один вытаскивайте ножи, лезвие в зубы и давайте гребите. Вот так, вот так. Наконец-то вы вроде взялись за дело; закусили стальные удила. А ну, рванём, рванём, серебряные ложечки! Рванём, матросские свайки!
Это обращение Стабба к своему экипажу приводится здесь дословно, поскольку он вообще отличался весьма своеобразной манерой разговаривать с матросами, а в особенности когда внушал им священные заповеди гребли. На основании вышеприведённого образца его проповедей не следует думать, будто он временами способен был выходить из себя и обрушиваться в ярости на свою паству. Вовсе нет, и в этом-то и состояло главное его своеобразие. Все эти ужасные слова он имел обыкновение произносить таким странным тоном шутливого бешенства, где бешенство служило, казалось, лишь приправой к шутливости, что каждый гребец под звуки его заклинаний наваливался на вёсла что было силы, словно тут дело шло о жизни и смерти, и в то же время словно чистого удовольствия ради. К тому же сам он имел при этом такой непринуждённый, беспечный вид, так лениво ворочая рулевым веслом и зевая во весь рот, что по одному только контрасту не мог не действовать по-колдовски успокаивающе на всю команду. И кроме того, Стабб принадлежал к юмористам особого рода, чьи шутки бывают подчас так каверзно замысловаты, что подчинённым постоянно приходится держать ухо востро, выслушивая приказания.
Повинуясь знаку Ахава, Старбек шёл теперь наперерез Стаббу, и, когда вельботы на какую-то минуту сблизились, Стабб окликнул старшего помощника.
– Мистер Старбек! Эхой, слева на вельботе! Хочу сказать вам кое-что, сэр, если позволите!
– Хэлло! – откликнулся точно окаменевший Старбек, ни на дюйм не повернув головы и продолжая тихо, но настойчиво подбадривать своих гребцов.
– Что вы скажете об этих желтолицых молодчиках, сэр?
– Как-нибудь пробрались на борт перед отплытием. (Нажми, нажми, ребята), – шёпотом своей команде, а потом снова во весь голос: – Неладное это дело, мистер Стабб! (Больше пены, дети мои!) Но вы не тревожьтесь, мистер Стабб, всё к лучшему. Пусть ваши ребята дружнее налягут на вёсла, и будь что будет. (Рывок, ещё рывок!) Нас ждут впереди целые бочки спермацета, мистер Стабб, а за этим-то мы и приплыли сюда. (Навались, ребята!) По крайней мере, это наш долг; долг и доход, рука об руку.
– Да, сэр, я и сам так подумал, – начал свой монолог Стабб, когда лодки разошлись. – Как взглянул на них, сразу же так и подумал. Да, да, вот зачем он, оказывается, спускался так часто в трюм. Пончик ещё давно об этом рассказывал. Они там были спрятаны. Тут всё дело в Белом Ките. Ну что ж, ладно, пусть так. Что ж тут можно сделать? Ладно! Пошли, ребята! Пока что мы ещё не за Белым Китом гоняемся. Навались!
У многих матросов неожиданное явление народу этих диковинных незнакомцев в такой критический момент, когда с палубы спускали вельботы, пробудило вполне объяснимое суеверное недоумение; хотя удивительное открытие Арчи, о котором все слышали, но которому прежде никто не давал веры, в какой-то мере подготовило команду к этому событию. Их изумление было несколько притуплено, а тут ещё Стабб со своими спокойными и убедительными объяснениями, так что матросы на время освободились от суеверных подозрений; хотя, конечно, оставались все основания для самых диких догадок относительно того, насколько замешан с самого начала в этом деле угрюмый Ахав. Что же до меня, то я безмолвно припоминал таинственные тени, которые в туманный рассветный час проскользнули у меня на глазах на палубу «Пекода», а также мистические намёки загадочного Илии.
Тем временем Ахав, чей голос уже не долетал до остальных шлюпок, занял позицию на крайнем левом фланге и шёл вперёд, опередив другие вельботы, – обстоятельство, обнаруживающее всю силу его гребцов. Эти тигрово-жёлтые создания были сделаны, казалось, из стали и китового уса; словно заводные, равномерно поднимались и опускались они в одновременном могучем рывке, посылавшем шлюпку вперёд не хуже парового двигателя, гоняющего суда по Миссисипи. Федалла, который сидел за гарпунерским веслом, скинул свою чёрную куртку и обнажил грудь, отчётливо выступавшую над планширом на зыбком фоне водного горизонта; на другом конце лодки виден был Ахав, отставивший, подобно фехтовальщику, назад руку, словно для того, чтобы не потерять равновесия, и уверенно орудующий рулевым веслом, как и тысячи раз до того, как его изувечил Белый Кит. Внезапно его вытянутая назад рука дёрнулась и застыла, и все пять вёсел замерли в воздухе. Неподвижная шлюпка с неподвижной командой закачалась на волнах. Вслед за ней остановились и три других вельбота. Киты снова повсюду шли в голубую глубину, так что издалека не удалось заметить даже их направления, однако Ахав, который находился к ним ближе других, сумел определить его.
– Не зевать по сторонам! – крикнул Старбек. – Подымайся, Квикег!
Проворно вскочив на треугольное возвышение на носу, дикарь встал там во весь рост, с жадным напряжением вглядываясь в то место, где только что виднелась дичь. А напротив него, на корме, где тоже имелась треугольная площадка, приподнятая вровень с планширом вельбота, стоял сам Старбек, невозмутимо и ловко балансируя в такт с покачиванием своего утлого судёнышка и глядя безмолвно в огромное синее океанское око.
Неподалёку так же безжизненно покачивался вельбот Фласка, а сам неустрашимый командир стоял на верхушке лагрета – толстого столба, приделанного нижним концом к килю и возвышающегося фута на два над кормовой площадкой. Им пользуются для того, чтобы замедлить разматывание гарпунного линя. Его верхний срез не шире человеческой ладони; и Фласк стоял на таком пьедестале, словно на мачте тонущего корабля, уже скрывшегося под водой по самые клотики. Но коротышка Водорез был приземист и мал, однако коротышка Водорез был полон высоких и великих стремлений, и потому кругозор с лагрета не удовлетворял Водореза.
– За третьей волной ничего не вижу, поставить, что ли, весло торчком, чтобы я мог на него вскарабкаться?
При этих словах Дэггу, держась, чтобы не упасть, обеими руками за борта вельбота, быстро пробрался на корму и тут, выпрямившись во весь рост, предложил Фласку в качестве пьедестала свои возвышающиеся плечи.
– Вот вам мачта не хуже любой другой, сэр. Заберётесь?
– А как же, и спасибо тебе, приятель, хотелось бы только, чтобы в тебе росту было футов на пятьдесят больше.
Тогда негр-исполин твёрдо упёр широко расставленные ноги в борта лодки, нагнувшись немного, подставил Фласку в качестве ступеньки свою плоскую ладонь, а затем, положив руку Фласка себе на увенчанную траурным плюмажем голову и крикнув ему, чтобы он подпрыгнул, когда сам Дэггу будет его подбрасывать, одним ловким рывком закинул коротышку Фласка живым и невредимым себе на плечи. И теперь Фласк стоял там и держался за руку Дэггу, которую тот поднял над головой, чтобы второму помощнику было на что опереться.
Новичку всегда удивительно, с какой привычной и бессознательной ловкостью сохраняет равновесие китолов, стоя в своём вельботе, который швыряют во все стороны буйные и своенравные кипучие волны. Тем более удивительно видеть, как при описанных обстоятельствах он стоит, балансируя, на верхушке лагрета. Но маленький Фласк, водружённый на плечи исполину Дэггу, представлял собою ещё более невероятное зрелище, с такой равнодушной, спокойной, беспечной, неосознанной, варварской величавостью благородный негр ритмично раскачивал своё туловище в лад с морской качкой. На плечах у него светловолосый Фласк казался просто снежинкой. Носильщик выглядел благороднее, чем его пассажир. Хотя непоседливый, горячий и кичливый коротышка Фласк топал иной раз в сердцах ногой, он всё равно не мог исторгнуть этим ни единого лишнего вздоха из царственной груди негра. Случалось мне видеть, как Старость и Тщеславие топали в сердцах ногой по живой и великодушной земле, но земля от этого не изменяла своего вращения и полёта.
А тем временем второй помощник Стабб не проявлял такого дальнозоркого беспокойства. Быть может, проведя положенное время на поверхности, киты надолго ушли в глубину, а не просто нырнули с перепугу; если так, тогда Стабб, как всегда при подобных обстоятельствах, намерен был скрасить себе томительное ожидание, выкурив трубочку. Он вытащил её из-за ленты на шляпе, где она у него всегда торчала наискось, наподобие пера. Он набил её и умял табак концом большого пальца, но только успел зажечь спичку, чиркнув по своей грубой, словно наждак, ладони, как гарпунщик Тэштиго, чьи глаза, точно две неподвижные звёзды, были обращены по ветру, внезапно молнией метнулся к своей банке, крича в торопливом безумии спешки:
– Вёсла, вёсла на воду! Навались! Вон, вон они!
Если вы не моряк, вы не увидели бы в тот миг никаких китов, ни малейших признаков хоть единой рыбёшки – ничего, кроме вспенившейся беловато-зелёной воды, а над ней лёгких и редких облачков пара, которые расплывались, относимые в сторону ветром, точно встрёпанные снопы брызг, сорванных с катящихся пенных валов. Внезапно воздух вокруг задрожал, заколыхался, словно над сильно нагретой железной плитой. Под этими атмосферными волнами и вихрями, скрытые тонким водяным слоем, плыли киты. Выдыхаемые ими облачка пара, заметные раньше, чем все другие признаки, служат как бы герольдами и провозвестниками их появления.
Все четыре вельбота шли теперь полным ходом к тому месту, где воздух и вода были охвачены одинаковым волнением. Но его не так-то просто настичь; всё вперёд и вперёд летела масса пузырьков и пены, словно уносимая в долину стремительным горным потоком.
– Жмите, жмите, ребята, – твердил своей команде Старбек самым тихим, но самым напряжённым шёпотом, а острый, твёрдый взгляд его глаз летел прямо впереди лодки, словно то были две видимые стрелки двух надёжнейших судовых компасов. Он почти ничего не говорил своим людям, и они ничего не говорили ему. Молчание в шлюпке нарушал по временам лишь его пронзительный шёпот, звучавший то резкой командой, то ласковой просьбой.
Совсем не так было в вельботе шумливого коротышки Водореза.
– А ну, гаркнем разок, братишки! Жми да шуми, громовержцы мои! Рванём и посадим лодку прямо на их чёрные спины, ребята; только сделайте это, и я отдаю вам свою ферму на Вайньярде, молодцы мои, вместе с женой и ребятишками. Бей, бей, колоти! О господи-владыко! Да я сейчас с ума сойду! Вон, вон она, белая вода! – и с криками он стащил с головы шляпу, швырнул её себе под ноги, истоптал, а затем, подобрав, запустил далеко в волны и под конец стал дёргаться и метаться у себя на корме, словно ошалевший однолеток в прериях.
– Поглядеть только на этого парня, – философически протянул Стабб, который следовал за ним на коротком расстоянии, так и зажав между зубами свою незажженную трубку. – Да с ним удар, что ли, с этим Фласком?
– Удар? Верно, покажем-ка им удар! Ударим по ним хорошенько! Веселей, веселей, дети мои! Сегодня пудинг на ужин. Веселей! Навались, детки! Навались, сосунки! Навались разом! Эй, какого чёрта вы заторопились? Тише, тише и ровней, ребята. Вы только жмите как следует, больше ничего не требуется. Хребты переломить, ножи перекусить – вот и всё ваше дело. Полегче, полегче, говорю, полегче, пусть у вас печёнка лопнет!
Но те слова, которые загадочный Ахав говорил своей тигрово-жёлтой команде, эти слова мы лучше опустим здесь; ведь вы живёте, греясь в благословенных лучах евангелического государства. Только нечестивые акулы в буйных волнах отваживались прислушаться к тому, что произносил Ахав, когда с грозовым челом, кровавым, убийственным взором и со спёкшимися в пене губами он устремлялся за своей добычей.
А вельботы все неслись вперёд. Время от времени Фласк принимался твердить о «вон том ките», подразумевая под ним вымышленное животное, которое якобы плыло под самым носом его вельбота и, как он утверждал, дразнило его своим хвостом, и слова эти были так убедительны, возбуждение так правдоподобно, что люди его то и дело в страхе озирались, чтобы своими глазами увидеть наконец морское чудовище. А это уже шло вразрез с правилами, ведь гребец должен законопатить себе глаза и вбить себе клин в шею, ибо морские обычаи требуют, чтобы в столь критические минуты у гребцов не было иных органов, кроме ушей, и иных членов, кроме рук.
То было чудесное, жуткое зрелище! Грандиозные валы всемогущего океана, нарастающий, гулкий вой, который они издавали, прокатываясь под восьмью бортами, точно гигантские игральные мячи, катящиеся по бескрайнему лугу, краткий миг агонии, когда вельбот замирал, воздевши нос к небесам, на остром, как лезвие, гребне, который вот-вот, казалось, перережет киль пополам; внезапное, глубокое падение на дно водяных долин и ущелий; отчаянный, из последних сил, взлёт на вершину следующего холма; безудержное, стремительное скольжение по его склону, – всё это вместе с воплями рулевых, возгласами гарпунёров и прерывистым, громким дыханием гребцов, вместе со сказочным, белеющим китовой костью «Пекодом», который шёл прямо на вельбот, распустив паруса, словно переполошившаяся наседка, бегущая к своему выводку, – это было захватывающее зрелище. Ни новобранец, прямо из объятий жены попавший в лихорадочное пламя первого боя, ни душа мертвеца, впервые столкнувшаяся с неведомыми призраками потустороннего мира, – никто не испытывает более сильных и более необычных ощущений, чем человек, впервые очутившийся гребцом на вельботе, который врывается в заколдованный пенный круг, скрывающий кашалота.
Пляшущая белизна пены, взбитой преследователями, стала теперь заметнее на фоне всё сгущавшихся бурых теней, отбрасываемых тучами на поверхность океана. Фонтаны пара больше не смешивались друг с другом, но вздымались повсюду, справа и слева; казалось, киты решили разойтись в разные стороны. Вельботы снова растянулись по воде: Старбек гнался за тремя китами, которые шли прямо по ветру. Мы поставили парус и теперь мчались вперёд, гонимые крепчающим ветром; вельбот двигался с такой бешеной скоростью, что с подветренного борта почти невозможно было работать вёслами – их так и рвало из уключин.
Вскоре мы уже плыли сквозь широкую расплывшуюся пелену тумана; ни корабля, ни шлюпок не было видно.
– Полегче, ребята, – шёпотом сказал Старбек, заводя ещё больше назад полотнище паруса. – У нас ещё хватит времени забить кита до того, как налетит шквал. Вон там снова белая вода показалась! Совсем близко! Навались!
Вскоре вслед за тем мы услышали возгласы справа и слева, донёсшиеся до нас один за другим и извещавшие о том, что два других вельбота уже подбили китов; но едва только они отзвучали, как раздался молниеносный, свистящий шёпот Старбека: «Встать!» – и Квикег с гарпуном в руке вскочил на ноги.
Хоть ни один из гребцов не мог видеть смертельной опасности, грозившей всем спереди, они по напряжённому лицу старшего помощника поняли, что решительный момент наступает; они слышали к тому же тяжёлый плеск, точно сотня слонов бултыхалась в воде. А шлюпка всё летела в тумане, и волны закручивались и шипели, словно разгневанные змеи, поднимая свои гребни.
– Вот, вот его горб. А ну, а ну, дай-ка ему! – шептал Старбек.
Короткий, стремительный звук вырвался из лодки! это Квикег метнул свой гарпун. В тот же миг подхваченный качкой вельбот сильно швырнуло вперёд и одновременно точно ударило носом о подводную скалу. Парус рванулся и опал, рядом взметнулась ввысь струя жгучего пара, всё под нами закачалось, заходило ходуном, как при землетрясении. Полузадохшуюся команду разбросало во все стороны по белому кипеню шквала. Шквал, кит и гарпун – всё перемешалось; и кит, лишь слегка задетый гарпуном, ушёл.
Вельбот едва не затопило, но он был почти не повреждён. Плавая вокруг, мы подобрали вёсла, привязали их к планширу и вскарабкались обратно на свои места. Мы оказались по колено в воде, которая покрывала все слани и шпангоуты, так что нашим опущенным взорам представлялось, будто мы сидим в коралловом судёнышке, выросшем со дна морского почти до самой поверхности.
Ветер крепчал: теперь он уже выл во всю мочь; волны сшибались щитами; шквал грохотал, чертил зигзаги, рассыпался с треском вокруг нас, словно бегущее по прерии белое пламя, в котором мы горели, не сгорая, бессмертные у смерти в зубах! Напрасно призывали мы другие лодки; в такой шторм это было всё равно что звать угли из горящего пламени через дымоход раскалённой печи. Тем временем клочья пены, летящие космы туч и туман становились всё темнее под тенью надвигающейся ночи; корабля по-прежнему не было видно. Вздымающиеся валы пресекали всякие попытки вычерпать из шлюпки воду. Вёсла уже не могли служить нам в качестве движителей, их можно было использовать только вместо спасательных кругов. Разрубив бечёвку, оплетавшую наглухо закупоренный бочонок со спичками, Старбек после многих неудач сумел наконец зажечь фонарь, а затем, нацепив его на какой-то шест, передал Квикегу – знаменосцу погибшей надежды. И тот сидел на носу, высоко держа свой бессильный светоч в самом сердце всесильного мрака. Он сидел на носу, отчаявшийся, изверившийся, но и в бездне отчаяния высоко держащий до последнего огонь надежды.
Наступил рассвет, и мы, промокшие до костей и дрожащие от холода, не чаявшие снова увидеть судно или вельбот, подняли головы. Туман ещё висел над морем, на днище шлюпки валялся разбитый выгоревший фонарь. И вдруг Квикег вскочил, приставив ладонь к уху. Мы все услышали слабый скрип снастей и мачт, словно заглушавшийся прежде штормом. Звук всё ближе и ближе; густой туман раздался перед смутно проступавшими, огромными, неясными очертаниями. Перепуганные, мы едва успели попрыгать в воду, как обозначившийся наконец в тумане корабль устремился на наш вельбот и подмял его под себя.
Раскачиваясь на волнах, мы видели, как покинутая нами шлюпка какое-то мгновение плясала и трепетала под форштевнем корабля, словно щепка у подножия водопада, потом огромный киль перекатился через неё, и она исчезла, чтоб вновь очутиться на поверхности беспорядочной грудой обломков за кормой. Мы снова подплыли к ней, швыряемые волнами о доски, и наконец были подобраны и благополучно подняты на борт. Другие вельботы успели, видя приближение шквала, перерубить лини гарпунов и вовремя вернуться на корабль. Нас на судне уже считали погибшими, но на прежний курс ещё не легли в надежде, что, быть может, удастся наткнуться на месте нашей гибели на какие-нибудь вещественные доказательства – вроде весла или рукоятки от остроги.
Глава XLIX. Гиена
В этом странном и запутанном деле, которое зовётся жизнью, бывают такие непонятные моменты и обстоятельства, когда вся вселенная представляется человеку одной большой злой шуткой, хотя, что в этой шутке остроумного, он понимает весьма смутно и имеет более чем достаточно оснований подозревать, что осмеянным оказывается не кто иной, как он сам. И тем не менее он не падает духом и не пускается в препирательства. Он готов проглотить всё происходящее, все религии, верования и убеждения, все тяготы, видимые и невидимые, как бы сучковаты и узловаты они ни были, подобно страусу, которому превосходное пищеварение позволяет заглатывать пули и ружейные кремни. А что до мелких трудностей и забот, что до предстоящих катастроф, гибельных опасностей и увечий – всё это, включая саму смерть, для него лишь лёгкие, добродушные пинки и дружеские тычки в бок, которыми угощает его незримый, непостижимый старый шутник. Такое редкостное, необыкновенное состояние духа охватывает человека лишь в минуты величайших несчастий; оно приходит к нему в самый разгар его глубоких и мрачных переживаний, и то, что мгновение назад казалось преисполненным величайшего значения, теперь представляется лишь частью одной вселенской шутки. И ничто так не благоприятствует этой игривой и легковесной бесшабашной философии отчаяния, как смертельные опасности китобойного промысла. Именно в этом настроении рассматривал я теперь всё плавание «Пекода» и его цель – великого Белого Кита.
– Квикег, – проговорил я, когда меня последним втащили на палубу, где я напрасно старался стряхнуть с себя воду. – Квикег, дружище, неужели такие вещи случаются часто?
Вымокший не менее моего, он, однако, без особых эмоций дал мне понять, что такие вещи действительно случаются часто.
– Мистер Стабб, – обратился я к этому достойному джентльмену, который стоял под дождём, застёгнутый на все пуговицы в своей клеёнчатой куртке, и преспокойно курил трубку, – мистер Стабб, по-моему, я слышал однажды, как вы говорили, что из всех встречавшихся вам китобоев наш старший помощник, мистер Старбек, самый осторожный и благоразумный. В таком случае бросок под парусом в туман и шквал прямо на плывущего кита должен быть верхом китобойного благоразумия?
– А как же? Мне случалось спускать вельбот во время шторма у мыса Горн, да ещё с судна, в котором была течь.
– Мистер Фласк, – обратился я к коротышке Водорезу, который стоял поблизости, – вы человек бывалый и опытный, а я нет. Не скажете ли вы мне, мистер Фласк, неужели непреложный закон промысла предписывает, чтобы гребцы надрывали себе спины, гребя навстречу своей погибели и непременно спиной же к ней повернувшись?
– Ну, ну, нельзя ли не так пышно? – сказал Фласк. – Да, таков закон. Хотелось бы мне взглянуть на команду, идущую на кита кормой, лицом к киту. Ха, ха. Да уж кит на них тогда так взглянет, будьте уверены!
Так от трёх беспристрастных свидетелей я получил сведения, полностью освещающие данный случай. И потому, принимая во внимание то обстоятельство, что шквалы, опрокидывающие вельботы, и последующие за ними ночёвки в открытом море являются вполне заурядными событиями в промысловой жизни; что в наивысший критический момент атаки на кита я обязан вверять свою жизнь тому, кто сидит за рулём, – подчас человеку, потерявшему в этот миг голову и готовому от возбуждения собственными каблуками проломить днище лодки; принимая во внимание, что приключившееся с нашим вельботом несчастье произошло главным образом из-за того, что Старбек гнал на кита в самый шквал; и принимая во внимание, что Старбек, при всём том, славился своей осторожностью на промысле; принимая во внимание, что я состоял в команде этого необычайно благоразумного Старбека; и принимая во внимание, наконец, в какую дьявольскую свистопляску я попал из-за Белого Кита, – принимая во внимание, говорю я, всё вышеизложенное, недурно было бы, подумал я, спуститься в кубрик и набросать начерно моё завещание.
– Квикег, – сказал я, – пошли. Ты будешь моим поверенным, моим душеприказчиком и моим наследником.
Может показаться странным, что из всех людей именно моряки так любят возиться со своими завещаниями и последними волеизъявлениями, однако никто другой на свете не питает такой склонности к этой забаве. Уже в четвёртый раз за свою мореплавательскую жизнь принимался я за то же занятие. И опять, проделав всю церемонию, почувствовал облегчение; у меня камень с сердца свалился. Кроме того, все дни, какие я ещё проживу, будут для меня теперь подобны дням, прожитым Лазарем после воскрешения[188]: добавочный чистый доход в столько-то дней и столько-то недель. Я пережил сам себя, пережил собственную смерть, мой смертный час и моё погребение заперты у меня в сундуке. Я оглядывался вокруг спокойно и удовлетворённо, словно мирное привидение с чистой совестью, сидящее за решёткой уютной семейной усыпальницы.
Ну вот, думал я, бессознательно закатывая рукава куртки, а теперь подать мне сюда эту самую смерть и погибель; я спокоен, я готов померяться с ней силами, и пусть катится к чёрту слабейший.
Глава L. Вельбот Ахава и его экипаж. Федалла
– Подумать только, Фласк! – воскликнул Стабб. – Если бы у меня была всего одна нога, меня бы в лодку калачом не заманили, разве только вот чтобы заткнуть в днище пробоину деревянной пяткой. А погляди на нашего старика!
– А по-моему, ничего тут уж такого особенного нет, – сказал Фласк. – Вот если бы у него нога была отхвачена по бедро, тогда другое дело. Тогда бы это было ему не под силу. А то у него одно колено цело, да и от другого тоже немалая доля осталась.
– Насчёт колен не знаю, дружок, я пока ещё не видел, как он становится на колени.
Среди китопромышленников многократно возникали разногласия по вопросу о том, следует ли капитану, чья жизнь имеет столь огромное значение для благополучного исхода плавания, подвергать эту самую жизнь всем опасностям погони на вельботе. Точно так же и воины Тамерлана[189] нередко спорили между собой со слезами на глазах, надо ли нести его столь бесценную жизнь в самую гущу битвы.
Но в случае с Ахавом этот вопрос приобретал несколько иной смысл. Если вспомнить, что в минуту опасности человек и на двух ногах едва держится; если вспомнить, что погоня за китом связана с постоянными, чрезвычайными трудностями, когда каждый отдельный миг угрожает гибелью, то разумно ли при подобных обстоятельствах для искалеченного человека пускаться на вельботе в погоню за китом? Разумеется, совместные владельцы «Пекода» должны были ответить на этот вопрос отрицательно.
Ахав отлично понимал, что его нантакетские друзья, может быть, и не стали бы особенно беспокоиться, если бы узнали, что он подходит на вельботе на близкое, но неопасное расстояние к месту охоты, чтобы присутствовать там и лично отдавать приказания, однако мысли о том, чтобы капитан Ахав имел в своём распоряжении собственный вельбот, где он сам будет сидеть за рулём во время охоты, и сверх всего, чтобы капитан Ахав имел в своём распоряжении пять лишних человек, составляющих экипаж этого вельбота, – подобные щедрые мысли, как он отлично понимал, никогда не приходили в голову владельцам «Пекода». Поэтому он и не стал добиваться от них дополнительных затрат и никак не обнаружил перед ними своих желаний на сей счёт, а просто принял потихоньку кое-какие собственные меры. И до тех пор, пока не было обнародовано открытие Кабако, на судне ничего не подозревали, хотя, когда через некоторое время после отплытия команда завершила все обычные работы по оснастке вельботов; когда вскоре вслед за этим стали по временам замечать, что Ахав своими собственными руками делает штыри деревянных уключин для шлюпки, которая висела у правого борта и считалась запасной, и даже предусмотрительно вырубает маленькие деревянные шпеньки, которые вставляют в жёлоб на носу, когда травится линь; когда замечено было всё это, в особенности же та предусмотрительность, с какой он позаботился о дополнительных сланях для днища этой шлюпки, словно затем, чтобы оно лучше выдерживало нажим его костяной ноги; а также то беспокойство, какое он проявил по поводу правильной формы опорной планки, или бросального бруса, как называют иногда дощатую поперечину в носу лодки, в которую упираются коленом при метании гарпуна или во время работы острогой; когда было замечено, как часто стоял он в этой лодке, уперев своё единственное колено в полукруглую выемку в планке, тут чуть углубляя, там выравнивая её плотницким долотом, – всё это уже тогда возбудило немалый интерес и изрядное любопытство. Но почти все мы полагали, что Ахав так печётся и заботится о подготовке вельбота, имея в виду лишь заключительный бросок в погоню за Моби Диком, так как он уже заявлял о своём намерении поразить это смертное чудище собственноручно. Но подобное предположение ни в какой мере не связывалось даже с самыми смутными подозрениями на тот счёт, что у него есть для этого вельбота особая команда.
Однако теперь благодаря появлению гребцов-призраков всякое недоумение рассеялось; на китобойцах недоумение всегда быстро рассеивается. К тому же экипажи китобойцев, этих плавучих бродяг, нередко состоят из таких немыслимых подонков и отбросов небывалых наций, выходящих на свет божий из самых неведомых уголков и самых тёмных дыр на нашей планете; да и суда подбирают иной раз прямо на море таких редкостных отщепенцев, которых носит по волнам на доске, на обломках крушения, на весле, на перевёрнутом вельботе, пироге, опрокинутой японской джонке и прочая, и прочая, что даже если бы сам Вельзевул поднялся на борт китобойца и зашёл в каюту поболтать с капитаном, это не вызвало бы на палубе чрезмерного волнения.
Но как бы то ни было, ясно одно: в то время как призраки-гребцы вскоре как-то прижились в команде, хотя и не слились с нею, их тюрбаноголовый предводитель Федалла оставался неразрешённой загадкой до конца. Откуда взялся он, как проник в наш благовоспитанный мир, какими необъяснимыми узами был связан с необычайной судьбой Ахава, так что подчас даже как бы имел на него какое-то влияние, быть может даже и власть над ним, бог весть, – никто этого не знал, но смотреть равнодушно на Федаллу матросы не могли. Это было такое существо, какое только во сне может привидеться культурным, добронравным обитателям умеренного пояса, да и то смутно; но такие, как он, время от времени мелькают среди жителей застывших на тысячелетия азиатских государств, преимущественно на островах к востоку от континента – в этих обособленных, извечных, неизменных странах, которые даже в наши, новейшие, времена сохраняют духовную изначальность первых земных поколений, с тех дней, когда свежа была ещё память о первом человеке, а все его потомки, не ведая, откуда он взялся, считали друг друга поистине призраками и вопрошали Солнце и Луну, почему и с какой целью они были созданы; когда, согласно Книге Бытия, ангелы и в самом деле сочетались с дочерьми человеческими, да и дьяволы тоже, как прибавляют неканонические раввины, предавались земной любви.
Глава LI. Призрачный фонтан
Проходили дни и недели, и разукрашенный китовой костью «Пекод» под зарифленными парусами не спеша пересёк четыре промысловых района: у Азорских островов, у островов Зелёного Мыса, на так называемом Плато (район возле устья реки Ла-Плата); и район Кэррол – незастолбленный водный участок к югу от острова Святой Елены.
И вот, скользя по водам Кэррола, однажды тихой лунной ночью, когда волны катились за бортом, словно серебряные свитки, и своим нежным переливчатым журчанием создавали как бы серебристую тишину, а не пустынное молчание; в такую безмолвную ночь впереди за крутым носом корабля, одетым белой пеной, появился серебристый фонтан. Освещённый луной, он казался небесным, словно сверкающий пернатый бог, восставший со дна морского. Первым его заметил Федалла. Ибо в эти лунные ночи он завёл себе привычку подыматься на верхушку грот-мачты и стоять там до утра дозором, словно среди бела дня. А ведь по ночам, даже если киты попадались целыми стадами, вряд ли один китобоец из ста рискнул бы спустить вельботы. Нетрудно вообразить поэтому, с каким чувством поглядывали матросы на этого престарелого азиата, стоящего на мачте в столь необычное время, так что его тюрбан и луна вдвоём сияли с одних небес. Но когда он, выстаивая там свою неизменную вахту в течение нескольких ночей подряд, не издал за это время ни звука и когда потом среди тишины вдруг раздался его нездешний голос, оповещая о появлении серебристого, мерцающего в лунном свете фонтана, все спавшие матросы повскакали с коек, словно это некий крылатый дух опустился на снасти и призывал смертный экипаж пред очи свои. «Фонтан на горизонте!» Прозвучи там труба архангела, и тогда не охватил бы их такой трепет, однако они испытывали не страх, а скорее удовольствие. Ибо возглас этот, хоть и раздавшийся в неурочный час, звучал так властно и так взбудоражил их своим безумным призывом, что все как один на борту готовы были тут же пуститься в погоню.
Быстро, припадая на одну ногу, прошёл по палубе Ахав, на ходу приказывая поставить брамсели и бом-брамсели и раздёрнуть лисели. Самый искусный рулевой был поставлен у штурвала. И вот, неся дозорных на верхушке каждой мачты, судно на всех парусах полетело по ветру. Непривычно норовистый попутный ветер так и вздымал, так и подбрасывал корабль, наполняя всё это множество парусов, и ожившая, трепещущая палуба совсем не чувствовалась под ногами; а между тем судно неслось вперёд; казалось, два непримиримых стремления боролись в нём, одно – прямо ввысь, в небеса, другое – вдаль, к смутной цели на горизонте. А если бы вы видели в это время лицо Ахава, вы подумали бы, что и в нём столкнулись две враждующие силы. Шаги его живой ноги отдавались по палубе эхом, но каждый удар его мёртвой конечности звучал как стук молотка по крышке гроба. Жизнь и смерть – вот на чём стоял этот старик. Но как ни стремителен был бег корабля, как ни горячи были жадные взоры, словно стрелы, летящие у каждого из глаз, – серебристый фонтан больше уже не показывался в эту ночь. Каждый матрос мог поклясться, что видел его, но во второй раз его не увидел никто.
Событие это почти забылось, когда вдруг несколько дней спустя, в тот же самый безмолвный полночный час снова раздался крик; и снова все увидели ночной фонтан; и снова, как только поставлены были паруса для погони, он исчез, будто его и не бывало. И так повторялось ночь за ночью, и теперь мы смотрели на него лишь с изумлением. Загадочный, взлетал он к небесам то при луне, то при свете звёзд, вновь исчезая на целый день, на два дня или на три; и каждый раз при новом появлении, казалось, всё дальше уходил, опережая нас, словно манил и влёк нас за собой.
По причине вековых суеверий, присущих племени мореплавателей, и той сверхъестественности, что окружала «Пекод», среди матросов не было недостатка в людях, которые готовы были поклясться, что этот неуловимый фонтан, где бы и когда бы его ни замечали, в какой бы глухой час, под какими бы отдалёнными широтами он ни возникал, этот фонтан пускал всегда один и тот же кит – Моби Дик. Порой при появлении этого летучего призрака людьми на борту овладевал какой-то странный ужас: казалось, что видение коварно манило нас за собой, словно затем, чтобы чудовище могло в конце концов наброситься на нас и в дальних диких морях нас растерзать.
Страхи эти, такие смутные и в то же время такие зловещие, приобретали особую силу по контрасту с окружающей безмятежностью, за синим покоем которой как бы притаились, думалось нам, какие-то дьявольские чары; а мы день за днём уходили всё дальше, и дальше среди такого томительного пустынного затишья, что чудилось, будто само пространство расступилось и всякая жизнь бежала перед мстительным килем нашего корабля.
Но вот наконец, повернув к востоку, в сторону мыса Доброй Надежды, «Пекод» стал вздыматься и нырять на широкой, размашистой зыби, и штормовые ветры начали завывать вокруг; когда украшенное белыми клыками судно резко кренилось под порывом ветра или в бешенстве таранило носом чёрные волны, так что пенные хлопья дождём серебристых осколков летели из-за бортов, тогда исчезла вся эта безжизненность и пустота, уступив место зрелищам, ещё более мрачным и гнетущим.
Рядом с нами у самого борта проносились в волнах неведомые существа, а за кормой вились тучей загадочные морские в?роны. Каждое утро видели мы этих птиц, рядами унизывавших наши снасти, и как ни пытались мы криками спугнуть их, они подолгу сидели на тросах, будто считали «Пекод» брошенным, покинутым на волю волн и ветров судном, отданным запустению и потому вполне пригодным насестом для таких бездомных созданий, как они. И всё вздымалось, вздымалось, без отдыха вздымалось тёмное, бескрайнее лоно океана, точно больная совесть великой мировой души, в раскаянии страждущей за тяжкие грехи и муки, которые она сотворила.
Мысом Доброй Надежды зовут тебя? Куда лучше подходит тебе старинное имя – Мыс Бурь; ибо, убаюканные долгим предательским штилем, мы вдруг попали в эти бушующие воды, где грешные души во образе птиц и рыб, казалось, навечно осуждены были плавать в безбрежном океане, не имея надежды на тихую гавань, или биться в чёрном воздухе, не ведая горизонта. Но и тогда, спокойный, белоснежный и неизменный, по-прежнему направляя к небесам свой серебристый плюмаж, по-прежнему маня нас за собой, был виден по временам одинокий фонтан.
Все эти дни, среди чёрного смятения стихий, Ахав, взявший на себя почти непрерывное командование вымокшей, зловещей палубой, пребывал в самом мрачном и необщительном расположении духа, и ещё реже, чем обычно, обращался к своим помощникам. В штормовую погоду, после того как всё на палубе принайтовлено и убраны паруса, не остаётся ничего иного, как в бездействии ожидать исхода урагана. В такие дни капитан и его команда становятся фаталистами. Упёршись своей костяной ногой в привычное углубление и крепко ухватившись одной рукой за ванты, Ахав долгими часами стоял, обратив лицо против ветра, и глядел вперёд, и от внезапно налетавших порывов урагана со снегом едва не смерзались его ресницы. А в это время матросы, которых прогнали с бака гибельные валы, с грохотом лопавшиеся у бушприта, выстроились вдоль бортов на шкафуте, и каждый, чтобы надёжней защититься от наскока волн, набросил на себя, словно незатянутый пояс, нечто вроде петли булиня, закреплённой у поручней, и теперь раскачивался в ней туда-сюда под пляску зыбей. Редко кто произносил хоть слово; и безмолвное судно, чей экипаж, казалось, составляли восковые куклы, день за днём неслось вперёд среди безумия и ликования демонических сил. И по ночам стояла на корабле всё та же людская немота пред лицом вопящего океана; так же в молчании мотались в петлях булиня матросы, так же, не дрогнув, стоял безмолвный Ахав под натиском шторма. Даже когда сама его природа требовала передышки, он не искал этой передышки в своей койке. Старбек не мог забыть, как однажды ночью, спустившись в каюту, чтобы отметить показания барометра, он увидел там старого капитана, который с закрытыми глазами сидел выпрямившись на своём привинченном к полу стуле; а капли дождя и оттаявшего снега медленно стекали вокруг него с плаща и шляпы. На столе подле него лежал неразвёрнутый свиток морских карт, о которых была уже речь выше. В крепко сжатом кулаке он держал фонарь. Он сидел очень прямо, но голова его была откинута назад и закрытые глаза были устремлены к стрелке «доносчика»[190], укреплённого между бимсами палубы.
«Ужасный старик! – подумал Старбек, содрогнувшись, – даже когда ты спишь среди страшного шторма, взор твой устремлён к твоей цели».
Глава LII. «Альбатрос»
У далёких островов Крозе к юго-востоку от мыса Доброй Надежды, где расположен богатый район охоты на настоящего кита, прямо по курсу на горизонте показался парусник под названием «Гоуни» («Альбатрос»). Он медленно двигался нам навстречу, и я с высоты своего поста на верхушке фок-мачты мог отлично разглядеть это замечательное для новичка зрелище – китобойца в дальнем плавании, давно покинувшего родную гавань.
Волны, словно вальки сукновала, выбелили его корпус, не хуже чем выброшенный на берег моржовый костяк. Вдоль бортов тянулись длинные полосы красноватой ржавчины, а весь рангоут с такелажем походил на толстые ветви деревьев, одетые пушистым инеем. На судне были поставлены только нижние паруса. И страшное зрелище представляли собой его длиннобородые дозорные на верхушках трёх оголённых мачт. Они казались укутанными в звериные шкуры – так изорвана и залатана была их одежда, выдержавшая почти четырехгодичное плавание. Стоя в железных обручах, прибитых к мачтам, они раскачивались и колыхались над бездонной пучиной. И хоть мы, шестеро дозорных, приблизились друг к другу в воздухе настолько, что могли бы одним прыжком перебраться со своей мачты на чужую, пока их парусник медленно скользил у нас за кормой, эти несчастные, уныло разглядывая нас, не сказали нашим дозорным ни единого слова, и только снизу, у нас со шканцев, прозвучал оклик:
– Эй, на «Альбатросе»! Не видали ли Белого Кита?
Но когда чужой капитан, перегнувшись через выбеленные поручни, приложил ко рту рупор, тот вдруг выпал у него из рук и полетел в море; а ветер между тем снова начал свистеть, так что он напрасно пытался перекричать его без рупора. И судно его всё удалялось от нас. Матросы в молчании отметили про себя это зловещее происшествие, приключившееся при первой же попытке справиться о Белом Ките у другого корабля; Ахав же мгновение оставался в нерешительности; казалось, если бы не крепчавший ветер, он готов был спустить шлюпку, чтобы самому взойти на палубу незнакомца. Но вот, воспользовавшись своим наветренным положением, он схватил рупор и громко окликнул парусник, который, как он определил по виду, тоже был из Нантакета и теперь шёл уже на родину.
– Эй, на корабле! Я – «Пекод», иду вокруг света! Передайте, пусть шлют письма в Тихий океан! А если через три года в эту пору я не вернусь домой, пусть тогда шлют…
К этому времени суда уже разошлись, как вдруг, следуя своим диковинным обычаям, стайка безобидных рыбок, которые вот уже много дней преспокойно плыли у наших бортов, ринулись прочь, трепеща плавниками, и пристроились с кормы и с носа по бокам незнакомца. И хотя Ахав во время своих бесконечных плаваний, должно быть, и прежде не раз наблюдал такое зрелище, теперь, когда он был одержим своей манией, для него даже сущие пустяки неожиданно оказывались преисполненными значения.
– Бежите прочь от меня? – проговорил он, глядя в воду. Слова эти, казалось бы, ничего особенного не выражали, но в них прозвучала такая глубокая, безнадёжная скорбь, какую безумный старик ещё никогда не высказывал. Но вот, оборотясь к рулевому, который всё время держал судно в ветре, чтобы оно не так ходко шло вперёд, Ахав крикнул своим прежним зычным голосом:
– Руль на борт! Курс вокруг света, так держать!
Вокруг света! Эти звуки не могут не вызвать чувства гордости; однако куда ведёт подобное кругосветное плавание? Через бесчисленные тяготы – в то самое место, откуда мы начали путь и где те, кого мы оставили в безопасности позади себя, всё это время находились, опередив нас.
Если бы наш мир был бесконечной плоской равниной, если бы, плывя на восток, мы всё время уходили к новым далям и открывали новые виды, ещё прекраснее, ещё удивительнее, чем любые Киклады или острова царя Соломона[191], вот тогда наше плавание имело бы смысл. Но когда мы гоняемся за туманными тайнами своих грёз или бросаемся в мучительную погоню за демоническими видениями, какие рано или поздно обязательно начинают манить душу всякого смертного, – когда мы преследуем их по всему этому круглому шару, они либо увлекают нас с собой в бесплодные лабиринты, либо награждают пробоиной и бросают на полдороге.
Глава LIII. Морские встречи
Очевидная причина, из-за которой Ахав не посетил встречный китобоец, заключалась, как мы уже говорили, в следующем: ветер и море грозили штормом. Но даже если бы этого не было, он всё равно бы, вероятно, не отправился туда – насколько можно судить по его дальнейшему поведению при сходных обстоятельствах, – если бы ему удалось путём переговоров через рупор получить отрицательный ответ на свой вопрос. Ибо, как выяснилось впоследствии, он не испытывал ни малейшей потребности в общении – хотя бы самом кратковременном – с капитанами других судов, если те не могли сообщить ему никаких новых сведений по вопросу, которым он так жадно интересовался. Однако для того чтобы эта подробность получила должную оценку, необходимо рассказать здесь кое-что о том, как по старинным обычаям полагается вести себя китобойцам при встрече в чужих водах и в особенности при встрече в промысловых районах.
Если взять двух незнакомых людей, пересекающих пустошь Пайн-Бэрренс в штате Нью-Йорк или менее пустынное урочище Солсбери-Плейн в Англии; если случайно встретившись в столь негостеприимной пустынной местности, эти двое, при всём своём желании, никак не могут избегнуть взаимного приветствия; не могут не остановиться на минутку, чтобы обменяться новостями, или даже присесть ненадолго и передохнуть за компанию – тем более естественно в таком случае, чтобы на бескрайних океанских пустошах и урочищах два китобойных судна, заметив друг друга где-нибудь на краю земли – у затерянного острова Фаннинга или у далёких Гилбертовых островов – тем более естественно, говорю я, чтобы при подобных обстоятельствах эти суда не только обменивались приветствиями через рупор, но вступали бы в более тесные, более дружественные и любезные взаимоотношения. И в особенности, если оба эти судна приписаны к одному порту, так что их капитаны, офицеры и многие из команды лично знакомы друг с другом, а стало быть, имеют немало дорогих сердцу домашних тем для разговоров.
Недавно вышедшее в море судно, быть может, везёт письма для тех, кто провёл в плавании не один год; и уж во всяком случае оно передаст им несколько газет, датированных годом или двумя позже, чем последняя газета в их собственной замусоленной пачке. А в ответ на эту любезность начинающее промысел судно получит новейшие сведения из того промыслового района, куда оно держит курс, а это вещь для него чрезвычайно ценная.
В какой-то мере всё это относится и к тем китобойцам, чьи пути пересекаются уже в пределах одного промыслового района, даже если оба они одинаково давно покинули родной порт. Ведь одно из этих двух судов могло получить почту для передачи с какого-нибудь третьего корабля, который теперь уже далеко; а среди писем некоторые, быть может, предназначаются членам экипажа встречного судна. К тому же они могут обменяться промысловыми новостями и приятно побеседовать. Потому что их связывают не только взаимные симпатии мореплавателей, но также и то своеобразное родство, которое возникает благодаря общему делу и совместно пережитым лишениям и опасностям.
Если же повстречавшиеся суда – из разных стран, всё равно и это не имеет особого значения, если, понятно, они говорят на одном языке, как, например, американцы и англичане. Хотя, конечно, из-за малого количества английских китобоев такие встречи случаются нечасто, а когда они всё-таки случаются, между судами возникает кое-какая натянутость; потому что англичанин, он довольно сдержан, а янки, он этого не переносит ни в ком, кроме себя самого. К тому же английские китоловы подчас напускают на себя перед американскими китоловами эдакую имперскую чванливость, рассматривая долговязого, тощего жителя Нантакета, с его неописуемыми провинциальными замашками, как своего рода морского деревенщину. Что в действительности может дать англичанам основание для чванливости, сказать довольно трудно, поскольку янки, взятые все вместе, за один день добывают в океанах больше китов, чем все англичане, вместе взятые, – за десять лет. Но это всего лишь безобидная маленькая слабость английских китоловов, моряк из Нантакета не принимает её близко к сердцу; вероятно, потому, что ему известны и кое-какие собственные слабости.
Итак, мы видим, что из всех кораблей, в одиночку плавающих по морям, китобойцы имеют больше всего причин быть общительными – каковыми они и являются. Тогда как купцы иной раз, повстречавшись в центре Атлантики, проплывают мимо, не обменявшись ни единым словом привета, в открытом море поливая друг друга презрением, подобно двум щёголям на Бродвее, и в то же самое время, быть может, злорадно подсчитывая, во сколько обошлась другому полная оснастка. Что до военных кораблей, то они, когда им случается встретиться в море, поначалу так долго и глупо раскланиваются и приспускают кормовые флаги, что тут уже не остаётся никаких следов настоящей, сердечной доброжелательности и братской любви. А что касается работорговцев, то они всегда в такой невероятной спешке, что, встретившись, норовят только поскорей друг от друга улизнуть. А вот пираты, если им случается скрестить свои скрещённые кости, прежде всего кричат: «Сколько черепов?» – совсем как китобойцы, которые кричат: «Сколько бочек?» И получив ответ на этот вопрос, пираты тут же отруливают в разные стороны, поскольку все они чертовские злодеи и им не доставляет удовольствия любоваться своим злодейским подобием.
Но поглядите на доброго, скромного, добродушного, дружелюбного, славного китобойца! Что делает китобоец, если он встречает другого китобойца в мало-мальски приличную погоду? Он устраивает «повстречанье», вещь настолько неизвестную на других кораблях, что там даже слова этого не слыхали; а если случайно когда и услышат, то они только смеяться станут и повторять всякую чушь про «фонтанщиков», «салотопов» и тому подобные остроумные выражения. Чем объяснить, что все купеческие суда, так же как и все пиратские, и все военные корабли, и все работорговцы, относятся к китобойцам с таким презрением? На этот вопрос трудно ответить. Потому что взять вот, к примеру, пиратов, так разве у них такая уж славная профессия? Она иной раз и приводит, конечно, к возвышению, но только на виселице. А если человек возвысился этим своеобразным способом, он лишается фундамента, необходимого для подобной высоты. Так что, на мой взгляд, чтобы хвастаться перед китобойцем своим высоким положением, у пирата нет надёжного основания.
Однако что такое «повстречанье»? Вы бы только попусту стёрли до крови свой указательный палец, водя им по страницам словарей в поисках этого слова; профессор Джонсон не достиг подобных высот эрудиции, и ковчег Ноя Вебстера[192] тоже не содержит его. А между тем это весьма выразительное слово вот уже много лет в постоянном ходу среди пятнадцати тысяч истинных, урождённых янки. Разумеется, необходимо определить его значение и включить его в лексикон. С каковой целью я позволю себе дать ему научное толкование.
Повстречанье (существ.) – дружеская встреча двух (или более) китобойцев, преимущественно в промысловых районах, когда, обменявшись приветствиями, они обмениваются также и визитами членов экипажей: капитаны сходятся на борту одного корабля, а старшие помощники – на борту другого.
Не следует забывать также, если речь зашла о повстречанье, и ещё одну небольшую деталь. В каждой профессии есть свои маленькие особенности; есть таковые и в китобойном промысле. На пиратском, военном или невольничьем кораблях капитан, отправляясь куда-либо в своей шлюпке, располагается на корме, где нередко бывает устроено удобное мягкое сиденье, и часто сам правит маленьким, словно игрушечным, румпелем, украшенным пёстрыми шнурками и лентами. Но у вельбота нет на корме никакого сиденья, никаких подушечек и никакого румпеля. Не хватало бы ещё, чтобы капитанов-китобоев катали по волнам в инвалидном кресле, наподобие почтенных старых подагриков. Что же до румпеля, то ни один вельбот не допустит подобных нежностей; а поскольку при встречах судно покидает вся команда спущенного вельбота – в том числе и гарпунщик, его кормчий, – правит в подобных случаях именно он, а капитан, которому в лодке негде сидеть, отправляется наносить свой визит стоя, словно сосна. И часто можно видеть, как стоящий в лодке капитан, чувствуя, что глаза всего видимого мира устремлены на него с бортов обоих кораблей, прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить равновесие и не уронить своё достоинство. А это не так-то легко, ибо сзади него торчит огромное рулевое весло, которое время от времени ударяет его в поясницу, между тем как спереди весло загребного бьёт его по коленям. Так что и с фронта, и с тыла он стиснут до предела, и ему остаётся только распространяться в стороны и пошире расставлять ноги; но при этом внезапный и сильный рывок вельбота легко может опрокинуть его, ибо длина основания без соответствующей ширины ещё немногого стоит. Попробуйте просто расставить тупым углом, наподобие циркуля, два шеста, и вы увидите, что они стоять не будут. А между тем никак нельзя, чтоб на глазах у всего честного мира, никак нельзя, говорю я, чтобы этот балансирующий на широко расставленных ногах капитан хоть чуть-чуть поддержал себя, ухватившись за какой-нибудь предмет рукой; мало того, в доказательство своего полного, несгибаемого самообладания он, как правило, держит руки в карманах брюк; хотя, может быть, эти руки, как правило, крупные и тяжёлые, служат ему там в качестве балласта. И всё-таки бывали случаи, и при этом надёжно засвидетельствованные, когда капитан в какой-нибудь острый момент – скажем, во время внезапно налетевшего шквала, – вцеплялся в волосы ближайшему гребцу и что было силы держался за них, неумолимый, как сама смерть.
Глава LIV. Повесть о «Таун-Хо»
Как она была рассказана в Золотой гостинице
Мыс Доброй Надежды, как и вся водная область вокруг него, весьма сходен с людным перекрёстком больших дорог, где можно встретить столько путешественников, как ни в одном другом месте земного шара.
Вскоре после встречи с «Альбатросом» мы увидели ещё одно возвращавшееся домой судно – китобоец «Таун-Хо»[193]. Экипаж на нём почти полностью состоял из полинезийцев. Во время устроенного короткого «повстречанья» мы услышали разительные новости о Моби Дике. Для некоторых из нас интерес к Белому Киту беспримерно увеличился сейчас благодаря одному обстоятельству из истории «Таун-Хо», которое, казалось, отдалённо и в каком-то противоположном смысле наделяло кита неким удивительным даром вершить господний приговор, по временам настигающий иных людей. Это обстоятельство, вместе с особыми вытекающими из него последствиями и выводами, образующими, так сказать, потаённую часть трагедии, которая будет сейчас изложена, так и не достигло слуха капитана Ахава и его помощников. Ибо потаённая часть этой истории не была известна и самому капитану «Таун-Хо». Она была достоянием лишь трёх белых матросов с этого корабля, один из которых, как выяснилось, сообщил её Тэштиго, взяв с него страшный обет молчания; но в ту же ночь Тэштиго бредил во сне, и таким образом столь многое стало известным, что, проснувшись, он уже не мог не досказать остального. Тем не менее так велико было влияние этой тайны на матросов «Пекода», которые узнали её во всей полноте, и такая, я бы сказал, необычная деликатность овладела ими, что они хранили молчание, и слух обо всём этом не проник за пределы кубрика. Вплетая, где должно, таинственную нить в официальную версию рассказа, я приступаю к изложению и увековечению сей необычной истории во всём её объёме.
Мне почему-то захотелось сохранить тот стиль, в котором однажды, накануне дня какого-то святого, я рассказал её в Лиме, в кругу моих испанских друзей, когда мы, развалившись, курили на украшенной щедро позлащёнными изразцами веранде Золотой гостиницы. Двое из этих изящных кавалеров, юные дон Педро и дон Себастьян, были ближе знакомы со мной – вот почему время от времени они прерывали меня вопросами, на которые в должное время получали ответы.
За два года до того, как я впервые услышал о событиях, о которых собираюсь поведать вам, джентльмены, «Таун-Хо», китобоец из Нантакета, плавал здесь, в Тихом океане, в нескольких днях пути к западу от гостеприимного крова Золотой гостиницы. Он находился где-то к северу от экватора. Однажды утром, когда матросы, как всегда, встали к насосам, было замечено, что воды в трюме набралось больше обычного. Решили, что обшивку корабля проткнула меч-рыба, джентльмены. Однако капитан, имевший одному лишь ему известные основания верить в редкую удачу, которая якобы ждала их в этих широтах, не желал изменить курс: течь казалась тогда ещё невелика и неопасна, хотя пробоина так и не была обнаружена во время поисков, значительно затруднённых волнением на море; и корабль продолжал свой путь, меж тем как вахты сменялись у насосов, работая недолго и без напряжения. Однако удачи им не было, пробоина не только не была обнаружена, но и столь значительно увеличилась течь, что обеспокоенный капитан принял решение идти на всех парусах к ближайшему порту на островах, чтобы там поднять судно из воды и отремонтировать.
Хотя плыть им предстояло неблизко, капитан нисколько не боялся, что судно затонет в пути, если только не произойдёт какой-нибудь исключительный случай, ибо помпы у него были отличные, и тридцать шесть матросов, сменяясь, могли без особого затруднения выкачивать воду, даже если бы течь увеличилась вдвое. Почти всю дорогу их сопровождали попутные ветры, и несомненно, что «Таун-Хо» благополучно достиг бы пристани без всяких роковых происшествий, если бы не грубая властность Рэдни с Вайньярда, старшего помощника капитана, и не вызванная им ожесточённая мстительность Стилкилта, отчаянного парня с озёр, из Буффало.
– С озёр! Из Буффало! Ради бога, с каких это озёр? И что такое это Буффало? – сказал дон Себастьян, приподнимаясь в своём гамаке.
– Город на восточном берегу нашего озера Эри, дон… Но взываю к вашей любезности. Сейчас для вас всё разъяснится.
Так вот, джентльмены, эти парни с озёр, плавающие на бригах и трехмачтовых шхунах, не уступающих размерами тем большим и прочным судам, что отправляются из вашего старого Кальяо к далёкой Маниле, в самом сердце нашей замкнутой, сухопутной Америки получили то необузданное флибустьерское воспитание, которое обычно приписывают воздействию открытого океана. Ибо в своём взаимосвязанном единстве наши огромные пресные моря – Эри, Онтарио, Гурон, Великое и Мичиган, – окружённые разнообразнейшими племенами и народами, обладают океанскими просторами и многими другими благороднейшими океанскими качествами. В них, как в водах Полинезии, лежат кольца живописных островов; на берегах их, как в Атлантике, живут два великих и столь же отличающихся друг от друга народа; они открывают морской доступ с востока к нашим многочисленным и далёким колониям, расположенным вокруг их вод; тут и там на них грозно взирают батареи береговых орудий, и с крутых скал смотрят в воду старинные пушки неприступного Макино[194]; они слышали, как громыхали салютами флотилии, возвещая морские победы; по временам на их песчаных склонах появляются дикие варвары, чьи раскрашенные багровые лица мелькают в увешанных мехами вигвамах; на многие лиги граничат они с древними нетронутыми лесами, где сомкнутыми рядами стоят, как короли в готических родословных, высокие сосны, где прячутся кровожадные африканские хищники и маленькие зверьки, чьи шелковистые меха украшают царственные одежды татарских императоров; в них отражаются столичные дома Буффало и Кливленда, а также и виннебагские селения[195]; их воды несут на себе судно мошенника-купца, и вооружённый крейсер государства, и пароход, и буковое каноэ; над ними бушуют сокрушительные гиперборейские ветры, такие же ужасные, как те, что вздымают солёные морские волны; им известны кораблекрушения, ибо не раз в ночную пору в их безбрежных, хотя и замкнутых водах гибли корабли со всем перепуганным экипажем. Да, джентльмены, хотя Стилкилт и вырос в глубине страны, бурный океан был для него родной стихией; в отваге и дерзости он не уступал ни одному моряку. Что же касается Рэдни, то, хотя в младенчестве он и лежал на пустынном песчаном берегу Нантакета, прильнув к материнской груди моря, хотя позже он не раз бороздил наш суровый Атлантический и ваш мечтательный Тихий океаны, всё же он был так же злопамятен и неуживчив, как моряки с озёр, где в лесной глуши царят поножовщина и месть. Всё же в уроженце Нантакета были и хорошие черты, а моряк с озёр, хоть он и был сущим дьяволом, мог бы, если бы к нему отнеслись с непреклонной твёрдостью, смягчённой простым и открытым признанием его человеческих достоинств, какое по праву причитается и подлейшему рабу, – мог бы долго оставаться послушным и безобидным. Во всяком случае, так он и вёл себя до поры; но Рэдни был обречён, безумие было его уделом, а Стилкилт… но, джентльмены, сейчас вы всё узнаете.
Прошло никак не больше дня или двух после того, как «Таун-Хо» взял курс на ближайшую гавань, а течь снова увеличилась, правда, всего лишь настолько, что насосам приходилось ежедневно работать час или немногим больше. А надо вам знать, что в таком смирном и цивилизованном океане, как наш Атлантический, некоторые капитаны будут хоть весь рейс откачивать воду, не подумав изменить курс. Бывает, правда, и так, что если вахтенный офицер забудет об этом в тихую ночь, когда всех сильно клонит ко сну, то уж ни он, ни кто другой на судне никогда более о том и не вспомнит, по той причине, что вся команда тихо погрузится на дно. Да и в пустынных и диких морях, расположенных далеко к западу от вас, джентльмены, на судах не считают необычным, если вся команда в полном составе работает посменно у насосов на протяжении даже значительного пути, конечно, если он пролегает вдоль более или менее доступного берега, или если существует какой-либо другой разумный вид отступления. Лишь в том случае, когда судно с течью находится далеко в открытом океане и поблизости нет никакой земли, капитан начинает немного беспокоиться.
Именно так обстояло дело с «Таун-Хо», поэтому, когда обнаружилось, что течь снова увеличивается, кое-кто из экипажа проявил некоторое беспокойство, в особенности Рэдни, старший помощник капитана. Он приказал поставить бом-брамсели так, чтобы ветер как следует надувал их. Должен вам сказать, джентльмены, что Рэдни был далеко не трус; он столь же мало был склонен к какому-либо проявлению нервного страха за свою жизнь, как и любой бесшабашный смельчак, какого можно встретить на суше или на воде. Поэтому, когда он выказал такую заботу о безопасности корабля, матросы стали поговаривать, будто тут дело в том, что, мол, он один из его владельцев. В тот же вечер, когда они стояли у помп, немало весёлых шуток сыпалось в его адрес, между тем как ноги матросов то и дело с шумом окатывала прозрачная морская вода – прозрачная, как в горном источнике, джентльмены, – которая, с силой вырываясь из насосов, текла по палубе и низвергалась непрерывным потоком в море через подветренные шпигаты.
Как вам хорошо известно, в нашем полном условностей мире, будь то водный, или любой другой, нередко случается так: когда человек, поставленный начальником над своими собратьями, обнаруживает, что один из них значительно превосходит его своей горделивой мужественностью, он исполняется к нему горькой и непреодолимой антипатией; и если только ему представится случай, джентльмены, он постарается сокрушить превосходство своего подчинённого, обратив того в жалкую горстку пыли. Как бы то ни было, джентльмены, но Стилкилт был большое и благородное существо, с головой как у римлянина, с мягко ниспадающей золотой бородой, подобной бахроме на попоне горячего скакуна из конюшни вашего последнего вице-короля, джентльмены, с умом, сердцем и душой, которые сделали бы его Карлом Великим, если бы он только родился сыном его отца. А Рэдни, помощник капитана, был уродлив, как мул, и так же упрям, безрассуден и злопамятен. Он не любил Стилкилта, и Стилкилт знал это.
Заметив приближающегося помощника капитана, Стилкилт, вместе с другими матросами выкачивавший воду, притворился, будто не видит его, и бесстрашно продолжал свои весёлые шутки:
– Да, ребятки, вот это хлещет! А ну-ка, кто-нибудь подставьте кувшинчик, давайте хлебнём как следует! Чёрт побери, не грех бы и разлить по бутылкам! Говорю вам, друзья, вся доля старика Рэда уйдёт в эту пробоину. Не мешало бы ему отрезать свою часть корпуса и притащить её на буксире домой. Эх, сказать правду, братцы, меч-рыба только начала дело, а потом она вернулась с целой бандой рыб-пил, рыб-плотников и рыб-топоров, и вся эта орава теперь принялась за работу – давай резать и пилить днище; сразу наладят, если что не так. Будь старик Рэд сейчас здесь, я бы посоветовал ему прыгнуть за борт и разогнать их! Да они растащут на куски твою собственность, сказал бы я ему. Но он простак, наш Рэд, да и красавчик к тому же! Говорят, ребята, что весь остальной капитал он вложил в зеркала. Хотел бы я, чтобы он подарил мне, бедняге, слепок со своего носа!
– Дьявол вас побери! Какого чёрта помпа не работает? – проревел Рэдни, сделав вид, будто он не слышал разговора матросов. – А ну-ка, принимайтесь за дело!
– Слушаюсь, сэр, – отвечал Стилкилт, веселясь от души. – А ну, навались, ребята!
И помпа загремела, как полсотни пожарных насосов; матросы принялись за дело всерьёз, и вскоре послышалось то характерное тяжёлое дыхание, которое свидетельствует о величайшем напряжении всех человеческих сил.
Прекратив наконец вместе с остальными работу, Стилкилт, задыхаясь, отошёл от помпы и уселся на шпиль, утирая обильный пот со лба; лицо его было багрово-красным, глаза налились кровью. Не знаю, какой злой дух овладел Рэдни, джентльмены, заставив его связаться с таким человеком, находящимся к тому же в столь возбуждённом состоянии; но именно так оно и случилось. Подойдя к Стилкилту с надменным видом, помощник капитана приказал ему взять метлу и подмести палубу, а потом убрать лопатой отвратительные следы, оставленные разгуливавшей по палубе свиньёй.
Надо вам сказать, джентльмены, что приборка палубы в море – это такая работа, которая выполняется каждый вечер в любую погоду, кроме сильнейших штормов; известно, что она производилась даже на судах, уже буквально идущих ко дну. Такова, джентльмены, неизменность морских обычаев и инстинктивная любовь к порядку в моряках, из которых иные откажутся утонуть, не умывшись предварительно. Но на всех кораблях орудовать метлой представляется исключительно юнгам, если таковые имеются на борту. Кроме того, вахты, работавшие поочерёдно у помп, были составлены из самых крепких матросов «Таун-Хо»; Стилкилт, как сильнейший из всех, неизменно назначался старшиной, а следовательно, должен был, как и его товарищи, освобождаться от прочих мелких дел, не связанных с собственно мореходными обязанностями. Упоминаю все эти подробности для того, чтобы было совершенно ясно, как обстояло дело между этими двумя людьми.
Однако этим всё отнюдь не исчерпывалось: приказ взяться за лопату был так же откровенно рассчитан на то, чтобы уязвить и оскорбить Стилкилта, как если бы Рэдни плюнул ему в лицо. Это поймёт каждый, кто ходил матросом на китобойце. Всё это (и даже значительно больше) полностью осознал житель лесной глуши, когда услышал распоряжение помощника капитана. Мгновение он продолжал сидеть, не двигаясь, пристально глядя в злобные глаза помощника капитана и чувствуя, как гора пороховых бочек всё громоздится у него в груди и фитиль беззвучно догорает, подбираясь к ним всё ближе и ближе; он чувствовал это, хотя и не отдавал себе ясного отчёта, но им овладела, джентльмены, странная сдержанность и нежелание ещё более раздражать вспыльчивого человека, и без того уже потерявшего самообладание (такого рода оцепенение чаще всего – если только вообще оно возникает – бывает свойственно действительно мужественным людям, даже когда они озлоблены).
Вот почему Стилкилт отвечал обычным голосом, лишь самую малость охрипшим от крайней физической усталости, которую он тогда испытывал, что приборка палубы – не его дело и он не станет им заниматься. Затем, обойдя полным молчанием замечание о лопате, он указал на трёх матросов, которые обычно подметали палубу, – не будучи заняты у помпы, они почти (или вовсе) не работали весь день. На это Рэдни ответил бранью, с отвратительной властностью требуя безоговорочного подчинения приказу, в то же время надвигаясь на всё ещё сидящего Стилкилта с поднятым в руке купорным молотом, который он выхватил из стоявшей рядом бочки.
Обливающийся потом Стилкилт был возбуждён и измучен напряжённым трудом у насоса, он вряд ли смог бы, несмотря на возникшее у него вначале безотчётное желание не доводить дело до скандала, долго терпеть такое обращение со стороны помощника капитана, но всё же, по-прежнему стараясь унять пламя, бушевавшее в его груди, он упрямо продолжал сидеть, не двигаясь с места, пока наконец обезумевший Рэдни не потряс молотом всего лишь в нескольких дюймах от его лица, в ярости требуя повиновения.
Стилкилт поднялся и, медленно отступая за шпиль, раздельно повторил, обращаясь к помощнику капитана, неотступно преследовавшему его с угрожающе поднятым молотом в руке, что он не намерен подчиниться. Видя, однако, что его миролюбие не производит ни малейшего впечатления, он грозным жестом согнутой руки попытался предостеречь одержимого глупца; но всё было напрасно. Таким-то образом они медленно кружили вокруг шпиля; решив наконец прекратить отступление и полагая, что он уже вынес всё, что только было в его силах, Стилкилт стал на крышку люка и сказал помощнику так:
– Мистер Рэдни, я не желаю подчиняться вам. Положите молот, а не то – берегитесь!
Но обречённый помощник капитана, подойдя ещё ближе к стоявшему неподвижно Стилкилту, потряс тяжёлым молотом не далее чем в дюйме от его зубов, извергая в то же время целый поток невыносимых проклятий. Не отступая ни на тысячную долю дюйма и пронзая его несгибаемым клинком своего взгляда, Стилкилт, сжав за спиной в кулак правую руку и медленно занеся её вверх, сказал своему преследователю, что если только молот заденет его щёку, он (Стилкилт) убьёт его. Но, джентльмены, глупец был уже клеймён на убой самими богами. Молот коснулся щеки Стилкилта, в следующее мгновение нижняя челюсть помощника капитана была свёрнута, он упал на крышку люка, плюя кровью, словно кит.
Не успели крики достичь капитанской каюты, а уж Стилкилт дёрнул за бакштаг, который тянулся к самому топу, где стояли дозором двое его друзей. Оба были канальцами.
– Канальцы? – воскликнул дон Педро. – Мы видели немало китобойцев в наших гаванях, но никогда не слышали о ваших канальцах. Простите, но кто они и чем занимаются?
– Канальцы, дон, это лодочники с нашего великого канала Эри. Вы, должно быть, слышали о нём.
– О нет, сеньор, здесь, в этой скучной, жаркой, до крайности ленивой и косной стране, мы почти ничего не знаем о вашем энергичном Севере.
– Неужели? Что же, дон, налейте-ка мне ещё. Ваша чича[196] очень хороша. Прежде чем продолжать свой рассказ, я объясню вам, что собой представляют наши канальцы, ибо эти сведения, возможно, с какой-то новой стороны осветят мою историю.
На протяжении трёхсот шестидесяти миль, джентльмены, пересекая весь штат Нью-Йорк, через многочисленные людные города и цветущие сёла, через огромные, мрачные, пустынные болота и тучные нивы, которым нет равных по плодородию, через биллиардные и бары, через святая святых великих лесов, по римским аркам, переброшенным через индейские реки, в тени и на солнце, мимо счастливых сердец или печальных, по всему широкому и живописному простору благородных земель Мохок[197], под стенами белоснежных церквей, чьи шпили стоят словно верстовые столбы, одним непрерывным потоком течёт по-венециански развратная и подчас преступная жизнь. Там подлинная страна дикарей, джентльмены, там воют язычники, они там всюду, совсем рядом с вами, в густой тени, отбрасываемой церквами, и под их надёжной и снисходительной защитой. Ибо по некоей удивительной и роковой закономерности грешники, джентльмены, подобно пиратам у вас на родине, которые, как отмечают многие, всегда поселяются вокруг храмов правосудия, обитают главным образом вблизи святых мест.
– Кто это там идёт – монах? – спросил дон Педро, с забавной тревогой глядя вниз на оживлённую площадь.
– К счастью для нашего друга северянина, инквизиция сеньоры Изабеллы начинает слабеть в Лиме[198], – заметил дон Себастьян со смехом. – Продолжайте, сеньор.
– Минутку! Простите! – воскликнул кто-то из присутствовавших. – От лица всех нас, жителей Лимы, я хотел бы заявить вам, сэр мореход, что от нашего внимания не ускользнула деликатность, с какой вы удержались от замены далёкой Венеции на современную Лиму. Прошу вас, не благодарите и не старайтесь казаться удивлённым – вы ведь знаете поговорку всего побережья: «развратна, как Лима». И это полностью совпадает к тому же с вашим описанием; церквей здесь больше, чем биллиардных столов, они всегда открыты и «развратны, как Лима». То же и в Венеции; я был там, в священном городе блаженного евангелиста Марка! (Да очистит его Святой Доминик!) Ваш стакан, сэр! Благодарю, я наливаю! А теперь наполним снова!
Если свободно изобразить канальца и его призвание, джентльмены, из него вышел бы превосходный драматический герой, настолько он полновесно и живописно порочен. Подобно Марку Антонию, день за днём плывёт он лениво по зелёному цветистому Нилу, открыто забавляясь со своей краснощёкой Клеопатрой[199], подрумянивая своё золотистое, как персик, бедро на солнечной палубе. Но на берегу вся эта изнеженность исчезает. Каналец с гордостью принимает облик настоящего бандита; низкая шляпа с опущенными полями, украшенная пёстрыми лентами, дополняет его великолепный портрет. Он гроза улыбающейся невинности деревень, мимо которых проплывёт; его смуглого лица и безудержной дерзости побаиваются и в городах. Однажды, когда я путешествовал по каналу, меня выручил из беды один из канальцев; выражаю ему сердечную признательность; мне не хотелось бы быть неблагодарным; но ведь у таких разбойников равная готовность поддержать в несчастье бедного незнакомца и ограбить встречного богача и служит обычно главным искуплением за все их грехи. В целом же, джентльмены, разгульность жизни на каналах красноречиво доказывается тем, что в нашем разгульном китобойном промысле подвизаются столь многие из наиболее отпетых выпускников этой школы и что едва ли какие-либо другие представители человечества (кроме, пожалуй, сиднейцев) вызывают меньшее доверие наших капитанов-китобоев. Удивительно, не правда ли? А ведь для многих тысяч наших деревенских подростков и юношей, рождённых на берегах этого водного пути, полная испытаний жизнь Великого Канала представляет собой единственную ступень, ведущую от мирной жатвы на ниве христианства к безрассудной вспашке языческих морей.
– Понятно! Понятно! – воскликнул порывисто дон Педро, орошая чичей шитые серебром кружевные манжеты. – К чему путешествовать? Весь мир – та же Лима! Я было думал, что на вашем умеренном Севере люди так же холодны и бесстрастны, как горы… Но ваш рассказ!
Я остановился на том, джентльмены, как Стилкилт дёрнул за бакштаг. В ту же минуту его окружили трое помощников капитана и четверо гарпунёров и стали теснить к борту. Но тут вниз по вантам соскользнули, с быстротой зловещих комет, двое канальцев и ринулись в самую гущу, чтобы помочь своему товарищу выбраться на бак. Им на помощь бросились другие матросы, всё смешалось и перепуталось, а доблестный капитан, держась подальше от опасности, прыгал с острогой в руках, приказывая своим офицерам загнать на шканцы и избить негодяя. По временам он подбегал к самому краю непрерывно вращавшегося клубка людей и бросал острогу в его сердцевину, целя в предмет своей ненависти. Однако они не смогли одолеть Стилкилта и его молодцов; тем удалось захватить бак, и, быстро подкатив несколько огромных бочек и поставив их в ряд слева и справа от шпиля, эти морские парижане скрылись за баррикадой.
– А ну, выходи, разбойники! – загремел угрожающе капитан, потрясая зажатыми в каждой руке пистолетами, которые только что принёс ему стюард. – Выходи, бандиты!
Стилкилт вспрыгнул на баррикаду и прошёлся по ней, бросая вызов направленным на него пистолетам; однако он дал ясно понять капитану, что его (Стилкилта) смерть будет сигналом для кровопролитного морского бунта. Опасаясь в душе, что именно так и случится, капитан несколько сбавил тон, всё же он приказал инсургентам немедленно вернуться к исполнению своих обязанностей.
– Обещаете не тронуть нас, если мы это сделаем? – спросил их главарь.
– А ну, давай за работу! Давай за работу! Я ничего не обещаю! Делай своё дело! Вы что, хотите потопить судно? Нашли время бунтовать! За работу! – И он снова поднял пистолет.
– Потопить судно? – вскричал Стилкилт. – Что же, пусть тонет! Ни один из нас не вернётся к работе, пока вы не дадите клятвы, что не поднимете на нас руку. Что скажете, ребята? – спросил он, оборачиваясь к своим товарищам. Они ответили восторженным криком.
Ни на минуту не спуская глаз с капитана, Стилкилт обошёл баррикаду, отрывисто бросая:
– Мы не виноваты; мы этого не хотели; я ведь сказал ему положить молоток; это же ясно было и ребёнку; он должен был знать меня; я же сказал ему не дразнить буйвола; чёрт побери, я, кажется, вывихнул себе палец о его челюсть; где у нас ножи, ребята, в кубрике? Ничего, братцы, приглядите себе по вымбовке! Говорю вам, капитан, остерегайтесь! Дайте нам слово, не будьте глупцом; забудьте всё это; мы готовы встать на работу; обращайтесь с нами по-людски – и мы ваши; но на порку мы не пойдём!
– За работу! Ничего не обещаю! За работу, говорю вам!
– А ну-ка, послушайте, капитан! – закричал Стилкилт, яростно взмахнув рукой. – Среди нас немало найдётся таких (и я из их числа), кто подрядился только на одно плавание, так ведь? Вы отлично знаете, сэр, мы можем потребовать увольнения, как только судно бросит где-нибудь якорь. Мы не хотим ссориться, это не в наших интересах; мы хотим, чтобы всё обошлось спокойно; мы готовы встать на работу, но на порку не пойдём!
– За работу! – загремел капитан.
Стилкилт приостановился на мгновение, огляделся, затем проговорил:
– Вот что я скажу вам, капитан. Мы вас не тронем, если только вы сами не начнёте, – очень мне нужно убивать такого паршивого негодяя, а потом болтаться на рее. Но до тех пор, пока вы не пообещаете не трогать нас, мы и пальцем не шевельнём.
– Тогда спускайтесь вниз, в кубрик, я продержу вас там, пока не одумаетесь! Вниз, говорю вам!
– Ну что, пошли? – закричал главарь своим товарищам. Большинство из них запротестовали, но затем, повинуясь Стилкилту, спустились впереди него в чёрную дыру и, недовольно ворча, исчезли в ней, как медведи в берлоге.
Когда непокрытая голова Стилкилта оказалась на уровне палубы, капитан вместе со своим отрядом перескочил через баррикаду, и они, быстро задвинув крышку люка, все вместе навалились на неё. Стюарду приказали принести тяжёлый медный замок, висевший на сходном трапе. Затем, приоткрыв крышку люка, капитан прошептал что-то в щель, закрыл люк и защёлкнул замок за ними – их было десятеро, – оставив на палубе свыше двадцати матросов, которые до сей поры были нейтральны.
Целую ночь все офицеры, не смыкая глаз, несли вахту на палубе, особенно около кубрика и носового люка, где также опасались появления инсургентов, если бы те вздумали разобрать переборку внизу. Однако ночные часы миновали спокойно; матросы, не бросившие работу, усердно трудились у насосов, унылый грохот и лязг которых по временам оглашал в мрачной ночи всё судно.
На рассвете капитан вышел из каюты и, постучав в палубу, вызвал узников на работу; с громким криком они отказались. Тогда им спустили воду и бросили несколько горстей галет; и снова, повернув ключ в замке и положив его в карман, капитан возвратился на шканцы. Так повторялось дважды в сутки в течение трёх дней; на четвёртое утро, когда к узникам обратились с обычным призывом, послышался разноголосый спор, а затем и шум драки; внезапно из люка вырвалось четверо матросов со словами, что они готовы встать на работу. Зловонная духота и голодный рацион вкупе с опасениями неизбежной расплаты побудили их сдаться на милость победителей. Ободрённый этим, капитан повторил свои требования и остальным. Но Стилкилт угрожающе крикнул ему снизу, чтобы он перестал нести чушь и убирался туда, откуда пришёл. На пятое утро ещё трое бунтовщиков вырвались на палубу из цепких рук товарищей, отчаянно пытавшихся удержать их внизу. Остались только трое.
– Не лучше ли сдаться, а? – сказал капитан с глумливой усмешкой.
– Заприте нас опять, понятно? – прокричал Стилкилт.
– Можете не сомневаться, – ответил капитан и защёлкнул замок.
В эту минуту, джентльмены, возмущённый низостью семерых своих прежних товарищей, уязвлённый насмешками, которым он только что подвергся, и обезумевший от длительного заточения в кубрике, где было темно, как в бездне отчаяния, – в эту минуту Стилкилт предложил канальцам, которые до сей поры как будто оставались ему верны, прорваться на палубу, когда гарнизон их плавучей крепости соберут на шканцах, и, вооружившись острыми ножами для резки китового сала (длинными, изогнутыми, тяжёлыми инструментами с ручкой на обоих концах), нанося удары направо и налево, пройти от бушприта до гакаборта и сделать отчаянную попытку захватить корабль. Присоединятся они к нему или нет, сказал Стилкилт, но сам он решился. Он больше не проведёт ни одной ночи в этой дыре. Однако замысел его не встретил никакого сопротивления со стороны двух канальцев; они поклялись, что готовы на это или любое другое безумное предприятие, короче, на всё, только бы не сдаваться. Более того, каждый из них хотел быть первым, когда придёт время пробиваться на палубу. Однако их главарь решительно восстал против этого, оставив первенство за собой; в частности и потому, что его двое товарищей не желали уступить друг другу в этом споре, а оба они никак не могли быть первыми, ибо на трапе может поместиться лишь один человек. Но тут, джентльмены, я должен раскрыть вам грязную игру этих двух негодяев.
Выслушав безумное предложение своего главаря, каждый из них в отдельности начал лелеять в душе один и тот же план предательства, а именно: первым прорваться на палубу, с тем чтобы сдаться первым из трёх, хотя и последним из десятерых, тем самым обеспечив себе хотя бы самую малую надежду на помилование, которое можно было заслужить таким поступком. Однако когда Стилкилт заявил о своей решимости вести их до конца, они каким-то образом, путём тончайшей химии подлости, слили воедино свои до той поры тайные планы предательства; и лишь только их главарь погрузился в дремоту, в двух словах открыли друг другу души, связали спящего верёвками, заткнули ему рот паклей и, когда настала полночь, кликнули капитана.
Почувствовав, что дело пахнет кровью, капитан вместе со своими вооружёнными помощниками и гарпунёрами бросился на бак. Через несколько мгновений люк был открыт и вероломные союзники выбросили на палубу связанного по рукам и ногам, но всё ещё сопротивляющегося главаря, выразив при этом надежду, что им зачтётся в заслугу поимка человека, замыслившего кровопролитие. Однако их схватили, поволокли всех троих по палубе, словно битые туши, и подвесили на снастях бизань-мачты, где они и висели до самого утра.
– Чёрт вас побери, – кричал капитан, шагая по палубе перед ними. – Даже стервятники вас не трогают, негодяи!
На рассвете он собрал всех матросов и, отделив бунтовщиков от тех, кто не принимал участия в мятеже, заявил первым, что он твёрдо решил подвергнуть их поголовной порке – в общем, по-видимому, так и сделает, должен так поступить, того требует справедливость, – но в настоящий момент, учитывая их своевременную капитуляцию, обойдётся одним выговором, который он соответственно и произнёс в весьма сильных выражениях.
– А вас, мошенников, – закричал он, оборачиваясь к висевшим на снастях, – вас я искрошу в куски и побросаю в салотопку! – И схватив линёк, он со всей силой обрушился на спины двух предателей и бил их, пока они не перестали кричать и безжизненно свесили головы на плечи, подобно тому как рисуют двух распятых разбойников.
– Я растянул себе запястье из-за вас! – вскричал он наконец. – Но для тебя, голубчик, ещё найдётся крепкий линёк. А ну-ка, выньте у него изо рта кляп, послушаем, что он может сказать в свою защиту.
С минуту измученный бунтовщик судорожно пытался раскрыть свои затёкшие челюсти, а затем, болезненно выгнув шею, произнёс свистящим шёпотом:
– Вот что я скажу вам, а вы подумайте об этом: если вы меня выпорете, я вас уничтожу!
– Скажите пожалуйста! Видишь, как ты испугал меня! – И капитан поднял руку с линьком.
– Лучше не троньте! – прошипел Стилкилт.
– Ну, нет! – И снова рука с линьком поднялась для удара.
Но тут Стилкилт прошипел что-то, чего не услышал никто, кроме капитана, который, к удивлению всех матросов, отпрянул, лихорадочно прошёлся несколько раз по палубе и, внезапно бросив линёк, сказал:
– Этого я не сделаю, отпустите его, разрежьте верёвки, слышите?
Однако когда подчинённые бросились исполнять приказ, их остановил бледный человек с перевязанной головой, – это был Рэдни, старший помощник капитана. Всё время после столкновения на палубе он пролежал у себя на койке, но в это утро, услышав шум, он, превозмогая слабость, вышел наверх и видел всё, что произошло. Челюсть его была в таком состоянии, что он почти не мог говорить; однако, пробормотав, что он с охотой исполнит то, на что не решился капитан, он схватил линёк и направился к своему связанному врагу.
– Трус, – прошипел Стилкилт.
– Пусть так, но ты у меня получишь! – Рэдни размахнулся, но снова свистящий шёпот остановил поднятую для удара руку. Он приостановился, однако затем не колеблясь исполнил своё намерение, несмотря на угрозу Стилкилта, в чём бы она ни состояла. Затем трое бунтовщиков были освобождены, все встали на работу, и молчаливые матросы снова угрюмо сменялись у помп, стук которых, как и раньше, оглашал корабль.
В тот же день, едва стемнело и сменившиеся вахтенные спустились вниз, из кубрика послышался шум; двое предателей, трепеща, выбежали на палубу и осадили капитанскую каюту со словами, что они не осмеливаются оставаться вместе с остальными членами команды. Ни уговоры, ни пинки и затрещины не могли заставить их вернуться в кубрик; наконец, по их собственной просьбе, их поместили для сохранения их жизней в корабельный трюм.
Между тем среди матросов не видно было никаких признаков волнения. Напротив, они решили, следуя, вероятно, предложению Стилкилта, поддерживать строжайший порядок, до конца повиноваться всем приказам, а затем, когда судно придёт в порт, всем сразу покинуть его. Для того же, чтобы плавание как можно скорее пришло к концу, они договорились и ещё об одном – а именно: не подавать голос в случае, если будут обнаружены киты. Ибо, несмотря на течь и другие опасности, на мачтах «Таун-Хо» всё ещё от зари до зари стояли дозорные; капитан по-прежнему, как и в тот день, когда они впервые вошли в промысловые воды, горел желанием пуститься в погоню за добычей, а Рэдни в любой момент был готов променять свою койку на вельбот и, несмотря на собственную свёрнутую челюсть, помериться силами с убийственной челюстью кита и загнать ему в глотку кляп смерти.
Но хотя Стилкилт убедил матросов не выходить за рамки покорности, он до конца плавания никому не говорил о своём собственном плане мести человеку, который нанёс ему удар в самую глубину сердца. Он был в вахте старшего помощника Рэдни, а этот безумец, точно спеша навстречу своей погибели, несмотря на откровенное предостережение капитана после происшествия у бизань-мачты, настоял на том, что будет снова возглавлять по ночам свою вахту. На этом-то, а также и на некоторых других обстоятельствах и зиждился тщательно продуманный Стилкилтом план мести.
По ночам Рэдни обычно усаживался на планшир шканцев, что не подобало бы делать бывалому моряку, и сидел, облокотившись о шлюпку, которая висела за бортом. В этой позе, как было хорошо известно, он мог иногда и задремать. Расстояние между шлюпкой и бортом корабля было значительным, а внизу шумело море. Стилкилт тщательно рассчитал время; его очередь стоять у руля приходилась с двух часов на третье утро после того дня, когда его предали. А покуда, всякий раз как во время вахты у него выдавалась свободная минута, он сразу принимался что-то старательно плести.
– Что это ты там делаешь? – спросил его кто-то.
– А как ты думаешь? На что это похоже?
– На шнурок для сумки, только, сдаётся мне, он какой-то странный.
– Да, странноват, – отвечал Стилкилт, вытянув руку со шнурком перед собой, – но думаю, подойдёт. Знаешь, друг, у меня кончается бечёвка, нет ли у тебя немного?
Но в кубрике бечёвки не было.
– Надо будет пойти попросить у старика Рэда, – и Стилкилт поднялся с места.
– Ты что, хочешь у него одолжаться?! – воскликнул матрос.
– А почему бы и нет? Думаешь, он не захочет оказать мне услугу? Ведь в конце концов это ему же пойдёт на пользу, друг! – И, подойдя к первому помощнику, он спокойно посмотрел на него и попросил бечёвки, чтобы починить свою койку. Просьба его была исполнена, но ни бечёвки, ни шнура никто после этого не видел; а на следующую ночь, когда Стилкилт сворачивал свой бушлат, чтобы положить его вместо подушки в головах, из кармана выкатилось небольшое железное ядро в плотно прилегающей сетке. Через двадцать четыре часа он должен был стать у штурвала – вблизи от человека, который не раз дремал над могилой, всегда зияющей под боком у моряка, – тогда должно было наступить роковое мгновение; и перед нетерпеливым внутренним взором Стилкилта Рэдни уже лежал недвижным и окоченевшим трупом, с зияющей раной во лбу.
Но, джентльмены, от исполнения задуманного им кровавого дела будущего преступника спас глупец. И всё же, хотя и не став мстителем, Стилкилт был полностью отомщён. Ибо по таинственному решению судьбы само небо, казалось, взяло на себя исполнение ужасного дела, которое он задумал.
На рассвете второго дня, когда солнце ещё не взошло и команда мыла палубу, какой-то дуралей матрос с Тенерифа, который вышел на руслень зачерпнуть воды, неожиданно закричал:
– Кит! Кит!
Боже, какой кит! Это был Моби Дик.
– Моби Дик! – вскричал дон Себастьян. – Святой Доминик!.. Сэр мореход, разве у китов бывают имена? Кого вы называете Моби Диком?
– Это знаменитое, белоснежное, бессмертное и смертоносное чудовище, дон, но о нём слишком долго рассказывать…
– Расскажите! Расскажите! – закричали молодые испанцы, столпившиеся вокруг меня.
– Нет, сеньоры! Сеньоры, это невозможно! Я не могу сейчас углубляться в эту историю. Дайте мне подышать свежим воздухом, господа.
– Чичи! Чичи! – воскликнул дон Педро. – Наш доблестный друг ослабел. Наполните его пустой стакан!
– Не беспокойтесь, джентльмены; мгновение – и я продолжаю. Итак, джентльмены, увидев столь неожиданно белоснежного кита в пятидесяти ярдах от корабля, матрос с Тенерифа забыл в волнении о договоре между членами команды и невольно закричал, хотя трое дозорных на мачтах, давно уже заметившие чудовище, хранили молчание. Всё пришло в страшное волнение. «Белый Кит! Белый Кит!» – кричали капитан, помощники и гарпунёры, которые мечтали, не устрашённые ужасными слухами, одолеть эту знаменитую и бесценную рыбу; матросы с угрюмой опаской и с проклятиями всматривались в огромную молочно-белую тушу устрашающей красоты, которая, освещённая восходящим солнцем, ослепительно сияла, словно живой опал в синем утреннем море. Джентльмены, странный рок тяготеет над ходом этих событий, словно всё было предопределено ещё до того, как была предначертана мировая история. Бунтовщик был загребным на вельботе помощника; после того как забрасывали гарпун и Рэдни становился с острогой на носу, он должен был сидеть рядом с ним и по его приказу травить или выбирать линь. Когда вельботы были спущены на воду, старший помощник отвалил первым, и Стилкилт яростно грёб и кричал от восторга, покрывая все голоса своим воинственным кличем. Некоторое время они бешено гребли, затем гарпунёр всадил гарпун, и Рэдни вскочил на нос с острогой в руке. Рэдни не знал страха во время охоты. Он крикнул своим матросам, чтобы они выгребали прямо на спину кита. Стилкилт быстро выбирал линь, и вельбот шёл прямо в слепящую пену, воедино слитую с белизной чудовища; внезапно шлюпка словно ударилась о подводный выступ и сильно накренилась, стоявший на носу Рэдни полетел за борт. В ту минуту, когда он упал на скользкую спину кита, вельбот выровнялся, но тут же был отброшен волной прочь, а Рэдни полетел в море, по другую сторону кита. Он упал в кипящий вокруг кита водоворот, и какое-то мгновение они ещё видели смутно сквозь завесу брызг, как он лихорадочно пытался скрыться от глаза Моби Дика. Но во внезапном порыве ярости кит рванулся вперёд и схватил его своими гигантскими челюстями, вздыбился над водой, нырнул головой вниз и скрылся в пучине.
Между тем при первом же ударе днищем шлюпки Стилкилт начал травить линь, стремясь выскочить из водоворота; спокойно глядя на происходящее, он сидел и думал о своём. Но когда шлюпку внезапно со страшной силой рвануло вниз, он, не размышляя, выхватил нож и перерезал линь – кит был свободен. Через некоторое время Моби Дик снова поднялся в отдалении на поверхность воды, и обрывки красной шерстяной фуфайки Рэдни торчали между зубов, которые растерзали его. Все четыре шлюпки снова устремились в погоню, но кит ускользнул от преследования и наконец совсем исчез из виду.
Спустя несколько дней «Тоун-Хо» достиг пристани; это было дикое, пустынное место, где жили одни туземцы. В тот же день все матросы (за исключением лишь нескольких марсовых) сошли на берег, возглавляемые Стилкилтом, и, медленно шагая, исчезли между пальмами; в конце концов, как выяснилось потом, они захватили две большие военные пироги туземцев и отплыли с острова.
Оставшись на корабле лишь с горсткой людей из прежнего экипажа, капитан обратился к островитянам с просьбой помочь ему в трудной задаче поднять днище из воды и заделать пробоину. Однако от горстки белокожих потребовалась и днём и ночью столь неусыпная бдительность в отношении их опасных союзников и столь изнурительным был предпринятый ими труд, что, когда наконец судно было готово к отплытию, все они оказались так слабы, что капитан не решился вывести в море с такой командой своё большое судно. Посоветовавшись с помощниками, он поставил «Таун-Хо» на якорь возможно дальше от берега, вытащил на нос две пушки и зарядил их, поставил в козлы мушкеты на корме и, предупредив островитян, чтобы они не вздумали себе на погибель приближаться к кораблю, прихватил с собой одного человека и отправился на своей лучшей шлюпке, подгоняемой попутным ветром, к Таити, находящемуся на расстоянии пятисот миль, за пополнением экипажа.
На четвёртый день плавания они заметили большую пирогу, приставшую к низкому коралловому островку. Капитан направил шлюпку в сторону от неё, но дикарское судно устремилось за ним, вскоре он услышал голос Стилкилта, приказывающего ему остановиться, если он не хочет пойти ко дну. Капитан вынул пистолет. Поставив широко раздвинутые ноги на носы двух связанных вместе пирог, Стилкилт презрительно засмеялся в ответ, заверив капитана, что, если только он услышит щёлканье курка, он тут же пустит капитанскую шлюпку ко дну.
– Что тебе от меня надо? – закричал капитан.
– Куда вы идёте? И зачем? – спросил Стилкилт. – Только без обмана.
– В Таити, за пополнением.
– Хорошо. Дайте-ка я подплыву к вам. У меня нет оружия.
С этими словами он прыгнул с пироги, подплыл к шлюпке и, перевалившись через планшир, очутился лицом к лицу с капитаном.
– Скрестите руки, сэр, поднимите голову. А теперь повторяйте за мной. Клянусь, как только Стилкилт оставит меня, вытащить шлюпку на остров и пробыть там шесть дней. Пусть молния поразит меня, если я этого не сделаю.
– Хороший ученик! – засмеялся Стилкилт. – Адью, сеньоры! – и, прыгнув в море, он поплыл к своим товарищам.
Проследив, как шлюпку вытащили на берег и подтянули к кокосовым пальмам, Стилкилт продолжал своё плавание и в должное время достиг Таити, места своего назначения. Там удача улыбнулась ему; два судна готовились отплыть во Францию, и судьба позаботилась о том, чтобы на них не хватало как раз того количества матросов, которое он возглавлял. Они нанялись на эти суда, навсегда избежав опасности встретиться со своим прежним капитаном, если бы тот вдруг паче чаяния решился навлечь на них законное возмездие.
Спустя десять дней после отплытия французских судов прибыл вельбот, и капитан завербовал несколько более или менее цивилизованных таитян, которые немного знали морское дело. Зафрахтовав небольшую местную шхуну, он возвратился на ней к своему судну и, обнаружив, что там всё благополучно, продолжал плавание.
Где сейчас Стилкилт, джентльмены, никто не знает, а на острове Нантакет вдова Рэдни всё глядит на море, которое не возвращает мертвецов, всё видит во сне страшного Белого Кита, который погубил её мужа.
– Вы кончили? – тихо спросил дон Себастьян.
– Да, дон.
– Тогда, умоляю вас, скажите мне по правде: действительно ли всё так и произошло, как вы сейчас рассказали? Это кажется совершенно невероятным! Из надёжного ли источника узнали вы эту историю? Простите мне мою настойчивость.
– Простите и нас, сэр мореход, но мы все присоединяемся к просьбе дона Себастьяна, – закричали и остальные, не скрывая жадного любопытства.
– Найдётся ли в Золотой гостинице святое Евангелие, джентльмены?
– Нет, – сказал дон Себастьян. – Но я знаю достойного патера поблизости, он не заставит меня ждать, если я обращусь к нему. Я пойду за Евангелием. Но хорошо ли вы подумали? Это может обернуться очень серьёзно для вас.
– Могу я попросить вас привести также и патера, дон?
– Хотя в Лиме сейчас и не бывает аутодафе, – сказал один из присутствовавших другому, – боюсь всё же, как бы нашему другу моряку не пришлось иметь дело с отцами-епископами. Луна светит так ярко, давайте лучше спрячемся в тень. Не знаю, зачем это было нужно…
– Простите, что я побежал за вами, дон Себастьян. Могу я также настоятельно просить вас взять самое большое Евангелие, какое там будет?
– Вот и патер, он принёс вам Евангелие, – сказал дон Себастьян торжественно, возвращаясь с высоким и степенным человеком.
– Дайте я сниму шляпу. А теперь, достойный пастырь, станьте на свету и держите Священное Писание передо мной, чтобы я мог коснуться его:
– Да поможет мне небо, клянусь честью в том, что история, которую я рассказал вам, джентльмены, верна в своей сути и основных частях. Я знаю, что это правда, это случилось на нашей планете, я был на том судне, я встречал тех матросов, я виделся и беседовал со Стилкилтом после смерти Рэдни.
Глава LV. Чудовищные изображения китов
В самом недалёком будущем я нарисую вам, насколько это возможно сделать без помощи полотна, достоверный портрет кита, каким он в действительности представляется глазам китобоя, когда собственной тушей он оказывается пришвартованным к борту судна, так что по нему даже ходить можно. В связи с этим целесообразно будет предварительно обратиться к тем на редкость фантастическим образам китов, которые ещё и по сей день успешно взывают к доверчивости обывателя на суше. Наступило время просветить мир на этот счёт, доказав полную ошибочность подобных представлений.
Весьма вероятно, что первоначальным источником этих образных заблуждений были древние индусские, египетские и греческие скульпторы. С тех самых изобретательных, но не очень гонявшихся за точностью времён, когда на мраморных панелях храмов, на пьедесталах статуй и на щитах, медальонах, кубках и монетах дельфин изображался закованным, наподобие Саладина[200], в латы и облачённым в шлем, вроде святого Георгия[201], с тех самых пор эти вольности изобильно допускаются не только в обывательском представлении о китах, но подчас даже и в научном.
Несомненно одно: наиболее древний из существующих портретов, хоть в какой-то мере напоминающий кита, находится в знаменитой пагоде-пещере Элефанты в Индии. Брамины утверждают, что в бессчётных статуях, заключённых в этой древней пагоде, запечатлены все занятия, все ремёсла, все мыслимые профессии человека, нашедшие там своё отражение за целые столетия до того, как они действительно появились на земле. Неудивительно поэтому, что и наш благородный китобойный промысел был там предугадан. Индуистского кита, о котором идёт у нас речь, можно встретить там на отдельном участке стены, где воспроизводится сцена воплощения Вишну в образе левиафана, учёное имя которого Матсья-Аватар. Однако, несмотря на то что изваяние представляет собой наполовину человека, а наполовину кита, так что от последнего там имеется только хвост, всё-таки даже и этот небольшой его отрезок изображён совершенно неправильно. Он, скорее, похож на сужающийся хвост анаконды, чем на широкие лопасти величественных китовых плавников.
Но пройдитесь по старинным галереям и поглядите на портрет этой рыбы, принадлежащий кисти великого христианского живописца; последний достиг не большего, чем допотопные индуисты. Я говорю о картине Гвидо[202], на которой Персей спасает Андромеду от морского чудовища, или кита. Где, интересно, взял Гвидо образец для подобного немыслимого создания? Да и Хогарт[203], живописуя ту же сцену в своём «Нисхождении Персея», оказался ничуть не лучше. Грандиозная туша Хогартова чудовища с осадкой едва ли в один дюйм покачивается целиком на поверхности моря. На спине у неё нечто вроде слоновьего седла с балдахином, а широко разинутая клыкастая пасть, куда катятся морские валы, с успехом могла бы сойти за Ворота Предателей, которые ведут от Темзы в Тауэр. Имеются также киты на заставках старого шотландца Сиббальда и потом кит Ионы, каким он изображался на гравюрах и эстампах в старинных изданиях Библии и в древних букварях. Но что уж тут о них говорить! Или вот киты переплётчиков, словно виноградная лоза обвивающие стержень корабельного якоря, – их позолоченные изображения украшают обложки и титулы многих книг, как старых, так и новых, – это существа весьма живописные, но полностью вымышленные, позаимствованные, надо думать, с изображений на античных вазах. Хотя они повсеместно считаются дельфинами, я тем не менее объявляю эту переплётную рыбу попыткой изобразить кита, ибо так было задумано первоначально, когда только стали пользоваться этим значком. Его ввёл в употребление один старый итальянский книгоиздатель где-то веке в пятнадцатом, в период возрождения учёности, а в ту эпоху, да и до сравнительно недавнего времени, считалось, что дельфин – это вид левиафана.
На виньетках и прочих узорах в некоторых старинных книгах можно иногда найти очень забавные попытки изобразить китов, из чьих неисчерпаемых черепов струями бьют всевозможные фонтаны, гейзеры, ключи, целые источники Саратоги и Баден-Бадена[204]. Забавных китов можно видеть также на титульном листе первого издания «Развития учёности»[205].
Теперь, оставив любительские опыты, обратимся к тем портретам левиафана, которые претендуют на достоверность и научность и принадлежат кисти людей знающих. В старинном сборнике Гарриса имеется несколько изображений кита, взятых из одной голландской книги путешествий, изданной в 1671 году н. э. и озаглавленной: «Плаванье к Шпицбергену за китами на корабле „Иона в Китовом Чреве“; шкипер Петер Петерсон, из Фрисландии». На одной из этих гравюр киты представлены в виде огромных бревенчатых плотов, плавающих между айсбергами, и по их живым спинам бегают белые медведи. На другой гравюре допущена чудовищная ошибка – кит изображён с вертикальной лопастью хвоста.
Или вот существует такой солидный том in Quarto, написанный неким Колнеттом, капитаном первого ранга Британского флота, и озаглавленный: «Плаванье за мыс Горн к Южным морям с целью расширить области промысла на спермацетовых китов». В этой книге имеется зарисовка, долженствующая являть собой «Изображение Физетера, или Спермацетового Кита, снятое в масштабе с кита, убитого у берегов Мексики в августе 1793 года и поднятого на палубу». Я не сомневаюсь, что капитан, приказав снять это правдивое изображение, заботился о достоверности всего труда. Но только, позволю себе заметить к примеру, глаз у этого кита такой, что если приставить его в соответствии с приложенным масштабом к взрослому кашалоту, окажется, что у него вместо глаза – сводчатое окно в пять футов длиной. Ах, мой доблестный капитан, почему ты не сделал так, чтобы из этого глаза выглядывал Иона?
И даже самые добросовестные компиляции по естественной истории, составленные для просвещения нежной юности, не свободны от не менее ужасных ошибок. Взять хотя бы известную книгу Голдсмита «Одушевлённая Природа». В сокращённом лондонском издании 1807 года имеются иллюстрации, изображающие якобы «кита» и «нарвала». Мне не хотелось бы показаться грубым, но этот непрезентабельный кит сильно смахивает на свинью с обрубленными ножками, а что касается нарвала, то беглого взгляда на него довольно, чтобы вызвать изумление: как можно в наш просвещённый девятнадцатый век перед грамотными школьниками выдавать за подлинного подобного гиппогрифа?
Далее; в 1825 году великий натуралист Бернар Жермен, граф де Ласепед, опубликовал учёный труд по систематике китов, с иллюстрациями, изображающими отдельных представителей различных левиафановых видов. Все они совершенно неправильны, а что касается изображения гренландского кита, Mysticetus'а (то есть, попросту говоря, настоящего кита), то даже Скорсби, человек многоопытный в обращении с этим видом, отрицает существование в природе его прототипа.
Но венец всей этой путаницы принадлежит ученейшему Фредерику Кювье, брату знаменитого барона. В 1836 году он опубликовал свою «Естественную историю китов», в которой приводится нечто, долженствующее, по его словам, быть изображением кашалота. Тому, кто вздумает показать такой рисунок любому из жителей Нантакета, не мешает заранее обеспечить себе поспешное отступление с этого острова. Кашалот Фредерика Кювье – это не кашалот, а попросту тыква. Конечно, автор был лишён преимущества личного участия в китобойном плавании (такие, как он, редко обладают помянутым преимуществом), но всё-таки, откуда он взял этот рисунок, хотелось бы мне знать? Быть может, он почерпнул его оттуда же, откуда позаимствовал своих доподлинных выродков его предшественник в той же области – Демаре?[206] Я имею в виду китайские рисунки. Ну, а что за весёлые ребята – китайские рисовальщики, на этот счёт множество удивительнейших чашек и блюдец могут нас просветить.
А что можно сказать о китах с вывесок, которых мы видим на улицах над лавками торговцев ворванью? Обычно они представляют собой китовых Ричардов Третьих, обладающих верблюжьими горбами[207] и дикой свирепостью; пожирая на завтрак по три-четыре матросских расстегая (по три-четыре вельбота, набитых моряками), эти уродливые туши барахтаются в море крови и синей краски.
Но все столь многочисленные неправильности в изображении кита в конечном счёте вовсе не так уж и удивительны. Посудите сами. Зарисовки по большей части делались с прибитых к берегу дохлых китов, и они примерно так же достоверны, как достоверно рисунок потерпевшего крушение корабля со взломанной палубой воспроизводит благородный облик этого гордого создания во всём великолепии его корпуса и рангоута. Слонам вот случалось выстаивать, позируя для своих поясных портретов, а живые левиафаны ещё никогда не служили натурщиками для собственных изображений. Живого кита во всём его величии и во всей его мощи можно увидеть только в море, в бездонной пучине; его огромная плавучая туша в мгновение ока исчезает из виду, подобно быстроходному линейному кораблю; и никакому смертному не под силу поднять его из водной стихии, оставив при этом на нём нетронутыми величественные холмы и возвышенности. И, не говоря уже о весьма значительной разнице в контурах между молодым китом-сосунком и взрослым платоновым левиафаном, даже если кита-сосунка удастся втащить на палубу, его сверхъестественную, змеевидную, гибкую, зыбкую форму сам чёрт не в состоянии уловить.
Некоторые, вероятно, подумают, что, разглядывая голый скелет выброшенного на берег кита, можно почерпнуть кое-какие надёжные сведения касательно его подлинного облика. Какое там! Одна из величайших особенностей левиафана заключается в том, что скелет его почти не даёт представления о его живом облике. Вот скелет Иеремии Бентама, подвешенный вместо люстры в библиотеке одного из его душеприказчиков, правильно передаёт облик старого твердолобого джентльмена-утилитариста со всеми прочими личными особенностями почтенного Иеремии[208]; но из левиафановых расчленённых костей невозможно извлечь ничего. Действительно, как говорит великий Хантер, скелет кита имеет не более близкое отношение к самому животному, в полном его облачении и со всеми ватными прокладками и подушками, чем насекомое – к той круглой куколке, которая его скрывает. Эта особенность наиболее убедительно выражена в строении головы, как покажет попутно дальнейшее повествование. Она же весьма любопытным образом проявляется в строении бокового плавника, костяк которого почти точно соответствует скелету человеческой руки, только без большого пальца. В плавнике имеется четыре настоящих костяных пальца: указательный, средний, безымянный и мизинец. Однако все они навечно упрятаны в рукавицу из живой плоти, подобно тому как человеческие пальцы прячутся в матерчатую варежку. «Сколь бы неосмотрительно ни обращался с нами подчас кит, – шутливо заметил как-то Стабб, – никогда не скажешь, что он берётся за нас голыми руками».
В силу всех этих причин, куда ни кинь, всё равно поневоле приходится заключить, что великий Левиафан – единственное в мире существо, которому не суждено быть изображённым ни на бумаге, ни на полотне. Конечно, один портрет может быть более метким, чем другой, но ни единому из них никогда не попасть точно в цель. Так что реальной возможности обнаружить, как же именно выглядит на самом деле кит, не существует. И единственный способ получить хотя бы приблизительное представление о его живом облике – это самому отправиться на китобойный промысел; но, поступая так, вы подвергаетесь немалому риску в любой момент быть атакованным китом и пущенным ко дну. Вот почему, на мой взгляд, вам не следует проявлять чрезмерной придирчивости при попытках ознакомиться с внешностью Левиафана.
Глава LVI. Более правдоподобные изображения китов и правдивые картины китобойного промысла
В связи с чудовищными изображениями китов я испытываю сильное искушение заняться также ещё более чудовищными рассказами про китов, которые можно найти в книгах, как в старинных, так и новых, особенно у Плиния, Парчесса, Хаклюйта, Гарриса, Кювье и других. Однако это я опускаю.
Мне известны только четыре опубликованных изображения великого Кашалота: у Колнетта, у Хаггинза[209], у Фредерика Кювье и у Бийла. О Колнетте и Кювье говорилось в предыдущей главе. Рисунок Хаггинза гораздо лучше, чем у них; но самые лучшие рисунки, безусловно, в книге Бийла. У Бийла все изображения этого кита хороши, за исключением центральной фигуры на заставке «Три кита в различных положениях», венчающей вторую главу. Его фронтиспис «Лодки нападают на кашалота», хоть он, несомненно, вызовет вежливое недоверие в некоторых гостиных, замечательно точен подробностями и правдоподобен в целом. Некоторые рисунки Дж. Росса Брауна, изображающие кашалота, весьма точны, но только очень скверно гравированы. Что, впрочем, не его вина.
Лучшие наброски настоящего кита принадлежат Скорсби; жаль только, они выполнены в слишком мелком масштабе, для того чтобы передать нужное впечатление. У него же имеется сцена китового промысла, но всего только одна, что достойно всяческого сожаления, ибо лишь благодаря таким изображениям – если они хорошо выполнены – можно получить в какой-то мере правильное представление о живом ките, каким его видят живые китобои.
Но в целом наиболее удачными, хотя, быть может, и не самыми точными из всех существующих, изображениями кита и промысловых сцен являются две отлично выполненные большие французские гравюры с картин некоего Гарнери[210]. Они изображают нападение на кашалота и на настоящего кита. На первой гравюре запечатлён благородный кашалот во всём величии своей мощи в тот миг, когда он поднялся из глубин океана прямо под килем вельбота и высоко в воздух вознёс на своём загривке зловещие обломки разбитых досок. Корма вельбота каким-то чудом уцелела и теперь раскачивается на острие китового хребта; на ней вы видите кормчего, который в это самое мгновение, окутанный воскурениями кипящей китовой струи, приготовился к смертельному прыжку. Всё на этой картине сделано на редкость хорошо и точно. Наполовину опустевший бочонок с линём, покачивающийся на седой поверхности моря, деревянные рукоятки разбитых гарпунов, наискось торчащие из воды, головы перепуганных матросов, разбросанных вокруг кита, и судно, идущее прямо на вас из чёрной штормовой дали. В анатомическом строении кита можно обнаружить серьёзные неправильности, но мы не будем останавливаться на них, потому что, убейте меня, мне так здорово в жизни не нарисовать.
На второй гравюре изображён вельбот в тот момент, когда он на ходу подстраивается бортом к заросшему боку огромного настоящего кита, чья чёрная, обвитая водорослями туша разрезает воду, словно мшистый обломок скалы, отколовшийся у Патагонских берегов. Отвесная струя его фонтана мощна и черна, как сажа; при виде такого столба дыма можно подумать, что внизу, в котлах, варится славный ужин. Морские птицы поклёвывают рачков, мелких крабов и прочие морские лакомства и сласти, которые настоящий кит часто таскает на своей смертоносной спине. А тем временем толстогубый левиафан несётся вперёд, разрезая пучину и оставляя за собой целые тонны взбитой белой пены, а лёгкий вельбот подле него ныряет по волнам, будто утлая лодчонка, затянутая под гребное колесо океанского парохода. Всё в бешеном движении на переднем плане картины; но позади, образуя великолепный художественный контраст, виднеется зеркальная поверхность заштилевшего моря, обвисшие, обмякшие паруса бессильного судна и недвижная масса убитого кита – покорённая крепость, над которой лениво развевается знаменем победителей китобойный флаг на длинном шесте, воткнутом в китовое дыхало.
Что за художник был – или есть – Гарнери, я не знаю. Но даю руку на отсечение, он либо на личном опыте ознакомился со своим предметом, либо получил ценнейшие наставления от какого-нибудь бывалого китолова. Французы вообще превосходно передают на полотне действие. Ступайте, изучите всю европейскую живопись – где ещё вы найдёте такую галерею животрепещущего движения на полотнах, как в триумфальном зале Версальского дворца, где зритель очертя голову прокладывает себе путь через великие сражения Франции, где каждая шпага кажется вспышкой северного сияния, а вооружённые короли и императоры один за другим проносятся мимо, точно коронованные кентавры в кавалерийской атаке? В этой галерее по праву должно быть отведено место и для морских сражений Гарнери.
Прирождённый талант французов ко всему картинному особенно ярко проявился в полотнах и гравюрах, изображающих промысловые сцены. Не обладая и десятой долей английского опыта в китобойном деле или сотой долей американского опыта, они тем не менее умудрились обставить обе эти нации, создав единственные законченные изображения, хоть в какой-то мере передающие подлинную атмосферу промысла. Английские и американские рисовальщики китов по большей части удовлетворяются застывшими очертаниями предметов, вроде заштрихованного китового силуэта, а это в конечном счёте не более эффектно, чем силуэт египетской пирамиды. Даже достославный Скорсби, непререкаемый авторитет во всём, что касается настоящего кита, снабдив нас его парадным портретом во весь рост и двумя-тремя искусными миниатюрами нарвалов и бурых дельфинов, тут же подсовывает нам целую серию классических гравюр с изображением шлюпочных багров, фленшерных ножей и крючьев и с микроскопической доскональностью Левенгука[211] передаёт на рассмотрение озябшему свету девяносто шесть факсимиле увеличенных снежных кристаллов Арктики. Я не хочу умалять заслуги этого выдающегося путешественника (я сам чту в нём ветерана), однако, несомненно, что в таком важном деле он только по недосмотру не приводит в подтверждение подлинности каждой снежинки письменного показания под присягой, снятого в присутствии гренландского мирового судьи.
Вдобавок к тем двум превосходным гравюрам с картин Гарнери существуют ещё две достойные внимания французские гравюры, выполненные человеком, который подписывается «А. Дюран»[212]. Одна из них, хоть и не вполне соответствует теме настоящего рассуждения, тем не менее заслуживает упоминания в иной связи. На ней изображён безмятежный полдень у острова Тихого океана: французский китобоец стоит в спокойной бухте на якоре, лениво принимая на борт запас пресной воды, праздные паруса корабля и узкие листья пальм на заднем плане бессильно повисли в безветренном воздухе. Впечатление очень сильное, если помнить, что перед тобою мужественные китоловы в одном из редких для них приютов восточного отдохновения. На второй гравюре изображено совсем иное: судно, остановившее свой бег посреди океана, в самой гуще левиафанической жизни, с большим настоящим китом у борта, так что сам корабль, занятый разделкой туши, кажется пришвартованным к морскому исполину, словно к пристани, а от его борта поспешно отваливает вельбот, чтобы пуститься в погоню за китами, которые виднеются на заднем плане. Гарпуны и остроги наготове, трое гребцов устанавливают мачту, а маленький вельбот на внезапно налетевшей волне высунулся до половины из воды, точно вставшая на дыбы лошадь. Над кораблём, словно над целой слободой кузниц, поднимаются адские клубы дыма – это вываривают китовую тушу, а с наветренной стороны наплывает чёрная туча, сулящая шквал и дождь и призывающая разгорячённых моряков торопиться.
Глава LVII. Киты в красках; киты костяные, деревянные, жестяные и каменные; киты в горах; киты среди звёзд
Быть может, вы встречали в Лондоне на Тауэр-Хилле, как идти к докам, калеку-нищего (или «верпа», как говорят моряки), держащего в руке размалёванную дощечку с изображением трагической сцены, во время которой он потерял ногу. Там нарисованы три кита и три вельбота, один из которых (содержащий, как предполагается, ныне недостающую ногу во всей её первоначальной целости) зажат в сокрушительных челюстях переднего кита. Сколько раз за последние десять лет протягивал он, говорят, эту картинку и показывал свой обрубок, но никто не желал ему верить. И только теперь наконец восторжествовала для него справедливость. Его три кита оказались ничуть не хуже любых других китов Уоппинга, а его обрубок не менее достоверен, чем любой пень на вырубках Запада. Но и стоя до конца дней своих на деревянной ноге, словно на переносной трибуне, несчастный китобой не произносит с неё подстрекательских речей, но горестно созерцает собственное увечье.
Повсюду на Тихом океане, а также в Нантакете, и в Нью-Бедфорде, и в Сэг-Харборе можно наткнуться на живые изображения китов и промысловых сцен, нацарапанные самими китобоями на кашалотовых зубах или на дамских корсетных планшетках, изготовляемых из китового уса, и на тому подобных диковинных поделках, которые китоловы весьма искусно вырезают из грубого природного материала в часы своего океанского досуга. У некоторых моряков имеются специальные коробочки с тонкими инструментами, наподобие зубоврачебных, особо предназначенными для резьбы по кости. Но большинство из них пользуется только складными ножами; и при помощи этого почти всемогущего матросского орудия они изобразят вам всё, что угодно, всё, что только может измыслить простая морская душа.
Длительное изгнание из пределов христианского цивилизованного мира неизбежно приводит человека в то состояние, в какое ввергнул его некогда господь бог, а именно в состояние так называемого варварства. Настоящий китобой – это варвар, не хуже какого-нибудь ирокеза. Я и сам варвар, подчиняюсь одному только царю каннибалов, да и против того готов взбунтоваться всякую минуту.
От прочих людей домоседа-варвара отличает редкое прилежание в ремёслах. Древняя гавайская боевая дубинка или весло-острога, украшенные самой что ни на есть замысловатой и диковинной резьбой, представляют собой такое же великое достижение человеческого упорства, как и Латинский Лексикон. Ведь вся эта сказочная путаница деревянных кружев была создана при помощи какого-нибудь осколка раковины или акульего зуба; она стоила долгих, упорных лет долгого, упорного труда.
С белым варваром-мореплавателем дело обстоит точно так же, как и с варваром-гавайцем. С тем же самым удивительным долготерпением и тем же самым единственным акульим зубом-ножом вырежет он вам свою костяную скульптуру, быть может, не столь искусно, но столь же густо покрыв её узорами, как и древний дикарь-грек, трудившийся над щитом Ахилла[213], и придаст ей тот же варварский и соблазнительный дух, какими полны гравюры славного немецкого дикаря Альбрехта Дюрера[214].
Киты деревянные, то есть киты, вырезанные в профиль из тёмных брусков благородной древесины, которая в Южных морях идёт на изготовление оружия, нередко встречаются в кубриках американских китобойцев. Иные из них выполнены с большим искусством.
В старинных островерхих загородных домах можно видеть иногда бронзовых китов, подвешенных за хвост вместо дверного молотка. Тут всё зависит от привратника; если он склонен к сонливости, то лучше всего воспользоваться «китом-наковальней». Однако эти молоточные киты редко представляют собой ценность с точки зрения их правдоподобия. На шпилях некоторых старомодных церквей можно увидеть жестяных китов, установленных там в качестве флюгеров, но они вознесены на такую высоту и к тому же, в сущности говоря, так очевидно несут на себе надпись «Руками не трогать», что рассмотреть их как следует невозможно и судить об их достоинствах затруднительно.
На костлявых, ребристых участках земли, там, где у подножия высоких гор причудливыми грудами разбросаны по равнинам обломки скал, нередко можно встретить застывшие формы, подобные окаменевшим левиафанам, наполовину погружённым в море травы, которая ветреным днём зыбится вокруг них кольцом зелёных бурунов.
В гористой местности, где путешественника неизменно окружают возвышенные амфитеатры, в изломанных очертаниях гор там и сям можно заметить по дороге, если найти удачное место, едва различимый силуэт кита. Но только, чтобы увидеть его, нужно быть китобоем до мозга костей; кроме того, если вы хотите вернуться и взглянуть на него ещё раз, необходимо заблаговременно засечь точную широту и долготу того места, откуда вы его в первый раз заметили, потому что зрелища эти всецело являются игрой случая, и вторичное открытие вашего прежнего местонахождения потребует немалых трудов; подобно тому как Соломоновы острова по сей день для нас terra incognita[215], хотя там некогда прохаживался в своих крахмальных брыжах Менданья[216] и их описывал ещё старик Фигероа[217].
Когда же возвышенный предмет заставит нас устремить взор ввысь, то и там, в небесах, среди звёзд, вы увидите очертания великих китов и китобойных кораблей: так восточные народы, из года в год занятые мыслями о войне, видели в облаках целые сражающиеся армии. На Севере я гонялся вокруг Полюса за левиафаном, который кружился и кружился, уходя от меня в сверкании светящихся точек, впервые его для меня очертивших. А под лучезарными антарктическими небесами я на борту Корабля Арго уносился в погоню за звёздным Китом далеко за крайние пределы Гидры и Летучей Рыбы[218].
О, если бы мне, натянув удила-якорь и вонзив шпоры-гарпуны, оседлать этого кита и взвиться на нём над небесными вершинами, чтобы своими глазами посмотреть, правда ли, что бессчётные райские шатры разбиты там, куда не достигает мой смертный взор!
Глава LVIII. Планктон
Взяв от островов Крозе курс на северо-восток, мы вскоре очутились среди обширных лугов «брита» – размельчённой жёлтой планктонной массы, которая идёт в пищу настоящим китам. Повсюду на многие-многие мили колыхалась она вокруг нас, будто мы плыли по безбрежному полю спелой золотистой пшеницы.
На второй день нам стали попадаться настоящие киты, не представлявшие, однако, соблазна для охотника за кашалотами «Пекода»; разинув пасти, они лениво плавали в клубах планктона, и он застревал на волокнистой бахроме их губ, напоминавшей какие-то удивительные жалюзи, в то время как вода беспрепятственно вытекала наружу.
Словно косцы на заре, которые плечом к плечу с тихим шуршанием прокладывают себе путь в высокой росистой траве, плыли эти чудовища, издавая странный травянистый, режущий звук и оставляя позади себя в жёлтых водах бесконечные голубые прокосы[219].
Однако, пожалуй, один только этот звук, который они производили, отцеживая «брит», и напоминал о косарях. На взгляд же их огромные чёрные туши, особенно когда они на мгновение застывали в неподвижности, больше всего походили на безжизненные каменные глыбы. И как на широких охотничьих просторах Индии приезжий человек может пройти иной раз по равнине мимо спящего слона, даже не подозревая о том, что это слон, и принимая его за голую чёрную возвышенность, так случается и с тем, кто впервые видит на море этих левиафанов. И даже когда наконец вы всё-таки убеждаетесь, что это киты, всё равно бывает очень трудно поверить, чтобы столь безмерно разросшаяся масса была одушевлена такой же жизнью, какая живёт в собаке или в лошади.
И в самом деле, к обитателям морской пучины трудно относиться так же, как и к земным тварям. Ибо хотя в старину многие натуралисты утверждали, что каждая земная тварь имеет своё соответствие в море; и хотя, быть может, в общем и целом именно так оно и есть, – всё же, если перейти к частностям, где, например, найти в океане рыбу, которая по характеру была бы подобна нашей доброй и умной собаке? Разве только вот во всеми проклинаемой акуле можно усмотреть с ней какое-то видовое сходство.
Однако, несмотря на то, что люди сухопутных профессий обычно питают к жителям морей самые недружественные, неприязненные чувства; несмотря на то, что морские глубины для нас извечная terra incognita, и Колумбу понадобилось проплыть над бессчётными неизвестными мирами для того только, чтобы открыть один поверхностный неизвестный мир на Западе; несмотря на то, что заведомо самые ужасные несчастья по большей части постигали с незапамятных времён многие тысячи людей, пускавшихся в плавание по морям; и, наконец, как бы ни хвастался младенец-человек своими познаниями и искусствами и как бы ни множились эти познания и искусства с течением льстивого времени, – всё равно на веки вечные, до самого судного дня, будет море измываться над людьми, губить человеческие жизни и в пыль разносить гордые, крепкие фрегаты, хотя, беспрестанно испытывая одни и те же ощущения, человек утратил в конце концов первоначальное чувство ужаса, естественно вызываемого морем.
Первый известный нам корабль плавал по океану, который с чисто португальской мстительностью залил весь мир, не оставив в живых ни единой вдовы. Тот же самый океан колышется вокруг нас и сегодня, тот же самый океан и в этом году разбивает наши корабли. Да, да, о неразумные смертные, Ноев потоп ещё не окончен, он и по сей день покрывает две трети нашего славного мира.
Чем же это так разнятся между собой море и суша, если земное чудо – на воде уж совсем и не чудо? Сверхъестественный ужас объял евреев, когда живая земля разверзлась под ногами Корея[220] и его сообщников и поглотила их навеки, а ведь в наше время ни одного дня не обходится без того, чтобы живое море не разверзлось точно таким же образом и не поглотило корабли вместе с экипажами.
Но море враждебно не только человеку, который ему чужд, оно жестоко и к своим детищам; превосходя коварство того хозяина-перса, что зарезал своих гостей[221], оно безжалостно даже к тем созданиям, коих оно само породило. Подобно свирепой тигрице, мечущейся в джунглях, которая способна придушить ненароком собственных детёнышей, море выбрасывает на скалы даже самых могучих китов и оставляет их там валяться подле жалких обломков разбитого корабля. Море не знает милосердия, не знает иной власти, кроме своей собственной. Храпя и фыркая, словно взбесившийся боевой скакун без седока, разливается по нашей планете самовластный океан.
Вы только подумайте, до чего коварно море: самые жуткие существа проплывают под водой почти незаметные, предательски прячась под божественной синевой. А как блистательно красивы бывают порой свирепейшие из его обитателей, например, акула, во всём совершенстве своего облика. Подумайте также о кровожадности, царящей в море, ведь все его обитатели охотятся друг за другом и от сотворения мира ведут между собой кровавую войну.
Подумайте обо всём этом, а затем взгляните на нашу зелёную, добрую, смирную землю – сравните их, море и землю, не замечаете ли вы тут странного сходства с тем, что внутри вас? Ибо как ужасный океан со всех сторон окружает цветущую землю, так и в душе у человека есть свой Таити, свой островок радости и покоя, а вокруг него бушуют бессчётные ужасы неведомой жизни. Упаси тебя бог, человек! Не вздумай покинуть этот остров и пуститься в плавание. Возврата не будет!
Глава LIX. Спрут
Медленно пробираясь через планктонные поля, «Пекод» по-прежнему держал курс на северо-восток, по направлению к острову Ява; лёгкий ветер гнал судно вперёд, и три высокие заострённые мачты покачивались над зеркальными водами, точно три гибкие пальмы на равнине. И по-прежнему серебристыми лунными ночами на горизонте изредка появлялся одинокий манящий фонтан.
Но однажды прозрачным синим утром, когда какая-то нездешняя тишь повисла над морем, чуждая, однако, мёртвого застоя; когда солнечные блики длинной полосой легли на воду, словно кто-то приложил к волнам золотой палец, призывая хранить тайну; когда искристые волны бесшумно катились вдаль, перешёптываясь на бегу; в этой глубокой тишине, царившей всюду, куда хватал глаз, чернокожему Дэггу, стоявшему дозором на верхушке грот-мачты, вдруг предстало странное видение.
Далеко впереди со дна морского медленно всплывала какая-то белая масса и, поднимаясь всё ближе и ближе к поверхности, освобождаясь из-под синевы волн, белела теперь прямо по курсу, словно скатившаяся с гор снежная лавина. Мгновение она сверкала перед ним, а потом так же медленно стала погружаться и исчезла. Потом снова поднялась, белея в волнах. На кита не похоже; а вдруг это всё-таки Моби Дик? – подумал Дэггу. Белый призрак снова ушёл в глубину, и когда он на этот раз показался опять, негр испустил пронзительный вопль, точно кинжалом полоснув дремотную тишину:
– Вон! Вон он! Всплывает! Прямо по курсу! Белый Кит, Белый Кит!
В тот же миг ринулись к брасам матросы, точно роящиеся пчёлы к веткам дерева. Ахав с непокрытой головой стоял в лучах утреннего солнца у бушприта, отведя за спину руки, чтобы в любой момент подать знак рулевому, и в жадном нетерпении глядел туда, куда указывала в вышине неподвижная вытянутая рука Дэггу.
Кто знает, может быть, это немой одинокий фонтан своими неизменными возникновениями исподволь так воздействовал на Ахава, что тот готов был теперь связать представление о покое и тишине с образом ненавистного ему кита; или, может быть, его обмануло собственное нетерпение; как бы то ни было, но едва только он разглядел в волнах белую массу, он в тот же миг дал спешную команду спускать вельботы.
Четыре вельбота вскоре закачались на волнах и, возглавляемые личной шлюпкой Ахава, торопливо устремились за добычей. А она между тем скрылась под водой. Подняв вёсла, мы ожидали её появления, как вдруг в том самом месте, где она скрылась, она медленно всплыла на поверхность. Забыв и думать о Моби Дике, мы разглядывали самое удивительное зрелище, какое только открывало когда-либо таинственное море глазам человека. Перед нами была огромная мясистая масса футов по семьсот в ширину и длину, вся какого-то переливчатого желтовато-белого цвета, и от центра её во все стороны отходило бесчисленное множество длинных рук, крутящихся и извивающихся, как целый клубок анаконд, и готовых, казалось, схватить без разбору всё, что бы ни очутилось поблизости. У неё не видно было ни переда, ни зада, ни начала, ни конца, никаких признаков органов чувств или инстинктов; это покачивалась на волнах нездешним, бесформенным видением сама бессмысленная жизнь.
Когда с тихим засасывающим звуком она снова исчезла под волнами, Старбек, не отрывая взгляда от воды, забурлившей в том месте, где она скрылась, с отчаянием воскликнул:
– Уж лучше бы, кажется, увидеть мне Моби Дика и сразиться с ним, чем видеть тебя, о белый призрак!
– Что это было, сэр? – спросил Фласк.
– Огромный спрут. Не многие из китобойцев, увидевших его, возвратились в родной порт, чтобы рассказать об этом.
Но Ахав не произнёс ни слова, он развернул свой вельбот и пошёл к кораблю, а остальные в молчании последовали за ним.
Какими бы суевериями ни окутывали китоловы появление этого существа, ясно одно – зрелище это настолько необычное, что уже само по себе не может не иметь зловещей значительности. Оно встречается так редко, что мореплаватели, хоть и провозглашают спрута единодушно самым крупным живым существом в океанах, тем не менее почти ничего не знают толком о его истинной природе и внешнем виде, что, впрочем, не мешает им твёрдо верить, что он составляет единственную пищу кашалота. Дело в том, что все другие виды китов кормятся на поверхности, человек даже может наблюдать их за этим занятием, между тем как спермацетовый кит всю свою пищу добывает в неведомых глубинах, и человеку остаётся только делать умозаключения относительно состава его пищи. Иногда во время особенно упорной погони он извергает из себя щупальца спрута, и среди них были обнаружены некоторые, достигающие в длину двадцати и тридцати футов. Полагают, что чудовища, которым принадлежат эти щупальца, обычно цепляются ими за океанское дно, и кашалот в отличие от остальных левиафанов наделён зубами для того, чтобы нападать на них и отдирать их со дна.
Есть, мне кажется, основания предполагать, что великий кракен епископа Понтоппидана[222] и есть в конечном счёте спрут. Его обыкновение то всплывать, то погружаться, как это описано у епископа, и некоторые другие упоминаемые им особенности совпадают как нельзя точнее. Но вот что касается невероятных размеров, какие приписывает ему епископ, то это необходимо принимать с большой поправкой.
Часть натуралистов, до которых дошли смутные слухи об описанном здесь загадочном существе, включает его в один класс с каракатицами, куда его по ряду внешних признаков и следует отнести, но только как Енака[223] в своём племени.
Глава LX. Линь
В связи со сценой китовой охоты, описание которой последует несколько ниже, а также в целях разъяснения всех прочих подобных сцен я должен повести здесь речь о магическом, а подчас и убийственном гарпунном лине.
Первоначально лини, употребляемые для промысла, изготовлялись из лучших сортов пеньки, слегка обкуренной смолой, но не пропитанной ею, в отличие от обыкновенных тросов; дело в том, что хотя смола и придаёт пеньковым прядям гибкости, необходимой при свивании, да и сам трос становится от неё послушнее в руках матроса, тем не менее в обычном количестве смола не только сделала бы гарпунный линь слишком жёстким для того, чтобы его можно было сворачивать в узкие бухты, но и вообще, как понимают теперь многие моряки, её применение отнюдь не увеличивает прочности и крепости тросов, а только придаёт им гладкости и блеску.
В последние годы на американских китобойцах пеньковые лини оказались почти полностью вытесненными манильскими, потому что волокна абаки, дикого банана, из которых они изготовляются, хоть и быстрее снашиваются, чем пеньковые, зато крепче, значительно мягче и эластичнее и, кроме того, добавлю я (поскольку эстетическая сторона существует во всяком предмете), они гораздо красивее и приличнее на судне, чем пенька. Пенька – это смуглокожая чернавка, вроде индианки, а манила с виду – златокудрая черкешенка.
Толщина гарпунного линя – всего две трети дюйма. С первого взгляда и не подумаешь, что он такой крепкий. Опыт, однако, показывает, что каждая из его пятидесяти одной каболки выдерживает груз в сто двадцать фунтов, и, стало быть, весь трос целиком выдержит нагрузку чуть ли не в три тонны. В длину гарпунный линь для промысла на кашалотов обычно имеет около двухсот морских саженей. На корме вельбота ставят кадку, в которую он укладывается тугими кольцами, не такими, как змеевик в перегонном аппарате, а в форме круглого сыра, плотными, тесно уложенными «наслойками» – концентрическими спиралями, почти без всякого просвета, если не считать крохотного «сердечка» – узкого вертикального отверстия, образующегося по самой оси этого верёвочного сыра. И так как малейшая петля или узел при разматывании линя грозит унести за борт чью-нибудь руку, ногу, а то и всё тело целиком, линь укладывают в кадку с величайшей тщательностью. Иной раз гарпунёры убивают на это дело целое утро, натягивая линь высоко на снастях и пропуская его вниз через блок, чтобы при сворачивании он нигде не перекрутился и не запутался.
На английских вельботах вместо одной кадки ставят две, и один линь укладывается пополам в обе кадки. Это имеет свои преимущества, поскольку кадки-близнецы бывают значительно меньших размеров, проще устанавливаются в лодке и не так её перегружают, как американская кадка, имеющая около трёх футов в диаметре и соответствующую высоту, и для судёнышка, сколоченного из полудюймовых досок, представляющая довольно-таки увесистый груз, ибо днище вельбота подобно тонкому льду, который может выдержать немалую нагрузку, если её распределить равномерно, но тут же проломится, если сосредоточить давление в одной точке. Когда американскую кадку покрывают крашеным брезентом, кажется, будто вельбот отвалил от судна, чтобы свезти в подарок китам чудовищно большой свадебный пирог.
Оба конца у линя выводятся наружу, нижний конец с огоном, или петлёй, поднимается со дна кадки по стенке и свободно свешивается через край. Это необходимо по двум соображениям. Во-первых, для того чтобы легче было привязать к нему линь с соседнего вельбота, если подбитый кит уйдёт так глубоко под воду, что весь линь, первоначально прикреплённый к гарпуну, грозит исчезнуть в волнах. В подобных случаях кита просто передают, словно кружку эля, с одного вельбота на другой, хотя первый вельбот и остаётся поблизости, чтобы оказать, если понадобится, помощь своему напарнику. Во-вторых, это диктуется соображениями общей безопасности, потому что, будь нижний конец линя прикреплён к лодке, подбитый кит, иногда утягивающий за собой под воду весь линь за какое-то одно короткое мгновение, не остановится на этом, но неизбежно потянет за собой в пучину моря обречённый вельбот, и тогда уже никаким герольдам и глашатаям его не сыскать.
Перед тем как спустить на воду вельбот, верхний конец линя вытягивается из кадки, заводится за лагрет на корме и потом укладывается во всю длину лодки между двумя рядами гребцов, сидящих у бортов наискосок друг от друга, протягивается прямо через вальки вёсел, так что при гребле матросы задевают его руками, в самый нос вельбота, где имеется колодка со свинцовым кипом – жёлобом, из которого ему не позволяет выскользнуть деревянный шпенёк длиной с гусиное перо. На носу линь свисает за борт небольшим фестоном, а потом снова перекидывается внутрь; здесь часть линя саженей в десять – двадцать (называемая передовым линём) сворачивается и укладывается тут же, в носу, а остальной линь тянется вдоль борта к корме, где прикрепляется к короткому штерту – тросу, который привязывают к самому гарпуну; однако предварительно этот штерт подвергается всяким замысловатым таинственным манипуляциям, перечислять которые слишком уж скучно.
Таким образом, гарпунный линь оплетает вельбот, обвивая и опоясывая его во всех направлениях. Каждого гребца захватывает он своими гибельными изгибами, и на робкий взгляд новичка кажется, будто это сидят индусские факиры, для развлечения публики увитые ядовитыми змеями. И без привычки ни один сын смертной женщины не усидит спокойно среди этой пеньковой путаницы, налегая со всей силой на весло и думая о том, что в любую, никому не ведомую секунду может быть заброшен гарпун и тогда все эти ужасные извивы мгновенно оживут, словно кольцеобразная молния; невозможно помыслить об этом, чтобы дрожь не пронзила вас до мозга костей, превращая его в трепещущий студень. Однако привычка! – удивительно! чего только не сделает привычка? Никогда над красным деревом своего стола не услышите вы таких весёлых острот, такого громкого смеха, таких превосходных шуток и находчивых ответов, как над белыми полудюймовыми кедровыми досками вельбота, в котором шестеро матросов, составляющих его команду, словно висельники, подвешены на верёвке; они, можно сказать, с петлёй на шее движутся прямо смерти в зубы, вроде шестерых граждан Кале, явившихся к королю Эдуарду[224].
Теперь, вероятно, вы без особого труда представите себе причину тех довольно частых на промысле несчастных случаев – изредка отмечаемых даже в печати, – когда разматывающийся линь захватывает матроса и уносит его за борт, в воду. Ибо сидеть в вельботе, когда линь убегает за гарпуном, – это всё равно что сидеть внутри работающего на полном ходу паровоза, среди свиста и шипения, когда со всех сторон вас задевают различные крутящиеся валы, снующие поршни и колёса. И более того: ведь окружённый смертельными опасностями, ты не можешь даже сидеть неподвижно, потому что лодка качается, словно люлька, и тебя без всякого предупреждения швыряет из стороны в сторону; так что лишь благодаря своевременно проявленному искусству балансирования и величайшему напряжению воли и энергии ты сумеешь избежать судьбы Мазепы и не оказаться унесённым туда, куда даже всевидящему солнцу не добраться вслед за тобой[225].
Но это ещё не всё. Подобно тому как мёртвый штиль, который зачастую только предшествует шторму и предвещает его, кажется нам ещё ужаснее, чем самый шторм; ибо штиль – это не более как обёртка, оболочка шторма; она заключает его в себе, как безобидное с виду ружьё заключает в себе гибельный порох, и пулю, и сам выстрел; точно так же и грациозная неподвижность гарпунного линя, безмолвно вьющегося вокруг гребцов, пока его не привели в действие, – эта неподвижность несёт в себе больше подлинного ужаса, чем даже сама опасность. Но к чему лишние слова? Ведь все мы живём на свете обвитые гарпунным линём. Каждый рождён с верёвкой на шее; но только попадая в неожиданную, молниеносно затягивающуюся петлю смерти, понимают люди безмолвную, утончённую, непреходящую опасность жизни. И если ты философ, то и в своём вельботе ты испытаешь ничуть не больше страха, чем сидя вечерком перед камином, где подле тебя лежит не гарпун, а всего лишь безобидная кочерга.
Глава LXI. Стабб убивает кита
Если для Старбека появление спрута служило зловещим предзнаменованием, для Квикега оно имело совсем иной смысл.
– Когда твоя видел спрут, – проговорил дикарь, стоя на носу высоко подвешенного вельбота, где он точил свой гарпун, – тогда твоя скоро-скоро видел кашалот.
На следующий день было так тихо и душно, что команда «Пекода», не имея никаких особых дел, была не в силах бороться с дремотой, навеваемой пустынным морем. Ту часть Индийского океана, где мы теперь шли, нельзя было назвать, как говорят китоловы, бойким местом; здесь гораздо реже можно встретить дельфинов, летучих рыбёшек и прочих жизнерадостных жителей моря, чем, скажем, возле Ла-Платы или у побережья Перу.
Был мой черёд стоять на верхушке фок-мачты, и, прислонившись спиной к провисшим брам-вантам, я, словно очарованный, размеренно покачивался в вышине. Никакая решимость не могла бы тут устоять, и, теряя в дремоте всякое представление об окружающем, душа моя покинула моё тело, хотя оно и продолжало раскачиваться по-прежнему, подобно маятнику, который долго ещё качается, после того как сообщившая ему толчок сила уже больше на него не воздействует.
Но прежде чем забытьё полностью овладело мной, я успел заметить, что дозорные на гроте и на бизани уже спят. И вот теперь мы все трое безжизненно повисли на снастях, а внизу в такт нашему покачиванию клевал носом рулевой у штурвала. И волны тоже лениво покачивали своими гребнями, и через сонную ширь океана Запад кивал Востоку, а сверху кивало солнце.
Вдруг словно пузырьки пошли у меня перед закрытыми глазами, руки мои, точно тиски, сжали трос – кто-то невидимый и милосердный уберёг меня от погибели; я встрепенулся и пришёл в себя. И вижу: там, с подветренной стороны, не дальше как в сорока саженях от «Пекода», плывёт по волнам гигантский кашалот, словно перевёрнутый корпус фрегата, сверкая в солнечных лучах, точно зеркало, широкой блестящей спиной эфиопского оттенка. Лениво покачиваясь в океанском лоне и безмятежно пуская время от времени пары своего фонтана, он похож был на дородного бюргера, покуривающего после обеда трубочку. Увы, бедный кит, эта трубка для тебя последняя. Словно по мановению волшебной палочки, сразу же пробудился сонный корабль со всей своей спящей командой, и два десятка голосов с разных концов судна одновременно с тремя дозорными затянули привычный клич, глядя, как огромная рыба медленно и равномерно посылает к небу сверкающие столбы солёных брызг.
– Приготовить вельботы! Привести к ветру! – выкрикнул Ахав и, подчиняясь собственной команде, круто положил штурвальное колесо, не дожидаясь, пока рулевой перехватит рукоятки.
Внезапный крик на судне, должно быть, вспугнул кита; и прежде чем мы успели спустить вельботы, он величаво развернулся и поплыл прочь, с таким, однако, невозмутимо спокойным видом, что за ним почти не пенилась вода; так что Ахав, надеясь, что всё-таки, может быть, он нас ещё не заметил, приказал, чтобы на лодках разговаривали шёпотом и гребли не вёслами, а короткими гребками. И мы, усевшись на борта вельботов, точно индейцы на Онтарио, быстро и молча заработали гребками, потому что из-за штиля не могли воспользоваться бесшумными парусами. Так мы неслись к добыче, но вдруг чудовище взмахнуло своим огромным хвостом, отвесно подняв его футов на сорок из воды, и ушло в глубину, точно проглоченная разверзшейся пучиной башня.
– Хвост показал! – послышался крик, и сразу же вслед за тем Стабб вытащил спичку и принялся раскуривать свою трубку, ибо наступила передышка. Когда прошёл обычный срок погружения, кит вынырнул и оказался теперь прямо перед вельботом курильщика, и, так как другие лодки были значительно дальше, Стабб мог рассчитывать, что честь удачной охоты на этот раз достанется ему. Было очевидно, что кит заметил преследователей. И потому молчание и прочие предосторожности оказались теперь ни к чему. Гребки отложили, и матросы шумно заработали вёслами. А Стабб, всё ещё попыхивая трубкой, стал подбадривать и подгонять свою команду. Да, теперь поведение чудовищной рыбы резко изменилось. Подстёгиваемая сознанием грозящей опасности, она шла, выставив над водой голову, которая косо выступала из густого облака клокочущей пены[226].
– Гони его, гони его, ребята! Только не надо торопиться, времени у нас уйма – вы только гоните его, дайте ему как следует! – кричал Стабб, и дым вырывался у него изо рта. – Ну-ка покажите ему; подгреби разок посильнее, Тэштиго. Покажи ему, Тэш, мой мальчик, покажи ему, ребятки; но, но! полегче, полегче, не горячиться, огурчики мои, полегче, знай только гони его, как смерть и тысяча чертей, чтобы мёртвые повыпрыгивали из могил, вот только и всего. Гони его!
– У-хуу! Уа-хии! – завизжал в ответ индеец из Гейхеда, издавая древний боевой клич своего народа, и в нетерпении так сильно рванул по воде веслом, что всех гребцов шатнуло назад.
На его дикий вопль отозвались другие голоса, такие же дикие и свирепые.
– Ки-хии! Ки-хии! – кричал Дэггу, подаваясь то вперёд, то назад у себя на банке, точно мечущийся в клетке тигр.
– Ка-ла! Ку-луу! – завывал Квикег, причмокивая, словно над огромным сочным куском бифштекса.
Так, вёслами и воплями резали лодки морскую гладь. А Стабб, по-прежнему возглавляя погоню, всё подбадривал своих людей и попыхивал дымом. Как безумные надрывались матросы, пока наконец не раздался долгожданный приказ: «Вставай, Тэштиго! Влепи ему!» – Полетел гарпун. «Табань!» Гребцы заработали вёслами, и в то же мгновение что-то горячее со свистом заскользило по их запястьям. Это был магический линь. На секунду раньше Стабб успел ещё два раза закинуть его за лагрет, и теперь из-за невероятной быстроты, с какой извивались кольца линя, над лагретом подымался голубоватый пеньковый дымок, смешиваясь с равномерными клубами табачного дыма. Перед тем как свиться в кольца вокруг лагрета, линь, обжигая, бежал у Стабба между ладонями, с которых как раз соскочили рукавицы – квадратные куски стёганой парусины, предусмотренные на такие случаи. Это было всё равно, что держаться за лезвие обоюдоострого меча, который противник всячески старается выкрутить и выдернуть у тебя из рук.
– Смочи, смочи линь! – крикнул Стабб гребцу, сидевшему у кадки, и тот, сдёрнув с головы зюйдвестку, зачерпнул в неё воды[227]. Линь ещё несколько раз обмотали вокруг лагрета и закрепили. Теперь вельбот, точно акула, летел среди клокочущей пены, а Стабб и Тэштиго обменялись местами – Тэштиго прошёл на корму, а Стабб на нос, – что было довольно шатким делом при такой качке.
Натянутый над лодкой линь так и дрожал, тугой, как струна; и казалось, что у вельбота два киля: один режет воду, а другой воздух, чтобы вельбот мог мчаться в пене, преодолевая разом обе враждующие стихии. Непрестанный веер брызг разлетался от носа, нескончаемый водоворот бурлил за кормой, и стоило кому-нибудь в лодке шелохнуться, пошевелить хотя бы мизинцем, и стонущее, вибрирующее судёнышко судорожно ложилось бортом на воду. Так мчались они вперёд, и каждый что было сил цеплялся за банку, чтобы не оказаться выброшенным в море, а высокий Тэштиго с рулевым веслом в руках согнулся в три погибели, перемещая этим книзу свой центр тяжести. Казалось, на этом летящем вельботе они пронеслись уже через всю Атлантику и через весь Тихий океан, но тут наконец кит начал понемногу сбавлять скорость.
– Выбирай! Выбирай! – крикнул Стабб переднему матросу. И вся команда, повернувшись лицом в сторону кита, стала на ходу подтягивать к нему вельбот. И вот они идут уже бок о бок. Стабб, твёрдо упёршись коленом в бросальный брус, стал швырять в кита острогой, а гребцы по его команде то табанили, чтобы вырваться из кипящей пены, то подгребали снова, чтобы он мог нанести удар.
По бокам чудовища струились красные потоки, словно ручьи, стекающие с холма. Его пронизанная болью туша билась теперь не в воде, а в крови, которая бурлила и пенилась даже на сотню саженей позади них. Косые лучи солнца играли на поверхности этого алого озера посреди моря, бросая отсветы на лица матросов и превращая их в краснокожих. А между тем из китовьего дыхала снова и снова судорожно выбивались столбы белого пара, и клуб за клубом вырывался дым изо рта у командира вельбота; швырнув острогу, Стабб вытягивал её, погнутую, за привязанный к ней линь и, выправив немного двумя-тремя торопливыми ударами о край борта, ещё и ещё метал её в кита.
– Подгребай, подгребай! – раздался новый приказ, когда ярость изнемогающего кита, казалось, истощилась. – Подгребай ближе! – и вельбот подошёл к китовому боку. И тут, перегнувшись далеко за борт, Стабб медленно воткнул в тушу рыбы свою длинную острую пику и стал осторожными толчками загонять её глубже и глубже, точно нащупывая в теле кита золотые часы, которые чудовище проглотило и которые теперь он боялся разбить, прежде чем сумеет вытащить. Но золотыми часами, которые он выискивал, была сама сокровенная китовая жизнь. Вот он достиг её! и выйдя из оцепенения, чудовище стало с такой силой биться в море собственной крови, подняв вокруг непроницаемую завесу бешено клокочущей пены, что лодка под угрозой гибели, в тот же миг подавшись назад, с трудом выбралась из этих диких сумерек на свет божий.
Потом неистовство кита улеглось, он снова показался перед вельботами, бока его вздымались и опадали, дыхало судорожно расширялось и сжималось, издавая в агонии хриплые короткие вздохи. Вдруг фонтан густой тёмно-красной, точно чёрный винный осадок, крови взметнулся в охваченный ужасом воздух, и, падая обратно, кровь заструилась по его неподвижным бокам, стекая в море. Сердце его разорвалось!
– Он мёртв, мистер Стабб, – сказал Дэггу.
– Да, обе трубки догорели. – И вынув изо рта свою трубку, Стабб развеял над волнами остывший пепел и постоял мгновение, в задумчивости разглядывая огромный труп – дело рук своих.
Глава LXII. Метание гарпуна
Одно слово по поводу эпизода, описанного в предыдущей главе.
По непреложному обычаю промысла, когда вельбот отваливает от судна, командир вельбота, то есть тот, кто убивает кита, сидит в качестве временного рулевого на корме, а гарпунёр, чья задача взять кита на линь, работает передним, так называемым гарпунерским, веслом. Чтобы метнуть первый гарпун в китовый бок, нужна рука сильная и твёрдая; иной раз бывает, что тяжёлое это орудие приходится кидать на расстояние в двадцать-тридцать футов. Но какой бы изматывающе долгой ни была погоня, всё это время гарпунёру полагается работать веслом и не просто грести, а подавать остальным пример сверхчеловеческой неутомимости, надрываясь на весле и в то же время издавая громкие, отчаянные возгласы; а что значит без передышки орать во всю глотку, когда все твои мускулы напряжены до предела, – может понять только тот, кто испытал это сам. Я лично не умею одновременно горланить и работать с толком. Но вот, крича и надрываясь, замученный гарпунщик, сидящий спиной к рыбе, слышит команду: «Вставай и влепи ему!». Теперь он должен положить и закрепить своё весло, сидя повернуться, снять с рогатки гарпун и из последних своих сил метать его в кита. Неудивительно, что в целом на всех китобойцах не более пяти гарпунов из пятидесяти достигают цели; неудивительно, что так часто неудачливых гарпунщиков клянут и гонят; неудивительно, что у некоторых из них, случается, прямо в лодке лопаются жилы, неудивительно, что китоловы проводят в плавании иной раз четыре года, не добыв и четырёх бочек; неудивительно, что многие судовладельцы считают китобойный промысел убыточным делом: ведь успех плавания зависит от гарпунщика, а как можно, вымотав из него всю душу, рассчитывать в минуту необходимости на его тело?
Мало того, если метание гарпуна оказывается удачным, наступает ещё один критический момент, когда кит пускается в бегство, а командир вельбота и гарпунщик, к вящей опасности для них самих и для всех прочих, также пускаются бегом: один с носа на корму, другой ему навстречу. Они меняются местами, и командир маленького судёнышка занимает теперь своё законное место – на носу вельбота.
Ну так вот, что бы там ни говорили, а я утверждаю, что всё это глупо и никому не нужно. Командир должен находиться на носу с самого начала и до конца: он должен метать и гарпун, и острогу и ни под каким видом не работать веслом, разве только при самых крайних и очевидных обстоятельствах. Правда, я знаю, это будет приводить иногда к некоторой потере скорости во время погони, но длительный опыт многочисленных китобойцев разных наций убедил меня, что в огромном большинстве случаев неудачи на промысле вызывались отнюдь не проворством кита, а вышеописанным состоянием гарпунщика.
Дабы быть уверенным в попадании, надо, чтобы гарпунщики этого мира, меча свой гарпун, вскакивали на ноги, не от тяжких трудов отрываясь, но от полного безделья.
Глава LXIII. Рогатка
От ствола отходят толстые ветви, от толстых ветвей – маленькие веточки. Так при плодотворной теме разрастаются главы.
Рогатка, о которой упоминается на предыдущей странице, заслуживает отдельного описания. Она представляет собой стержень с насечками, весьма своеобразного вида, имеющий фута два в длину и вставленный под прямым углом в планшир правого борта у самого носа; в него вкладывается древко гарпуна, в то время как железный конец, оголённый и зазубренный, наискось торчит наружу. Таким образом, орудие всегда у гарпунёра под рукой, и он может выхватить его с такой же быстротой, с какой пионер в западных лесах сдёргивает со стены ружьё. Обычно в рогатку бывают вставлены два гарпуна, соответственно именуемые первый и второй.
Но оба эти гарпуна связаны при помощи двух штертиков с линём, для того чтобы по возможности метать в кита оба, один за другим, так что если потом от рывков животного один выскочит, другой всё равно останется в его боку. Тем самым шансы удваиваются. Однако очень часто бывает, что, почуяв в теле первый гарпун, кит в ту же секунду с такой лихорадочной быстротой пускается в бегство, что гарпунщик, как бы молниеносны ни были его движения, не в состоянии запустить в него второй гарпун. Тем не менее, поскольку второй гарпун всё равно прикреплён к линю, а линь уже травится, его во что бы то ни стало надо вовремя отшвырнуть куда-нибудь подальше от вельбота, иначе всей команде грозит самая ужасная опасность. Его забрасывают прямо в воду, что обычно можно проделать без особого риска благодаря лишним бухтам передового линя (о которых говорилось в одной из предыдущих глав). И всё-таки подчас это бывает связано с самыми трагическими несчастными случаями.
К тому же выброшенный за борт второй гарпун с этой минуты становится грозой для всего дела; его острые лезвия, болтаясь на тросе, выделывают вокруг шлюпки и кита самые замысловатые курбеты; он может запутать линь, может перерубить его, неся с собой гибель и сумятицу. И вытащить его обычно удаётся только тогда, когда кит уже мёртв и ошвартован.
Теперь представьте себе, каково это, когда все четыре вельбота бьются с одним китом, отличающимся особенной силой, изобретательностью и коварством; когда благодаря всем этим его качествам, а также в силу тысячи гибельных совпадений, обычных в нашем опасном деле, вокруг него одновременно болтаются на лине штук восемь-десять вторых гарпунов. Ведь в каждом вельботе есть по нескольку гарпунов, которые можно привязать к линю, если первый гарпун заброшен неудачно и потерян. Все эти детали излагаются здесь с величайшей точностью, для того чтобы они могли пролить свет на некоторые весьма важные и крайне запутанные описания, которые последуют в дальнейшем.
Глава LXIV. Ужин Стабба
Стабб убил своего кита довольно далеко от судна. Стоял штиль, и мы, запрягши цугом три вельбота, стали медленно буксировать наш трофей к «Пекоду». Теперь, когда мы, восемнадцать человек, своими тридцатью шестью руками и ста восьмьюдесятью пальцами, час за часом, надрываясь, волочили по морю эту грузную безжизненную тушу, а она еле-еле сдвигалась с места, мы получили наглядное доказательство тому, насколько огромна она была. Ведь в Китае на великом канале Хань-Хэ, или как бишь он называется, пять или шесть кули тянут вдоль берега тяжело нагруженную джонку со скоростью мили в час, а это грандиозное судно, которое мы буксировали, подавалось вперёд так медленно, будто везло полные трюмы свинцовых чушек.
Стемнело, но три тусклых фонаря на снастях грот-мачты освещали нам с «Пекода» путь; и вот, подойдя ближе, мы уже видим, как Ахав свешивает за борт ещё один фонарь. Равнодушно окинув взглядом вздымающуюся китовую тушу, он отдал обычные приказания о швартовке её на ночь и, передав фонарь одному из матросов, ушёл к себе в каюту и не выходил оттуда до утра.
Хотя, отправляя вельботы в погоню за этим китом, капитан Ахав и проявил, можно сказать, обычную свою энергию, теперь, когда животное было убито, какая-то смутная неудовлетворённость, нетерпение, разочарование закрались к нему в душу; словно вид этого мёртвого тела напоминал ему, что Моби Дик ещё жив и что пусть даже тысячу убитых китов подтянут к борту «Пекода», они ни на миг не приблизят его к его великой, бредовой цели. Вскоре по звукам, раздававшимся на корабле, можно было подумать, что экипаж готовится прямо посреди моря бросить якорь. Тяжёлые цепи волокут по палубе и пропускают со скрежетом в клюзы. Но этими лязгающими узами будет закован не корабль, а громадный левиафанов труп. Пришвартованная головой к корме, а хвостом к носу чёрная китовая туша лежит теперь, прижатая вплотную к корпусу судна, и в темноте ночи, скрадывающей очертания мачт и снастей, оба они – и кит, и корабль – кажутся двумя гигантскими быками под общим ярмом, один из которых лёг, а другой ещё стоит[228].
Если угрюмый Ахав был сейчас само спокойствие – так по крайней мере он держался на палубе, – его второй помощник Стабб, разгорячённый победой, выказывал признаки чрезвычайного, но вполне добродушного возбуждения. Вопреки своему обычаю он так суетился, что уравновешенный Старбек, его официальное начальство, молча устранился, позволив ему в одиночку заправлять всеми делами. Вскоре обнаружилось одно весьма странное дополнительное обстоятельство, служившее причиной его оживления. Стабб был большой гастроном, он страстно любил китовое мясо и неумеренно высоко ценил его вкус.
– Бифштекс, бифштекс, прежде чем я лягу спать! Эй, Дэггу! лезь за борт и вырежь мне филейный кусок.
Да будет всем известно, что хотя грубые китобои всё же обычно не заставляют, как и полагается по великой военной доктрине, своих врагов возмещать им текущие военные расходы (по крайней мере до реализации добычи от плавания), тем не менее можно встретить иной раз жителей Нантакета, которые высоко ценят вкусовые качества упомянутой Стаббом части кашалотовой туши, а именно, сужающейся оконечности его тела.
К полуночи бифштекс был вырезан и приготовлен, и Стабб, при свете двух спермацетовых фонарей, торжественно приступил к своему спермацетовому ужину, стоя у шпиля, точно у буфетной стойки. Но не он один в ту ночь угощался китовым мясом. Присоединив своё чавканье к скрипу его жующих челюстей, сотни и тысячи акул, роившихся вокруг мёртвого левиафана, пировали, со смаком вгрызаясь в его жирное тело. Тех, немногих, кто спал в кубрике, часто будили оглушительные удары их хвостов по обшивке судна, приходившиеся всего в нескольких дюймах от сердца спящего. А перегнувшись за борт, вы могли даже увидеть их (как до этого слышали их) – они барахтались в чёрной, угрюмой воде, переворачиваясь на спину всякий раз, как вырывали из китовой туши большущие круглые куски сала величиной с человеческую голову. Такое акулье пиршество может показаться просто неправдоподобным. Как ухитряются они выгрызать из этой гладкой скользкой поверхности куски столь правильной формы – остаётся частью всеобъемлющей загадки вселенной. След, оставляемый ими при этом в туше, больше всего напоминает углубление, которое высверливает столяр, для того чтобы загнать болт.
Несмотря на то что среди дымного, адского ужаса морских сражений акулы, точно голодные псы у стола, где идёт разделка сырого мяса, всегда с жадностью поглядывают на палубы, готовые тут же пожрать каждого убитого, которого им бросят; и пока отважные мясники за палубными столами по-каннибальски режут живое мясо друг друга своими позолоченными и разукрашенными ножами, драчливые акулы своими алмазно-эфесными пастями тоже режут под столом мясо, только мёртвое; так что даже если поменять их местами, всё равно получится, в общем-то, одно и то же – куда какое зверское дело, – и у тех, и у других; и несмотря на то, что акулы неизменно оказываются в свите всякого невольничьего корабля, пересекающего Атлантику, услужливо плывя поблизости, на случай если понадобится срочно доставить куда-нибудь пакет или добропорядочно похоронить умершего раба; и несмотря на то, что можно привести ещё несколько подобных же примеров, когда в соответствующей обстановке и в соответствующем месте акулы собираются большими обществами на шумные пиршества, – всё-таки никогда, ни в какой обстановке и ни в каком месте не увидите вы их в столь огромных количествах и в столь весёлом и радостном расположении духа, как у тела убитого кашалота, пришвартованного в море на ночь к борту корабля. Если вам ещё не случалось видеть это зрелище, тогда повремените высказываться по поводу уместности поклонения дьяволу и необходимости умиротворения его.
Но Стабб ещё покуда не более прислушивался к чавканью, доносившемуся с банкета, который шёл так близко он него, чем акулы прислушивались к причмокиванию его эпикурейских губ.
– Кок, эй, кок! где этот старик Овчина? – крикнул он вдруг, ещё шире расставляя ноги, словно хотел придать своему ужину ещё более надёжное основание, и одновременно, словно острогу, вонзив в мясо вилку. – Эй, ты, кок! плыви-ка, сюда, кок!
Старый негр, в не слишком-то радостном настроении, потому что его недавно подняли из тёплой койки в такой неподобающий час, вышел из камбуза, тяжело передвигая ноги, ибо у него, как и у многих старых негров, было что-то неладно с коленными чашечками, которые он содержал не в таком блестящем виде, как всю другую посуду, – старик Овчина, как назвали его на судне, шёл, прихрамывая и волоча ноги и опираясь на печные щипцы, грубо сделанные из двух выпрямленных бочарных ободьев; он притащился и по команде стал по другую сторону шпиля, служившего столом Стаббу; при этом он сложил перед собой руки и, опершись на свою раздвоенную трость, ещё ниже изогнул сутулую спину, одновременно склонив голову чуть набок, чтобы выставить вперёд ухо, которым он слышал лучше.
– Кок, – заговорил Стабб, быстро отправляя себе в рот чуть красноватый кусок мяса, – тебе не кажется, что этот бифштекс пережарен? Ты зря так разбил его, кок; он слишком мягкий. Разве я не говорю тебе всегда, что вкусный китовый бифштекс должен быть жёстким? Вон погляди на акул, видишь, им больше нравится, когда он жёсткий и сырой. Ну и свалку же они там устроили! Иди, кок, поговори с ними; скажи, что им никто не мешает угощаться прилично и в меру, но только пусть не шумят. Я, чёрт возьми, собственного голоса не слышу. Отправляйся, кок, и передай им это от меня. Вот тебе фонарь, держи, – и он схватил один из фонарей со своего стола, – а теперь иди и прочти им проповедь.
С мрачным видом подхватив протянутый фонарь, старик Овчина, хромая, подошёл к борту; здесь, опустив в одной руке фонарь как можно ниже к воде, так, чтобы лучше видеть свою паству, он другой рукой торжественно взмахнул щипцами и, перегнувшись далеко за борт, шамкая, обратился к акулам с проповедью, которую Стабб, неслышно подкравшись сзади, преспокойно подслушивал.
– Шлушайте, братья, мне тут прикажано передать вам, чтоб вы кончали этот чёртов шум. Шлышите? Кончайте, к чёрту, чмокать губами! Машша Штабб шкажал, можете к чертям набивать себе брюхо хоть до шамых иллюминаторов, да только, ей-богу, нельжя же уштраивать такую чёртову швалку.
– Кок, – вмешался Стабб, сопровождая свои слова внезапным толчком старику в плечо. – Кок! послушай, чёрт подери, разве можно столько чертыхаться, когда проповедуешь? Так не обращают грешников, кок!
– Кого, кого! Этим, как его, грешникам проповедуйте лучше шами, – и он с мрачным видом отвернулся от борта.
– Да нет, кок, давай, давай дальше.
– Ну, вот. Вожлюбленные братья…
– Здорово! – похвалил его Стабб. – Лаской надо, уговором. Может, тогда подействует.
Овчина продолжал:
– Хотя вы вше акулы и по натуре очень прожорливы, я вам вше-таки, братья, шкажу так, обжорство – это… а ну, перештаньте, чёрт подери, бить хвоштами! Ражве вы тут шможете ушлышать хоть шлово, ей-богу, ешли будете так бить хвоштами и подымать грыжню?
– Кок, – крикнул Стабб, хватая его за шиворот, – не смей божиться! Разговаривай с ними по-благородному.
Проповедь продолжалась:
– Жа обжорство, братья, я ваш шлишком не виню: это у ваш от природы, и тут уже ничего не шделаешь; но вы должны подчинять шебе швою природу, вот в чём шоль. Яшное дело, вы – акулы, но победите акул в шебе, да вы тогда шражу штанете ангелами, ибо вшякий ангел – это вшего лишь побеждённая как шледует акула. Вы только попробуйте, шобратья, один раж вешти шебя прилично жа едой. Не рвите шало ижо рта у ближнего, шлышите? Ражве одна акула имеет меньше прав на этого кита, чем другая? Никто иж ваш, чёрт подери, не имеет прав на этого кита; этот кит принадлежит ещё кое-кому. Я жнаю, у иных иж ваш очень большой рот, не в пример побольше, чем у оштальных; но ведь иной раж большому рту да малое брюхо; так что большой паштью нужно не жаглатывать шало, а только отгрыжать кушки для акульих мальков, которым ни жа что шамим не протолкатьшя к угощению.
– Браво, Овчина, молодец, старик! – воскликнул Стабб. – Это, я понимаю, по-христиански; давай говори дальше.
– Нет шмышла говорить дальше, машша Штабб, проклятые жлодеи вше равно будут барахтаться в этой швалке и колошматить хвоштами; они ни шлова не шлышат; нет шмышла проповедовать таким чревоугодникам, покуда они не набьют шебе брюхо, а брюхо у них беждонное; а когда они вше-таки набьют брюхо, они ничего шлушать не штанут, они тогда шражу уйдут под воду и жашнут как убитые где-нибудь на кораллах и уж больше ничего не будут шлышать на веки вечные.
– Ей-богу, я разделяю твоё мнение, Овчина, благослови их скорей, и я вернусь к своему ужину.
Тогда Овчина простёр обе руки над толпой рыб и громким, пронзительным голосом вскричал:
– Проклятые братья! Можете поднимать, к чертям, какой угодно шум; можете набивать шебе брюхо, покуда не лопнете, – а тогда чтоб вам шдохнуть!
– А теперь, кок, – проговорил Стабб, вновь принимаясь за свой ужин на шпиле, – стань там, где стоял раньше, напротив меня, и слушай меня внимательно.
– Шлушаюшь, – сказал Овчина, снова в той же излюбленной позе, ссутулившись над своими щипцами.
– Вот что, – Стабб опять набил себе рот. – Вернёмся к вопросу о бифштексе. Прежде всего, сколько тебе лет, кок?
– А какое кашательштво это имеет к бифштекшу? – недовольно осведомился старый негр.
– Молчать! Сколько тебе лет, кок?
– Говорят, под девяношто, – мрачно ответил кок.
– Что? Ты прожил на этом свете без малого сто лет и не научился стряпать китовый бифштекс? – с этими словами Стабб проглотил ещё один большой кусок, послуживший словно продолжением его вопроса. – Где ты родился?
– На пароме, во время переправы через Роанок[229].
– Вот тебе и на! На пароме! Странно. Но я спрашивал тебя, в какой земле ты родился, кок?
– Я ведь шкажал, в жемле Роанок, – раздражённо ответил тот.
– Нет, ты этого не говорил, кок; но я сейчас объясню тебе, к чему я об этом спрашивал. Тебе нужно вернуться на родину и родиться заново, раз ты не умеешь приготовить китовый бифштекс.
– Ражражи меня гром, ешли я ещё когда-нибудь буду вам штряпать, – сердито буркнул старый негр, поворачиваясь прочь от шпиля.
– Эй, вернись, кок; ну-ка давай сюда свои щипцы, а теперь попробуй этот кусок бифштекса и скажи сам, правильно ли он приготовлен? Бери, говорю, – и он протянул негру щипцы. – Бери и попробуй сам.
Едва слышно причмокнув морщинистыми губами, старый кок прошамкал:
– Шамый вкушный бифштекш, какой мне шлучалошь ешть, шочный, ах, какой шочный.
– Кок, – сказал Стабб, снова расставив ноги, – ты в церковь ходишь?
– Проходил один раж мимо, в Кейптауне, – последовал мрачный ответ.
– Что? Только один раз в жизни прошёл поблизости от святой церкви в Кейптауне и подслушал там, как святой отец называет прихожан возлюбленными братьями, так, что ли, кок? И после этого ты приходишь сюда и говоришь мне такую страшную ложь, а? Ты куда думаешь попасть, кок?
– В кубрик, к шебе на койку, – буркнул тот, снова поворачиваясь прочь.
– Стой! Остановись! После смерти, я спрашиваю. Это ужасный вопрос, кок. Ну, как же ты на него ответишь?
– Когда этот штарый негр умрёт, – медленно проговорил старик, и весь его облик и самый голос вдруг изменились, – он шам никуда идти не будет; к нему шпуштится швятой ангел и вожьмет его.
– Возьмёт его? Как же это? В карете четвёркой, как был взят Илья-пророк? И куда же это он тебя возьмёт?
– Туда, – ответил Овчина, торжественно подняв щипцы прямо у себя над головой.
– Ах вот как. Ты, значит, рассчитываешь попасть после смерти на топ нашей грот-мачты, так, что ли, кок? А ты разве не знаешь, что чем выше лезешь, тем холоднее становится? Ишь ты, на топ грот-мачты захотел.
– Я этого не говорил, – снова насупившись, возразил Овчина.
– Говорил. Ты сказал «туда» и показал щипцами наверх. Сам погляди, куда твои щипцы показывают. Но ты, может быть, думаешь попасть на небо, протиснувшись через собачью дыру? Не тут-то было, кок, придётся тебе лезть по вантам, как всем, другого пути нет. Дело щекотливое, но придётся, иначе ничего не выйдет. Однако мы с тобой ещё не на небесах. Положи щипцы и слушай мою команду. Кто так слушает? Когда я отдаю приказание, ты должен взять шапку в одну руку, а другую приложить к сердцу. Что? Это здесь-то у тебя сердце? Это печёнка, кок! Выше, выше, вот так, теперь правильно. Так и держи и слушай меня внимательно.
– Шлушаюсь, – произнёс старый негр, держа обе руки так, как ему было приказано, и беспомощно поводя седой головой, будто стараясь выставить вперёд сразу оба уха.
– Так вот, кок, твой бифштекс был так плох, что я постарался уничтожить его по возможности скорее, понятно тебе? А на будущее, когда ты станешь готовить китовый бифштекс для моего личного стола, вот здесь, на шпиле, я сейчас научу тебя, что нужно делать, чтобы не пережарить его. Ты должен взять бифштекс в одну руку, а другой показать ему издалека раскалённый уголёк и, проделав это, подавать к столу; ты слышишь меня? А завтра кок, когда мы будем разделывать кита, не премини очутиться поблизости и отхватить концы грудных плавников; засолишь их. Что же до хвостовых плавников, то их концы ты замаринуешь. Ну вот, а теперь можешь идти, кок.
Но Овчина и трёх шагов не успел сделать, как Стабб уже снова окликнул его.
– Эй, кок, приготовишь мне завтра котлеты на ужин, на собачью вахту. Слышал? Тогда греби прочь. Э-гей, стоп! Поклониться нужно, когда уходишь. Стой, постой ещё! На завтрак – китовые битки. Не забудь.
– Вот, ей-богу, лучше бы уж кит его шожрал, чем он кита. Ражражи меня гром, он ещё почище вшякой акулы будет, машша Штабб, – прошамкал старик, ковыляя прочь; и с этим премудрым восклицанием повалился к себе на койку.
Глава LXV. Кит как блюдо
То странное обстоятельство, что смертный человек может употреблять в пищу мясо того существа, которое даёт также питание его лампе, и поедать его, подобно Стаббу, так сказать, при его же собственном освещении; обстоятельство это представляется настолько диким, что здесь совершенно необходимо небольшое отступление в область истории и философии.
Документами засвидетельствовано, что три столетия тому назад язык настоящего кита считался во Франции большим деликатесом и продавался по весьма высоким ценам. Известно тоже, что во времена Генриха VII один придворный повар заслужил немало наград за то, что изобрёл восхитительный соус к дельфину, который, как вы помните, относится к отряду китов. Дельфинье мясо, кстати сказать, и в наши дни считается очень вкусным. Его приготовляют в виде битков размерами с бильярдный шар, как следует приправляют и тушат, и в готовом виде оно напоминает телятину или черепаху. В старину особыми любителями этих битков были монахи Данфермлайна[230]. Они получали от короны большую дельфиновую дотацию.
По правде говоря, среди китобоев китовое мясо всегда считалось бы превосходным блюдом, не будь его так много; но когда ты сидишь перед мясным паштетом футов в сто длиной, у тебя как-то сам по себе пропадает аппетит. В наши дни лишь заведомо непредубеждённые мореплаватели, вроде Стабба, готовы отведать китятины; а вот эскимосы, те не так привередливы. Все мы знаем, что они питаются китовым мясом, да ещё собирают и хранят богатые урожаи высококачественной ворвани. Один из величайших эскимосских врачей по имени Зогранда рекомендует китовое сало в качестве самого полезного и сочного питания для младенцев. А это напоминает мне о тех англичанах, которые по несчастной случайности оказались когда-то брошенными китобойцем в Гренландии и несколько месяцев жили там, питаясь полусгнившими полосами китятины, оставшимися на берегу после вытапливания ворвани.
Голландские китоловы называют эти полосы «оладьями», каковые они действительно сильно напоминают, – они такие же коричневые и хрустящие и пахнут, как свежие пончики у амстердамских хозяек, и вообще имеют такой аппетитный вид, что по неведению даже самые воздержанные едоки не могут удержаться и не попробовать их.
Ещё больше понижает вкусовые качества китятины как цивилизованного блюда её жирность. Кит – это огромный призовой бык морей, слишком жирный, чтобы быть вкусным. Взгляните хотя бы на его горб, который мог бы оказаться таким же деликатесом, как и бизоний (являющийся на редкость вкусным блюдом), когда бы он не был просто огромной пирамидой чистого сала. Или спермацет, какой он нежный и тягучий, словно прозрачно-белое полузастывшее нутро кокосового ореха на третий месяц созревания; а всё-таки он слишком жирен, чтобы служить заменой коровьему маслу. Правда, многие китоловы приучаются есть его, размочив в нём, скажем, кусок сухаря. Когда идёт вытапливание, матросы в ночную вахту нередко опускают сухари в бочки со спермацетом и пропитывают их душистым жиром. Я и сам не раз устраивал себе таким образом отличный ужин.
Превосходным блюдом считаются мозги молодого кашалота. Черепную коробку осторожно разбивают топором и извлекают из неё два беловатых полушария (ну в точности два больших пудинга); затем их перемешивают с мукой и стряпают из них восхитительное кушанье, немного напоминающее по вкусу телячьи мозги, которые пользуются такой славой среди эпикурейцев; а ведь всем известно, что иной бычок из эпикурейцев, регулярно питаясь телячьими мозгами, мало-помалу и сам разживается толикой мозгов, так что может даже отличить собственную голову от телячьей, для чего, право же, потребна необыкновенная точность наблюдения. Вот почему такое грустное зрелище являет собой молодой жуир, сидящий за столом перед умной телячьей головой. Она глядит на него с укором, словно хочет вымолвить: «И ты, Брут!»
И всё-таки, по-моему, сухопутный человек с таким ужасом отвергает мысль об употреблении в пищу китового мяса не только из-за того, что оно отличается столь чрезмерной маслянистостью; это связано каким-то образом с уже приводившимся мною выше соображением; как можно, чтобы человек ел им самим только что убитую морскую тварь, да ещё освещаясь её же собственным жиром? Однако первый человек, убивший быка, несомненно, был провозглашён убийцей; быть может, он даже был повешен; во всяком случае, если бы его судили быки, они бы, безусловно, приговорили его к повешенью, которого он, безусловно, и заслуживает, как и всякий убийца. Сходите субботним вечером в мясные ряды и полюбуйтесь толпами живых двуногих, которые глазеют на целые шеренги мёртвых четвероногих. Вам не кажется, что такое зрелище может утереть нос каннибалам? Каннибалы? А кто из нас не каннибал? Право же, людоеду с островов Фиджи, который про чёрный день засолил у себя в погребе тощего миссионера, этому запасливому дикарю, говорю я, в судный день придётся легче, чем тебе, цивилизованный и просвещённый гурман, распинающий на полу гусей, чтобы потом пировать, угощаясь их распухшей печёнкой в изысканном блюде pat?-de-foie-gras[231].
Но вот Стабб, тот ест кита, освещаясь его же собственным жиром, не так ли? и тем только усугубляет жестокость своего поведения, так, что ли? Взгляни в таком случае на ручку своего ножа, мой цивилизованный и просвещённый гурман, уплетающий ростбиф: из чего она сделана? – разве не из кости быка, приходившегося родным братом тому, которого ты сейчас ешь? А чем ковыряешь ты в зубах, умяв этого жирного гуся? Пером, принадлежавшим той же самой птице. А каким пером выписывал официальные циркуляры секретарь Общества Борцов с Жестокостью в Обращении с Гусаками? Ведь резолюцию о пользовании исключительно стальными перьями это Общество приняло всего только месяц или два тому назад.
Глава LXVI. Акулья бойня
Когда убитого кашалота после долгих и тяжёлых трудов пришвартовывают к судну, в Южных морях обыкновенно не сразу приступают к разделке туши. Дело это чрезвычайно трудное; оно отнимает довольно много времени и требует участия всей команды. Вот почему существует широко распространённый обычай убирать в таких случаях все паруса, закреплять с наветренной стороны штурвал и отсылать всех вниз по койкам до рассвета, с тем условием только, чтобы всю ночь вахта стояла «по-якорному», то есть чтобы вся команда, сменяясь попарно каждый час, по очереди следила на палубе за порядком.
Но иногда, в особенности в экваториальных областях Тихого океана, от этого обычая приходится отказаться, потому что у привязанного китового трупа собираются такие неисчислимые полчища акул, что, если его оставить так, скажем, часов на шесть, к утру у борта будет болтаться один только голый скелет. Правда, в других областях океана, где эти рыбы водятся не в таком изобилии, их чудовищную прожорливость можно значительно поунять, с силой помешивая в воде острыми фленшерными лопатами[232], хотя в отдельных случаях этот приём только прибавляет им прыти. Но на сей раз дело обстояло не так; человеку, непривычному к подобным зрелищам, показалось бы, решись он ночью заглянуть за борт «Пекода», что море – это одна гигантская сырная голова, в которой так и кишат акулы-черви.
И потому, когда Стабб, поужинав, назначил якорную вахту и когда по его приказанию на палубу поднялся Квикег с одним матросом, среди акул началась паника, ибо моряки тут же свесили за борт люльки для разделки туш и три фонаря, бросавших длинные полосы света на бурлящую воду, и стали орудовать длинными фленшерными лопатами, убивая акул направо и налево сокрушительными ударами по черепу – единственное уязвимое у акулы место. Но в пенном хаосе переплетённых, извивающихся рыб охотникам не всегда удавалось попасть в цель, и тут ещё яснее обнаруживалась вся кровожадность этих тварей. Они не только терзали с жадностью вывалившиеся внутренности поражённого остриём соседа, но, раненые, сворачивались, подобно гибкому луку, и пожирали свои собственные внутренности, так что одна акула могла много раз подряд заглатывать свои кишки, которые тут же снова вываливались из зияющей раны. Но мало того. Даже с трупами и призраками этих тварей опасно иметь дело. В отрубленных членах и костях таится у них, видно, некая общая, пантеистическая жизненная сила, не покидающая их и после того, как жизнь отдельной акулы, казалось бы, угасла. Одна из акул, которую убили и подняли на палубу, чтобы содрать с неё кожу, едва не оставила без руки беднягу Квикега, когда он попытался захлопнуть мёртвую крышку её убийственной челюсти.
– Квикег не надо знай, какой бог сотворил акулу, – морщась от боли и тряся рукой, проговорил дикарь. – Может, Фиджи бог, может, Нантакет бог; только тот бог сам индеец проклятый.
Глава LXVII. Разделка
Всё это происходило в субботнюю ночь, но какое же воскресенье последовало за ней! Все китоловы – по долгу службы – нарушители святых праздников господних. Желтовато-белый «Пекод» был превращён в бойню, и каждый моряк стал мясником. Со стороны бы показалось, что мы приносим десять тысяч откормленных быков в жертву морским богам.
Прежде всего были подняты огромные разделочные тали, состоящие, кроме прочих громоздких предметов, из целой связки блоков, выкрашенных в зелёный цвет и настолько тяжёлых, что одному человеку их не поднять; эта виноградная гроздь была подтянута под топ грот-мачты и прочно закреплена у грот-марса – самого надёжного места над палубой. Конец стального троса, пропущенного через все эти хитросплетения, был подведён затем к лебёдке, а громадный нижний блок талей повис прямо над китом; к этому блоку был прикреплён толстенный гак – крюк весом фунтов на сто. И вот, повиснув за бортом в люльках, помощники Старбек и Стабб, вооружённые длинными лопатами, начали вырезать в туше над боковым плавником углубление для того, чтобы зацепить гак. После этого возле углубления вырубается широкий полукруг, гак вставляют, и вся команда, тесно столпившаяся у лебёдки, грянув какой-нибудь дикий припев, принимается тянуть. В тот же миг судно начинает крениться; каждый болтик в его корпусе оживает, точно готовый вывалиться морозной ночью из стены старого дома гвоздь; судно вздрагивает, трепещет и кивает небу своими испуганными мачтами. Всё сильнее и сильнее кренится оно, между тем как каждому рывку задыхающейся лебёдки посылают на помощь свой вздымающий толчок волны, пока наконец не раздастся громкий и быстрый треск; судно с плеском выпрямляется, и тали, торжествуя, показываются из-за борта, волоча на гаке вырванный полукруглый конец первой полосы сала. И поскольку слой сала окутывает кита совершенно так же, как апельсин кожура, его и очищают совершенно так же, как апельсин, сдирая кожуру спиралью. Лебёдка непрерывно тянет, и эта сила заставляет кита кружиться в воде вокруг своей оси; сало всё время сматывается с него ровной полосой по надрезу, который делают лопатами Старбек и Стабб; и одновременно, разматываясь, туша с такой же скоростью равномерно поднимается всё выше и выше, покуда не касается наконец верхушки грот-мачты; матросы перестают крутить лебёдку, потому что теперь огромная кровоточащая масса начинает раскачиваться, точно спускаясь с небес, и всё внимание присутствующих должно быть устремлено на то, чтобы вовремя от неё увернуться, не то она, пожалуй, даст тебе как следует по уху и отправит за борт, оглянуться не успеешь.
Но вот вперёд выступает один из гарпунёров, держа в руке длинное и острое оружие, называемое фленшерным мечом, и, улучив удобный миг, ловко выкраивает большое углубление в нижней части раскачивающейся туши. В это углубление вставляют гак второго огромного блока и подцепляют им слой сала. После этого фехтовальщик-гарпунёр даёт знак всем отойти в сторону, делает ещё один мастерский выпад и несколькими сильными косыми ударами разрубает жировой слой на две части; так что теперь короткая нижняя часть ещё не отделена, но длинный верхний кусок, так называемая «попона», уже свободно болтается на гаке, готовый к спуску. Матросы у носовой лебёдки снова подхватывают свою песню, и пока один блок тянет и сдирает с кита вторую полосу жира, другой блок медленно травят, и первая полоса уходит прямо вниз через главный люк, под которым находится пустая каюта, называемая «ворванной камерой». Несколько проворных рук пропускают в это полутёмное помещение длинную полосу «попоны», которая сворачивается там кольцами, точно живой клубок извивающихся змей. Так и идёт работа: один блок тянет кверху, другой опускается вниз; кит и лебёдка крутятся, матросы у лебёдки поют; попона, извиваясь, уходит в «ворванную камеру»; помощники капитана отрезают сало лопатами; судно трещит по всем швам, и каждый на борту нет-нет да и отпустит словечко покрепче – вместо смазки, чтобы глаже дело шло.
Глава LXVIII. Попона
В своё время я немало внимания уделил этому проклятому вопросу – китовой коже. Я имел беседы на эту тему с бывалыми китобоями в морях и с учёными-натуралистами на суше. И моё первоначальное мнение остаётся неизменным; правда, это не более как моё частное мнение.
Вопрос заключается в следующем: что такое китовая кожа и где она находится? Читатель уже знает о жировом слое. Этот слой напоминает в разрезе жёсткую мелковолокнистую говядину, но он более твёрдый, упругий и плотный, а толщина его колеблется между восьмью и пятнадцатью дюймами. Даже если мысль, что кожа животного имеет такую структуру и толщину, и покажется нам поначалу нелепой, это, в сущности говоря, ещё не может служить её опровержением; дело в том, что на китовой туше нет другого плотного покрова; а что, собственно, такое кожа животного, как не наружный покров достаточной плотности? Правда, с неповреждённого тела мёртвого кита можно бывает соскрести рукой бесконечно тонкую прозрачную плёнку, слегка напоминающую тончайший слой желатина, мягкую и нежную, как шёлк; но это удаётся сделать только до того, как она высохнет, потому что тогда она стягивается, утолщается, становится твёрдой и хрупкой. У меня есть несколько таких высушенных обрывков, я пользуюсь ими как закладками при работе над книгами о китах. Как я уже сказал, вещество это прозрачно, и, положив такой обрывок на страницу книги, я иногда позволяю себе вообразить, что он слегка увеличивает шрифт. Во всяком случае, приятно читать о ките, так сказать, через его же собственные очки. Но всё это я веду вот к чему. Этот бесконечно тонкий слой желатиноподобного вещества, который и в самом деле покрывает всё тело кита, следует рассматривать не столько как кожу самого животного, но, вернее, как кожу его кожи, если можно так выразиться; ибо просто смешно было бы утверждать, будто настоящая кожа громадины кита тоньше и нежнее кожицы новорождённого младенца. И довольно об этом.
Остаётся признать, что жировой слой и есть китовая кожа; и если учесть, что эта кожа, как бывает при разделке большого кашалота, даёт до ста бочонков ворвани; и если помнить, что ворвань, в извлечённом состоянии, по весу составляет не более трёх четвертей от всей китовой оболочки, – можно получить тогда кое-какое представление о гигантских размерах этой одушевлённой глыбы, какая-то часть наружного покрова которой даёт целое море жидкости. Если положить по десяти бочонков на тонну, мы получим десять тонн чистого веса, которые составляют всего лишь три четверти от массы кожи одного кита.
Открытая взорам поверхность туши живого кашалота является одним из многих его чудес. Она почти всегда бывает густо испещрена бесчисленными косо перекрещенными прямыми полосами, вроде тех, что мы видим на первоклассных итальянских штриховых гравюрах. Но линии эти идут не по упомянутому выше желатиновому слою, они просвечивают сквозь него, нанесённые прямо на тело. И это ещё не всё. Иногда быстрый внимательный взгляд открывает, совершенно как на настоящей гравюре, сквозь штриховку какие-то другие очертания. Очертания эти иероглифичны; я хочу сказать, если загадочные узоры на стенах пирамид называются иероглифами, то это и есть самое подходящее тут слово. Я прекрасно запомнил иероглифическую надпись на одном кашалоте и впоследствии был просто потрясён, когда нашёл её как-то на картинке, воспроизводящей древнеиндейские письмена, высеченные на знаменитых иероглифических скалах Верхней Миссисипи. Подобно этим загадочным камням, загадочно расписанный кит по сей день остаётся нерасшифрованным. Кстати, эти индейские скалы напоминают мне ещё кое о чём. Помимо всех прочих чудес, являемых кашалотом, мы нередко видим, что на спине и в особенности на боках у него прямолинейная штриховка скрыта под многочисленными глубокими царапинами самых неправильных и случайных очертаний. Мне думается, прибрежные скалы Новой Англии, которые, как полагает Агассис[233], носят на себе следы столкновений с огромными плавучими айсбергами, мне думается, скалы сильно похожи в этом отношении на кашалотов. Я предполагаю также, что кит получает царапины в результате боевых столкновений с другими китами, ибо чаще всего я замечаю их у больших взрослых самцов.
Ещё несколько слов о коже, вернее, жировой оболочке китов. Я уже говорил, что её сдирают с китовой туши длинными полосами, которые называются «попонами». Как и большинство морских словечек, это название очень меткое и удачное. Потому что жировой слой действительно окутывает кита, будто попона или одеяло, или, ещё точнее, будто индейское пончо, надетое через голову и доходящее до хвоста. Именно благодаря этой тёплой попоне кит превосходно себя чувствует при любой погоде, под любыми широтами, в любое время дня и года. Что сталось бы, скажем, с гренландским китом в студёных, льдистых морях севера, не будь на нём его тёплого сюртука? Правда, есть и другие рыбы в этих гиперборейских водах, и притом весьма бойкие; но то всё, заметим, рыбы холоднокровные, не имеющие лёгких, рыбы, у которых не брюхо, а просто холодильник; существа, способные греться подле айсберга, как греется путник в гостинице у камина; в то время как кит, подобно человеку, имеет лёгкие и горячую кровь. Если кровь у него замёрзнет, он погибает. Сколь же удивительно – если, конечно, вы ещё не получили правильного объяснения, – что это огромное чудовище, которому высокая температура тела так же необходима, как и человеку; сколь удивительно, что он проводит свою жизнь, до макушки погружённый в ледяную арктическую воду! где тело несчастного мореплавателя, свалившегося за борт, иногда находят много месяцев спустя вмёрзшим вертикально в толщу ледяного поля, как в янтаре иногда находят мух. Но вы ещё больше удивитесь, если я скажу вам, что, как установлено опытом, кровь полярного кита горячее, чем кровь жителя Борнео в разгар лета.
Вот, думается мне, где мы можем наглядно видеть исключительные преимущества огромной жизненной силы, толстых стен и просторного чрева. О человек! Дивись и старайся уподобиться киту! Храни и ты своё тепло среди льдов. Живи и ты в этом мире, оставаясь не от мира сего, как и он. Не горячись на экваторе, не теряй кровообращение на полюсе. Подобно великому куполу собора Святого Петра и подобно великому киту, при всякой погоде сохраняй, о человек! собственную температуру. Но как легко и как бесполезно давать такие советы! Сколь немногие из человеческих сооружений венчает купол, подобный куполу Святого Петра! Сколь немногие из божьих созданий равны по размерам киту!
Глава LXIX. Похороны
Отдать цепи! Опустить тушу за борт! Огромные тали сделали своё дело. Ободранное беловатое туловище обезглавленного кита светится, словно мраморное надгробие; оно изменило цвет, но на глаз ничуть не уменьшилось в размерах. Оно по-прежнему грандиозно. Всё дальше и дальше относит его от судна, вода вокруг него кипит и плещет от ненасытных акул, а воздух над ним взбудоражен крыльями крикливых птиц, чьи клювы вонзаются ему в бока, точно бессчётные предательские кинжалы. И чем дальше относит этот огромный белый обезглавленный призрак, тем сильнее возрастает убийственный плеск и гомон, поднимаемый акулами у поверхности моря и птицами, облаком вьющимися над водой. Много часов подряд видим мы это мерзкое зрелище с палубы лежащего в дрейфе судна. Под ласковыми безоблачными небесами по светлому лику тёплого моря, овеваемая радостными ветерками, всё плывёт и плывёт эта туша смерти, покуда не затеряется наконец в бескрайней дали.
Может ли быть зрелище печальнее, может ли издёвка быть язвительнее? Плавучие стервятники явились на похороны в благоговейном трауре, собрались и воздушные акулы, все в чёрном облачении или хоть с чёрными пятнами. Мало кто из них, я думаю, оказал бы киту поддержку при жизни, попади он в беду; но на тризну его они благочестиво слетаются со всех сторон. О чёрное вороньё нашей планеты! даже величайшему из китов не спастись от вас.
Но это ещё не конец. Долго потом в осквернённом трупе живёт мстительный дух и витает над ним, наводя страх. Замеченный вдали робким военным кораблём или беспомощным судном открывателей, которые ещё не видят издалека птичьих стай, но различают в лучах солнца над водой какую-то белую массу, опоясанную широким кольцом белой пены, – в тот же миг безвредный труп кита вносится дрожащими пальцами в вахтенный журнал: «Осторожно, замечены мели, рифы и буруны». И многие годы спустя будут ещё корабли страшиться этого места, перепрыгивая через него, как прыгают на ровной дорожке безмозглые овцы потому только, что в этом месте подпрыгнул их вожак, когда ему подставили палку. Вот вам ваши хвалёные прецеденты, вот вам польза традиций, вот вам все эти живучие предания, никаких у них нет корней в земле, они даже, как говорится, и в воздухе не висят. Вот она, ортодоксальность!
Так вот и получается, что при жизни тело кита всерьёз устрашает врагов, а после смерти дух его порождает в мире необычайный страх и панику.
А ты, мой друг, веришь в духов? Ведь духи есть не только на Кок-Лейн, и люди куда посерьёзнее доктора Джонсона верят в их существование[234].
Глава LXX. Сфинкс
Необходимо упомянуть, что ещё до свежевания левиафана обезглавливают. Отделение головы кашалота – это научный анатомический подвиг, которым весьма гордятся опытные китовые хирурги, и не без основания.
Заметьте себе, что у кита нет ничего похожего на шею; напротив, в том месте, где как будто бы соединяются его голова и туловище, именно тут-то и находится самая толстая часть туши. Возьмите также в соображение, что нашему хирургу приходится проводить операцию сверху, с высоты восьми, а то и десяти футов, отделяющих его от пациента, причём этот пациент почти скрыт под мутными волнами, нередко весьма сильными и норовистыми. Учтите, кроме того, что в этих, крайне неблагоприятных, условиях он должен сделать в туше отверстие глубиной в несколько футов, и так, вслепую, как при подземных работах, не взглянув в это отверстие, готовое каждую секунду снова стянуться, он должен, искусно минуя все прилежащие запретные участки, отделить спинной хребет в той единственной точке, где тот уходит в череп. Не достойна ли поэтому всяческого изумления Стаббова похвальба, будто он за десять минут может обезглавить любого кашалота?
Отделённая голова оставляется на тросе за кормой, пока не будет освежёвано туловище. После этого, если кит был небольшой, голову поднимают на палубу и разделывают самым тщательным образом. Но с головой взрослого левиафана так распорядиться невозможно; дело в том, что голова крупного кашалота составляет чуть ли не треть его объёма, и пытаться подвесить такой груз, даже на мощных талях китобойца – всё равно что взвешивать голландский амбар на весах ювелира.
Теперь, когда наш кит был обезглавлен и освежёван, голову подтянули к борту «Пекода», но так, чтобы она лишь до половины поднялась из воды, всё ещё поддерживаемая в значительной мере своей родной стихией. И вот, пока корабль, напрягаясь, круто кренился на бок под страшным давлением на грот-марс, а ноки реев по всему борту, словно краны, торчали над волнами, кровоточащая эта голова висела на поясе у «Пекода», точно гигантская голова Олоферна на поясе у Юдифи[235].
Наступил полдень, и команда ушла вниз обедать. Молчание воцарилось над обезлюдевшей палубой, ещё недавно такой шумной. Глубокая бронзовая тишь, точно вселенский жёлтый лотос, разворачивала над морем один за другим свои бесшумные, бескрайние лепестки.
Прошло немного времени, и в это безмолвие из каюты поднялся одинокий Ахав. Он несколько раз прошёлся взад и вперёд по палубе, остановился, поглядел за борт, потом вышел на грот-руслень, поднял длинную лопату Стабба, брошенную там после того, как была отрублена китовая голова, и, вонзив её снизу в подтянутую на тросах массу, упёр свободный конец себе под мышку и так стоял, устремив на огромную голову свой внимательный взгляд.
Голова была чёрная и крутоверхая; едва покачиваясь среди полного затишья, она казалась головой Сфинкса в пустыне. «Говори же, о громадная и почтенная голова, – тихо произнёс Ахав, – ты, что кажешься косматой, хоть и без бороды, потому что ты увешана водорослями; говори, огромная голова, и поведай нам сокрытую в тебе тайну. Ты ныряла глубже всех ныряльщиков. Эта голова, на которую светит сейчас солнце с неба, двигалась среди глубинных устоев мира. Там, где, канув, гниют в безвестности имена и флотилии, где похоронены несбывшиеся надежды и заржавленные якоря; в смертоносном трюме фрегата „Земля“, где лежат балластом кости миллионов утопленников, там, в этой зловещей водной стране, твой родной дом. Ты плавала там, где не побывал ни один ныряльщик, ни подводный колокол; ты забывалась сном подле моряков, чьи потерявшие сон матери ценою жизни своей купили бы у тебя это право. Ты видела, как любовники, не разжимая объятий, бросались в море с горящего корабля и, уста к устам, сердце к сердцу, скрывались в бушующей пучине, верные друг другу, когда само небо изменило им. Ты видела, как полетел за борт труп капитана, зарубленного в полночь пиратами; много часов подряд погружался он в ненасытную бездну, которая ещё чернее полночи; а убийцы его, невредимые, уплывали всё дальше и дальше – и быстрые белые молнии пробегали по кораблю, который должен был доставить верного супруга в нетерпеливые, нежные объятия. О голова! ты повидала довольно, чтобы раздробить планеты и Авраама сделать безбожником, но ни словом не хочешь обмолвиться ты!»
– Парус на горизонте! – раздался с грот-мачты ликующий возглас.
– Вот как? Что ж, это приятная новость, – воскликнул Ахав, внезапно выпрямившись, и грозовые тучи схлынули с его чела. – Право же, этот живой голос среди мёртвого штиля мог бы обратить к добру того, кто ещё не погиб душою… Где?
– Три румба справа по борту, сэр. Идёт на нас на своём ветре!
– Ещё того лучше, друг. Что, если это сам апостол Павел идёт сюда, чтобы принести с собой ветер в моё безветрие! О природа, о душа человеческая! сколь несказанно многое связывает вас; каждый мельчайший атом природной материи имеет свой двойник в душе.
Глава LXXI. История «Иеровоама»[236]
Рука об руку приближались к нам судно и ветер, но ветер пришёл раньше, чем судно, и скоро «Пекод» уже качался на волнах.
Немного погодя в подзорную трубу можно уже было разглядеть на палубе незнакомца вельботы, а на мачтах у него дозорных, и мы поняли, что это китобоец. Но он был далеко на ветре и летел на всех парусах, вероятно, к другим промысловым районам, и «Пекоду» нечего было надеяться подойти к нему. Поэтому мы подняли вымпел и стали ждать ответа.
Тут надо пояснить, что, подобно судам военного флота, каждый корабль американской китобойной флотилии имеет свой собственный вымпел; все эти вымпелы собраны в специальную книгу, где против них обозначены названия кораблей, которым они принадлежат; и такая книга имеется у каждого капитана. Благодаря этому командиры китобойцев могут без особого труда узнавать друг друга в открытом море, даже на больших расстояниях.
Наконец в ответ на сигнал «Пекода» незнакомец вывесил свой вымпел; это был «Иеровоам» из Нантакета. Обрасопив реи, он замедлил ход, лёг в дрейф на траверзе у «Пекода» с подветренного борта и спустил шлюпку; она быстро приблизилась, но в тот миг, когда матросы по команде Старбека готовились спустить штормтрап для прибывшего с визитом капитана, тот вдруг замахал с кормы своей шлюпки руками, давая понять, что эти приготовления совершенно излишни. Оказалось, что на борту «Иеровоама» свирепствует эпидемия, и капитан Мэйхью боится принести заразу на «Пекод». И хотя самого его и всю команду шлюпки эпидемия не затронула, хотя его корабль находился на расстоянии в половину пушечного выстрела от нашего и чистая морская волна и девственный струящийся воздух разделяли нас – всё-таки, честно придерживаясь сухопутных карантинных порядков, он решительно отказался ступить на палубу «Пекода».
Но это вовсе не помешало общению. Сохраняя между собой и кораблём расстояние в несколько ярдов, шлюпка «Иеровоама» держалась при помощи вёсел рядом с «Пекодом», который тяжело резал волну (к этому времени ветер сильно посвежел), обстенив грот-марсель; по временам, подхваченная внезапно набежавшим валом, она слегка обгоняла «Пекод»; но умелый кормчий тут же возвращал её на подобающее место. Так, то и дело прерываемая этими – или подобными – манёврами, велась с борта на борт беседа, однако с паузами, возникавшими также и по совершенно иным причинам.
Среди гребцов в шлюпке «Иеровоама» сидел один человек, выделявшийся своей внешностью даже в команде китобойца, где что ни матрос – то примечательная личность. Он был довольно молод, невысок и тщедушен, с лицом, сплошь усыпанным веснушками, и с длинными космами жёлтых волос. Облачён он был в долгополый сюртук загадочного покроя и какого-то выцветшего орехового оттенка, чересчур длинные рукава которого были засучены, обнажая запястья. А в глазах его горело неискоренимое, упорное, фанатическое безумие.
Как только на «Пекоде» его разглядели, Стабб воскликнул:
– Это он! это он! тот длиннополый шут, о котором нам говорили на «Таун-Хо»!
Стабб вспомнил фантастическую повесть об «Иеровоаме» и одном из его матросов, которую нам рассказывали незадолго перед тем при встрече китобои с «Таун-Хо». Согласно их рассказу, а также по некоторым сведениям, полученным впоследствии, упомянутый «длиннополый шут» ухитрился обрести какую-то удивительную власть чуть ли не над всеми членами экипажа «Иеровоама». История его такова:
Этого человека взрастила секта исступлённых шейкеров[237] Нискайюны, среди которых он почитался великим пророком, неоднократно спускаясь на их дурацкие тайные сборища прямо с небес при помощи потолочного люка и возвещая в ближайшем будущем откупорку седьмого сосуда, который лежал у него в кармане жилета и был наполнен, как подозревали, не порохом, но опиумной настойкой. Потом под влиянием непостижимой апостольской прихоти он, покинув Нискайюну, перебрался в Нантакет, с ловкостью, присущей только безумцам, прикинулся там уравновешенным, нормальным человеком и попытался устроиться на уходящий за китами «Иеровоам» в качестве матроса-новичка. Его взяли, но как только суша скрылась из виду, его безумие разыгралось с новой силой. Он провозгласил себя пророком Гавриилом, повелевал капитану прыгнуть за борт, обнародовал манифест, где объявлял себя освободителем всех островов и главным пастырем Океании. Железная убеждённость, с какой он всё это утверждал, тёмная дерзкая игра его неусыпного лихорадочного воображения, жуткие признаки подлинного безумия – всё это делало Гавриила в глазах невежественных матросов почти что святым. Больше того, его боялись. Поскольку реальная польза от этого человека на судне была весьма невелика, тем более что он соглашался работать только тогда, когда ему самому вздумается, капитан, в отличие от своей команды не подверженный суевериям, рад был бы от него избавиться; но архангел, проведав, что его намерены высадить в первом же порту, сломал все свои печати и откупорил все сосуды, предавая корабль вместе с экипажем на страшную гибель, в случае если это намерение будет осуществлено. Влияние его на приспешников из числа команды было так велико, что в конце концов матросы всем миром отправились к капитану и заявили ему, что, если он спишет Гавриила, ни один из них не останется на судне. Тот был вынужден отказаться от своего плана. Точно так же они не позволяли, чтобы с Гавриилом плохо обращались, что бы он ни делал и ни говорил; и мало-помалу Гавриил стал пользоваться на борту полной свободой. А это в свою очередь привело к тому, что архангел ни в грош не ставил капитана и его помощников, в особенности с тех пор, как разразилась эпидемия, когда он ещё пуще прежнего раскомандовался, заявляя, что чума, как он выражался, началась исключительно по его повелению и что только он один может, если пожелает, прекратить её. Матросы, всё больше люди тёмные, трепетали, иные даже заискивали перед ним, оказывая его особе по его же требованию чисто божеские почести. Такая история может показаться неправдоподобной; но тем не менее она истинна. Вообще в жизнеописаниях фанатиков поражает не столько их неизмеримый самообман, сколько их неизмеримое умение обманывать и дурачить других. Но пора, однако, вернуться к «Пекоду».
– Меня не страшит твоя эпидемия, друг, – сказал Ахав, перегнувшись за поручни, капитану Мэйхью, стоявшему на корме своей шлюпки. – Подымись ко мне на борт.
Но тут-то и вскочил на ноги Гавриил.
– Подумай, подумай о лихорадке, жёлтой и жёлчной! Страшись ужасной чумы!
– Гавриил! Гавриил! – воскликнул капитан Мэйхью. – Или ты сейчас же… – Но в этот самый миг волна подхватила шлюпку и вынесла её далеко вперёд, заглушив своим шипением его слова.
– Не встречал ли ты Белого Кита? – спросил Ахав, как только шлюпка вновь поравнялась с «Пекодом».
– Подумай, подумай о своём вельботе, разбитом и потопленном! Страшись ужасного хвоста!
– Сказано тебе, Гавриил, чтобы ты… – Но шлюпку снова вынесло вперёд словно влекомую нечистой силой. На несколько мгновений разговор был прерван, шумные валы один за другим прокатились вдаль, и ни один из них, по непостижимой прихоти океана, не поднял её на гребень. А притянутая голова кашалота сильно забилась о борт корабля, и видно было, как Гавриил разглядывает её с гораздо более откровенной опаской, чем можно было бы ожидать от архангела.
Когда эта интерлюдия завершилась, капитан Мэйхью начал своё мрачное повествование о Моби Дике, то и дело прерываемый, однако, при упоминании его имени Гавриилом и бушующим морем, которое, казалось, выступало с ним заодно.
Оказалось, что вскоре после выхода из родного порта «Иеровоам» повстречался с одним китобойцем и от него команда услышала о существовании Моби Дика и о том смятении, какое вызывал этот кит. С жадностью впитав новые сведения, Гавриил под страшными угрозами пытался запретить капитану охотиться на этого кита, если чудовище покажется в виду «Иеровоама», провозглашая в своей бредовой тарабарщине Белого Кита ни много ни мало как воплощением бога шейкеров. Однако, когда год или два спустя дозорные на мачтах действительно заметили Моби Дика, старший помощник Мэйси загорелся желанием схватиться с ним; и когда сам капитан, пренебрегая всеми угрозами и предостережениями архангела, охотно позволил ему это, Мэйси сумел уговорить пятерых матросов, сел с ними в вельбот и пустился за китом. После долгой изнурительной погони, после многих неудачных попыток он наконец всадил в него один гарпун. Тем временем Гавриил, вскарабкавшись на верхушку грот-мачты и яростно размахивая и потрясая там свободной рукой, осыпал святотатственных врагов своего божества пророчествами скорой и ужасной гибели. Вот уже старший помощник Мэйси, встав во весь рост на носу своего вельбота, в пылу схватки изливает, как полагается, на кита целый поток проклятий, выжидая подходящий момент, чтобы вонзить острогу, как вдруг! огромная белая тень поднялась над водой, заставив своим веерообразным движением замереть все сердца. В тот же миг несчастный командир вельбота, полный жизни и ярости, был выброшен высоко в воздух и, описав длинную дугу, упал в море на расстоянии пятидесяти ярдов. Ни одна планка на вельботе не была повреждена, ни один волос на головах матросов не тронут, только старший помощник Мэйси навсегда скрылся под волной.
Тут следует попутно заметить, что несчастные случаи, подобные описанному, достаточно часты в китобойном промысле. Иногда, кроме погибшего столь диким образом человека, всё остальное остаётся невредимым; чаще при этом идёт на дно отломанный нос вельбота или выбитая банка, на которой только что стоял несчастный, вместе с ним взлетает к небу. Но всего удивительнее то обстоятельство, что на теле погибшего, в тех случаях когда его удаётся подобрать, нет ни малейших следов насилия, а между тем человек мёртв.
С корабля видели всё, что произошло, видели, как скрылось под водой тело Мэйси. И Гавриил, подняв пронзительный вопль: «Сосуд! Сосуд гнева!» – заставил охваченных страхом матросов прекратить охоту. Ужасное это происшествие только усилило власть архангела, потому что его суеверным приспешникам стало казаться, будто он именно это и предсказал, а не просто изрекал туманные пророчества, какие и всякий на его месте мог бы произнести в расчёте на то, что хоть что-нибудь авось да и сбудется. Он стал грозой всего корабля.
Когда Мэйхью кончил свой рассказ, Ахав стал задавать ему вопросы, выслушав которые, капитан встречного судна не мог удержаться и в свою очередь спросил Ахава, намерен ли тот предпринять охоту на Белого Кита, если представится к тому возможность. «Да», – ответил ему Ахав. В ту же секунду Гавриил снова вскочил на ноги, устремив на старого капитана огненный взор, и мрачно завопил, указуя перстом вниз:
– Подумай, подумай о святотатце – мёртвом, там в глубине! Страшись участи святотатца!
Ахав бесстрастно отвернулся, затем сказал, обращаясь к Мэйхью:
– Капитан, я вспомнил сейчас о моём мешке с почтой; там, сдаётся мне, есть письмо для одного из твоих офицеров. Старбек, посмотри почту.
Каждый китобоец, отправляясь в плавание, забирает с собой изрядное количество писем для различных судов, доставка которых адресатам всецело зависит от случайной встречи на широких просторах четырёх океанов. Большинство из этих писем так никогда и не доходит до цели, а иные попадают в назначенные руки, лишь достигнув двух– или трёхлетнего возраста.
Вскоре возвратился Старбек с письмом. Прежалостным образом измятое и отсыревшее, оно было всё покрыто тусклыми пятнами зелёной плесени, так как всё это время хранилось в тёмном шкафу. Для такого письма лучшим почтальоном послужила бы сама Смерть.
– Не можешь разобрать? – крикнул ему Ахав. – Ну-ка передай его мне. Да, верно, надпись почти стёрта… Но что это?
Пока он разглядывал письмо, Старбек взял длинную рукоятку фленшерной лопаты и ножом расщепил её конец, чтобы можно было вставить туда письмо и так, на палке, передать в шлюпку.
Тем временем Ахав разбирал надпись на конверте:
– «Мистеру Гар…», да, «мистеру Гарри» (женская рука… каракули… ясное дело, жена пишет)… Ага, вот… «мистеру Гарри Мэйси, судно „Иеровоам“… да ведь это Мэйси, а его нет в живых!
– Эх бедняга, бедняга! и ведь от жены, – вздохнул Мэйхью. – Ну что ж, давайте его сюда.
– Нет! Оставь у себя! – крикнул Гавриил Ахаву, – ведь ты скоро последуешь за ним.
– Чтоб ты подавился своими проклятиями! – взревел Ахав. – Капитан Мэйхью, принимай письмо.
Взяв из рук Старбека несчастливое послание, он вставил его в расщеплённый конец шеста и протянул за борт к шлюпке. Гребцы в ожидании перестали грести, шлюпку отнесло немного к корме «Пекода», так что письмо, точно по волшебству, ткнулось прямо в жадные ладони Гавриила. В то же мгновение он поднял со дна шлюпки большой нож, наколол на него письмо и с этим грузом запустил его обратно на корабль. Нож упал к ногам Ахава. А Гавриил визгливым голосом приказал своим товарищам навалиться на вёсла, и взбунтовавшаяся шлюпка стремглав понеслась прочь от «Пекода».
Когда матросы после перерыва возобновили работу над китовой попоной, много туманных догадок было высказано по поводу этого дикого случая.
Глава LXXII. «Обезьяний поводок»
При шумной и хлопотливой разделке китовой туши матросам без конца приходится бегать взад и вперёд. То нужны люди здесь, то всех зовут туда. Никто не стоит на месте, потому что в одно и то же время всюду есть какие-то дела. Точно так же вынужден метаться и человек, который вздумает описывать эту сцену. Мы теперь должны немного отступить в своём повествовании. Как уже упоминалось, первую брешь в китовой спине, куда затем вставляется гак, вырубают фленшерными лопатами помощники капитана. Но каким образом этот тяжёлый громоздкий гак там закрепляется? Его вставил туда мой закадычный друг Квикег, который, выполняя свои гарпунерские обязанности, должен был вылезти с этой целью на спину чудовищу. Очень часто обстоятельства требуют, чтобы гарпунёр оставался на китовой туше в продолжение всего того времени, пока идёт свежевание или фленшеровка. Следует отметить, что кит при этом почти полностью погружён в воду, за исключением того участка, где в данный момент идёт работа. И вот несчастный гарпунщик должен барахтаться внизу, футах в десяти ниже уровня палубы, то на ките, то прямо в волнах, покуда огромная туша вертится под ним наподобие мельничного вала. Квикег в этот раз был в костюме шотландских горцев – то есть в одной рубахе и в носках, – который, на мой взгляд, по крайней мере, очень ему шёл; а ни у кого, как сейчас убедится читатель, не было лучшей возможности рассмотреть его, чем у меня.
Поскольку я сидел с моим дикарём в одном вельботе, работая позади него вторым от носа веслом, в мои весёлые обязанности входило также помогать ему теперь, когда он выполняет свой замысловатый танец на спине кита. Все, наверное, видели, как итальянец-шарманщик водит на длинном поводке пляшущую мартышку. Точно так же и я с крутого корабельного борта водил Квикега среди волн на так называемом «обезьяньем поводке», который прикреплён был к его тугому парусиновому поясу.
Это было опасное дельце для нас обоих! Ибо – это необходимо заметить, прежде чем мы пойдём дальше, – «обезьяний поводок» был прикреплён с обоих концов: к широкому парусиновому поясу Квикега и к моему узкому кожаному. Так что мы с ним были повенчаны на это время и неразлучны, что бы там ни случилось; и если бы бедняга Квикег утонул, обычай и честь требовали, чтобы я не перерезал верёвку, а позволил бы ей увлечь меня за ним в морскую глубь. Словом, мы с ним были точно сиамские близнецы на расстоянии. Квикег был мне кровным, неотторжимым братом, и мне уж никак было не отделаться от опасных родственных обязанностей, порождённых наличием пеньковых братских уз.
Я так остро, так по-философски осознавал тогда своё положение, что, задумчиво следя за его действиями, начал отчётливо понимать, что моя собственная личность растворилась в акционерном обществе из двух партнёров, что моей свободной воле нанесён смертельный удар и что просчёт или неудача другого могут обречь меня, безвинного, на незаслуженные беды и погибель. Это, я считаю, плод междуцарствия в Провидении; ведь не могло же его неподкупное беспристрастие сознательно пойти на столь вопиющую несправедливость. И всё-таки, развивая дальше свои мысли и при этом время от времени вытягивая Квикега на верёвке из воды, когда он оказывался между китом и бортом корабля под угрозой быть расплющенным на месте, – развивая дальше свои мысли, говорю я, я понял, что положение, в каком я сейчас находился, ничем не отличается от положения всякого смертного во всякое время; только в большинстве случаев сиамские узы так или иначе связывают человека с несколькими смертными зараз. Если разорился банкир – ты банкрот; если твой аптекарь по оплошности прислал тебе ядовитые пилюли – ты мёртв. Правда, вы можете мне возразить, что всех этих и бесчисленное множество им подобных несчастий можно в жизни избегнуть, проявляя чрезвычайную осмотрительность. Но как бы осторожно ни обращался я с Квикеговой верёвкой, он иной раз дёргал её с такой силой, что я едва не вылетал за борт. К тому же я, конечно, всё время помнил, что, лезь я хоть из кожи вон, в моём распоряжении только один конец верёвки[238].
Выше я упомянул, что мне часто приходилось подтягивать беднягу Квикега на верёвке, когда он время от времени из-за кручения и качки соскальзывал в воду и оказывался между китом и кораблём. Но угрожающая ему опасность быть раздавленным была не единственная. Акулы, неустрашимые, несмотря на ночную бойню, властно привлекаемые теперь только хлынувшей из туши кровью, – эти осатаневшие твари снова вились вокруг, точно пчёлы в улье.
И прямо среди акул стоял теперь Квикег, он даже отпихивал их иной раз в толчее ногой. Это может показаться просто немыслимым, если бы только не то обстоятельство, что занятые такой добычей, как мёртвый кит, акулы, во всех прочих случаях жизни готовые пожрать без разбора всё, что подвернётся, тут уж редко трогают человека.
Тем не менее, как нетрудно понять, поскольку всё это протекает не без их разбойничьего участия, здесь нужен глаз да глаз. Вот почему, помимо верёвки, на которой я время от времени выдёргивал беднягу из чересчур близкого соседства с пастью наиболее свирепой с виду акулы, была у него и другая защита. Устроившись за бортом в люльке, Тэштиго и Дэггу без устали размахивали у него над головой длинными фленшерными лопатами, поражая акул направо и налево. Вы не думайте, с их стороны это было в высшей степени любезно и благородно. Я знаю, они руководствовались исключительно соображениями Квикегова блага; однако в спешке, горя желанием облагодетельствовать его, когда и его, и акул наполовину скрывала вода, перемешанная с кровью, они своими неосторожными лопатами нередко рисковали отрубить скорее человеческую ногу, нежели акулий хвост. Но бедняга Квикег, когда он, задыхаясь и надсаживаясь, орудовал тяжёлым железным крюком, бедняга Квикег, наверное, только молился Йоджо, предавая жизнь свою в руки своим богам.
Ну что ж, милый мой друг и кровный брат, думал я, то травя, то выбирая «поводок» при каждом колыхании волны, какое это всё имеет значение, в конце-то концов? Разве ты не образ и подобие всех и каждого в китобойском мире? Бездонный океан, в котором ты задыхаешься, – это Жизнь; акулы – твои враги; лопаты – друзья; и положеньице у тебя, между теми и этими, не из приятных, мой милый.
Но смелей! тебя ожидает радость, мой Квикег. И вот, когда обессилевший дикарь с посиневшими губами и красными глазами вскарабкался наконец по цепям на палубу и стоит у поручней, весь мокрый и дрожащий, к нему приближается стюард и с ласковым сердобольным видом подаёт ему… что? Горячего грогу? Как бы не так! Он подаёт ему, о боги! подаёт кружку тепловатой, разбавленной имбирной водички!
– Что это, имбирём пахнет? – подозрительно принюхиваясь, спрашивает подоспевший Стабб. – Да, это имбирь, – и он заглядывает в кружку. Потом, постояв секунду в недоумении, не спеша подходит к стюарду и медленно говорит:
– Гм, имбирная водица, а? А не будете ли вы настолько любезны, мистер Пончик, чтобы сказать мне, в чём достоинства имбирной водицы? Имбирная водица! Разве имбирь подходящее топливо, Пончик, чтобы разводить огонь в этом лязгающем зубами каннибале? Имбирь! Что это такое, чёрт побери, имбирь? – уголь? – дрова? – спички? – трут? – порох? – что такое имбирь, я спрашиваю, чтобы ты сейчас давал его в кружке нашему Квикегу?
– Это всё мутит воду исподтишка какое-то общество трезвенности, – внезапно заключил он, обращаясь к Старбеку, который только что подошёл с бака. – Поглядите-ка, сэр, на эту бурду; вы только понюхайте, чем она пахнет. – И, следя за лицом старшего помощника, добавил: – А стюард, мистер Старбек, имел наглость предложить этот лимонад, эту микстуру Квикегу, который только что работал на ките. Может быть, сэр, он у нас аптекарь, а не стюард? И позволю себе спросить, сэр, подходящее ли это средство, чтобы оживлять утопленников?
– Ну нет, – проговорил Старбек, – питьё никудышное.
– Вот видишь, стюард, – воскликнул Стабб, – мы тебя научим, чем отпаивать наших гарпунщиков; тут твои лекарские снадобья не нужны, или, может, ты нас отравить замыслил, а? Выправил на нас страховые полисы, а теперь хочешь нас уморить и прикарманить премии, так, что ли?
– А я при чём? – жалобно возразил Пончик. – Это тётушка Харита принесла имбирь на корабль; она наказала, чтоб я никогда не давал гарпунщикам спиртного, а только эту имбирную настойку – так она её называла.
– Имбирную настойку, а? Вот я покажу тебе настойку, негодяй! А ну, получай и лети в буфетную, принесёшь чего-нибудь получше. Я, кажется, не сделал ничего дурного, мистер Старбек. Ведь капитан приказал: грог для гарпунёра, который работает на ките.
– Ладно, – сказал Старбек, – только не бейте его больше и…
– Э, да я больно не бью, когда замахиваюсь, если только замахиваюсь не на кита или на что-нибудь вроде того, а этот парень, он ровно мышь. Но вы что-то хотели сказать, сэр?
– Лучше ступайте с ним вниз и возьмите что нужно.
Когда Стабб снова поднялся на палубу, в одной руке он держал чёрную флягу, а в другой нечто вроде чайницы. В первой был крепкий брэнди, и её вручили Квикегу; вторая заключала дар тётушки Хариты и была безвозмездно отдана волнам.
Глава LXXIII. Стабб и Фласк убивают настоящего кита, а затем ведут между собой беседу
Не следует забывать о том, что всё это время на борту у «Пекода» болтается гигантская кашалотова голова. Однако ей придётся повисеть там ещё некоторое время, покуда мы сумеем к ней вернуться. Сейчас у нас иные неотложные дела, и единственное, что мы можем сделать насчёт головы, это молить небеса, чтобы выдержали тали.
За прошедшую ночь и последовавшее за ней утро дрейфующий «Пекод» отнесло в такие воды, где жёлтые пятна планктона, разбросанные там и сям, весьма убедительно свидетельствовали о присутствии настоящих китов – разновидности левиафана, о тайной близости которых мало кто сейчас помышлял. И хотя весь экипаж с единодушным презрением относился к охоте на этих жалких животных, и хотя «Пекоду» вовсе и не было поручено промышлять их, и он встречал немало настоящих китов у острова Крозе, ни разу не спустив вельботы, – именно теперь, когда был добыт и обезглавлен кашалот, ко всеобщему великому удивлению, было объявлено, что в этот день, если представится возможность, будет предпринята охота на настоящего кита.
И возможность не замедлила представиться. С подветренной стороны были замечены высокие фонтаны, и два вельбота – Стабба и Фласка – отвалили от борта и ушли в погоню. Всё дальше и дальше отгребали они и наконец почти скрылись из виду даже у мачтовых дозорных. Но вдруг сверху заметили далеко впереди участок вспенившейся белой воды, и вскоре дозорные сообщили, что не то один, не то оба вельбота подбили кита. Прошло ещё немного времени, и обе лодки снова можно было видеть с палубы простым глазом; кит буксировал их прямо на «Пекод». Чудовище было уже так близко от судна, что казалось, оно намерено протаранить корпус; но вдруг, взбив страшный водоворот футах в сорока от борта, оно скрылось под водой, словно поднырнуло под киль «Пекода». «Руби, руби линь!» – кричали с корабля лодкам, которым угрожала гибель от неизбежного, казалось, столкновения с корпусом судна. Но у них в бочонках оставалось ещё много линя, к тому же и кит уходил в глубину не так уж стремительно, поэтому они поспешили вытравить побольше линя, в то же время что было мочи налегая на вёсла, чтобы проскочить перед судном. Несколько мгновений судьба их висела на волоске, они ещё послабляли натянувшийся линь, одновременно изо всех сил работая вёслами, и обе эти соперничающие силы, казалось, вот-вот утянут их под воду. Но им нужно было вырваться вперёд всего на каких-нибудь несколько футов. И они не сдавались, покуда им это не удалось. Но тут стремительный трепет, точно молния, пробежал вдоль по корпусу судна: это натянутый линь, задевая днище, вдруг показался из воды под корабельным носом; тугой до гудения, он так и дрожал, разбрасывая брызги, которые падали в воду, словно осколки стекла; а дальше по носу показался и сам кит, и вельботы снова могли беспрепятственно мчаться вперёд. Но замученный кит резко сбавил скорость и, слепо меняя курс, стал обходить «Пекод» с кормы, волоча за собой вельботы и описывая замкнутый круг.
Тем временем на вельботах все выбирали и выбирали лини, пока наконец не подтянулись к киту почти вплотную с обоих боков; теперь дело было за Стаббом и Фласком с их острогами; и так, ещё и ещё раз огибая «Пекод», шла, приближаясь к концу, эта битва; а несметные стаи акул, окружавшие прежде тушу кашалота, ринулись на свежепролитую кровь, с жадностью прикладываясь к каждой новой ране, как израильтяне, должно быть, припадали к забившим из рассечённой скалы родникам.
Но вот кит выпустил чёрный фонтан, рванулся со страшной силой, извергнул поглощённую прежде пищу и, перевернувшись на спину, трупом закачался на волнах.
Пока командиры обоих вельботов привязывали тросы к его плавникам и подготавливали тушу к буксировке, между ними произошёл небольшой разговор:
– И зачем только старику понадобилась эта груда тухлого сала, ума не приложу, – проговорил Стабб, кривясь от отвращения из-за необходимости возиться с этим презренным левиафаном.
– Зачем? – переспросил Фласк, сворачивая в бухту свободный конец. – А разве ты не слышал, что судно, у которого хоть однажды висела одновременно по правому борту голова кашалота, а по левому – голова настоящего кита, неужели ж ты не слышал, Стабб, что такому судну никогда не пойти на дно?
– Почему это?
– Да уж не знаю, я только слыхал, как говорил об этом наш желторожий призрак Федалла, а уж он-то, видно, знает всё на свете о приметах и заговорах. Только боюсь я, как бы он не заговорил наш корабль до полной негодности. Не по душе мне этот молодчик, Стабб. Замечал ты, Стабб, как у него клык торчит, будто в змеиную голову вставленный?
– Да чтоб ему потонуть! Я на него и не смотрю никогда; но дай только мне срок… Как-нибудь тёмной ночью, – если он будет стоять у борта и если по соседству никого не будет, уж я тогда, Фласк, посмотришь, – и он многозначительно указал обеими руками в глубину. – Вот, помяни моё слово! Знаешь, Фласк, сдаётся мне, что Федалла – переодетый дьявол. Ты веришь в эти бабушкины сказки, будто он был запрятан в трюме судна? Говорю тебе, он дьявол. А хвост мы не видим просто потому, что он его прячет; он его, наверно, свёртывает в бухту и носит в кармане. Чтоб ему лопнуть! Вспомни-ка, ведь он всё время требует пакли, чтобы насовать в носы своих сапог.
– Он и спит, не снимая сапог, верно? У него и койки даже нет, но я много раз видел, как он ночью лежит на бухте каната.
– Ясное дело, это всё из-за своего проклятого хвоста; он, должно быть, тогда раскручивает его и опускает в середину бухты.
– И что только за дела у него со стариком?
– Между ними, верно, будет договор какой или сделка.
– Сделка? О чём бы это?
– Ну а как же, нашему старику во что бы то ни стало подавай Белого Кита, вот дьявол и обхаживает его, хочет сделку с ним заключить: если он согласится отдать серебряные часы или душу, или там ещё что-нибудь, тогда этот ему Моби Дика выдаст.
– Ну, знаешь, Стабб, это уж ты хватил, да как же это Федалла его уговорит?
– Уж не знаю, Фласк, да только дьявол, он парень хитрый, да и злобный. Знаешь, рассказывают, приходит он один раз на старый флагман джентльмен джентльменом, помахивает себе хвостом, будто так и надо, и спрашивает, у себя ли старый адмирал. Ну, адмирал у себя был, вот он и спрашивает дьявола, что, мол, вам нужно. Дьявол копытом шаркнул и говорит: «Мне нужен Джон». – «Зачем?» – спрашивает адмирал. А дьявол как заорёт на него: «А вам какое дело? Нужен он мне, и дело с концом!» – «Берите», – говорит адмирал. И вот ей-богу, Фласк, пусть я проглочу этого кита в один присест, если бедняга Джон и оглянуться не успел, а уж дьявол наградил его азиатской холерой. Однако постой, вы вроде уже там кончили? Тогда пошли, потащим его и пришвартуем к борту.
– Я, помнится мне, слышал когда-то эту историю, что ты мне сейчас рассказал, – заметил Фласк, когда оба вельбота с трудом поволокли наконец свой груз к судну. – А вот где – не припомню.
– Может, в «Трёх испанцах»? Ты, верно, читал о приключениях этих кровавых убийц, а?
– Нет, и в глаза никогда этой книги не видел, хотя слыхать слыхал, это верно. Но ты мне лучше вот что скажи, Стабб: ты думаешь, тот дьявол, о котором ты сейчас рассказывал, и тот, который, ты говоришь, у нас на «Пекоде», – это один и тот же?
– А я и тот человек, который помогал тебе забить этого кита, – не одно и то же? Разве дьявол не вечно живёт? Слыхал ли кто, чтобы дьявол умер? Ты когда-нибудь видел священника, который бы носил по дьяволу траур? А если у дьявола нашёлся ключ, чтобы пробраться в каюту к адмиралу, неужели ты думаешь, ему трудно пролезть через клюз? Ну-ка, отвечай, мистер Фласк!
– А сколько, по-твоему, Федалле лет, Стабб?
– Видишь нашу грот-мачту? – отозвался тот, указывая на корабль. – Ну так вот, это у нас будет единица; теперь возьми все бочарные обручи, что хранятся в трюме «Пекода», и нанижи их в ряд позади мачты на манер нулей, понял? Но это ещё даже начала Федаллиных лет не составит. Собери хоть все обручи у всех бондарей на свете, всё равно тебе нулей не хватит.
– Но послушай, Стабб, я думаю ты немного прихвастнул, когда говорил, что хочешь сунуть нашего Федаллу в море, если подвернётся удобный случай. Ведь раз он действительно уже так стар, что никаких нулей не хватит, и раз он будет жить вечно, что толку швырять его за борт, скажи на милость?
– Хоть искупать его хорошенько.
– Но ведь он обратно приползёт.
– Тогда ещё раз его окунуть, так и купать всё время.
– А ну как ему взбредёт в голову искупать тебя, а? искупать и потопить? – тогда что?
– Пусть только попробует, я б ему тогда таких фонарей под глазами насадил, что он бы долго не отважился совать свою рожу в адмиральскую каюту, не говоря уж о нижней палубе, где он живёт, или о верхней, где так любит шнырять. Чёрт бы взял этого дьявола, Фласк, неужели ты думал, что я дьявола побоюсь? Да кто его боится, кроме старого адмирала, который не решается схватить его и заковать в кандалы, как он того заслуживает, и позволяет ему вместо этого расхаживать повсюду и воровать людей; мало того, адмирал с ним соглашение подписал, кого дьявол сворует, того адмирал ему ещё и поджарит. Хорош адмирал!
– Ты думаешь, Федалла хочет своровать капитана Ахава?
– Думаю? Погоди, Фласк, ты сам увидишь. Только я теперь буду за ним следить, и если замечу что-нибудь очень уж подозрительное, я сразу цап его за шиворот и скажу: «Эй, Вельзевул, не делай этого!» А если он начнёт пыжиться, клянусь богом, я выхвачу у него хвост из кармана, подволоку его к лебёдке и так начну крутить и подтягивать, что он у него с корнем оторвётся, понятно тебе? А уж тогда, я думаю, он завиляет своим обрубком и уберётся восвояси и даже хвост поджать не сможет.
– А что ты сделаешь с хвостом, Стабб?
– Как «что»? Продам пастуху вместо кнута, когда домой вернёмся, что ж ещё?
– А теперь скажи по чести, Стабб, ты всё это всерьёз говоришь и говорил?
– Всерьёз или не всерьёз, а вот мы уже и до корабля добрались.
С палубы послышалась команда швартовать кита по левому борту, где уже свешивались приготовленные цепи и прочий такелаж.
– Ну, что я говорил? – сказал Фласк. – Вот увидишь, скоро мы подвесим голову этого кита прямо напротив кашалотовой.
Прошло ещё немного времени, и слова Фласка подтвердились. Если прежде «Пекод» круто кренился в сторону кашалотовой головы, то теперь с другой головой в виде противовеса он снова выровнял осадку; хотя и сейчас, как вы легко себе представите, приходилось ему довольно тяжко. Так, если вы подвесите с одного борта голову Локка, вас сразу на одну сторону и перетянет, но подвесьте с другого борта голову Канта – и вы снова выровняетесь, хоть вам и будет изрядно тяжело[239]. Некоторые умы так всю жизнь и балансируют. Эх, глупцы, глупцы, да вышвырните вы за борт это двуглавое бремя, то-то легко и просто будет вам плыть своим курсом.
Процедура разделки туши, после того как настоящий кит оказывается пришвартованным к борту, обычно мало чем отличается от той, какая имеет место в случае с кашалотом; только у кашалота голова отделяется целиком, а у настоящего кита сначала вырезают и поднимают на палубу губы и язык вместе со знаменитым китовым усом, прикреплённым к нёбу. Однако на этот раз ничего подобного проделано не было. Туши обоих китов остались плавать за кормой, и нагруженный двумя головами корабль раскачивался на волнах, весьма сильно напоминая собой вьючного мула, трусящего под тяжестью двух переполненных корзин.
Между тем Федалла молча разглядывал голову настоящего кита, то и дело переводя взгляд с её глубоких морщин на линии своей ладони. Ахав по воле случая стоял неподалёку, так что тень его падала на парса[240], а от самого парса если и падала тень, то она всё равно сливалась с тенью Ахава, только, быть может, слегка удлиняя её.
И видя это, занятые работой матросы обменивались кое-какими фантастическими соображениями.
Глава LXXIV. Голова кашалота – сравнительное описание
Голова хорошо, а две лучше, и два огромных кита содвинули свои головы; последуем и мы их примеру и попробуем вместе кое в чём разобраться.
Кашалот и настоящий кит – это наиболее примечательные члены великого Ордена левиафанов in Folio. Это единственные разновидности, на которых человеком учреждён регулярный промысел. Для нантакетского моряка они представляют собой две крайности среди всех известных китовых пород. А поскольку внешнее различие между ними очевиднее всего сказывается в строении их голов, и поскольку обе эти головы висят в настоящий момент за бортами «Пекода», и поскольку мы можем переходить от одной к другой, просто пересекая палубу, – где ещё, хотелось бы мне знать, представится нам такой удобный случай для занятий практической цетологией?
Прежде всего вас поражает общий контраст. Обе головы, разумеется, чрезвычайно массивны; но кашалоту присуща какая-то математическая симметрия, которой явно недостаёт настоящему киту. В кашалотовой голове куда больше характерности. При взгляде на неё вы невольно осознаёте всё несравненное превосходство его всепроникающей величавости. А в данном случае эта величавость ещё усугублялась окраской его макушки – сероватой в крапинку, что служило доказательством его преклонного возраста и обширного жизненного опыта. Словом, то был, как говорят у нас на промысле, «седой кит».
Теперь мы остановимся на том, в чём наименее ярко сказывается различие между этими головами, а именно на их важнейших органах: ухе и глазе. Если как следует приглядеться, то на обеих головах, далеко сбоку, возле того места, где сходятся у них челюсти, можно обнаружить небольшой глаз, лишённый век и напоминающий глаз жеребёнка, настолько он своими размерами не соответствует величине головы.
А столь своеобразное, боковое, положение китового глаза ясно указывает на то, что кит не может видеть предмета, находящегося прямо перед ним, как он не может видеть того, что у него позади. Иначе говоря, положение китового глаза совпадает с положением человеческого уха; так что вы сами можете представить себе, каково бы вам пришлось, если бы вы могли видеть только с боков, ушами. Оказалось бы, что ваше поле зрения простирается не более как на тридцать градусов вперёд и примерно на столько же назад. И если бы среди бела дня ваш злейший враг шёл прямо на вас с кинжалом в поднятой руке, вы бы точно так же не заметили его, как если бы он подкрадывался сзади. Одним словом, у вас было бы теперь, так сказать, две спины и в то же время два переда (с боков): ибо где, в конечном счёте, у человека перёд? Там, разумеется, где у него глаза.
Но это ещё не всё; в то время как у прочих животных, кого ни возьми, глаза по большей части расположены таким образом, чтобы их зрительная сила сливалась, передавая в мозг одно, а не два изображения, особое расположение китовых глаз, безнадёжно разделённых многими кубическими футами мяса, которое вздымается между ними, наподобие огромной горы между двумя озёрами в долинах, – оно, безусловно, полностью разъединяет те два образа, которые запечатлеваются в двух ничем не связанных между собою органах. Благодаря этому кит имеет ясную картину справа и не менее ясную картину слева; а всё, что заключено посередине, должно представляться ему полным мраком и небытием. Иначе говоря, человек глядит на мир из своей сторожки через одно двустворчатое окно. А вот у кита эти две створки вставлены порознь, окна-то получается два, да вид через них выходит искажённый. Об этой особенности китового зрения на промысле забывать нельзя; пусть вспомнит о ней и читатель, когда у нас до этого дело дойдёт.
Тут, в связи со зрением левиафана, можно было бы поднять один весьма интересный и запутанный вопрос. Но я вынужден ограничиться лишь кое-какими намёками. Пока и поскольку при свете у человека глаза открыты, самый акт видения совершается независимо от его воли; то есть он не может не видеть тех предметов, которые находятся перед ним. Однако жизненный опыт учит нас, что какой бы широкий круг предметов ни охватывал за раз без разбора взгляд человека, никто не может в одно и то же мгновение разглядеть подробно и тщательно какие-либо два предмета – большие или маленькие, безразлично; пусть они даже лежат один подле другого. И если бы вы смогли разъединить эти два предмета и окружить каждый кольцом непроницаемой тьмы, тогда, чтобы рассмотреть один из них, сосредоточив на нём всё своё внимание, вы должны на время совершенно изгнать из вашего сознания другой. Ну, а у кита как получается? Сами по себе оба его глаза, разумеется, действуют одновременно; но неужели же мозг его настолько вместительнее, разностороннее и тоньше, чем человеческий, что он в одно и то же время может тщательно рассматривать два отдельных предмета, один с одного бока, а другой – с другого? И если это так, то он достоин не меньшего восхищения, чем человек, способный одновременно доказывать две теоремы Эвклида. Право же, если разобраться хорошенько, такое сопоставление вполне оправданно.
Быть может, у меня это не более как праздная игра воображения, но мне всегда представлялось, что необъяснимая привычка некоторых китов без толку менять, уходя от преследования нескольких вельботов, скорость и направление, их робость и непонятная пугливость – всё это, по-моему, косвенно проистекает из бесплодного раздвоения воли, вызванного их двойственным и диаметрально расходящимся зрением.
Ухо кита – предмет не менее любопытный, чем его глаз.
Если вы никогда не были знакомы с левиафаньим семейством, вы могли бы целый год рыскать по этим двум головам, тщетно пытаясь отыскать на них орган слуха. Китовое ухо совершенно лишено какой бы то ни было наружной раковины, да и самое отверстие так удивительно мало, что в него едва войдёт гусиное перо. Расположено оно чуть позади глаза. Здесь необходимо отметить следующее важное различие между кашалотом и настоящим китом: в то время как у первого ухо образует некоторое углубление, у второго оно полностью закрыто гладкой и ровной перепонкой и снаружи совершенно незаметно.
Неудивительно ли, что столь огромное существо, как кит, видит мир таким крошечным глазом и слышит громы ухом, которое куда меньше заячьего? Но будь его глаза величиной с линзы в большом телескопе Гершеля[241], будь уши его просторны, как врата кафедральных соборов, разве стал бы он от этого дальше видеть и лучше слышать? Вовсе нет. Для чего же тогда вы стремитесь иметь «широкий» ум? Пусть лучше он будет тонким.
Теперь воспользуемся всеми мыслимыми рычагами и паровыми лебёдками и перевернём голову кашалота, затем, подставив лестницу, взберёмся на неё и заглянем к нему в пасть; не будь эта голова отделена от туловища, мы даже могли бы с фонарём в руке спуститься в великую Мамонтову Пещеру[242] его желудка. Однако ухватимся за этот зуб и оглядимся. Какая же это красивая и чистая пасть! с пола до потолка она выстлана или завешана сверкающей белой пеленой, шелковистой, как подвенечная парча.
Теперь выйдем и посмотрим на эту колоссальную нижнюю челюсть, напоминающую длинную и узкую крышку огромной табакерки. Если же вы сумеете приподнять её у себя над головой, открыв ряды унизавших её зубов, тогда она становится похожа на грандиозные опускные ворота, и таковыми она и оказывается для многих несчастных рыбаков, которых пригвождают, смыкаясь, эти страшные шипы. Но ещё куда ужаснее кажется она, когда видишь её в бездонной морской пучине, где ты вдруг замечаешь свирепого кашалота, плывущего в глубине с разинутой пастью, так что его чудовищная челюсть, достигающая футов пятнадцати в длину, торчит вниз под прямым углом к его телу – ну настоящий корабельный бушприт, и всё тут. Кашалот этот не мёртв, он просто не в духе, затосковал, может быть, захандрил и так разленился, что мышцы его челюстей расслабли, и он плывёт в этаком непристойном виде, живой упрёк всему китовому племени, которое, со своей стороны, клянёт его, наверное, и призывает на него божий намордник.
В большинстве случаев нижняя челюсть кашалота – без труда отделяемая опытным специалистом – поднимается на палубу, где из неё выдёргивают зубы для пополнения запасов той твёрдой белой китовой кости, из какой рыбаки изготовляют всевозможные забавные предметы, включая трости, зонтовые ручки и рукоятки хлыстов.
Челюсть с трудом, с надсадой, точно якорь, подымают на борт; и когда приходит время – спустя несколько дней после окончания других работ, – Квикег, Дэггу и Тэштиго, все трое искусные зубодёры, принимаются за дело. Квикег острой фленшерной лопатой надрезает дёсны; после этого челюсть крепят за рамы, сверху подвешивают тали и при их помощи вытягивают зуб за зубом, как мичиганские быки выкорчёвывают дубовые пни на дикой лесной просеке. Зубов обычно бывает сорок два, у старых китов они часто сточены, но не затронуты гниением и не запломбированы на наш людской манер. В довершение всего самую челюсть распиливают на полосы, которые используются как стропила при постройке домов.
Глава LXXV. Голова настоящего кита – сравнительное описание
Теперь пересечём палубу и разглядим хорошенько голову настоящего кита.
Если благородную голову кашалота справедливее всего по общим очертаниям сравнить с римской военной колесницей (в особенности спереди, где она так плавно закруглена), то голова настоящего кита, грубо говоря, напоминает не слишком-то изящный тупоносый башмак великана. Двести лет тому назад один голландский путешественник писал, что она формой подобна сапожной колодке. Только колодка эта настолько велика, что в башмак без особого труда можно упрятать знаменитую старушку из детской песенки со всем её многочисленным потомством[243].
Но вот вы подходите ближе к этой огромной голове, и очертания её начинают изменяться в зависимости от того, откуда вы на неё смотрите. Если вы заберётесь на неё и будете смотреть вниз на два дыхательных отверстия, оба в форме буквы f, то сама голова покажется вам гигантским контрабасом, а два дыхала – фигурными прорезями в деке. Если же вы попристальнее приглядитесь к громоздкому гребневидному наросту на самой макушке – к этому зелёному, облепленному полипами возвышению, которое в Гренландии называют «китовой короной», а в Южных морях – «чепчиком настоящего кита», если вы сосредоточите своё внимание на этом гребне, тогда голова покажется вам стволом великого дуба с птичьим гнездом на развилке. По крайней мере при виде всех этих живых рачков, гнездящихся в «чепчике», такое сравнение не может не прийти вам в голову; если только мысли ваши не отвлечены другим промысловым термином – «корона», который также применяется для обозначения этого гребня; но в таком случае вам захочется представить себе морское чудище коронованным царём океанов, чью зелёную диадему смастерили для него искусные моллюски. Но если кит этот и царь, то облик у него довольно угрюмый для коронованной особы. Вы только взгляните, какая у него отвислая нижняя губа! что за мрачная, брезгливая гримаса! гримаса в двадцать футов длиной на пять футов ширины, по измерениям корабельного плотника; гримаса, которая даст нам свыше 500 галлонов жира.
До чего же всё-таки жаль, что у бедняги настоящего кита заячья губа. И трещина в губе составляет целый фут. Наверное, его мамаша в интересном положении плавала у Перуанского побережья и видела, как от землетрясения треснул берег. Теперь, перешагнув эту губу, словно скользкий порог, заглянем в пасть. Ей-богу, будь это в Макино, я поклялся бы, что мы попали в индейский вигвам. Святый боже! неужто этой самой дорогой и шёл Иона? Потолок футов в двенадцать высотой довольно круто уходит вверх, точно скат крыши с настоящим острым коньком, а с ребристых, выгнутых, ворсистых сводов свисают вниз, точно ятаганы, штук по триста с каждой стороны, полосы того самого китового уса, который прикреплён к верхней челюсти, образуя знаменитые венецианские жалюзи, о чём и выше велась уже мимоходом речь. Края этих пластин уса украшены волосяной бахромой, через которую настоящий кит процеживает воду, улавливая из неё мелкую живность, когда он, разинув пасть, проплывает по планктонному морю. Те занавеси китового уса, что находятся посредине, часто имеют различные отметины, углубления и просветы, по которым некоторые китобои умеют высчитывать возраст кита, подобно тому, как возраст дуба узнаётся по кольцам. И хотя правильность такого метода довольно трудно проверить, всё-таки эта аналогия придаёт ему правдоподобие. Однако, если признать указанный метод, придётся допустить, что некоторые настоящие киты достигают гораздо более почтенного возраста, чем представляется возможным с первого взгляда.
По поводу этих занавесей в старинные времена царили самые нелепые представления. У Парчесса один мореплаватель называет их «бакенбардами, растущими внутри китовой пасти»[244], другой называет их «свиной щетиной», а у Хаклюйта некий старый джентльмен выражается следующим изысканным образом: «По обе стороны его верхней челюсти растёт по двести пятьдесят плавников, которые висят у него над языком с обеих сторон».
Как известно, именно эти самые «усы», «щетины», «плавники», «бакенбарды», «занавеси», или как вам будет угодно, идут на изготовление корсетов и прочих удушающих средств для наших дам. Однако тут спрос давно пошёл на убыль. Золотые денёчки китового уса кончились с царствованием королевы Анны, когда в такой моде были фижмы. Но подобно тому, как эти старинные леди превесело порхали, зажатые, можно сказать, в китовой пасти, так и мы сегодня с удивительной неустрашимостью прибегаем во время дождя к защите той же самой китовой пасти, ибо современный зонт – это шатёр, растянутый на каркасе из китового уса.
Но забудем на мгновение о занавесях и усах и, стоя в пасти настоящего кита, ещё раз оглядимся вокруг. Разве при виде этой причудливой колоннады, обступившей вас со всех сторон, вам не кажется, будто вы попали внутрь огромного гаарлемского органа и любуетесь его бесчисленными трубами? Под ногами у вас мягчайший турецкий ковёр – язык, как бы приклеенный к полу. Он очень нежный и жирный и легко рвётся на части, когда его поднимают на палубу. Язык этот сейчас перед нами, и, прикидывая на глаз, я бы сказал, что он шестибаррелевый; то есть даст после вытапливания шесть бочек жиру.
Вы теперь уже, я надеюсь, полностью убедились в справедливости моего исходного утверждения о том, что головы кашалота и настоящего кита очень сильно отличаются друг от друга. Подводя итоги, повторю: голова настоящего кита не имеет огромного резервуара спермацета; не имеет костяных зубов; не имеет узкой вытянутой нижней челюсти, столь характерной для кашалота. С другой стороны, у кашалота нет этих занавесей из китового уса; нет огромной нижней губы; и только какие-то зачатки языка. Кроме того, у настоящего кита имеются два наружных дыхательных отверстия, а у кашалота только одно.
Взгляните же в последний раз на эти величественные крутоверхие головы, пока они ещё лежат рядом; ибо одна из них скоро канет, безвестная, в морскую глубь, и другая не замедлит последовать за ней.
Замечаете, какое выражение у кашалотовой головы? То самое выражение, с которым он встретил свою смерть, только наиболее длинные борозды у него на лбу как-то разгладились. Его широкое чело представляется мне исполненным безмятежного спокойствия прерий, порождённого философским равнодушием к смерти. А теперь обратите внимание на вторую голову. Видите, как твёрдо поджата её потрясающая нижняя губа, придавленная по воле случая бортом корабля? Не говорит ли вся эта голова о величайшей решимости при столкновении со смертью? Этот настоящий кит, я считаю, был стоиком, а кашалот – платоником, который в последние годы испытал влияние Спинозы.
Глава LXXVI. Стенобитная машина
Прежде чем навсегда оставить голову кашалота, я хотел бы, чтобы вы, просто как разумный физиолог-любитель, обратили внимание на её вид спереди во всей его сжатости и собранности. Я прошу вас рассмотреть её теперь только для того, чтобы вы составили себе правдивое и непреувеличенное мнение о той таранной силе, какая может быть в ней заключена. Это чрезвычайно важно, потому что вы либо сделаете для себя необходимые выводы, либо всегда будете испытывать недоверие к одной из самых жутких, но от этого ничуть не менее правдоподобных историй, какие только остались в памяти человечества.
Вы заметите, что, плывя, кашалот подставляет воде переднюю, почти совершенно отвесную плоскость своей головы; заметите, что снизу эта плоскость сильно скошена назад и, отступя, образует углубление, куда как раз приходится, захлопнувшись, узкая, словно бушприт, кашалотова нижняя челюсть; заметите, что рот у него, таким образом, оказывается внизу головы, вроде как если бы ваш рот был у вас под подбородком. Далее вы заметите, что нос у кита вообще отсутствует, а то, что у него есть вместо носа – его дыхало, помещается, так сказать, на макушке, глаза же и уши размещены по бокам его головы, на расстоянии, равном почти трети всей его длины, от его передней оконечности. Теперь уж вы сами, вероятно, видите, что передняя часть головы кашалота – это мёртвая, глухая стена, без единого органа, без единого чувствительного выступа. Мало того, вспомните, что лишь в самой нижней скошенной части голова кашалота имеет какие-то намёки на костные образования; и только в двадцати футах от китового лба можно найти у него черепную коробку. Так что вся эта огромная бескостная масса напоминает куль, набитый шерстью. И наконец, несмотря на то что содержимое этого куля, как вскоре будет показано, частью состоит из самого нежного жира, вы должны будете ознакомиться сейчас с природой того вещества, которое несокрушимой стеной окружает кладезь столь нежной утончённости. Несколько выше я описывал слой сала, одевающий туловище кита, как одевает кожура апельсин. Так же обстоит дело и с его головой; с той только разницей, что на голове эта обёртка менее толста, зато настолько плотна, что в это трудно поверить, не убедившись на опыте. Самый твёрдый и закалённый стальной гарпун, самая острая острога, запущенные самой могучей рукой, бессильно отскакивают от неё, будто кашалотова голова вымощена спереди лошадиными копытами. Вероятно, она лишена какой бы то ни было чувствительности.
Но это ещё не всё. Когда два ост-индских судна столкнутся случайно в переполненном порту, что предпринимают в таких случаях моряки? Видя, что столкновение неизбежно, они спешат вывесить за борт не какие-нибудь твёрдые предметы, скажем, железные или деревянные. Нет, они подставляют под удар большие круглые кули из прочных, толстых бычьих шкур, набитых паклей и пробкой. И такие кранцы безболезненно принимают на себя натиск, от которого на кусочки разлетелись бы дубовые ваги и железные ломы. Подробность эта уже сама по себе достаточно освещает тот очевидный факт, о котором я веду речь. Но в дополнение к ней я хотел бы высказать следующее предположение. Поскольку у обыкновенных рыб имеются так называемые плавательные пузыри, которые они по желанию могут расширять и сжимать; и поскольку у кашалота, как мне по крайней мере известно, такого приспособления нет; принимая также во внимание необъяснимую, казалось бы, привычку кашалотов то целиком погружать голову в воду, то выставлять её высоко наружу; принимая во внимание ничем не затруднённую эластичность покрывающей его голову оболочки; принимая во внимание весьма своеобразное внутреннее устройство его головы, – позволю себе, как я уже говорил, высказать предположение, что таинственное сотоподобное ячеистое вещество, находящееся внутри, имеет, быть может, доселе не открытую связь с наружным воздухом, благодаря чему может подвергаться атмосферному сжатию и расширению. А если это так, сколь же необорима сила, которую поддерживает самая неосязаемая и самая могущественная из стихий!
Теперь вот ещё что. Стремя вперёд эту глухую, непроницаемую, непробиваемую стену, позади которой заключено самое плавучее из всех веществ, движется за ней огромная живая масса, о размерах которой можно судить лишь по обхвату – как о вязанке дров, и в то же время вся она, подобно самой крошечной букашке, послушна единой воле. Так что, когда я в дальнейшем буду описывать небывалый норов и могучую силищу, таящуюся в теле этого гигантского зверя, когда я стану передавать кое-какие из наименее грандиозных и сокрушительных его подвигов, то, надеюсь, отринув недоверчивость невежд, вы окажетесь готовы слушать даже о том, что кашалот взломал перешеек Дарьен, смешав воды Атлантики и Тихого океана[245], и при этом даже бровью не поведёте. Ибо если вы не признаёте кита, вы останетесь в вопросах Истины всего лишь сентиментальным провинциалом. Но жгучую Истину могут выдержать лишь исполинские саламандры; на что ж тогда рассчитывать бедным провинциалам? Помните, какая судьба постигла в Саисе слабодушного юношу, отважившегося приподнять покрывало ужасной богини?[246]
Глава LXXVII. Большая гейдельбергская бочка[247]
Теперь подошло время вычерпывать спермацет. Но для того, чтобы вы с надлежащей ясностью поняли, как это происходит, вам необходимо иметь кое-какое представление о своеобразном устройстве того удивительного резервуара, где спермацет помещается.
Если рассматривать голову кашалота как четырехгранную призму, то наискось её можно разделить на два плоских клина[248], из которых нижний будет представлять собой костное образование – черепную коробку и челюсти, а верхний – жировую массу, совершенно лишённую костей; широкая же передняя грань как раз и даст нам могучий и отвесный китовый лоб. Теперь в середине лба горизонтально разделим верхний клин на две почти совершенно равные части, которые и без нас разделены природой при помощи внутренней перегородки из толстого хряща.
Нижняя из этих двух частей, называемая «колодой», представляет собой огромные масляные соты примерно в десять тысяч ячеек, образованных переплетением плотных и эластичных белых волокон и пропитанных жиром. Верхняя часть, известная под названием «кузов», это не что иное, как большая Гейдельбергская бочка кашалота. Спереди она украшена какой-то замысловатой резьбой – на огромном нахмуренном кашалотовом челе можно видеть всевозможные символические узоры. И как знаменитую бочку в Гейдельберге всегда наполняли лучшими винами Рейнской долины, так и эта «бочка» кашалота содержит самый драгоценный сорт масляного вина, а именно знаменитый спермацет в его совершенно чистом, прозрачном и ароматном виде. И ни в какой другой части китовой туши это ценнейшее вещество без примесей не встречается. В живом кашалоте оно находится в абсолютно жидком состоянии, но после смерти кита, будучи открыто воздействию воздуха, начинает быстро густеть, образуя красивые кристаллические иглы, как будто первый тонкий ледок затягивает поверхность воды. «Кузов» большого кашалота даёт обычно около пятисот галлонов спермацета, не считая того, чт? в силу неизбежных обстоятельств в значительных количествах расплёскивается, проливается, вытекает, просачивается или иным путём безвозвратно теряется во время сложной работы, хотя при этом и стараются спасти что можно.
Не знаю, какими роскошными тонкими тканями была обтянута изнутри знаменитая бочка в Гейдельберге, знаю только, что по богатству своему они не могли бы пойти ни в какое сравнение с той великолепной шелковистой перламутровой плёнкой, какой подбит, точно королевская мантия, с внутренней стороны «кузов» кашалота.
Гейдельбергская бочка кашалота занимает у него всю верхнюю часть головы во всю её длину; а поскольку – как упоминалось уже где-то – голова составляет треть от общей длины животного, то, положив эту длину футов в восемьдесят для кашалота приличных размеров, мы получим бочку больше двадцати шести футов высотой, если её подцепить и вертикально поднимать на корабельный борт.
В процессе отделения головы кашалота оператор орудует своим инструментом в непосредственной близости от того места, где позднее будет проложен ход к спермацетовым залежам; вот почему ему следует проявлять величайшую осторожность, чтобы из-за неловкого преждевременного удара не вторгнуться в святилище и не пролить без пользы его бесценное содержимое. Отделённая голова поднимается из воды отрезанным концом вверх при помощи огромных талей, чьи пеньковые петли свисают над бортом целым канатным лабиринтом.
После всего, что было сейчас мною сказано, я попрошу вас уделить внимание весьма удивительной и – в данном случае – едва не завершившейся трагически процедуре откупоривания большой Гейдельбергской бочки кашалота.
Глава LXXVIII. Цистерны и вёдра
Проворный, как кошка, Тэштиго взбегает по вантам; как был, во весь рост, идёт по нависшему грота-рею и останавливается как раз над вздёрнутой за бортом «бочкой». В руках у него лёгкая снасть, называемая горденем, которая состоит из верёвки, пропущенной через одношкивный блок. Подвесив блок под грота-реем и надёжно закрепив его, он вытравливает вниз один конец, который матросы на палубе ловят и натягивают изо всех сил. Тогда по другому концу индеец, словно с неба, спускается на руках прямо на висящую за бортом голову. Оттуда, всё ещё значительно возвышаясь над остальной командой и посылая товарищам бодрые возгласы, он кажется турецким муэдзином, с минарета призывающим правоверных к молитве. Получив снизу на верёвке острую фленшерную лопату на короткой рукоятке, он принимается старательно нащупывать подходящее место для раскупорки «бочки». Делает он это с величайшей тщательностью, точно ищет клад в старинном доме, выстукивая стены, чтобы обнаружить золото в кирпичной кладке. К тому времени, когда он завершил свои поиски, к свободному концу горденя привязывают схваченное железным обручем деревянное ведро, совершенно такое же, как и обычное, которым достают воду из колодца; другой конец в это время крепко держат у противоположного борта несколько бывалых матросов. Они теперь поднимают ведро так, что индеец может его достать. И тот, налегая на дно ведра длинным шестом, который ему успели передать снизу, осторожно погружает его в «бочку», ведро исчезает, тогда он подаёт матросам у горденя знак, и ведро появляется снова, всё вспенившееся, будто с парным молоком. Индеец осторожно спускает с высоты наполненный до краёв сосуд, здесь его перехватывает стоящий наготове матрос и быстро опрокидывает в большой чан. Затем ведро вновь улетает вверх, и всё повторяется сначала, и так до тех пор, пока глубокая цистерна не оказывается вычерпанной до дна. Под конец Тэштиго приходится налегать на длинный шест всё сильнее и сильнее, всё глубже и глубже загоняя его вместе с ведром, покуда все двадцать футов шеста не скроются в китовой голове.
Команда «Пекода» уже несколько часов занималась этой работой, чан за чаном наполнялся пахучим спермацетом, как вдруг случилось чудовищное несчастье. То ли непутёвый индеец Тэштиго оказался настолько опрометчивым и неосторожным, чтобы разжать на мгновение левую руку, которой он всё время крепко держался за проволочную снасть, подтягивающую к борту кашалотову голову; то ли место, на котором он стоял, было таким предательски скользким; то ли это сам дьявол пожелал, чтобы всё произошло именно так, не позаботившись представить свои соображения, – как там всё в действительности было, неизвестно; но только вдруг, когда из отверстия поднялось восемнадцатое или девятнадцатое ведро – господи, помилуй! – бедный Тэштиго, словно ещё одно ведро, полетевшее в настоящий колодец, упал головой вниз в эту огромную Гейдельбергскую бочку и с жутким маслянистым клокотанием исчез из виду!
– Человек за бортом! – закричал Дэггу, первый среди всеобщего оцепенения пришедший в себя. – Сюда ведро!
Он ступил одной ногой в ведро, чтобы не сорваться, если промасленный гордень выскользнет из пальцев, и матросы подняли его на голову кашалота, не успел ещё Тэштиго достичь её внутреннего дна. А между тем всё кругом пришло в страшное смятение. Глядя за борт, люди увидели, что безжизненная прежде голова вдруг заходила, зашевелилась в воде, словно осенённая внезапной важной идеей; в действительности же это бился несчастный индеец, неведомо для себя обнаруживая, в каких глубинах он очутился.
В это мгновение, когда Дэггу, стоя на кашалотовой голове, распутывал гордень, который зацепился за главные, поддерживающие груз снасти, раздался громкий треск; и, к несказанному ужасу матросов, один из двух больших гаков, на которых была подвешена голова, вырвался, огромная колеблющаяся масса закачалась, косо повиснув за бортом, так что и весь корабль затрясся, заходил пьяно из стороны в сторону, будто только что наткнулся на айсберг. Единственный оставшийся гак, на который пришлась теперь вся эта страшная тяжесть, казалось, вот-вот оторвётся; и угроза эта только возрастала оттого, что груз на нём раскачивался с такой силой.
– Слезай! Слезай! – кричали матросы Дэггу, но негр, одной рукой уцепившись за толстый трос, на котором он мог повиснуть, если бы голова оторвалась, освободил запутавшийся гордень и загнал ведро в перекосившийся колодец, чтобы исчезнувший там гарпунёр схватился за него и был поднят на свет божий.
– Уходи ты оттуда, бога ради! – кричал Стабб. – Что это тебе, патрон загонять, что ли? Разве ты так ему поможешь? Только пристукнешь железным обручем по голове. Уходи, говорят тебе!
– Эй, сторонись! – раздался вопль, подобный взрыву ракеты.
И в тот же самый миг огромная голова со страшным грохотом сорвалась в море, точно Столовая скала в Ниагарский водоворот; освобождённое судно отпрянуло в противоположную сторону, открыв свою сверкающую медную обшивку; и все замерли, увидев сквозь густой туман брызг Дэггу, который раскачивался на талях то над палубой, то над волнами, уцепившись за толстый трос; в то время как несчастный, заживо похороненный Тэштиго уходил безвозвратно на дно морское! Но не успел ещё рассеяться слепящий пар, как над поручнями мелькнула нагая фигура с абордажным тесаком в руке. В следующее мгновение громкий всплеск провозгласил, что мой храбрый Квикег бросился на помощь. Все ринулись к борту, сгрудились у поручней, и каждый с замиранием сердца считал пузырьки на воде, а секунды уходили, и ни тонущий, ни спаситель не показывались. Тем временем несколько матросов спустили шлюпку и отвалили от борта.
– Вон! вон! – закричал Дэггу, висевший теперь на неподвижных талях высоко над палубой, и мы все увидели, как в отдалении над голубыми волнами поднялась человеческая рука; странное это было зрелище, будто рука человеческая поднялась из травы над могилой.
– Оба! Оба! Я вижу обоих! – снова закричал Дэггу, испустив торжествующий вопль; немного погодя мы уже могли видеть, как Квикег храбро загребает одной рукой, крепко вцепившись другой в длинные волосы индейца. Их втащили в поджидавшую шлюпку и быстро подняли на палубу, но Тэштиго ещё долго не приходил в себя, да и у Квикега вид был не слишком бодрый.
Но как же был совершён этот благородный подвиг? Да очень просто. Квикег нырнул вслед за медленно погружавшейся головой, сделал в ней снизу своим тесаком несколько надрезов, так что образовалась большая пробоина, потом выбросил тесак, запустил туда свою длинную руку, поглубже и повыше, и вытащил за голову беднягу Тэша. Он утверждал, что сначала ему под руку подвернулась нога, но отлично зная, что это не по правилам и может вызвать различные осложнения, он запихнул ногу обратно и ловким и сильным толчком с поворотом заставил индейца сделать кульбит, так что при второй попытке тот уже шёл старинным испытанным способом – головой вперёд. Что же до огромной кашалотовой головы, то она вела себя при том самым наилучшим образом.
Вот таким-то образом благодаря храбрости Квикега и его незаурядным повивальным талантам и совершилось благополучное спасение, или, правильнее будет сказать, рождение Тэштиго, протекавшее, кстати говоря, в условиях крайне неблагоприятных и при, казалось бы, неодолимых препятствиях; и этот урок ни в коем случае нельзя забывать: акушерству следует учить наравне с фехтованием, боксом, верховой ездой и греблей.
Я прекрасно знаю, что это необычайное приключение с индейцем покажется иному сухопутному человеку совершенно невероятным; хотя всем, наверное, случалось видеть или слышать, как люди падали в колодцы и бочки; подобные происшествия случаются сплошь и рядом, и при этом причины их бывают гораздо менее веские, чем в случае с Тэштиго, который угодил в кашалотовый колодец с такими исключительно скользкими краями.
Однако кто знает? быть может, проницательный читатель призовёт меня к ответу и скажет: Как так? Я думал, что ячеистая, пропитанная спермацетом голова кашалота – самая лёгкая и плавучая часть его тела; а ты теперь заставляешь её тонуть в жидкости, удельный вес которой гораздо больше, чем у неё. Что, попался? Ничуть, это вы попались; всё дело в том, что, когда Тэштиго упал туда, спермацет был почти весь вычерпан, лёгкое содержимое ушло, остались только хрящевые стенки колодца, состоящие, как я уже упоминал, из калёного, кованого вещества, куда более тяжёлого, чем морская вода, в которой оно тонет, точно свинец. Но в данном случае немедленному погружению этого вещества препятствовали остальные части головы, от которых оно не было отделено, и поэтому вся голова тонула очень плавно и неторопливо, что и позволило Квикегу совершить свой молниеносный родовспомогательный подвиг прямо на бегу, если можно так сказать (что верно, то верно, роды получились довольно беглые).
Ну, а если бы Тэштиго нашёл свою погибель в этой голове, то была бы чудесная погибель; он задохнулся бы в белейшем и нежнейшем ароматном спермацете; и гробом его, погребальными дрогами и могилой были бы святая святых кашалота, таинственные внутренние китовые покои. Можно припомнить один только конец ещё слаще этого – восхитительную смерть некоего бортника из Огайо, который искал мёд в дупле и нашёл там его такое море разливанное, что, перегнувшись, сам туда свалился и умер, затянутый медвяной трясиной и мёдом же набальзамированный. А сколько народу завязло вот таким же образом в медовых сотах Платона и обрело в них свою сладкую смерть?
Глава LXXIX. Прерии
Ни один физиономист, ни один френолог не пытался ещё изучить черты лица левиафана и прощупать шишки на его черепе. Подобное предприятие оказалось бы не более успешным, чем для Лафатера попытка рассмотреть морщины на Гибралтарской скале или для Галля[249] подняться по приставной лестнице и ощупать купол Пантеона. Однако Лафатер в своей знаменитой книге рассуждает не только о различных человеческих лицах, но уделяет также внимание лицам лошадей, птиц, змей и рыб и подробно останавливается на всевозможных оттенках их выражений. Точно так же и Галль, а вслед за ним и его ученик Шпурцгейм не преминули высказать кое-какие соображения по поводу френологической характеристики прочих живых существ. И потому я, как ни скудно я оснащён для того, чтобы стать пионером в деле приложения этих двух полунаучных дисциплин к левиафану, всё же предпринимаю такую попытку. Я берусь за всё и достигаю чего могу.
С точки зрения физиономической, кашалот – существо аномальное. У него нет носа. А поскольку нос – это центральная и наиболее заметная черта лица и поскольку именно он придаёт лицу окончательное выражение, полное отсутствие этого наружного органа, естественно, накладывает на лицо кита свой заметный отпечаток. Как при разбивке живописных парков и садов никакой законченности не удаётся достичь, не утвердив на видном месте чего-нибудь вроде обелиска, или купола, или статуи, или башни, так и лицо окажется лишённым физиономической гармонии, если на нём не будет возвышаться ажурная колокольня носа. Попробуйте отбить нос у мраморного Фидиева Зевса, сами увидите, какое жалкое получится зрелище! Однако кит отличается столь колоссальными размерами, все его пропорции настолько величавы, что тот самый недостаток, какой для изваянного Зевса нетерпим, в нём совершенно не ощущается. Больше того, он только придаёт ему величия. Нос на китовом лице был бы просто неуместен. Когда, пускаясь в физиономическое плавание, вы в своей шлюпке-четвёрке огибаете его огромную голову, ваше почтительное восхищение ни на минуту не омрачает мысль о носе, за который его можно было бы водить. А ведь как навязчиво преследует вас порой эта назойливая мысль, когда вы созерцаете на троне могущественного коронованного педеля.
Самый внушительный, с точки зрения физиономической, вид у кашалота анфас. Так он кажется просто божественным.
Высокий лоб человека, который мыслит, подобен Востоку, растревоженному утренней зарёй. Курчавый лоб быка на сонном пастбище осенён знаком величия. Лоб слона, толкающего тяжёлое орудие вверх по горным ущельям, – зрелище воистину царственное. У человека и у животных лоб одинаково подобен большой золотой печати, какой скрепляли германские императоры свои указы. На ней значится: «Ныне сотворено моею рукою. Бог». Но у многих животных, да порой и у человека тоже, лоб – это всего лишь полоса альпийского луга под снеговой кромкой. Нечасто встречаются лбы, которые, подобно лбу Шекспира или Меланхтона[250], так высоко уходили бы ввысь и спускались так низко, чтобы глаза из-под них светились прозрачными, недвижными горными озёрами вечности; а сверху в бороздах лба чудился бы вам след ветвистых дум, спускавшихся к водопою, точно след ветвисторогого оленя, отпечатавшийся на снегу. Но божественное высокомерие чела, присущее всем тварям земным, у великого Кашалота усиливается настолько, что, глядя на него прямо в лоб, вы с небывалой остротой ощущаете присутствие Божества и силу Зла. Ведь вы смотрите не на какую-то определённую точку; вы не видите ни одной черты: ни носа, ни глаз, ни ушей, ни рта, ни даже лица вообще; у него, собственно, и нет лица, а только одна необъятная твердь лба, покрытого бороздами загадок и несущего немую погибель шлюпкам, судам и людям. И в профиль грандиозное это чело не умаляется, хотя, конечно, сбоку его величие уже не так подавляет вас. Зато в профиль отчётливо заметно то поперечное, полукруглое углубление в средней части лба, которое у человека является, по Лафатеру, признаком Гения.
Но как же так? Кашалот и Гений? Разве кашалот писал книги или произносил речи? О нет, его гений проявляется в том, что он никогда и ничего не сделал, чтобы доказать свою гениальность. Он проявляется также в пирамидном безмолвии кашалота. А кстати сказать, будь великий Кашалот известен в древности юному Востоку, он был бы обожествлён тогдашней детски магической мыслью. Ведь вот обожествили же в те времена люди нильского крокодила за то, что он безъязыкий; а у кашалота тоже нет языка, вернее есть, но такой маленький, что подразнить вас им он не может. Если в будущем какая-либо высокоцивилизованная поэтическая нация сумеет заманить назад, к отчему престолу, майских богов древности и снова возведёт их, живых и весёлых, на трон в наших эгоцентричных небесах и на наших опустевших холмах, где давно уже не кружат в хороводах эльфы и феи, тогда, поверьте мне, великий Кашалот будет Зевсом на этом Олимпе.
Гранитные морщинки иероглифов были расшифрованы Шампольоном[251]. Но нет на свете Шампольона, который мог бы расшифровать египетские тайны человеческого лица и лица любой божьей твари. Физиогномика, как и всякая наука, – лишь преходящее измышление. И если сэр Уильям Джонс, читавший на тридцати языках[252], не мог прочесть того, что написано на лице простого крестьянина, не мог разгадать там глубокого и тонкого смысла, то может ли малограмотный Измаил прочесть инфернальные халдейские письмена на челе кашалота? Вот перед вами это чело. Прочтите сами, если сумеете.
Глава LXXX. Орех
Если для физиономиста кашалот оказался Сфинксом, то для френолога его череп будет, вероятно, геометрическим кругом, квадратуру которого напрасно бы стал он искать.
Череп взрослого животного имеет в длину по меньшей мере двадцать футов. Если отделить нижнюю челюсть, то сбоку череп примет вид слегка наклонной плоскости, покоящейся на совершенно ровном основании. Но у живого кита – как мы с вами уже знаем – эта наклонность почти выровнена и дополнена той огромной массой «колоды» и спермацетового резервуара, которая на ней покоится. Сверху в черепе находится продолговатое углубление, служащее вместилищем всей этой массы, а под ним – другое углубление (оно редко превосходит десять дюймов в длину и ширину), в котором лежит жалкая горстка китовых мозгов. Мозг отделён от лба стеною в двадцать футов, он прячется за могучими бастионами, словно внутренняя цитадель Квебека за широким кольцом укреплений. Он, точно шкатулка с драгоценностями, так хитро замурован в черепе, что многие китоловы упорно утверждают, будто никакого другого мозга, кроме многих кубических ярдов студенистой массы спермацета, у кашалота вообще нет. Весь в складках, полосах и извилинах, этот загадочный орган представляется им куда более подобающим вместилищем для китовой премудрости.
Ясно поэтому, что, с френологической точки зрения, голова живого и невредимого левиафана – это сплошной обман. В ней не сказался, ни на глаз, ни на ощупь, подлинный мозг кашалота. Кит, подобно всему, что ни есть великого на свете, не показывает миру своего истинного лица.
Если вы разгрузите череп от спермацетового балласта и поглядите на него сзади, с широкого конца, вас поразит сходство с человеческим черепом, взятым в таком же положении. Право же, попробуйте поместить этот череп (уменьшенный, понятно, до размеров человеческого) среди изображений человеческих черепов, и вы не сумеете отличить его от них; а заметив у него на макушке углубления, вы как френолог скажете: «Этот человек был лишён чувства собственного достоинства, а также почтительности». И эти две отрицательные характеристики наряду с утвердительным фактом его чудовищных размеров и огромной силы дадут вам полную возможность составить наиболее правдивое, хотя отнюдь не такое уж приятное, представление о неограниченном могуществе вообще.
Но если вы думаете, что раз у кита такой маленький мозг, то у него извилин тоже мало, я должен уверить вас в противном. Рассмотрите повнимательнее позвоночник любого четвероногого, и вас поразит его сходство с вытянутым ожерельем из нанизанных крохотных черепов, каждый из которых имеет какое-то рудиментарное сходство с настоящим черепом. Немцы утверждают, что позвонки и есть абсолютно не развившиеся черепа. Однако не они первые заметили это странное сходство. Мне как-то указал на него один мой приятель иностранец, воспользовавшийся для доказательства скелетом убитого им врага, чьими позвонками он выкладывал особого рода барельеф на заострённом носу своей пироги. Мне представляется серьёзным упущением френологов их отказ расширить область своих исследований и спуститься из мозжечка по спинномозговому каналу. Я убеждён, что характер человека отражается на его позвоночнике. И кто бы вы ни были, я предпочёл бы при знакомстве ощупывать вашу спину, а не череп. Никогда ещё хлипкое стропило позвоночника не поддерживало большой и благородной души. Я горжусь своим позвоночным столбом, словно крепким, бесстрашным древком знамени, которое я подъемлю навстречу миру.
Попробуем применить эту спинную ветвь френологии к великому Кашалоту. Его черепная полость переходит в первый шейный позвонок, а в этом позвонке заканчивается восьмидюймовым конусом спинномозговой канал, имеющий здесь в поперечнике десять дюймов. Проходя из позвонка в позвонок, этот канал сужается, но очень постепенно, ещё долго сохраняя свою необычайную толщину. Канал, разумеется, заполнен спинным мозгом – тем же самым загадочным волокнистым веществом, каким является и головной мозг, и непосредственно соединён с черепной коробкой. Мало того, выходя из черепа, мозг на протяжении многих футов сохраняет почти те же размеры в обхвате, что и его головной участок. Так разве же не разумно будет подвергнуть позвоночник кашалота френологическому исследованию? Ведь в свете всего вышесказанного ясно, что необычайно малые – сравнительно – размеры его головного мозга с лихвой возмещаются необычайно большими размерами спинного мозга.
Но предоставив окончательные выводы на усмотрение френологов, я хотел бы только, приняв на минуту спинномозговую теорию, применить её к горбу кашалота. Величественный этот горб возвышается, если я не ошибаюсь, над одним из самых крупных позвонков, воспроизводя на поверхности его выпуклые очертания. По местоположению я назвал бы этот высокий горб шишкой упорства и беспощадности у кашалота. А что великое морское чудовище беспощадно, в этом вы ещё будете иметь возможность убедиться.
Глава LXXXI. «Пекод» встречается с «Девой»
Подошёл назначенный судьбою срок, и мы повстречали судно «Юнгфрау», шкипер – Дерик де Деер из Бремена.
Некогда величайшие среди китоловов, голландцы и немцы теперь впали в полное ничтожество, но всё-таки время от времени их флаг ещё появляется на просторных широтах и долготах Тихого океана.
Неизвестно, по каким причинам, но «Юнгфрау» во что бы то ни стало хотела засвидетельствовать нам своё почтение. Не успев ещё сблизиться с «Пекодом», она развернулась, спустила шлюпку, и капитан её, стоя в нетерпении на носу, а не на корме, был доставлен к нашему борту.
– Что это он держит? – вскричал Старбек, указывая на какой-то предмет, раскачивающийся в руке немца. – Быть того не может! Неужели лампу?
– Да нет, какая это лампа, – возразил Стабб. – Это кофейник, мистер Старбек. Он плывёт к нам, чтобы угостить нас кофейком из своего кофейничка, добряк; видите, вон у его ног стоит большая жестянка? – там у него кипяток. Славный малый этот немец, ей-богу.
– Чепуха, – сказал Фласк. – Конечно же, это лампа. И жестянка для масла. У него масло кончилось, и он едет сюда побираться.
Как ни странно это может показаться, чтобы китобоец на промысле занимал у встречных китовый жир; и как бы ни противоречило это известной пословице о поездке в Ньюкасл со своим углём[253], тем не менее подобные вещи иногда и в самом деле бывают; и в данном случае капитан Дерик де Деер, как и объявил Фласк, безусловно, вёз на «Пекод» пустую лампу.
Когда он поднялся на палубу, Ахав встретил его своим отрывистым вопросом, словно и не заметил, что за предмет держит в руке гость; но немец на ломаном английском языке очень скоро дал понять, что и не слыхивал никогда о Белом Ките, после чего тут же перевёл разговор на свою лампу и жестянку из-под масла, объяснив при этом, что ему, капитану, приходится укладываться по ночам спать в темноте, потому что бременские запасы масла исчерпаны до последней капли и ни единой летучей рыбки не удалось ещё покуда поймать, чтобы возместить недостачу; в заключение же он заметил, что его судно сейчас воистину «чисто», как говорят китоловы, то есть пусто, и что поэтому оно вполне заслужило своё имя «Юнгфрау», что означает – дева.
Получив то, что ему было нужно, Дерик отправился восвояси; но не успел он ещё приблизиться к своему судну, как на обоих кораблях дозорные почти одновременно заметили китов; и Дерика охватило такое нетерпение, что он развернул свою шлюпку, не теряя времени на то, чтобы переправить на судно лампу и жестянку, и бросился в погоню за живыми запасами лампового масла.
Дичь была обнаружена с подветренной стороны, так что шлюпка Дерика и три других вельбота, спущенные с немецкого китобойца, получили изрядное преимущество перед лодками «Пекода». Китов было небольшое стадо, голов в восемь. Почуяв опасность, они неслись теперь прямо по ветру сомкнутым строем, соприкасаясь боками, точно восьмёрка лошадей в одной упряжке. Широкий пенный след тянулся за ними, словно они раскатывали на поверхности моря огромный пергаментный свиток.
Позади них, отставая на много саженей, плыл громадный горбатый старый самец, страдавший, вероятно, насколько можно было судить по его медлительности и по облепившим его странным желтоватым наростам, разлитием жёлчи или иным каким-либо недугом. Сомнительно было, чтобы этот кит принадлежал к плывущему впереди стаду: столь почтенным левиафанам общительность несвойственна. Однако он упорно шёл у них в кильватере, хотя, наверное, струя, отбрасываемая их хвостами, только затрудняла ему движение, потому что под широким его лбом клокотала белёсая зыбь, какую разводят два встречных потока. Фонтаны он пускал короткие, редкие и будто с трудом; словно закашлявшись, выбрасывал прерывистую, угасавшую струю, вслед за чем в глубине его туши возникали какие-то конвульсии и что-то вырывалось из неё и на противоположном, погружённом конце, отчего вода и там начинала клокотать и пузыриться.
– Не найдётся ли у кого лекарства от живота? – говорил Стабб. – У бедняги, кажется, колики. Подумать только, господи, с полмили колик! Гнилые встречные ветры справляют в нём рождество, ребята. Первый раз слышу, чтобы встречный ветер дул с кормы. Но виданное ли это дело, чтобы кит так рыскал, а? руль он потерял, что ли?
Как перегруженный ост-индский шлюп, медленно идущий к берегам Индостана с грузом перепуганных лошадей на палубе, кренится на борт, зарывается носом, садится на корму и переваливается с волны на волну, так и этот старый кит, вздымая свой почтенный корпус и переворачиваясь по временам на бок, обнаружил наконец причину своего неровного хода – по правому борту у него вместо плавника виднелся лишь куцый обрубок. Потерял ли он свой плавник в бою или так и родился без него – трудно сказать.
– Погоди немного, старина, мы подвяжем на этой верёвке твою раненую руку! – крикнул жестокий Фласк, ткнув пальцем в кольца линя.
– Гляди, как бы он самого тебя не подвязал, – отозвался Старбек. – Навались, не то он достанется немцу.
Усилия всех вельботов в бешеной гонке были устремлены к этой рыбе, потому что она была значительно крупнее остальных и могла бы стать наиболее ценной добычей, а также ещё и потому, что она была гораздо ближе к лодкам, между тем как другие киты уходили от погони с такой огромной скоростью, что преследование их казалось просто невозможным. К этому времени вельботы «Пекода» успели уже обогнать три шлюпки немца и только вельбот Дерика, начавший погоню намного раньше, всё ещё шёл впереди, хотя расстояние между ними и его американскими соперниками с каждой минутой всё уменьшалось. Они опасались только, как бы он, довольно уже приблизившись к киту, не успел забросить свой гарпун, прежде чем они его догонят и обойдут. Сам же Дерик, видимо, не сомневался, что так именно и будет, и то и дело с издёвкой махал им своей наполненной лампой.
– Неблагодарный нищий пёс! – воскликнул Старбек. – Только что наполнил я ему кружку для подаяний, и он же надо мной ещё за это насмехается! – и обычным своим настойчивым шёпотом закончил: – Покажем-ка ему, ребята! Ату! Ату его!
– Вот что скажу я вам, молодцы мои, – говорил Стабб своей команде, – мне религия не позволяет злиться, а всё-таки я бы этого чёртова немца с потрохами сожрал. Навались! навались, говорю! Вы что, хотите, чтоб этот разбойник нас переплюнул? А брэнди вы любите? Ставлю бочку брэнди тому, кто отличится сегодня на вёслах. Давай, давай, что же это ни у кого из вас жилы не лопаются? Может, мы на якорь встали? Что-то незаметно, чтобы мы с места сдвинулись, заштилели мы с вами, что ли? Эй, эй! в лодке уже трава проросла! а мачта, ей-богу, поглядите сами, мачта почками пошла. Так, ребята, не годится. Да вы только посмотрите на немца! Тут нужно с огнём работать, я вам говорю. Ну как? будет мне огонь или нет?
– Ого! какую он пену взбил! – кричал Фласк, так и танцуя на своей банке. – И что за горб, а? целые горы китятины! И так и вихляет, так и петляет! Жми, ребята, жми! – сегодня на ужин лепёшки да устрицы, печёные разиньки и свежие пышки! Навались! эх, навались, молодцы! Этот зверь на сто бочек будет; не отдадим его, молодцы мои, не отдадим! Ну, как там наш немец? Жмите, ребята, ведь подумать только, какой этот кит жирный да маслянистый! Или вам спермацет не нужен? Вот, ребята, вот плывут три тысячи долларов! банк! просто целый банк! Английский банк! А ну, а ну, ещё разок! Как там наш немец поживает?
Но тут Дерик, размахнувшись, запустил в своих соперников сперва лампой, а вслед за ней и жестянкой с маслом, вероятно, преследуя при этом двойную цель: помешать приближающемуся противнику и одновременно увеличить без лишних потерь собственную скорость за счёт сильного толчка с кормы.
– Ах ты, бессовестный пёс голландский! – воскликнул Стабб. – А ну, ребята, навались, как рыжие дьяволы на пятидесяти тысячах линейных кораблей! Ты как, Тэштиго, готов изломать себе хребет на двадцать два куска, защищая честь старого Гейхеда? Что скажешь, а, Тэштиго?
– Скажу: навались, как чёрт! – крикнул индеец.
Разъярённые и подхлёстываемые издевательствами немца, три шлюпки «Пекода» шли теперь почти вровень друг с другом, настигая Дерика с каждой секундой. С гордым, непринуждённым, рыцарственным видом выходящих к финишу рулевых, все три помощника, ликуя, выпрямились во весь рост на корме, подстёгивая гребцов бодрыми возгласами: «Эх, пошла, пошла! Ур-ра нашим гребцам! Долой немца! Нам и попутного ветра не надо!»
Но прежний перевес Дерика был настолько велик, что так бы и вышел он победителем в этой гонке, несмотря на всю их отвагу, не вмешайся тут само провидение, сошедшее к ним в виде краба, который зацепился за среднее весло немецкого вельбота. И пока незадачливый гребец пытался освободить лопасть своего весла, так что лодка едва не черпала бортом, а Дерик осыпал команду громовыми проклятьями, – вот когда Старбек, Стабб и Фласк могли торжествовать! С громкими криками они что было сил рванули вперёд и наискось подстроились к немцу. Ещё мгновение – и вот уже все четыре вельбота, вытянувшись по диагонали, настигают кита, и, пенясь, расходится вправо и влево позади них по воде его клокочущий след.
То было ужасное, на редкость жалостливое и обидное зрелище. Кит плыл теперь, выставив из воды голову, непрерывно посылая перед собой кипящий фонтан и в мучительном страхе колотя себя по боку своим одиноким плавником. То вправо, то влево бросался он в неровном беге, и всё же, разрезая валы, он по-прежнему лихорадочно загребал воду или однобоко вздымал к небесам этот свой одинокий плавник. Так птица с перебитым крылом описывает в воздухе неловкий круг, напрасно пытаясь избегнуть когтей пирата ястреба. Но у птицы есть голос, и она жалобными криками выражает свой страх, тогда как страх этого безгласного морского чудовища был закован, заточен, заговорён в нём самом, у него не было голоса, кроме того прерывистого свиста, что вырывался через дыхательное отверстие, и это вызывало к нему несказанную жалость, в то время как своим массивным телом, крепостными воротами челюстей и всемогущим хвостом он мог внушить трепет самому бесстрашному из тех, кто готов был его пожалеть.
Тогда Дерик, видя, что ещё несколько мгновений, и шлюпки «Пекода» его обойдут, решил, чем уступать без боя свою добычу, всё же попытать счастья и, прежде чем исчезнет последняя надежда, метнуть гарпун, пусть даже с такого далёкого расстояния.
Но только успел подняться на ноги его гарпунщик, как три тигра – Квикег, Тэштиго и Дэггу – вскочили, словно по команде, в своих вельботах и, стоя косой шеренгой, одновременно нацелили три острия, и, просвистев над головою немца, три нантакетских гарпуна впились в тело кита. О, слепящие пенные брызги и белое пламя! Кит рванулся вперёд с такой бешеной силой, что три американских вельбота пронеслись мимо немца, резким толчком отшвырнув его в сторону, так что и сам Дерик, и его обескураженный гарпунёр вылетели за борт, где их едва не подмяли три летящих судёнышка.
– Эй, маслёнки, не бойтесь! – крикнул Стабб, на ходу бросив в их сторону торжествующий взгляд. – Вас сейчас подберут, можете не беспокоиться, следом за нами идут акулы, я сам видел, знаете их? они как псы-сенбернары, всегда придут на помощь путнику в беде. Ур-ра! вот это отличный ход. Прямо не вельботы, а три солнечных луча! Ур-ра! Мы летим, точно три жестянки на хвосте у бешеного кугуара! Не видели, ребята, как бежит в упряжке слон по равнине? У повозки спицы так и мелькают; и можно очень просто вылететь, чуть только на пути оказался бугорок. Ур-ра! Вот так чувствует себя матрос, когда катится чёрту в пекло – один нескончаемый рывок вниз под уклон! Ура! этот кит несёт в преисподнюю вечные вести!
Но чудовище не долго мчалось вперёд. Судорожно вздохнув, оно вдруг с громким плеском скрылось под водой. Три линя стали скрежеща извиваться вокруг лагретов, продавливая в древесине глубокие борозды, а гарпунёры в страхе, как бы кит не вытравил лини до конца, изо всех сил пытались замедлить сматывание, зацепив верёвкой за дымящиеся кольца; так что под конец носы всех трёх лодок под давлением линей, отвесно уходящих из свинцовых желобов прямо в глубину, едва не сровнялись с волнами, между тем как три кормы были задраны высоко в воздух. Кит скоро перестал погружаться, и некоторое время они оставались всё в том же щекотливом положении, опасаясь ослабить линь. Правда, бывали случаи, когда из-за этого погибали увлечённые в глубину вельботы, но всё-таки именно этим путём, подсекая сзади живую китовую плоть на острые крючки, удаётся иногда вынудить замученного болью левиафана всплыть на поверхность прямо навстречу беспощадным острогам преследователей. Но даже и не говоря об опасности, сомнительно всё-таки, чтобы подобный способ был во всех случаях наилучшим; ведь естественно предположить, что чем дольше подбитый кит остаётся под водой, тем быстрее иссякают его силы. Потому что поверхность его настолько велика – у взрослого кашалота она достигает двух тысяч квадратных футов, – что давление воды оказывается огромным. Каждому известно, какому сильному атмосферному давлению подвергаемся мы сами, даже здесь, на земле, окружённые воздухом; сколь же велико должно быть бремя кашалота, поддерживающего на плечах своих столб океана в двести морских саженей! Оно должно равняться по крайней мере пятидесяти атмосферам. Один китолов подсчитал, что таков как раз вес двадцати линейных кораблей с пушками, припасами и экипажами.
И кто бы из сухопутных людей мог подумать, глядя на эти три вельбота, тихонько покачивающиеся на волнах под вечной синевой небосвода, между тем как ни стон, ни крик и ни единый пузырёк не подымался из пучины; кто бы мог подумать, что в глубине под этой безмятежной тишиной бьётся и трепещет в агонии величайшее страшилище морей? С носа вельбота отвесно уходил в воду натянутый линь и терялся из виду футах в восьми от поверхности. Возможно ли, чтобы на трёх этих тонких нитях был подвешен великий левиафан, точно тяжёлая гиря старинных часов с недельным заводом? Подвешен? Но к чему? К трём жалким щепкам. Неужели это то самое существо, о котором некогда было сказано с гордостью: «Можешь ли пронзить кожу его копьём и голову его рыбачьею острогою? Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копьё, ни дротик, ни латы; железо он считает за солому; дочь лука не обратит его в бегство; булава считается у него за соломину, свисту дротика он смеётся»[254]. Неужто же это то самое существо? Вот этот вот кит? Ах, почему не сбываются слова пророков? Ибо, имея в хвосте своём силу тысячи ног, бежал левиафан, чтобы сунуть голову под подушку океана и спрятаться от пик «Пекода»!
Солнце садилось, и в наклонном вечернем освещении от лодок уходили вглубь такие длинные, такие широкие тени, что в них без труда мог бы укрыть Ксеркс половину своего войска. Как, должно быть, жутко было раненому киту видеть эти громадные призраки, скользящие над его головой!
– Приготовиться! – вдруг крикнул Старбек, потому что все три линя внезапно задрожали, передавая вверх, точно по волшебному телеграфу, предсмертные биения китовой жизни, так что каждый гребец мог чувствовать их, сидя на своей банке. В следующую минуту, освобождённые от тянувшей их книзу силы, вельботы вдруг подскочили в воздух, словно небольшие ледяные поля, когда с них попрыгает в море вспугнутая стая белых медведей.
– Выбирай! Выбирай! – крикнул Старбек. – Он всплывает.
Мокрые лини, ещё секунду назад натянутые до предела, широкими быстрыми кольцами полетели на дно вельботов, и вот на расстоянии в две корабельные длины от охотников на поверхности показался кит.
Движения кита ясно показывали, что силы его на исходе. У большинства наземных животных есть в венах особые клапаны, вроде шлюзов, которые могут тотчас же замыкаться, когда животное ранено, и перекрывать, хотя бы частично, поток крови в определённом направлении. Не то у кита, одна из особенностей которого состоит в полном отсутствии каких бы то ни было клапанов в кровеносных сосудах; так что стоит даже самому тонкому острию, вроде гарпуна, пронзить его тело, смертельное кровотечение неизбежно осушит всю его артериальную систему; а когда к этому на большой глубине добавляется ещё огромное давление воды на его тело, тут уж, можно сказать, жизнь вытекает из него непрерывной струёй. Однако запасы крови в нём так велики и так многочисленны и сокровенны её внутренние источники, что он всё истекает да истекает кровью весьма продолжительное время, подобно тому, как даже в засуху катит свои волны река, истоками которой служат родники далёких, невидимых гор. Вот и сейчас, когда вельботы подошли к нему чуть ли не вплотную, отважно проплыв над самым его хвостом, когда острога за острогой впивались в его бока, из каждой новой раны начинала бить, не опадая, кровавая струя, в то время как из дыхала на голове лишь время от времени быстрыми взрывами выбивалась к небу вспененная влага. Отсюда кровь ещё не показалась, потому что ни один из жизненно важных органов не был ещё у него повреждён. Жизнь его, как мудро говорят китоловы, ещё не достали.
Лодки окружили кита тесным кольцом, и теперь вся верхняя часть его туловища, включая и те участки, что обычно бывают скрыты под водой, представилась взгляду охотников. Стали видны его глаза, вернее, те места, где у него были глаза прежде. Подобно тому, как инородное вещество прорастает сквозь сучки на упавшем стволе благороднейшего дуба, так и у этого кита из глазниц торчали слепые выросты, вызывающие жгучую жалость. Но не было жалости для него. Пусть он стар, пусть однорук, пусть слеп – всё равно он должен умереть, всё равно он будет зарезан, чтобы было чем освещать весёлые свадебные пиршества и прочие увеселения человека, а также чтобы лить свет во храмах, где проповедуют безоговорочный мир между всем живущим. Купаясь в собственной крови, он как-то накренился набок и показал преследователям свой странный белёсый обрубок, вроде шишки в боку.
– Удобное местечко! – крикнул Фласк. – Дайте-ка я его там пощекочу разок.
– Стой! – крикнул Старбек. – В этом нет надобности.
Но сердобольный Старбек опоздал. Просвистела острога, горячая струя взметнулась из жестокой раны, и кит, пронзённый непереносимой болью, выпустив фонтан крови, в слепой, бешеной ярости бросился на вельбот своего мучителя, обливая лодки с их ликующими экипажами потоками кровавой пены и пятная борта. Вельбот Фласка был перевёрнут. Но то был последний натиск умирающего животного. Совершенно ослабев от потери крови, кит беспомощно закачался на волнах в стороне от следов своего разрушительного бешенства; тяжело дыша, повернулся на бок, бессильно колотя воздух обрубком плавника, потом стал медленно вращаться, словно угасающий мир; обратил к небесам белые тайны своего брюха; вытянулся бревном; и умер. Грустно было видеть его последний замирающий фонтан. Казалось, чья-то невидимая рука постепенно отключала воду большого дворцового водомёта, и крутоструйная колонна всё опадала и опадала с унылым угасающим журчанием – так опадал последний, долгий фонтан умирающего кита.
Вельботы ещё дожидались прихода корабля, когда китовая туша стала потихоньку погружаться со всеми своими непочатыми сокровищами. Тотчас же по команде Старбека её в нескольких местах обвязали верёвками, натянули концы; и вот уже три вельбота превратились в три поплавка, поддерживающие на канатах затонувшую тушу кита. Когда подошёл корабль, её с величайшими предосторожностями переправили к борту и намертво закрепили надёжнейшими цепями, так как было очевидно, что, предоставленная хоть на мгновение самой себе, она тут же камнем пойдёт на дно.
Случаю было угодно, чтобы при первой же попытке вонзить в кита фленшерную лопату с нижней стороны обрубка, прямо в теле у него было обнаружен целый гарпун, весь разъеденный ржавчиной. Но поскольку в теле убитых китов достаточно часто находят обломки гарпунов, вокруг которых живая плоть срослась без следа, так что ни малейшая выпуклость не указывает снаружи их местонахождение, надо полагать, что этим своим уродством кит был обязан каким-то иным причинам. Куда загадочнее была вторая находка: неподалёку от гарпуна, совершенно незаметный снаружи, покоился у него в теле каменный наконечник остроги. Кто запустил в него эту каменную острогу? Когда? Быть может, её метнул на западном побережье какой-нибудь североамериканский индеец задолго до того, как Америка была открыта?
Какие ещё чудеса могли быть извлечены из этого чудовищного сундука – неизвестно. Всем дальнейшим открытиям был положен внезапный конец, когда под сильно возросшей тяжестью тонущей туши корабль вдруг стал ложиться бортом на воду. Разумеется, Старбек, который всем распоряжался, не отступал до последнего: он с таким упорством стоял на своём, что, когда уже наконец корабль неминуемо должен был перевернуться, не разомкни он своих железных объятий, и была дана команда освободиться от китовой туши, натянутые тросы и цепи с такой силой давили на шпангоуты, что отвязать их оказалось просто невозможно. А между тем всё на «Пекоде» покосилось. Перебираться от борта к борту приходилось словно по крутому скату коньковой крыши. Корабль стонал и задыхался. Костяные украшения на бортах и в каютах стали смещаться и коробиться, грозя вылететь вон. Напрасно старались матросы ломами и клиньями сдвинуть неподвижные цепи, ослабить их давление на выступы шпангоута; кит же так глубоко уже ушёл под воду, что добраться до противоположных концов снастей не представлялось никакой возможности, а между тем с каждым мгновением словно целые тонны прибавлялись к тяжеловесной туше, и судно, казалось, вот-вот перевернётся.
– Постой, постой! Слышишь? – кричал киту Стабб. – И чего ты, ей-богу, так торопишься потонуть? Чёрт возьми, ребята, нужно что-то сделать, иначе нам крышка. Нечего там ковырять, стоп! бросайте все эти палки, и пусть кто-нибудь сбегает принесёт молитвенник и нож. Будем рубить цепи.
– Нож? Верно, верно! – воскликнул Квикег и, схватив тяжёлый плотничий топор, он высунулся из порта и начал со всего маху рубить самую толстую цепь. Но высекая снопы искр, он успел только нанести несколько ударов, остальное доделала страшная тяжесть. Натянутые снасти лопнули с громким треском, судно выправилось, и туша ушла на дно.
Свежезабитые кашалоты и в самом деле иногда тонут. Однако причин этого любопытного явления никто ещё из китоловов не сумел обнаружить. Обычно мёртвый кашалот остаётся на плаву, высоко вздымая над водой брюхо или бок. Если бы тонули только туши старых, тощих, одряхлевших животных, у которых сальные подушки оскудели, а ревматические кости отяжелели, тогда бы ещё можно было объяснить это явление необычайно высоким удельным весом тех китов, в теле которых отсутствует плавучее вещество. Но в действительности это не так. Даже юные киты в расцвете сил своих, распираемые благородным честолюбием, безвременно вырванные из тёплого весеннего половодья жизни во всём изобилии своих сальных покровов, даже они, эти мускулистые, неутомимые пловцы, тоже иногда тонут.
Заметим, однако, что с кашалотами подобные неприятности случаются реже, чем с какими-либо другими китовыми разновидностями. На каждого затонувшего кашалота приходится на дне морском двадцать настоящих китов. Это видовое различие объясняется, вне всякого сомнения, сравнительно б?льшим количеством костей у настоящего кита; одни только его прославленные венецианские жалюзи весят тонну с лишком, а кашалот полностью избавлен от этого неудобного груза. Случается, правда, что по прошествии нескольких часов или даже дней затонувший кит всплывает и держится на воде ещё уверенней, чем при жизни. Но уже тут-то причина ясна. В нём скопляются газы; он весь раздувается до чудовищных размеров, точно уже не животное, а огромный воздушный шар. Тогда его никакими силами не удержать под водой. При береговом промысле на отмелях и бухтах Новой Зеландии рыбаки, заметив, что китовая туша начинает тонуть, прикрепляют к ней буёк на длинном тросе-буйрепе, так что, если кит скроется под водой, они всё равно знают, где можно ожидать его появления, когда ему придёт время всплывать.
Туша затонула, а вскоре после этого дозорные с мачт дали знать, что «Юнгфрау» снова спускает вельботы, хотя единственный фонтан в виду кораблей принадлежал финвалу – разновидности кита, неуловимой из-за своей быстроходности. Однако фонтан финвала до такой степени похож на фонтан кашалота, что неопытные моряки часто путают их. Вот почему Дерик со своей ратью отважно пустился в погоню за этим недостижимым созданием. «Дева», подняв паруса, ушла вслед за своими четырьмя вельботами, и все вместе они скрылись с подветренной стороны за горизонтом, увлечённые отчаянной, безнадёжной погоней.
Да, много на свете финвалов, много и Дериков, мой друг.
Глава LXXXII. Честь и слава китобоя
Есть такие предметы, разобраться в которых можно только принявшись за дело с методической беспорядочностью.
Чем глубже погружаюсь я в изучение китобойного промысла, проникая в своих исследованиях к самым его истокам, тем сильнее поражает меня его слава и древность. Когда же я обнаруживаю, что столь огромное количество славных полубогов и героев и всевозможных пророков так или иначе содействовали его возвеличению, меня пронизывает гордое сознание того, что и сам я, хоть и на весьма незначительных ролях, всё же принадлежу к этому славному братству.
Первым китоловом был доблестный Персей, сын Зевса; и – да будет это сказано к вящей славе нашего ремесла – первый кит, ставший жертвой нашего воинственного братства, был убит не из низких побуждений. То были рыцарские времена нашей профессии, когда мы подымали оружие, чтобы вступиться за обиженных, а не для того, чтобы наполнить человеку лампы маслом. Каждому известна славная история Персея и Андромеды; как прекрасная дочь царя Андромеда была прикована к скале на морском берегу и как принц китобоев Персей в тот миг, когда Левиафан уже уносил её в море, приблизился, неустрашимый, загарпунил чудовище, спас благородную деву и женился на ней. Это был воистину артистический подвиг, достойный восхищения и чрезвычайно редкий в наши дни, – свирепый Левиафан был убит гарпуном наповал с первого раза. И пусть никто не думает усомниться в правдивости этой допотопной истории, потому что в древней Иоппии, ныне Яффе, на сирийском побережье, в одном из языческих храмов много веков подряд стоял гигантский скелет кита, принадлежавший, согласно городскому преданию и по утверждению местных жителей, тому самому чудовищу, которое было убито Персеем. Когда римляне овладели Иоппией, скелет этот был с триумфом переправлен в Италию. Особо важным и многозначительным во всей этой истории является также следующее обстоятельство: именно из Иоппии отправился в своё путешествие Иона.
Весьма сходна с приключением Персея и Андромеды – а может быть, как полагают иные, косвенно от него происходит – известная история о святом Георгии и Драконе, ибо я утверждаю, что этот дракон был китом, потому что старинные книги постоянно смешивают китов и драконов и часто пользуются одним названием вместо другого. «Ты как лев на водах и как дракон в морях», – говорит Иезекииль, явно подразумевая при этом кита, а некоторые версии текста прямо употребляют самое это слово. К тому же великолепие подвига сильно поубавилось бы, если бы святой Георгий сражался всего лишь с ползучей рептилией на суше, вместо того чтобы биться с великим чудищем морей. Всякий может убить змею, но только у Персеев, у святых Георгиев да Коффинов и Мэйси из Нантакета хватит мужества храбро выступить навстречу киту.
И пусть не вводят нас в заблуждение современные картины, написанные на этот сюжет, ибо несмотря на то, что существо, с которым сражается святой Георгий, имеет какой-то неопределённый грифоноподобный облик, и несмотря на то, что битва, согласно этим изображениям, происходит на суше, а сам святой сидит верхом на коне, всё же, принимая во внимание величайшее невежество, царившее в те времена, так что истинный вид кита был неизвестен художникам; допуская, что кит святого Георгия мог, как и в случае с Персеем, выползти из моря на берег; и понимая, что животное, осёдланное святым Георгием, может быть всего лишь крупным тюленем, иначе – морской лошадью; учитывая всё это, нетрудно видеть, что, не вступая в противоречие со священной легендой и древнейшими зарисовками, можно считать так называемого дракона не чем иным, как самим великим Левиафаном. И действительно, в свете строгой и всепронизывающей истины с этой историей происходит то же, что некогда случилось с филистимлянским зверо-рыбо-птицеобразным идолом по имени Дагон, который, будучи поставлен пред ковчегом Израиля, утратил свою лошадиную голову и обе лапы, так что осталось одно только туловище – его рыбья составная часть. Вот таким образом получается, что хранителем и опекуном Англии оказался один из наших славных собратьев, такой же китобой, как и мы, а сами мы, китоловы Нантакета, имеем все права на то, чтобы почитаться членами благороднейшего ордена святого Георгия. И потому пусть рыцари этого почтенного ордена (из коих ни один, осмелюсь утверждать, никогда, в отличие от их великого патрона, кита в глаза не видывал), пусть же они не смотрят с презрением на жителей Нантакета, ибо даже в шерстяных фуфайках и промасленных штанах мы куда более достойны Георгиевского знака отличия.
По вопросу о том, допускать ли в наши ряды Геркулеса, я долгое время пребывал в сомнении: конечно, согласно греческой мифологии, этот Кроккет и Кийт Карсон[255] древности, этот плечистый свершитель весёлых и славных подвигов, был проглочен, а затем извергнут китом; однако даёт ли подобное обстоятельство ему права на звание китобоя, это, строго говоря, ещё вопрос. Нигде нет указания на то, что он загарпунил своего кита, разве что он сделал это изнутри, сидя у него во чреве. И всё-таки его можно считать вроде как бы китоловом поневоле, по крайней мере, если даже он кита и не поймал, то уж его-то кит поймал, во всяком случае. Так что я провозглашаю его одним из наших.
Но самые почтенные и противоречивые авторитеты утверждают, что эта греческая версия о Геркулесе и ките возникла из ещё более древней еврейской версии о ките и Ионе; или же наоборот; и в самом деле, они чрезвычайно похожи друг на друга. Почему же в таком случае, провозглашая своим полубога, не присоединить мне сюда же и пророка?
Но именами героев, святых, полубогов и пророков не исчерпывается список членов нашего ордена. Кто наш Великий Магистр – это ещё нужно выяснить, ибо, подобно отпрыскам благородных королевских родов древности, мы находим истоки нашего братства ни много ни мало как среди самих великих богов. Припомним, к примеру, ту удивительную восточную легенду из Шастр[256], согласно которой ужасный Вишну, одно из божеств индуистской троицы, сам небесный Вишну оказывается нашим главою; Вишну, который в первом из своих земных воплощений на веки вечные выделил и освятил кита. Когда бог богов Брама, говорится в Шастрах, надумал вновь создать мир после его очередного исчезновения, он породил Вишну, дабы тот возглавил всё дело; но оказалось, что Веды, мистические книги, которые Вишну во что бы то ни стало должен был изучить, прежде чем приняться за работу, и которые, по всей видимости, содержали кое-какие практические сведения, полезные для начинающих архитекторов, эти самые Веды лежали на дне морском; тогда Вишну воплотился в кита и, нырнув в его обличии в самые глубочайшие глубины, извлёк оттуда священные фолианты. Так не справедливо ли будет назвать и Вишну «китятником»? Подобно тому как зовётся лошадником тот, кто имеет отношение к лошадям.
Итак, Персей, святой Георгий, Геркулес, Иона и Вишну! – вот это членский список! Какой клуб, кроме китобойского, может похвастаться такими именами?
Глава LXXXIII. Иона с исторической точки зрения
В предыдущей главе мы упоминали об историческом случае с Ионой и китом. Следует, между прочим, заметить, что в Нантакете не очень-то верят в этот случай с Ионой и китом. Однако были вот, например, иные скептически настроенные греки и римляне, которые, выделяясь среди правоверных язычников своего времени, в равной мере подвергали сомнению историю о Геркулесе и ките или о дельфине и Арионе; и всё-таки, как бы то ни было, их сомнение в достоверности упомянутых преданий ни на йоту не уменьшает самую эту достоверность.
Один старый китолов из Сэг-Харбора выдвигал против этой древнеиудейской легенды следующее соображение: у него дома было старинное и редкое издание Библии, украшенное удивительными и весьма ненаучными иллюстрациями, на одной из которых Ионин кит изображён с двуструйным фонтаном над головой – а эта особенность присуща только тем разновидностям Левиафана (настоящему киту и ему подобным), относительно которых у рыбаков есть пословица: «Такой и копеечной булкой подавится», настолько узкая у них глотка. Правда, на это у епископа Джебба есть готовый ответ. Вовсе не обязательно, замечает епископ, считать темницей Ионы китовое брюхо, вполне возможно, что он нашёл себе временное пристанище в одном из закоулков его пасти. И казалось бы, почтенный епископ вполне прав. Ведь в самом деле, в пасти настоящего кита легко можно было бы разместить пару карточных столов вместе с игроками. Или же Иона мог расположиться в дупле гнилого зуба; хотя, с другой стороны, ведь у настоящего кита зубов-то нет.
Второе соображение, которое высказал Сэг-Харбор (он так под этим прозвищем и ходил), обосновывая своё неверие, как-то туманно касалось заточённого тела пророка и желудочных соков кита. Но и это возражение можно считать опровергнутым, потому что, по мнению одного немецкого экзегетика[257], Иона нашёл себе приют в теле мёртвого кита – подобно тому как французские солдаты во время русской компании превращали в палатки туши павших лошадей, забираясь к ним в брюхо. А какие-то европейские комментаторы и вовсе выяснили, что, будучи выброшен за борт с яффского корабля, Иона тут же был подобран другим кораблём, у которого на носу была резная скульптура кита и который, добавлю я, вероятно, так и назывался – «Кит», как в наши дни иные суда носят названия «Акула», «Чайка» или «Орёл». Не было также недостатка в учёных экзегетиках, полагавших, что кит, упоминаемый в книге Ионы, это всего лишь спасательный баллон, надутый воздухом мешок, к которому в минуту смертельной опасности подплыл пророк и тем избег гибели в морской пучине. Так что бедняга Сэг-Харбор вроде как бы побит по всем статьям. Однако у него нашлось и ещё одно обоснование для своего неверия. Сводилось оно, насколько я помню, вот к чему: кит проглотил Иону в Средиземном море, а через три дня изрыгнул его где-то в трёх днях пути от Ниневии, города на берегу Тигра, а город этот от любой точки средиземноморского побережья находится по прямой гораздо дальше, чем в трёх днях пути. Как же это так? Но разве не мог кит доставить пророка в окрестности Ниневии каким-нибудь иным путём? Мог. Он мог пронести его кружной дорогой мимо мыса Доброй Надежды. Но не говоря уже о переходе вдоль по всему Средиземному морю и о другом переходе вверх по Персидскому заливу и Красному морю, такая версия предполагает путешествие вокруг всей Африки в течение трёх дней, не говоря уже о плавании до Ниневии вверх по Тигру, слишком мелкому, чтобы по нему мог пройти кит. Кроме того, допуская, что Иона ещё в те давние времена обогнул мыс Доброй Надежды, мы отнимем честь открытия этого знаменитого места у Бартоломео Диаса[258], его прославленного первооткрывателя, и тем самым объявим лживой всю новую историю.
Но все эти глупые рассуждения старого Сэг-Харбора доказывали только глупую гордыню его ума – свойства, тем более достойного порицания, что всей-то его учёности было только то, чего он понабрался у солнца и моря. Я повторяю, всё это говорит лишь о его глупой, безбожной гордыне и о его мерзком, вдохновлённом дьяволом бунте против преподобных церковников. Ибо, как утверждает один португальский католический священник[259], сама эта идея путешествия Ионы в Ниневию вокруг мыса Доброй Надежды служит лишь возвеличению божьего чуда. И так оно и есть. Высокообразованные турки и по сей день свято веруют в историческую истинность приключившегося с Ионой события. Ещё три столетия тому назад один английский путешественник описывал (см. «Путешествия» Гарриса) выстроенную в честь Ионы турецкую мечеть, внутри которой без всякого масла горит денно и нощно чудесная лампа.
Глава LXXXIV. Запуск
Чтобы карета катилась легче и быстрее, её оси обычно смазывают жиром; примерно с такими же целями некоторые китобои подвергают сходной операции свои вельботы: они смазывают салом днища. И, без сомнения, подобная процедура, при любых обстоятельствах безвредная, может сослужить весьма ценную службу; вспомним, что ведь масло и вода – враждебные стихии; что масло способствует скольжению, а задача в данном случае – заставить вельбот резво скользить по волнам. Квикег горячо верил в смазывание своего вельбота, и однажды утром, вскоре после того как скрылось из виду немецкое судно «Юнгфрау», он принялся за это дело с жаром, превосходящим обычный; он заполз под днище висящей за бортом лодки и так старательно вмазывал притирание, словно рассчитывал обеспечить себе урожай волос с лысых лодочных боков. Казалось, он подчинялся голосу особого предчувствия. И вскоре оно было оправдано реальными обстоятельствами.
К полудню были замечены киты, но как только судно подошло к ним поближе, они развернулись и со стремительной поспешностью пустились в бегство, в беспорядочное бегство, подобно баркам Клеопатры, бегущим от Акциума.
Но вельботы всё-таки продолжали погоню, и впереди шёл Стабб. Наконец Тэштиго с большим трудом удалось влепить один гарпун; но подраненный кит, и не подумав нырнуть, продолжал с возросшей скоростью своё бегство по поверхности моря. А при таком непрекращающемся натяжении засевший в теле кита гарпун рано или поздно обязательно будет выдернут. И потому надо было либо забить кита острогой, либо смириться с его неизбежной потерей. Но подтянуть вельбот к киту было невозможно, он, словно вихрь, мчался по волнам. Что же оставалось делать?
Из всех чудесных изобретений и достижений, из всех проявлений ловкости рук и всевозможных ухищрений, к каким столь часто прибегает ветеран-китобой, ничто не может сравниться с тем тонким манёвром острогой, который называется «запуском». Ни шпага, ни рапира со всеми своими выпадами не могут похвастать ничем подобным. Применяется этот приём только в тех случаях, когда кит, несмотря на все меры, злостно ударяется в бегство; основное и самое замечательное в нём – это огромное расстояние, на которое с удивительной меткостью забрасывается длинная острога из отчаянно раскачивающегося вельбота, да ещё на полном ходу. Вся острога от стального острия до конца деревянной рукоятки имеет около десяти-двенадцати футов в длину, древко у неё гораздо тоньше, чем у гарпуна, и делается оно из более лёгкого материала – сосны. К нему прикрепляется тонкая, но довольно длинная верёвка – перлинь, при помощи которого заброшенная острога снова втягивается в лодку.
Здесь, прежде чем мы последуем дальше, необходимо заметить, что, хотя гарпун и можно запустить так же, как острогу, прибегают к этому весьма редко, а если и прибегают, то чаще всего неудачно, по причине большего веса и малой длины гарпуна, что при метании оказывается довольно чувствительным препятствием. Так что, как правило, сначала нужно взять кита на гарпунный линь, а уж потом можно начинать «запуск».
А теперь взгляните на Стабба; взгляните на этого человека, который, сохраняя ровное, жизнерадостное хладнокровие при любых опасностях, словно нарочно создан для того, чтобы отличаться в «запуске». Поглядите на него: вот он стоит, поднявшись во весь рост на ныряющем носу лодки, которая летит во весь опор на тросе за китом, мчащимся в космах пены в сорока футах впереди. Легко приподняв длинную острогу на уровень глаз, чтобы проверить, достаточно ли она пряма, Стабб, посвистывая, подхватывает последнее кольцо перлиня и зажимает в кулаке свободный конец. Затем, держа острогу вровень со своей поясной пряжкой, он начинает прицеливаться в кита, нацелившись, медленно опускает вниз конец древка, поднимая тем самым остриё, так что теперь это смертоносное оружие стоит стоймя у него на ладони, поблёскивая лезвием в пятнадцатифутовой вышине. Он напоминает вам жонглёра, балансирующего длинным шестом у себя на подбородке. Но вот ещё мгновение – и сверкающая сталь, получив молниеносный неуловимый толчок, взмывает ввысь, описав над пенным простором роскошную крутую арку, и трепещет, впившись в живую китовую плоть. И вместо искристой воды кит выпускает в воздух струю красной крови.
– Ага! вышибло из него втулку! – крикнул Стабб. – У нас сегодня благословенный праздник Четвёртого Июля; пусть все фонтаны бьют вином! Неплохо бы было, если бы из него лилось старое орлеанское виски, или старый огайо, или наш бесценный старый мононгахела! Вот тогда бы, друг Тэштиго, я бы велел тебе подставить кружку под струю и мы бы её пустили вкруговую! Да ей-богу, братишки, мы бы с вами наварили отменного пуншу у него в дыхале и похлебали бы из живой чаши этой живительной влаги!
Снова и снова под такие весёлые речи проводится искусный «запуск», и каждый раз острога послушно возвращается к хозяину, словно борзая на своре. У кита начинается агония, гарпунный линь провисает, а метатель остроги, скрестив руки, усаживается на носовую банку и молча следит за тем, как умирает кит.
Глава LXXXV. Фонтан
То обстоятельство, что вот уже шесть тысяч лет – и ещё бог знает сколько миллионов веков до этого – великие киты пускают фонтаны по всем морям, орошая и поливая подводные сады, точно они не киты, а садовые опрыскиватели, то обстоятельство, что за последние несколько столетий тысячи охотников вплотную подходили к этим фонтанам, собственными глазами разглядывая искристые струи; что всё это так, а тем не менее по сей благословенный момент (в пятнадцать с четвертью минут второго пополудни шестнадцатого дня декабря месяца в год от рождества Христова 1851) по-прежнему не выяснено, являются ли эти фонтаны в конечном счёте водяными струями или же в них содержится только один пар, обстоятельство это, безусловно, достойно особого внимания.
Рассмотрим же этот вопрос вместе с некоторыми интересными подробностями, сюда же относящимися. Каждому известно, что благодаря особому устройству жабр весь рыбий род дышит воздухом, растворённым в самой той стихии, в которой он плавает; так что какая-нибудь треска или сельдь может сто лет прожить на свете, ни разу не высунув голову из воды. Но кит, в силу своеобразия своего внутреннего строения снабжённый настоящими лёгкими, подобными человеческим, может существовать только вдыхая свободный воздух из атмосферы. А отсюда и необходимость его регулярных визитов в верхний мир. Но он не имеет ни малейшей возможности вдыхать воздух ртом, поскольку в обычном положении пасть кашалота погружена по крайней мере на восемь футов в воду, да к тому же его дыхательное горло вообще не сообщается с пастью. Нет, он получает воздух только через дыхало, а оно находится у него на самой макушке.
Если я скажу, что для каждого существа дыхание является совершенно необходимой жизненной функцией, поскольку при этом из воздуха извлекается некое вещество, которое, приведённое вслед за тем в соприкосновение с кровью, передаёт ей своё живительное свойство, я думаю, что не ошибусь, хотя, быть может, и злоупотреблю при этом учёными словами. Примем это; но отсюда следует, что если бы всю кровь человека удавалось провентилировать за один вдох, после этого можно было бы надолго запечатать себе ноздри и отложить следующий вдох на продолжительное время. Иначе говоря, после этого человек мог бы жить не дыша. Сколь бы противоестественным это ни казалось, но именно так и случается с китом, который по целому часу, а то и больше, проводит обычно в глубине под водой, не сделав ни единого вдоха и не получив никаким иным путём ни малейшей частицы воздуха, ибо, как мы помним, жабр у кита нет. Как же это ему удаётся? По обе стороны от спинного хребта между рёбрами у него имеется целый критский лабиринт замысловато переплетённых, похожих на вермишель сосудов, которые, после того как он покинет поверхность, бывают все до предела раздуты от окисленной крови. Так что он целый час или даже дольше несёт в себе по бездонным глубинам запас жизненной энергии, подобно тому как верблюд, пересекая бездонные пустыни, несёт изрядный запас воды для питья в своих четырёх дополнительных желудках. С анатомической точки зрения существование этого лабиринта – непреложный факт, а в том, что основанная на нём теория вполне состоятельна и правильна, убеждает меня иначе совершенно необъяснимая привычка китов во что бы то ни стало отрабатывать все свои фонтаны, как говорят китобои. Я имею в виду следующее. Непотревоженный кашалот, поднявшись на поверхность, остаётся там всегда и неизменно один и тот же всегда одинаковый отрезок времени. Скажем, например, он проводит на поверхности одиннадцать минут и выпускает за этот срок семьдесят фонтанов, то есть делает семьдесят вдохов и выдохов; и значит, когда бы он ни поднялся снова, он обязательно сделает те же семьдесят вдохов и пробудет на поверхности ровно столько же времени, минута в минуту. Если же вы вспугнёте его – не успеет он ещё вдохнуть раз-другой – и он поспешно уйдёт в глубину, он обязательно снова всплывёт на поверхность, чтобы восполнить образовавшийся недостаток воздуха. И пока он не сделает все свои семьдесят вдохов и выдохов, он не уйдёт под воду на полный срок. Заметим, однако, что для разных индивидуумов все эти цифры различны; но для любого одного индивидуума они одинаковы и неизменны. Так почему бы кит стал стремиться во что бы то ни стало отработать все свои фонтаны, если бы ему не нужно было заново наполнить резервуар воздуха прежде окончательного погружения? И сколь очевидно при этом, что именно необходимость регулярно показываться на поверхности подвергает кита смертельным опасностям охоты. Ибо ни крюк, ни сеть не могут изловить левиафана, когда тот плавает в тысячесаженной дали от солнечного света. Так что победу тебе приносит не столько твоё искусство, о китобой, сколько сама жестокая необходимость.
У человека дыхание совершается непрерывно – один вдох обслуживает лишь два-три удара сердца; так что какие бы дела и заботы его ни одолевали, спит ли он или бодрствует, всё равно ему приходится дышать, иначе его ждёт неизбежная гибель. А кашалот дышит только одну седьмую срока своей жизни – лишь воскресенье своей жизненной недели.
Выше уже говорилось, что кит дышит только через дыхало; если теперь в полном соответствии с истиной прибавить, что выдыхаемый им воздух смешан с водой, тогда, на мой взгляд, мы получим удовлетворительное объяснение тому факту, что у кита потеряно обоняние; ведь единственное, что хоть отдалённо напоминает у кита нос, это именно дыхало; а оно до такой степени забито у него этими двумя стихиями, что нечего и ожидать в нём чувствительности к запахам. Но вот что касается самой загадки китового фонтана – состоит ли он из воды или же из пара, – по этому вопросу полной ясности ещё получить не удалось. Определённо можно утверждать только, что органов обоняния у кашалота нет. Да и зачем они ему? В море нет ни роз, ни фиалок, ни туалетной воды.
Далее. Поскольку дыхательное горло соединено у него с каналом дыхала и поскольку этот длинный канал – наподобие великого канала Эри – имеет целый ряд шлюзов (открывающихся и закрывающихся), для того чтобы задерживать поступающий снизу воздух или отключать напирающую сверху воду, – в силу всего этого голоса у кита нет; если, конечно, не прибегать к оскорбительному для него предположению, будто, испуская своё странное гудение, он просто говорит в нос. Но опять же, о чём киту разговаривать? Редко случалось мне встречать обитателя глубин, у которого было бы что сказать миру, разве только приходится ему бормотать что-нибудь невнятное, чтобы заработать на кусок хлеба. Ещё слава богу, что этот мир готов так терпеливо слушать!
Дыхательный канал кашалота, предназначенный по преимуществу для проведения воздуха, расположен горизонтально, он тянется на несколько футов вдоль головы у самой поверхности, но не посредине, а чуть к одному боку; удивительный этот канал очень сильно напоминает трубу газопровода, уложенную по одной стороне городской улицы. Но тут вновь возникает вопрос, является ли этот газопровод в то же время и водопроводом; иначе говоря, является ли фонтан кашалота просто паром от его дыхания, или же выдыхаемый воздух смешивается у него с водою, которую он вбирает через рот и выливает через дыхало. Установлено, что рот кита косвенным образом сообщается с дыхалом, но доказать, что эта связь служит для выпускания воды, невозможно. Ведь, казалось бы, киту больше всего нужно бывает выпускать воду во время кормления, когда он вбирает её вместе с пищей. Но пища кашалота находится глубоко на дне морском и оттуда он даже при всём желании не смог бы пускать фонтаны. К тому же, если вы внимательно к нему присмотритесь и с часами в руках проследите за его поведением, вы увидите, что у непотревоженного кашалота существует твёрдое соответствие между частотой фонтанирования и нормальной частотой дыхания.
Но к чему все эти мудрствования и разглагольствования? Выскажись прямо! Ты видел китовые фонтаны, вот и скажи нам, из чего они состоят; разве ты не можешь отличить воду от воздуха? – Мой дорогой сэр, в этом мире не так-то легко разрешаются даже простейшие проблемы. Я всегда считал, что простейшие проблемы, они и есть самые мудрёные. Что же до китового фонтана, то вы можете выкупаться под ним, как под душем, и всё-таки не понять, что именно он собой представляет.
Центральная струя китового фонтана окутана сверкающей белоснежной пеленой брызг; вот и попробуй определи, падает ли из-за неё вода, если всякий раз, как ты приближаешься к киту настолько близко, чтобы виден был как следует его фонтан, животное приходит в страшное волнение и начинает биться, так что целые каскады воды взлетают и обрушиваются вокруг него. И если в такие мгновения вам покажется, что вы и в самом деле различили в белой струе отдельные капли влаги, откуда вы знаете, что это не сконденсированный пар его дыхания? а может быть, это капли влаги, проникшие с поверхности в отверстие дыхала, расположенное на самой китовой макушке? Ведь даже во время штиля, безмятежно плавая по полуденному морю и вздымая кверху свой высушенный солнцем горб, словно горб дромадера над песками пустыни, кашалот неизменно несёт у себя на голове небольшую лужицу воды в дыхале, подобно тому как на скалах, даже в палящий зной, можно найти порой углубление, до краёв заполненное дождевой водой.
Да и неосмотрительно это со стороны охотников слишком уж упорствовать в своём любопытстве относительно природы китового фонтана. Не стоит им чересчур близко к нему присматриваться и совать в него нос. К этому фонтану не подойдёшь с кувшином, чтобы, наполнив до краёв, унести с собой. Ведь стоит только наружной, туманной оболочке фонтана слегка коснуться вашей кожи, что нередко случается во время охоты, и у вас возникает нестерпимое жжение, вызванное этим едким веществом. А я знал одного человека, который подобрался к струе фонтана ещё ближе, с научной ли, с иной ли какой целью, не смогу сказать, но только у него со щеки и с руки от плеча слезла вся кожа. По всему по этому китоловы считают китовый фонтан ядовитым; они предпочитают обходить его стороной. Мало того, я слышал и не вижу причин сомневаться, что струя фонтана, угодившая человеку в глаза, вызывает слепоту. Вот почему, думается мне, самое разумное, что может сделать исследователь, это оставить подобру-поздорову упомянутую смертоносную струю.
Однако, даже если доказательства и утверждения не в нашей власти, мы всё-таки можем ещё оперировать гипотезами. Так вот, моя гипотеза такова: китовый фонтан – это один пар. К подобному заключению меня, помимо всего прочего, привела мысль о величии и достоинстве, присущих кашалоту; я рассматриваю его не как какое-нибудь там заурядное, мелководное существо, ведь непреложно установлено, что в отличие от остальных китов он никогда не встречается на отмелях и у побережий. Он в одно и то же время и возвышен, и глубок. А я убеждён, что из головы каждого, кто возвышен и глубок, будь то Платон, Пиррон[260], Дьявол, Юпитер, Данте или ещё кто-нибудь в этом роде, всегда исходит некий полувидимый пар – знак того, что там бродят их глубокомудрые мысли.
Однажды, занявшись сочинением небольшого трактата о Вечности, я любопытства ради поставил перед собой зеркало; каково же было моё изумление, когда я увидел у себя над головой непонятное струение и колебание атмосферы. А влажность моих волос при глубокомысленных занятиях после шести чашек горячего чая под тонкой дранковой крышей моей мансарды жарким летним полднем – всё это служит только лишним доказательством в пользу моего предположения.
А как возвеличивает оно наши представления о могучем, туманном чудовище, гордо плывущем по безмятежному лону тропических вод и несущем над своей громадной обтекаемой головой балдахин белого пара, порождённого его непередаваемыми мыслями! да ещё пар этот (так нередко бывает) украшен сиянием радуги, будто это само Небо приложило свою печать к его размышлениям. Ибо радуги, понимаете ли, они не снисходят в чистый воздух; они пронизывают своим свечением только пары и туманы. Так сквозь густой туман моих смутных сомнений то здесь, то там проглядывает в моём сознании божественное наитие, воспламеняя мглу небесным лучом. И за это я благодарен богу, ибо у всех бывают сомнения, многие умеют отрицать, но мало кто, сомневаясь и отрицая, знает ещё и наитие. Сомнение во всех истинах земных и знание по наитию кое-каких истин небесных – такая комбинация не приводит ни к вере, ни к неверию, но учит человека одинаково уважать и то и другое.
Глава LXXXVI. Хвост
Другие поэты щебечут хвалу кроткому оку антилопы или прекрасному оперению вечно порхающей птички; не столь возвышенный, я воспеваю хвост.
Если учесть, что хвост самого большого из кашалотов начинается в том месте, где туловище сужается у него до размеров человеческого тела, то площадь хвоста только с верхней стороны окажется равной по меньшей мере пятидесяти квадратным футам. Его плотный круглый ствол раздваивается затем на широкие, сильные плоские лопасти хвостового плавника, которые постепенно утончаются до одного дюйма в разрезе. На развилине эти лопасти слегка находят одна на другую, а затем расходятся друг от друга в стороны, точно крылья, образуя посредине широкий промежуток. И ни в одном живом существе не найти вам линий столь совершенной красоты, как в изогнутых внутренних гранях этих лопастей. У взрослого кита хвост в самом широком месте значительно превосходит двадцать футов в поперечнике.
Вся эта конечность с первого взгляда представляется тугим сплетением густо перепутанных сухожилий; но разрубите хвост, и вы обнаружите, что он состоит из трёх отчётливо выраженных слоёв: верхнего, среднего и нижнего. В нижнем и верхнем слоях волокна длинные, горизонтальные, а в среднем слое они короткие и расположены поперёк тех, что снаружи. Эта триединая структура придаёт хвосту силы не меньше, чем всё остальное. В глазах археолога описываемый средний слой составит забавную параллель тонкой черепичной прослойке, чередующейся в древнеримских стенах с камнями и, несомненно, придающей прочность старинной кладке.
Но словно не довольствуясь этой силищей в жилистом хвосте левиафана, природа оплела и окутала его туловище замысловатой сетью мускульных волокон и нитей, которые, проходя по обе стороны подбрюшья, тянутся к лопастям и, неотторжимо переплетаясь с их тканью, придают им добавочную мощь; так что вся безмерная сила кита как бы слилась и сосредоточилась у него в хвосте. Если бы мирозданию предстояло рухнуть – именно этот хвост мог бы стать орудием его уничтожения.
Но не подумайте, что такая удивительная силища препятствует изящной гибкости движений; почти детская лёгкость проглядывает в этом титанизме мощи. Более того, движения приобретают благодаря ей особую, подавляющую красоту. Подлинная сила никогда не мешает красоте и гармонии, она сама нередко порождает их; во всём, что ни есть прекрасного на свете, сила сродни волшебству. Уберите узлы сухожилий, что выпирают по всему мраморному торсу Геркулеса, и очарование исчезнет. Когда преданный Эккерман приподнял простыню, которой был накрыт обнажённый труп Гёте, его поразил вид широчайшей грудной клетки, вздымающейся, словно римская триумфальная арка. А вспомните ту массивность, какую придаёт телу Микеланджело, даже когда рисует бога-отца в облике человека. И сколько божественной любви ни выражал бы нежный, округлый, гермафродический образ сына на итальянских полотнах, где полнее всего воплощена его идея, изображения эти, лишённые каких бы то ни было признаков силы, говорят лишь о той отрицательной, женственной силе покорности и долготерпения, которая для всякого, на кого она снисходит, составляет отличительную черту его учения.
Утончённая гибкость органа, о котором я веду здесь речь, столь замечательна, что, ударяя по воде, для забавы ли, для дела, или же в приступе ярости, он всегда изгибается с неизменным, удивительным изяществом. Ручка маленькой феи не превзойдёт его грациозностью.
Ему присущи пять основных движений. Первое – когда он действует как плавник, для того чтобы двигаться вперёд; второе – когда он действует как булава во время боя; третье – при поворотах из стороны в сторону; четвёртое – при вскидывании; пятое – при отвесном вздымании бабочки лопастей.
Первое. Горизонтальный по своему положению хвост левиафана действует отлично от хвостов других морских тварей. Он никогда не виляет. Виляние – у человека ли, у рыбы ли – есть признак слабости. Для кита его хвост – единственное орудие продвижения вперёд. Он то скручивается под брюхом, то вдруг быстро распрямляется, и это придаёт киту своеобразное молниеносное движение рывками, с какими плывёт чудовище на полной скорости. А боковые плавники служат ему лишь рулями.
Второе. Интересно отметить, что кашалоты, пуская в ход при сражениях с себе подобными только лоб и челюсть, в своих столкновениях с человеком по большей части пользуются в знак величайшего презрения хвостом. Нападая на вельбот, кит внезапно загибает над ним хвост, который, распрямляясь, и наносит удар. И если в воздухе ему ничего не помешает, и если он обрушится на свою цель, то удар такой будет неотразим. Ни рёбра человека, ни шпангоуты вельбота не выдержат его. Единственное спасение – уклониться от удара; а если он настигнет вас сбоку, скользнув сначала по воде, тогда благодаря высокой плавучести китобойных вельботов и упругости материалов, из которых их изготовляют, в худшем случае удаётся чаще всего отделаться трещиной в шпангоуте, двумя-тремя вышибленными досками да небольшим колотьём в боку. Такие подводные боковые удары настолько часты на промысле, что это, можно сказать, просто детские игрушки. Только скинет кто-нибудь куртку, вот и заткнута пробоина.
Третье. Я не могу доказать этого, но, на мой взгляд, осязание у кита сосредоточено в хвосте, ибо ему свойственна такая высокая чувствительность, с какой может сравниться лишь чувствительность слоновьего хобота. Это свойство особенно наглядно проявляется при боковом движении хвоста, когда кит с чисто девическим изяществом медленно и осторожно поводит из стороны в сторону по поверхности моря колоссальной бабочкой хвостовых лопастей, и если ему попадётся при этом хотя бы ус матросский, то горе тому матросу, с его усами и со всеми потрохами. А сколько нежности в этом предварительном прикосновении! Будь у его хвоста хватательная способность, мне бы непременно припомнился слон Дармонода, который столь часто посещал цветочные базары и, с нижайшими поклонами поднося дамам бутоньерки, нежно ласкал хоботом их талии[261]. Да, по многим причинам жаль, что хвост кита лишён хватательной способности; я вот слышал ещё об одном слоне, который, будучи ранен в сражении, закинул назад хобот и вытащил стрелу.
Четвёртое. Подобравшись к киту незаметно по мнимой безмятежности пустынного морского лона, вы можете застать его, когда он, презрев всю тяжеловесность своего величия, резвится в океане, словно котёнок перед очагом. Но и в игре его видна сила. Широкие лопасти хвоста то взлетают высоко в воздух, то обрушиваются на воду, и на мили вокруг раздаётся оглушительный гул. Подумать можно, что это стреляют из большой пушки; а если вы заметите венчик пара над дыхалом на другом конце его туловища, вам покажется, что это дымит дуло выпалившего орудия.
Пятое. Поскольку у плывущего в обычном положении левиафана хвостовые лопасти погружены значительно глубже уровня его спины, их поэтому совершенно не видно с поверхности. Но готовясь нырнуть в глубину, он вздымает отвесно над водой хвостовой плавник вместе с тридцатью футами туловища, тот трепещет мгновение в воздухе, а затем стрелой уходит вниз. Не считая божественного «выпрыгивания» – о котором речь ещё впереди, – это, думается мне, одно из самых величественных зрелищ, какие можно встретить в живой природе. Гигантский хвост, воздвигнувшись из бездонных глубин, как бы рвётся судорожно ввысь, к небесам. Так во сне случалось мне видеть величавого Сатану, протягивающего из пламенной пучины преисподней свою огромную когтистую лапу. Но при созерцании подобных сцен всё в конечном счёте зависит от вашего настроения; если вы расположены на дантовский лад, вам будут мерещиться черти; если на исайевский, тогда архангелы. Стоя однажды утреннюю вахту на мачте нашего корабля, когда рассвет заливал алыми лучами небо и воды, я увидел на востоке большое стадо китов; они быстро уходили навстречу Солнцу и вдруг разом – словно сговорились – взметнули к небу бабочки хвостов. И мне подумалось, что никогда ещё не видел мир столь грандиозной картины поклонения богам, даже в Персии, этой родине огнепоклонников. И как Птолемей Филопатор[262] свидетельствовал в пользу африканского слона, так и я торжественно заявляю, что кит – самое набожное из земных существ. Ведь вот пишет про древних боевых слонов царь Юба[263], что они часто приветствовали наступление утра, в глубочайшем молчании поднявши хоботы к небесам.
Случайное сопоставление между китом и слоном в связи с некоторым своеобразием хвоста у одного и хобота у другого не должно восприниматься как попытка приравнять эти противоположные органы друг к другу и, ещё менее того, как попытка приравнять друг к другу животных, которым они принадлежат. Ибо как величайший из слонов – не более чем маленький терьер в сравнении с левиафаном, так и хобот его – всего лишь стебелёк лилии рядом с левиафановым хвостом. Самый свирепый удар слоновьего хобота покажется игривым прикосновением дамского веера в сравнении с оглушительным треском и громом сокрушительных хвостовых лопастей кашалота, которые не однажды подбрасывали в воздух один за другим целые вельботы вместе с вёслами и гребцами совершенно так же, как индусский факир бросает вверх мячи[264].
Чем больше думаю я о могучем китовом хвосте, тем горше я сетую на своё неумение живописать его. Подчас ему свойственны жесты, которых не постыдилась бы и человеческая рука, хотя значение их и остаётся неразгаданным. В большом стаде эти таинственные жесты бывают порой настолько очевидны, что китоловы, как я слышал, считают их сродни масонским знакам или символам; они полагают, что таким способом кит вполне сознательно беседует с внешним миром. Да и телу кита тоже свойственны самые необъяснимые движения, загадочные даже для наиболее опытных охотников. И как бы я ни расчленял его тушу, я всё равно остаюсь на поверхности; я не знаю его и не узнаю никогда. Но если я не знаю даже его хвоста, то куда уж мне уразуметь его голову! и, тем более, как мне понять его лицо, если у него вообще нет лица? Ты увидишь мою спину и мой хвост, словно говорит он, но лица моего тебе не увидеть. Но я и в спине-то его толком не могу разобраться; а что бы он там ни намекал насчёт лица, я ещё раз повторяю, что лица у него нет.
Глава LXXXVII. Великая армада
Длинный и узкий полуостров Малакка, выступая на юго-восток от территории Бирмы, достигает самой южной точки во всей Азии. А от этого полуострова непрерывной цепью тянутся длинные острова Суматра, Ява, Бали и Тимор, которые, вместе со многими другими, образуют огромную дамбу или вытянутый мол, соединяющий Азию с Австралией и отделяющий пустынный Индийский океан от тесно нанизанных восточных архипелагов. Мол этот для удобства китов и кораблей в нескольких местах перерезан воротами, из которых наиболее примечательными являются проливы Зондский и Малаккский. По Зондскому проливу, например, суда, направляющиеся с запада в Китай, проходят в воды китайских морей.
Узкий Зондский пролив отделяет Суматру от Явы; он находится как раз посредине гигантской островной дамбы, укреплённой круглым зелёным мысом, который известен среди моряков под названием Яванского Лбища. Этот пролив в немалой степени напоминает центральные ворота, ведущие внутрь обширной обнесённой стенами империи; а если вспомнить о несметных богатствах: пряностях, шелках, драгоценных камнях, золоте и слоновой кости, – какими изобилуют тысячи островков этих восточных морей, то становится очевидным, что со стороны природы было вовсе не так уж неразумно, сотворяя землю, окружить все эти сокровища хотя бы некоторым подобием ограды для защиты от загребущих рук западного мира. Берегов Зондского пролива не украшают неприступные крепости, какие стерегут входы в Средиземное море, в Балтику и Пропонтиду[265]. Не в пример датчанам, люди Востока не требуют, чтобы им раболепно кланялись спущенными марселями бессчётные процессии плывущих по ветру кораблей, которые вот уж сколько столетий денно и нощно проходят между Суматрой и Явой, нагруженные драгоценнейшими дарами Востока. Но, пренебрегая никчёмными церемониями, они отнюдь не отказываются от более существенных воздаяний. С незапамятных времён прячутся пиратские «прао»[266] малайцев среди бухточек и островков у побережья Суматры, чтобы вырваться вдруг наперерез судам, идущим по проливу, и с копьями наперевес потребовать своей доли. И хотя благодаря многократным кровавым расправам, какие учиняли над ними европейские мореплаватели, отваги у корсаров поубавилось, всё же и по сей день мы слышим о том, как английское или американское судно было безжалостно взято на абордаж и ограблено в этих водах.
Со свежим попутным ветром «Пекод» приближался к проливу; Ахав был намерен пройти по нему в Яванское море, а оттуда, держа курс на север, проплыть через те области, где, по слухам, появляются изредка кашалоты, затем проскользнуть вдоль самых филиппинских берегов и очутиться к востоку от побережья Японии как раз к началу большого сезона. Таким образом, завершая своё кругосветное плавание, «Пекод» успел бы посетить все известные промысловые районы, прежде чем спуститься к экватору в Тихом океане; Ахав, чьи поиски до сих пор нигде ни к чему ещё не привели, твёрдо рассчитывал дать бой Моби Дику именно в тех водах, которые тот, как было известно, чаще всего посещал, и в то время года, когда, как можно было предполагать, ему именно там и надлежало быть.
Но как же так? Неужели, упорно выслеживая свою жертву, Ахав нигде не пристаёт к берегу? Или его команда утоляет жажду воздухом? Уж за водой-то он, наверное, заходит. Но нет. Вот уже сколько времени бежит, как по арене цирка, солнце по своему огненному кругу, и не надо ему иной пищи, кроме той, что содержится в нём самом. Так и Ахав. Заметьте эту особенность китобойца. В то время как другие суда несут в трюмах чуждые им товары, чтобы выгрузить их в дальнем порту, бредущий по белу свету китобоец не имеет на борту иного груза, кроме себя самого да своего экипажа вместе с его оружием и его нуждами. В его просторном трюме плещется целое озеро, разлитое по бочонкам. И балластом ему служит всевозможная утварь, а не бесполезные свинцовые да железные чушки. Он несёт с собой годовой запас воды. Великолепной прозрачной доброй нантакетской воды, которая, даже пробыв три года в трюме китобойца, кажется в Тихом океане моряку из Нантакета вкуснее той солоноватой жидкости, что только вчера доставлена в шлюпках из речек Перу или Вест-Индии. Вот почему, хотя другие корабли, идя из Нью-Йорка в Китай и обратно, заходят по дороге в десяток-другой портов, китобоец за такое же время, быть может, не увидит ни крупицы земли; а его команда разве лишь встретит где-нибудь случайно таких же плавучих путешественников, как и они сами. Так что если вы принесёте им известие о наступлении нового потопа, они только скажут на это: «Ну, что ж, ребята, вот у нас и ковчег!»
У западных берегов Явы, в непосредственной близости от Зондского пролива было выловлено, как известно, большое количество кашалотов, весь этот район считается у китобоев отличным местом для ведения промысла; вот почему, по мере того как «Пекод» приближался к Яванскому Лбищу, дозорных всё чаще окликали с палубы, чтобы они пристальнее следили за горизонтом. Но вот уже зелёные, поросшие пальмами уступы показались справа по носу, уже жадные ноздри ловят в воздухе свежий аромат корицы, а ни единого фонтана не видно на горизонте. И только когда, уже оставив всякую надежду на встречу с китами, судно готовилось войти в пролив, сверху раздался привычный торжествующий клич, и вскоре нам открылось на редкость величественное зрелище.
Но здесь необходимо заметить, что из-за неустанного уничтожения, какому подвергают в последнее время люди кашалотов по всем четырём океанам, эти животные, вместо того чтобы плавать, как было встарь, разрозненными небольшими группами, чаще всего встречаются теперь обширными стадами, насчитывающими подчас столь огромное число голов, что кажется, будто это целые нации заключили торжественное соглашение и пакт о взаимной защите и поддержке. Именно этот обычай кашалотов собираться в огромные караваны и служит, возможно, причиной тому, что иной раз даже в промысловых районах плывёшь несколько недель, а то и месяцев подряд и не встретишь ни одного фонтана; а потом вдруг тебе откроется салют из тысяч и тысяч бьющих струй.
В отдалении справа и слева по носу милях в двух или трёх от корабля, образуя широкий полукруг, охватывающий полгоризонта, непрерывной цепью играли и искрились в полуденном воздухе тысячи китовых фонтанов. В то время как строго вертикальный двойной фонтан настоящего кита падает вниз, раздваиваясь наверху двумя потоками, подобно расщеплённой кроне плакучей ивы, одиночный, направленный вперёд фонтан кашалота представляет собой кустистый сгусток белого пара, то и дело взлетающий в воздух и опадающий в подветренную сторону.
С палубы «Пекода», поднятого на высокий гребень водяного холма, этот лес туманных струй, здесь и там взлетающих к небу, казался сквозь голубоватое марево множеством отрадных дымков над большим городом, какой ясным осенним утром открывается всаднику с горного перевала.
Подобно тому как наступающая армия, идя на приступ вражеской крепости по горному ущелью, стремится, ускорив марш, оставить позади опасный переход и вновь раскинуться по безопасной равнине, так и грандиозная флотилия китов спешила пройти пролив, исподволь подтягивая фланги и продолжая свой путь сплочённым, но по-прежнему полукруглым строем.
И вот, расправив все паруса, «Пекод» устремился за ними, а гарпунщики потрясали своим оружием и громко кричали, стоя в ещё не спущенных вельботах. Только бы удержался ветер, а тогда уж можно было не сомневаться, что, пройдя проливы, огромное китовое войско развернётся по водам Восточных морей только затем, чтобы лучше видеть, как будут вырваны многие из их рядов. И кто знает, быть может, сам Моби Дик плавает в этом обширном караване, словно священный белый слон в сиамской коронационной процессии?! И вот, взгромоздив лисели на лисели, мы устремились вперёд, гоня перед собой левиафанов; как вдруг раздался голос Тэштиго, громко призывавшего наше внимание к чему-то у нас за кормой.
Как бы повторяя полукруг впереди нас, второй полукруг появился позади корабля. Его образовывали отдельные столбики белых брызг, то выраставшие, то падавшие, подобно китовым фонтанам; только окончательно они не исчезали, а лишь опадали, чтобы подняться снова. Направив на них трубу, Ахав быстро повернулся на своей костяной ноге и воскликнул: «Эй, на марсе! Готовить горденя для вёдер, чтобы мочить паруса. Это малайцы, они идут на нас!»
Словно навёрстывая время, упущенное в слишком долгом ожидании за мысом, покуда «Пекод» не войдёт наконец в пролив, эти злобные азиаты бросились теперь в погоню, забыв о всякой осторожности. Но ведь «Пекод» и сам мчался в погоню за китами, несомый свежим попутным ветром; и как любезно было со стороны темнокожих филантропов подгонять его, торопить к его собственной цели – словно это были не лодки, а хлысты да шпоры. И когда с подзорной трубой под мышкой Ахав прохаживался взад и вперёд по палубе, то глядя на животных, за которыми он гнался, то оборачиваясь и разглядывая кровожадных пиратов, которые гнались за ним, именно так и думалось ему. А когда он взглядывал на зелёные стены водного прохода, по которому шёл корабль, и вспоминал о том, что здесь пролегла его дорога к отмщению, и думал, что сквозь эти ворота он спешит сейчас, одновременно и дичь и охотник, к смертельному концу, а сзади его погоняют дикие свирепые пираты и жуткие дьяволы безбожия, спешащие вслед за ним, – когда все эти мысли промелькнули у него в сознании, чело Ахава помрачнело и покрылось бороздами, точно песчаный берег после того, как бурный прилив напрасно изглодал его, не в силах сдвинуть то, что стояло прочно.
Но мало кого в нашей непутёвой команде тревожили подобные мысли; и когда, оставляя пиратов позади, «Пекод» наконец вылетел, обогнув мыс Какаду, в открытое море, гарпунёры больше сетовали на то, что проворные киты всё дальше уходили от погони, чем радовались своему благополучному спасению от малайцев. «Пекод» по-прежнему мчался вслед за китами, которые наконец-то начали понемногу сбавлять скорость; судно постепенно настигало их; ветер стал спадать; и был дан приказ спускать вельботы. Но как только киты по какому-то удивительному инстинкту, присущему, как полагают, кашалотам, учуяли приближение трёх лодок – хотя ещё добрая миля разделяла их, – они тотчас же вновь сплотили свои ряды, выстроившись шеренгами и батальонами, так что фонтаны их казались сверкающими на солнце примкнутыми штыками, и с удвоенной скоростью устремились вперёд.
Сбросив с себя одежду, в одних нижних рубашках, мы что было сил навалились на вёсла и после нескольких часов отчаянной гонки готовы были уже отказаться от преследования, как вдруг всеобщее смятение в рядах китов показало нам, что у них наступил наконец тот необъяснимый припадок пассивной нерешительности, заметив который, китоловы говорят, что кит «обомлел». Сомкнутая боевая колонна, в какой они только что так быстро и уверенно плыли, теперь была растянута бесконечной вереницей, и казалось, что киты, подобно боевым слонам индийского царя Пора во время битвы с Александром, готовы взбеситься от страха. Расходясь друг от друга во все стороны, они здесь и там описывали большие круги или плыли бесцельно в разных направлениях, пуская низкие толстые фонтаны – признак полного смятения и паники. Особенно же это загадочное смятение заметно было у тех китов, которые, подобно полузатопленным корабельным остовам, качались как парализованные на поверхности моря. Будь то не левиафаны, а просто стадо овец, преследуемых на пастбище тремя волками, и тогда бы испуг их не мог быть больше. Но такие приступы робости свойственны почти всем стадным животным. Львиногривые бизоны Запада, кочующие стадами в десятки тысяч голов, могут пуститься в бегство, столкнувшись с одиноким всадником. Или, например, люди: посмотрите, как, собранные в загон театрального партера, они при малейшем упоминании о возможном пожаре бросаются очертя голову к выходам и теснятся, давят, душат, безжалостно топчут друг друга. Так что лучше уж воздержаться от недоуменных восклицаний по поводу беспричинного страха у китов – ведь как бы неразумно ни вели себя животные, человек всех неизмеримо превосходит своим безумием.
Несмотря на то, что многие из китов по-прежнему были в движении, необходимо пояснить, что всё стадо целиком не двигалось ни взад, ни вперёд, оставаясь на одном месте. Вельботы, как полагается в подобных случаях, сразу же разделились, и каждый, выбрав себе одного какого-нибудь кита на краю стада, устремился к нему. Не прошло и трёх минут, как уже Квикег забросил гарпун; подбитая рыба обдала нас слепящей струёй пены и, обратившись в бегство, с быстротой молнии поволокла нас к центру стада. И хотя подобная тактика у кита, подбитого в описанных условиях, – вещь вполне закономерная, и чего-нибудь в таком духе всегда следует ожидать, с этим связаны тем не менее наиболее жестокие превратности китобойной судьбы. Ибо, когда обезумевшее чудовище влечёт вас в середину охваченного смятением стада, вам остаётся только распрощаться с белым светом и сидеть дрожать от беспредельного страха.
Кит, ослепший и оглохший, мчался вперёд, словно хотел силой своей скорости избавиться от железной пиявки, вцепившейся ему в спину; и мы, раздирая белой бороздой морское лоно, летели за ним, то и дело рискуя столкнуться с обезумевшими животными, метавшимися вокруг нас; наша лодка напоминала корабль, затёртый льдами во время шторма и пробирающийся между ними по запутанным ходам и каналам, ожидая каждую минуту, что ледяные поля сомкнутся и раздавят его.
Но Квикег, ничуть не растерявшись, мужественно правил вельботом, то обходя одно чудовище, всплывшее прямо у нас по курсу, то увёртываясь от другого, чей гигантский хвост вдруг повис у нас над головами; а Старбек всё это время стоял на носу с острогой в руке, отгоняя остриём тех китов, каких мог достать, но не зашвыривая её далеко. Да и гребцы не сидели без дела, хоть обстоятельства и освободили их покамест от их прямых обязанностей. На их долю приходилась шумовая сторона дела. «Эй, с дороги, коммодор!» – кричал один из нас огромному дромадеру, который вдруг всплыл на поверхность, грозя потопить нас. «А ну, опусти хвост, слышишь?» – кричали другому, который, словно веером, спокойно помахивал своей оконечностью у самого нашего борта.
В каждом вельботе обязательно есть весьма хитроумное приспособление, изобретённое некогда индейцами с Нантакета и носящее название «волокуши». Она состоит из двух толстых деревянных брусьев прямоугольной формы и одинаковых размеров, крепко сбитых крест-накрест; в середине к ней прикрепляется довольно длинная верёвка с петлёй на конце, и к ней можно легко и быстро привязать гарпун. Употребляется «волокуша» большей частью для охоты среди стада объятых страхом китов. Потому что здесь они окружают вас в таком количестве, что перебить их всех всё равно невозможно. А ведь кашалоты встречаются не каждый день; так что тут нужно бить, не упуская ни одного благоприятного случая. И если вы не можете перебить их всех одновременно, тогда нужно подрезать им крылышки, чтобы потом прикончить на досуге. Вот тут-то и пускают в ход «волокуши». В нашем вельботе их было три. Первая и вторая были уже за бортом, и мы сами видели двух китов, с трудом уходивших прочь, едва волоча за собой сбоку на верёвке наши «волокуши». Киты были скованы в своих движениях, словно колодники, на которых надеты кандалы с ядром. Но когда мы выбрасывали третью «волокушу», тяжёлая деревянная крестовина, вылетая за борт, зацепила за банку вельбота, в одно мгновение вырвала её прямо из-под сидящего гребца и увлекла за собой, оставив его распростёртым на дне лодки. Море тут же хлынуло с обеих сторон в свежие раны бортов, но мы заткнули дыры, сунув туда по нескольку рубах и штанов, и на время остановили течь.
Нам ни за что не удалось бы зашвырнуть эти три гарпуна с «волокушами», если бы только тянувший нас на лине кит не сбавил так заметно скорость, пробираясь в гущу стада; более того, по мере нашего продвижения к середине стада безумная сутолока и ужасная суматоха, царившие по краям, постепенно стихали. Наконец от постоянных рывков гарпун выдернулся, и тащивший нас кит, бросившись в сторону, исчез из виду; и покуда сходила на нет скорость вельбота, полученная с прощальным рывком, мы, скользя, прошли между двумя китами прямо в самый центр стаи, точно по горному потоку спустились в спокойное длинное озеро. Отсюда бури, бушующие в узких теснинах между китами на краю стада, были только слышны, но уже не чувствовались. Море здесь представляло собою как бы шелковистый атласный лоскут; это было «масло» – гладкий участок морской поверхности, образованный нежной жидкостью, которую выпускают в воду киты в минуты безмятежного покоя. Да, да, мы оказались среди той самой волшебной тишины, какая таится, как говорят, в сердце всякой бури. А из отдаления, с внешних концентрических кругов, к нам ещё доносился оглушительный грохот и видно было, как киты небольшими стаями по восемь-десять голов проносились по кругу, точно цирковые лошади по арене; они мчались бок о бок, так тесно прижавшись один к другому, что, казалось, какой-нибудь великан наездник мог бы без труда прокатиться на них, поставив ноги на спины двум животным в середине упряжки. А здесь, у сокрытой оси вращающегося стада, киты отдыхали, лёжа так тесно друг подле друга, что у нас покуда не было ни малейшей возможности выбраться на свободу. Нужно было искать просвет в этой живой стене, что окружала нас; в этой стене, что пропустила наш вельбот внутрь только затем, чтобы снова сомкнуться и оставить нас в заточении. А пока мы держались у середины озера, и к нам подплывали время от времени лишь сравнительно мелкие и смирные матки да телята – женщины и дети в обозе этого раскинувшегося войска.
Вся площадь, занимаемая огромным стадом, включая широкие интервалы между вращающимися внешними кругами и включая расстояние между отдельными стаями китов, кружащимися там, составляла, должно быть, по меньшей мере три квадратных мили. Во всяком случае – хотя, конечно, подобное мерило в таких условиях и могло быть обманчивым – из нашей низкой лодки казалось, что фонтаны пляшут повсюду до самого горизонта. Я специально упоминаю об этом, потому что матки и телята были словно нарочно замкнуты в этом внутреннем загоне; можно было подумать, что огромные размеры раскинувшегося стада позволяли скрывать от них подлинную причину остановки; или же, быть может, по своей молодости и неискушённости, будучи неопытны и невинны во всех отношениях, эти маленькие киты, – оставлявшие по временам окраины озера, чтобы навестить нашу неподвижную лодку, – именно поэтому обнаруживали удивительное бесстрашие и спокойствие, а может быть, ими двигал подавленный страх, но так или иначе, их поведению нельзя было не удивляться. Словно дворовые собаки, обнюхивали они нас, подходя чуть не к самому борту и задевая лодку боками; казалось, будто какие-то чары приручили их. Квикег гладил их по головке, Старбек почёсывал им острогой спины, но, опасаясь последствий, не решался покамест вонзить её.
А в глубине под этим безмятежным миром нашим глазам, когда мы заглядывали за борт, открывался иной мир, ещё более странный и удивительный. Там, повиснув под текучими сводами, плавали кормящие матери-китихи и другие, кому, судя по их грандиозным талиям, в скором времени предстояло стать матерями. Озеро, по которому мы скользили, было, как я уже заметил выше, чрезвычайно прозрачным на большую глубину; и подобно тому как человеческий младенец, сосущий материнскую грудь, глядит спокойным, ровным взглядом куда-то в сторону, словно в одно и то же время живёт двумя разными жизнями, и, впивая пищу земную, пирует ещё и духовно, вкушая неземные воспоминания, так и те юные китята, казалось, глядели в нашу сторону, но не видели нас, словно их новорождённому взору мы представлялись лишь пучками бурых водорослей. Да и матери тоже спокойно разглядывали нас, повернувшись набок. Один из этих крошечных младенцев, которому, насколько мы могли судить по неким особым признакам, было не более одного дня от роду, имел в длину около четырнадцати футов и примерно шесть футов в обхвате. Он был настроен довольно шаловливо, хотя тело его едва только успело расправиться из того крайне неудобного положения, какое он ещё совсем недавно занимал в материнской утробе, где неродившийся кит лежит, подвернув хвост к голове, готовый к решительному прыжку, напряжённый, как натянутый монгольский лук. Его нежные боковые плавники и лопасти хвоста всё ещё сохраняли помятый, морщинистый вид, каким отличаются ушки младенца, только что прибывшего из чужих стран.
– Линь! Линь! – вдруг закричал Квикег, перегнувшись за борт. – Загарпунило! Кто брала на линь? Кто гарпун метала? Сразу два кит; один большая, другой маленькая!
– Да что с тобой, парень? – изумился Старбек.
– Твоя туда гляди! – ответил Квикег, указывая рукой вниз. И как случается, когда подбитый кит, вытянув из бочонка сотни саженей линя, снова всплывает на поверхность, пробыв положенное время в глубине, и вслед за ним показываются из воды ослабнувшие верёвочные спирали, так и теперь Старбек увидел свободные петли пуповины мадам Левиафан, всё ещё, казалось, приковывающие молодого телёнка к матери. Нередко во время отчаянной охоты этот естественный линь своим свободным материнским концом переплетается с пеньковым линём, и таким образом, телёнок тоже оказывается пойманным. Самые непостижимые тайны моря открывались нам в этом заколдованном пруду. Мы видели, как в глубине предаются любви молодые левиафаны[267].
Так, окружённые кольцами ужаса и смятения, спокойно и бесстрашно предавались эти загадочные создания в центре круга всевозможным мирным занятиям, безмятежно наслаждаясь весельем и восторгами любовной игры. Но ведь точно так же и сам я среди бушующей Атлантики моего существа вечно пребываю внутри в немом покое; и в то время как огромные планеты незаходящих бедствий обращаются вокруг меня, там, в самой сокровенной глубине моей души, я всё равно купаюсь в ласковых лучах радости.
Покуда мы так стояли, точно заворожённые, на одном месте, по некоторым признакам в отдалении было заметно, что остальные вельботы, сея смятение, всё ещё орудовали у границ китового войска или, быть может, вели бой в расположении первого круга, там, где им было довольно простору и оставались надёжные пути к отступлению. Но разъярённые киты с «волокушами», проносившиеся время от времени вдалеке и пересекавшие круг за кругом, представляли собой ещё не столь устрашающее зрелище, как то, что открылось нам немного погодя. Обычно, взяв на линь кита, отличающегося особенной силой и ловкостью, китобои стараются «подрезать ему поджилки», то есть изуродовать и изрезать его огромный хвостовой плавник. Для этого в него швыряют фленшерную лопату на короткой рукоятке, с верёвкой, за которую затем, выбирая конец, вытягивают лопату обратно. Один кит, раненный, как мы впоследствии узнали, в хвост, однако не слишком серьёзно, вырвался и бросился прочь от вельбота, унося с собой половину гарпунного линя, и в жестоких мучениях носился теперь между обращающимися кругами, подобно одинокому бесстрашному всаднику Арнольду в битве под Саратогой[268], сея вокруг себя ужас и смятение.
Но как ни мучительна была эта рана и насколько устрашающим ни представлялось в целом это зрелище, однако сильный испуг, которым он, казалось, заражал всё стадо, имел иную причину, поначалу скрытую от нас расстоянием.
Только потом уже мы вдруг увидели, что этот кит по необъяснимой случайности промысла запутался в лине, который он за собой утянул; удирая, он унёс с собой также и фленшерную лопату в хвосте; теперь верёвка, привязанная к ней, зацепилась за гарпунный линь, обмотанный вокруг китового хвоста, а сама лопата понемногу высвободилась у него из тела. И вот, обезумевший от боли, он, взрывая волны, что было сил ударял своим гибким хвостом и размахивал над водою острой лопатой, направо и налево разя и убивая своих товарищей.
Смертоносное это орудие как бы разорвало путы хаотического оцепенения, охватившего всё стадо. Вначале заволновались, сбиваясь в кучи, киты по краям нашего озера, слепо натыкаясь друг на друга, словно подбрасываемые замирающими валами; затем и само озеро стало понемногу волноваться; скрылись из виду подводные брачные и детские покои; и киты на внутренних орбитах задвигались всё более и более тесными стаями. Да, затянувшийся штиль подходил к концу. Скоро послышался негромкий, но всё приближающийся гул; и вот уже целое китовое войско, словно громыхающие льдины на великой реке Гудзон, когда та вскрывается по весне, стали сбиваться в кучу в центре, будто намереваясь нагромоздиться в одну высокую гору. В тот же миг Старбек и Квикег обменялись местами; Старбек взял в руку рулевое весло.
– Вёсла! вёсла! – громким шёпотом приказал он, устроившись на корме. – Крепче держитесь за вёсла и поручите душу господу! А ну, ну, приготовиться! Дай ему, Квикег, хорошенько – вон, вон тому киту! Подколи его! Рази его! Вставай, вставай, не садись! Навались, ребята, рви, жми! Не обращайте на них внимания, пойдём прямо по их спинам! Навались!
К этому времени вельбот оказался почти зажатым между двумя огромными чёрными тушами, скользя по узкому Дарданелльскому проливу между их вытянутыми боками. Но одним отчаянным рывком мы выбрались на мгновение на более открытое место и тут же, резко подавшись в сторону, снова стали напряжённо искать прохода. Побывав несколько раз на волоске от гибели, мы наконец на полной скорости проскользнули туда, где ещё недавно был один из внешних кругов, через который теперь со всех сторон мчались к центру киты за китами. За это счастливое избавление мы заплатили дёшево – была потеряна Квикегова зюйдвестка, которая сама слетела у него с головы, когда он стоял на носу, распугивая встречных китов, и воздушный смерч пронёсся над ним, поднятый ударом огромного хвоста у самого нашего борта.
Как ни беспорядочно, как ни суматошливо было всеобщее движение, оно, однако, вскоре приняло какие-то целесообразные формы; сбившись в одну тесную когорту, киты с удвоенной скоростью возобновили своё бегство. Дальнейшее преследование было бесполезно: но вельботы ещё долго оставались на воде, чтобы подобрать отставших подбитых рыб с «волокушами» и прибуксировать того кита, какого забил и бросил на воде Фласк. Таких китов оставляют под флажком на длинном шесте, которых в каждом вельботе бывает по нескольку штук и которые, если поблизости есть ещё другая дичь, втыкают прямо в плавающую тушу убитого кита как для того, чтобы легче было заметить его издали, так и для того, чтобы обозначить хозяина, которому принадлежит добыча – на случай, если по соседству окажутся чужие вельботы.
Плоды минувшей охоты красноречиво доказывали справедливость мудрой пословицы китобоев – чем больше китов, тем меньше улов. Из всех подбитых рыб была выловлена только одна. Остальным пока что удалось скрыться, однако для того лишь, чтобы впоследствии, как мы увидим, попасть в руки других охотников.
Глава LXXXVIII. Школы и учители
В предыдущей главе шла речь об огромной армии, или, вернее, о стаде кашалотов, и там же высказывались догадки о возможной причине, обусловившей возникновение подобных обширных сборищ.
Несмотря на то, что эти великие армии время от времени действительно встречаются в океанах, всё же, как, должно быть, уже заметил читатель, и по сей день нередко можно наткнуться на небольшие разрозненные косяки, насчитывающие голов пятьдесят по большей мере. Такие косяки известны под названием «школы». Они, как правило, бывают двух разновидностей: некоторые состоят почти из одних самок, а другие включают в себя только молодых резвых самцов, или быков, как их именуют в просторечии.
Во главе школы самок вы неизменно встречаете преисполненного любезной заботливости крупного самца, вполне взрослого, но не старого, который при малейшей тревоге галантно прикрывает с тыла отступление своих дам. Собственно говоря, джентльмен этот не кто иной, как настоящий богатей-турок, плавающий по белу свету в окружении своего гарема с его прелестями и ласками. Контраст между этим турком и его наложницами разительный: он отличается весьма крупными левиафаническими пропорциями, в то время как дамы, даже совершенно взрослые, едва достигают трети размеров среднего кита-самца. Они, можно сказать, довольно изящные создания, чьи талии не превосходят, по всей вероятности, полудюжины ярдов в обхвате. И всё-таки нельзя отрицать, что в целом им свойственна наследственная склонность к en bon point[269].
Забавно следить за тем, как такой гарем вместе со своим господином лениво прогуливается по волнам. Подобно светским бездельникам, они постоянно находятся в движении, праздно гоняясь за новизной. Их можно встретить в самый разгар тропического сезона на экваторе, куда они, быть может, только что вернулись, проведя лето в Северных морях, где ловко избегли изнурительной летней жары. Погуляв достаточное время по променадам экватора, они отправляются к Восточным морям в предвкушении прохладного сезона и тем самым снова спасаются от излишне высоких температур.
Когда во время этих спокойных переходов милорду Киту попадается на глаза что-либо странное и подозрительное, он с удвоенным вниманием начинает следить за своей интересной семейкой. И вздумай какой-нибудь встречный непростительно дерзкий молодой Левиафан позволить себе подойти на подозрительно близкое расстояние к одной из дам, с какой свирепой яростью негодования набрасывается на него паша и гонит прочь! Что же это за времена настали, если безнравственные молодые повесы, вроде него, могут безнаказанно вторгаться в святая святых благословенного домашнего очага! Хотя, впрочем, как бы ни выбивался паша из сил, он всё равно не сможет заградить даже самому отъявленному Лотарио[270] доступ в свою постель; ибо, увы, все рыбы ночуют в одной постели. И как на суше из-за дам нередко вспыхивают между их соперничающими поклонниками самые ужасные дуэли, так и у китов происходят иной раз смертельные схватки, и всё из-за любви. Они фехтуют длинными нижними челюстями и, скрестив их, надеются каждый утвердить своё превосходство, подобно лосям, сплетающим в битве свои рога. И немало известно случаев, когда у выловленного кита можно было видеть неизгладимые следы таких столкновений – исполосованный шрамами лоб, выломанные зубы, зазубренные края плавников, а иногда даже и вывихнутую челюсть.
Но если нарушитель семейного блаженства готов удариться в бегство перед повелителем гарема при первой же попытке с его стороны дать отпор, тогда особенно забавно глядеть на победителя. Тот осторожно протискивает свою огромную тушу назад, в самую гущу гарема, и упивается супружеским счастьем в дразнящей близости от юного Лотарио, словно благочестивый Соломон, поклоняющийся господу в обществе тысячи своих наложниц. Если только по соседству имеются ещё другие киты, китолов никогда не станет охотиться за таким великим султаном, ибо великие султаны так расточительны в любви, что запасы жира у них весьма невелики. Что же до сыновей и дочерей, которых производят они на свет божий, то этим сыновьям и дочерям приходится самим заботиться о себе или, в лучшем случае, довольствоваться только материнской помощью. Ибо, подобно прочим всеядным бродячим любовникам, чьи имена здесь можно было бы перечислить, милорд Кит, при всём своём пристрастии к будуару, к детской комнате совершенно равнодушен и, будучи великим любителем странствовать, оставляет за собой по всему свету своих безымянных отпрысков, которые все для него чужаки и иностранцы. Со временем, однако, когда пыл юности в нём поубавится, а годы и приступы сплина преумножатся, когда мудрость начнёт дарить ему минуты торжественного отдохновения, короче говоря, когда общая усталость охватит пресыщенного турка, тогда любовь к добродетели и покою приходит на смену любви к дамам, и наш султан вступает в новую полосу своей жизни, в полосу бессилия, раскаяния и запоздалой осторожности, он отрекается от престола, распускает гарем и, превратившись в добродетельного ворчливого старикашку, бродит в одиночестве между параллелями и меридианами, читая молитвы и предостерегая молодых левиафанов от ошибок своей любвеобильной молодости.
Поскольку китовый гарем рыбаки называют «школой», господин и властитель этого гарема именуется на промысле «учителем». Так что напрасно он – хоть в этом и заключается восхитительная ирония – странствуя по свету, после того как сам перестал посещать школу, не проповедует приобретённые там познания, но твердит всем про их суетность и порочность. Титулом учителя он, надо полагать, обязан наименованию самого гарема, однако некоторые считают, что тот, кто первым присвоил киту-султану это звание, должно быть, начитался мемуаров Видока[271], составив себе красочное представление о том, что за славный деревенский учитель был этот знаменитый француз в дни своей молодости и какова природа тех оккультных познаний, которые он вбивал в головы иным из своих учениц.
Замкнутость и обособленность, каким обрекает себя кит-учитель на старости лет, ожидает в равной мере и всех прочих пожилых кашалотов. Кит-одиночка, как называют обычно склонных к уединению левиафанов, почти неизменно оказывается на поверку древним стариком. Подобно достопочтенному, замшелобородому Дэниелю Буну[272], он не желает терпеть подле себя никого, кроме одной Природы, её берёт он себе в жёны среди пустынных вод, и она оказывается для него лучшей из жён, хоть и хранит от него немало своих хмурых тайн.
Школы, состоящие из одних только молодых и полных сил самцов, о которых упоминалось выше, являют собой полную противоположность школам-гаремам. В то время как самки китов отличаются чрезвычайной пугливостью, молодые самцы, или, как у нас говорят, быки на сорок бочек, заметно превосходят воинственностью всех прочих левиафанов, и встреча с ними – дело не шуточное; опасней их одни только чудовищные седые киты, которые попадаются довольно редко, но зато уж бьются не на жизнь, а на смерть, точно дьяволы, разъярённые каторжными муками подагры.
Школы сорокабочечных быков крупнее, чем школы самок. Словно толпа молодых школяров, они полны боевого задора, веселья и озорства, носясь вокруг света с такой безумной, отчаянной скоростью, что ни один рассудительный агент не согласился бы выправить им страховой полис, как не согласился бы он застраховать какого-нибудь буяна из Гарварда или Йэля. Однако это буйство у них недолговечно; достигнув трёх четвертей своих максимальных размеров, они разбредаются каждый сам по себе и рыщут по океанам в поисках подходящей партии, то есть гарема.
Другое различие между мужскими и женскими китовыми школами ещё характернее в отношении обоих полов. Если вам, к примеру, случится подбить одного из сорокабочечных быков – увы, бедняга! – товарищи оставляют его на произвол судьбы. Но попробуйте подбить одну китиху из гарема, и её подруги сразу же заботливо окружат её, порой так упорно и так долго оставаясь подле неё, что сами оказываются жертвой охотника.
Глава LXXXIX. Рыба на лине и ничья рыба
Ссылка в позапрошлой главе на случаи, когда тушу забитого кита оставляют на плаву под флагом, вызывает необходимость в некоторых пояснениях тех законов и правил, которые существуют в китобойном мире и среди которых кит под флагом может рассматриваться как великий символ и цеховой знак.
Нередко случается, когда несколько китобойцев ведут промысел в одном месте, что вельбот с одного судна подобьёт кита, а добьют и остропят его охотники с другого; сюда же косвенно примыкает и целый ряд иных непредвиденных случайностей, так или иначе связанных с этим общим условием. Например, туша кита, пришвартованная после долгой, мучительной погони, в результате сильного шторма оказывается оторванной от корабельного корпуса; отнесённая ветром далеко в сторону, она затем попадается на глаза другому китобойцу, который при полном штиле спокойно подтягивает её к себе, не рискуя ни жизнями, ни гарпунами. Из-за этого между китоловами могли бы возникнуть самые неприятные и жестокие споры, не будь у них на все такие случаи своих писаных или неписаных непреложных и всесильных законов.
Кажется, единственный официальный китобойный кодекс, утверждённый государственным законодательным актом, существовал в Голландии. Он был принят Генеральными Штатами в 1695 году от рождества Христова. Но несмотря на то, что никакая другая нация никогда не имела писаного китобойного кодекса, всё же американские китоловы были в этом деле сами себе и законодатели, и блюстители закона. Они создали свод правил, который по сжатости и выразительности превосходит Пандекты Юстиниана[273] и Устав Китайского Общества Борцов за Невмешательство в Чужие Дела. Да, эти законы можно было бы вычеканить на фартинге королевы Анны или на лезвии гарпуна и носить на верёвочке вокруг шеи – настолько они кратки:
I. Рыба на Лине принадлежит владельцу линя.
II. Ничья Рыба принадлежит тому, кто первый сумеет её выловить.
Но вся загвоздка тут в изумительной краткости этого превосходного кодекса, которая неизбежно требует обширных и громоздких комментариев.
Первое: Что такое Рыба на Лине? Мёртвая или живая рыба считается взятой на линь, если она связана с китобойцем или вельботом, в котором находятся люди или хотя бы один человек, посредством чего угодно – мачты, вёсла, девятидюймового троса, телеграфного провода или же паутинки – безразлично. Равным же образом рыба считается взятой на линь, когда она оставлена под флагом или под иным известным знаком принадлежности, если, конечно, установившая такую веху сторона может доказать свою способность подобрать рыбу, а также проявляет намерение сделать это.
Таковы учёные комментарии, но комментарии самих китоловов состоят подчас из крепких выражений и ещё более крепких тумаков – кулачные комментарии Кока к Литлтону[274]. Разумеется, наиболее честные и благородные китоловы всегда признают возможность существования особых условий, при которых для одной стороны было бы величайшей моральной несправедливостью предъявлять свои права на кита, прежде выслеженного или забитого другой стороной. Но отнюдь не все бывают настолько щепетильны.
Лет пятьдесят тому назад произошёл один любопытный случай: в английском суде было возбуждено дело, по которому истцы утверждали, что после тяжёлой погони за китом в Северных морях, когда они (истцы) наконец загарпунили рыбу, им пришлось под угрозой гибели пожертвовать не только линём, но и самим вельботом, который они вынуждены были покинуть. Спустя какое-то время ответчики (экипаж другого китобойца) натолкнулись на подбитого кита, загарпунили его, забили и, притянув к себе, присвоили себе этого кита прямо на глазах у истцов. Когда же те пытались протестовать, капитан ответчиков щёлкнул пальцами у них перед носом и заверил их, что вместо благодарственной молитвы по поводу своей удачи он ещё удержит за собой их линь, гарпуны и вельбот, который тащился за китом в момент поимки. Вследствие чего истцы требовали теперь возмещения убытков за кита, линь, гарпуны и вельбот.
Ответчиков на процессе защищал мистер Эрскин, судьёй был лорд Элленборо. В ходе защиты остроумный Эрскин, иллюстрируя свои положения, сослался на известное дело о нарушении супружеской верности, когда один джентльмен после многократных и тщетных попыток обуздать злой норов своей супруги оставил её в конце концов одну в жизненном море; однако по прошествии многих лет он раскаялся в этом поступке и вчинил иск о вторичном введении себя в права владения над нею. Эрскин тогда защищал интересы супруги, и он заявил, что хотя этот джентльмен и первым загарпунил его подзащитную и какое-то время держал её на лине, только по причине огромного натяжения её непереносимого норова оставив её в конце концов; но всё-таки он её оставил, и она сделалась Ничьей Рыбой; так что, когда впоследствии другой джентльмен вторично загарпунил её, леди перешла в собственность этого последующего джентльмена вместе со всеми прочими гарпунами, какие бы в ней уже ни торчали.
В настоящем же деле Эрскин ограничился замечанием о том, что примеры с китом и дамой взаимно обратимы и поясняют друг друга.
Выслушав с должным вниманием все эти соображения и возражения, ученейший судья непреложно постановил следующее:
Что касается вельбота, то его он присуждает истцам, поскольку они просто оставили его, чтобы спасти свои жизни; что же касается оспариваемого кита, гарпунов и линя, то они принадлежат ответчикам; кит – потому что в момент поимки он представлял собою Ничью Рыбу, а гарпуны и линь – потому что с той минуты, когда кит вырвался и ушёл с ними, они перешли в его (китовую) собственность; так что всякий, кто впоследствии овладевал рыбой, приобретал права и на них. Рыбой овладели ответчики; ergo, упомянутые предметы принадлежат им.
Простой человек, ознакомившись с этим решением ученейшего судьи, вероятно, стал бы возражать. Но если докопаться до основной породы под пластами этого случая, то два великих принципа, заложенные в двойном китобойном законе, цитированном выше, а теперь применённые и разъяснённые лордом Элленборо в связи с описанным судебным делом, эти сдвоенные законы о Рыбе на Лине и о Ничьей Рыбе окажутся, если поразмыслить как следует, основами общей человеческой юриспруденции; ибо при всей ажурной замысловатости своей скульптуры храм Закона, подобно храму филистимлян, покоится лишь на двух столбах[275].
Разве не у всех на устах изречение: «Собственность – половина закона»? – то есть независимо от того, каким путём данный предмет стал чьей-то собственностью. Но часто собственность – это весь закон, а не половина. Что представляют собой, например, мускулы и души крепостных в России или рабов Республики, как не Рыбу на Лине, собственность, на которую и есть весь закон? Что для алчного домовладельца последняя полушка бедной вдовицы, как не Рыба на Лине? А что представляет собой мраморный дворец вон этого неразоблачённого преступника, повесившего на дверь медную дощечку вместо флага на палке? Разве это не Рыба на Лине? А что такое грабительский процент, который маклер Мардокей получав с несчастного страдальца Банкрота, ссужая тому заём для прокормления семейства; разве этот грабительский процент не Рыба на Лине? А что такое доход в сто тысяч фунтов стерлингов, отрываемый для себя архиепископом Душеспасителем от скудного куска хлеба с сыром у сотен тысяч изнурённых тружеников (каждому из которых уж, конечно, и без Душеспасителя уготовано спасение души); что такое эти кругленькие вселенские сто тысяч, как не Рыба на Лине? Что такое наследственные города и деревни герцога Болвана, как не Рыба на Лине? Что такое бедная Ирландия для грозного гарпунщика Джона Булля, как не Рыба на Лине? Что для апостольского метателя остроги брата Джонатана представляет собою Техас, как не Рыбу на Лине? И во всех этих примерах разве Собственность – не весь закон?
Но если доктрина о Рыбе на Лине находит столь широкое применение, то уж родственная ей доктрина о Ничьей Рыбе и подавно. Она имеет всемирное, вселенское применение.
Чем, если не Ничьей Рыбой, была Америка в 1492 году, когда Колумб воткнул в неё испанский штандарт и оставил её под флагом для своих царственных покровителя и покровительницы? Чем была Польша для русского царя? Или Греция для турок? Или Индия для Англии? Чем, наконец, будет и Техас для Соединённых Штатов? Опять-таки Ничьей Рыбой.
Что такое Права Человека и Свобода Всех Народов, как не Ничья Рыба? И разве не являются Ничьей Рыбой умы и мнения всех людей? Или их религиозные верования? Разве для ловкачей – начётчиков и буквоедов, мысли мудрецов не служат Ничьей Рыбой? И сам шар земной не просто ли Ничья Рыба? Да и ты, читатель, разве ты не Ничья Рыба и одновременно разве не Рыба на Лине?
Глава XC. Хвосты или головы
De balena vero sufficit, si rex habeat caput, et regina caudam.[276][277]
Брактон 1. 3, с. 3.
Эта латинская цитата из книги законов Англии, взятая в контексте, означает, что от всякого кита, выловленного кем бы то ни было у берегов этой страны, королю, как почётному Магистру Ордена Китобоев, принадлежит голова, а королеве, соответственно, преподносится хвост. Но для кита такое разделение равносильно делению пополам – в середине ничего не остаётся. А поскольку закон этот в несколько изменённом виде и по сей день имеет в Англии силу и поскольку он во многих отношениях представляет решительное отступление от общего закона о Рыбе на Лине и о Ничьей Рыбе, ему здесь посвящается особая глава по тем же самым соображениям учтивости, что заставляют английские железнодорожные власти тратиться на содержание специальных вагонов, предназначенных для членов королевской фамилии. Для начала я в качестве любопытного подтверждения того, что вышеупомянутый закон всё ещё в силе, позволю себе описать здесь одно событие, случившееся не далее как два года назад.
Где-то возле Дувра, Сэндвича или другого из Пяти Портов[278] нескольким честным рыбакам после жаркой погони удалось убить и вытащить на берег великолепного кита, которого они заметили первоначально далеко в море. Все Пять Портов находятся в частичном – или ещё там каком-то – ведении у своего рода полисмена, или педеля, именуемого лордом Управителем. А так как он получает этот пост непосредственно от короны, все королевские доходы, поступающие с территории Пяти Портов, достаются, понятно, прямо ему. Некоторые лица называют этот пост синекурой. Но они не правы. Дело в том, что лорд Управитель часто бывает занят вымогательством причитающихся ему доходов, которые потому только и причитаются ему, что он умеет их вымогать.
И вот когда эти бедные, опалённые солнцем рыбаки, разувшись и засучив брюки выше тощих колен, с трудом выволокли свою жирную добычу на сухое место, суля себе добрых полтораста фунтов стерлингов от продажи драгоценного масла и уса и в мечтах своих уже попивая с жёнами ароматные чаи, а с приятелями крепкий эль в счёт своей доли от общего дохода, на сцену вдруг выходит весьма учёный и преисполненный пламенного христианского человеколюбия джентльмен с толстым Блэкстоном[279] под мышкой и, опустив этот том на голову кита, говорит: «Руки прочь! Эта рыба, господа, взята на линь. Я изымаю её как принадлежащую лорду Управителю». Услышав такое, бедные рыбаки, охваченные почтительным ужасом – чувством истинно английским, – не знают, что сказать, и все как один принимаются отчаянно скрести в затылках, переводя в то же время разочарованный взгляд с кита на незнакомца. Но этим делу не поможешь и нисколько не смягчишь жестокого сердца учёного джентльмена с Блэкстоном. И тогда один из них, долго наскребавший у себя в затылке кое-какие мысли, отважился заговорить:
– Простите, сэр, но кто такой лорд Управитель?
– Герцог.
– Но ведь герцог-то эту рыбу не ловил?
– Она принадлежит герцогу.
– Мы немало потрудились, рисковали жизнью, да и потратились, и неужели всё это должно пойти в пользу герцога? а мы за все наши труды и мозоли останемся ни с чем?
– Рыба принадлежит ему.
– Разве герцог настолько беден, чтобы нищета вынуждала его добывать себе пропитание таким отчаянным способом?
– Рыба принадлежит ему.
– А я-то рассчитывал из своей доли помочь моей бедной больной матери.
– Рыба принадлежит ему.
– Может быть, герцог удовлетворится четвертью или половиной этой рыбы?
– Она принадлежит ему.
Короче говоря, кита отобрали и продали, и его милость герцог Веллингтон[280] получил все деньги. Придя к мысли, что в свете особых обстоятельств случай этот можно было бы с некоторой натяжкой в какой-то степени всё же рассматривать как не очень справедливый, один честный священник из города почтительно обратился к его милости с письмом, умоляя его отнестись к этому случаю и к несчастным рыбакам со всем возможным вниманием. На что милорд герцог ответил (оба письма были опубликованы), что он именно так и поступил и уже получил все деньги и что он был бы признателен достопочтенному джентльмену, если в будущем он (достопочтенный джентльмен) воздержится от вмешательства не в своё дело. Неужели же это – тот самый всё ещё бодрый старый вояка, что, стоя теперь по углам трёх королевств, отнимает милостыню у нищих?
Легко заметить, что в данном случае право на кита, которое приписывал себе герцог, было передано ему его сюзереном. Необходимо поэтому выяснить, на каком основании принадлежит это право самому сюзерену. Что гласит закон, мы уже знаем. Но Плаудон[281] обосновывает его следующим образом. Пойманный у берега кит, утверждает Плаудон, принадлежит королю и королеве «по причине своих превосходных качеств». И все глубокомысленные комментаторы признают это совершенно неоспоримым аргументом.
Но почему именно голова должна достаться королю, а королеве хвост? Что скажете вы на это, о премудрые законники?
В своём трактате «Золото Королевы, или Деньги Королеве На Булавки» некто Уильям Принн[282], старинный автор и член Суда Королевской Скамьи[283], рассуждает так: «Хвост же идёт королеве, дабы гардероб королевы не имел недостатка в китовом усе». Конечно, эти слова были написаны в те времена, когда упругий чёрный ус гренландского, или настоящего, кита шёл по большей части на дамские корсеты. Но ведь ус этот у кита не в хвосте, а в голове, так что здесь допущена ошибка, довольно грубая для такого премудрого законоведа, как Принн. Что же, разве королева – русалка, что мы должны преподносить ей хвост? Быть может, здесь заключён скрытый иносказательный смысл?
Существуют две королевские рыбы, особо титулованные английскими законоведами, – кит и осётр; и тот и другой объявляются (с некоторыми оговорками) собственностью короны, официально составляя десятую статью регулярных государственных доходов. Боюсь, что ни один автор, кроме меня, об этом не упоминает, но, по-моему, осетра следует делить таким же образом, как и кита, предоставляя королю рыбью голову, прославленную непробиваемостью своих эластичных лобных хрящей, что может быть в шутку обосновано, если подойти к вопросу с точки зрения символической, некоторым взаимным сходством. В итоге окажется, что всё в мире имеет смысл, даже законы.
Глава XCI. «Пекод» встречается с «Розовым бутоном»
Но тщетны были все попытки обнаружить серую амбру в брюхе Левиафана;
непереносимое зловоние делало поиски невозможными.[284]
Сэр Т. Браун, «Р. З.»
Прошло недели две со времени описанной промысловой сцены; мы медленно плыли по сонным водам туманного полуденного моря, когда ноздри на палубе «Пекода» вдруг проявили себя куда более бдительными стражами, чем три пары глаз на мачтах. С моря шёл какой-то особенный и не слишком приятный запах.
– Готов биться об заклад, – сказал Стабб, – что где-нибудь по соседству болтается один из тех китов, что мы тогда подкололи. Я так и знал, что они скоро всё равно поплывут вверх килем.
Вскоре туманная дымка у нас по носу расползлась, и мы увидели в отдалении судно с подвязанными парусами – верный знак того, что к борту у него пришвартован кит. Когда мы подплыли ближе, незнакомец поднял французский флаг; а тучи крылатых морских хищников, что кружились, парили над ним и падали с высоты, ясно указывали нам, что кит у его борта был, как говорят рыбаки, «вспученный», то есть просто кит, скончавшийся в море своей смертью и бездомным трупом носимый по волнам. Легко можно себе представить, что за неаппетитный аромат издаёт такая туша; похуже, чем ассирийский город во время чумы, когда живые не в силах погребать скончавшихся. И в самом деле, некоторые люди совершенно не переносят этого смрада, так что никакая жажда наживы не заставит их подцепить вспученную рыбу. Однако находятся и такие, которых этим не испугаешь, хотя жир, добытый из таких туш, обладает весьма низкими качествами и отнюдь не похож на розовое масло.
Подойдя ещё ближе со слабеющим ветром, мы увидели, что у бортов француза не один кит, а два; и второй – ещё более ароматный цветочек, чем первый. Скажем прямо, это был один из тех китов, которые в полном истощении подыхают от какой-то чудовищной диспепсии или, попросту говоря, от поноса, оставляя после себя свои туши полными банкротами, не располагающими ни каплей жира. И тем не менее, как будет рассказано в надлежащем месте, ни один китолов с понятием никогда не станет воротить нос от такого кита, даже если он поставил себе за правило обходить вспученных китов стороной.
Тем временем «Пекод» настолько приблизился к незнакомому судну, что Стабб начал уже божиться, будто узнаёт рукоятку своей фленшерной лопаты, застрявшей в петлях линя, который намотался у одного из китов вокруг хвоста.
– Вот это парень, я понимаю! – заразительно хохотал он, стоя на носу «Пекода». – Настоящий шакал, а? Я и без того знал, что эти лягушатники-французы никуда не годятся на промысле; они готовы иной раз спустить вельботы при виде буруна, вообразив, что это фонтан кашалота; а иной раз они выходят из гавани, набив трюмы ящиками сальных свечей и щипцами, чтобы снимать с них нагар, – ведь они и сами соображают, что всего масла, которое они добудут, едва хватит, чтоб обмакнуть фитилёк в капитанском светильнике; да, да, это нам всем и без того известно; но вот поглядите на этого лягушатника, с него довольно, если он может подобрать чужие объедки, вроде этого кита, которого мы загарпунили. Ага! и он радуется, если может обглодать кости вон той драгоценной рыбы, что висит у него с другого борта. Вот бедняга! давайте-ка, ребята, пустим шапку по кругу и преподнесём ему в подарочек чуточку масла Христа ради. Ведь маслице, которое он натопит из этого кита с нашей «волокушей», даже в тюремной камере нельзя будет жечь. А что до второго кита, так я берусь получить больше масла из трёх наших мачт – дайте только я их срублю да вытоплю, – чем он получит из этой груды костей; хотя сейчас вот мне пришло в голову, что в нём, пожалуй, может быть кое-что поценнее, чем масло; серая амбра, ей-богу. Интересно, что думает об этом наш старик. А попробовать стоит. Да, да, я лично считаю, что стоит, – и с этими словами он отправился на шканцы.
К этому времени слабый ветерок совсем стих, и наступил полный штиль; так что «Пекод» наш волей-неволей остановился, уловленный в сети гнилого духа, отложив всякую надежду избавиться от него до той поры, пока вновь не подымется ветер. Стабб вышел из каюты, подозвал к себе команду своего вельбота и отвалил на нём в сторону чужого судна. Огибая его нос, он обратил внимание на то, что в соответствии с изысканным французским вкусом резной конец форштевня имеет у него сходство с огромным склонённым стеблем: выкрашенный зелёной краской и утыканный на манер шипов медными остриями, он оканчивался яйцеобразным утолщением правильной формы и ярко-красного цвета. А под ним на борту крупными золотыми буквами было написано: «Bouton de Rose», то есть «Розовый Бутон»; таково было поэтическое имя этого благоуханного корабля.
Хотя Стабб и не понял, что значит «bouton», слово «rose» вкупе с красноречивым видом носового украшения в достаточной мере доступно объяснили ему, о чём тут идёт речь.
– Ах, вот как! – воскликнул он, не отнимая ладони от ноздрей. – Деревянная розочка, а? Неплохо придумано. И до чего же сильный у неё аромат, клянусь потрохами!
Для того чтобы завязать разговор с теми, кто находился на палубе, он должен был, обогнув нос, подойти с правого борта к вспученному киту и вести переговоры прямо через него.
И вот, заняв нужную позицию и по-прежнему зажимая себе нос, он заорал:
– Эй, на «Бутон-де-Роз»! Есть кто-нибудь из вас, бутончиков, кто говорит по-английски?
– Есть, – отозвался кто-то с акцентом, обличающим уроженца острова Гернси; впоследствии оказалось, что это старший помощник капитана.
– Ну, тогда скажи мне, Бутончик-де-Роз, не видели ли вы Белого Кита?
– Какого кита?
– Белого Кита – кашалота Моби Дика; не видели вы его?
– Никогда и не слышали о таком ките. Cachalot Blanche! Белый Кит – нет.
– Что ж, отлично, тогда до свидания. Я сейчас опять к вам подойду.
И поспешно отрулив обратно к «Пекоду», где в ожидании его доклада, перегнувшись через планшир, стоял на шканцах Ахав, Стабб сложил ладони рупором и прокричал: «Нет, сэр! Нет!» Ахав тут же удалился, а Стабб вновь повернул к французу.
Теперь он увидел, что моряк с острова Гернси вышел на руслень за борт и работал фленшерной лопатой, подвязав у себя под носом нечто вроде мешка.
– Что это у тебя с носом? – поинтересовался Стабб. – Сломан?
– Уж лучше бы он и впрямь был сломан или совсем бы у меня его не было, что ли! – ответил тот; ему, видно, не слишком по вкусу была работа, которую он делал. – А ты-то за свой почему держишься?
– Да так просто! Он у меня приставной, его нужно поддерживать. Хороший денёк, а? Воздух – прямо как в цветнике, верно? Не бросишь ли нам букетик подушистее, Бутон-де-Роз?
– Какого чёрта вам здесь нужно? – заревел человек с Гернси, вдруг приходя в ярость.
– Ого! Не горячись, брат, поменьше жару. Холод – вот что вам сейчас бы пригодилось. И почему только вы не обкладываете этих китов льдом на время работы? Но шутки в сторону, однако; известно ли тебе, бутончик, что пытаться выжать из таких китов хоть каплю жира – напрасный труд? Вот в этом тощем со всей туши и напёрстка не наберётся.
– Я и сам это отлично знаю; да вот капитан, понимаешь, не верит мне; он у нас первый раз в плавании; до этого он был фабрикантом туалетной воды. Но поднимись на борт, может, он хоть не меня, так тебя послушает, и тогда я избавлюсь от этой грязной работки.
– Чтобы угодить вам, милейший и любезный друг, я готов на всё, – отозвался Стабб и без промедления поднялся на палубу. Здесь ему открылось престранное зрелище. Матросы в шерстяных вязаных колпаках, красного цвета и с кисточками, возились у больших талей, подготавливая их к подъёму китов. Однако работали они весьма медленно и при этом весьма быстро разговаривали, и видно было, что настроены они отнюдь не весело. Носы у всех были задраны кверху, точно десятки маленьких бушпритов. То и дело они по двое бросали работу и карабкались на верхушку мачты хлебнуть свежего воздуха. Иные, опасаясь подхватить какую-нибудь заразу, макали в дёготь паклю и каждую минуту подносили её к носу. Другие, обломав свои трубки почти по самые головки, всё время отчаянно дымили табаком, непрерывно наполняя дымом ноздри.
Стабба поразил целый водопад возгласов и проклятий, извергавшийся из кормовой рубки, а взглянув в том направлении, он увидел в приоткрытой двери чью-то красную возмущённую физиономию. Она принадлежала корабельному врачу, который после тщетных попыток протестовать против подобного занятия, негодуя, удалился в кормовую рубку («кабинет», как она у него называлась), чтобы избегнуть заразы, но всё-таки не мог удержаться и даже оттуда продолжал выкрикивать увещевания и проклятия.
Заметив про себя всё это, Стабб сообразил, что так-то оно ему только на руку, и, обратившись к старшему помощнику с Гернси, повёл с ним осторожный разговор, в ходе которого тот признался ему в своей ненависти к капитану, надутому невежде, который заварил для них всех эту неаппетитную и неприбыльную кашу. Умело направив разговор, Стабб выяснил затем, что уроженец Гернси и не подозревает ни о какой амбре. Вот почему и сам он даже не заикнулся об этом, хотя во всём остальном был с ним откровенен и дружелюбен, так что вдвоём они быстро состряпали небольшой план, как им провести и осмеять капитана, чтобы тому и в голову не пришло усомниться в их искренности. По их замыслу старший помощник мог, исправляя якобы должность переводчика при Стаббе, убеждать капитана в чём ему вздумается; а что до Стабба, так он должен был просто нести любой вздор, какой бы ни пришёлся ему на язык во время предстоящих переговоров.
К этому времени и сама уготовленная им жертва появилась на палубе. Это был небольшой смуглый человечек, с виду довольно тщедушный для морского волка, но с огромными усами и бакенбардами; на нём была красная бархатная куртка, а сбоку на цепочке часы с брелоками. Помощник церемонно представил Стабба этому джентльмену и сразу же стал делать вид, будто переводит.
– Что я должен ему сказать для начала? – спросил он.
– Ну что же, – проговорил Стабб, разглядывая бархатную куртку, часы и брелоки, – для начала ты можешь сказать ему, что, на мой взгляд, он выглядит сущим младенцем, хотя не мне, конечно, судить.
– Он говорит, месье, – пояснил помощник по-французски, обращаясь к своему капитану, – что не далее как вчера его корабль встретил судно, где капитан и старший помощник вместе с шестью матросами отправились на тот свет от лихорадки, которую они подхватили от вспученного кита, подобранного и ошвартованного ими.
Услышав такие речи, капитан вздрогнул и пожелал выслушать всё в подробностях.
– Что ещё? – спросил уроженец Гернси у Стабба.
– Да раз уже он так мирно это всё выслушивает, скажи ему, что теперь, когда я получше разглядел его, я совершенно убеждён, что он с таким же успехом может командовать китобойцем, как и мартышка из Сант-Яго. Передай ему от меня, что он просто обезьяна.
– Он клянётся и божится, месье, что тот второй кит, тощий, ещё гораздо опаснее, чем вспученный; короче говоря, месье, он заклинает нас, если только нам дороги наши жизни, перерубить цепи и избавиться от этих рыб.
Тут капитан бросился на бак и громким голосом приказал команде прекратить подъём талей и спешно перерубить канаты и цепи, соединяющие китов с кораблём.
– Теперь что? – спросил помощник, когда капитан снова подошёл к ним.
– Теперь-то? Да знаешь ли, теперь, пожалуй, можно ему сказать, что я… это… одним словом, что я надул его, а может быть (в сторону), и ещё кое-кого.
– Он говорит, месье, что он счастлив был оказать нам эту небольшую услугу.
Услышав это, капитан стал клясться, что признательны должны быть они (то есть он сам и его помощник), и кончил тем, что пригласил Стабба в каюту распить бутылочку бордо.
– Он хочет, чтобы ты выпил с ним стакан вина, – пояснил переводчик.
– Поблагодари его от меня, да скажи, что мои правила не позволяют мне пить с теми, кого я надуваю. Скажи ему, в общем, что я тороплюсь назад.
– Он говорит, месье, что его правила не позволяют ему пить вино; но что если месье хочет ещё пожить и попить на этом свете, тогда пусть месье спустит все четыре вельбота, чтобы оттащить корабль от этих китов, потому что стоит штиль и их не относит.
К этому времени Стабб уже спускался за борт в свой вельбот, и оттуда он крикнул помощнику, что у него есть в лодке длинный канат и он поможет им, насколько сумеет, оттянуть от судна того из китов, который полегче. И вот, покуда вельботы француза тащили судно в одну сторону, любезный Стабб знай себе тянул кита в другую, демонстративно вытравив чудовищно длинный конец.
Но вот подул ветерок, Стабб сделал вид, будто отцепил свой конец и бросил кита, француз поднял вельботы и стал уходить всё дальше прочь, а «Пекод» тем временем занял позицию между ним и Стаббом. Тут Стабб быстро подошёл к плывущей туше и, крикнув на «Пекод», чтобы оттуда ему дали знать, когда пора будет возвращаться, тут же поспешил пожать плод своего безбожного плутовства. Схватив острую фленшерную лопату, он начал рыть в китовом теле яму чуть позади бокового плавника. Казалось, он ведёт раскопки в море, и когда наконец лопата стукнула о тощие рёбра, можно было подумать, что он отрыл древние римские черепки, погребённые в жирном суглинке Англии. А матросы в лодке как могли помогали своему командиру, сгорая от нетерпения, точно золотоискатели на промысле.
А вокруг вились бесчисленные морские птицы, то ныряя, то всплывая, то с пронзительными воплями затевая драку. Уже разочарование появилось на лице Стабба, тем более что смрад становился всё непереносимее, но вдруг, как бы из самого сердца этой чумной вони, потянулся тонкой струйкой нежный аромат, пробираясь сквозь волны дурных запахов, подобно тому как одна река, вливаясь в другую, ещё долго течёт в ней, не смешиваясь, сама по себе.
– Нашёл! Нашёл! – радостно воскликнул Стабб, нащупав что-то в тёмной глубине. – Клад!
Выпустив лопату, он сунул в яму обе руки и вытащил в горстях нечто, напоминавшее с виду виндзорское мыло или зацветший старый сыр и при этом очень пахучее и маслянистое. Это вещество можно продавить пальцем, а цвет у него какой-то промежуточный – не то жёлтый, не то пепельный. Это, друзья мои, и есть серая амбра, идущая по золотой гинее за унцию у любого аптекаря. Нам досталось горстей шесть, гораздо больше невозвратно ушло на дно морское, да и мы могли бы ещё кое-что извлечь, если бы не громкий окрик сердитого Ахава, приказавшего Стаббу бросить всё и вернуться на борт, потому что иначе корабль навсегда распрощается с ним.
Глава XCII. Серая амбра
Упомянутая серая амбра – чрезвычайно интересное вещество, она представляет собой столь важный предмет торговли, что в 1791 году в английскую палату общин для дачи показаний по этому вопросу был специально вызван некий капитан Коффин из Нантакета. Дело в том, что тогда, да и до самого недавнего времени, происхождение серой амбры, равно как и сама амбра, было ещё загадкой. Несмотря на такое название – от французского слова ambergris, что означает «серый янтарь», – от янтаря она отличается очень сильно. Ведь янтарь, который, правда, находят обычно на морском берегу, встречается также иногда в земле в глубине материков, в то время как серую амбру можно встретить только на море. Кроме того, янтарь – вещество твёрдое, прозрачное, ломкое и абсолютно лишённое запаха; из него делают мундштуки, чётки и разные украшения; а серая амбра мягкая, как воск, и такая пахучая, такая душистая, что её повсеместно употребляют в парфюмерии, кладут в кадильницы, подмешивают к ароматическим свечам, к пудре для париков и к помадам. Турки употребляют её вместо приправы в кушанья, а также носят её в Мекку с теми же целями, с какими несут ладан в римский собор Святого Петра. Некоторые виноделы опускают её по крупице в красное вино, чтобы улучшить букет.
И кто бы только мог подумать, что все важные леди и джентльмены станут пользоваться веществом, которое находят в презренном брюхе больного кита! И тем не менее это так. Некоторые считают серую амбру причиной, другие – следствием несварения желудка у китов. Такое несварение излечить довольно трудно, разве только что прописать киту три вельбота брандретовых пилюль, а когда он их проглотит, поспешно отойти на безопасное расстояние, как делают горняки во время взрывных работ.
Я забыл сказать, что в серой амбре были найдены какие-то твёрдые круглые костяные пластинки, которые Стабб поначалу принял за матросские брючные пуговицы; однако впоследствии оказалось, что это всего лишь оплывшие амброй обломки клювов небольших осьминогов.
Но если благоуханнейшую амбру во всей её непорочности можно найти лишь в самой гуще омерзительного разложения, неужели же в этом нет своего смысла? Вспомни, читатель, что говорит святой Павел в Послании Коринфянам о порочности непорочности; о том, что сеется в уничижении, восстаёт во славе. Припомни также известное свидетельство Парацельса[285] о том, из чего получается драгоценный мускус. И не забудь ещё ту странную подробность, что из всех дурно пахнущих вещей самый неприятный запах имеет туалетная вода на ранних стадиях производства.
Я рад был бы заключить эту главу вышеприведённым обращением к читателю, но, к сожалению, не могу этого сделать, ибо во что бы то ни стало должен опровергнуть одно обвинение, которое часто выдвигают против китоловов и которое в глазах людей предубеждённых получает косвенное доказательство в истории с французом и его двумя китами. Ещё ранее в этом томе были разбиты клеветнические нападки на китобойную профессию, провозглашавшие её делом грязным и неаппетитным. Остаётся дать отпор ещё одному ложному утверждению. Некоторые люди распространяют слух, будто киты вообще скверно пахнут. И откуда только берётся такая возмутительная ложь?
Всего вероятнее, что она восходит к тем дням, когда в Лондон более двух столетий тому назад прибыли с гренландского промысла первые китобойцы. Дело в том, что эти китобойцы тогда, как и теперь, не вытапливали китовый жир прямо в море, как это делают суда в южных плаваниях, но, разрубая сало на мелкие кусочки, набивали ими, вытащив втулку, огромные бочки и в таком виде привозили домой, поскольку краткие сроки промысловых сезонов в ледовитых морях и внезапные свирепые штормы не дают им возможности поступать иначе. А в результате, когда у пристани раскрывают трюм и начинают разгружать эту китовую покойницкую, запах там стоит примерно такой же, какой поднимается над городом в том месте, где перекапывают старое кладбище, чтобы выстроить здесь родильный дом.
Кроме того, как нетрудно догадаться, поводом для этого возмутительного навета на китобоев могло послужить существование в прежние времена на берегах Гренландии голландского поселения под названием Шмеренбург или Смеренберг[286] (в последней форме это слово встречается у премудрого Фого фон Слака на страницах его славного труда «О Запахах» – надёжнейшего руководства по этим вопросам). Как можно заключить из самого названия (смер – сало, берг – хранить), это селение было основано там, чтобы голландцы вытапливали в нём китовый жир, добываемый их флотилиями, и не возили бы для этой цели сало к себе в Голландию. Посёлок представлял собой большое скопище печей, жировых котлов и маслохранилищ; и, понятно, когда всё это топилось и дымилось, запах оттуда исходил не слишком приятный. Но на китобойце в Южных морях всё это происходит совсем иначе; за четырехгодичное плавание он до отказа наполняет маслом трюм, не потратив в общей сложности на вытапливание и пятидесяти дней; а разлитое по бочонкам масло почти не пахнет. Истина состоит в том, что кит, живой ли, мёртвый ли, ни в коем случае не может считаться дурно пахнущим созданием; и китолова в обществе не узнаешь по запаху. Да и вообще-то откуда взяться у кита иному запаху, кроме самого приятного, если здоровье у него всегда превосходное? Ведь он не сидит в четырёх стенах, а большую часть времени проводит в движении, хотя, конечно, и не совсем на воздухе. Говорю вам, взмах кашалотового хвоста над волнами распространяет вокруг аромат, подобный тому, что оставляет за собой надушённая мускусом дама, прошелестевшая юбками по уютной гостиной. Чему же уподоблю я благоуханного кашалота, при его гигантских размерах? Быть может, тому легендарному слону с бивнями, унизанными драгоценными камнями, и боками, умащёнными миррой, который был выведен через врата индийского города навстречу Александру Великому, дабы воздать ему высшие почести?
Глава XCIII. Брошенный
Прошло всего лишь несколько дней после встречи с французом, когда одно весьма значительное событие приключилось с самым незначительным членом команды «Пекода»; событие в высшей степени плачевное; и привело оно к тому, что у нашего бесшабашного и обречённого корабля появилось своё живое неотступное знамение, заведомо сулящее все самые убийственные беды, какие бы ни были ему уготованы.
На китобойце не все члены экипажа ходят на вельботах. Несколько матросов всегда остаются на борту, и в обязанности им вменяется управлять судном, пока вельботы преследуют китов. Обычно эти матросы – такие же крепкие ребята, как и те, что составляют команды вельботов. Однако, если среди матросов случится один слишком тщедушный, или неуклюжий, или боязливый, то уж такого-то во всяком случае в вельботы не берут. Так было и на «Пекоде» с негритёнком по прозвищу Пиппин, сокращённо Пип. Бедняга Пип! вы уже слышали о нём, читатель, и помните, конечно, его тамбурин в ту страшную ночь со всем её мрачным ликованием.
С виду Пип и Пончик были под стать друг другу, точно чёрный пони и белый пони, сведённые забавы ради в одну упряжку. Но если незадачливый Пончик был от природы вял и немного туповат, Пип, хотя и слишком чувствительный, был в сущности мальчиком живым и весёлым, отличаясь той жизнерадостной, сердечной и добродушной весёлостью, какая свойственна его племени – племени, отмечающему всякий праздник, всякое торжество куда радостнее и самозабвеннее, чем любая другая раса. Для негров весь календарь должен был бы состоять из трёхсот шестидесяти пяти Новых Годов и Дней Независимости. И не улыбайтесь, пожалуйста, когда я пишу, что в этом чернокожем мальчике был какой-то блеск, ибо и чернота может быть блестящей; взгляните, к примеру, на сверкающие в покоях у короля панели из чёрного дерева. Но Пип любил жизнь и все мирные радости жизни; и то жуткое дело, в которое он каким-то необъяснимым путём оказался втянут, самым печальным образом затмило в нём этот блеск; хотя, как мы увидим вскоре, подавленному в нём огню суждено ещё было под конец вспыхнуть таинственным буйным пламенем, в зловещем свете которого он выступит в десять раз ярче, чем в те дни, когда он, сияя белозубой улыбкой у себя в родном Коннектикуте, вносил огонь оживления в деревенские пляски на зелёном лугу, своими певучими ритмичными возгласами и весёлым смехом превращая круглый горизонт в увешанный бубенцами звёзд крутящийся тамбурин. Так при свете ясного дня капля алмаза чистой воды на белой шее с голубыми жилками сверкает огнём здоровья; но если умелый ювелир вздумает показать вам этот алмаз во всём его удивительном блеске, он положит его на чёрное, а затем осветит, но не солнцем, а какими-то колдовскими газами. И тогда в нём зажигается порочно прекрасное ослепительное свечение; тогда нечестиво сверкающий алмаз, некогда божественный символ хрустальных небес, кажется похищенным из короны Царя Преисподней. Однако вернёмся к нашему рассказу.
Случилось так, что во время приключения с серой амброй загребной из лодки Стабба так растянул себе сухожилие в запястье, что не в состоянии был поднять весло, и временно его должен был заменять Пип.
В первый же раз, когда Стабб спустил с ним свой вельбот, Пип проявил сильное беспокойство; но, по счастью, близко подойти в тот день к киту им не удалось; и Пип в общем-то вышел из этого испытания, не запятнав свою честь; хотя Стабб, приглядевшись, потом всячески увещевал его, призывая растить и лелеять собственную храбрость, потому что в ней всегда может возникнуть надобность.
Во второй раз вельбот подгрёб к самому киту; и когда рыба, почуяв в боку смертоносный гарпун, ударила хвостом по днищу лодки, удар этот пришёлся прямо под банкой Пипа! Нестерпимый ужас охватил мальчика и заставил его выскочить из лодки с веслом в руке; прыгнув, он зацепил грудью свободно висящий линь, потянул его за собой и, плюхнувшись в воду, сразу же в нём запутался. В то же мгновение кит рванулся что есть силы, началась обычная гонка, линь стал быстро натягиваться, и вот уже бедный Пип, весь в пене, всплыл под носом вельбота, затянутый туда беспощадным линём, несколько раз обвившимся вокруг его груди и шеи.
На носу стоял Тэштиго. Он весь горел охотничьим азартом. Как ненавидел он этого трусливого мямлю! Схватив нож, он занёс острое лезвие над канатом и, обернувшись к Стаббу, отрывисто спросил: «Рубить?» А между тем синее задыхающееся лицо Пипа красноречиво молило: «Руби, бога ради, руби!» Всё это заняло одно мгновение, какие-нибудь полминуты.
– Руби, чёрт бы его драл! – рявкнул Стабб.
Так был потерян кит, а Пип спасён.
Как только бедный негритёнок немного пришёл в себя, команда набросилась на него с воплями и проклятиями. Подождав спокойно, покуда выдохнется этот стихийный поток ругательств, Стабб затем и сам простым, деловым, хотя и немного шутливым тоном отчитал Пипа официально; покончив с этим, он дал ему неофициально один весьма полезный совет. Суть его была такова: никогда не прыгай из лодки, Пип, кроме тех случаев, когда… но дальше шло нечто совершенно невразумительное, как и все разумные советы. Дело в том, что в общем-то китолову лучше всего держаться правила Сиди в лодке; но иной раз случается, что ещё лучше ему руководствоваться правилом Прыгай из лодки. Вот почему, словно спохватившись, что, давая Пипу советы на совесть, во всей их неразбавленной сложности, он только подсказывает ему оправдание для всех его будущих прыжков в воду, Стабб вдруг прервал свои поучения, заключив их решительным приказом: «В другой раз сиди в лодке, Пип, или, клянусь богом, я не стану подбирать тебя, если ты опять выпрыгнешь, помни. Мы не можем себе позволить терять китов из-за таких, как ты; за кита можно выручить раз в тридцать больше, чем дали бы за тебя, Пип, в Алабаме. Запомни, брат, это и в другой раз не прыгай». Тем самым Стабб, кажется, сослался косвенно на то обстоятельство, что, хоть человеку и свойственно любить своего ближнего, всё-таки человек – животное деньголюбивое, и эта склонность слишком часто препятствует проявлению его благожелательства.
Но все мы в руце божией, и Пип снова выпрыгнул из лодки. Произошло это при совершенно таких же обстоятельствах, как и в первый раз; только теперь он не зацепился грудью и не потянул за собой линь; и потому, когда кит начал свою обычную гонку, Пип оказался брошенным на дороге, точно сундук, оставленный человеком, который слишком спешил на поезд. Увы! Стабб твёрдо держал своё слово. А день был такой восхитительный, щедрый, синий; спокойное прохладное море, усеянное бликами, широко и ровно лежало вокруг и уходило к самому горизонту, словно лист золота, расплющенный молотком золотобита. И то показываясь, то исчезая в этом гладком море, чёрная голова Пипа болталась, что одинокая маковка. Никто не поднял ножа, когда Пип вылетел за борт и остался за кормой. Стабб сидел, повернувшись к нему своей неумолимой спиной, а кит летел, словно на крыльях. Не прошло и трёх минут, как уже целая миля безбрежного океана легла между Пипом и Стаббом. И из самой середины моря бедный Пип обратил курчавую голову к солнцу – такому же одинокому и всеми оставленному, как и он сам, только куда более возвышенному и блестящему.
Плавать во время штиля в открытом океане – дело такое же простое для бывалого пловца, как катание в рессорной карете по берегу. Непереносимо лишь охватывающее тебя жуткое одиночество. О, полнейшая сосредоточенность в себе посреди всей этой бесчувственной бесконечности! боже мой! как передать её? Заметьте, как моряки, купаясь в штиль в открытом море, заметьте, как жмутся они поближе к бортам своего корабля и не решаются отплывать в сторону.
Но неужели Стабб и вправду бросил бедного негритёнка на милость судьбы? Нет; во всяком случае, он не собирался этого делать. Вслед за ним шли ещё два вельбота, и он, вероятно, рассчитывал, что они обязательно вскоре наткнутся на Пипа и подберут его; хотя, по правде говоря, охотники в подобных случаях нечасто выказывают заботу о своих товарищах, попавших в беду по собственной робости; а ведь случаи такие нередки; так называемый трус неизбежно возбуждает у всех китоловов отвращение и ненависть, совсем как в армии или военном флоте.
Однако случилось так, что задние вельботы, не заметив Пипа, вдруг увидели неподалёку в стороне китов, повернули и пустились в погоню; а вельбот Стабба был к этому времени так далеко, и сам он вместе со своей командой так был поглощён преследованием добычи, что горизонт вокруг Пипа стал раздаваться с бедственной скоростью. По чистой случайности его спас в конце концов сам «Пекод»; но с того времени маленький негритёнок стал дурачком; так по крайней мере считали матросы. Море, глумясь, поддержало его смертное тело; оно же затопило его бессмертную душу. Однако море не убило её. Оно унесло её живую в чудные глубины, где перед его недвижными очами взад и вперёд проплывали поднятые со дна морского странные тени обитателей первозданных времён; где скареда водяной по имени Мудрость приоткрывал перед ним груды своих сокровищ; где среди радостных, бесчувственных неизбывно-юных миров Пип увидел бесчисленных и, словно бог, вездесущих насекомых-кораллов, что под сводом морским возвели свои гигантские вселенные. Он увидел стопу божию на подножке ткацкого станка, и он стремился поведать об этом; и потому товарищи провозгласили его помешанным. Ибо человеческое безумие есть небесный разум; и человек, покинув пределы земного смысла, приходит под конец к высшей мысли, что в глазах рассудка представляется нелепой и дикой; и тогда – на счастье ли, на горе – он становится непреклонным и равнодушным, как и его бог.
А в общем-то не осуждайте Стабба слишком строго. Такие случаи на промысле нередки; из дальнейшего повествования будет видно, что и со мной приключилось нечто подобное.
Глава XCIV. Пожатие руки
Стаббов кит, приобретённый столь дорогой ценой, был доставлен к борту «Пекода», после чего были проделаны все операции с разрубанием и подтягиванием туши, о которых уже шла речь, включая вычерпывание Гейдельбергской бочки, или кузова. Пока часть команды была занята этим делом, другие оттаскивали прочь бочонки, по мере того как они заполнялись спермацетом; и когда подошёл срок, спермацет был надлежащим образом подготовлен к вытапливанию, – о котором ниже.
Охладившись, он стал твердеть, и когда я вместе с несколькими товарищами уселся перед большой ванной Константина[287], наполненной спермацетом, я с удивлением увидел, что он застыл комками, которые плавали в ещё не затвердевшей влаге. Нам поручалось разминать эти комки, чтобы они снова становились жидкостью. Что за сладкое, что за ароматное занятие! Неудивительно, что в прежние времена спермацет славился как лучшее косметическое средство. Как он очищает! как смягчает! как освежает! и какой у него аромат! Погрузив в него руки всего на несколько минут, я почувствовал, что пальцы у меня сделались, как угри, и даже начали как будто бы извиваться и скручиваться в кольца.
И сидя там, на палубе, непринуждённо скрестив ноги, после того как я долго надрывался за лебёдкой; наслаждаясь теперь тем, как спокойны надо мною синие небеса и как легко и неслышно скользит вперёд судно под чуть вздутыми парусами; купая руки мои между этих мягких, нежных комьев сгустившейся ткани, только что сотканной из пахучей влаги; чувствуя, как они расходятся у меня под пальцами, испуская при этом маслянистый сок, точно созревшие гроздья винограда, брызжущие вином, – вдыхая этот чистейший аромат, воистину подобный запаху вешних фиалок, клянусь вам, я жил в это время словно среди медвяных лугов; я забыл о нашей ужасной клятве; я как бы омыл от неё в спермацете руки свои и сердце своё; я готов был согласиться со странным поверьем времени Парацельса, будто спермацет обладает редкой способностью смирять волнение гнева: купаясь в этой чудесной ванне, я испытывал божественное чувство свободы от всякого недоброжелательства, от всякой обидчивости и от всякой злобы.
Разминай! мни! жми! всё утро напролёт; и я разминал комья спермацета, покуда уж сам, кажется, не растворился в нём; я разминал его, покуда какое-то странное безумие не овладело мною; оказалось, что я, сам того не сознавая, жму руки своих товарищей, принимая их пальцы за мягкие шарики спермацета. Такое тёплое, самозабвенное, дружеское, нежное чувство породило во мне это занятие, что я стал беспрестанно пожимать им руки, с любовью заглядывая им в глаза; словно хотел сказать – о возлюбленные мои братья! К чему нам всякие взаимные обиды, к чему дурное расположение и зависть? Оставим их; давайте все пожмём руки друг другу; нет, давайте сами станем, как один сжатый ком. Давайте выдавим души свои в общий сосуд чистейшего спермацета доброты.
О, если б я мог разминать спермацет вечно! Ибо теперь, когда по собственному длительному и многократному опыту я знаю, что человеку неизменно приходится в конце концов снижать или во всяком случае сдвигать своё представление о достижимом счастье, помещая его не в области ума или фантазии, но в жене своей, в доме, кровати, столе, упряжи, камине, деревне; теперь, когда я понял всё это, я готов разминать спермацет всю жизнь. В сновидениях и грёзах ночи я видел длинные ряды ангелов в раю, они стояли, опустив руки в сосуды со спермацетом.
Ведя беседу о спермацете и о подготовке кашалотовой туши к вытапливанию, следует привести также и некоторые другие понятия, сюда относящиеся.
Прежде всего идёт так называемый «белый тук», извлекаемый из наиболее узкой части туловища и толстых участков хвостового плавника. Он представляет собой сгусток сухожилий и мускулов, но всё же содержит некоторое количество жиру. Отделив «белый тук» от китовой туши, его сначала разрубают на небольшие продолговатые бруски, а потом уже препровождают в дробилку. С виду они напоминают бруски беркширского мрамора.
«Плюм-пудингом» называются отдельные куски китового мяса, как бы приставшие в разных местах к сальной попоне и подчас немало добавляющие к её жировым запасам. С виду это самое приятное, аппетитное, прекрасное вещество. Как показывает название, оно имеет очень красивую яркую окраску – белоснежное и золотистое с прожилками и всё усеяно крапинками и пятнами ярко-алого и лилового цвета. Рубиновые изюмины на лимонном фоне. Рассудку вопреки, так, кажется, и съел бы его. И, признаюсь, один раз, укрывшись за фок-мачтой, я его попробовал. Вкус у него оказался примерно такой, какой должен быть, наверное, у королевской котлеты, приготовленной из ляжки Людовика Толстого[288], при условии, чтобы его убили в последний день охотничьего сезона в тот самый год, когда виноградники Шампани принесли особенно богатый урожай.
Есть ещё другое чрезвычайно своеобразное вещество, с которым приходится сталкиваться во время работы, но описание которого представляется мне на редкость трудным делом. Именуется оно «слизью», так прозвали его китоловы, и таковым оно и является по своей природе. Оно удивительно вязкое и тягучее; попадается обычно в бочках со спермацетом, после того как его долго разминают, а потом процеживают. Я полагаю, что это слипшиеся вместе тончайшие обрывки плёнки, устилавшие изнутри спермацетовый резервуар кашалота.
Термин «отбросы» принадлежит, собственно, охотникам за настоящими китами, но и ловцы кашалотов пользуются им иногда. Этим словом обозначается чёрное клейкое вещество, которое соскребают со спины у гренландского, или настоящего, кита и которое обычно в больших количествах покрывает палубы тех жалких посудин, что гоняются за этим презренным Левиафаном.
«Клешни». Строго говоря, слово это – не исключительная принадлежность китобойского лексикона. Но в устах китобоев оно приобретает особое значение. Клешня у кита – это короткая и твёрдая полоса жилистой ткани, вырезанная из стебля хвоста: она имеет, как правило, один дюйм в толщину, а в остальных измерениях соответствует примерно железной части огородной мотыги. Острым её краем проводят по залитой жиром палубе, словно кожаным скребком или шваброй, и она с какой-то непостижимой льстивой силой, точно по волшебству, увлекает за собой всю нечистоту.
Но если вы пожелаете побольше узнать обо всех этих сложных делах, лучше всего будет вам спуститься в ворванную камеру и подробно побеседовать с теми, кого вы там застанете. Об этом помещении уже упоминалось однажды как о месте, куда складываются полосы попоны, подрезанной и содранной с китовой туши. Когда наступает срок разрубать сало, ворванная камера превращается в комнату ужасов для всякого новичка, в особенности если дело происходит ночью. В одном углу, освещённом тусклым фонарём, освобождают место для людей. Работают обычно по двое: один с пикой и багром, другой с лопатой. Китобойская пика напоминает по виду абордажное оружие фрегата с тем же названием. А багор – это нечто вроде лодочного крюка. Этим багром матрос подцепляет кусок сала и старается удержать его в одном положении, покуда судно раскачивается и кренится со стороны в сторону. А тем временем другой матрос, стоя прямо на этом куске сала и отвесно держа лопату, разрубает его у себя под ногами на узкие полосы. Лопата наточена так остро, как только может точить оселок; работают матросы босиком; сало, на котором стоит человек с лопатой, в любой момент может выскользнуть у него из-под ног, словно санки. Так нужно ли тут особенно удивляться, если иной раз он отхватит палец на ноге – себе или своему помощнику? У ветеранов ворванной камеры на ногах всегда в пальцах недочёт.
Глава XCV. Сутана
Если бы вы оказались на борту «Пекода» при вскрытии китового трупа и если бы вы вздумали в это время пройтись до шпиля, вам бы непременно попался на глаза, возбудив немалое любопытство, один весьма загадочный предмет, лежащий вдоль левого борта у шпигатов. Ни чудесный резервуар в огромной голове кашалота, ни чудовищные размеры его нижней челюсти, ни сказочная соразмерность его хвостовых лопастей – ничто не удивит вас настолько, как этот мельком вами увиденный загадочный конус – длинный, как самый рослый житель Кентукки, у основания почти в целый фут в поперечнике и смолянисто-чёрный, как Йоджо, Квикегов эбеновый идол. Это и в самом деле идол; вернее, идолом служило в древние времена его изображение[289]. Тем самым идолом, что был поставлен в тайных рощах Маахи, царицы Иудеи, и за поклонение которому сын её Аса лишил её звания царицы и изрубил истукан её и сжёг как премерзкий у потока Кедрона, как о том туманно повествуется в пятнадцатой главе Первой Книги Царей.
Взгляните же вон на того матроса, называемого резчиком, который подходит сюда, с помощью двух подручных взваливает себе на спину грандиссимус, как называют его моряки, и, согнувшись под ним в три погибели, едва ступает прочь, словно гренадер, уносящий павшего товарища с поля битвы. Сбросив его на баке, он принимается снизу вверх сдирать с него чёрную кожу, как сдирает охотник-африканец кожу с огромного удава. Когда дело сделано, он выворачивает её, точно штанину, наизнанку, хорошенько растягивает, так что она становится чуть ли не в два раза шире, и наконец подвешивает среди снастей для просушки. Через некоторое время её снимают, и тогда, отрезав фута три с заострённого конца и проделав по бокам два отверстия для рук, резчик напяливает её на себя. Теперь он стоит перед вами в полном каноническом облачении своего ордена. С незапамятных времён такое одеяние одно даёт надёжную защиту людям его профессии при исполнении ими их необыкновенных служебных обязанностей.
Обязанности эти состоят в крошении полос сала перед отправкой в котлы, что проделывают на особого рода деревянной мясорубке, установленной у самого борта, с огромной кадкой под крутящимся валом, в которую падают один за другим тонкие пласты сала, словно исписанные листы с трибуны у пламенного оратора. Облачённый в благочестивые чёрные одежды, стоящий за кафедрой на виду у всех, не отрывающий взора от «листов Библии» – какой отличный кандидат в архиепископы, великолепный папа Римский вышел бы из этого резчика[290].
Глава XCVI. Салотопка
Американский китобоец можно отличить с виду не только по висящим над бортами вельботам, но ещё и по салотопке. В структуре этого корабля массивная каменная кладка, в нарушение всех обычаев, соседствует с дубом и пенькой. Кажется, что на деревянной палубе установлена перенесённая с поля печь для обжига кирпичей.
Салотопка расположена между фок– и грот-мачтой на самом просторном участке палубы. Тимберсы в этом месте делают из особо толстых брёвен, способных выдержать вес целой постройки из кирпича и извести площадью в десять на восемь футов и высотой в восемь футов. Основание салотопки не уходит под палубу, однако стены её надёжно прикреплены к ней посредством тяжёлых железных скоб, которые привинчиваются прямо к тимберсам. По бокам она обшита досками, а сверху у неё находится большой, покатый, прочно задраенный люк. Когда крышка с него снята, глазам вашим открываются огромные котлы в количестве двух и ёмкостью в несколько баррелей каждый. В перерывах между работой их содержат всегда в необычайной чистоте. Обычно их начищают мыльным камнем с песком, покуда они не заблестят в салотопке, словно серебряные пуншевые чаши. В ночную вахту старые матросы, потеряв всякий стыд, забираются подчас в котёл, чтобы, свернувшись, вздремнуть там немного. Нередко случается, что двое матросов, занятые каждый в своём котле чисткой их полированного нутра, через их железные уста поверяют друг другу самые сокровенные свои мысли. Здесь также охватывает человека глубочайшее математическое раздумье. Именно в левом котле «Пекода», пока мыльный камень усердно описывал вокруг меня спирали, мне впервые открылся тот замечательный геометрический факт, что всякое тело, скользящее по циклоиде, например мой мыльный камень, будучи отпущенным, из любой точки опустится вниз за одно и то же время.
Если отодвинуть спереди заслонку, откроется кирпичная стена салотопки с двумя железными устьями печей, приходящимися прямо под котлами. Устья эти снабжены тяжёлыми железными дверцами. А для того чтобы сильнейший жар топок не передавался палубе, снизу под кирпичной кладкой устроен мелкий резервуар, который через канал, проложенный сзади, постоянно наполняется водой с такой же скоростью, с какой она оттуда испаряется. Никаких дымоходов там нет, дым из топок выходит прямо через отверстия в задней стене. А теперь давайте и мы с вами вернёмся немного назад.
Было около девяти часов вечера, когда топки «Пекода» должны были впервые за это плавание быть приведены в действие. Распоряжаться этим делом полагалось второму помощнику – Стаббу.
– Ну как, все готовы? Тогда люк долой и запускайте её. Эй, кок, поджигай топки.
Это было нетрудно сделать, потому что корабельный плотник в течение всего плавания запихивал туда стружки. Здесь надо сказать, что на китобойце огонь салотопок лишь поначалу приходится разводить дровами. Дрова используются только для скорейшего разжигания основного топлива, то есть листов сала, почерневших и свернувшихся после вытопки и теперь уже именуемых «граксой» или «оладьями», в которых всё-таки остаётся значительное количество жира. Именно этими «оладьями» и поддерживают огонь в печах. Подобно упитанному мученику на костре или прибегшему к самосожжению мизантропу, кит, будучи однажды воспламенён, сам служит себе топливом и горит собственным огнём. Жаль только, он не поглощает собственного дыма! потому что вдыхать этот дым – сущее мучение; а всё равно вдыхать его приходится, да что там! какое-то время вы просто живёте в нём. Он отдаёт невыразимо гнусным смрадом, вроде того, что стоит, наверное, поблизости от индуистских погребальных костров. Он пахнет, как левое крыло Судного дня, он служит доказательством существования преисподней.
К полуночи топки работали вовсю. Мы уже отделили китовое мясо от костей, паруса были расправлены, ветер свежел, и мрак над пустынным океаном стоял непроглядный. Но время от времени жадные языки пламени принимались лизать эту тьму, вырываясь из закопчённых печных отверстий и озаряя светом каждый канат, каждую снасть, как будто бы по ним бежал прославленный греческий огонь. А горящий корабль шёл всё вперёд и вперёд, словно посланный неумолимой рукой на страшное дело мести. Так гружённые дёгтем и серой бриги отважного гидриота Канариса вышли из гаваней под покровом ночи, неся на мачтах вместо парусов охваченные пламенем полотнища, ринулись прямо на турецкие фрегаты и спалили их в одном огромном пожаре[291].
Крышка люка, снятая сверху, лежала теперь перед топками, точно каминная плита перед очагом. И на ней вырисовывались адские тени язычников-гарпунёров, неизменных кочегаров китобойца. Огромными вилами на длинных шестах они забрасывали шипящие куски сала в кипучие котлы или ворошили под ними огонь, так что узкие языки пламени вылетали, змеясь, из топок, норовя уцепить их за ноги. А дым угрюмыми клубами уносился прочь. И всякий раз, когда корабль подбрасывало на волне, кипящее масло всплёскивалось в котлах, словно хотело достать их разгорячённые лица. А напротив раскрытых топок, у противоположного конца широкой дощатой плиты, стоял шпиль. Он служил корабельным диваном. На нём отдыхали вахтенные в перерывах между работой, сидели, уставившись в красное пекло топок и до боли обжигая глаза. Их огрубелые лица, покрытые теперь ещё копотью и потом, их всклокоченные бороды и неожиданно яркий языческий блеск зубов то и дело выступали вдруг из тьмы в причудливом свете ослепительного пламени. И когда они рассказывали друг другу о своих безбожных похождениях; когда словами веселья вели свои жуткие рассказы; когда их дикарский хохот взмывал языками к небу, подобно пламени из печей, а впереди, у топок, гарпунёры отчаянно размахивали огромными зубастыми вилами и черпаками; выл ветер, море волновалось, и судно стонало, зарываясь носом в волне, но всё вперёд и вперёд несло своё красное пекло в черноту моря и ночи, и грызло с презрением белую кость и в ярости выбрасывало из пасти белую пену, – тогда «Пекод», летящий в самую черноту тьмы с грузом дикарей, отягчённый пламенем и на ходу сжигающий мёртвое тело, был словно зримое воплощение безумия своего командира.
Таким казался он мне, когда я стоял за штурвалом и долгие часы безмолвно направлял по волнам мой огненный корабль. Сам окружённый тьмой, я только отчётливей видел, как красны, как безумны, как призрачно жутки все остальные. Вид этих бесовских теней, шныряющих передо мной наполовину в дыму, наполовину в огне, породил под конец в душе моей сходные видения, как только я поддался той загадочной сонливости, что всегда овладевала мною в полночь за рулём.
В ту самую ночь приключилась со мной одна очень странная (и по сей день необъяснимая) вещь. Очнувшись от короткого сна, я испытал мучительное ощущение чего-то непоправимого. Румпель из китовой челюсти, на который я опирался, ударил меня в бок; в ушах у меня раздался глухой гул парусов, заполоскавшихся на ветру; глаза мои вроде были открыты; к тому же со сна я стал пальцами бессознательно растягивать веки. И всё-таки, что бы я ни делал, компаса, по которому я должен был держать курс, передо мной не было; а ведь всего только минуту назад я, кажется, разглядывал картушку при ровном свете нактоузного фонаря. Но теперь передо мной вдруг не стало ничего, кроме непроглядной тьмы, чуть бледнеющей по временам от красных вспышек. И над всем этим в душе моей возобладало какое-то властное ощущение, будто быстро летящий этот предмет, на котором я стою, чем бы он в действительности ни был, бежал не к дальним гаваням впереди, а уходил прочь от всех гаваней позади себя. Тяжёлое смятенное чувство, подобное чувству смерти, охватило меня. Руки мои судорожно уцепились за румпель, и при этом мне почудилось, будто он каким-то чародейским способом перевёрнут задом наперёд.
Боже мой! что же это случилось со мною? – подумал я. И вдруг я понял: во время короткого сна я повернулся и стоял теперь лицом к корме, а спиной к носу и компасу. В то же мгновение я оборотился назад и едва успел привести корабль к ветру, который неминуемо бы его перевернул. Как радостно, как приятно освобождение от сверхъестественных галлюцинаций этой ночи и от смертельной опасности очутиться за бортом!
Не гляди слишком долго в лицо огню, о человек! Не дремли, положив руку на штурвал! Не поворачивайся спиной к компасу; слушайся указаний толкнувшего тебя в бок румпеля; не доверяй искусственному огню, в красном блеске которого всё кажется жутким. Завтра в природном свете солнца снова будут ясными небеса; тех, кто метался как бес в языках адского пламени, заря покажет в ином, куда более мягком освещении; прекрасное золотое, радостное солнце – единственный правдивый светоч; всё прочее – ложь!
Однако и солнцу не спрятать ни гиблых топей Виргинии, ни богом проклятой римской Кампаньи, ни бескрайней Сахары, не спрятать тысячи миль пустынь и печалей под луной. Не спрятать солнцу океан – тёмную сторону нашей планеты, океан, который покрывает эту планету на целых две трети. Вот почему тот смертный, в ком больше веселья, чем скорби, смертный этот не может быть прав – он либо лицемер, либо простак.
То же самое относится и к книгам. Самым правдивым из людей был Муж Скорби и правдивейшая из книг – Соломонов Екклезиаст, тонкая, чеканная сталь горя. «Всё – суета». ВСЁ. Упрямый мир ещё не до конца усвоил нехристианскую Соломонову премудрость. Но тот, кто за версту обходит больницы и тюрьмы, кто спешит побыстрей перейти через кладбище, кто предпочитает разговаривать об опере, а не об аде; тот, кто Каупера[292], Юнга[293], Паскаля[294] и Руссо без разбора зовёт хворыми бедняками и всю свою беззаботную жизнь клянётся именем Рабле, как достаточно умного и потому весёлого сочинителя, – такой человек и не достоин взламывать печать зелёной плесени на могильных плитах со славным Соломоном. А ведь даже Соломон и тот говорит: «Человек, сбившийся с пути разума, водворится» (то есть, покуда он жив) «в собрании мертвецов». Не поддавайтесь же чарам огня, иначе он вас изувечит, умертвит, как было в ту ночь со мной.
Существует мудрость, которая есть скорбь; но есть также скорбь, которая есть безумие. В иных душах гнездится кэтскиллский орёл[295], который может с равной лёгкостью опускаться в темнейшие ущелья и снова взмывать из них к небесам, теряясь в солнечных просторах. И даже если он всё время летает в ущелье, ущелье это в горах; так что как бы низко ни спустился горный орёл, всё равно он остаётся выше других птиц на равнине, хотя бы те парили в вышине.
Глава XCVII. Лампа
Вздумай вы оставить салотопки «Пекода» и спуститься в кубрик, где спят подвахтенные, вам на минуту показалось бы, что вы находитесь в залитой светом гробнице, где покоятся короли и вельможи, причисленные к лику святых. Вот они лежат перед вами в трехгранных дубовых раках, каждый спящий – точно высеченный из камня образ безмолвия, залитый светом десятка ламп, сияющих над его сомкнутыми веждами.
На торговом судне масло для матроса такая же невидаль, как королевино молоко. Одевайся в темноте, ешь в темноте, в темноте вались на койку – вот она, матросская доля. Но китобой, гоняясь за пищей для света, сам живёт, купаясь в свете. Койка его – это лампа Алладина, и в неё он укладывается спать, так что в самой гуще ночного мрака чёрный корпус его судна несёт в себе целую иллюминацию.
Поглядите, как запросто подхватывает китолов в горсть все свои лампы – правда, подчас это лишь старые флаконы, пузырьки и бутылки, – несёт их к медному чану, где остужают масло, и наполняет там, точно кружки элем из бочонка. И жжёт он у себя чистейшее из масел в необработанном и, стало быть, незагрязненном виде; жидкость, недоступную ни для каких солнечных, лунных и звёздных изобретений на суше. Она сладка, точно коровье масло, сбитое по весне, когда свежа трава на апрельских лугах. Китолов сам охотится за маслом для своих ламп, чтобы быть уверенным в его свежести и неподдельности, как путешественник в прериях сам охотится за дичиной себе на ужин.
Глава XCVIII. Разливка и приборка
Мы уже рассказывали о том, как дозорные на мачтах замечают великого левиафана; как гонятся за ним по водным пашням и забивают его в бездонной лощине; как затем его швартуют у борта и обезглавливают и как (на том же основании, на каком в былые времена заплечных дел мастеру доставалась одежда казнённого) его длиннополый с прокладками сюртук становится собственностью его палача; как по прошествии должного времени его подвергают кипячению в котлах и как, подобно Седраху, Мисаху и Авденаго[296], его спермацет, масло и кость выходят из пламени невредимы; теперь остаётся заключить последнюю главу этой части описаний пересказом, я бы сказал – воспеванием, – романтической процедуры разливки его масла по бочкам и спуска их в трюм, очутившись в котором, левиафан снова возвращается в свои родные глубины, скользя, как и прежде, под водой; но увы! чтобы уж никогда не подняться на поверхность и никогда уж больше не пускать фонтанов.
Масло, ещё тёплое, разливают, точно горячий пунш, по шестибаррелевым бочкам; и пока полуночное море подбрасывает корабль на волнах и швыряет из стороны в сторону, огромные бочки одна за другой устанавливаются днищем к днищу, иногда вдруг срываясь и грозно, точно оползни, перекатываясь по осклизлой палубе, покуда их наконец не остановят матросы; и повсюду раздаётся «стук, стук, стук!» – это бьют десятки молотков, потому что каждый матрос теперь ex officio[297] превращается в бочара.
Наконец последняя пинта перелита в бочку, масло остужено, и тогда распечатываются большие люки, настежь распахнуто нутро корабля, и бочки уходят вниз, чтобы обрести покой среди волн морских.
Дело сделано, крышки люков водворяются на место и герметически задраиваются; трюмы теперь – словно замурованное подполье.
Это, думается, один из самых значительных моментов в жизни китобойца. Сегодня палубы ещё струятся кровью и жиром; на священном возвышении шканцев грудой навалены куски распиленной китовой головы; вокруг, точно во дворе пивоварни, валяются большие ржавые бочки; от дыма салотопок все поручни покрыты копотью и сажей; матросы ходят с ног до головы пропитанные маслом; и весь корабль уж кажется не корабль, а сам великий левиафан; и повсюду стоит оглушительный грохот.
Но проходит день-другой, вы осматриваетесь вокруг, вы прислушиваетесь – корабль как будто бы тот же самый, но не будь перед вами вельботов и салотопки, вы бы поклялись, что стоите на палубе тихого купеческого судна, на котором капитан – дотошный чистоплюй. Необработанный спермацет обладает редким очистительным свойством. Вот почему на китобойце палубы никогда не бывают такими белыми, как после «масляного дела», как у нас говорят. Кроме того, из золы, собираемой после сжигания всяких остатков, без труда приготовляется очень крепкий щёлок, и если где-нибудь к корабельному боку пристала слизь от китового бока, её быстро удаляют при помощи этого щёлока. А по фальшбортам матросы старательно проходятся мокрыми тряпками, возвращая им их первоначальную чистоту. Копоть с нижних снастей счищают. Всевозможные орудия и инструменты, бывшие в ходу, также подвергают чистке и убирают с глаз долой. Большая крышка, тщательно вымытая, снова водворяется над салотопкой, скрывая из виду оба котла; все бочки спрятаны, тросы свёрнуты в бухты и убраны; а когда в результате совместных и одновременных усилий всей команды ответственное это дело подходит к концу, люди принимаются за омовение собственных тел; переодеваются с ног до головы во всё свежее и наконец выходят на белоснежную палубу, сверкая чистотой, точно женихи, повыскакивавшие прямо из элегантной Голландии.
Лёгкими шагами расхаживают они по двое и по трое вдоль по палубе и весело беседуют о гостиных, диванах, коврах и тонких батистах – не покрыть ли палубу коврами или, может, подвесить к снастям портьеры; да и не худо бы, мол, было бы устраивать чаепития при лунном свете на веранде бака. Всякое упоминание о ворвани, костях и сале в присутствии этих раздушенных моряков было бы по меньшей мере наглостью. Они и знать ничего не знают об этих вещах, на которые вы пытаетесь издалека навести разговор. Ступайте; и подать сюда салфетки!
Но поглядите: там, в вышине, на верхушках всех трёх мачт, стоят трое дозорных и пристально высматривают вдали китов, которые, если их поймают, непременно опять запачкают старинную дубовую мебель и хоть где-нибудь оставят после себя сальное пятнышко. Именно так; и до чего же часто случается, что после тяжелейших трудов, тянувшихся без перерыва добрых девяносто шесть часов, когда, не зная ни дня ни ночи, прямо из вельбота, где они с утра до вечера гребли, надсаживаясь до боли в запястьях, китобои ступают на палубу, чтобы таскать огромные цепи и ворочать тяжёлую лебёдку, и рубить, и резать, да притом ещё заживо поджариваться и печься, обливаясь потом, в двойном огне – тропического солнца и тропической салотопки; затем, едва только успеют они вымыть судно и снова навести повсюду безупречную чистоту, – как часто случается, что бедняги, застёгивая воротник чистой рубахи, снова слышат извечный клич: «Фонтан на горизонте!» – и вот уже они снова плывут, чтобы сразиться с китом, и всё начинается сначала. Но, друзья мои, ведь это – человекоубийство! Да; однако такова жизнь. Ибо едва только мы, смертные, после тяжких трудов извлечём из огромной туши этого мира толику драгоценного спермацета, содержащегося в ней, а потом с утомительным тщанием очистим себя от её скверны и научимся жить здесь в чистых скиниях души; едва только управимся мы с этим, как вдруг – Фонтан на горизонте! – дух наш струёй взмывается ввысь, и мы снова плывём, чтобы сразиться с иным миром, и вся древняя рутина молодой жизни начинается сначала.
О метампсихоза! О Пифагор, скончавшийся в солнечной Греции две тысячи лет тому назад; в прошлом рейсе я плыл вместе с тобой вдоль перуанского побережья – и я, как дурак, учил тебя, зелёного юнца и простофилю, как сплеснивать концы!
Глава XCIX. Дублон
Где-то раньше уже говорилось о том, что у Ахава была привычка расхаживать взад и вперёд по шканцам, делая повороты у нактоуза и у грот-мачты; но среди многочисленных прочих подробностей, требовавших изложения, не было упомянуто, что иногда во время таких прогулок, если мрачные раздумья охватывали его с особенной силой, он имел обыкновение делать по пути остановки в обоих этих крайних пунктах своего маршрута и стоять, и там и тут пристально разглядывая один определённый предмет перед собой. Когда он задерживался у нактоуза, этим предметом была заострённая стрелка компаса, на которую он направлял свой взгляд, и взгляд его разил, точно копьё, остриём своего пылкого стремления; когда же, возобновив прогулку, он доходил до грот-мачты и останавливался перед нею, всё тот же его разящий взор, как прикованный, застывал на прибитой к дереву золотой монете, и вид его выражал всё ту же твёрдую решимость, быть может, только с примесью исступлённого, страстного желания и даже какой-то надежды.
Но однажды поутру, остановившись на пути перед дублоном, он задержал взгляд на изображениях и надписях, запечатлённых на нём, точно попытался на этот раз впервые связать их тайный смысл со своей бредовой, навязчивой мыслью. Ведь какой-то смысл таится во всех вещах, иначе все эти вещи мало чего стоят, и сам наш круглый мир – ничего не значащий круглый нуль и годен лишь на то, чтобы отправлять его на продажу возами, как холмы под Бостоном, и гатить им трясину где-нибудь на Млечном Пути.
Этот дублон был чистейшего самородного золота, вырытого из самого сердца прекрасных холмов, по которым на запад и на восток стекает в золотоносных песках не один Пактол[298]. И хоть теперь он был прибит среди ржавчины железных болтов и патины медных костылей, всё же и здесь, неприкасаемый, недоступный всему нечистому, он сохранял свой экваториальный блеск. И несмотря на то, что его окружали здесь люди, для которых не существовало ничего святого, и не ведающие страха божьего матросы то и дело проходили мимо него; несмотря на то, что долгими, как жизнь, ночами его одевала густая тьма, чей покров скрыл бы от мира любую воровскую вылазку, всё же каждый новый рассвет заставал дублон на том самом месте, где закат оставил его накануне. Ибо этот дублон был особенный, он предназначался иной, устрашающей цели; и самые беспутные на свой, матросский, манер моряки все до одного видели и почитали в нём талисман Белого Кита. Иной раз в унылые часы ночной вахты они вели между собой о нём разговоры, гадая, кому он достанется и доживёт ли его новый владелец до того дня, когда он смог бы его истратить.
Эти величественные золотые монеты Южной Америки похожи на медали Солнца или на круглые значки, выбитые в память о красотах тропиков. Здесь и пальмы, и козы-альпага, и вулканы; солнечные диски и звёзды; круги небесной сферы и роги изобилия, и пышные знамёна – всё в больших количествах и в крайнем роскошестве; кажется, само драгоценное золото становится ещё дороже и сверкает ещё ослепительнее, оттого что прошло через их изысканные, по-испански поэтические монетные дворы.
Дублон «Пекода» был как раз одним из ярких образчиков такого рода изделий. По его круглому краю шли буквы: REPUBLICA DEL ECUADOR, QUITO. Итак, родина этой монеты помещалась в самом центре мира, под великим экватором, и названа его именем; её отлили где-то в Андах, в стране вечного неувядающего лета. В обрамлении этой надписи можно было видеть какое-то подобие трёх горных вершин; из одной било пламя, на другой высилась башня, с третьей кричал петух, и сверху их аркой охватывали знаки зодиака с их обычными кабалистическими изображениями. А Солнце – ключевой камень – как раз вступало в точку равноденствия под Весами.
Перед этой экваториальной монетой стоял теперь Ахав, и здесь не избегнувший посторонних взоров.
– Есть что-то неизменно эгоистическое в горных вершинах, и в башнях, и во всех прочих великих и возвышенных предметах; стоит взглянуть на эти три пика, преисполненные люциферовой гордости. Крепкая башня – это Ахав; вулкан – это Ахав; отважная, неустрашимая, победоносная птица – это тоже Ахав; во всём Ахав; и сам этот круглый кусок золота – лишь образ иного, ещё более круглого шара, который, подобно волшебному зеркалу, каждому, кто в него поглядится, показывает его собственную загадочную суть. Велики труды – жалки плоды для того, кто требует, чтобы мир разгадал её; мир не может разгадать самого себя. Сдаётся мне сейчас, что у этого чеканного солнца какой-то багровый лик; но что это? конечно! оно входит под знак бурь – под знак равноденствия! а ведь всего только шесть месяцев назад оно выкатилось из прошлого равноденствия под Овном. От бури к буре! Ну что ж, будь так. Рождённый в муках, человек должен жить в терзаниях и умереть в болезни. Ну что ж, будь так! Мы ещё потягаемся с тобой, беда. Пусть будет так, пусть будет так.
– Пальчики феи не оставили бы отпечатков на этом золоте, но когти дьявола, как видно, провели по нему со вчерашнего вечера свежие царапины, – пробормотал себе под нос Старбек, перегнувшись через фальшборт. – Старик словно читает ужасную надпись Валтасара[299]. Я ни разу не присматривался к монете. Вот он уходит вниз; пойду погляжу. Тёмная долина между тремя величественными, к небу устремлёнными пиками, это похоже на святую троицу в смутном земном символе. Так в этой долине Смерти бог опоясывает нас, и над всем нашим мраком по-прежнему сияет солнце Праведности огнём маяка и надежды. Если мы опускаем глаза, мы видим плесневелую почву тёмной долины; но стоит нам поднять голову, и солнце спешит с приветом навстречу нашему взору. Однако ведь великое солнце не прибьёшь на одном месте, и если в полночь мы вздумаем искать его утешений, напрасно будем мы шарить взором по небесам! Эта монета говорит со мной мудрым, негромким, правдивым и всё же грустным языком. Я должен оставить её, чтобы Истина не смогла предательски поколебать меня.
– Вот пошёл старый Могол, – начал Стабб свой монолог у салотопок, – как он её разглядывал, а? а за ним и Старбек отошёл от неё прочь; и лица у них у обоих, скажу я вам, саженей по девять в длину каждое. А всё оттого, что они глядели на кусок золота, который, будь он сейчас у меня, а сам я на Негритянском Холме или в Корлиерсовой Излучине, я бы лично долго разглядывать не стал, а просто потратил. Хм! по моему жалкому, непросвещённому мнению, это довольно странно. Приходилось мне видывать дублоны и в прежние рейсы, и старинные испанские дублоны, и дублоны Перу, и дублоны Чили, и дублоны Боливии, и дублоны Попаяна[300]; видал я также немало золотых моидоров, и пистолей, и джонов, и полуджонов, и четверть джонов[301]. И что же там такого потрясающего в этом экваториальном дублоне? Клянусь Голкондой, надо сходить посмотреть! Эге, да здесь и вправду всякие знаки и чудеса! Вот это, стало быть, и есть то самое, что старик Боудич зовёт в своём «Руководстве» зодиаком и что точно так же именуется в календаре, который лежит у меня внизу. Схожу-ка я за календарём, ведь если, как говорят, можно вызвать чертей с помощью Арифметики Даболля, неплохо бы попытаться вызвать смысл из этих загогулин с помощью Массачусетского численника. Вот она, эта книга. Теперь посмотрим. Знаки и чудеса; и солнце, оно всегда среди них. Гм, гм, гм; вот они, голубчики, вот они, живые, все как один, – Овен, или Баран; Телец, или Бык, а вот – лопни мои глаза! – вот и сами Близнецы. Хорошо. А солнце, оно перекатывается среди них. Ага, а здесь на монете оно как раз пересекает порог между двумя из этих двенадцати гостиных, заключённых в одном кругу. Ну, книга, ты, брат, лежи лучше здесь; вам, книгам, всегда следует знать своё место. Вы годитесь на то, чтобы поставлять нам голые слова и факты, но мысли – это уже наше дело. Так что на этом я покончил с Массачусетским календарём, и с руководством Боудича, и с Арифметикой Даболля. Знаки и чудеса, а? Жаль, право, если в этих знаках нет ничего чудесного, а в чудесах ничего значительного! Тут где-то должен быть ключ к загадке; подождите-ка; тс-с-с, минутку; ей-богу, я его раздобыл! Эй, послушай, дублон, твой зодиак – это жизнь человека в одной круглой главе; и я её сейчас тебе прочту, прямо с листа. А ну, Календарь, иди сюда! Начнём: вот Овен, или Баран, – распутный пёс, он плодит нас на земле; а тут же Телец, или Бык, уже наготове и спешит пырнуть нас рогами; дальше идут Близнецы – то есть Порок и Добродетель; мы стремимся достичь Добродетели, но тут появляется Рак и тянет нас назад, а здесь, как идти от Добродетели, лежит на дороге рыкающий Лев – он кусает нас в ярости и грубо ударяет лапой по плечу; мы едва спасаемся от него, и приветствуем Деву! то есть нашу первую любовь; женимся и считаем, что счастливы навеки, как вдруг перед нами очутились Весы – счастье взвешено и оказывается недостаточным; мы сильно грустим об этом и вдруг как подпрыгнем! – это Скорпион ужалил нас сзади; тогда мы принимаемся залечивать рану, и тут – пью-и! – со всех сторон летят в нас стрелы; это Стрелец забавляется на досуге. Приходится вытаскивать вонзённые стрелы, как вдруг – посторонись! – появляется таран Козерог, иначе Козёл; он мчится на нас со всех ног и зашвыривает нас бог знает куда; а там Водолей обрушивает нам на голову целый потоп, и вот мы уже утонули и спим в довершение всего вместе с Рыбами под водой. А вот и проповедь, начертанная высоко в небе, а солнце проходит через неё каждый год, и каждый год из неё выбирается живым и невредимым. Весело катится оно там наверху через труды и невзгоды; весело здесь внизу тащится неунывающий Стабб. Никогда не унывай – вот моё правило. Прощай, дублон! Но постойте, вон идёт коротышка Водорез; нырну-ка я за салотопку и послушаю, что он будет говорить. Ага, вот он остановился перед монетой; сейчас что-нибудь скажет. Вот, вот, он начинает.
– Ничего я здесь не вижу, кроме золотого кругляшка, и кругляшок этот должен достаться тому, кто первым заметит одного определённого кита. И чего они так все на него глазели? Он равен в цене шестнадцати долларам, это верно; что составляет, если по два цента за сигару, девятьсот шестьдесят сигар. Я не стану курить вонючую трубку, как Стабб, но сигары я люблю, а здесь их сразу девятьсот шестьдесят штук; вот почему Фласк идёт на марс высматривать их.
– Не знаю, умно это или глупо; если это в самом деле умно, то выглядит довольно глуповато; а если в действительности это глупо, то кажется почему-то всё же довольно умным. Но, тс-с! вот идёт наш старик с острова Мэн; он был там, наверное, возницей на похоронных дрогах, до того как вздумал стать моряком. Он кладёт руль на борт возле дублона и обходит грот-мачту с другой стороны; эге, да там к мачте прибита подкова; но вот снова подходит к монете; что бы это должно означать? Тс-с! Он что-то бормочет. Ну и голос у него – что у твоей разбитой кофейной мельницы. Навострю-ка уши да послушаю.
– Если нам суждено поднять Белого Кита, это должно случиться через месяц и один день, и солнце будет стоять тогда в каком-то из этих знаков. Я изучил знаки, и мне понятны такие рисунки; меня обучила этому четыре десятка лет тому назад одна старая ведьма в Копенгагене. Так в каком же знаке будет в то время солнце? Оно будет под знаком подковы; ибо вот она, подкова; прямо напротив золота. А что такое знак подковы? Это лев, рыкающий и пожирающий лев. Эх, корабль, старый наш корабль, старая моя голова трясётся, когда я думаю о тебе.
– Ну, вот и ещё одно толкование всё того же текста. Люди все разные, да мир-то один. Спрячусь снова! сюда идёт Квикег, весь в татуировке – сам похож на все двенадцать знаков зодиака. Что же скажет каннибал? Умереть мне на этом месте, если он не сравнивает знаки! смотрит на собственное бедро; он, видно, думает, что солнце у него в бедре, или в икрах, или, может быть, в кишках, – точно так же рассуждают об астрономии деревенские старухи. А ведь он, ей-богу, нашёл что-то у себя поблизости от бедра, там у него Стрелец, надо думать. Нет, не понимает он, что за штука этот дублон; он думает, что это старая пуговица от королевских штанов. Но скорей назад! сюда идёт этот чёртов призрак Федалла; хвост, как обычно, подвёрнут и спрятан, и в носках туфель, как обычно, напихана пакля. Ну-ка, что он скажет, с этой своей дьявольской рожей? О, он только делает знак этому знаку и низко кланяется; там на монете изображено солнце, а уж он-то солнцепоклонник, можете не сомневаться. Ого! чем дальше в лес, тем больше дров. Пип идёт сюда, бедняга; лучше бы умер он или я; он внушает мне страх. Он тоже следил за всеми этими толкователями и за мной в том числе, а теперь, поглядите, и сам приближается, чтобы рассмотреть монету; какое у него нечеловеческое, полоумное выражение лица. Но тише!
– Я смотрю, ты смотришь, он смотрит; мы смотрим, вы смотрите, они смотрят.
– Господи! это он учит Грамматику Муррея. Упражняет мозги, бедняга! Но он опять что-то говорит, – тихо!
– Я смотрю, ты смотришь, он смотрит; мы смотрим, вы смотрите, они смотрят.
– Да он наизусть её заучивает, – тс-с-с! вот опять.
– Я смотрю, ты смотришь, он смотрит; мы смотрим, вы смотрите, они смотрят.
– Вот поди ж ты, не смешно ли?
– И я, ты, и он; и мы, вы, и они – все летучие мыши; а я – ворона, особенно когда сижу на верхушке этой сосны. Кар-р! кар! Кар, кар-р! Кар-р! Кар-р! Разве я не ворона? А где же пугало! Вот оно стоит; две кости просунуты в старые брюки, и другие две торчат из рукавов старой куртки.
– Интересно, уж не меня ли это он имеет в виду? лестно, а? бедный мальчишка! ей-богу, тут в пору повеситься. Так что я, пожалуй, лучше оставлю общество Пипа. Я могу выдержать остальных, потому что у них мозги в порядке; но этот слишком замысловато помешан, на мой здравый рассудок. Итак, я покидаю его, пока он что-то там бормочет.
– Вот пуп корабля, вот этот самый дублон, и все они горят нетерпением отвинтить его. Но попробуйте отвинтите собственный пуп, что тогда будет? Однако если он тут останется, это тоже очень нехорошо, потому что, если что-нибудь прибивают к мачте, значит, дело плохо. Ха-ха! старый Ахав! Белый Кит, он пригвоздит тебя. А это сосна. Мой отец срубил однажды сосну у нас в округе Толланд и нашёл в ней серебряное кольцо, оно вросло в древесину, обручальное колечко какой-нибудь старой негритянки. И как только оно туда попало? Так же спросят и в час восстания из мёртвых, когда будет выловлена из воды эта старая мачта, а на ней дублон под шершавой корой ракушек. О золото! драгоценное золото! скоро спрячет тебя в своей сокровищнице зелёный скряга! Тс, тс-сс! Ходит бог среди миров, собирает ежевику. Кок! эй, кок! берись за стряпню! Дженни! Гей, гей, гей, гей, гей, Дженни, Дженни! напеки нам на ужин блинов!
Глава C. Нога и рука. «Пекод» из Нантакета встречается с «Сэмюэлом Эндерби» из Лондона
– Эй, на корабле! Не видали ли Белого Кита?
Это кричал Ахав, снова увидев судно под английским флагом, подходившее с кормы. Старик, подняв рупор к губам, стоял в своём вельботе, подвешенном на шканцах, так что его костяная нога была отлично видна чужому капитану, который, небрежно развалясь, сидел на носу в своей лодке. Это был смуглый, крупный мужчина, добродушный и приятный с виду, лет, вероятно, шестидесяти или около того, одетый в просторную куртку, которая висела на нём фестонами синего матросского сукна; один рукав её был пуст и развевался позади него, словно расшитый рукав гусарского ментика.
– Не видали ли Белого Кита?
– А это видишь? – раздалось в ответ, и чужой капитан поднял из складок одежды руку из белой кашалотовой кости, оканчивающуюся деревянным утолщением, похожим на молоток.
– Людей в мою лодку! – грозно приказал Ахав, расшвыривая вёсла. – Приготовиться к спуску!
Не прошло и минуты, как он, не покидая своего маленького судёнышка, был спущен вместе с командой на воду и вскоре подошёл к борту незнакомца. Но здесь ему встретилось непредвиденное затруднение. Охваченный волнением, Ахав забыл о том, что с тех пор, как он остался без ноги, он ни разу ещё не поднимался на борт другого корабля, кроме своего собственного, да и там для этой цели имелось особое очень хитрое и удобное приспособление, которое так сразу на другое судно не переправишь. А взобраться в открытом море из лодки на борт судна – дело нелёгкое для всякого, кроме тех, разве, кто, как китобои, упражняется в нём чуть не ежечасно; огромные валы то подбрасывают лодку к самому планширу, то вдруг опускают в глубину, почти до киля. И потому теперь, лишённый ноги, Ахав стоял под бортом чужого корабля, на котором не было, понятно, необходимого ему приспособления, и чувствовал себя снова беспомощным, жалким новичком и неумелой сухопутной крысой, бросая неуверенные взоры на эту изменчивую высоту, подняться на которую у него едва ли была хоть какая-то надежда.
Выше уже как будто говорилось, что всякое затруднение, встречавшееся на его пути, которое проистекало, хотя бы косвенно, из приключившегося с ним однажды несчастья, неизменно приводило Ахава в бешенство и ярость. А в данном случае всё это ещё усугублялось благодаря любезности двух офицеров с чужого корабля, которые, перегнувшись за поручни возле отвесного ряда прибитых к бортовой обшивке планок, спускали ему красиво разукрашенный верёвочный трап; им и невдомёк было поначалу, что одноногому человеку не под силу воспользоваться их морскими перилами. Но замешательство продолжалось лишь одну минуту, потому что капитан чужого корабля, с первого взгляда разобравшись, в чём дело, громко крикнул: «Понимаю, понимаю! – убрать трап! Живей, ребята, спустить большие тали!»
Случаю угодно было, чтобы как раз дня за два перед этим они разделывали китовую тушу, и большие тали ещё оставались на мачте, так что огромный гак, теперь уже вычищенный и высушенный, болтался над палубой. Его быстро спустили Ахаву, и тот, сразу же разгадав замысел, перекинул свою единственную ногу через крюк (это было всё равно что сидеть на лапах якоря или в развилке яблони), затем, когда по знаку крюк стали поднимать, он уселся попрочнее и в то же время стал помогать подтягивать себя, перебирая руками бегучую снасть талей. Скоро его благополучно перенесли через борт и аккуратно опустили на шпиль. Протягивая в радушном приветствии свою костяную руку, подошёл чужой капитан, и Ахав, выставив вперёд свою костяную ногу и скрестив её с его костяной рукой (точно две меч-рыбы, скрестившие свои клинки), протрубил, словно морж:
– Так, так, дружище! ударим костью о кость! У тебя рука, у меня нога! Рука, что никогда не дрогнет, и нога, что никогда не побежит. Где видел ты Белого Кита? и давно ли это было?
– Белый Кит, – проговорил англичанин, вытянув на восток свою костяную руку и устремив вдоль неё, точно в подзорную трубу, печальный взгляд. – Я видел его вон там, на экваторе, в прошлый сезон.
– И это он лишил тебя руки? – спросил Ахав, слезая со шпиля и опираясь при этом на плечо англичанина.
– Да, во всяком случае он послужил тому причиной. А тебя он лишил ноги?
– Расскажи же мне скорей, как это произошло.
– Я в прошлом году в первый раз плавал на экваторе, – начал англичанин, – и о Белом Ките слыхом не слыхивал. Вот однажды спустили мы вельботы и ушли в погоню за небольшим китовым стадом голов в пять-шесть; моя шлюпка взяла одного из них на линь; ну и кит же это был, настоящая цирковая лошадь, он всё кружил и кружил вокруг нас, так что моим ребятам оставалось только сидеть смирно, расположив для равновесия свои зады по внешнему борту. И вдруг прямо со дна морского всплывает огромный кит, голова и горб белые, как молоко, и всё в бороздах и морщинах.
– Это он, это он! – воскликнул Ахав, переводя наконец дыхание.
– А по правому борту возле плавника в боку у него торчали гарпуны.
– Да, да! Это мои, мои гарпуны! – вскричал Ахав в страшном волнении. – Но продолжай!
– Я бы рад, да ты мне не даёшь, – добродушно заметил англичанин. – Ну так вот. Этот древний китовый прадед с белой головой и белым горбом врывается, подняв столбы пены, прямо в середину нашего стада и начинает в ярости грызть мой линь.
– Ага, понятно! Хотел перекусить его и освободить твою рыбу. Старый приём. Я узнаю его!
– Как это получилось, не знаю, – продолжал однорукий капитан, – но только пока он перекусывал пеньковые волокна, линь запутался за его зубы и зацепился довольно прочно; но мы-то этого не знали; стали понемногу выбирать линь и подтягивать вельбот, как вдруг – бац! уткнулись прямо в его горб! а тот кит, который был на лине, уходит преспокойно, вне себя от счастья. Ну, раз такое положение и раз перед нами оказался такой превосходный кит – это был самый большой и прекрасный кит, сэр, какого мне когда-либо приходилось видеть, – я порешил забить его, хоть он так весь и кипел от ярости. А поскольку я опасался, а вдруг мой случайно закрепившийся линь распутается или вырвется у кита из пасти вместе с зубом, за который он зацепился (потому что у меня в вельботе не гребцы, а сущие дьяволы), опасаясь всего этого, говорю, я перепрыгнул в лодку моего первого помощника мистера Маунттопа – вот, рекомендую, капитан: Маунттоп; Маунттоп, – господин капитан; [так] – Так вот, я перепрыгнул в лодку Маунттопа, которая в этот момент шла борт о борт с моей, и, схватив первый попавшийся гарпун, влепил его этому древнему прадедушке. Но господи ты боже мой, сэр! в ту же секунду я совершенно ослеп, точно летучая мышь, на оба глаза, меня всего залепило и окутало чёрной пеной, и только видно было сквозь неё, как китовый хвост навис над нами, отвесно поднявшись в воздух, словно мраморный обелиск. Тут уж табань не табань – делу не поможешь, но как раз когда я нащупывал вслепую – это в самый-то полдень, когда солнце сверкало, словно все брильянты королевской короны, – когда я нащупывал, говорю, второй гарпун, чтобы швырнуть его за борт, хвост вдруг обрушивается вниз, точно башня Лимы, и разрезает мой вельбот надвое, обе половины разбив вдребезги, а затем и сам белый горбун, пятясь хвостом вперёд, проплывает среди этих обломков, раскидав их, как ничтожные щепки. Мы все попрыгали в воду. Чтобы избежать сокрушительных ударов его хвоста, я ухватился за рукоятку своего гарпуна, торчавшего у него в боку, и на мгновение повис на нём, точно рыба-прилипала. Но накатил высокий вал, меня снесло, а кит, сделав мощный рывок вперёд, камнем ушёл в глубину; при этом второй гарпун, волочившийся позади меня на лине, зацепил меня вот здесь (он шлёпнул себя ладонью чуть пониже плеча); да, да, вот в этом самом месте, где я показываю, и уволок меня, как мне представлялось, прямо в преисподнюю; но тут вдруг, хвала господу, лезвие прорезало кожу, прошлось у меня вдоль кости до самого запястья и вышло наружу; и я всплыл на поверхность; ну, а остальное вам расскажет вот этот джентльмен (кстати, капитан: доктор Кляп, судовой врач; Кляп, дружище: господин капитан). Давай, Кляп, расскажи нам свою порцию.
Служитель Эскулапа, к которому теперь обращались столь панибратским образом, всё это время стоял поблизости. С виду в нём не было ничего, что говорило бы о его джентльменской должности на судне; у него было до чрезвычайности круглое, но вполне разумное лицо; одет он был в шерстяную блузу синего цвета, сильно вылинявшую, которая легко могла сойти за матросскую рубаху, а брюки у него были заплатанные; до этой минуты он разделял своё внимание между свайкой, которую держал в одной руке, и коробочкой пилюль в другой, бросая по временам критический взгляд на костяные конечности обоих покалеченных капитанов. Но когда капитан представил его Ахаву, он вежливо поклонился и поспешил исполнить полученное приказание.
– Рана была ужасная, – начал судовой врач, – и, послушавшись моего совета, капитан Вопли положил нашего старичка Сэмми…
– «Сэмюэл Эндерби» – это название моего корабля, – прервал его однорукий капитан, обратившись к Ахаву. – Дальше, дружище.
– …положил нашего старичка Сэмми на курс норд, чтобы выбраться из непереносимой жары, стоявшей на экваторе. Но всё было тщетно, я сделал что мог, сидел с ним по ночам, был очень строг с ним в вопросах диеты…
– Ох, страшно строг, – вмешался капитан; и вдруг изменившимся голосом добавил: – Каждую ночь напивался вместе со мною горячим пуншем чуть не дослепу, так что уж и сам не видел, куда накладывал повязку. И спать отправлял меня, совсем упившегося, не раньше трёх часов утра. О небо! Это он-то сидел со мной по ночам и был строг в вопросах диеты! Вот уж сердобольная сиделка и строгий блюститель диеты, этот доктор Кляп (смейся, Кляп, сукин сын, смейся! Сам знаешь, что ты порядочный негодяй). Но плети дальше, дружище, я предпочитаю быть убитым тобою, чем спасённым кем-нибудь другим.
– Мой капитан, как вы, наверное, заметили, уважаемый сэр, – проговорил Кляп с невозмутимо благочестивым видом, слегка поклонившись Ахаву, – любит иногда пошутить; он нередко сочиняет для нас забавные историйки в этом духе. Но я могу пояснить, между прочим – en passant, как говорят французы, – что лично я, то есть Джек Кляп – лицо духовного звания (в недавнем прошлом) – сторонник абсолютной трезвенности, я никогда не пью…
– Воду! – заключил капитан. – Он никогда её не пьёт. У него от неё припадки делаются; пресная вода вызывает у него водобоязнь. Но продолжай, расскажи про руку.
– Пожалуй, – спокойно согласился доктор. – Я как раз собирался рассказать, сэр, когда капитан Вопли перебил меня своими остроумными воплями, что, несмотря на все мои старания и строгости, рана становилась всё хуже и хуже; правду сказать, сэр, это была самая ужасная, зияющая рана, какую только можно увидеть в медицинской практике; два фута и несколько дюймов в длину. Я измерил её лотлинем. Коротко говоря, в конце концов рука почернела; я знал, чем это грозит, ну и отнял её. Но к этой костяной руке я и пальцем не притронулся; такие вещи, – он махнул в сторону капитана своей свайкой, – против всех правил. Это капитанская работа, не моя; он сам приказал судовому плотнику снарядить себе такую и велел наладить на неё вот этот молоток, чтобы выбивать из людей мозги, надо думать, как он однажды попробовал вышибить их из меня. На него иногда находят приступы бешеной ярости. Вы видите это углубление, сэр? – тут он снял шляпу и, откинув назад волосы, обнажил у себя на черепе большую круглую впадину, ничем, впрочем, не напоминавшую бывшей раны и не похожую на шрам. – Так вот, наш капитан расскажет вам, откуда она у меня; он знает.
– Нет, не знаю, – отозвался капитан, – обратитесь лучше к его матушке; он родился с этим. Ах ты, чёртов Кляп, негодяй ты этакий. Ну найдётся ли на свете второй такой Кляп, чтобы заткнуть чёрту глотку? Ты, сукин сын, Кляп, скажи, когда будешь подыхать, мы сунем тебя в рассол; нужно сохранить тебя для грядущих веков, подлец ты этакий.
– А что сталось с Белым Китом? – не выдержал наконец Ахав, нетерпеливо дожидавшийся финала интермедии, которую разыгрывали два англичанина.
– О! – воскликнул однорукий капитан, – да, да! Он нырнул тогда, и мы надолго потеряли его из виду; дело в том, что я ведь не знал в то время – я уже говорил, – что это был за кит, сыгравший со мной такую штуку. И только потом, когда мы снова спустились к экватору, мы услышали рассказ о Моби Дике – как его называют некоторые, – и тогда я понял, что это был он.
– Встречал ли ты его потом?
– Дважды.
– Но не мог загарпунить?
– А я и не пытался; хватит с него одной моей руки. Что бы я стал делать без обеих? Что попало на зуб Моби Дику, то пропало, я так полагаю. Уж он если схватит, то заглотает.
– Что же, отлично, – вмешался Кляп. – Дайте ему вместо наживки вашу левую руку, чтобы добыть правую. Известно ли вам, джентльмены, – он отвесил точно по поклону каждому из капитанов, – известно ли вам, джентльмены, что пищеварительные органы кита столь непостижимо устроены божественным провидением, что он не в состоянии переварить полностью даже одну человеческую руку? Ему-то это известно отлично. То, что вы считаете кровожадностью Белого Кита, это всего лишь его неловкость. Ведь у него и в мыслях не бывает проглотить вашу руку или ногу, он делает это, просто чтобы припугнуть вас. Но иногда с ним случается то же, что произошло как-то с одним старым цейлонским факиром, моим бывшим пациентом; он делал вид, будто глотает ножи, но в один прекрасный день действительно уронил себе в желудок настоящий нож, и он пролежал там целый год, а то и больше; потом я дал ему рвотного, и нож вышел из него, по кусочкам, понятное дело. Он не в состоянии был переварить нож и включить его в состав тканей своего организма. Так что, капитан Вопли, если вы проявите расторопность и готовность заложить руку за то, чтобы честь честью похоронить вторую, в таком случае, рука ваша. Только дайте киту в ближайшем будущем приступиться к вам ещё раз, и вся недолга.
– Ну нет, Кляп, благодарю покорно, – отозвался английский капитан. – Пусть угощается на здоровье той рукой, что ему досталась, раз уж тут всё равно возражать бесполезно, ведь я тогда не знал, с кем имею дело; но вторую он не получит. Хватит с меня белых китов; однажды я за ним погнался, и больше не хочу. Убить его, конечно, большая честь, я знаю; и спермацета в нём одном – целый трюм, но поверьте мне, лучше всего держаться от него подальше, вы согласны со мной, капитан? – и он скользнул взглядом по костяной ноге.
– Да, это было бы лучше всего. И всё же охота за ним не прекратится. Есть такие проклятые вещи, от которых держаться подальше хоть и лучше всего, но, клянусь, не легче всего. Он влечёт и притягивает, словно магнит! Как давно видел ты его в последний раз? Каким курсом он шёл?
– Спаси меня бог, и да сгинет подлый дьявол! – вскричал Кляп и, пригнувшись, забегал вокруг Ахава, по-собачьи принюхиваясь, – ну и кровь у этого человека! скорей принесите градусник; да она на точке кипения! а пульс такой, что доски трясутся!.. сэр! – и, выхватив из кармана ланцет, он потянулся к руке Ахава.
– Прочь! – взревел Ахав, отшвырнув его к борту. – Гребцы по местам! Каким курсом он шёл?
– Боже милостивый! – воскликнул английский капитан, к которому был обращён последний вопрос. – Что же это происходит? Он шёл на восток, мне кажется, – и шёпотом Федалле: – Что ваш капитан, он помешанный?
Но Федалла, приложив палец к губам, скользнул за борт, чтобы сесть в лодке за рулевое весло, в то время как Ахав, притянув к себе огромный блок, отдал приказание чужим матросам приготовиться к спуску талей.
В следующее мгновение он уже стоял на корме своего вельбота, и матросы-манильцы взмахнули вёслами. Напрасно окликал его английский капитан. Повернувшись спиной к чужому судну, а лицом, застывшим, точно гранит, к своему собственному, Ахав неподвижно стоял на корме, пока не поравнялся с «Пекодом».
Глава CI. Графин
Прежде чем скроется из виду английский корабль, следует рассказать здесь, что шёл он из Лондона и что он был назван в честь покойного Сэмюэла Эндерби, лондонского купца, основателя китопромышленного дома Эндерби и Сыновья – торгового дома, который, по моему скромному китобойскому мнению, мало в чём уступает объединённому королевскому дому Тюдоров и Бурбонов, с точки зрения их исторической роли. В течение какого времени, предшествовавшего лету господню 1775-му, существовал упомянутый торговый дом – на этот вопрос многочисленные рыбные документы, которыми я располагаю, не дают ясного ответа; но в том самом году (1775) он снарядил первые в Англии суда, предназначенные для планомерного промысла на кашалотов; хотя ещё лет за сорок-пятьдесят до этого (начиная с 1726 года) наши храбрецы Коффины и Мэйси из Нантакета и Вайньярда большими флотилиями охотились на этих левиафанов, правда, только в Северной и Южной Атлантике и нигде больше.
Да будет здесь членораздельно сказано, что рыбаки из Нантакета первыми среди людей начали охоту на спермацетового кита с помощью цивилизованного стального гарпуна и что в течение целого полустолетия они оставались единственными на всём земном шаре, кто охотился на него таким способом.
В 1778 году красавица «Амелия», снаряжённая специально для этой цели на средства предприимчивых Эндерби, отважно обогнула мыс Горн и первая среди наций спустила вельбот в водах великого Южного моря. Плавание было умелое и удачное; и когда «Амелия» вернулась восвояси с полными трюмами драгоценного спермацета, её примеру вскоре последовали и другие суда, как английские, так и американские; отныне ворота к обширным промысловым областям Тихого океана были широко открыты. Но неутомимые дельцы не успокоились на этом добром деле. Сэмюэл и все его Сыновья – а сколько их было, о том ведает только их мать, – и под их непосредственным руководством и частично, я полагаю, за их счёт, британские власти послали в промысловое плавание по Южным морям военный шлюп «Шумный». Под командованием некоего флотского капитана первого ранга «Шумный» наделал много шуму и принёс кое-какую пользу, но какую именно, остаётся неясным. Однако и это ещё не всё. В 1819 году всё тот же торговый дом снарядил собственное поисковое китобойное судно и отправил его в пробное плавание к далёким берегам Японии. Это судно, удачно названное «Сиреной», проделало превосходное опытное плавание; с тех пор приобрела широкую известность великая Японская Промысловая область. Командовал «Сиреной» в этом плавании некий капитан Коффин из Нантакета.
Честь и слава поэтому всем Эндерби, чей торговый дом, я полагаю, существует и по сей день; хотя основатель его Сэмюэл, несомненно, давно уже отправился в плавание по Южным морям того света.
Носивший его имя корабль вполне достоин был такой чести; то было быстроходное и во всех отношениях отличное судно. Я побывал один раз у них на борту как-то в полночь у берегов Патагонии и пил у них в кубрике превосходный флип[302]. Чудесное у нас с ними вышло повстречанье, все они оказались отличными собутыльниками, все до единого. Да будет жизнь у них короткая, а смерть весёлая. Кстати, заведя речь об этом случае, происшедшем через много-много лет после того, как старый Ахав коснулся их палубы костяной пяткой, я не могу не сказать об их достославном солидном саксонском хлебосольстве; пусть мой пастор обо мне позабудет, а дьявол вспомнит, если я когда-нибудь сброшу со счётов это их превосходное качество. Флип, я сказал? Да, да, и мы пропускали его со скоростью десяти галлонов в час; когда же налетел шквал (ибо там шквалистое место, у берегов Патагонии), и все – в том числе и гости – были вызваны наверх брать рифы на брамселях, мы к этому времени так нагрузились, что пришлось нам тросами подтягивать друг друга на реи; а там мы, сами того не ведая, закатали вместе с парусами полы своих курток и, покуда не угомонился шторм, накрепко зарифленные, висели суровым предостережением для всех матросов – любителей выпивки. Как бы то ни было, но мачты за борт не снесло; и мы помаленечку-полегонечку освободились и слезли вниз, настолько трезвые, что пришлось снова пропустить по стакану флипа, хотя из-за кипящей морской пены, что врывалась через люк к нам в кубрик, он оказался, на мой вкус, чересчур разбавленным и пересоленным.
А говядина была отменная – жёсткая, но сочная. Говорили, что это буйволятина; другие уверяли, что верблюжатина; что это было на самом деле, я лично решать не берусь. Были там у них ещё клёцки маленькие, но сытные, правильной шарообразной формы и совершенно несокрушимые. Казалось, проглотишь несколько штук и чувствуешь, как они у тебя в желудке перекатываются. И если нагнёшься чересчур низко, то они того и гляди выкатятся из тебя, точно бильярдные шары. Правда, хлеб… но тут уж ничего нельзя было поделать; к тому же он был противоцинготный; коротко говоря, в хлебе содержалась единственная их свежая пища. Но в кубрике свет был не слишком яркий, и совсем нетрудно было, пока ешь хлеб, отступить в тёмный уголок. Но если взять судно в целом, от бушприта до штурвала и от клотиков до киля, если учесть размеры котлов у кока в камбузе, а также вместимость живого котла – его собственного дублёного брюха, с носа до кормы, говорю я, «Сэмюэл Эндерби» был превосходный корабль, справедливо славившийся хорошим и обильным столом, первоклассным и крепким флипом и командой, в которой все были молодцы как на подбор и славные ребята от тульи шляп до каблуков.
Но чем, по вашему мнению, можно объяснить столь широкое гостеприимство, которым знамениты были «Сэмюэл Эндерби» и некоторые другие известные мне – хотя и не все – английские китобойцы, всегда готовые угостить любого говядиной и хлебом, вином и шуткой и не скоро устававшие есть, пить и веселиться? А я вам сейчас объясню. Столь щедрое радушие английских китобойцев может служить предметом специального исторического исследования. А я ещё нигде не скупился на исторические китобойные исследования, если в том возникала надобность.
Предшественниками англичан в китобойном промысле были голландцы, зеландцы и датчане, от которых они переняли немало терминов, по сей день остающихся в ходу, а также, что ещё существеннее, их старинные обычаи широкой жизни, в особенности обильной еды и питья. Ибо, как правило, на английском купеческом судне матросов держат в чёрном теле, а на английском китобойце никогда. И, стало быть, это безудержное китобойское радушие для англичан не является чем-то естественным и нормальным; оно случайно и нетипично и, значит, порождено особыми причинами, которые мы здесь вскрыли и сейчас ещё поясним.
Занимаясь изысканиями в области левиафанической истории, я наткнулся как-то на старинный голландский фолиант, который, насколько я мог судить по исходившему от него сырому китовому запаху, трактовал о китобойном деле. Заглавие у него было «Дан Купман», из чего я заключил, что он содержит бесценные мемуары какого-нибудь купора с амстердамского китобойца, ибо, как известно, на каждом китобойце ходит свой купорный мастер. Утвердила меня в этом мнении и фамилия издателя – Фитц-Молот. Но мой друг доктор Шевелюр, человек высокой учёности, профессор нижнеголландского и верхненемецкого языков в колледже Санта Клауса и Св. Сосуда, которому я вручил эту книгу для перевода, присовокупив к ней ящик спермацетовых свечей в благодарность за труды, – этот самый доктор Шевелюр не успел бросить взгляд на обложку, как сразу же стал уверять меня, что «Дан Купман» означает не «купор», а «купец». Так или иначе, но этот учёный нижнеголландский фолиант трактовал о голландских промыслах и содержал, среди прочих сведений, весьма интересный раздел о промысле китобойном. Именно в этом разделе, озаглавленном «Смеер», что значит «Сало», я нашёл длинный и подробный список продуктов, которыми были наполнены кладовые и чуланы ста восьмидесяти голландских китобойцев; из этого списка в переводе доктора Шевелюра я заимствую следующие строки:
400 000 фунтов говядины
60 000 фунтов фрисландской свинины
150 000 фунтов вяленой трески
550 000 фунтов сухарей
72 000 фунтов свежего хлеба
2800 бутылей масла
24 000 фунтов тексельского и лейденского сыра
144 000 фунтов сыра (видимо, низкосортного)
1650 вёдер джина
10 800 бочек пива
Обычно статистические таблицы бывают непереносимо сухи; но в данном случае это не так, ибо на читателя здесь изливаются целые бочки и вёдра, кварты и пинты доброго джина и доброго веселья.
В своё время я потратил три дня на усердное переваривание означенного пива, мяса и хлеба, и при этом меня осенило немало глубоких мыслей, достойных трансцендентального и платонического приложения; а затем и я сам составил одну вспомогательную таблицу с приблизительными количествами трески и всего прочего, приходящимися на каждого нижнеголландского гарпунщика в старинной Гренландской и Шпицбергенской китобойной флотилии. Прежде всего поражают грандиозные порции поглощаемого масла, а также тексельского и лейденского сыра. Впрочем, это я отношу за счёт естественно маслянистой, скользкой природы перечисленных продуктов, ещё сильнее омаслившихся благодаря маслянистой природе занятия упомянутых людей, и в особенности благодаря тому, что они ведут промысел в ледовитых Полярных морях, у самых берегов Эскимосии, где на весёлых пирах туземцы подымают за здоровье друг друга кубки колёсного масла.
Количество пива – 10 800 бочек – тоже очень велико. Поскольку в полярных водах промысел ведётся только в течение короткого лета, характерного для тамошнего климата, весь рейс, включая путь от Шпицбергена и обратно, продолжается у голландского китобойца каких-нибудь три месяца; и если положить по 30 членов экипажа на каждом из 180 судов их китобойной флотилии, мы получим всего 5400 нижнеголландских матросов; и стало быть, ровно по две бочки пива на брата в качестве двенадцатинедельной нормы, не считая щедрой толики от 1650 вёдер джина. Ну, а чтобы эти джинно-пивные гарпунщики, до такой степени накачавшиеся спиртным, были способны стоять на носу вельбота и без промаха целиться в стремительно летящего кита, – это, казалось бы, довольно маловероятно. И тем не менее они целились, да и попадали тоже. Впрочем, не следует забывать, что происходило это на далёком севере, где пиво полезно для здоровья, у наших гарпунёров на экваторе пиво вызвало бы сонливость на мачте и головокружение в лодке, отчего воспоследовали бы печальные потери для Нантакета и Нью-Бедфорда.
Но ни слова больше об этом; довольно было здесь перечислено, чтобы показать, что староголландские китобои за два-три столетия до нас были любители пожить в своё удовольствие и что английские китобои наших дней не пренебрегли столь блестящим примером. Ибо, как говорят они, плавая с пустыми трюмами по океанам, если ты не можешь извлечь из мира ничего лучшего, извлеки из него по крайней мере хороший обед. А на этом и содержимое графина пришло к концу.
Глава CII. Под зелёной сенью Арсакид
До сих пор, описывая кашалота, я останавливался главным образом на чудесах его внешнего облика и только в самых редких случаях – на отдельных чертах и подробностях его внутреннего строения. Однако теперь, чтобы постичь его целиком и до конца, мне надлежит расстегнуть его ещё дальше, спустить чулки, снять подвязки, повыдергать крючки из ушек во всех его самых сокровенных суставах и выставить его перед вами в окончательно обнажённом виде: то есть в его абсолютном скелете.
Постой-ка, Измаил, как же так? Откуда же ты, простой гребец на вельботе, можешь знать о том, что сокрыто у кита в глубине? Или учёный Стабб, взгромоздившись на шпиль, читал вам лекции по анатомии китообразных? и демонстрировал аудитории, подняв при помощи лебёдки, образец китового ребра? Объяснись же, Измаил. Разве ты можешь разложить у себя на палубе взрослого левиафана, как раскладывает повар на блюде жареного поросёнка? Ведь не можешь, верно? До сих пор, Измаил, ты правдиво рассказывал о том, что видел собственными глазами; но теперь остерегись, ты присваиваешь себе исключительное право Ионы – право говорить о стропилах и балках; о прогонах, коньковом брусе, лагах и пилястрах, составляющих каркас левиафана; а также, быть может, о мыловарнях и маслобойках его внутренностей.
Я признаю, что со времён Ионы мало кому из китобоев удавалось проникнуть глубоко под шкуру взрослого кита; однако мне была дарована счастливая возможность изучить его анатомию в миниатюре. Однажды на палубу корабля, на котором я плавал, был целиком поднят маленький телёнок кашалота – ради мешка или торбы, из которой изготовляются ножны для лезвий гарпуна и остроги. Уж не думаете ли вы, что я упустил такой случай и не воспользовался ножом и резаком, чтобы сломать печати и прочесть всё, что содержалось в этом юном кашалотике?
А что касается точных сведений о костях левиафана в его полном, гигантском развитии, то этими сведениями я обязан ныне покойному царственному другу Транко, царьку острова Транке, одного из группы Арсакид. Как-то много лет тому назад, когда я ходил на торговом судне «Алжирский бей», на острове Транке властитель Транко пригласил меня на Арсакидские празднества в свою уединённую виллу в Пупелле, – это была приморская долина неподалёку от Бамбукового Городка, как называли наши моряки его столицу.
Мой царственный друг Транко, одарённый среди иных достоинств горячей любовью ко всевозможным варварским диковинам, собрал у себя в Пупелле всё необычайное, что только могли создать самые изобретательные из его подданных, – куски дерева, покрытые замысловатыми резными узорами, гранёные раковины, инкрустированные копья, драгоценные вёсла, пироги из ароматического дерева и все те природные чудеса, что вынесли на его берега исполненные должной почтительности и богатые чудесами морские волны.
Среди этих последних самое видное место занимал огромный дохлый кашалот, которого после одного особенно долгого и свирепого шторма нашли выброшенным на берег, – голова его пришлась под кокосовую пальму, чьи пышные плакучие побеги казались его изумрудным фонтаном. Когда гигантская туша была освобождена от своих безмерно толстых покровов и солнце высушило обнажённые кости, скелет с вящими предосторожностями перенесли в Пупеллу, и он лежал под величавыми пальмами, словно под высокими сводами зелёного храма. Его рёбра были увешаны боевыми трофеями, позвонки изрезаны загадочными иероглифами арсакидских летописей; в черепе жрецы поддерживали неугасимый ароматный огонь, будто бессмертная китовая голова вновь выпускала к небесам свои туманные фонтаны, а ужасная нижняя челюсть была подцеплена к ветке и раскачивалась над молящимися наподобие меча на волоске, который некогда так запугал Дамокла.
Это было дивное зрелище. Роща была зелена, точно мох в Льдистой Долине, деревья стояли высокие и надменные, впивая жизненные соки; щедро воздающая почва лежала внизу, точно ткацкий станок, на котором натянут пышный ковёр; и побеги ползучих лоз составляли в ней фон, а живые цветы – узор. Все деревья, все их отяжелевшие ветви; все кусты, все папоротники и травы; полный зовами воздух, – всё было охвачено неустанным движением. Великое солнце в кружеве листьев казалось ткацким челноком, плетущим неувядаемую зелень. О ты, усердный ткач! невидимый ткач! – остановись на мгновение! – только ответь мне! – куда течёт твоя ткань? какой дворец предназначена она украшать? к чему все эти неустанные труды? Отвечай, ткач! – задержи свою руку! – одно только слово! Нет. По-прежнему снуёт уток, по-прежнему плывут со станка узоры; и струится неизбывным потоком цветастый ковёр. Бог-ткач, он знай себе ткёт; и стук и гудение станка оглушают его, так что он и не слышит голоса смертных; и нас, кто глядит на станок, тоже оглушают его стук и гудение; и лишь удалившись, услышим мы тысячи затерянных голосов. Ведь именно так и происходит на всех настоящих фабриках и заводах. Слова, которые неслышны подле крутящихся валов, эти же самые слова отчётливо звучат за стеной, вырываясь наружу из открытых окон. Этим путём было разоблачено немало злодейств. Так будь же осторожен, о смертный! ибо пока гудит и грохочет мировой станок, могут быть подслушаны издалека твои самые сокровенные мысли.
И вот посредине зелёного, пышущего неутомимой жизнью ткацкого станка в Арсакидской роще лениво лежал огромный, белый, священный скелет – праздный колосс. Но на этой бесконечной зелёной ткани, что сплеталась и гудела вокруг него, сам он, ленивый гигант, казался искусным ткачом, весь увитый лозами, с каждым месяцем зеленея всё ярче и ярче и всё же оставаясь, как и прежде, только скелетом. Жизнь обвивала Смерть; Смерть поддерживала Жизнь; угрюмый бог, повенчанный с юной Жизнью, породил себе во славу это кудрявое диво.
Так вот, когда в сопровождении царственного Транко я посетил этого кита, увидел его череп-алтарь и над ним струю искусственного дыма, подымавшуюся оттуда, откуда некогда взлетал настоящий фонтан, я подивился, почему языческий царёк рассматривает храм как экземпляр своей коллекции. Но он только рассмеялся. Ещё больше удивился я тому, что жрецы провозгласили эту дымную струю настоящим китовым фонтаном. Я походил взад и вперёд вдоль скелета, раздвинул в стороны ползучие лозы, проник вовнутрь между рёбер и с путеводной нитью Арсакиды долго бродил и плутал среди сумрачных витых колоннад и тенистых беседок. Но клубок мой вскоре подошёл к концу, и, следуя по бечёвке назад, я вышел наружу в том же месте, где вошёл. Я не встретил внутри ни живой души; ничего, кроме мёртвых костей.
Тогда, срезав зелёный прутик-рейку, я снова забрался внутрь скелета, чтобы приступить к измерениям. Но жрецы сквозь бойницы в черепе разглядели, как я вычислял высоту последнего ребра. «Это ещё что такое?! – завопили они. – Как смеешь ты измерять нашего бога? Это наше дело!»
«Прекрасно, жрецы, – согласился я. – Какова же, по-вашему, его длина?» Тут между ними разгорелся яростный спор касательно футов и дюймов; они принялись дубасить друг друга жезлами по голове, удары гулко отдавались в огромном черепе, а я, воспользовавшись удачным стечением обстоятельств, быстро закончил свои измерения.
Результаты этих измерений я намерен теперь опубликовать. Но предварительно необходимо заметить, что приводить вымышленные цифры я всё равно бы не смог. Потому что существует целый ряд скелетных авторитетов, к которым вы могли бы обратиться, чтобы проверить мои данные. Говорят, например, что в английском городе Гулле, одном из китобойных портов этой страны, находится Левиафанический музей, где хранится несколько отличных образцов полосатиков и других китообразных. Равным образом, как я слышал, в Манчестерском музее в Нью-Гэмпшире находится, как утверждают владельцы музея, «единственный в Соединённых Штатах совершенный экземпляр Гренландского, или Речного, Кита». Мало этого, в Англии, в Йоркширском городке под названием Бэртон-Констэбл в собственности у некоего сэра Клиффорда Констэбла имеется скелет кашалота, правда, весьма умеренных размеров, не то что гигантский кит моего друга царька Транко.
Оба кита, которым принадлежали эти два последних скелета, были выброшены на берег и попали в руки теперешним своим владельцам на одинаковом основании. Царь Транко завладел своим китом, потому что так ему захотелось, а сэр Клиффорд – потому что был лордом и господином тех мест. Кит сэра Клиффорда весь разобран по косточкам; так что в нём, словно в большом комоде, можно открывать и закрывать все костные полости – раздвигать рёбра, будто гигантский веер, – и целый день качаться на нижней челюсти. Остаётся только навесить замки на его двери и ставни и определить ливрейного лакея, чтобы тот, побрякивая связкой ключей на поясе, водил по залам будущих посетителей. Сэр Клиффорд думает положить по два пенса за вход на гулкую галерею спинного хребта; три пенса за право послушать эхо в пещере мозжечка и шесть пенсов за возможность полюбоваться несравненным видом с кашалотового лба.
Размеры скелета, которые я намерен здесь привести, заимствованы мною verbatim[303] с моей собственной правой руки, где они были вытатуированы по моей просьбе, поскольку в тот бурный бродячий период моей жизни у меня не было иного надёжного способа сохранить столь ценные статистические сведения. Но так как места у меня было мало, потому что я хотел ещё оставить по возможности какой-то участок неисписанным для одной поэмы, которую я как раз тогда сочинял, я не стал утруждать себя лишними дюймами; да и вообще-то до дюймов ли тут, где речь идёт о подлинных размерах кита?
Глава CIII. Размеры китового скелета
Прежде всего я хочу привести здесь одно частное соображение относительно живой массы левиафана, чей скелет нам сейчас предстоит выставить напоказ. Оно напрашивается само собой и может ещё нам здесь пригодиться.
Согласно моим тщательным подсчётам, частично основанным к тому же на данных капитана Скорсби, полагавшего семьдесят тонн веса в самом крупном гренландском ките, имеющем шестьдесят футов в длину; согласно моим тщательным подсчётам, повторяю, наиболее крупный кашалот, насчитывающий между восьмьюдесятью пятью и девяноста футами в длину и без малого сорок футов в обхвате в самом толстом месте, такой кашалот должен иметь по крайней мере девяносто тонн весу; так что, если принять, что на одну тонну приходится тринадцать человек, то выходит, что он заведомо перевесит население целой деревни с тысячей ста обитателями.
Подумайте-ка, сколько мозгов нужно впрячь, точно волов в одну упряжку, для того чтобы этот левиафан хоть на йоту поддался представлению сухопутного человека!
Поскольку я уже всячески демонстрировал перед вами его череп, дыхало, челюсть, зубы, хвост, лоб, плавники и прочие части, мне теперь остаётся только выделить то, что представляет наибольший интерес в его неприкрытом скелете. Но так как гигантский череп занимает столь огромную долю от общей длины скелета, так как он представляет собой наиболее сложную его часть и так как в этой главе о нём совершенно не будет вновь упомянуто, – крайне необходимо, чтобы вы постоянно держали его в памяти или под мышкой, иначе у вас не создастся правильного представления обо всей конструкции, к рассмотрению которой мы приступаем.
В длину кашалотовый скелет на острове Транке насчитывал семьдесят два фута; а это значит, что в полном облачении и живой протяжённости он имел девяносто футов длины; потому что скелет кита проигрывает по сравнению с размерами тела около одной пятой. Из этих семидесяти двух футов примерно двадцать приходилось на череп с челюстью и только пятьдесят – на сам позвоночник. А к позвоночнику на участке, занимающем треть от его длины, была прикреплена мощная круглая коробка рёбер, содержавшая некогда все его жизненно важные органы.
Эта необъятная грудная клеть вместе с длинным, ровным позвоночным столбом, далеко отходящим от неё прямой полосой, очень напоминала мне остов большого корабля на стапелях, в котором только двадцать голых шпангоутных рёбер успели вставить в киль, торчащий позади длинным, обнажённым бревном.
Рёбер было по десяти с каждой стороны. Первое, если считать от шеи, имело шесть футов в длину; второе, третье и четвёртое были каждое немного длиннее предыдущего, кончая пятым, одним из центральных рёбер, насчитывающим восемь футов с несколькими дюймами. Остальные рёбра последовательно уменьшались, оканчиваясь десятым и последним, имевшим всего только пять футов с небольшим. Толщина их в основном соответствовала длине. Центральные рёбра были наиболее выгнутыми. Кое-где на Арсакидских островах их перекидывают вместо пешеходных мостиков через небольшие речки.
Рассуждая об этих рёбрах, я не могу вновь не испытывать изумления по поводу того обстоятельства, неоднократно уже упоминавшегося в этой книге, что скелет кита далеко не соответствует своими очертаниями его живому туловищу. Самое длинное ребро в транковском скелете приходилось при жизни на самый толстый участок облачённой плотью китовой туши. Туша этого кита имела в указанном месте, должно быть, не менее шестнадцати футов толщины, в то время как соответствующее ребро – лишь восемь с небольшим. Стало быть, величина ребра только наполовину отражала здесь истинную величину живого туловища. А дальше, там, где я видел теперь перед собой лишь голый хребет, прежде всё было обернуто покровами из многих тонн плоти, мускулов, крови и внутренностей. Ещё дальше я видел на месте широких плавников две беспорядочные кучки белых суставов; а там, где находились некогда массивные и величественные, но бескостные хвостовые лопасти, – ничего, пустое место!
Как же безнадёжно и глупо со стороны робкого, неискушённого человека, подумал я, пытаться постичь этого чудесного кита посредством разглядывания его мёртвого, куцего остова, лежащего в этой мирной роще. Нет. Только в гуще смертельных опасностей; только в водовороте, поднятом яростными ударами его хвоста; только в море, бездонном, безбрежном, можно познать живую истину о великом ките во всём великолепии его облачения.
Перейдём, однако, к спинному хребту. Чтобы представить его наиболее наглядным способом, лучше всего будет, если мы при помощи подъёмного крана взгромоздим все позвонки стоймя один на другой. Дело это не слишком-то скорое. Но теперь, когда всё готово, оказывается, что он сильно смахивает на Александрийский столп Помпея[304].
В нём в общей сложности сорок с лишним позвонков, не сцепленных между собою. Они лежат в скелете, точно огромные, грубо тёсанные блоки каменной кладки, образующие суровые линии готического шпиля. Самый большой позвонок – в среднем отделе – имеет без малого три фута в ширину и более четырёх в высоту. Самый маленький – в том месте, где хребет, сужаясь, переходит в хвост, – насчитывает в высоту только два дюйма и кажется белым биллиардным шаром. Мне говорили, что там были позвонки ещё поменьше этих, да только их порастеряли сорванцы-каннибалята, детишки жрецов, растащившие их для своих игр вместо мраморных шариков. Так видим мы, что даже хребет грандиознейшей из живых тварей сходит под конец на нет и кончается детскими игрушками.
Глава CIV. Ископаемый кит
Огромная китовая туша представляет собой благородный объект для всяких распространений, преувеличений и широких сопоставлений. Как ни жмись, её всё равно не сократишь. Кит по праву может требовать, чтобы о нём трактовали лишь в роскошных томах in Folio. Чтобы не проходить снова все его погонные сажени от дыхала до хвоста и многие ярды в обхвате его поясницы, достаточно представить себе только гигантские завитки его кишок, целыми бухтами лежащие в нём, точно толстые канаты и швартовы, сложенные на нижней палубе линейного корабля.
Раз уже я взялся управляться с Левиафаном, мне надлежит теперь проявить в этом деле исчерпывающее всеведение, не опустив ни единого микроскопического зародыша в его крови и вымотав из него всё до последнего витка кишок. Но я уже описал его во всём современном своеобразии его повадок и его строения, и теперь мне остаётся только возвеличить его с археологической, ископаемой, допотопной точки зрения. В применении не к левиафану, а к любому другому существу – к муравью или блохе, например, – эти торжественные эпитеты могли бы показаться излишне высокопарными. Но когда речь идёт о Левиафане, всё в корне меняется. С каким удовольствием пошёл бы я на это смелое дело, сгибаясь под тяжестью весомейших слов лексикона. Тут, кстати, следует сказать, что всякий раз, как мои исследования приводили к необходимости проконсультироваться со словарём, я неизменно пользовался огромным томом Джонсона in Quarto, купленным мною специально для этой цели, потому что необычайные размеры особы знаменитого лексикографа сделали его наиболее достойным человеком для составления словаря, которым мог бы пользоваться автор, имеющий, подобно мне, дело с китами.
Мы часто слышим о писателях, приобретающих вес и значение благодаря взятой ими теме, хотя, кажется, в ней и нет вроде ничего особенного. Как же, в таком случае, будет со мной, пишущем о самом Левиафане? Мой почерк сам собой расплывается огромными плакатными буквами. Дайте мне перо кондора! Дайте мне кратер Везувия вместо чернильницы! Держите меня под руки, други мои! Ибо покуда я наношу на бумагу свои мысли о Левиафане, они успевают измучить меня, и я готов упасть, обессиленный всепроникающей широтой их охвата, ведь они включают в себя весь круг наук, и все поколения китов, и людей, и мастодонтов, настоящие, прошедшие и грядущие, вместе со всей обращающейся панорамой земной империи и целой вселенной, не оставляя в стороне и её предместий. Такова возвеличивающая сила богатой и обширной темы! Мы сами разрастаемся до её размеров. Для того чтобы создать большую книгу, надо выбрать большую тему. Ни один великий и долговечный труд не может быть написан о блохе, хотя немало было на свете людей, которые пытались это сделать.
Прежде чем ступить в область окаменелостей, я представляю свои верительные грамоты геолога, упомянув для этой цели, что за годы моей разнообразной жизни был я и каменщиком, и отменным копальщиком канав, рвов и колодцев, винных погребов, подвалов и всевозможных водоёмов. Я также хотел бы предварительно напомнить читателю, что в ранних геологических слоях встречаются только ископаемые остатки чудовищ, почти полностью вымерших в настоящее время; между тем как более поздние окаменелости, обнаруживаемые в так называемых третичных формациях, представляются как бы переходным или, во всяком случае, связующим звеном между доисторическими созданиями и теми, чьи отдалённые предки были, как говорят, собраны на Ноевом ковчеге; все ископаемые киты, доселе обнаруженные, относятся к третичному периоду, который непосредственно предшествует поверхностным формациям. И хотя они не соответствуют полностью ни одному из известных современных видов, тем не менее они имеют с ними достаточно родственных черт, чтобы по праву быть принятыми в ряды китообразных.
Разрозненные окаменелые останки преадамитовых китов, обломки их костей и скелетов были найдены за последние тридцать лет у подножия Альп, в Ломбардии, во Франции, в Англии, в Шотландии и в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама. Среди этих находок имеется весьма любопытный обломок черепа, открытый в 1779 году в Париже на Рю Дофинэ – короткой улочке, выходящей почти прямо на Тюильрийский дворец, и несколько костей, обнаруженных при Наполеоне во время земляных работ в Антверпенских доках. По мнению Кювье, эти фрагменты принадлежат каким-то никому не известным видам Левиафанов.
Но, безусловно, самым потрясающим из всех китообразных реликтов является почти целый гигантский скелет некоего вымершего чудовища, который был обнаружен в 1842 году на плантации судьи Крей в Алабаме. Поражённые ужасом простодушные рабы из близлежащих селений решили, что это останки одного из павших [так] ангелов. Алабамские врачи объявили кости принадлежащими какому-то огромному пресмыкающемуся, которого они поспешили окрестить Базилозавром. Но когда образцы этих костей были доставлены за океан английскому анатому Оуэну, выяснилось, что это предполагаемое пресмыкающееся просто-напросто кит, хотя и давно исчезнувшего вида. Это может служить лишним красноречивым доказательством тому, о чём уже не раз говорилось в настоящей книге: скелет кита даёт весьма неполное представление о подлинных очертаниях его туши. Вследствие этого Оуэн перекрестил чудовище Зевглодонтом и в своём докладе, прочитанном на заседании Лондонского геологического общества, объявил его, по существу, одним из самых поразительных созданий, которых вычеркнули из жизни перемены на земном шаре.
Когда я стою среди всех этих величественных левиафанических скелетов, черепов, клыков, челюстей, рёбер и позвонков, имеющих частичное сходство с костями ныне живущих пород морских чудовищ, но в то же время несущими несомненные следы родства с исчезнувшими доисторическими Левиафанами, своими неисчислимо древними предками, меня, точно потопом, относит назад, в ту непостижимую эпоху, когда, как говорят, и самое время ещё не началось; ибо время началось вместе с человеком. Серый хаос Сатурна колышется здесь вокруг меня, приоткрывая моему затуманенному, содрогающемуся взору полярные вечности, когда бастионы льда напирали и вклинивались в области теперешних тропиков, а на всём протяжении в 25.000 миль земной окружности не было ни пяди обитаемой земли. Весь мир тогда принадлежал киту; и, владыка мироздания, он бороздил волны там, где тянутся теперь Альпы и Гималаи. Кто ещё может похвастать такой длинной родословной? Гарпун Ахава пролил кровь древнее фараоновой. Сам Мафусаил кажется школьником в сравнении с китом. Я озираюсь, хочу пожать руку Симу[305]. Я цепенею при виде всех этих невыразимых китовых ужасов в их домоисеевом, внепричинном существовании, которое было до начала времён и потому неизбежно будет и тогда, когда завершится людской век.
Но Левиафан оставил свои преадамитовы следы не только на дагерротипах природы и не только известняку и мелу завещал свой старинный поясной портрет; и на египетских таблицах, древность которых так глубока, что их и самих можно считать чуть ли не ископаемыми окаменелостями, мы находим несомненные отпечатки его плавников. Лет пятьдесят тому назад в одном из приделов великого храма Дендеры[306] была обнаружена на огромном потолке лепная и раскрашенная планисфера, изобилующая кентаврами, грифонами и дельфинами, наподобие тех гротескных фигур, которыми населяют небесный шар современные астрономы. И среди них плыл, как ведётся испокон веков, древний Левиафан; он плавал на этой планисфере за столетия до того, как был уложен в люльку премудрый Соломон.
Не следует опускать также и другого свидетельства в пользу древности кита, в его собственном, костяном, послепотопном облике, каким служит рассказ достопочтенного Джона Лео, старинного путешественника по Варварии[307]:
«Неподалёку от побережья у них имеется храм, балки и стропила которого сделаны из китовых костей; ибо в тех местах море часто выбрасывает на берег чудовищных размеров китовые туши. Простой народ верит, что благодаря таинственной силе, дарованной богом этому храму, каждого кита, проплывающего мимо, настигает мгновенная гибель. Истина же заключается в том, что по обе стороны от храма находятся скалы, которые выдаются в море на две мили и поражают китов, когда те на них натыкаются. Там же показывают чудо – китовое ребро невероятной длины, лежащее на земле выпуклой частью кверху и образующее арку, до которой в середине не дотянется даже человек, сидящий верхом на верблюде. Это ребро (говорит Джон Лео) лежало там якобы за сто лет до моего приезда. Местные историки утверждают, что в этом храме во время оно объявился некий Пророк, пророчествовавший о Магомете, а у некоторых достаёт решительности настаивать, будто сам пророк Иона был извергнут китом у подножия этого храма».
Здесь, в Африканском Храме Кита, я покину тебя, читатель, и если ты из Нантакета, и если ты китолов, ты молча помолишься в нём.
Глава CV. Уменьшаются ли размеры кита? Должен ли он исчезнуть с лица земли?
Поскольку Левиафан плывёт нам навстречу от самых истоков Вечности, уместно будет спросить, не выродился ли он за бессчётные смены своих поколений, не уменьшился ли в размерах в сравнении со своими грандиозными пращурами?
Однако исследования не только показывают нам, что сегодняшние киты превосходят величиной тех, чьи окаменелые останки обнаружены в третичном периоде (включая строго ограниченный геологический слой, предшествующий появлению человека), но также свидетельствуют о том, что в пределах третичной системы киты, относящиеся к более поздним формациям, крупнее, чем их предки.
Из всех преадамитовых китов, вырытых на сегодняшний день, самым крупным, безусловно, является алабамский кит, о котором уже упоминалось в предыдущей главе, но и его скелет не насчитывал даже семидесяти футов в длину. В то время как обмеры костяка, принадлежавшего крупному современному киту, дают, как мы уже знаем, семьдесят два фута. А я слышал из уст бывалых китобоев рассказы о кашалотах, которые имели в момент поимки чуть ли не сто футов длины.
Но, может быть, киты нашего времени, превосходя по величине китов всех предыдущих геологических периодов, успели всё же выродиться со времён Адама?
Мы, безусловно, вынуждены будем прийти к подобному выводу, если намерены отдавать должное свидетельствам таких джентльменов, как Плиний и прочие натуралисты античности. Ибо Плиний рассказывает нам о китах, чьи живые туши имели площадь в несколько акров, а Улисс Альдровандус[308] повествует о таких, что насчитывали в длину восемьсот футов – прямо не киты, а целые канатные фабрики или темзинскне туннели! Да и во времена Бэнкса и Солэндера – куковских натуралистов – мы встречаем некоего датчанина, члена Академии наук, который приписывал исландскому киту (называемому им reydan-siskur, то есть морщинистобрюхий) сто двадцать ярдов, что даёт триста шестьдесят футов в длину. А французский натуралист Ласепед в самом начале своей подробной истории китообразных (на третьей странице книги) даёт для настоящего кита сто метров, или триста двадцать восемь футов длины. И ведь его труд был напечатан не когда-нибудь, а всего только в 1825 году от рождества Христова.
Да только найдётся ли такой китобой, который бы поверил этим рассказам? Нет. Сегодняшний кит столь же велик, как и его предки во времена Плиния. И если когда-нибудь я попаду туда, где находится Плиний, я, китолов (во всяком случае, больше китолов, чем он), так и скажу ему прямо в лицо. Потому что я не понимаю, как это выходит: если египетские мумии, похороненные за тысячи лет до того даже, как родился Плиний, не насчитывают в своих гробах столько футов и дюймов, сколько житель нашего Кентукки в носках; и если скот и прочая живность в изображениях на древнейших египетских и ниневийских таблицах[309] ясно показывают нам в своих масштабах, что теперешний породистый, откормленный, призовой смитфилдский скот[310] не только не уступает, но и далеко превосходит по величине тучнейшую из фараоновых тучных коров, – как же перед лицом всего этого мог бы я допустить, будто из всех живых тварей один только кит выродился и измельчал?
Но остаётся ещё один вопрос; его часто ставят наиболее тёмные из жителей Нантакета. Быть может, из-за всеведения дозорных на топах мачт китобойцев, проникающих теперь даже в Берингов пролив и в отдалённейшие тайники и секретные сейфы мира; из-за тысячи гарпунов и острог, запускаемых вдоль всех материковых побережий; – возникает вопрос, быть может Левиафану из-за всего этого долго не выстоять против такой широкой облавы и такого беспощадного уничтожения; быть может, он будет в конце концов полностью истреблён по всем морям и океанам, и последний кит, как и последний человек, выкурит последнюю трубку и сам испарится с её последним дымком?
Если сравнить горбатые стада китов с горбатыми стадами бизонов, которые ещё каких-нибудь сорок лет назад, рассыпавшись на десятки тысяч акров по прериям Иллинойса и Миссури, потрясали железными гривами и грозно метали исподлобья молнии своих взглядов на месте теперешних многолюдных речных столиц, где любезный маклер продаёт вам сегодня землю по доллару за дюйм; при таком сравнении, казалось бы, мы получим неопровержимое доказательство того, что и китам не избежать быстрейшего вымирания.
Но следует взглянуть на этот вопрос также и в ином свете. Хотя совсем ещё недавно – всего одно человеческое поколение тому назад – численность бизонов в Иллинойсе превосходила численность людского населения в современном Лондоне; и хотя сегодня там не осталось от них ни рога, ни копыта; и хотя причиной этого чудесного исчезновения послужило копьё человека; тем не менее принципиально иной характер охоты на китов решительно не допускает возможности столь же бесславного конца для Левиафанов. Сорок человек на одном китобойце, промышлявшие на кашалотов в течение сорока восьми месяцев, почитают для себя необыкновенной удачей и посылают хвалу господу, если им случится привести домой жир сорока китов. Между тем как в старину во времена канадских и индейских зверобоев Дальнего Запада (где теперь, наконец, тоже восходит солнце), в те времена, когда там лежала девственная пустыня, такое же количество людей, в мокасинах и верхом на коне, а не на корабле, за такое же количество месяцев истребили бы не сорок, а сорок тысяч бизонов, если не больше; – утверждение это, если возникает надобность, может быть подтверждено данными статистики.
Точно так же, если подумать, нельзя считать доказательством ожидающего кашалотов постепенного исчезновения тот факт, например, что в прошлые года (скажем, во второй половине минувшего столетия) эти Левиафаны – небольшими стаями – встречались гораздо чаще, чем теперь, и промысловые рейсы вследствие этого были не столь продолжительны, да и приносили значительно больше. Дело в том, что, как выше уже было замечено, киты из соображений безопасности стали плавать теперь по морям обширными караванами, так что прежние рассеянные одиночки, пары, стаи, косяки и стада в наши дни объединились в огромные армии, которые, однако, не так часто встречаются. Только и всего. Равно ошибочным является представление, будто и те виды китов, которые дают так называемый «китовый ус», поскольку они перестали теперь посещать многие из районов, где раньше встречались в изобилии, также вымирают. Просто они перебираются понемногу в другие места; и если одно побережье не оживляется больше игрой их фонтанов, можете не сомневаться, что какой-нибудь другой, отдалённый берег был совсем недавно поражён этим доселе невиданным там зрелищем.
Более того, если речь зашла именно об этих, вышеупомянутых Левиафанах, то у них есть две твердыни, которым, по всей человеческой вероятности, предстоит навеки остаться неприступными. И как швейцарцы удалились в свои студёные горы, когда враги вторглись к ним в долины, так и настоящие киты, вытесненные из саванн и лугов центральных морей, могут уйти в свои полярные цитадели и, нырнув под последние прозрачные барьеры и стены, всплыть среди ледяных полей и разводьев; и пусть попробует человек проникнуть вслед за ними в заколдованный круг вечного декабря.
Однако на одного забитого кашалота приходится, вероятно, штук пятьдесят настоящих китов, и поэтому некоторые философы кубрика всё же полагают, что такое истребление уже заметно затронуло их боевые ряды. Но хотя за последнее время только одни американцы на северо-западном побережье ежегодно добывали не меньше 13.000 этих китов, существуют всё же соображения, благодаря которым даже эти цифры не могут служить доказательством подобной точки зрения.
Вполне естественно, что, слыша о такой многочисленности самого грандиозного из живых существ на земном шаре, испытываешь невольное недоверие; но что бы мы тогда сказали историографу Арто, который, описывая государство Гоа, рассказывает, что король Сиама добыл как-то за одну охоту 4000 слонов и что слонов в тех краях такое же множество, как домашней скотины в странах умеренного климата?[311] И нет как будто бы никаких оснований сомневаться в том, что если уж слоны, за которыми охотились все эти тысячи лет и Семирамида, и Пор[312], и Ганнибал, и все последующие монархи Востока, – если они до сих пор обитают там в огромных количествах, то тем больше вероятность для великих китов пережить все людские преследования, потому что в их распоряжении пастбища, по которым они могут разбрестись, ровно в два раза превосходящие размерами всю Азию, обе Америки, Европу и Африку, Новую Голландию и все острова в океане, вместе взятые.
Кроме того, не следует забывать, что благодаря предполагаемой долговечности китов, которые, как считается, живут до ста лет и более, в морях постоянно обитает по нескольку поколений взрослых индивидов. А что это должно означать, мы легко представим себе, вообразив на мгновение, что все погосты, кладбища и семейные усыпальницы вдруг разверзлись и выпустили на землю живые тела всех мужчин, женщин и детей, умерших за последние семьдесят пять лет, и прибавив это бессчётное воинство к современному людскому населению земного шара.
Вот почему мы объявляем кита как вид бессмертным, сколь уязвим бы он ни был как отдельная особь. Он плавал по морям задолго до того, как материки прорезались над водою; он плавал когда-то там, где теперь находятся Тюильри, Виндзорский замок и Кремль. Во время потопа он презрел Ноев ковчег, и если когда-либо мир, словно Нидерланды, снова зальёт вода, чтобы переморить в нём всех крыс, вечный кит всё равно уцелеет и, взгромоздившись на самый высокий гребень экваториальной волны, выбросит свой пенящийся вызов прямо к небесам.
Глава CVI. Нога Ахава
Поспешность, с какой капитан Ахав покинул «Сэмюэла Эндерби», отозвалась некоторым ущербом для его собственной персоны. Он с такой силой опустился на корму своего вельбота, что его костяная нога треснула от удара. Когда же, поднявшись к себе на палубу и вставив ногу в своё всегдашнее углубление, он вдруг с особой резкостью повернулся, чтобы отдать неотложное приказание рулевому (как всегда правившему якобы недостаточно твёрдо), тут ранее надтреснутую кость так перекорёжило, что теперь на неё, хотя она и не сломалась и сохранила прежний блеск и лоск, нельзя уже было, по мнению Ахава, вполне полагаться.
И ничего удивительного не было, что Ахав, при всём его безумии и неистовой опрометчивости, уделял всё же внимание этой мёртвой кости, на которой стоял. Дело в том, что однажды, незадолго до отплытия «Пекода» из Нантакета, его нашли как-то ночью распростёртым без чувств на земле; по какой-то неизвестной и, казалось, необъяснимой несчастной случайности костяная нога подвернулась с такой силой, что, вырвавшись из-под него, угодила ему, точно кол, в пах и едва не пронзила его насквозь; и мучительную рану удалось залечить с огромным трудом.
И тогда уже в его охваченное бредом сознание запала мысль, что всякое мучение, которое он теперь испытывал, было прямым последствием его прежнего несчастья; при этом он, должно быть, отчётливо понимал, что подобно тому, как самый ядовитый гад болотный с той же неуклонностью продолжает свой род, как и сладчайший певец древесных кущ; равным образом и все несчастья, пользуясь любой счастливой случайностью, естественно порождают себе подобных. И даже больше, чем равным образом, думал Ахав; ведь и предки и потомки Горя уходят дальше во времени, чем предки и потомки Радости. Ибо если даже не ссылаться на то, что, согласно определённым каноническим учениям, естественные земные радости не будут иметь детей в мире ином, и, даже напротив того, сменятся бездетной безрадостностью адского отчаяния; между тем как некоторым постыдным здешним невзгодам всё же суждено оставить после себя за могилой вечно разрастающееся потомство страданий; даже если совершенно не ссылаться на это, всё равно при тщательном и глубоком рассмотрении здесь обнаруживается неравенство. Ибо, думал Ахав, тогда как даже высочайшее земное божество таит в себе какую-то неприглядную мелочность, в основе всякого горя душевного лежит таинственная значительность, а у иных людей даже архангельское величие; этому очевидному выводу не противоречат и самые тщательные исторические изыскания.
Прослеживая генеалогию неискупимых смертных несчастий, мы приходим в конце концов к самовозникшему первородству богов; и перед лицом всех радостных, суматошливых летних солнц и вкрадчиво звенящих цимбал осенних полнолуний, мы неизбежно видим одно: и сами боги не пребывают в вечной радости. Извечное родимое пятно горести на лбу человека – это лишь отпечаток печали тех, кто поставил на нём эту печать.
Здесь мы поневоле выдали секрет, который по чести следовало бы, вероятно, раскрыть ещё раньше. Среди прочих подробностей, связанных с личностью Ахава, для многих всегда оставалось тайной, почему он в течение довольно долгого времени, до отплытия «Пекода» и после, прятался от всех и вся с замкнутостью настоящего далай-ламы, словно искал безмолвного убежища в мраморном сенате усопших. Объяснение, пущенное с лёгкой руки капитана Фалека, ни в коем случае не приходится считать удовлетворительным; хотя, конечно, когда речь шла о сокровенных глубинах души Ахава, тут всякое объяснение больше прибавляло многозначительной тьмы, чем проливало ясного света. Но под конец тем не менее всё вышло наружу; или по крайней мере вышла эта подробность. Причиной его временного заточения было всё то же его ужасное несчастье. Дело в том, что в глазах того узкого и постоянно стягивающегося круга на суше, в котором люди по той или иной причине пользовались привилегией менее затруднённого доступа к Ахаву; в глазах людей этого робкого круга упомянутое несчастье, оставленное мрачным Ахавом без всяких объяснений, было облачено таинственными страхами, позаимствованными в немалом количестве из страны, где бродят привидения и раздаются вопли грешников. И потому они от вящей преданности ему единодушно порешили, насколько это им по силам, скрыть всё от людей; вот чем объясняется то обстоятельство, что на борту «Пекода» долгое время ничего не знали об увечье Ахава.
Но как бы то ни было – был ли или не был связан земной Ахав с невидимым, неуловимым синодом воздушных стихий и с мстительными князьями и владыками пламени, – но в описанном случае с ногой он принял практические меры – он вызвал к себе плотника.
И когда это должностное лицо появилось перед ним, он наказал ему не мешкая приняться за изготовление новой ноги, а помощникам своим повелел проследить за тем, чтобы в распоряжение плотника были переданы все костяные заклёпки и перекладины из кашалотовой челюсти, накопленные на судне за долгое плавание, для того чтобы тот мог отобрать самый прочный и доброкачественный материал. Когда это было сделано, плотник получил приказание изготовить за ночь ногу вместе со всей оснасткой. Мало того, было приказано извлечь из трюма до сей поры праздный кузнечный горн; и корабельный кузнец, чтобы не было в деле заминки, спешно принялся ковать все необходимые железные детали.
Глава CVII. Корабельный плотник
Попробуй сядь султаном в окружении Сатурновых лун и возьми для рассмотрения одного отдельного, абстрактного человека, тебе покажется, что он – само чудо, само величие, само горе. Но с той же самой точки зрения взгляни на человечество в массе, и оно покажется тебе по большей части сборищем ненужных дубликатов, возьмёшь ли ты одну эпоху или всю историю в целом. Однако при всём ничтожестве этого человека, отнюдь не служившего образцом возвышенной гуманистической абстракции, плотник на «Пекоде» не был дубликатом, и потому теперь он собственной персоной появляется на сцене.
Подобно большинству корабельных плотников и в особенности тем из них, что ходят на китобойцах, он был до определённой, весьма приблизительной, но достаточной степени знаком с различными ремёслами и профессиями, родственными его собственной, ибо плотницкое дело – это как бы древний разветвлённый ствол, от которого отходят все многочисленные искусства, так или иначе использующие дерево в виде исходного материала. Но сверх всего того, о чём в применении к нему говорится в выше приводимом обобщённом замечании, у плотника с «Пекода» имелись особые таланты: он был совершенно незаменим, когда возникала вдруг срочная надобность в каком-нибудь хитром механическом приспособлении, столь часто встречающаяся на большом корабле за четырехгодичное плавание по дальним и диким морям. Ибо не говоря уже об его исправности при исполнении своих непосредственных обязанностей – если, к примеру, нужно починить разбитый вельбот или треснувшую рею, выправить лопасть у весла, врезать новый иллюминатор, вбить клин в бортовую обшивку или ещё там что-нибудь по его части – он был к тому же большой мастер и в иных, самых разнообразных делах, нужда ли в чём объявится, или просто взбредёт кому-нибудь в голову пустая затея.
Единственными величественными подмостками, где он разыгрывал все свои многоразличные роли, был его верстак – длинный и громоздкий грубо сколоченный стол, снабжённый несколькими тисками разных размеров, и железными, и деревянными. И за исключением тех дней, когда у бортов бывали пришвартованы киты, этот верстак стоял поперёк палубы, накрепко принайтованный к задней стенке салотопки.
Если какой-нибудь нагель оказался слишком толстым и не входит в гнездо – плотник зажмёт его в одни из своих безотказных тисков и тут же кругом обточит. Поймают на палубе залётную береговую птицу с незнакомым оперением – плотник берёт тонко распиленные прутья из китового уса и ободья из кашалотовой кости и мастерит для неё островерхую, точно пагода, клетку. Растянет ли жилы на руке гребец – плотник состряпает ему болеутоляющее притирание. Захотелось Стаббу, чтобы у него на вёслах были ярко-красные звёзды – и плотник, зажимая весло за веслом в своих больших деревянных тисках, малюет для него красками аккуратное созвездие. Взбредёт на ум какому-нибудь матросу навесить на себя серьги из акульих позвонков – и плотник пробуравит ему уши. У другого зуб разболится – плотник вытащит свои клещи и хлопнет по верстаку ладонью: садись, мол, сюда; но бедняга корчится от боли и мешает довести операцию до конца; тогда, повернув рукоятку больших деревянных тисков, плотник велит ему зажать в них нижнюю челюсть, если он хочет, чтобы зуб всё-таки был вырван.
Словом, плотник был на всё готов и ко всему относился равнодушно, без страха и без поклонения. Ему что зубы человека, что кости кашалота; что головы, что чурбаны; а самих людей он лестно приравнивал к шпилям. Казалось бы, при столь широком поле деятельности и столь многочисленных талантах, при такой находчивости и сноровке он должен был бы отличаться и чрезвычайной живостью ума. Но это было не так. Ничто так не выделяло этого человека, как его очевидная, обезличивающая тупость; я говорю – обезличивающая, потому что она так незаметно сливалась с окружающей бесконечностью, что казалась неотделимой частью всеобъемлющей безмятежной тупости этого видимого мира, который хоть и пребывает в беспрерывном движении всевозможных видов, тем не менее сохраняет вечный покой и знать вас не желает, даже если вы роете фундаменты для божьих соборов. Однако у плотника сквозь эту полугрозную тупость, связанную, как можно было видеть, со вселенским бездушием, прорывалось по временам какое-то древнее, допотопное веселье, на костыле и с одышкой, кое-где расцвеченное проблесками дряхлого остроумия, какое помогало, наверное, коротать часы ночной вахты ещё на седобородом баке Ноева ковчега. Был ли наш старый плотник всю свою долгую жизнь бродягой, который за бесконечные плавания взад и вперёд не только не оброс мхом, а наоборот, пообтер со своих бортов всё, что прежде на них успело налипнуть? Он был голой отвлечённостью, неделимым единством, цельным и неподкупным, как новорождённый младенец; он жил, не уделяя внимания ни тому, ни этому свету. Его удивительная цельность характера доходила до бессмыслия; ведь своими многочисленными ремёслами он занимался не по велению разума или инстинкта, не потому, что так был обучен, и не в силу взаимодействия всех этих трёх причин, равноценных или неравноценных; для него это был просто какой-то бесцельный, слепой, самопроизвольный процесс. Он был только манипулятором; мозги его, если они вообще у него когда-нибудь были, давно уже, должно быть, перелились к нему в пальцы. Он похож был на одно из тех не размышляющих, но весьма полезных шеффилдских изобретений, multum in parvo[313], которые с виду кажутся просто складными карманными ножами слегка увеличенных размеров, однако содержат в себе не только лезвия разнообразной величины, но также штопоры, отвёртки, щипчики, шила, перья, линейки, пилки для ногтей, свёрла и буравчики. Так что захоти хозяева нашего плотника воспользоваться им как отвёрткой, им нужно только открыть в нём соответствующее отделение, и отвёртка к их услугам; а если им понадобятся щипчики, они возьмут его за ноги, и готово.
И всё же, как замечалось выше, этот инструмент на все руки, этот складной плотник не был ни машиной, ни автоматом. Если души в обычном смысле этого слова он и не имел, в нём всё же было нечто почти неуловимое, что на свой лад справляло её обязанности. Что это было: ртутная эссенция или несколько капель раствора нюхательной соли – неизвестно. Но так или иначе это нечто сидело в нём вот уже шесть десятков лет, если не больше. Именно оно, это непостижимое, хитрое жизненное начало, заставляло его круглый день бормотать себе что-то под нос; однако то было невнятное бормотание бездумного колеса; можно уподобить также тело его сторожевой будке, а этого одинокого оратора внутри – часовому, который, чтобы не уснуть, всё время разговаривает сам с собой.
Глава CVIII. Ахав и плотник
Палуба – первая ночная вахта
(Плотник стоит у верстака и при свете двух фонарей сосредоточенно опиливает костяную ногу, которая накрепко зажата в тисках. Вокруг валяются куски китовой кости, обрывки ремней, прокладки, винты и всевозможные инструменты. Спереди, где у горна работает кузнец, видны отсветы красного пламени.)
– Чёрт бы драл этот напильник и чёрт бы драл эту кость! Этому надо быть твёрдым, так поди ты – он мягкий, а ей положено быть мягкой, так она – твёрдая. Этак вот всегда достаётся нам, кто пилит старые челюсти и берцовые кости. Попробуем-ка другую. Ага, вот это уже лучше (чихает). Ф-фу, эта костная пыль (чихает)… да она (чихает)… ей-богу, она (чихает)… да она мне, чёрт подери, говорить не даёт! Вот что получается, когда работаешь по мёртвому материалу. Если спилить живое дерево, то пыли не будет; если оттяпать живую кость, тоже (чихает). Эй ты, старый коптильник, дело за тобой, подавай сюда наконечник и скобу с винтом. У меня уже для них всё готово. Хорошо ещё (чихает), что не надо делать коленный сустав, а то бы, наверно, пришлось поломать голову; нужна одна только берцовая кость, это дело простое, что твоя тычина для хмеля; мне вот только хотелось бы дать хорошую полировку. Эх, времени бы мне, времени побольше, я б ему такую ногу смастерил (чихает), что впору самой модной леди. А всякие замшевые ноги да икры, что выставляют в витринах, эти и вовсе не пошли б ни в какое сравнение. Они воду впитывают, вот что, и уж ясное дело, в них бывают ревматические боли, так что приходится их лечить (чихает) всякими ваннами и притираниями, в точности как живые ноги. Вот так; а теперь, прежде чем отпиливать, я должен пригласить его старое могольское величество и прикинуть, подходящая ли это длина; коротковато, наверно, будет. Ага, а вот и его шаги; везёт нам; вот он идёт или, может, это кто другой?
Ахав (подходит).
(В последующей сцене плотник продолжает время от времени чихать.)
– Ну как, творец человеков?
– В самый раз, сэр. Если капитан позволит, я только отмечу длину. Сейчас сниму мерку, сэр.
– Мерку для ноги, а? Ну что ж. Это уже не в первый раз. Принимайся за дело! Вот так, отметь место пальцем. Солидные это у тебя тиски, плотник; ну-ка, дай я попробую, как они держат. Да, захватывают прочно.
– Э, сэр, поосторожнее: они кость ломают!
– Не бойся, мне нравится прочная хватка. Приятно почувствовать в этом скользком мире крепкое пожатие. А чем это там занимается Прометей? – кузнец, я хочу сказать, – что он там делает?
– Скобу куёт, надо полагать, сэр.
– Верно. Это и есть сотрудничество. Он поставляет тебе мускулы. До чего же яркий красный огонь он там развёл!
– А как же, сэр. Для такой тонкой работы ему понадобится белое каление.
– Гм-гм. Наверное так. Мне думается теперь, что недаром старый грек Прометей, который, говорят, мастерил человеков[314], был кузнецом и вдыхал в них огонь; ибо что создано в огне, огню же по праву и принадлежит; тут поневоле поверишь в существование ада. Как взлетает копоть! Это, должно быть, остатки, из которых грек наделал африканцев. Плотник, когда он покончит со скобой, вели ему выковать пару стальных ключиц и лопаток; есть у нас на палубе коробейник с непосильной ношей на плечах.
– Как, сэр?
– Помолчи; покуда Прометей не кончил работы, я закажу ему целого человека по своим чертежам. Imprimis[315], рост пятьдесят футов от пяток до макушки; потом грудь по образцу Темзинского туннеля; ноги чтобы врастали в землю, как корни, чтобы стоял, не сходил с места, потом руки в три фута толщиной у запястий; сердца не надо вовсе; лоб медный и примерно с четверть акра отличных мозгов; и потом, постой-ка, стану ли я заказывать ему глаза, чтобы он глядел наружу? Нет, но на макушке у него будет особое окно, чтобы освещать всё, что внутри. Вот так; получай заказ и уходи.
– (В сторону). Интересно, о чём это он говорит, и кому он всё это говорит, хотелось бы мне знать? Уходить мне или оставаться?
– Никудышная это архитектура – слепой купол; вот, к примеру, хотя бы этот. Нет, нет, мне нужно, чтобы был фонарь.
– Ага, вот оно что, оказывается! Пожалуйста, сэр, здесь их два, а с меня и одного довольно будет.
– Зачем ты суёшь мне в лицо этого уловителя воров, человек? Свет в лицо – это ещё хуже, чем пистолет в висок.
– Я думал, сэр, что вы обращались к плотнику.
– К плотнику? Мне казалось… но нет, чистая у тебя, плотник, профессия и, я бы сказал, в высшей степени джентльменская; или ты предпочёл бы иметь дело с глиной?
– Как, сэр? С глиной, вы говорите? Глина – это грязь, сэр; мы оставим её землекопам.
– Да ты богохульник! Чего ты всё чихаешь!
– Кости довольно пыльные, сэр.
– Что же, учти это, и когда умрёшь, не хорони себя под носом у живых.
– Сэр? а! да, да! разумеется; конечно, о господи!
– Послушай-ка, плотник; ведь ты, конечно, считаешь себя настоящим мастером своего дела, верно? Скажи же мне, так ли уж в пользу твоего мастерства будет это, если я, опираясь на вот эту ногу, которую ты сейчас делаешь, буду ощущать тем не менее, кроме неё, на её же месте другую ногу; мою старую ногу, плотник, которую я потерял; ту, из плоти и крови? Неужели ты не можешь изгнать ветхого Адама?
– В самом деле, сэр. Теперь я начинаю кое-что понимать. Да, я слышал, сэр, об этом удивительном деле; говорят, что человек, потерявший мачту, никогда до конца не перестаёт чувствовать свой прежний рангоут, нет-нет да и кольнёт его будто что-нибудь. Могу ли я нижайше спросить вас, так ли это, сэр?
– Именно так, человек. Вот, поставь свою живую ногу сюда, где некогда была моя; теперь для глаза здесь только одна нога; но для глаз души их здесь две. Там, где ты ощущаешь биение жизни; там, как раз в тех же самых местах, ощущаю его и я. Загадка, а?
– Неразрешимая, по моему нижайшему мнению, сэр.
– Так слушай же. Откуда ты знаешь, что как раз там, где ты сейчас стоишь, не стоит, невидимо для тебя и не сливаясь с тобою, ещё что-то, цельное, живое, мыслящее, стоит, вопреки тебе самому? Неужели в часы полного одиночества ты не опасаешься, что тебя подслушивают? Помолчи, не отвечай мне! И если я всё ещё чувствую боль в моей раздроблённой ноге, когда она давно уже распалась на элементы, почему бы тогда и тебе, плотник, даже без тела не чувствовать вечных мук ада? А?
– Боже милостивый! В самом деле, сэр, если уж на то пошло, так, видно, я должен ещё раз всё подсчитать; сдаётся мне, сэр, там оставалось кое-что в уме, а я, складывая, упустил это из виду.
– Эй, послушай, не твоё дело рассуждать. Когда ты думаешь закончить эту ногу?
– Через час, наверное, сэр.
– Ну, так навались как следует, а потом принесёшь мне. (Уходя.) О жизнь! Вот стою я, горд, как греческий бог, но я в долгу у этого болвана за кусок кости, на которой я стою. Будь проклята эта всечеловеческая взаимная задолженность, которая не желает отказаться от гроссбухов и счётов. Я хотел бы быть свободным, как ветер; и вот имя моё значится в долговых книгах всего мира. Я богат, я мог бы потягаться с владетельнейшим из преторианцев[316] на распродаже Римской империи (и значит, всего света); но я в долгу за самую плоть моего языка, каким я сейчас выхваляюсь. Клянусь небесами! Я возьму тигель и расплавлю в нём себя самого, покуда не останется один, последний позвонок. Так-то.
Плотник (снова принимаясь за работу).
– Ну-ну! Стабб, он знает его лучше всех нас, и Стабб всегда говорит, что он чудной; одно только это словечко – чудной; и ничего больше; чудной он, говорит Стабб; чудной, чудной, чудной; так всё время и вдалбливает мистеру Старбеку – чудной, сэр, чудной, чудной, уж больно чудной. А тут ещё эта нога его! Ведь как подумаю, это же с нею делит он своё ложе! Кусок китовой кости вместо жены! Вот она, его нога; он будет стоять на ней. Что он там такое говорил насчёт одной ноги в трёх местах и о трёх местах всё в одном аду? Как это у него получилось? Ох! Понятно, что он глядел на меня с таким презрением. Я и сам, говорят, иной раз умею хитро поразмыслить, да только это так, разве что к случаю. Да и потом, куда мне на моих старых кургузых лапах тянуться вброд по глубоким местам вслед за долговязыми капитанами; как вода потреплет по подбородку, так сразу и завопишь – спасите! тону! Другое дело капитаны – у них ноги как у цапли! Длинные и тонкие, любо-дорого смотреть! Обычно людям хватает по паре ног на всю жизнь, это, верно, оттого, что они их берегут, как старые сердобольные леди берегут своих кругленьких старых лошадок. Но вот Ахав, он гонит, не жалеет. Одну ногу загнал насмерть, другая на всю жизнь засекается, а теперь он снашивает костяные ноги, сажень за саженью. Эй ты, коптильник! подсоби-ка мне с этими винтами и давай покончим с ней, прежде чем вестник воскрешения придёт со своей трубой за всеми ногами, настоящими и искусственными, как с пивоварни ходят собирают старые пивные бочки, чтобы снова их наполнить. Ну и нога же получилась! Совершенно как настоящая, я так её ловко обточил; завтра он будет стоять на ней и брать высоту секстантом. Эге! Да я чуть было не забыл про овальную полированную площадочку, где он пишет свои выкладки. То-то, а ну, скорее долото, напильник и шкурку!
Глава CIX. Ахав и старбек в каюте
На следующее утро на корабле, как заведено, работали помпы, вдруг вместе с водою из трюмов пошло масло; как видно, бочки дали сильную течь. Все обеспокоились, и Старбек спустился в каюту доложить об этом прискорбном событии[317].
В то время «Пекод» шёл на северо-восток, приближаясь к Формозе и островам Баши, между которыми лежит один из тропических выходов из китайских вод в Тихий океан. Старбек застал Ахава над генеральной картой восточных архипелагов, разложенной на столе; тут же лежала и другая карта, более подробная, отдельно воспроизводящая длинную линию восточного побережья японских островов – Ниппона, Мацмаи[318] и Сикоку. Упёршись своей новой белоснежной костяной ногой в привинченную к полу ножку стола, удивительный этот старик стоял спиной к двери с раскрытым ножом в руке и, наморщив лоб, заново прокладывал свои старые курсы.
– Кто там? – спросил он, заслышав шаги, но не оборачиваясь. – Вон! На палубу!
– Капитан Ахав ошибается; это я. В трюме масло течёт, сэр. Нужно вскрыть трюм и выкатить бочки.
– Вскрыть трюм и выкатить бочки? Теперь, когда мы уже подходим к Японии, остановиться здесь на неделю, чтобы залатать охапку старых ободьев?
– Либо мы сделаем это, сэр, либо за один день потеряем больше масла, чем сумеем, быть может, накопить за год. То, ради чего мы проделали двадцать тысяч миль, стоит сберечь, сэр.
– Да, так; если только мы это получим.
– Я говорил о масле в нашем трюме, сэр.
– А я вовсе не говорил и не думал о нём. Ступай! Пусть течёт! Я сам весь протекаю. Да! Течь на течи; весь полон худыми бочонками, и все эти худые бочонки едут в трюме худого корабля; положение куда хуже, чем у «Пекода». И всё-таки я не останавливаюсь, чтобы заткнуть свою течь; ибо как её найти в глубоко осевшем корпусе, да и можно ли надеяться заткнуть её, даже если найдёшь, в разгар свирепого шторма жизни? Старбек! Я приказываю не вскрывать трюма!
– Что скажут владельцы, сэр?
– Пусть владельцы стоят в Нантакете на берегу и пытаются своими воплями перекрыть тайфуны. Что за дело до них Ахаву? Владельцы, владельцы. Что ты всё плетёшь мне, Старбек, об этих несчастных владельцах, будто это не владельцы, а моя совесть? Пойми, единственный истинный владелец – тот, кто командует; а совесть моя, слышишь ли ты? совесть моя в киле моего корабля. Ступай наверх!
– Капитан Ахав, – проговорил побагровевший помощник, сделав шаг в глубь каюты с такой странно почтительной и осторожной отвагой, которая, казалось, не только избегала малейшего внешнего проявления, но и внутренне наполовину не доверяла самой себе. – И повыше меня человек спустил бы тебе то, чего никогда не простил бы более молодому; да и более счастливому, капитан Ахав.
– Дьявольщина! Ты что же, осмеливаешься судить меня? Наверх!
– Нет, сэр, я ещё не кончил. Я умоляю вас, сэр. Да, я осмеливаюсь – будьте снисходительнее. Разве нам не надо получше понять друг друга, капитан Ахав?
Ахав выхватил заряженный мушкет из стойки (составляющей предмет обстановки в каюте чуть ли не всякого судна в южных рейсах) и, направив его Старбеку в грудь, вскричал:
– Есть один бог – властитель земли, и один капитан – властитель «Пекода». Наверх!
Какое-то мгновение при виде сверкающих глаз старшего помощника и его горящих щёк можно было подумать, что его и в самом деле опалило пламенем из широкого дула. Но он поборол свои чувства, выпрямился почти спокойно и, уходя из каюты, задержался на секунду у двери:
– Ты обидел, но не оскорбил меня, сэр; и всё-таки я прошу тебя: остерегись. Не Старбека – ты бы стал только смеяться; но пусть Ахав остережётся Ахава; остерегись самого себя, старик.
– Он становится храбрым, и всё-таки подчиняется; вот она, храбрость с оглядкой! – проговорил Ахав, когда Старбек скрылся. – Что такое он сказал? Ахав остерегись Ахава – в этом что-то есть!
И он, нахмурив своё железное чело, стал расхаживать взад и вперёд по тесной каюте, бессознательно опираясь на мушкет, словно на трость; но вот глубокие борозды у него на лбу разошлись, и, поставив на место мушкет, он вышел на палубу.
– Ты очень хороший человек, Старбек, – вполголоса сказал он своему помощнику; а затем крикнул матросам:
– Убрать брамсели! фор– и крюйс-марсели на рифы; грот-марсель обрасопить! Тали поднять и вскрыть трюм!
Напрасно стали бы мы гадать, что побудило на этот раз Ахава поступить так со Старбеком. Быть может, то был в нём проблеск искренности или простой расчёт, который при данных обстоятельствах решительно не допускал ни малейшего проявления неприязни, даже мимолётной, в одном из главных командиров на корабле. Как бы то ни было, но приказание его было выполнено, и трюм вскрыт.
Глава CX. Квикег и его гроб
После тщательного осмотра оказалось, что бочки, загнанные в трюм в последнюю очередь, все целёхоньки и что, стало быть, течь где-то ниже. И вот, воспользовавшись тем, что на море было затишье, мы решили забраться в самую глубину трюма. Взламывая крепи, уходили мы всё ниже и ниже, нарушая тяжёлую дрёму огромных стогаллонных бочек в нижних ярусах, точно выгоняя великанских кротов из полуночной тьмы навстречу дневному свету. Мы проникли на такую глубину, где стояли такие древние, изъеденные временем, заплесневелые гигантские бочки, что прямо в пору было приняться за поиски замшелого краеугольного бочонка, наполненного монетами самого капитана Ноя и обклеенного объявлениями, в которых Ной тщетно предостерегает безумный старый мир от потопа. Один за другим выкатывали мы наверх бочонки с питьевой водой, хлебом, солониной, связки бочарных клепок и железных ободьев, так что под конец по палубе уже трудно стало ходить; гулко отдавалось от шагов эхо в порожних трюмах, будто вы расхаживали над пустыми катакомбами; и судно мотало и болтало на волнах, точно наполненную воздухом оплетённую бутыль. Тяжела стала у «Пекода» голова, как у школяра, вызубрившего натощак Аристотеля. Хорошо ещё, что тайфуны не вздумали навестить нас в ту пору.
И вот тогда-то и скрутила моего приятеля-язычника и закадычного друга Квикега свирепая горячка, едва не приведшая его в лоно бесконечности.
Надо сказать, что в китобойном деле синекуры не бывает; здесь достоинство и опасность идут рука об руку; и чем выше ты поднялся, тем тяжелее должен трудиться, покуда не достигнешь капитанского ранга. Так было и с бедным Квикегом, которому как гарпунёру полагалось не только мериться силами с живым китом, но также – как мы видели выше – подниматься в бушующем море на его мёртвую спину, а затем спускаться в сумрак трюма и, обливаясь потом в этом чёрном подземелье, ворочать тяжёлые бочки и следить за их установкой. Да, коротко говоря, гарпунёры на китобойце – это рабочая скотина.
Бедняга Квикег! надо было вам, когда судно уже наполовину выпотрошили, нагнуться над люком и заглянуть в трюм, где полуголый татуированный дикарь ползал на карачках среди плесени и сырости, точно пятнистая зелёная ящерица на дне колодца. И колодцем, вернее, ледником, в этот раз и оказался для тебя трюм, бедный язычник; здесь, как это ни странно, несмотря на страшную жару, он, обливаясь потом, подхватил свирепую простуду, которая перешла в горячку и после нескольких мучительных дней уложила его на койку у самого порога смертной двери. Как он исчах и ослабел за эти несколько долгих, медлительных дней! В нём теперь почти не оставалось жизни, только кости да татуировка. Он весь высох, скулы заострились, одни глаза становились всё больше и больше, в них появился какой-то странный мягкий блеск, и из глубины его болезни они глядели на вас нежно, но серьёзно, озарённые бессмертным душевным здоровьем, которое ничто не может ни убить, ни подорвать. И подобно кругам на воде, которые, замирая, расходятся всё дальше и дальше, его глаза всё расширялись и расширялись, как круги Вечности. Неизъяснимый ужас охватывал вас, когда вы сидели подле этого угасающего дикаря и видели в лице его что-то странное, замеченное ещё свидетелями смерти Зороастра. Ибо то, что поистине чудесно и страшно в человеке, никогда ещё не было выражено ни в словах, ни в книгах. А приближение Смерти, которая одинаково равняет всех, одинаково откладывает на всех лицах печать последнего откровения, которое сумел бы передать только тот, кто уже мёртв. Вот почему – повторим опять – ни один умирающий халдей или грек не имел более возвышенных мыслей, чем те, что загадочными тенями пробегали по лицу бедного Квикега, когда он тихо лежал в своей раскачивающейся койке, а бегущие волны словно убаюкивали его, навевая последний сон, и невидимый океанский прилив вздымал его всё выше и выше, навстречу уготованным ему небесам.
На корабле уже все до единого потеряли надежду на его выздоровление, а что думал о своей болезни сам Квикег, ясно показывает удивительная просьба, с которой он к нам обратился. Как-то в серый предрассветный час утренней вахты он подозвал к себе одного матроса, и, взяв его за руку, сказал, что в Нантакете ему случалось видеть узкие челны из тёмного дерева, наподобие того, из которого делают военные пироги на его родном острове; расспросив, он выяснил, что каждого китобоя, умирающего в Нантакете, кладут в такой тёмный чёлн, и мысль о подобной возможности и для него самого как нельзя больше пришлась ему по душе; потому что это сильно походило на обычай его народа, по которому мёртвого воина после бальзамирования укладывают во всю длину в его пирогу и пускают плыть по воле волн к звёздным архипелагам; ибо они верят не только в то, что звёзды – это острова, но также ещё и в то, что далеко за гранью видимых горизонтов их собственное тёплое и безбрежное море сливается с голубыми небесами, образуя белые буруны Млечного Пути. Он прибавил, что содрогается при мысли, что его похоронят, обернув в койку по старинному морскому обычаю, и вышвырнут за борт, точно мерзкую падаль, на съедение стервятницам-акулам… Нет, пусть ему дадут челнок, как в Нантакете, он тем более подобает ему – китобою, что гроб-челнок, как и китобойный вельбот, не имеет киля; хотя, конечно, из-за этого он, должно быть, плохо слушается руля и его сильно сносит течением во время плавания вниз по мглистым столетиям.
Как только об этой странной просьбе доложили на шканцы, плотнику сразу же было приказано исполнить желание Квикега, каково бы оно ни было. На борту было немного старого леса, какие-то язычески-тёмные, гробового цвета доски, завезённые в один из предыдущих рейсов из девственных рощ Лаккадивских островов, и из этих-то чёрных досок и было решено сколотить гроб. Как только приказ довели до сведения плотника, он не мешкая подхватил свою дюймовую рейку и со свойственной ему равнодушной исполнительностью отправился в кубрик, где приступил к тщательному обмериванию Квикега, аккуратно прикладывая рейку и оставляя у него на боку меловые отметины.
– Эх, бедняга! придётся ему теперь помереть, – вздохнул моряк с Лонг-Айленда.
А плотник вернулся к своему верстаку и в целях удобства и постоянного напоминания отмерил на нём точную длину будущего гроба и увековечил её, сделав в крайних точках две зарубки. После этого он собрал инструменты и доски и принялся за работу.
Когда был вбит последний гвоздь и крышка выстругана и пригнана как следует, он легко взвалил себе готовый гроб на плечи и понёс его на бак, чтобы выяснить, готов ли покойник.
Расслышав возмущённые и слегка насмешливые возгласы, которыми матросы на палубе гнали прочь плотника с его ношей, Квикег ко всеобщему ужасу велел поскорее принести гроб к нему; и отказать ему, разумеется, было никак нельзя; ведь среди смертных нет б?льших тиранов, чем умирающие; да и право же, раз уж они скоро почти навечно перестанут нас беспокоить, надо их, бедненьких, покамест ублажать.
Свесившись через край койки, Квикег долго и внимательно разглядывал гроб. Затем он попросил, чтобы принесли его гарпун, отделили деревянную рукоятку и положили лезвие в гроб вместе с веслом из Старбекова вельбота. По его же просьбе вдоль стенок были уложены в ряд сухари, в головах поставлена бутылка пресной воды, а в ногах положен мешочек с землёй, которую пополам с опилками наскребли в трюме; после этого в гроб вместо подушки сунули свёрнутый кусок парусины, и Квикег стал настойчиво просить, чтобы его перенесли из койки на его последнее ложе – он хотел испробовать его удобства, если в нём таковые имеются. Несколько мгновений он лежал там неподвижно, затем велел одному из товарищей открыть его мешок и вытащить оттуда маленького бога Йоджо. После этого он сложил на груди руки, прижимая к себе Йоджо, и сказал, чтобы его закрыли гробовой крышкой («задраили люк», как выразился он). Крышку опустили, откинув верхнюю половину на кожаных петлях, и он лежал, так что только его серьёзное лицо виднелось из гроба. «Рармаи» («годится, подходит»), – проговорил он наконец и дал знак, чтобы его снова положили на койку.
Но не успели ещё его вытащить из этого ящика, как Пип, всё время незаметно для других находившийся поблизости, прокрался к самому гробу и с тихими рыданиями взял Квикега за руку, не выпуская из другой руки свой неизменный тамбурин.
– Бедный скиталец! Неужели никогда не наступит конец твоим скитаниям? Куда отправляешься ты теперь? Но если течения занесут тебя на милые Антиллы, где прибой бьёт водяными лилиями в песчаные берега, исполнишь ли ты моё поручение? Найди там одного человека по имени Пип, его давно уже недосчитываются в команде; я думаю, он там, на далёких Антиллах. Если встретишь его, ты его утешь, потому что ему, наверное, очень грустно; понимаешь, он оставил здесь свой тамбурин, а я его подобрал, вот! Пам-па-ра-ра-пам! Ну, Квикег, теперь можешь умирать, а я буду отбивать тебе отходный смертный марш.
– Я слышал, – пробормотал Старбек, заглядывая сверху в люк, – что в сильной горячке люди, даже самые тёмные, начинали говорить на древних языках; однако, когда все загадочные обстоятельства выясняются, неизменно оказывается, что просто в далёкие дни их забытого детства какие-нибудь премудрые мужи разговаривали при них на этих древних языках. Так и бедняжка Пип, по моему глубокому убеждению, приносит нам в странной прелести своего безумия небесные посулы нашей небесной родины. Где мог он услышать всё это, если не там? – Но тише! Он снова говорит, только ещё бессвязнее, ещё безумнее.
– Встаньте попарно, двумя рядами! Пусть он будет у нас генералом! Гей! Где его гарпун? Положите его вот так, поперёк! Там-па-ра-рам! Пам-пам! Ур-ра! Эх, вот бы сюда боевого петуха, чтобы сидел у него на голове и кукарекал! Квикег умирает, но не сдаётся! – помните все: Квикег умирает смертью храбрых! – хорошенько запомните: Квикег умирает смертью храбрых! Смертью храбрых, говорю я, храбрых, храбрых! А вот презренный маленький Пип, он умер трусом; он так весь и трясся; – позор Пипу! Слушайте все: если вы встретите Пипа, передайте всем на Антиллах, что он предатель и трус, трус, трус! Скажите там, что он выпрыгнул из вельбота! Никогда бы я не стал бить в мой тамбурин над презренным Пипом и величать его генералом, если бы он здесь ещё раз принялся умирать. Нет, нет! Стыд и позор всем трусам! Пусть они все потонут, как Пип, который выпрыгнул из вельбота. Стыд и позор!
А Квикег тем временем лежал с закрытыми глазами, словно погружённый в сон. Наконец Пипа увели, а больного перенесли на койку.
Но теперь, когда, казалось, он окончательно приготовился к смерти, и гроб, как выяснилось, был ему в самую пору, Квикег неожиданно пошёл на поправку; скоро нужда в изделии плотника отпала; и тогда, в ответ на недоуменные восторги матросов Квикег объяснил причину своего внезапного выздоровления; суть его рассказа сводится к следующему: в самый критический момент он вдруг припомнил об одном маленьком дельце на берегу, которое ещё не выполнил, и поэтому он передумал, решил, что умирать он пока ещё не может. Его спросили, неужели он считает, что может жить или умереть по собственному своему произволу и усмотрению? Разумеется, ответил он. Коротко говоря, Квикег был убеждён, что если человек примет решение жить, обыкновенной болезни не под силу убить его; тут нужен кит, или шторм, или какая-нибудь иная слепая и неодолимая разрушительная сила.
Кроме того, надо думать, между дикарями и цивилизованными людьми существует вот какая разница: в то время как у цивилизованного больного уходит на поправку в среднем месяцев шесть, больной дикарь может выздороветь чуть ли не за день. Так что вскоре мой Квикег стал набираться сил, и наконец, просидев в праздности несколько дней на шпиле (поглощая, однако, всё это время великие количества пищи), он вдруг вскочил, широко расставил ноги, раскинул руки, потянулся хорошенько, слегка зевнул, а затем, вспрыгнув на нос своего подвешенного вельбота и подняв гарпун, провозгласил, что готов к бою.
Свой гроб он, по дикарской прихоти, надумал теперь использовать как матросский сундук; вывалил в него из парусинового мешка все свои пожитки и в порядке их там разложил. Немало часов досуга потратил он на то, чтобы покрыть крышку удивительными резными фигурами и узорами; при этом он, видимо, пытался на собственный грубый манер воспроизвести на дереве замысловатую татуировку своего тела. А ведь эта татуировка была делом рук почившего пророка и предсказателя у него на родине, который в иероглифических знаках записал у Квикега на теле всю космогоническую теорию вместе с мистическим трактатом об искусстве познания истины; так что и собственная особа Квикега была неразрешённой загадкой, чудесной книгой в одном томе, тайны которой даже сам он не умел разгадать, хотя его собственное живое сердце билось прямо о них; и значит, этим тайнам предстояло в конце концов рассыпаться прахом вместе с живым пергаментом, на котором они были начертаны, и так и остаться неразрешёнными. Вот о чём, наверное, думал Ахав, когда однажды утром, посмотрев на бедного Квикега, он отвернулся и воскликнул с сердцем:
– О дьявольски дразнящий соблазн богов!
Глава CXI. Тихий океан
Когда, проскользнув мимо островов Баши, мы выплыли на простор великого Южного моря, я готов был, если бы не всё остальное, приветствовать любезный моему сердцу Тихий океан бесчисленными изъявлениями благодарности, ибо вот наконец осуществилась давнишняя мечта моей юности: сей недвижный океан простирался предо мной к востоку тысячами миль синевы.
Есть какая-то непонятная таинственная прелесть в этом море, чьё ласковое смертоносное колыхание словно повествует о живой душе, таящейся в тёмных глубинах; так, если верить легенде, колебалась земля Эфесская над могилой святого Иоанна Евангелиста. И так оно и следует, чтобы на этих морских пастбищах, на этих широких водных прериях и нищенских погостах всех четырёх континентов вечно вздымались и падали, накатывались и убегали зелёные валы; ибо миллионы сплетающихся теней и призраков, погибших мечтаний, грёз и снов, – всё то, что зовём мы жизнью и душой, лежит там и тихо, тихо грезит; и мечется, как спящий в своей постели; и неустанно бегущие волны лишь вторят в своём колыхании беспокойству этого сна.
Для всякого мечтательного мистика-скитальца безмятежный этот Тихий океан, однажды увиденный, навсегда останется избранным морем его души. В нём катятся срединные воды мира, а Индийский и Атлантический океаны служат лишь его рукавами. Одни и те же волны бьются о молы новых городов Калифорнии, вчера только возведённых самым молодым народом, и омывают увядшие, но всё ещё роскошные окраины азиатских земель, более древних, чем Авраам; а в середине плавают млечные пути коралловых атоллов и низкие, бесконечные, неведомые архипелаги, и непроницаемые острова Японии. Так перепоясывает этот божественный, загадочный океан весь наш широкий мир, превращая все побережья в один большой залив, и бьётся приливами, точно огромное сердце земли. Мерно вздымаемый его валами, поневоле начинаешь признавать бога-соблазнителя, склоняя голову перед великим Паном.
Но мысль о Пане не очень-то тревожили Ахава, когда он железной статуей стоял на своём обычном месте у снастей бизани, одной ноздрёй равнодушно втягивая сахаристый мускус с островов Баши (где в благовонных лесах, верно, гуляли нежные влюблённые), а другой жадно вдыхая солёный запах вновь открытого моря; того самого моря, где в это мгновение плавал по волнам ненавистный ему Белый Кит. Теперь, когда он вышел наконец в эти воды, к своей конечной цели, и скользил по направлению к японскому промысловому району, воля старого капитана напряглась, как струна. Его твёрдые губы сомкнулись, точно зажимы тисков; жилы на лбу вздулись дельтой, точно переполнившиеся весной потоки; и даже во сне будоражил он своим криком гулкие своды корабля: «Табань! Белый Кит плюёт чёрной кровью!»
Глава CXII. Кузнец
Воспользовавшись тихой летней прохладой, стоявшей в то время года на здешних широтах, старый кузнец Перт, с головы до ног покрытый сажей и мозолями, в ожидании самой горячей промысловой поры, которая теперь предстояла, не стал убирать назад в трюм свой переносный горн; закончив свою долю работы над ногой для Ахава, он оставил его на том же месте, накрепко принайтованным к рымам у фок-мачты; теперь к кузнецу то и дело обращались с просьбами командиры вельботов, гарпунёры и гребцы; каждому нужно было что-нибудь исправить, заменить или переделать в их разнообразных орудиях и шлюпочном вооружении. Люди в нетерпении обступали его тесным кольцом, дожидаясь своей очереди; каждый держал в руке либо лопату, либо наконечник пики, либо гарпун, либо острогу и ревниво следил за малейшим движением его занятых, прокопчённых рук. Но у этого старика были терпеливые руки, и терпеливым молотом взмахивал он. Ни ропота, ни нетерпения, ни озлобления. Безмолвно, размеренно и торжественно; ещё ниже сгибая свою вечно согбенную спину, он всё трудился и трудился, будто труд – это вся жизнь, а тяжкие удары его молота – это тяжкие удары его сердца. И так оно и было. О несчастный!
Что-то необычное в походке этого старика, какая-то едва приметная, но болезненная рыскливость его хода ещё в начале плавания вызывала любопытство матросов. И постепенно он вынужден был уступить настойчивости их упорных расспросов; так и получилось, что все на борту узнали постыдную историю его печальной жизни.
Однажды в жестокий мороз, оказавшись за полночь – и отнюдь не безвинно – на полдороге между двумя провинциальными городами, осоловелый кузнец вдруг почувствовал, что его одолевает смертельное оцепенение и, забравшись в покосившийся ветхий сарай, вздумал провести там ночь. Последствием этого была потеря им всех пальцев на обеих стопах. И так постепенно из его признаний сцена за сценой выступили четыре акта радости и один длинный, но ещё не достигнувший развязки пятый акт горя, составляющие драму его жизни.
Этого старика в возрасте шестидесяти лет с большой задержкой постигло то, что в обиходе бедствий зовётся гибелью и разорением. Он был прославленным мастером своего дела, всегда имел в избытке работу, жил в собственном доме с садом, обнимал молодую любящую жену, которая годилась ему в дочки, и троих весёлых румяных ребятишек; по воскресеньям ходил в чистую, светлую церквушку, стоявшую в рощице. Но однажды ночью, таясь под покровом тьмы и коварно скрываясь под обманной личиной, жестокий грабитель пробрался в этот счастливый дом и унёс оттуда всё, что там было. И что всего печальнее, ввёл этого грабителя в лоно своей семьи, не ведая того, сам кузнец. Это был Чародей Бутылки! Когда была выдернута роковая пробка, вырвалась наружу вражья сила и высосала все соки из его дома. Из весьма справедливых и мудрых соображений экономии кузница была устроена прямо у них в подвале, хотя имела отдельный вход, так что молодая и любящая жена всегда прислушивалась без раздражения и досады, но с превеликим удовольствием к могучему звону молота в молодых руках своего старого мужа, потому что гулкие его удары, заглушённые стенами и полами, всё-таки проникали своей грубой прелестью к ней в детскую, где она укачивала детей кузнеца под железную колыбельную песню могучего Труда.
О горе ты горькое! О Смерть! почему не приходишь ты в нужную минуту? Если бы ты взяла к себе старого кузнеца, прежде чем свершились его гибель и разорение, тогда осталось бы у молодой вдовы её сладкое горе, а у сирот был бы всеми почитаемый и воспетый семейными преданиями покойный отец, о котором они могли бы думать в последующие годы; и у всех – беззаботная жизнь с достатком. Но смерть скосила себе какого-то добродетельного старшего брата, от чьих неутомимых ежедневных трудов целиком зависело существование совсем другой семьи, а этого хуже чем никчёмного старика оставила стоять на ниве до тех пор, покуда мерзкое гниение жизни не сделает его ещё более пригодным для жатвы.
К чему пересказывать остальное? Всё реже и реже раздавались удары молота в подвале; и всякий день каждый новый удар был слабее, чем предыдущий; жена, застыв, сидела у окна и глядела сухими, блестящими глазами на заплаканные личики своих детей; мехи опали; горн задохнулся золой; дом продали; мать погрузилась в высокую траву деревенского погоста, и дети, проводив её, вскоре последовали за нею; и бездомный, одинокий старик, спотыкаясь, вышел на дорогу бродягой в трауре; и не было почтения его горю, и самые седины его были посмешищем для льняных кудрей.
Кажется, у такой жизни один только желанный исход – Смерть; но ведь Смерть – это лишь вступление в область Неведомого и Испытанного; это лишь первое приветствие бескрайним возможностям Отдалённого, Пустынного, Водного, Безбрежного; вот почему перед взором ищущего смерти человека, если он ещё сохранил в душе какое-то предубеждение против самоубийства, океан, всё принимающий, всё поглотивший, заманчиво расстилает огромную равнину невообразимых захватывающих ужасов и чудесных, неиспытанных приключений; будто из бездонных глубин тихих океанов, поют ему тысячи сирен: «Ступай сюда, страдалец, здесь новая жизнь, не отделённая от старой виною смерти; здесь небывалые чудеса, и чтобы их увидеть, тебе не надо умирать. Сюда, сюда! Погреби себя в этой жизни, ведь она для твоего теперешнего сухопутного мира, ненавистного и ненавидящего, ещё отдалённее и темнее, чем забвение смерти. Ступай сюда! Поставь и себе могильный камень на погосте и ступай сюда, ты будешь нам мужем!»
И наслушавшись этих голосов, нёсшихся с Востока и Запада ранёхонько на заре и на исходе дня, душа кузнеца отозвалась: «Да, да, я иду!»
Так ушёл Перт в плавание на китобойце.
Глава CXIII. Кузнечный горн
Запелёнатый по самую свою всклокоченную бороду в жёсткий передник из акульей кожи, Перт стоял как-то в полдень между горном и наковальней, которая помещалась на подставке из железного дерева, и одной рукой держал на углях наконечник для пики, а другой управлялся с лёгкими своего горна, когда к нему подошёл капитан Ахав с небольшим и ветхим кожаным мешком в руках. На некотором расстоянии от горна угрюмый Ахав остановился и стоял до тех пор, пока Перт не вытащил из огня железный наконечник и не стал, положив на наковальню, бить по нему молотом, так что раскалённая красная масса испустила в воздух густую трепетную стаю искр, которая пролетела возле самого Ахава.
– Это твои буревестники, Перт? они всегда летают за тобою. Эти птицы приносят счастье, но не всем: видишь? они обжигают; но вот ты, ты живёшь среди них и не получил ни одного ожога.
– Потому что я уже весь обожжён, с головы до ног, капитан Ахав, – отозвался Перт, опершись на свой молот, – меня уже нельзя обжечь; во мне и так уже всё спеклось.
– Ну, ну, довольно. Твой увядший горестный голос звучит слишком спокойно, слишком здраво для моего слуха. Я и сам не в раю, и я не могу переносить несчастья других, если они не оборачиваются безумием. Тебе следовало бы сойти с ума, кузнец; скажи, почему ты не сошёл с ума? Как можешь ты терпеть, не сойдя с ума? Неужто небеса и по сей день так ненавидят тебя, что ты не можешь сойти с ума? Что это ты делал?
– Перековывал старый наконечник для пики, сэр; на нём были борозды и зазубрины.
– А разве ты можешь снова сделать его гладким, кузнец, после того как он сослужил такую службу?
– Думаю, что могу, сэр.
– И ты, наверное, можешь разгладить всякие борозды и зазубрины, кузнец, как бы твёрд ни был металл?
– Так, сэр, думаю, что могу. Все борозды и зазубрины, кроме одной.
– Взгляни же сюда! – страстно воскликнул Ахав, приблизившись к Перту и опершись обеими руками ему на плечи; – взгляни сюда, сюда, можешь ли ты разгладить такую борозду, кузнец? – И он провёл ладонью по своему нахмуренному челу. – Если бы ты мог это сделать, кузнец, с какой бы радостью положил я свою голову на эту наковальню и почувствовал бы, как самый твой тяжёлый молот опустится у меня между глазами! Отвечай! Можешь ли ты разгладить эту борозду?
– Эту, сэр? Я ведь сказал, что могу разгладить все борозды, кроме одной. Это она и есть.
– Так, старик, это она и есть; верно, кузнец, её не разгладишь; ибо хотя ты видишь её здесь у меня на коже, она в действительности врезалась уже в кость моего черепа – он весь изрезан морщинами! Но оставим детские разговоры; довольно тебе на сегодня острог и пик. Гляди! – И он потряс своим кожаным мешком, будто он был набит золотыми монетами. – Я тоже хочу дать тебе заказ. Мне нужен гарпун, Перт, такой, чтобы тысяча чертей в одной упряжке не могла бы его разогнуть; такой, чтобы сидел у кита в боку, как его собственный плавник. Вот из чего ты его сделаешь, кузнец, – и он швырнул мешок на наковальню. – Здесь собраны гвозди, какими прибивают стальные подковы скаковых лошадей.
– Гвозди для подков, сэр? Да знаешь ли ты, капитан Ахав, что это у тебя самый лучший и самый стойкий материал, с каким мы, кузнецы, имеем дело?
– Да, я знаю это, старик; эти гвозди сварятся вместе и будут держаться, словно на клею, состряпанном из расплавленных костей убийц. Живей! Выкуй мне гарпун. Но прежде ты должен выковать мне двенадцать прутьев, чтобы из них сделать стержень; скрути, перевей их и свари из них стержень, как сучат канат из прядей и каболок. Живее! Я раздую пламя.
Когда двенадцать прутьев были готовы, Ахав стал собственноручно испытывать их, скручивая один за другим вокруг длинного и толстого железного болта.
– Этот с изъяном, Перт, – отбросил он последний. – Перековать надо.
Потом, когда Перт уже собрался было сваривать двенадцать прутьев, Ахав жестом остановил его и сказал, что он сам будет ковать свой гарпун. И вот, придыхая и покрякивая, он принялся бить молотом по наковальне, Перт подавал ему один за другим раскалённые прутья, из гудящего горна вырывались высокие языки пламени, а в это время возле них остановился неслышно приблизившийся парс и склонил перед огнём голову, точно призывая на их работу не то проклятие, не то благословение. Но когда Ахав поднял взгляд, он, незамеченный, скользнул прочь.
– Чем там занимается эта шайка люциферов? – буркнул Стабб на полубаке. – Этот парс чует огонь, что твоя серная спичка, и сам он пахнет палёным, точно запал накалившегося мушкета.
Но вот наконец стержень, уже сваренный воедино, нагрет последний раз; и Перт, чтобы охладить, сунул его в бочонок с водой, так что струя горячего пара с шипением вырвалась прямо в лицо Ахаву, который стоял, наклонившись, рядом.
– Ты что, хочешь выжечь на мне клеймо? – вскричал он, отпрянув и скривившись от боли. – Что же, значит, я выковал себе только орудие пытки?
– Боже упаси, сэр, только не это; но меня страшит одна мысль, капитан Ахав. Не для Белого ли Кита предназначается этот гарпун?
– Для белого дьявола! Но теперь мне нужны лезвия, тебе придётся ковать их самому, старик. Вот тебе мои бритвы из лучшей стали; бери, и пусть зубцы моего гарпуна будут остры, как морозные иглы Ледовитого моря.
Одно мгновение старый кузнец неподвижно разглядывал бритвы, точно рад был бы не прикасаться к ним.
– Бери, бери их, старик, они мне не нужны; ибо я теперь не бреюсь, не ужинаю и не читаю молитв, пока… но довольно, за работу!
Вскоре стальной наконечник, которому Перт придал форму стрелы, уже венчал новый гарпун, приваренный к его стержню, и кузнец, готовясь раскалить лезвие в последний раз перед закалкой, крикнул Ахаву, чтобы тот придвинул поближе бочонок с водой.
– Нет, нет, не надо воды; я хочу дать ему настоящую смертельную закалку. Эй, там наверху! Тэштиго, Квикег, Дэггу! Что скажете вы, язычники? Согласны ли вы дать мне столько крови, чтобы она покрыла это лезвие, – и он поднял гарпун высоко в воздух. Три тёмные головы согласно кивнули: Да. Были сделаны три надреза в языческой плоти, и так был закалён гарпун для Белого Кита.
– Ego non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli![319] – дико вскричал Ахав, когда пагубное железо, шипя, поглотило кровь своего крещения.
Перебрав все запасные древки, хранившиеся в трюме, Ахав остановился на одном – оно было из американского орешника, и кора ещё одевала его. Его вставили в железный раструб. Затем размотали бухту нового троса, отрезали саженей десять и сильно натянули на шпиле. Ахав прижал трос ногой, и тот запел, как струна. Тогда, низко наклонившись и удостоверившись, что в канате нет ни узлов, ни утолщений, Ахав воскликнул:
– Отлично! Теперь можно закреплять рукоятку!
Трос с одного конца распустили, и растянутые волокна накрутили, навили в раструб гарпуна; потом сюда прочно вогнали древко; после этого свободный конец надёжно закрепили, туго переплетя штертом. Теперь, когда всё было готово, дерево, железо и пенька – словно три парки – стали неотделимы друг от друга, и тогда Ахав угрюмо зашагал прочь, унося своё оружие; а удары его костяной ноги и удары орешникового древка гулко отдавались по палубе. Но он ещё не успел скрыться у себя в каюте, когда позади него раздался едва слышный, диковинный, чуть насмешливый и в то же время прежалостный звук. О Пип! сам твой горький смех, твой праздный, но насторожённый взгляд – все твои странные ужимки переплелись многозначительно с мрачной судьбой этого унылого корабля, и ты же ещё над ним насмехался!
Глава CXIV. Позолота
Проникая всё глубже и глубже в центр японского промыслового района, «Пекод» был теперь весь охвачен охотничьей горячкой. Подчас в тихую прохладную погоду матросам случалось не выходить из вельботов по двенадцати, пятнадцати, восемнадцати, а то и двадцати часов подряд; они то гребли изо всех сил, то шли под парусом, гоняясь за китом, то в короткий и сладостный перерыв сидели неподвижно иногда целый час, ожидая, пока он всплывёт на поверхность; но плоды их трудов были невелики.
В такие дни, когда сидишь под лучами нежаркого солнца и целый день тебя качают неторопливые, отлогие валы; когда сидишь в своём вельботе, лёгком, точно берёстовый чёлн, в приятной беседе с ласковыми волнами, которые, словно котята у очага, мурлычут и трутся о борт, тогда-то и начинаешь испытывать сонное блаженство и, глядя на безмятежно прекрасную и сверкающую шкуру океана, забываешь о тигрином сердце, что бьётся под ней; и никак не заставишь себя помнить о том, что вслед за этой бархатной лапой придёт беспощадный клык.
В такие дни скиталец в своём вельботе проникается к морю каким-то сыновним, доверчивым чувством, которое сродни его чувству к земле; море для него – словно бескрайняя цветущая равнина, и корабль, плывущий вдали, так что одни только мачты виднеются над горизонтом, пробирается как будто не по высоким волнам, а по высокой траве холмистой прерии; так лошади переселенцев на Дальнем Западе тонут в удивительном разливе зелени по самые уши, которые одни только насторожённо поднимаются из травы.
Узкие, нехоженые лощины, голубые, мягкие склоны холмов; когда певучая тишина воцаряется над ними, ты, кажется, готов поклясться, что видишь усталых ребятишек, что, набегавшись, спят на полянках, а кругом сияет радостный май и лесным цветам пришла пора распускаться. И всё это сливается с ощущением таинственности в твоей душе, и вымысел встречается с действительностью, и, взаимно проницая друг друга, они образуют одно нерасторжимое целое.
Подобные умиротворяющие видения – как ни мимолётны они – оказывали своё воздействие, пусть также мимолётное, даже на Ахава. Но если эти тайные золотые ключи отмыкали двери к его тайным золотым сокровищам, то стоило ему дохнуть на них, и они тут же тускнели.
О зелёные лощины! О бескрайние ландшафты вечной весны духа; здесь – хотя убийственный суховей земной жизни давно уже спалил вас, – только здесь может ещё человек валяться и кататься, точно резвый однолеток в клевере поутру, и одно какое-то мгновение ощущать на своих боках прохладную росу бессмертной жизни. Если бы только, о господи! эти благословенные минуты затишья могли длиться вечно! Но путаные, обманчивые нити жизни плетутся утком по основе: прямо – штили, поперёк – штормы; на каждый штиль – по шторму. В этой жизни нет прямого, необратимого развития; мы движемся не по твёрдым ступеням, чтобы остановиться у последней, – от младенческой бессознательности, через бездумную веру детства, через сомнение подростка (всеобщий жребий), скептицизм, а затем и неверие к задумчивому отдохновению зрелости, которое знаменуется словами «Если б». Нет, пройдя одну ступень, мы описываем круг ещё и ещё раз и всегда остаёмся одновременно и младенцами, и детьми, и подростками, и мужчинами с вечным «Если б». Где лежит последняя гавань, в которой мы пришвартуемся навеки? В каком горнем эфире плывёт этот мир, от которого и самые усталые никогда не устанут? Где прячется отец подкидыша? Наши души подобны сиротам, чьи невенчанные матери умерли в родах; тайна нашего отцовства лежит в могиле, и туда мы должны последовать, чтобы узнать её.
В тот же самый день, глядя за борт своего вельбота в ту же самую золотую глубину, Старбек тихо промолвил:
– О бездонная, неизъяснимая прелесть, какою любуется любовник во взгляде своей возлюбленной! Не говори мне о твоих острозубых акулах и о твоём людоедском коварстве. Пусть вера вытеснит истину, пусть вымысел вытеснит память, я гляжу в самую глубину, и я верую.
А Стабб подскочил, точно рыба, сверкая чешуёй в золотистом свете:
– Я Стабб, и всякое бывало в моей жизни; но вот я, Стабб, клянусь, чтоб Стабб всегда и везде был весел!
Глава CXV. «Пекод» встречает «Холостяка»
И в самом деле весёлое зрелище открылось «Пекоду» вскоре после того, как был выкован гарпун Ахава.
С подветра шёл нантакетский китобоец «Холостяк», на котором только что закупорили последний бочонок и с грохотом закатили его в переполненный трюм, и теперь, по-праздничному разукрашенный, он радостно и чуть-чуть хвастливо обходил широко раскинувшиеся по промысловому району корабли, прежде чем лечь на обратный курс.
На мачтах у него стояли трое дозорных с длинными развевающимися по ветру красными лентами на шляпах, за кормой висел днищем книзу праздный вельбот, а на бушприте раскачивалась длинная челюсть последнего забитого ими кита. И повсюду на снастях были подняты сигналы, вымпелы и флаги всех мастей. На каждом из трёх обнесённых плетёными загородками марсах стояло с боков по две бочки со спермацетом, а над ними на топ-краспицах виднелись узкие бочонки всё с той же драгоценной жидкостью, и на грот-мачте висела бронзовая лампа.
Как мы узнали впоследствии, «Холостяку» сопутствовала необычайная промысловая удача; тем более удивительная, что остальные корабли, курсировавшие в тех же водах, по целым месяцам не могли добыть ни единой рыбы. «Холостяк» же не только пораздавал встречным свои запасы солонины и хлеба, чтобы освободить место для куда более ценного спермацета; он ещё, вдобавок к собственным, повыменивал у них по дороге порожние бочонки, которые затем, наполнив, устанавливали на палубе и в капитанской и офицерских каютах. Даже круглый стол из кают-компании пошёл на растопку; и теперь там обедали на широком днище спермацетовой бочки, которая была принайтована к полу. В кубрике матросы засмолили и законопатили свои сундуки и наполнили их маслом; рассказывали даже, будто кок приладил крышку к самому большому из своих котлов и наполнил его маслом, будто стюард заткнул носик своего кофейника и наполнил его маслом, будто гарпунёры повынимали гарпунные рукоятки из раструбов и наполнили их маслом; коротко говоря, всё на борту было наполнено спермацетовым маслом, за исключением капитанских карманов, которые тот оставил порожними, чтобы было куда совать руки в знак полнейшего самодовольства и удовлетворения.
Этот ликующий корабль удачи приближался к мрачному «Пекоду», и с палубы его стали доноситься звуки, похожие на варварский бой огромных барабанов. Когда же он подошёл ещё ближе, можно было разглядеть, что это матросы сгрудились вокруг салотопных котлов, которые были затянуты сверху «торбой» – то есть высушенной, словно пергамент, кожей из желудка гринды, или чёрного дельфина, и под громкое гиканье дружно колотили по ней кулаками. На шканцах помощники капитана и гарпунёры отплясывали со смуглокожими красотками, которые сбежали к ним с островов Полинезии, а в разукрашенной шлюпке, висящей высоко в снастях между фок– и грот-мачтой, сидели трое негров с Лонг-Айленда и, взмахивая сверкающими костяными смычками, заправляли этой весёлой джигой. Остальные члены экипажа были заняты у стен салотопки, откуда уже вынули котлы. Можно было подумать, что это разрушают проклятую Бастилию, такие оглушительные вопли издавали они, отправляя за борт никому уже теперь не нужные кирпичи да извёстку.
А над всем этим возвышался их господин и повелитель – капитан, который стоял на шканцах, выпрямившись во весь рост, так что всё бесшабашное представление было у него перед глазами, и, казалось, устроено-то было специально для того, чтобы он мог как следует поразвлечься.
И Ахав тоже стоял у себя на шканцах, всклокоченный, чёрный и неотступно угрюмый; и когда два корабля поравнялись, один – весь ликование по поводу того, что лежало позади, другой – весь предчувствие того зла, коему суждено наступить, оба капитана воплощали собой разительный контраст этой сцены.
– Сюда, капитан, иди к нам! – воскликнул командир весёлого «Холостяка», поднимая над головой бутылку и стакан.
– Не видел ли ты Белого Кита? – проскрежетал вместо ответа Ахав.
– Нет, только слышал о нём, да я в него не верю, – беззаботно отозвался тот. – Иди же сюда!
– Уж больно ты весел. Плыви своей дорогой. Потери в людях у тебя есть?
– Да можно сказать, что и нет – каких-то там два островитянина, только и всего. Но что же ты не идёшь к нам, старина? Иди сюда, и я живо сгоню у тебя эту тень со лба. Сюда, сюда, у нас тут весело; мой корабль полон, и мы идём домой!
– До чего наглы и бесцеремонны дураки! – пробормотал Ахав, а затем крикнул: – Полные трюмы, говоришь ты, и курс к дому? ну что ж, а мои трюмы пусты, и мы идём на промысел. Вот и плыви ты своей дорогой, а я своей. Эй, на баке! Поставить все паруса, держать круче!
И между тем как один корабль весело бежал по ветру, другой упорно шёл против ветра; так и расстались два китобойца, и в то время как люди на «Пекоде» долго не сводили задумчивых взоров с удалявшегося «Холостяка», на «Холостяке» никто даже и не обратил на них внимания, так поглощены там были все своим буйным весельем. Опершись о гакаборт, Ахав глядел вслед уходившему домой кораблю; потом он вынул из кармана маленький пузырёк и стоял, переводя взгляд с него на корабль, словно хотел объединить мысленно эти два далёких образа, ибо в пузырьке у него был нантакетский песок.
Глава CXVI. Издыхающий кит
В этой жизни нередко бывает, что когда по правую руку от нас у самого борта проходит баловень судьбы, то и сами мы, прежде понуро маявшиеся в мёртвом штиле, перехватываем струю ветра и радостно чувствуем, как надуваются наши паруса. Так, видно, было и с «Пекодом». Потому что на следующий день после встречи с весёлым «Холостяком» были замечены киты и четыре из них забиты; одного кита забил сам Ахав.
День уже давно клонился к вечеру; и когда окончена была кроваво-алая битва и, колыхаясь на прекрасном закатном море и столь же прекрасном закатном небе, и кит и солнце оба тихо умерли, такая заунывная прелесть разлилась повсюду в розовом воздухе и такие проникновенные молитвы, курясь, поднялись кверху, что казалось, будто из глубины манильских зелёных долин-монастырей береговой испанец-бриз, вдруг оборотившись моряком, пустился по волнам с грузом вечерних гимнов.
Ахав, как-то присмиревший и оттого погрузившийся в ещё более угрюмый сумрак, только что отвёл свой вельбот на безопасное место и теперь сидел и следил из неподвижной лодки за тем, как издыхает кит. Удивительное это зрелище, какое представляет собой всякий подыхающий кашалот, когда он медленно поворачивается головой к солнцу и испускает дух, – это удивительное зрелище показалось Ахаву в тот мирный вечер, как никогда прежде, многозначительным и чудесным.
– Он поворачивается – как медленно, но как упорно, – поклоняясь и взывая, последним предсмертным усилием обращает он к солнцу своё чело. И он тоже поклоняется огню; преданнейший, славнейший барон – вассал солнца! О, пусть его приветливому взору откроется этот приветливый вид! Здесь, в бескрайнем замкнутом кольце вод; здесь, куда нет доступа комариному писку человеческого счастья и горя; в этих бесстрастных, равнодушных водах, где нет ни одной скалы, чтобы служить таблицей для записи преданий, где вот уже долгие китайские веки катятся валы, безмолвные и глухие, точно звёзды, что сияют над неведомыми истоками Нигера; и здесь тоже жизнь умирает, обратившись к солнцу со всей своей верой; но наступает смерть, и в тот же миг она разворачивает труп головой куда-нибудь в другую сторону.
– О ты, тёмная индусская половина мира, что возвела себе из костей утопленников отдельный трон где-то здесь, в самом сердце пустынного океана; ты, безбожная царица, это ты чересчур правдиво говоришь со мной во всесокрушающей бойне тайфуна и в похоронном молчании наступающего вослед ему штиля. И этот кит твой, обративший к солнцу свою умирающую голову, а затем снова отвернувшийся, он тоже послужил для меня уроком.
– О ты, тремя обручами скреплённая, прочно сбитая мышца мощи! О высоко стремящийся радужный фонтан! она напрягается, он бьёт ввысь – и всё тщетно! Тщетно ищешь ты, о кит, защиты у живительного солнца: оно только вызывает жизнь, но не дарует её второй раз. И всё-таки ты убаюкиваешь меня, о тёмная половина мира, ещё более гордой, хоть, верно, и более тёмной, верой. Подо мной плавают безымянные останки поглощённых тобою жизней; меня поддерживает на поверхности дыхание тех, кто некогда был жив, дыхание, ставшее водой.
– Привет же тебе, привет, о море, среди чьих вечно плещущих волн только и находит себе приют дикая птица. Рождённый землёй, я вскормлен морем; хоть горы и долы взлелеяли меня, вы, морские валы, мои молочные братья!
Глава CXVII. Китовая вахта
Четыре кита, которых загарпунили в тот вечер, были широко разбросаны по глади вод; одного забили далеко с наветренной стороны, другого поближе, с подветренной, один оказался за кормой и один впереди по курсу. Этих трёх последних успели подобрать ещё до наступления темноты: к четвёртому же, которого унесло по ветру, до утра подойти было невозможно; он остался на плаву, и вельбот, добывший его, всю ночь качался подле; это был вельбот Ахава.
Шест с флагом был вставлен торчком в дыхало мёртвому киту; и фонарь, свисавший с шеста, бросал бегучие, тревожные отблески на чёрную, лоснящуюся спину и далеко по ночным волнам, которые ласково колыхались у огромной китовой туши, словно робкий прибой у песчаного берега.
Ахав и вся команда его вельбота спали; бодрствовал один только парс; он сидел, поджав ноги, на носу и следил за призрачной игрой акул, которые извивались вокруг кита, постукивая хвостами по тонким кедровым бортам. А в воздухе трепетал какой-то лёгкий звук, словно стонали легионы непрощенных призраков Гоморры над Асфальтовым морем[320].
Ахав вздрогнул и очнулся от своей дремоты; лицом к лицу напротив него сидел парс. Схваченные обручем ночной тьмы, они казались последними людьми на залитой потопом планете.
– Опять мне снилось это, – промолвил он.
– Катафалк? Разве не говорил я тебе, старик, что не будет у тебя ни катафалка, ни гроба?
– Да и бывают ли катафалки у тех, кто умирает в море?
– Но я говорил тебе, старик, что прежде, чем ты сможешь умереть в этом плавании, ты должен увидеть на море два катафалка; один – сооружённый нечеловеческими руками; а видимая древесина второго должна быть произросшей в Америке.
– Так, так! странное это зрелище, парс, – катафалк с плюмажем плывёт по океану, а волны-плакальщицы катятся вслед. Ха! нет уж, такое зрелище мы увидим не скоро.
– Можешь верить, можешь не верить, но ты не умрёшь, покуда не увидишь его, старик.
– А что там говорилось насчёт тебя, парс?
– Даже в твой последний час я всё же отправлюсь впереди тебя твоим лоцманом.
– И когда ты так отправишься впереди меня, – если это когда-нибудь случится, – тогда, прежде чем я смогу последовать за тобой, ты снова должен будешь явиться мне, чтобы вести меня? Так? Ну что ж, если бы я верил всему этому, о мой лоцман и кормчий! тут видел бы я два залога того, что я ещё убью Моби Дика и сам останусь жить.
– Вот тебе и ещё один залог, старик, – проговорил парс, и глаза его вспыхнули, точно светляки в ночи. – Только пенька может причинить тебе смерть.
– Виселица, хочешь ты сказать. В таком случае я бессмертен на суше и на море! – язвительно расхохотался Ахав. – Бессмертен на суше и на море!
Потом оба они разом замолчали. Подкралась серая заря, гребцы, спавшие на дне лодки, поднялись, и ещё до полудня забитый кит был доставлен к борту «Пекода».
Глава CXVIII. Квадрант
Промысловый сезон на экваторе приближался; и всякий раз, как Ахав выходил из каюты и задирал голову, бдительный рулевой тут же начинал перебирать рукоятки штурвала, матросы со всех ног бросались к фалам и стояли там, повернув взоры к прибитому дублону, в нетерпении ожидая команды лечь на курс к экватору. Наконец прозвучала долгожданная команда. Дело близилось к полудню; Ахав сидел на носу своего высоко подвешенного вельбота и готовился, как обычно, начать наблюдение за солнцем, чтобы определить его высоту.
Летние дни в японских водах подобны потокам лучезарного света. Ослепительно яркое японское солнце кажется пламенеющим фокусом безмерно огромного зажигательного стекла – стеклянистого океана. Небо блестит, как лакированное; на нём ни единого облачка; горизонт переливается; и вся эта нагота бесконечного сияния – точно непереносимый блеск божьего трона. Хорошо ещё, что квадрант Ахава был снабжён цветными стёклами, чтобы глядеть сквозь них на солнечный костёр. Так он сидел несколько минут, покачиваясь в лад с кораблём и держа перед глазами свой астрологический инструмент, и ждал того единственного мгновенья, когда солнце займёт своё единственное место на меридиане. А между тем как всё его внимание было поглощено этим занятием, на палубе, внизу под ним, стоял на коленях парс и, как и капитан, подняв лицо к небу, глядел на то же самое солнце; только глаза его были наполовину прикрыты веками, и дикое лицо казалось землисто-бесстрастным. Наконец необходимые наблюдения были проделаны; и, чёркая карандашом на своей костяной ноге, Ахав скоро вычислил точную широту, на какой он находился в то мгновение. Потом, помолчав немного, он снова поглядел на солнце и пробормотал:
– О ты, светлый маяк! ты, всемогущий, всевидящий кормчий! ты говоришь мне правду о том, где я нахожусь, но можешь ли ты хоть отдалённым намёком предсказать мне, где я буду завтра? Или сообщить мне, где находится в этот самый миг другое существо, не я? Где сейчас Моби Дик? В это мгновение ты, быть может, глядишь на него. Вот эти глаза мои вперились прямо в твой глаз, что даже сейчас видит его; в тот глаз, что точно так же видит сейчас неведомые предметы с той – недоступной – твоей стороны, о солнце!
Затем он поглядел на свой квадрант и, перебирая пальцами его многочисленные кабалистические приспособления, снова задумчиво проговорил:
– Глупая детская игрушка! игрушка, какой развлекаются высокомерные адмиралы, коммодоры и капитаны; мир кичится тобой, твоим хитроумием и могуществом; но что в конечном-то счёте умеешь ты делать? Только показывать ту ничтожную, жалкую точку на этой широкой планете, в которой случается быть тебе самой и руке, тебя держащей. И всё! и больше ни крупицы. Ты не можешь сказать, где будет завтра в полдень вот эта капля воды или эта песчинка; и ты осмеливаешься в своём бессилии оскорблять солнце! Наука! Будь проклята ты, бессмысленная игрушка; и проклятие всему, что посылает взгляд человека к этим небесам, чьё непереносимое сияние лишь опаляет его, как эти мои старые глаза опалил сейчас твой свет, о солнце! К горизонту устремлены от природы глаза человека, а не ввысь из его темени. Бог не предназначал его взирать на небесную твердь. Будь проклят ты, квадрант! – и он швырнул его на палубу. – Впредь не буду я проверять по тебе мой земной путь; судовой компас и лаг – они поведут меня и будут указывать мне моё место на море. Вот так, – добавил он, спускаясь на палубу, – вот так топчу я тебя, ничтожная безделка, трусливо указывающая в вышину; вот так размозжу и уничтожу я тебя!
И в то время, как безумный старик, говоря это, топтал прибор то живой, то мёртвой ногой, победное презрение, как бы предназначавшееся Ахаву, и фаталистическое отчаяние, словно бы в своей судьбе, – оба эти чувства промелькнули по немому недвижному лицу парса. Незамеченный, он поднялся на ноги и неслышно скользнул прочь; а перепуганная команда столпилась на баке, глядя на безумство своего капитана; как вдруг Ахав повернулся, взволнованно прошёлся по палубе и выкрикнул:
– К брасам! Руль на борт! Брасопить реи!
В одно мгновение реи описали круг, судно развернулось на пятке, и три стройные мачты, прочно и прямо сидящие в длинном круторебром корпусе, качнулись, точно трое Горациев верхом на одном скакуне[321].
Стоя у бушприта, Старбек следил за бурливым ходом «Пекода» и Ахава, который, сильно кренясь, уходил, хромая, вдоль палубы.
– Мне случалось сидеть у пышущего жаром очага и следить за пляской жгучих, гудящих языков пламени, полных мучительной, огненной жизни, и я видел, как пламя никнет, никнет и гаснет, обращаясь мёртвым прахом. О ты, старый безумец моряк! что останется в конце концов от всей твоей огненной жизни, кроме маленькой горстки пепла?
– Правда твоя, – откликнулся Стабб, – но то будет пепел от морских углей, не забудь об этом, Старбек. От морских углей, а не от каких-то там древесных головешек. Да, так-то; я слышал, как Ахав говорил: «Кто-то суёт мне вот эти карты вот в эти мои старые руки и клянётся, что я должен ходить только с них, и никак иначе». И будь я проклят, Ахав, если ты поступаешь неверно; твой ход, так ходи, а смерть придёт, так помирай, но не бросай карты!
Глава CXIX. Свечи
Чем теплее край, тем свирепее клыки, которыми угрожает он: бенгальский тигр таится в душистых зарослях вечной зелени. Чем лучезарнее небосвод, тем сокрушительнее громы, которыми он чреват: роскошная Куба знает такие ураганы, о каких и не слыхивали в серых северных странах. Так и в этих сверкающих водах японских морей встречает мореплавателя ужаснейший из всех штормов – тайфун. Он разражается порой под безоблачными небесами, подобный разрыву бомбы над сонным застывшим городом.
В тот день, к вечеру, с «Пекода» сорвало всю парусину, и он под голыми мачтами должен был бороться со свирепым тайфуном, налетевшим на него прямо с носа. Подступила тьма, и море вместе с небом ревело и раскалывалось от грома и вспыхивало от молний, освещавших оголённые мачты с трепещущими обрывками парусов, которые буря в порыве первой злобы всё-таки оставила себе же на забаву.
Старбек, уцепившись за леер, стоял на шканцах и при каждой вспышке молнии высоко задирал голову, чтобы увидеть, какой ещё урон нанесён там путаному сплетению снастей, а Стабб и Фласк командовали матросами, которые подтягивали и крепили вельботы. Но все усилия были тщетны. Подтянутая до предела на шлюпбалках лодка Ахава всё равно не избегла плачевной участи. Огромная волна взметнулась, разбившись о высокий крутой борт накренившегося судна, проломила днище лодки, а потом снова ушла, оставив её истекать водой, словно сито.
– Ай-яй-яй, плохо дело, мистер Старбек, – сказал Стабб, разглядывая повреждённую лодку, – ну, да ведь морю не укажешь. С ним сладу нет. Стаббу, по крайности, с ним не сладить. Видите ли, мистер Старбек, волна берёт большой разбег, прежде чем прыгнет; она вокруг всей земли обежит и только потом начинает прыжок! А мне, чтобы встретить её, только и есть разбегу, что поперёк палубы. Но что за беда! это всё забавы ради, как говорится в старой песне (поёт):
– Замолчи, Стабб! – вскричал Старбек, – пусть тайфун поёт и ударяет по нашим снастям, точно по струнам арфы; но ты, если ты храбрый человек, ты сохраняй спокойствие.
– Так разве ж я храбрый человек? Кто сказал, что я храбрый человек? Я трус. И я пою, чтобы не так страшно было. И вот что скажу я вам, мистер Старбек, нет на свете способа заставить меня прекратить пение, разве что перережут мне глотку. Но даже и тогда, десять против одного, что я пропою напоследок хвалебный гимн.
– Безумец! Погляди моими глазами, если нет у тебя своих.
– Как? Разве вы видите тёмной ночью лучше, чем кто-нибудь, чем даже самый последний дурак?
– Молчи! – вскричал Старбек, схватив Стабба за плечо и вытянув руку в ту сторону, откуда дул ветер. – Замечаешь ли ты, что шторм идёт с востока, от того самого румба, куда должен мчаться Ахав в погоне за Моби Диком? от того самого румба, на который он лёг сегодня в полдень? Теперь погляди на его вельбот, видишь, в каком месте у него пробоина? В днище, у кормы, где он всегда стоит; его место разбито в щепы, друг! А теперь скачи за борт и распевай на здоровье, если тебе приспичило!
– Я что-то плоховато понял вас, о чём это вы?
– Да, да, вокруг мыса Доброй Надежды идёт кратчайший путь в Нантакет, – говорил между тем Старбек, обращаясь к самому себе и будто не слыша вопросов Стабба. – Этот самый шторм, что ревёт сейчас, готовый разбить нас в щепки, мог бы стать нам попутным ветром и ходко гнать нас к дому. Там, в наветренной стороне, тьма неотвратимой гибели, но с подветра, позади нас, развидняется, я вижу там свет, и это не блеск молний.
В это мгновение, как раз когда между двумя вспышками молнии особенно непроглядной казалась тьма, чей-то голос прозвучал подле него, и тут же вослед ему взрыв громовых раскатов обрушился сверху.
– Кто тут?
– Старый Гром! – ответил ему Ахав, ощупью пробираясь вдоль поручней к своему углублению в палубе; и вдруг изломанные пики огня осветили ему дорогу.
Подобно тому как на суше ставят на колокольнях громоотводы, чтобы направлять в землю убийственные токи, на море тоже многие корабли несут на мачте нечто вроде громоотводов, отводящих электричество в толщу воды. Но так как концы их должны уходить на значительную глубину, чтобы не соприкасаться с корпусом судна, а волочась постоянно в воде, они могут причинить немало неприятностей, не говоря уж о том, что они запутываются в корабельных снастях и вообще тормозят ход судна; по всему по этому нижние концы корабельных громоотводов не всегда бывают спущены за борт, их делают в виде длинных лёгких звеньев, которые в случае надобности легко можно выбрать наверх или же спустить в воду.
– Громоотводы! – закричал матросам Старбек, очнувшись от раздумий, когда ослепительные молнии, освещая Ахаву путь к его посту, пламенными стрелами пронзили тьму. – За бортом ли громоотводы? Выбросить их, живо!
– Стой! – раздался голос Ахава. – Будем играть честно, хоть мы и слабее. Я сам бы насадил громоотводы на Гималаях и Андах, чтобы оградить от опасности весь мир. Но мне не нужны в этой игре никакие преимущества! Оставить их, сэр!
– Взгляните на мачты! – воскликнул Старбек. – Огни Святого Эльма!
Все ноки реев были увенчаны бледными огнями, а три высокие мачты, на верхушках которых над трезубцами громоотводов стояло по три белых пламенных языка, беззвучно горели в насыщенном серой воздухе, словно три гигантские восковые свечи пред алтарём.
– К чёрту эту шлюпку! пусть пропадает! – послышались в это мгновение проклятия Стабба, которому бортом его собственного вельбота, подмытого сокрушительной волной, сильно защемило руку, когда он пытался пропустить под днище лишний канат. – К чёрту её… – но в это мгновение он поскользнулся, голова его закинулась и он увидел белое пламя. И уже совсем другим голосом воскликнул: – Святой Эльм, смилуйся над нами!
Крепкое словцо для моряка – дело обычнейшее; моряки божатся и в штиль, и в шторм, они изрыгают проклятия даже на бом-брам-рее, откуда им ничего не стоит сорваться в пучину волн; но сколько ни плавал я по морям, никогда не случалось мне услышать ругательства, если господь наложит на корабль свой огненный перст; если его «мене, мене, текел, упарсин» вписываются в снасти между вантами.
Покуда горело вверху это белое пламя, на палубе почти не слышно было слов; охваченная ужасом команда сгрудилась на баке, и в бледном свечении глаза у всех блестели, точно далёкие созвездия. В этом призрачном свете огромный торс чернокожего Дэггу, словно втрое возросший против своих действительных размеров, возвышался, точно чёрная туча, из которой только что грянул гром. Тэштиго оскалил зубы, обнажив свои белые акульи резцы, и они странно блестели, будто их тоже венчали огни Святого Эльма; а татуировка на теле Квикега в этом колдовском свете горела синим адским пламенем.
Но постепенно белёсый свет на мачтах погас, и вся сцена утонула во мраке, чьи покровы снова окутали «Пекод» и тех, кто толпился на его палубе. Прошло несколько минут. Пробираясь на нос, Старбек наткнулся на кого-то в темноте. Это был Стабб.
– Что скажешь ты теперь, друг? я слышал твои слова, это ведь не те, что в песне?
– Нет, нет, не те. Я сказал: «Святой Эльм, смилуйся над нами»; и я ещё надеюсь, что он смилуется. Но разве он милует только кислые рожи? или смех ему не по нутру? И потом, видите ли, мистер Старбек… да что я? сейчас слишком темно, чтобы видеть. Тогда послушайте, мистер Старбек, я считаю огни на мачтах хорошим знаком, потому что эти мачты уходят в трюм, которому суждено быть до отказа набитым спермацетовым маслом; и тогда спермацет пойдёт даже вверх по мачтам, точно древесные соки по стволу. Да, да, наши три мачты ещё будут точно три спермацетовые свечи – это добрый признак, он сулит удачу.
В это мгновение Старбек увидел лицо Стабба, медленно проступившее из темноты. Взглянув кверху, он воскликнул:
– Смотрите, смотрите!
Высокие конусы белого огня опять стояли на мачтах и разливали белёсый свет, ещё более зловещий, чем раньше.
– Святой Эльм, смилуйся над нами! – снова воскликнул Стабб.
У подножия грот-мачты, прямо под дублоном и под огнями, стоял на коленях парс, отворотив от Ахава свою склонённую голову; а на провисших пертах несколько матросов, которых бледная вспышка застала за работой, жались друг к другу, будто рой окоченевших ос на поникшей яблоневой ветке. И повсюду в различных позах, точно стоящие, шагающие и бегущие скелеты Геркуланума[322], застыли на палубе люди; и все глаза были устремлены ввысь.
– Так, так, люди! – вскричал Ахав. – Глядите вверх; хорошенько глядите; белое пламя лишь освещает путь к Белому Киту! Подайте мне конец этого громоотвода, я хочу чувствовать биение его пульса, и пусть мой пульс бьётся об него. Вот так! Кровь и огонь!
Потом он повернулся, крепко сжимая последнее звено громоотвода в левой руке, и поставил ногу на спину парсу; теперь, устремивши вверх свой неотступный взор и воздевши ввысь правую руку, он стоял, выпрямившись во весь рост, перед возвышенной троицей трехзубого огня.
– О ясный дух ясного пламени, кому я некогда, как парс, поклонялся в этих морях, покуда ты не опалил меня посреди моего сакраментального действа, так что и по сей день я несу рубец; я знаю тебя теперь, о ясный дух, и я знаю теперь, что истинное поклонение тебе – это вызов. Ни к любви, ни к почитанию не будешь ты милостив, и даже за ненависть ты можешь только убить; и все убиты. Но теперь перед тобою не бесстрашный дурак. Я признаю твою безмолвную, неуловимую мощь; но до последнего дыхания моей бедственной жизни я буду оспаривать её тираническую, навязанную мне власть надо мною. Здесь, в самом сердце олицетворённого безличия, стоит перед тобою личность. Пусть она только точка, но откуда бы я ни появился, куда бы я ни ушёл, всегда, покуда я живу этой земной жизнью, во мне живёт царственная личность, и она осознаёт свои монаршие права. Но война несёт боль, и ненависть чревата мукой. Явись ты в своей низшей форме – в любви, и я коленопреклонённый принесу тебе целование; но в наивысшей форме явись просто, как небесная сила, и даже спусти ты целые флотилии до отказа гружённых миров, всё равно здесь есть некто, кто не дрогнет и останется безучастным. О ясный дух, из твоего пламени создал ты меня, и как истинное дитя пламени тебе назад выдыхаю я его.
(Внезапные вспышки молний; девять огней на мачтах разгораются, и теперь они в три раза выше, чем прежде; Ахав, как и все остальные, стоит с закрытыми глазами, крепко прижав к векам правую ладонь.)
– Я признаю твою безмолвную, неуловимую мощь; разве я не сказал уже этого? И слова эти не были вырваны из меня силой; я и сейчас не бросаю громоотвод. Ты можешь ослепить меня, но тогда я буду двигаться ощупью. Ты можешь спалить меня, но тогда я стану пеплом. Прими дань этих слабых глаз и этих ладоней-ставней. Я бы не принял её. Молния сверкает прямо у меня в черепе; глазницы мои горят; и, словно обезглавленный, чувствую я, как обрушиваются удары на мой мозг и катится с оглушительным грохотом на землю моя голова. О, о! Но и ослеплённый, я всё равно буду говорить с тобой. Ты свет, но ты возникаешь из тьмы; я же тьма, возникающая из света, из тебя! Дождь огненных стрел стихает; открою глаза; вижу я или нет? Вот они, огни, они горят! О великодушный! теперь я горжусь моим происхождением. Но ты только отец мой огненный, а нежной матери моей я не знаю. О жестокий! что сделал ты с ней? Вот она, моя загадка; но твоя загадка больше моей. Ты не знаешь, каким образом ты явился на свет, и потому зовёшь себя нерожденным; ты даже не подозреваешь, где твои начала, и потому думаешь, что у тебя нет начал. Я знаю о себе то, чего ты о себе не знаешь, о всемогущий. За тобою стоит нечто бесцветное, о ясный дух, и для него вся твоя вечность – это лишь время, и вся твоя творческая сила механистична. Сквозь тебя, сквозь твоё огненное существо, мои опалённые глаза смутно различают это туманное нечто. О ты, бесприютное пламя, ты, бессмертный отшельник, есть и у тебя своя неизречённая тайна, своё неразделённое горе. Вот опять в гордой муке узнаю я моего отца. Разгорайся! разгорайся до самого неба! Вместе с тобой разгораюсь и я; вместе с тобой я горю; как хотел бы я слиться с тобой! С вызовом я поклоняюсь тебе!
– Вельбот, вельбот! – вскричал Старбек. – Взгляни на свой вельбот, старик!
Гарпун Ахава, выкованный у переносного горна, висел на видном месте, надёжно закреплённый в своей рогатке, выступая вперёд над носом вельбота, но волна, разбившая днище лодки, сорвала с гарпуна кожаные ножны; и теперь на стальном острие дрожало ровное, бледное, раздвоенное пламя. Немой гарпун горел, точно змеиный язык. Старбек схватил Ахава за руку выше локтя.
– Бог, сам бог против тебя, старик; отступись! Это несчастливое плавание, недоброе у него было начало, не к добру оно и ведёт. Позволь мне обрасопить реи, пока не поздно, и с попутным ветром мы пойдём домой, чтобы выйти в новое плавание, более счастливое, чем это.
Объятая ужасом команда, услышав слова Старбека, бросилась к брасам – хоть ни единого паруса не оставалось на реях. Какое-то мгновение казалось, что матросы испытывают те же чувства, что и старший помощник; мятежный крик уже донёсся на шканцы. Но тут, швырнув о палубу звенья громоотвода и выхватив огненный гарпун, Ахав, точно факелом, взмахнул им над головами матросов, клянясь, что пронзит первого, кто прикоснётся к брасам. При виде жуткого его лица и пламенного копья в его руке оцепеневшие матросы в страхе отшатнулись, и тогда Ахав снова заговорил:
– Всех вас, как и меня, связывает клятва настичь Белого Кита; а старый Ахав связан по рукам и по ногам, связан всем сердцем, всей душой, всем телом, всей жизнью. А чтобы вы знали, как дерзновенно бьётся это сердце, вот глядите: так задуваю я последний страх! – И одним мощным выдохом он погасил огонь на острие гарпуна.
Подобно тому как во время грозы на равнине люди спешат убежать подальше от огромного одинокого вяза, чьё соседство из-за самой его высоты и мощи только ещё увеличивает опасность, потому что он притягивает молнию, так и моряки при этих словах отпрянули от Ахава в ужасе и смятении.
Глава CXX. Палуба к исходу первой ночной вахты
(Ахав стоит у руля; подходит Старбек.)
– Нужно спустить грот-марса-рей, сэр. Марсафал совсем разболтало и подветренный топенант того и гляди лопнет. Разрешите спустить?
– Ничего не спускать! подвяжите парус. Будь у меня брам-стаксели, я бы и их сейчас поднял.
– Сэр, бога ради, сэр!
– Ну что ещё?
– Якоря вот-вот сорвутся. Прикажите вытянуть их на палубу?
– Ничего не спускать и ничего не убирать; но всё закрепить. Ветер свежеет, однако он ещё не добрался до стрелки в моих таблицах. Живей, чтобы всё было исполнено! Клянусь мачтами и килем! он думает, что я горбатый шкипер какой-нибудь каботажной шаланды. Спустить мой грот-марса-рей? О ничтожества! Высокий рангоут предназначен для сильных ветров, а рангоут моего мозга уходит под облака, что несутся в вышине, изорванные в клочья. Что же мне, спустить его? Только трусы убирают в бурю снасти своих мозгов. Ого, как громко рычит и бурчит всё там наверху! Я счёл бы это возвышенным, когда б не знал, что колики – шумная болезнь. Тут нужно лекарство, лекарство нужно!
Глава CXXI. Полночь на баке у борта
(Стабб и Фласк, сидя верхом на фальшборте, закрепляют висящие за бортом якоря добавочными найтовами.)
– Нет, Стабб, ты можешь колотить по этому узлу сколько душе твоей угодно, но никогда ты не вколотишь в меня того, что ты только что сказал. И давно ли ты говорил обратное? Не ты ли говорил раньше, что всякое судно, на котором идёт Ахав, должно внести дополнительный взнос на страховой полис, всё равно как если бы оно ушло гружённое с кормы бочонками пороху, а с носа коробками серных спичек? Постой минутку, скажи только: говорил ты так или нет?
– Ну, допустим, говорил. Что же с того? С тех пор отчасти изменилось даже моё тело, почему бы мне не изменить также своё мнение? К тому же, даже если бы мы и впрямь были загружены с кормы пороховыми бочонками, а с носа серными спичками, как, чёрт возьми, могут эти спички загореться здесь, где всё насквозь промокло? Да и тебе самому, коротышка, уж на что у тебя волосы огненные, а и тебе сейчас не загореться. Встряхнись-ка, ведь ты у нас теперь Водолей, Фласк, ты мог бы наполнять целые жбаны водой у себя из-за пазухи. Понимаешь ты теперь, что против этого дополнительного риска мореходные страховые компании имеют дополнительные гарантии? Мы ведь настоящие водопроводные колонки. Но ты слушай дальше, и я отвечу тебе на второй вопрос. Только сперва убери ногу с этого якоря, чтобы я мог пропустить конец; вот так. А теперь слушай. В чём, интересно бы знать, разница между человеком, который держится в грозу за мачтовый громоотвод, и тем, кто стоит в грозу подле мачты, не имеющей никакого громоотвода? Неужели ты сам не понимаешь, растяпа, что с тем, кто держится за громоотвод, ничего не может приключиться, если только молния не ударит сначала в мачту? Так о чём же тогда говорить? Может, один только корабль из сотни имеет громоотводы, и Ахаву, а равно и всем нам, дружище, опасность угрожала, по моему скромному мнению, не больше, чем всем прочим морякам на десяти тысячах кораблей, что бороздят сейчас океан. А ты, Водорез, ты бы, я думаю, хотел, чтобы все люди на свете ходили с громоотводиками на шляпе, наподобие пера у офицера ополчения, и чтобы сзади они развевались, точно офицерские шарфы? И что ты такой неразумный, Фласк? Ведь это так просто быть разумным, почему же ты неразумный? Каждый, кто видит вещи хоть вполглаза, может быть разумным.
– Не знаю, Стабб. Я бы так не сказал. Иной раз это довольно трудно.
– Да, когда промокнешь до мозга костей, трудновато быть разумным, это верно. А я, кажется, весь пропитан этой пеной. Ну, да ничего. Подсунь-ка там найтов и тяни его сюда. Кажется, крепим мы здесь эти якоря так прочно, будто никогда уже они нам не могут понадобиться. Принайтовить эти якоря, Фласк, это всё равно что связать человеку руки за спиной. И ведь какие руки! Большие, щедрые. Видишь эти железные кулаки, а? Крепкая у них хватка. Интересно, Фласк, на якоре ли наш мир? Если и на якоре, то цепь у него необыкновенной длины. Ну, вот, ударь по этому узлу разок, и готово. Так. Если не говорить о твёрдой земле, то самое приятное – это пройтись по палубе. Послушай, выжми-ка ты мне полы бушлата, друг. Спасибо тебе. У нас вот смеются над фраками, Фласк, а мне так думается, что в шторм на судне все должны носить длинные фалды. Они ведь сходят внизу на нет, и по ним бы отлично стекала вода. Или же треуголка, она образует отменные водосточные жёлоба, Фласк. Так что хватит с меня бушлатов и зюйдвесток; напялю-ка я фрак и нацеплю касторовую шляпу, так-то, брат. Хо-хо! Фьюить! Лети за борт, моя зюйдвестка! Господи, господи! и как же это ветры небесные могут быть так грубы и невоспитанны? Да, препаршивая ночка, брат.
Глава CXXII. Полночь на мачте. – Гром и молнии
(Грот-марса-рей. – Тэштиго пропускает под него новый трос.)
– Гм, гм, гм. Хватит греметь. Чересчур много грому там наверху. Какой прок от грома? Гм, гм, гм. Нам нужен не гром, нам нужен ром. Стакан рому. Гм, гм, гм.
Глава CXXIII. Мушкет
За то время, пока бушевал тайфун, матроса, стоявшего на «Пекоде» у румпеля из кашалотовой челюсти, несколько раз швыряло на палубу неожиданным рывком рукоятки, которая по временам всё же неизбежно начинала биться, хоть и была закреплена дополнительными румпель-талями, однако не намертво, потому что какая-то возможность маневрировать рулём всё же была необходима.
В такие свирепые штормы, когда порывами ветра судно, точно волан, швыряет по морю, нередко приходится замечать, что стрелки компасов вдруг начинают описывать круг за кругом. Так было и на «Пекоде»; чуть ли не при каждом ударе волн рулевой мог наблюдать, как они с вихревой скоростью вращались по картушке, а это такое зрелище, которое у всякого непременно вызовет сильные и непривычные чувства.
Но спустя несколько часов после полуночи тайфун стих настолько, что благодаря отчаянным усилиям Старбека и Стабба – одного на носу, другого на корме – удалось срезать долой трепещущие остатки кливера и фор– и грот-марселей, которые полетели, подхваченные ветром, кружась, точно белые перья, выпадающие иной раз в шторм из крыла альбатроса.
На их место были подняты три новых зарифленных паруса, вытянули также ещё и штормовой трисель, так что судно снова бежало теперь по пенным валам, придерживаясь определённого курса, который – востоко-юго-восток – ещё раз был продиктован рулевому. До этого, покуда свирепствовал шторм, рулевой держал штурвал как приходилось. Но теперь, когда он приводил судно к прежнему курсу, то и дело поглядывая на компас, вдруг – добрый знак! – ветер начал отходить к корме; и вот уже противный ветер стал попутным!
Тут же были обрасоплены реи под бойкую песню «Эй! Ветер попутный! О-хей-хо, веселей!», которую затянула повеселевшая команда в радостной надежде, что это многообещающее событие скоро опровергнет все прежние дурные предзнаменования.
Выполняя приказ капитана – доложить безотлагательно и в любое время дня и ночи обо всякой существенной перемене наверху, – Старбек, не успели ещё реи занять нужное положение, послушно, хоть и неохотно и понуро, направился вниз, чтобы поставить в известность капитана Ахава о том, что произошло.
Прежде чем постучать в дверь каюты, он невольно остановился перед ней на минуту. Висячая лампа раскачивалась в кают-компании широкими неровными размахами, то вспыхивая, то тускнея и бросая бегучие тени на запертую дверь – тонкую, с задёрнутыми занавесками на месте верхней филёнки. Из-за подземной обособленности этой каюты в ней царствовала какая-то странная, гудящая тишина, даже тогда, когда снаружи её стягивал обручами весь мыслимый грохот стихий. А в стойке у передней переборки поблёскивали заряженные мушкеты. Старбек был хороший, честный человек, но в то мгновение, когда он увидел эти мушкеты, в сердце Старбека родилась злая мысль; однако она так сплетена была с другими мыслями, незлобными и даже добрыми, что он не сразу сумел распознать её.
– Как-то раз он хотел застрелить меня, – пробормотал он. – Да, вот этот самый мушкет он на меня наводил, вот этот, со звёздами на прикладе, сейчас я дотронусь до него, выну его из стойки. Как странно, что я, который столько раз орудовал смертоносной острогой, как странно, что я сейчас весь дрожу. Заряжён? Надо посмотреть. Да, и порох на полке, нехорошо это. Лучше высыпать его; – но нет, погоди. Я излечу себя от этого. Храбро возьму мушкет в руки, подержу и подумаю. Я пришёл доложить ему о попутном ветре. Но что значит – попутный ветер? Попутный и благоприятный для смерти и погибели – значит, для Моби Дика. Такой попутный ветер хорош только для этой проклятой рыбы. Вот оно, это дуло, что направлял он на меня! вот это самое, вот я держу его. Он хотел убить меня оружием, которое сейчас у меня в руках. Да, да, мало этого, он намерен убить всю команду. Ведь он же говорил, что никакой шторм не вынудит его спустить паруса. И разве не разбил он вдребезги свой небесный квадрант? разве не идёт он в этих гибельных водах, нащупывая курс при помощи лживого лага? а во время страшного тайфуна разве не поклялся он, что не будет пользоваться громоотводами? Неужели этому обезумевшему старику будет позволено утянуть за собой к страшной погибели команду целого корабля? Да, да, он станет сознательным убийцей тридцати человек, если с кораблём случится беда, а если Ахаву не помешать, с этим кораблём случится страшная беда – так говорит моё сердце. И потому, если вот сейчас он будет… устранён, преступление не совершится. Тс-с, он, кажется, что-то бормочет во сне? Да, там, за переборкой, он сейчас спит. Спит? Но он жив и скоро снова проснётся. Тогда я не смогу противостоять тебе, старик. Ни убеждений, ни увещаний, ни заклинаний не слушаешь ты, всё это с презрением ты отвергаешь. Слепое повиновение твоим слепым приказам – вот что тебе нужно. А ты говоришь, что люди поклялись твоей клятвой; что каждый из нас – Ахав. Упаси нас, великий боже! Но, может быть, есть иной путь? Законный путь? Заключить его под арест и привезти на родину? Но нет! Разве вырвешь живую силу из живых рук этого старика? Нужно быть дураком, чтобы рискнуть и пойти на такое дело. И допустим даже, что он связан, весь опутан верёвками и тросами, прикован цепями к полу своей каюты, он будет тогда ужаснее, чем тигр в клетке. Я бы не вынес такого зрелища, не знал бы, куда бежать от его воя, я потерял бы покой, сон и самый здравый смысл за это мучительное плавание. Что же в таком случае остаётся? Земля лежит на сотни лиг от нас, и ближе всего – недоступная Япония. Я стою здесь один, в открытом море, и два океана и один материк лежат между мною и законом. Да, да, так оно и есть. Разве стало бы убийцей небо, если бы его молния поразила будущего убийцу в его постели, да так, чтобы кожа спеклась с простынями? И разве стал бы убийцей я, если бы… – и он медленно, осторожно, полуотворотившись, приложил дуло заряженного мушкета к дверной филёнке. – Вот на таком расстоянии от пола там висит койка Ахава, головой сюда. Одно прикосновение пальцем, и Старбек останется жив, и снова обнимет свою жену и своего ребёнка. О Мэри, Мэри! О сын мой, сын! Но если я разбужу тебя, не к смерти, а к жизни, старик, кто знает, в какой глубине окажется через неделю тело Старбека вместе с телами всего экипажа? Великий боже, где ты? Как должен я поступить? Как?.. Ветер упал и переменился, сэр; фор– и грот-марсели поставлены и зарифлены; идём прежним курсом.
– Табань! О Моби Дик, наконец-то я сжимаю в руках твоё сердце!
Этот крик донёсся вдруг из-за двери, за которой спал, погрузившись в мучительные сновидения, старый капитан; казалось, будто голос Старбека заставил заговорить его давнишний немой сон.
Наведённый мушкет задрожал, ударяясь о филёнку, точно рука пьяницы; Старбек единоборствовал с ангелом; наконец, отвернувшись прочь от двери, он сунул в стойку смертоносное оружие и вышел вон.
– Он слишком крепко спит, мистер Стабб, спустись-ка ты к нему сам, разбуди и доложи. Я не могу оставлять палубу. Ты знаешь, что ему сказать.
Глава CXXIV. Стрелка
На следующее утро волнение на море ещё не улеглось, и широкие, неторопливые, могучие валы катились за кормой «Пекода», подталкивая его вперёд, словно вытянутые ладони доброго великана. Сильный, ровный ветер дул так щедро, что и небо и воздух казались сплошь одними раздутыми парусами; весь мир гудел и трепетал. В ясном свете утра невидимое солнце скрывалось за белой тканью, и угадать, где оно сейчас, можно было лишь по непереносимо яркому пятну там, где скрещённые штыки лучей сквозили, падая на палубу. Пышное великолепие царило вокруг, подобное великолепию коронованных царей и цариц Вавилона. Море казалось чашей расплавленного золота, которое пузырится, источая свет и жар.
Ахав уже давно стоял один, храня колдовское молчание; и всякий раз, когда судно, соскальзывая с пологой волны, опускало бушприт, он поворачивался, чтобы увидеть яркие солнечные лучи, пробивающиеся на носу, а когда корабль круто оседал на корму, он оборачивался назад, чтобы видеть, как солнечный свет льётся и оттуда и как те же золотые лучи играют теперь на неуклонно-прямой борозде у него за кормой.
– Ха, ха, корабль мой! ты похож на морскую колесницу солнца. Хо, хо! земные народы! Я везу вам солнце. Я запряг могучие валы; э-ге-гей! Я правлю океаном, запряжённым в мою колесницу!
Но вдруг точно какая-то новая мысль, натянув поводья, подняла его на дыбы, он бросился к штурвалу и хриплым голосом потребовал, чтобы рулевой назвал ему курс.
– Востоко-юго-восток, сэр, – ответил испуганный матрос.
– Лжёшь! – и капитан ударил его крепко сжатым кулаком. – Всё утро держишь на восток, а солнце светит с кормы?
Тут все смутились; явление это, замеченное Ахавом, почему-то ускользнуло от внимания остальных; вероятно, сама его очевидность была тому причиной.
Припав к нактоузу, Ахав бросил быстрый взгляд на компасы, его вздёрнутая рука медленно опустилась, казалось, он сейчас закачается. Стоявший позади его Старбек тоже заглянул внутрь, но странное дело! Оба компаса показывали на восток, в то время как судно несомненно шло на запад.
Но не успела ещё дикая тревога распространиться среди матросов, как старый капитан воскликнул с коротким смешком:
– Всё понятно! Это случалось и прежде. Мистер Старбек, вчерашняя гроза просто перемагнитила наши компасы, вот и всё. Ты, я думаю, и раньше слыхал о таких вещах.
– Да. Но никогда прежде со мной этого не случалось, сэр, – угрюмо ответил побледневший помощник.
Тут необходимо заметить, что такие случаи действительно иногда происходят с кораблями во время сильных гроз. Магнетическая сила, заключённая в игле корабельного компаса, сродни, как известно, электричеству в небесах, и, стало быть, этому не следует особенно удивляться. В тех случаях, когда молния ударяет прямо в корабль, сшибая реи и снасти, её воздействие на стрелку компаса оказывается подчас ещё более гибельным: магнитное свойство уничтожается, и тогда от неё проку не больше, чем от бабушкиной спицы. Но и в том и другом случае размагниченная или перевернувшаяся стрелка компаса сама по себе никогда не обретает своей прежней силы и не занимает вновь верного положения на картушке; причём, если повреждены были компасы в нактоузе, то же самое происходит и со всеми остальными компасами на судне, будь они даже врублены в ствол кильсона.
Старый капитан, задумавшись, стоял у нактоуза, глядя на перемагниченные компасы; потом вытянул руку и по тени удостоверился, что стрелки показывают как раз в противоположную сторону; тогда он крикнул, чтобы соответственно переменили курс корабля. Реи были круто обрасоплены, и «Пекод» снова устремил свой неустрашимый нос навстречу ветру, ибо ветер, который считали попутным, оказалось, только посмеялся над кораблём.
Что бы ни думал обо всём этом втихомолку Старбек, вслух он ничего не сказал, но спокойно отдавал необходимые приказания, а Стабб и Фласк – разделявшие, по всей видимости, в какой-то мере его мысли – точно так же безмолвно подчинялись. Что же до матросов, то хоть иные из них и роптали потихоньку, страх перед Ахавом пересиливал их страх перед Роком. Но, как и прежде, оставались невозмутимы трое язычников-гарпунёров; если что-нибудь и влияло на их восприимчивые сердца, так это магнетическая сила, исходившая от непреклонного Ахава.
Старый капитан расхаживал по палубе, погружённый в бурное раздумье. Неожиданно он поскользнулся, и взор его упал на растоптанные медные части квадранта, который он разбил накануне.
– О жалкий мечтатель, глазеющий на небо, о ты, гордый лоцман солнца! Вчера я погубил тебя, а сегодня компасы едва не погубили меня. Вот так-то. Но Ахав пока ещё властен над простым магнитом. Мистер Старбек, подать мне острогу без рукоятки, мушкель и самую тонкую парусную иглу. Живо!
Быть может, в этот момент к непосредственному движению души у Ахава примешивался и кое-какой разумный расчёт, целью которого было поднять дух команды, проявив перед ней в этом хитром деле с перевернувшимися стрелками компасов всё своё тонкое искусство. К тому же старый капитан понимал, что хотя держать курс по перевёрнутым стрелкам компасов на худой конец и можно, для суеверной команды это послужило бы источником всевозможных страхов и дурных предчувствий.
– Люди, – проговорил он, решительно поворачиваясь к матросам, когда старший помощник подал ему всё, что он просил. – Люди, гром перемагнитил компасы у старого Ахава; но Ахав из этого куска стали сумеет сделать новый компас, не хуже всякого другого, и он будет показывать верно.
При этих словах моряки обменялись несмелыми взглядами, выражавшими раболепное удивление, и приготовились ждать, не отводя зачарованных глаз, наступления любых чудес. И только Старбек глядел в сторону.
Одним ударом мушкеля Ахав сбил стальное лезвие остроги, а затем, протянув своему помощнику оставшийся длинный железный прут, приказал держать его прямо, не касаясь нижним концом палубы. Потом, ударив несколько раз мушкелем по верхнему концу прута, он поставил на него стоймя притуплённую иглу и тоже несколько раз – хотя теперь слабее – ударил по ней мушкелем, в то время как всё это сооружение по-прежнему находилось на весу в руках Старбека. Затем, проделав целый ряд каких-то непонятных мелких движений – то ли действительно необходимых при намагничивании стали, то ли просто предназначенных для вящего устрашения команды, неизвестно, – он потребовал нитку и, подойдя к нактоузу, вынул оттуда обе перевёрнутые стрелки, после чего, перевязав парусную иглу аккуратно посередине, подвесил её над одной из картушек. Поначалу игла стала вертеться, дрожа и трепеща с обоих концов, потом замерла, тогда Ахав, напряжённо дожидавшийся такого исхода, торжествуя, отступил от нактоуза и, вытянув вперёд руку, воскликнул:
– Теперь глядите сами, властен ли Ахав над магнитом! Солнце на востоке, и мой компас клянётся мне в этом!
Один за другим подходили они и заглядывали в ящик, ибо ничто, кроме собственных глаз, не могло бы убедить их невежества, и один за другим они крадучись отходили прочь.
В этот миг пламенные очи Ахава горели презрением и торжеством; то был Ахав во всей его гибельной гордыне.
Глава CXXV. Лаг и линь
Давно уже находился в плавании обречённый «Пекод», но до сих пор лаг ещё почти не бывал в употреблении. Доверчиво полагаясь на другие способы определять местоположение судна, некоторые торговые суда, да и китобойцы тоже, особенно на промысле, вовсе не забрасывают лага, хотя в то же самое время, преимущественно для проформы, на карте, как обычно, отмечается курс корабля и предполагаемая средняя скорость его хода. Так было и с «Пекодом». Деревянная вертушка с линём и привязанным к нему угольником лага уже давно висели в праздности за кормой. Дожди и брызги мочили их, солнце и ветер сушили и коробили, все стихии объединились, чтобы сгноить и привести в негодность эти никчёмные предметы.
Но Ахав, охваченный, как всегда, своими мрачными думами, через несколько часов после сцены с магнитом случайно скользнул взглядом по лагу, вспомнил, что квадранта его больше не существует, и снова вернулся к своей безумной клятве о лаге и лине. Корабль бежал, зарываясь носом в волнах, за кормой, сшибаясь, катились пенные валы.
– Эй, на баке! Бросать лаг!
Побежали двое матросов: золотокожий таитянин и седоволосый уроженец острова Мэн.
– Пусть один из вас возьмёт вертушку. Бросать буду я.
Они прошли на самую корму и стали с подветренной стороны, в том месте, где благодаря косому напору ветра палуба почти касалась убегающих белых валов.
Старик матрос с острова Мэн взялся за торчащие рукоятки вертушки, вокруг которой были намотаны витки лаглиня, и поднял её со свисающим угольником лага, дожидаясь, пока подойдёт Ахав.
Когда Ахав уже стоял подле него и, размотав тридцать или сорок витков лаглиня, готовился сложить его большой петлёй, чтобы швырнуть за борт, старый матрос, пристально разглядывавший и его и линь, отважился заговорить:
– Сэр, этот линь, по-моему, ненадёжен. Я бы не стал доверяться ему. Жара и сырость привели его, наверное, за долгое время в полную негодность.
– Ничего, он выдержит, старик. Вот ведь тебя жара и сырость не привели за долгое время в негодность? Ты ещё держишься. Или, вернее, жизнь тебя держит, а не ты её.
– Я держу вертушку, сэр. Но как прикажет капитан. Не при моих сединах спорить, особливо с начальством, которое всё равно ни за что не признает, что ошиблось.
– Это ещё что такое? Послушайте-ка вы этого оборванца профессора из беломраморного Колледжа Королевы Природы; да только, сдаётся мне, он слишком большой подхалим. Откуда ты родом, старик?
– С маленького скалистого острова Мэн, сэр.
– Превосходно! Этим ты утёр нос миру[323].
– Не знаю, сэр, только родом я оттуда.
– С острова Мэн, а? Но, с другой стороны, это неплохо. Вот мужчина с острова Мэн, мужчина, рождённый на некогда независимом острове Мэн, где теперь уже больше не найти настоящего мужчины; на острове, поглоченном теперь, – и чем?.. Выше вертушку! О слепую, мёртвую стену разбиваются в конце концов все вопрошающие лбы. Выше держи! Вот так!
Лаг был заброшен. Размотанные витки лаглиня быстро вытянулись в струну за бортом над самой водой, и в тот же миг стала крутиться вертушка. Треугольник лага, то взлетая, то опускаясь на валах, дёргал лаглинь то сильнее, то слабее, и старик с вертушкой едва стоял на ногах.
– Держи крепче!
Тррах! натянутый лаглинь вдруг провис одним длинным фестоном; лаг оторвался.
– Я разбиваю квадрант, гром перемагничивает компасы, а теперь ещё бурное море разрывает лаглинь. Но Ахав может исправить всё. Выбирай конец, таитянин. Накручивай, старик, выше вертушку. Плотник сделает новый лаг, а ты исправь линь. Понятно?
– Теперь он уходит как ни в чём не бывало, а мне так кажется, будто выпал главный винт из центра мироздания. Выбирай, выбирай, таитянин! Такой линь разматывается, как молния, целый и тугой, а назад еле тянется, разорванный и провисший. А-а, Пип! Ты что, помочь пришёл, а, Пип?
– Пип? Кого это вы зовёте Пипом? Пип выпрыгнул из вельбота. Пип пропал. Может, ты выловил его, рыбак? Видишь, как туго идёт верёвка, это, наверно, он держит. Дёрни как следует, Таити! Выдерни у него верёвку, мы не станем поднимать к себе на корабль трусов. Вон, вон! его рука показалась там над водой! Топор, скорее топор! Рубите! мы не станем поднимать к себе на корабль трусов. Капитан Ахав! сэр, сэр! взгляните, к нам на борт хочет снова взобраться Пип.
– Молчи ты, придурок! – крикнул старик матрос с острова Мэн, схватив его за локоть. – Пошёл вон со шканцев!
– Большой дурак всегда ругает меньшого, – пробормотал, подходя, Ахав. – Руки прочь от этой святости! Где, ты говоришь, Пип, мальчик?
– Там, сэр, за кормой! Вон, вон!
– А ты кто такой? В пустых зрачках твоих глаз я не вижу своего отражения. О бог! неужели человек – это только сито, чтобы просеивать бессмертные души? Кто же ты, малыш?
– Рындовый, сэр, корабельный глашатай, динь-дон-динь! Пип! Пип! Пип! Сто фунтов праха в награду тому, кто отыщет Пипа, рост пять футов, вид трусоватый – сразу можно узнать! Динь-дон-динь! Кто видел Пипа – труса?
– Выше линии снегов сердце не может жить. О вы, морозные небеса! взгляните сюда. Вы породили этого несчастного ребёнка и вы же покинули его, распутные силы мироздания! Слушай, малыш: отныне, пока жив Ахав, каюта Ахава будет твоим домом. Ты задеваешь самую сердцевину моего существа, малыш; ты связан со мною путами, свитыми из волокон моей души. Давай руку. Мы идём вниз.
– Что это? Бархатная акулья кожа? – воскликнул мальчик, глядя на ладонь Ахава и щупая её пальцами. – Ах, если бы бедный Пип ощутил такое доброе прикосновение, быть может, он бы не пропал! По-моему, сэр, это похоже на леер, за который могут держаться слабые души. О сэр, пусть придёт старый Перт и склепает вместе эти две ладони – чёрную и белую, потому что я эту руку не отпущу.
– И я не отпущу твою руку, малыш, если только не увижу, что увлекаю тебя к ещё худшим ужасам, чем здешние. Идём же в мою каюту. Эй, вы, кто верует во всеблагих богов и во всепорочного человека! вот, взгляните сюда, и вы увидите, как всеведущие боги оставляют страждущего человека; и вы увидите, как человек, хоть он и безумен, хоть и не ведает, что творит, всё же полон сладостных даров любви и благодарности. Идём! Я горд, что сжимаю твою чёрную ладонь, больше, чем если бы мне пришлось пожимать руку императора!
– Вот идут двое рехнувшихся, – буркнул им вслед старик матрос с острова Мэн. – Один рехнулся от силы, другой рехнулся от слабости. А вот и конец прогнившего линя – вода с него так и течёт. Починить его, говорите? Я думаю, всё-таки лучше заменить его новым. Поговорю об этом с мистером Стаббом.
Глава CXXVI. Спасательный буй
Держа на юго-восток по магнитной стрелке Ахава и выверяя свой курс только по лагу Ахава, «Пекод» по-прежнему шёл курсом на экватор. То было долгое плавание по пустынному морю, и ни единого судна, ни единого паруса не показывалось на горизонте. Вскоре ровными пассатами корабль стало сильно сносить по мерной, невысокой зыби. Казалось, кругом воцарилось странное затишье, точно прелюдия к какой-то шумной и трагической сцене.
Но вот, когда судно уже приближалось как бы к предместьям экваториального промыслового района и в непроглядной тьме, какая всегда предшествует наступлению зари, проходило мимо группки скалистых островков, вахту, возглавляемую Фласком, вдруг взбудоражил ночью какой-то жалобный, отчаянный, нездешний вопль – точно сдавленное рыдание душ всех невинных младенцев, убиенных Иродом. Матросы, как один, очнулись от дремоты и замерли словно зачарованные – кто стоя, кто сидя, кто лёжа, – вслушиваясь в позе изваянного римского раба в этот дикий, протяжный вопль. Христианская, цивилизованная часть команды утверждала, что это сирены, и тряслась от страха, язычники гарпунёры оставались невозмутимы. Седой же матрос с острова Мэн – как самый старший на борту – объявил, что услышанные ими жуткие, дикие завывания – это голоса утопленников, недавно погибших в пучине морской.
Ахав у себя в каюте ничего не слыхал, и только на рассвете, когда он поднялся на палубу, Фласк рассказал ему обо всём, присовокупив к своим словам кое-какие тёмные и зловещие догадки. Тогда он глухо расхохотался и так объяснил ночное диво.
Скалистые островки, вроде тех, мимо которых проходил ночью «Пекод», служат обычно убежищем для небольших тюленьих стад, и, вероятно, несколько молодых тюленей, потерявших маток, или матки, потерявшие своих детёнышей, всплыли ночью возле корабля и некоторое время держались поблизости, издавая вопли и рыдания, которые так похожи на человеческие. Но такое объяснение только усугубило смятение команды, потому что многие мореплаватели испытывают перед тюленями суеверный страх, порождённый не только тем, что, попав в беду, они кричат какими-то удивительными голосами, но также ещё и странным человеческим выражением их круглых, сообразительных физиономий, выглядывающих из воды у самых бортов корабля. Много раз случалось, что тюленей в море принимали за людей.
Дурным предчувствиям команды суждено было получить в то утро наглядное подтверждение в судьбе одного из матросов. Человек этот на восходе солнца выкарабкался из своей койки и, не очухавшись, прямёхонько отправился стоять дозором на форсалинге; и, может быть, он просто не успел ещё проснуться как следует (потому что матросы часто лезут на мачты в промежуточном между сном и бодрствованием состоянии), трудно сказать, но, как бы то ни было, не пробыл он на своём насесте и нескольких минут, как вдруг раздался крик – крик и звук падения, – и, взглянув наверх, люди успели заметить, как что-то пронеслось в воздухе, а поглядев вниз, увидели только маленький фонтанчик белых пузырьков на синей глади моря.
Тотчас же спасательный буй – длинный, узкий ящик – был спущен с кормы, где он висел, послушный мудрёной пружине, но из волны не поднялась рука, чтобы ухватиться за него, и он, давно рассохшийся под лучами тропического солнца, стал медленно наполняться водой; даже сама высушенная древесина всеми порами впитывала влагу, и вот уже большой деревянный ящик, обитый гвоздями и стянутый железными ободьями, ушёл на дно вслед за человеком, словно бы для того, чтобы служить ему там подушкой, хоть, надо сознаться, довольно жёсткой.
Так случилось, что первый же матрос, поднявшийся на мачту «Пекода», чтобы высматривать Белого Кита в его же, Белого Кита, собственных владениях, был поглощён океанской пучиной. Но мало кто на борту подумал об этом. Пожалуй, на «Пекоде» скорее обрадовались тогда доброму знаку: в этом несчастье они видели не провозвестие предстоящих бедствий, но осуществление прежних дурных предзнаменований. Теперь-то понятно, говорили матросы, к чему были эти страшные вопли, которые они слышали накануне ночью. Один только старик с острова Мэн опять покачал головой.
Однако нужно было заменить пропавший буй новым; заняться этим приказано было Старбеку; но, поскольку на борту не удалось найти подходящего лёгкого ящика и поскольку, в лихорадочном нетерпении дожидаясь близкой развязки, никто из матросов не в состоянии был заняться ничем, кроме непосредственной подготовки к последнему, конечному этапу плавания, что бы он им ни сулил, решено уже было оставить корабельную корму без спасательного буя, как вдруг на шканцах появился Квикег и стал делать жесты и издавать возгласы, всячески давая понять, что имеет в виду свой гроб.
– Спасательный буй из гроба? – воскликнул потрясённый Старбек.
– Да, диковато, я бы сказал, – согласился Стабб.
– Отличный буй получится, – сказал Фласк, – вот плотник мигом всё сделает.
– Неси его сюда; всё равно другого выхода нет, – уныло помолчав, проговорил Старбек. – Оборудовать его, плотник; да не гляди ты на меня так – да, да, оборудовать гроб. Ты что, не слышишь, что ли?
– И крышку прибить, сэр? – плотник показал рукой, как забивают гвозди.
– Прибить.
– И щели законопатить, сэр? – он провёл ладонью, словно держал в руке лебезу.
– Да.
– А поверх ещё и засмолить, сэр? – и он словно поднял котелок с дёгтем.
– Довольно! Что это пришло тебе в голову? Оборудовать спасательный буй из гроба – и никаких разговоров. Мистер Стабб, мистер Фласк, пройдёмте со мной на бак.
– Ишь пошёл, прямо так весь и вспыхнул. Целое ему ещё под силу, а вот на мелочах, поди ж ты, спотыкаешься. Ну, уж это мне не по душе. Сделал я капитану Ахаву ногу, так он её носит как джентльмен; а сделал коробку для Квикега, а он не пожелал сунуть в неё голову. Неужто всем трудам, какие я положил на этот гроб, пропадать впустую? А теперь вот приказывают сделать из него спасательный буй. Это вроде как старую одежду перелицовывать, выворотить тело наизнанку. Не по вкусу мне это портаческое дело, нет, совсем не по вкусу, несолидно это; да и не по мне. Пускай этим занимаются всякие лоботрясы, мы не им чета. Я люблю браться только за чистую, точную, нетронутую научную работу, что-нибудь такое, что честь по чести начинается в начале, в середине доходит до половины и кончается в конце; а не то что эта лицовка, у которой конец в середине, а начало в конце. Господи! и до чего же иные старушки любят бездельников и портачей! Я знал когда-то старушку шестидесяти пяти лет, которая сбежала с одним плешивым молодым жестянщиком. И по этой причине я никогда не соглашался на берегу делать работу для старых одиноких вдов, когда у меня была своя мастерская в Вайньярде: а вдруг бы ей взбрело в её старую одинокую голову сбежать со мной? Однако гей-то! тут в море нет белых чепцов, одни только белые пенные гребни. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Прибить крышку, законопатить щели, а потом пройтись ещё по ним дёгтем, поплотнее заделать швы и подвесить его над кормой на пружине с защёлкой. Виданное ли это дело, чтобы раньше когда так обращались с гробом? Иной суеверный старый плотник скорее согласился бы болтаться в снастях, чем взялся бы за такую работу. Да я-то сбит из сучковатой эрустукской сосны, мне всё нипочём. Пожалуйте вам гроб вместо подхвостника! И поплывём по свету с кладбищенским коробом за спиной. Да мне-то что? Мы, мастера по древесине, сколотим вам и свадебное ложе, и ломберный столик, а понадобится, так и гроб либо катафалк. Мы берём помесячно, или за каждый заказ, а то и издолу, или для ради самой работы, или же для ради доходов, не наше дело спрашивать, зачем да почему, если только нас не заставляют портачить, ну, а уж тогда мы по возможности стараемся от такой работы отвертеться. Гм! А теперь за дело, помаленьку-потихоньку. Я сделаю… постойте-ка, сосчитаем, сколько у нас человек в команде? Не помню. Ну, да ладно, сделаю тридцать спасательных верёвок на турецких узлах, по три фута длиной каждую, и прикреплю их кругом всего гроба. И будут у меня, если наш корабль потонет, тридцать весёлых молодцов драться между собой за один гроб – такое не часто можно увидеть под солнцем! А ну, где мой молоток, долото, котелок с дёгтем и свайка? За работу!
Глава CXXVII. На палубе
(Гроб установлен на двух кадках между верстаком и открытым люком; плотник конопатит щели; с большого мотка из-за пазухи у него медленно тянется жгут кручёной пакли. Из каюты не спеша выходит Ахав, за ним слышны шаги Пипа.)
– Ступай назад, мальчик, я скоро вернусь. Ушёл! Моя собственная рука не подчиняется с такой готовностью моей воле, как этот ребёнок. – Храм божий! Что это такое?
– Спасательный буй, сэр. Приказ мистера Старбека. Эй, эй, сэр! осторожнее! Тут люк открыт.
– Спасибо, старик. Удобно лежит у тебя этот гроб, тут же и до склепа рукой подать.
– Как, сэр? Ах, до люка! Верно, верно, сэр.
– Послушай, не ты ли мастер сколачивать ноги? Не из твоей ли мастерской вышел вот этот обрубок?
– Из моей, сэр. Ну, как ободок, держит?
– Держит. Но ты, кроме того, ещё и гробовщик?
– Так, сэр. Я сладил этот гроб для Квикега; но теперь меня поставили, чтобы я переделывал его во что-то совсем другое.
– Так признайся сам: ведь ты просто старый мошенник и сущий варвар. До всего тебе дело, всюду суёшь нос, за всё хватаешься, один день ты мастеришь ноги, назавтра делаешь гробы, чтобы их туда упрятать, а потом ещё спасательные буи, из этих же самых гробов? Ты неразборчив, как боги, и так же, как они, на все руки мастер.
– Но я безо всякого умысла, сэр. Делаю что придётся.
– Вот, вот, и боги так же. Но послушай, разве ты не напеваешь, когда мастеришь гроб? Говорят, титаны насвистывали потихоньку, когда вырубали кратеры для вулканов, а могильщик в пьесе поёт с лопатой в руке[324]. А ты – нет?
– Пою ли я, сэр? Да нет, сэр, мне это ни к чему; тот могильщик, он, верно, пел потому, что у него лопата не пела, сэр. А в моём молоточке, вы только послушайте, какая музыка.
– Правда твоя; это потому, что здесь крышка служит хорошим резонатором, а хорошим резонатором доска становится, если под нею ничего нет. Однако, когда в гробу лежит тело, он всё равно остаётся таким же гулким, плотник. Тебе никогда не случалось вносить гроб на кладбище и задеть им по пути за ворота?
– Да ей-богу, сэр, я…
– Ей-богу? А что это значит?
– Ей-богу, сэр, это просто говорится так, такое восклицание, только и всего, сэр.
– Гм, гм, ну, продолжай.
– Я только хотел сказать, сэр, что…
– Ты что, шелковичный червь, что ли? Сучишь нить для своего одеяния из себя же самого? Что у тебя за пазухой? Тяни живей! И чтобы я этой ловушки больше не видел!
– Ушёл. Неожиданно это у него получилось; но шквалы всегда налетают неожиданно на жарких широтах. Я слыхал, что остров Альбермарль, один из Галапагосов[325], прямо посредине рассечён экватором. Думается мне, нашего старого капитана тоже прямо посредине рассекает какой-то экватор. Он весь на экваторе – горяч, как огонь! Сюда смотрит – где моя пакля? Живее за дело. Пошла работа. Вот у меня деревянный молоточек, и сам я дока по части игры на бутылках – стук-постук!
(Ахав про себя.)
– Вот так зрелище! Вот так звуки! Седоголовый дятел долбит дуплистый ствол! Можно позавидовать тому, кто слеп и глух. Эта вещь стоит у него на двух кадках, а в них свёрнуты бухты каната. Да он злобный насмешник, этот человек. Тик-так! Тик! Так отстукивают секунды человеческой жизни! О, как несущественно всё сущее! Что есть воистину существующего, помимо невесомых мыслей? Вот перед нами зловещий символ жестокой смерти, превращённый по воле случая в желанный знак надежды и подмоги для бедствующей жизни. Спасательный буй из гроба! А дальше что? Быть может, в духовном смысле гроб – это в конечном счёте хранилище бессмертия? Надо подумать об этом. Но нет. Я уже так далеко продвинулся по тёмной стороне земли, что противоположная её сторона, которую считают светлой, представляется мне лишь смутным сумраком. Да прекратишь ли ты когда-нибудь этот проклятый стук, Плотник? Я ухожу вниз; чтобы ничего этого здесь не было, когда я вернусь. Ну, а теперь, Пип, мы побеседуем с тобою; удивительная философия исходит ко мне от тебя! Верно, неведомые миры излили в тебя свою премудрость по каким-то неведомым акведукам!
Глава CXXVIII. «Пекод» встречает «Рахиль»
На следующий день дозорные заметили большой корабль, который шёл с подветра прямо на «Пекод»; реи его были густо унизаны людьми. Это была «Рахиль». «Пекод» в это время ходко шёл своим курсом, но когда с ним поравнялась ширококрылая незнакомка, его хвастливо раздутые паруса вдруг опали, точно проткнутые пузыри, и, утратив ход, он безжизненно закачался на волнах.
– Дурные вести; она несёт дурные вести, – пробормотал старик матрос с острова Мэн. Но ещё прежде чем её капитан, с рупором у рта стоявший на палубе, успел окликнуть «Пекод», послышался голос Ахава:
– Не видали ли Белого Кита?
– Видали, вчера только. Не встречали ли вельбот в море?
Сдержав ликование, Ахав успел отрицательно ответить на этот неожиданный вопрос и готов уже был отправиться в своей шлюпке на борт к незнакомцу, когда капитан «Рахили», приведя к ветру, сам спустился в шлюпку. Несколько взмахов вёслами, багор зацеплен за грот-руслень, и капитан поднялся на палубу. Ахав сразу же узнал в нём своего знакомого из Нантакета. Но приветствиями они не обменялись.
– Где он был? Не убит, не убит! – повторял Ахав, вплотную подходя к нему. – Как это произошло?
Оказалось, что накануне на исходе дня, когда три вельбота «Рахили», отойдя в наветренную сторону миль на пять от судна, были заняты преследованием небольшого стада китов, из синей глуби неподалёку от корабля с подветренной стороны вдруг показался белый горб и голова Моби Дика; в тот же миг был спущен четвёртый – запасной вельбот и началась погоня. Некоторое время этот вельбот – самый ходкий из четырёх – нёсся под парусом по ветру, и наконец ему удалось загарпунить кита, – во всяком случае, насколько мог судить дозорный с мачты. Он видел быстро удаляющуюся лодку, потом уже только чёрную точку, потом короткий всплеск вспененной воды, потом – ничего, и поэтому заключили, что подбитый кит, как это нередко случается, утащил за собой своих преследователей далеко в море. На корабле начали беспокоиться, но ещё не тревожились. На снастях вывесили световые сигналы; спустилась ночь, и судно, чтобы подобрать те три вельбота, которые находились у него с наветренной стороны, – прежде чем отправляться на поиски четвёртого прямо в противоположную сторону, – вынуждено было не только отложить своё попечение о четвёртой лодке далеко за полночь, но даже ещё и отдалиться от неё. Но когда три первые лодки были разысканы и благополучно подняты на борт, «Рахиль» поставила все паруса – лисели на лисели – и устремилась за пропавшим вельботом, разведя вместо маяка огонь в салотопке и посадив чуть не всю команду на снасти и реи дозорными. Но, несмотря на то, что она быстро пробежала расстояние, отделявшее её от того места, где в последний раз видели лодку, и спустила свободные вельботы, которые обошли всё вокруг; потом, не найдя ничего, снова устремилась вперёд, и снова остановилась, и снова спустила вельботы; несмотря на то, что так продолжалось до рассвета, никаких следов пропавшей лодки обнаружить не удалось.
Закончив рассказ, капитан «Рахили» поспешил открыть цель своего визита на «Пекод». Он хотел бы, чтобы встречный корабль присоединился к его поискам и стал бы курсировать параллельно с ним на расстоянии четырёх-пяти миль, оглядывая тем самым как бы двойной горизонт.
– Готов на что угодно побиться об заклад, – шепнул Фласку Стабб, – что какой-нибудь матрос ушёл у него на пропавшем вельботе в капитанском парадном сюртуке или, может, при его золотых часах – уж больно он волнуется. Слыханное ли это дело, чтобы два богобоязненных китобойца гонялись за одним пропавшим вельботом в разгар промыслового сезона! Ты только взгляни, Фласк, видишь, какой он бледный, у него даже зрачки побледнели, – ну, нет, пожалуй, не из-за сюртука, это, должно быть…
– Мой мальчик, мой родной сын среди них. Во имя господа – я молю, я заклинаю вас! – воскликнул в эту минуту капитан «Рахили», обращаясь к Ахаву, который покамест слушал его довольно холодно. – Позвольте мне зафрахтовать ваше судно на сорок восемь часов. Я с радостью заплачу за это, и заплачу щедро, если нужно, – только на сорок восемь часов, всего только. Вы должны, о, вы должны это сделать, и вы сделаете это, капитан!
– Его сын! – вскричал Стабб. – Это сына своего он потерял! Беру назад и сюртук и часы. Что скажет Ахав? Мы должны спасти ему сына.
– Он утонул вместе со всеми остальными минувшей ночью, – проговорил у них за спиной старик матрос с острова Мэн. – Я слышал, все вы слышали, как кричали их души.
Впоследствии выяснилось, что на душе у капитана «Рахили» было особенно тяжко ещё и потому, что в то время как один его сын находился среди команды пропавшего вельбота, на другом вельботе, спущенном в тот же день и тоже сначала отставшем от судна в разгар безумной погони, был его второй сын, и несчастный отец погрузился в жесточайшую растерянность, из которой его вывел только его первый помощник, инстинктивно избравший обычный для таких случаев образ действия – если две лодки нуждаются в помощи, китобоец всегда подбирает сначала ту, в которой больше народу. Но, повинуясь какому-то непонятному движению души, капитан воздержался сначала от упоминания обо всём этом и, только вынужденный ледяным молчанием Ахава, рассказал о своём всё ещё не обретённом сыне – маленьком мальчике, всего двенадцати лет от роду, кого отец, движимый суровой и бесстрашной родительской любовью, свойственной уроженцам Нантакета, с самого раннего возраста решил приучать к невзгодам и чудесам профессии, которая с незапамятных времён была написана на роду у каждого в их семье. Нередко случается даже, что нантакетские капитаны отсылают своих сыновей в столь нежном возрасте в трёх– или четырехгодичное плавание на чужом корабле, чтобы им не мешали приобретать первые навыки и сведения по китобойному делу несвоевременное проявление естественного отцовского пристрастия или излишняя родительская заботливость.
Между тем капитан «Рахили» всё ещё униженно молил Ахава о милости, а капитан «Пекода» по-прежнему стоял недвижно, точно наковальня, принимая удар за ударом, но сам не испытывая ни малейшей дрожи.
– Я не уйду, – говорил гость, – до тех пор, пока вы не скажете мне «да». Поступите со мной так, как вы хотели бы, чтобы поступил с вами я в подобном случае. Ибо у вас тоже есть сын, капитан Ахав, – правда, ещё совсем младенец и находится сейчас в безопасности у вас дома, – и к тому же дитя вашей старости, капитан. Да, да, вы смягчились, я вижу, – бегите, бегите, люди, и готовьтесь брасопить реи!
– Стойте! – крикнул Ахав. – Не трогать брасы, – а затем, протягивая и будто отливая каждое слово, продолжал: – Капитан Гардинер, я этого не сделаю. Даже и сейчас я теряю время. Прощайте, прощайте. Бог да благословит вас, и да простит капитан Ахав самому себе, но я должен продолжать мой путь. Мистер Старбек, засеките время по нактоузным часам и проследите, чтобы ровно через три минуты на борту не осталось никого из посторонних. Потом брасопить реи и лечь на прежний курс.
Он резко повернулся и не оглядываясь ушёл вниз в свою каюту, оставив капитана «Рахили» поражённого столь безоговорочным и окончательным отказом на его горячие мольбы. Но вот, очнувшись от своего оцепенения, Гардинер, не говоря ни слова, торопливо подошёл к борту, скорее упал, чем спустился, в шлюпку и вернулся к себе на корабль.
Скоро суда уже разошлись прочь друг от друга; но, покуда встречная шхуна снова не скрылась за горизонтом, было видно, как она бросалась то туда, то сюда на каждое чёрное пятнышко, пусть даже еле заметное, на поверхности моря. То вправо, то влево поворачивались её реи, она всё переходила с одного галса на другой, то зарываясь в волну, то взлетая на гребне, и всё время её мачты и реи сверху донизу были унизаны людьми, точно стройные вишни в саду, по ветвям которых карабкаются сластёны-мальчишки.
И по тому, как она шла своим скорбным путём, останавливаясь и петляя, ясно видно было, что эта шхуна, проливающая потоки горьких брызг, по-прежнему не находила утешения. Она была Рахиль, которая плачет о детях своих, ибо их нет[326].
Глава CXXIX. В каюте
(Ахав собирается выйти на палубу; Пип ловит его руку и хочет идти с ним вместе.)
– Малыш, малыш, говорю тебе, ты не должен следовать сейчас за Ахавом. Приближается час, когда Ахав не станет отпугивать тебя, но и подле себя не захочет тебя видеть. Есть в тебе что-то, бедный малыш, слишком целительное для моей болезни. Подобное исцеляется подобным; а для теперешней охоты моя болезнь становится желаннейшим здоровьем. Подожди меня здесь, в капитанской каюте, где с тобой будут обращаться так, будто ты сам – капитан. Ты будешь сидеть на моём стуле, привинченном к полу; ты должен быть в нём ещё одним винтиком.
– Нет, нет, нет! Сэр, ваше тело изувечено, возьмите всего меня вместо второй вашей ноги, вы лишь наступите на меня, сэр, я больше ни о чём не прошу, только бы мне послужить вам, быть вашей рукой или ногой.
– О, вопреки миллионам негодяев, это порождает во мне слепую веру в невянущую преданность человека, а ведь он чернокожий! и помешанный! но, видно, и впрямь подобное излечивается подобным, это относится и к нему, он опять становится здоровым.
– Мне говорили, сэр, что Стабб как-то раз покинул маленького бедняжку Пипа, чьи кости лежат теперь на дне, белы как снег, хоть и черна была при жизни его кожа. Но я никогда не покину вас, сэр, как Стабб покинул его. Сэр, я должен пойти с вами.
– Если ты будешь и дальше так говорить со мной, замысел Ахава потерпит в его душе крушение. Нет, говорю я тебе, это невозможно.
– О мой добрый господин, господин, господин!
– Будешь плакать, так я убью тебя! Остерегись, ведь Ахав тоже безумен. Прислушивайся, и ты часто будешь слышать удары моей костяной ноги по палубе и будешь знать, что я всё ещё там. А теперь я покину тебя. Руку – вот так! Ты верен мне, малыш, как верен круг своему центру. Ну, да благословит тебя бог на веки вечные; и если дойдёт до этого – да спасёт тебя бог на веки вечные, и пусть случится то, чему суждено быть. (Ахав уходит; Пип делает шаг вперёд.)
– Вот здесь стоял он мгновение назад; я стою на его месте, но я один-одинёшенек. Будь тут сейчас хоть бедняжка Пип, мне бы и то легче было вытерпеть, но его нет, он пропал. Пип! Пип! Динь-дон-динь! Кто видел Пипа? Он, должно быть, здесь наверху, надо попробовать дверь. Как? Ни замка, ни крючка, ни засова, а всё-таки не открывается? Это, верно, чары, он ведь велел мне оставаться здесь. Правда, правда, да ещё сказал, что этот стул – мой. Вот так, я усядусь сюда, откинусь, прислонюсь к переборке и буду сидеть в самой середине корабля, а все его три мачты и весь его корпус будут передо мной. Старые матросы рассказывают, что великие адмиралы на чёрных флагманах сядут иной раз за стол и давай распоряжаться целыми шеренгами капитанов и лейтенантов. Ха! что это? эполеты! эполеты! отовсюду теснятся эполеты! Передавайте по кругу графины; рад вас видеть; наливайте, месье. Как-то странно это, когда чернокожий мальчик угощает у себя белых людей с золотыми кружевами на сюртуках! – Месье, не случалось ли вам видеть некоего Пипа? – маленького негритёнка, рост пять футов, вид подлый и трусливый! Выпрыгнул, понимаете, однажды из вельбота; не видали? Нет? Ну что же, тогда налейте ещё, капитаны, и выпьем: позор всем трусам! Я не называю имён. Позор им! Положить ногу на стол – и позор всем трусам. Тс-с, там наверху я слышу удары кости о доски. О мой господин! Как тяжело мне, когда ты надо мной ступаешь! Но я останусь здесь, даже если эта корма врежется в скалы и устрицы проникнут внутрь, чтобы составить мне компанию.
Глава CXXX. Шляпа
И вот теперь, когда в назначенное время и в назначенном месте после такого продолжительного плавания Ахав, обойдя все прочие промысловые районы, казалось, загнал своего заклятого врага в океанский угол, чтобы здесь поразить его ударом наверняка; теперь, когда он находился почти на той же широте и долготе, где была нанесена ему мучительная рана; теперь, когда им повстречался корабль, на котором вот только накануне видели Моби Дика; теперь, когда все его встречи с другими судами согласно, хотя и по-разному, говорили о том дьявольском безразличии, с каким Белый Кит расправлялся с ловцами, и повинными и неповинными в злом против него умысле, – вот теперь в глазах старого капитана затаилось нечто непереносимое для слабодушного взора. Как незаходящая Полярная звезда всю бесконечную арктическую шестимесячную ночь глядит вниз, не отводя своего пронзительного, ровного, срединного взгляда, так и замысел Ахава светился теперь над вечной полночью угрюмой команды. Он подавлял людей, так что все их предчувствия, опасения, сомнения и страхи норовили поглубже упрятаться у них в душе и не прорасти наружу ни единым побегом, ни единым листком.
В это предгрозовое время исчезло на борту всякое веселье – искреннее и показное. Стабб уже больше не стремился вызывать улыбки, а Старбек их гасить. Радость и горе, надежды и страхи – всё словно смолото было в тончайшую пыль и замешано в затвердевший раствор, на котором держалась железная душа Ахава. Люди безмолвно, точно автоматы, двигались по палубе, постоянно ощущая на себе деспотичное око старого капитана.
Но если бы вы пристальнее пригляделись к нему в сокровенные часы его одиночества, когда, как думал он, только одни глаза были устремлены на него, вы бы увидели тогда, что подобно тому как взор Ахава устрашал его команду, так таинственный взор парса устрашал Ахава; или во всяком случае как-то странно по временам на него воздействовал. Неуловимая, всё возрастающая загадочность облачала теперь тощего Федаллу; его с ног до головы била беспрерывная дрожь, так что люди стали поглядывать на него в недоумении, будто сами уже не знали, смертное ли он создание или трепещущая тень, отброшенная на корабль неким невидимым существом. А тень эта присутствовала на палубе постоянно. Ибо даже ночью никто никогда не видел, чтобы Федалла задремал или спустился в кубрик. Он мог неподвижно стоять целыми часами, но никогда не садился и не ложился; и его блёклые, удивительные глаза ясно говорили – мы, двое стражей, никогда не отдыхаем.
В какое бы время дня или ночи не выходили моряки наверх, Ахав неизменно был там, либо стоя у своего поворотного отверстия, либо шагая по палубе между двумя недвижными пределами – грот-мачтой и бизанью; иногда его можно было видеть в дверях каюты; он стоял, выдвинув вперёд свою живую ногу, точно собирался шагнуть; его шляпа с опущенными полями тяжело давила, надвинутая на самые глаза; так что, как бы неподвижно он ни стоял и как бы ни возрастало число дней и ночей, в которые он не подходил к своей койке, всё равно никто никогда не мог с уверенностью сказать, закрыты ли у него под шляпой глаза или же он по-прежнему пристально следит за командой; а он мог простоять так и час, и два, и ночная влага жемчужинами собиралась в каменных складках его одежды. Ночь увлажняла его плащ и шляпу, дневное солнце высушивало их; и вот уже много дней и ночей не спускался он вниз, посылая к себе в каюту, всякий раз как ему что-нибудь оттуда понадобится.
Он ел под открытым небом, то есть завтракал и обедал, потому что к ужину он не притрагивался; не подстригал свою чёрную бороду, которая росла, вся спутавшись, напоминая корявые корни поваленных ветром деревьев, когда те ещё продолжают пускать ростки у своего оголённого основания, хотя зелёные их вершины уже погибли. Но несмотря на то, что вся его жизнь стала теперь одной непрерывной вахтой на палубе; и несмотря на то, что и парс стоял свою зловещую вахту с такой же неотступностью, как и он; всё-таки они почти не разговаривали друг с другом, разве только изредка, когда какая-нибудь насущная мелочь делала это необходимым. Казалось, всесильные чары связывали этих двух людей; но с виду, в глазах охваченной страхом команды они были, точно два полюса, далеки друг от друга. Если днём они ещё иной раз и обменивались словом, то по ночам оба были немы, не вступая даже в мимолётное словесное общение. По нескольку часов простаивали они так в свете звёзд, не окликнув один другого, – Ахав в дверях своей каюты, парс у грот-мачты; но при этом они не отрываясь смотрели друг на друга, словно Ахав видел в парсе свою отброшенную вперёд тень, а парс в Ахаве – своё утраченное естество.
Но несмотря ни на что, всё-таки именно Ахав – каким он денно и нощно, ежечасно, ежесекундно являл себя перед своими подчинёнными – был самовластным господином, а парс – его рабом. И в то же время оба они были точно запряжены в одном ярме, погоняемые невидимым тираном, – тощая тень бок о бок с крепкой мачтой. Ибо что бы там ни напоминал собой парс, твёрдый Ахав был весь как высокая грот-мачта корабля.
При первом же тусклом проблеске зари раздавался с юта его железный голос: «Дозорных на мачты!» – и весь день до самого вечера, до наступления темноты, каждый час вслед за боем склянок слышался всё тот же голос: «Эй, что видно там, наверху? – Следите зорче!»
Так прошло дня три или четыре после встречи с потерявшей детей «Рахилью», но ни одного фонтана не было ещё замечено на горизонте; безумный старик начал испытывать недоверие к своей команде, он сомневался чуть ли не во всех, кроме язычников гарпунёров; он допускал даже, что Стабб и Фласк умышленно не замечают то, чего он с таким нетерпением дожидался. Но каковы бы ни были его подозрения, он предусмотрительно воздерживался выражать их словами, даже если поступки и выдавали его недоверие.
– Я хочу сам первый увидеть кита, – заявил он. – Да, да, пусть дублон достанется Ахаву!
И он своими руками сплёл себе из троса гнездо-корзинку, отправил на грот-мачту матроса с одношкивным блоком, который тому приказано было насадить наверху и пропустить через него канат; один конец каната Ахав привязал к корзине и приготовил нагель, чтобы закреплять другой у борта. После этого он, не выпуская из рук свободный конец, пристальным взором обвёл всех членов экипажа, подольше задерживаясь на Дэггу, Квикеге и Тэштиго и торопливо минуя Федаллу, и наконец, остановив уверенный, твёрдый взгляд на своём старшем помощнике, сказал:
– Возьмите этот конец, сэр. Я отдаю его в твои руки, Старбек.
Затем он устроился в корзине, дал знак, корзину подняли, Старбек закрепил вытянутый конец и после этого всё время стоял подле него. Теперь, обхватив грот-мачту рукою, Ахав оглядывал безбрежное море на многие мили вперёд и назад, вправо и влево – насколько хватал взгляд с такой высоты.
Когда моряку приходится работать среди снастей на большой высоте, где не во что упереться ногами, и его поднимают к месту на канате и держат там, покуда он не управится со своим делом, – в таких случаях закреплённый на палубе конец всегда поручается какому-то одному человеку, который должен специально за ним следить. Дело в том, что при обычном обилии хитро спутанного бегучего такелажа, когда трудно бывает определить внизу, какой конец куда наверху уходит, и когда то и дело отдаются закреплённые на палубе канаты, легко можно было бы ожидать, что лишённый особо выделенного хранителя моряк наверху по роковой оплошности кого-нибудь из своих товарищей будет выброшен с высоты прямо за борт, в пучину моря. Так что Ахав в данном случае поступил в полном соответствии с морскими обычаями; странно было только, что именно Старбек, кажется, единственный человек на борту, который когда-либо решился противопоставить Ахаву хоть отдалённое подобие собственной воли, и к тому же ещё один из тех, чью добросовестность в дозоре Ахав был готов поставить под сомнение; странно было, что именно его избрал он своим хранителем, без колебаний доверив свою жизнь человеку, которому в другом он не очень доверял.
В первый же раз Ахав и десяти минут не пробыл наверху, как вдруг большой морской ястреб, красноклювый и свирепый, какие так часто летают в этих широтах в самом неприятном соседстве от лица мачтового дозорного на китобойце, – одна из таких птиц вдруг откуда ни возьмись стала с клёкотом и криком метаться вокруг его головы, выписывая запутанную сеть стремительных кругов и восьмёрок. Потом она вдруг взмыла на тысячу футов отвесно ввысь, оттуда, паря по спирали, снова опустилась и опять стала вихрем кружиться у его головы.
Но, вперив жадный взор в смутную, далёкую линию горизонта, Ахав не замечал неистовой птицы, да и никто бы, наверное, не обратил на неё внимания, потому что ничего необычного в её появлении не было, если бы не то, что теперь даже самый беспечный взгляд замечал во всём какой-то особый тайный смысл.
– Ваша шляпа, ваша шляпа, сэр! – воскликнул вдруг матрос-сицилиец, стоявший дозором на верхушке бизани как раз позади Ахава и чуть пониже, отделённый от него глубокой воздушной пропастью.
Но уже смоляное крыло взмахнуло перед самыми глазами Ахава, длинный крючковатый клюв протянулся к его голове – и чёрный ястреб с криком взлетел к небесам, унося свою добычу.
Трижды облетел орёл вокруг головы Тарквиния[327], сорвал с него шапку, а затем снова опустил её прямо ему на голову, после чего его супруга Танаквиль предсказала, что он будет царём Рима. Но только возвращение шапки превратило это происшествие в доброе предзнаменование. Шляпа же Ахава была утрачена навсегда; дикий ястреб летел со своей ношей всё вперёд и вперёд, обгоняя судно, и наконец пропал из виду; в последнее мгновение перед тем, как ему окончательно исчезнуть, можно было смутно различить какую-то еле заметную чёрную точку, которая отделилась от него и с огромной высоты упала в море.
Глава CXXXI. «Пекод» встречается с «Восхитительным»
Неистовый «Пекод» уходил всё дальше и дальше, дни и волны катились назад; по-прежнему покачивался на корме Квикегов гроб, приспособленный под спасательный буй, и вот в один прекрасный день на горизонте показался ещё корабль, чьё название – «Восхитительный» – самым прежалостным образом противоречило его внешнему виду. Когда он достаточно приблизился, все глаза на «Пекоде» устремились на шканцы незнакомца, где стояли так называемые «ножницы» – толстые, скрещённые футах в восьми над палубой брусья, на которых китобойцы обычно несут свои запасные, неоснащенные или повреждённые вельботы.
На «ножницах» незнакомца можно было видеть переломанные белые рёбра шпангоута и несколько расщеплённых досок – всё, что некогда было целым вельботом; но теперь этот остов светился весь насквозь, точно оголённый, разваливающийся, побелевший лошадиный скелет.
– Видели Белого Кита?
– Взгляните! – отозвался худой капитан у гакаборта и указал своим рупором на обломки вельбота.
– Вы убили его?
– Не выкован ещё тот гарпун, которым его убьют, – ответил капитан встречного судна, печально взглянув к себе на палубу, где молчаливые матросы торопливо зашивали с боков свёрнутую койку.
– Не выкован? – вскричал Ахав, выхватив из развилки оружие Перта и потрясая им в воздухе. – Взгляни сюда, земляк, здесь, в моей руке, я держу его смерть! Это лезвие закалено в крови, оно закалено в блеске молний, и я клянусь закалить его в третий раз в том горячем месте позади плавника, где всего острее чувствует Белый Кит свою проклятую жизнь!
– Ну, так бог да поможет тебе, старик. Погляди, – капитан «Восхитительного» указал на зашитую койку, – вот я хороню лишь одного из пятерых крепких парней, которые вчера были живы и здоровы, но умерли ещё до наступления ночи. Одного только этого я хороню, остальные были похоронены, ещё не успев умереть; ты теперь плывёшь над их могилой. – Тут он обратился к своей команде:
– Эй, всё у вас готово? Тогда положите на борт доску и поднимите тело; вот так. Ну, господи милосердный, – он подошёл к телу, воздев кверху руки, – да будет воскрешение из мёртвых и жизнь вечная…
– Брасопить реи! Руль под ветер! – громом грянул Ахав своим матросам.
Но внезапно рванувшийся «Пекод» всё же не успел отойти настолько, чтобы не услышать всплеска, с которым труп ушёл под воду, и несколько взметнувшихся пузырьков долетели до его корпуса, окропив его своим загробным крещением.
Когда «Пекод», бегущий от охваченного горем «Восхитительного», повернулся к нему кормой, висевший там странный спасательный буй открылся всем взорам.
– Эгей! Взгляните-ка туда, ребята! – послышался вещий голос за кормой «Пекода». – Напрасно, о, напрасно, земляки, спешите вы прочь от наших печальных похорон; вы только поворачиваетесь к нам гакабортом, чтобы показать нам свой собственный гроб!
Глава CXXXII. Симфония
Был ясный день, отливающий стальной синевою. Своды воздуха и воды соединялись почти неприметно для глаза во всепронизывающей лазури; задумчивая высь была как-то по-женски прозрачна, мягка и чиста, а могучий мужественный океан вздымался долгими, сильными, медлительными валами, точно грудь спящего Самсона.
В вышине взад и вперёд скользили на незапятнанных крылах лёгкие, белоснежные птицы; то были кроткие думы женственной лазури; между тем как в глубине, далеко в синей бездне, проносились туда и сюда свирепые левиафаны, меч-рыбы и акулы; и это были упорные, неспокойные, убийственные мужские мысли могучего океана.
Но как ни велик был внутренний контраст между этими стихиями, снаружи он выступал лишь в оттенках и полутонах; вдвоём они составляли одно, как бы являя собой два начала: женское и мужское.
А сверху, подобно царственному монарху и государю, солнце словно отдавало кроткую лазурь буйному, отважному океану, как отдают жениху молодую невесту. И там, где тянулся пояс горизонта, лёгкое колебание воздуха – какое нередко можно видеть на экваторе – выдавало полное любви и трепета доверие и нежную тревогу, с какой открывала супругу свои объятия робкая невеста.
Замкнутый и напряжённый, весь изборождённый узловатыми морщинами, упрямый и неистовый, с глазами, горящими, словно угли, что светятся даже в золе развалин, стоял не ведающий сомнений Ахав в ясном свете утра, подняв расщеплённый шлем своего лба к чистому девичьему челу небес.
О бессмертное младенчество и невинность лазури! Невидимые крылатые существа, что резвятся повсюду вокруг нас! Милое детство воздуха и неба! Вам и невдомёк тугая скорбь старого Ахава! Так случалось мне видеть маленьких Марию и Марфу[328], двух весёлых эльфов со смеющимися глазами, когда они беззаботно скакали вокруг своего старого родителя, играя кольцами опалённых кудрей, что растут на краю выжженного кратера его мозга.
Ахав медленно пересёк палубу и стоял, перегнувшись через борт, следя за тем, как его тень всё глубже и глубже уходила в воду под его взглядом, который он всё пристальнее вперял в бездонную глубину. Но сладостным ароматам воздуха удалось на какое-то мгновение развеять его губительные думы. Ласковый радостный воздух, приветливое небо нежили и лелеяли его; мачеха-жизнь, всегда такая жестокая, холодная, обхватила наконец своими любящими руками его упрямую шею и словно рыдала над ним от радости, что нашла в своём сердце силы спасти и благословить этого своего заблудшего, своенравного сына. Из-под опущенных полей шляпы Ахав уронил в море слезу, и не было во всём Тихом океане сокровища дороже, чем эта малая капля.
Старбек видел старого капитана, видел, как тот тяжело опёрся о борт, и он услышал своим верным сердцем безмерное рыдание, что вырвалось из самой глубины царившего вокруг безмолвия. Осторожно, чтобы не толкнуть капитана и чтобы не быть им замеченным, он приблизился к нему и встал рядом.
Ахав обернулся.
– Старбек!
– Сэр?
– О Старбек! какой ласковый, ласковый ветер, и как ласково глядит сверху небо. В такой день – вот в такой же ясный день, как сегодня, – я загарпунил моего первого кита – восемнадцатилетним мальчишкой-гарпунёром! Сорок, сорок, сорок лет тому назад это было! Сорок лет назад! Сорок лет беспрерывных плаваний! Сорок лет лишений, опасностей и штормов! Сорок лет в беспощадном море! Вот уже сорок лет, как Ахав покинул мирную землю, чтобы сорок лет вести битву с ужасами морской пучины. Верно говорю тебе, Старбек, из этих сорока лет я едва ли три провёл на берегу. Я думаю об этой жизни, которую я вёл, о пустынном одиночестве, о каменном застенке капитанской обособленности, так скупо допускающем извне сочувствие зелёного мира, – о гнетущая тоска! о Гвинейское рабство капитанского самовластия! – когда я думаю обо всём этом, о чём я до сих пор только наполовину догадывался, ясно не сознавая того, что было, – как я сорок лет питался сухой солониной – этим символом скудной пищи моего духа, когда даже беднейший обитатель суши имеет каждый день свежие плоды к своему столу и преломляет свежий хлеб этого мира, покуда я ем заплесневелые корки, вдали за многие тысячи океанских миль от моей молодой девочки-жены, с которой я обвенчался, достигнув пятидесяти лет, а на следующий день после свадьбы отплыл к мысу Горн, оставив лишь одну глубокую вмятину в моей брачной подушке; жена? жена? вернее, вдова при живом муже! Да, да, Старбек, я сделал вдовой эту бедную девушку, когда женился на ней. И потом, всё это безумство, всё неистовство, кипящая кровь и пылающий лоб, с какими вот уже тысячи раз пускался в отчаянную, пенную погоню за своей добычей старый Ахав, – скорее демон, чем человек! Да, да! каким же отчаянным дураком – дураком, старым дураком – был старый Ахав все эти сорок лет! К чему надрываться в погоне? К чему натруживать и выворачивать веслом руки, и гарпуны, и остроги? Разве стал от этого Ахав лучше или богаче? Взгляни. О Старбек! Разве не страшно это, что я со всем своим тяжким грузом должен был остаться лишь на одной ноге? А, дай-ка я откину свои старые волосы, они лезут мне в глаза и вызывают слёзы, будто я плачу. Какие они седые, наверно только из серого пепла могли бы вырасти такие. Но разве я кажусь очень старым, Старбек, таким уж очень, очень старым и дряхлым? Я чувствую себя смертельно измученным, согбенным, сгорбленным, точно Адам, спотыкающийся под тяжестью веков со времён рая. Бог! Бог! Бог! раздави моё сердце! взломай мой мозг! это насмешка! насмешка горькая, жестокая насмешка, разве я пережил довольно радостей, чтоб носить седые волосы и быть и выглядеть таким нестерпимо старым? Ближе! стань со мною рядом, Старбек, дай мне заглянуть в человеческие глаза, это лучше, чем смотреть в небо и на море, лучше, чем взирать на бога! Клянусь зеленеющей землёй, клянусь пылающим очагом! вот он, волшебный кристалл, друг; я вижу мою жену и моего сына в твоём взоре. Нет, нет, ты должен оставаться на палубе, когда заклеймённый Ахав уйдёт в погоню за Моби Диком. Этой опасности я тебя не подвергну. Нет, нет! недаром увидел я свой далёкий дом в твоих глазах!
– О капитан, мой капитан! благородная душа! великое сердце! для чего нужно гоняться за этой дьявольской рыбой? Беги прочь вместе со мной! покинем эти гибельные воды! И у Старбека есть жена и сын – жена и сын его радушной, дружелюбной молодости; как у тебя есть жена и сын, жена и сын твоей любящей, тоскующей, отеческой старости! Прочь! Бежим отсюда прочь! Позволь мне сию же минуту переменить курс! Как радостно, как весело, о мой капитан! побежим мы по волнам назад к нашему старому милому Нантакету! Верно, и у них стоят сейчас такие же ясные голубые дни, сэр.
– Да, да, такие же точно. Я помню. Летние, ласковые утра. Потом, в полдень, его как раз укладывают спать – и вот сейчас он шумно просыпается, садится в своей кроватке, и его мать рассказывает ему обо мне, о старом каннибале, о том, как я сейчас плаваю в дальних морях над пучиной, и о том, что я ещё вернусь домой, чтобы поплясать с ним.
– Вот так и Мэри, моя Мэри! Она обещала, что будет каждое утро приносить нашего мальчика на дюны, чтобы он глядел, не появится ли парус его отца на горизонте! Да, да! довольно! решено! мы поворачиваем в Нантакет! идёмте, капитан, нужно проложить обратный курс. Глядите, глядите! вон детское личико в окошке, детская ручонка на холме!
Но Ахав отвратил свой взор; подобно источённой червём яблоне, он затрепетал и уронил на землю последнее засохшее яблоко.
– Что это? Что за неведомая, непостижимая, нездешняя сила; что за невидимый злобный господин и властитель; что за жестокий, беспощадный император повелевает мною, так что вопреки всем природным стремлениям и привязанностям я рвусь, и спешу, и лечу всё вперёд и вперёд; и навязывает мне безумную готовность совершить то, на что бы я сам в глубине своего собственного сердца никогда бы не осмелился даже решиться? Ахав ли я? Я ли, о господи, или кто другой поднимает за меня эту руку? Но если великое солнце движется не по собственной воле, а служит в небесах лишь мальчиком на побегушках; и каждая звезда направляется в своём вращении некоей невидимой силой; как же тогда может биться это ничтожное сердце, как может мыслить свои думы этот жалкий мозг, если только не бог совершает эти биения, думает эти думы, ведёт это существование вместо меня? Клянусь небесами, друг, в этом мире нас вращают и поворачивают, словно вон тот шпиль, а вымбовкой служит Судьба. И всё время – взгляни! улыбаются приветливые небеса и колышется бездонное море! Видишь вон того тунца? Кто велит ему хватать и губить летучих рыбок? Что ожидает убийц, друг? За кем приговор, если сам судья должен быть призван к ответу? Но какой всё-таки ласковый, ласковый ветер, как ласково глядит сверху небо; и в воздухе разлит аромат, словно прилетевший с дальних цветущих лугов; где-то на склонах Анд сейчас сенокос, друг Старбек, и косцы уснули на свежескошенной траве. Уснули? Так-то; трудись не трудись, всё равно под конец уснёшь на лугу. Уснёшь? Да, и будешь ржаветь в зелёной траве, точно прошлогодний серп, отброшенный и забытый на росистом покосе, Старбек!
Но старший помощник, в отчаянии побледнев до мертвенной белизны, уже отошёл прочь.
Ахав пересёк палубу, перегнувшись через борт, заглянул в воду – и вздрогнул, встретив пристальный взгляд двух отражённых глаз. Рядом с ним, опираясь о фальшборт, неподвижно стоял Федалла.
Глава CXXXIII. Погоня, день первый
В ту же ночь на вторую вахту старый капитан – как стало у него привычкой – шагнул вперёд с порога каюты, где он стоял, и направился к своему поворотному отверстию на шканцах, как вдруг он в волнении вытянул шею и жадно вдохнул морской воздух, точно умный корабельный пёс, учуявший приближение варварских островов. Где-то поблизости должен быть кит! Скоро уже вся вахта уловила тот своеобразный запах, что издаёт подчас на большие расстояния живой кашалот; и никто из команды не удивился, когда Ахав, изучив показания компаса и флюгера, а затем, определив по возможности точно направление, откуда шёл запах, торопливо приказал немного изменить курс судна и взять рифы.
К рассвету эта прозорливая политика принесла плоды: прямо по носу перед «Пекодом» открылась длинная и узкая продольная полоса совершенно гладкой, будто масляной, воды с мелкой рябью по краям, как бывает в том месте, где быстрый, глубокий поток вливается в море.
– Дозорных на мачты! Всех наверх!
На баке Дэггу загромыхал по палубе тремя вымбовками, и те, кто спал в кубрике, разбуженные точно громовыми раскатами судного дня, выскакивали на палубу прямо с одеждой в руках.
– Что вы там видите? – крикнул Ахав, задирая голову к небу.
– Ничего, сэр, ничего! – раздалось сверху в ответ.
– Поставить брамсели и лисели! вверху и вниз и по обе стороны!
Были поставлены все паруса; тогда Ахав освободил конец, предназначенный для того, чтобы поднимать его на грот-мачту; и через несколько мгновений уже его подтягивали кверху, как вдруг, проделав едва только две трети своего обычного пути ввысь, он поглядел в просвет между грот-марселем и брамселем и поднял пронзительный, громкий крик, подобный клику чаек в вышине:
– Фонтан! Фонтан! И горб, точно снежная гора! Это Моби Дик!
Взбудораженные этим возгласом, в тот же миг подхваченным тремя дозорными, люди на палубе заметались и стали карабкаться по вантам, чтобы собственными глазами увидеть наконец прославленного кита, за которым они так долго гонялись по свету. Тем временем Ахав уже достиг своего всегдашнего поста и повис в нескольких футах над тремя дозорными, из которых Тэштиго стоял прямо позади него на салинге брам-стеньги, так что голова индейца почти касалась подошв Ахава. С такой высоты им теперь отчётливо виден был кит, который плыл в нескольких милях впереди корабля, то и дело вздымая на волне высокий сверкающий горб и пуская к небесам свой безмолвный фонтан. И суеверным матросам чудилось, будто это тот же самый призрачный фонтан, какой они видели ещё когда-то давно на залитых лунным светом просторах Индийского и Атлантического океанов.
– Неужели же никто из вас не заметил его? – окликнул Ахав висевших на снастях людей.
– Я увидел его, сэр, почти в ту же секунду, что и капитан Ахав, и я подал голос, – сказал Тэштиго.
– Нет, не в ту же секунду; не в ту же – нет, дублон мой, судьба хранила дублон для меня. Никто из вас, только я один сумел первым заметить Белого Кита. Вон фонтан! вон! вон! вон опять! опять! – протяжно и размеренно кричал он в лад с размеренными взлётами китовой струи. – Он сейчас уйдёт под воду! Лисели на гитовы! Брамсели убрать! Приготовить к спуску три вельбота. Мистер Старбек, помни: ты остаёшься на борту и ведёшь корабль. Эй, на руле! круче к ветру, один румб к ветру! Так держать, так держать! Сейчас покажет хвост! Нет, нет, это только чёрная вода! Лодки готовы? Приготовиться, всем приготовиться! Спускайте меня, мистер Старбек; спускайте, спускайте, быстро, быстрее! – и он метеором пронёсся по воздуху вниз, на палубу.
– Он держит курс прямо по ветру, сэр! – воскликнул Стабб. – Убегает от нас; но только он нас ещё заметить не мог.
– Ни слова, человече! На брасах стоять! Руль на борт! Привести в левентик! Брасы с наветра выбирать! Так, отлично! Вельботы, вельботы!
Скоро все вельботы, кроме Старбекова, были спущены; паруса в них поставлены, гребки ударили по воде – и лодки, журча, понеслись по волнам. Атаку вёл Ахав. Бледным, мертвенным блеском зажглись впалые глаза Федаллы, в жуткой гримасе кривились его губы.
Точно бесшумные раковины-кораблики, неслись по морю лёгкие лодки; но медленно сокращалось расстояние между ними и их врагом. Чем ближе они подходили, тем глаже становилась поверхность океана; будто ковёр расстилался по волнам; казалось, это недвижный полуденный луг лежал перед ними. И вот затаивший дыхание охотник настолько приблизился к своей, по-видимому, ничего не подозревающей жертве, что был уже отчётливо виден огромный ослепительный горб, скользящий по волнам, будто сам по себе, в неопадающем крутящемся кольце из клубов тончайшей зеленоватой пены. А сквозь неё можно было разглядеть глубокие, переплетённые борозды огромного крутого чела. Далеко на мягкий турецкий ковёр океана падала от широкого белоснежного лба сверкающая белая тень и бежала впереди, сопровождаемая лёгким мелодичным журчанием; а сзади синие воды, переливаясь, тянулись бегучей бороздой ровного следа; между тем как с боков у зверя всё время всплывали и приплясывали искрящиеся пузырьки. Их то и дело разбивали лёгкие лапки бессчётных весёлых птиц, что носились взад и вперёд, задевая на лету прозрачную воду; и подобно флагштоку, вздымающемуся над раскрашенным корпусом большого фрегата, из белой спины кита торчало длинное, но расщеплённое древко сломанной остроги; несколько легконогих птиц, стаи которых нависли над рыбой трепещущим балдахином, время от времени опускались на этот шест и раскачивались на нём, распушив длинные хвосты, точно весёлые вымпелы.
С радостной лёгкостью – с ленивой мощью покоя в молниеносном движении – скользил по волнам кит. То был не белый бык Юпитер, уплывающий с похищенной Европой, что вцепилась в его изящные рога; бык, скосивший на красавицу свои томные, нежные глаза и стремящийся с плавной, журчащей скоростью прямо к брачным покоям Крита, нет, и сам Зевс в своём несравненном верховном владычестве не превосходил величавостью божественного Белого Кита.
По обе стороны от своих мягких боков в рассечённой волне, что расходилась от него широкими крыльями, – по обе стороны от своих сверкающих боков он расточал колдовские соблазны. И удивительно ли, что были среди охотников такие, что, очарованные и завлечённые этим обманным покоем, отваживались ринуться на него в бой и обнаруживали, что под покровом тишины здесь таятся смертельные вихри. Но по зеркальной глади тихих вод ты снова плывёшь, о кит! к тем, кто впервые видит тебя, скольких бы ни успел уже ты до этого заманить и погубить этими же коварными ухищрениями.
Так, по безмятежному спокойствию тропического моря, среди волн, что не решались от восторга разразиться рукоплесканиями, плыл Моби Дик, ещё скрывая от глаз мира самое жуткое своё оружие – свирепую свёрнутую нижнюю челюсть. Но вот передняя часть его туши стала медленно подниматься из воды; на мгновение его огромное мраморное тело изогнулось над волнами крутой аркой, точно знаменитый естественный мост в Виргинии; грозно взмахнув в воздухе знаменем хвоста, могучий бог явился во всей своей величавости, и тут же, уйдя под воду, скрылся от взоров. Белые морские птицы долго ещё парили в воздухе и летали, чертя крылом по воде, в страстном ожидании трепеща над пенной воронкой, которая образовалась там, где он исчез.
Три вельбота, оставив вёсла и отложив гребки, с полощущимися полотнищами парусов, тихо покачивались на волнах, поджидая, пока Моби Дик появится снова.
– Час, – сказал Ахав, который стоял как вкопанный у себя в лодке, устремив рассеянный взор по ветру, туда, где тянулись туманные голубые просторы и широкие манящие дали. Но уже мгновение спустя глаза его снова вращались в глазницах; он с прежним нетерпением оглядывал водяной горизонт. Ветер стал свежеть, на море расходилась зыбь.
– Птицы! птицы! – крикнул Тэштиго.
Точно цапли во время перелёта, белые птицы одна за другой потянулись теперь прямо к лодке Ахава и в нескольких ярдах от неё начали кружить и кружить над водою, издавая радостные нетерпеливые крики. Они видели лучше, чем человек; Ахав ещё ничего не замечал в морском просторе. Но вот, всё пристальнее и пристальнее всматриваясь в зелёную пучину, он разглядел в глубине живое белое пятно, размерами не более песца, всплывающее с удивительной быстротой и вырастающее прямо на глазах; потом оно как-то повернулось, и в нём стали видны два длинных кривых ряда белых блестящих зубов, подымающихся из непомерной глубины. То была разинутая пасть и скрученная челюсть Моби Дика, между тем как его огромная затенённая туша ещё сливалась с синевой моря. Сверкающая пасть зияла под днищем вельбота, точно разверстые врата мраморной гробницы; и Ахав, резко взмахнув рулевым веслом, вывернул свою лодку подальше от этого жуткого явления. Затем он окликнул Федаллу, дал знак меняться местами, пройдя на нос, выхватил гарпун Перта и приказал своей команде взяться за вёсла, чтобы по первому же сигналу табанить прочь.
Загодя повернувшись вокруг своей оси, вельбот стоял теперь носом к голове кита, который ещё только должен был с минуты на минуту появиться на поверхности. Но, словно разгадав этот манёвр, Моби Дик с той злобной проницательностью, какую приписывали ему люди, извернулся в мгновение ока и вынырнул вперёд морщинистой головой, проскользнув вдоль самого борта лодки.
Как она вся задрожала, затрепетала, сотрясаясь каждой планкой, каждым ребром, когда кит, перевернувшись на спину, словно разящая акула, лениво и как бы смакуя, втянул в свою разинутую пасть нос лодки, так что его длинная скрученная нижняя челюсть поднялась высоко в воздух и одним из зубов зацепилась за уключину. Голубоватая перламутровая белизна её внутренней прокладки сверкала в шести дюймах над головою Ахава. И вот Белый Кит тряхнул лёгкой дощатой лодчонкой, словно жестокая кошка своей пленницей – мышью. Федалла стоял неподвижно, скрестив руки и глядя прямо перед собою, но тигрово-жёлтые гребцы, спотыкаясь и теснясь, со всех ног бросились на корму.
И тут, когда гибкие борта вельбота заходили ходуном, и кит так дьявольски забавлялся с обречённым судёнышком; поразить же его острогой с носа лодки было совершенно невозможно, потому что тело его, погружённое в воду, находилось под лодкой, а нос её был, можно сказать, уже внутри кита; и две другие лодки невольно остановились, бессильные перед лицом неминуемой трагедии; – вот тогда-то неистовый Ахав, разъярённый дразнящей близостью своего врага, оказавшись живым, но беспомощным, в той самой пасти, которую он так ненавидел; приведённый в совершенное бешенство, Ахав голыми руками ухватился за длинную кость у себя над головой, изо всех сил пытаясь разжать железные тиски. Но тщетно напрягал безумец свои силы – китовая челюсть выскользнула у него из рук; хрупкие борта поддались и с треском проломились, когда обе челюсти, точно два огромных ножа, разрезали вельбот пополам и снова прочно сомкнулись в воде ровно посредине между двумя плавучими обломками. А волны понесли их в разные стороны, захлёстывая расщеплённые доски, и матросы, сбившиеся в кучу на кормовом обломке, судорожно цеплялись за борта и за вёсла.
В то мгновение, которое предшествовало гибели вельбота, Ахав, первым разгадавший намерение кита, при виде того, как зверь вдруг поднял голову, ослабив на какую-то долю секунды давление своих челюстей, – Ахав сделал последнюю попытку толчком высвободить лодку из китовой пасти. Но вельбот только проскользнул ещё глубже и осел на один бок, руки Ахава оторвало от китовой челюсти, и самого его резким толчком выкинуло из вельбота, и он упал плашмя в море, лицом в воду.
С плеском отпрянув от своей жертвы, Моби Дик остановился неподалёку, отвесно выставив из воды свою продолговатую белую голову и покачиваясь на волнах; при этом всё его веретенообразное туловище медленно вращалось вокруг своей оси; и когда огромный морщинистый лоб подымался из воды – футов на двадцать с лишним, – разыгравшиеся волны, ослепительно сверкая, разбивались об него, в ярости подбрасывая ещё выше к небесам клочья трепещущей пены. Так во время шторма усмирённые не до конца валы Английского канала отступают от подножия Эддистона, чтобы тут же победно перебросить через его вершину свои пенные гребни.
Но скоро Моби Дик уже снова лёг на воду и стал быстро кружить возле жмущихся на обломке гребцов, мстительными ударами хвоста вспенивая воронки воды и словно готовясь к новому, ещё более ужасному нападению. Казалось, зрелище разбитого в щепы вельбота приводило его в ярость, как в книге Маккавеев сок винограда и шелковицы приводил в бешенство слонов Антиоха[329]. Между тем Ахав, наполовину захлебнувшийся в пене, взбитой китовым наглым хвостом, хотя и не мог плыть из-за своей костяной ноги, всё же держался на воде в центре этой воронки; и беспомощная его голова виднелась среди волн, точно хрупкий пузырёк, который того и гляди лопнет от любого случайного толчка. Федалла с обломка вельбота смотрел на него неподвижно и равнодушно. Команда погибшей лодки не могла оказать ему помощи, они и сами не чаяли спасения. Ибо столь ужасен был вид Белого Кита и столь головокружительны всё сужавшиеся планетарные кольца, которые он описывал, что казалось, будто он вот-вот боком обрушится на них. И хотя остальные вельботы невредимые плавали поблизости, они не осмеливались войти в этот гибельный круг и нанести киту удар, опасаясь, как бы этим они только не ускорили неизбежную гибель потерпевших крушение – Ахава и всех остальных; да и самим им тогда уж не пришлось бы рассчитывать на спасение. И потому, до предела напрягая зрение, они оставались у наружного края ужасного водоворота, центром которого была теперь голова старого капитана.
Но всё происходившее было замечено с мачт «Пекода», и, обрасопив реи, судно двинулось к месту драмы; теперь оно подошло уже настолько близко, что Ахав окликнул его прямо из воды:
– Держать на… – и в это мгновение большая волна от Моби Дика накатила на него и покрыла его с головой. Но снова вырвавшись из-под неё на поверхность и подлетая кверху на новом гребне, Ахав всё же крикнул:
– Держать на кита! Гони его прочь!
«Пекод» развернулся острым носом и, разорвав заколдованный круг, оттеснил Белого Кита от его жертвы. Кит угрюмо поплыл прочь, и лодки поспешили на помощь товарищам.
Полуослепшего, оглушённого, с белой солью, осевшей в глубоких морщинах, Ахава втащили в лодку Стабба; и тут длительное напряжение всех его физических сил наконец дало трещину, и он пал бессильной жертвой своей собственной телесной немощи, на какое-то время оказавшись простёртым бесформенной грудой на дне вельбота, точно затоптанный стадами слонов. Отдалённые, таинственные стоны вырывались у него из груди, будто какие-то смутные голоса со дна ущелья.
Но сама глубина обморока послужила причиной его краткости. За одно мгновение великие сердца подчас переживают в острой муке всю ту сумму мелких страданий, какие у слабого человека бывают милосердно растянуты на целую жизнь. И потому эти сердца, хоть каждый раз их боль бывает мимолётна, скапливают в себе за жизнь целые века скорби, составленные из непереносимых мгновений; ибо у благородных душ даже не имеющая измерений точка их центра обширнее, чем круги более низменных натур.
– Гарпун, – проговорил Ахав, приподнимаясь на локте. – Гарпун цел?
– Да, сэр, ведь его не метали; вот он, – ответил Стабб.
– Положите его подле меня. Люди все?
– Один, два, три, четыре, пять; у вас было пять вёсел, сэр, и здесь налицо пять человек.
– Хорошо. Ну-ка, помоги мне встать, друг. Вот так. Ага! я вижу его! Вон! вон! он по-прежнему уходит под ветер; как прыгает его фонтан! Руки прочь от меня! Вечные соки снова бурлят в костях старого Ахава! Поставить парус! Вёсла! На руле!
Обычно, когда один вельбот бывает разбит, его команда, подобранная другим вельботом, помогает команде этого второго вельбота, который продолжает погоню, как говорится, «на двойных вёслах». Так было и на этот раз. Но удвоенная скорость лодки не отвечала возросшей скорости кита – он уходил точно на утроенных плавниках; он мчался с такой быстротой, которая ясно доказывала, что всякая погоня при таких обстоятельствах затянется бесконечно и, вернее всего, окажется бесплодной; не говоря уж о том, что ни одна команда не в состоянии долго выдерживать такую отчаянную беспрерывную греблю, ведь она едва под силу людям и на коротких расстояниях. Обычно в подобных случаях удобнее всего продолжать погоню прямо на корабле. И вот оба вельбота направились к судну и скоро уже покачивались у себя на шлюпбалках; обе половины разбитой лодки были подобраны ещё раньше, и теперь, принайтовив всё к палубе, высоко вздёрнув свои паруса и раскинув широко в стороны лисели, точно двухпролетные крылья альбатроса, «Пекод» помчался по ветру вслед за Моби Диком. Снова через равные и привычные промежутки времени дозорные с мачт кричали о появлении его фонтана; снова, услышав о том, что он ушёл под воду, Ахав отмечал время и принимался расхаживать по палубе с нактоузными часами в руках, и когда последняя секунда положенного ему часа истекала, слышен был голос капитана: «Ну, кому теперь причитается дублон? Видите его?» И если ему отвечали: «Нет, сэр!» – он тут же приказывал, чтобы его самого подняли на мачту. Так провёл он день, то неподвижно сидя наверху, то без устали вышагивая по палубе.
И каждый раз, молча шагая вдоль борта, разве только окликнет порой дозорных или прикажет матросам ещё выше подтянуть паруса либо раздёрнуть их ещё шире; каждый раз, шагая взад и вперёд в надвинутой на лоб шляпе, он проходил мимо обломков своего вельбота, которые лежали теперь на шканцах, – разбитая корма против расщеплённого носа. Наконец он остановился перед ними; и как по затянутому облаками небу ещё и ещё проносятся чёрные тучи, так на сумрачном челе старого капитана промелькнули новые чёрные думы.
Стабб видел, как остановился капитан; и стремясь, быть может, не без задней мысли, доказать перед ним своё несомненное мужество и тем подтвердить свои права на выдающееся место во мнении капитана, он приблизился и, глядя на разбитый вельбот, воскликнул:
– Вот чертополох, от которого отказался осёл; уж больно он сильно исколол ему пасть, а, сэр? Ха! ха!
– Каким же бессердечным существом нужно быть, чтобы смеяться над обломками крушения! Эх, человече, если бы я не знал, что ты храбр, как сам бесстрашный огонь (и так же, как он, бездушен), я бы поклялся, что ты просто трус. Ни стона, ни смеха не должно быть слышно подле обломков крушения.
– Ваша правда, сэр, – подхватил, приблизившись, Старбек, – это возвышенное зрелище. Это – предзнаменование, сэр, и предзнаменование недоброе.
– Предзнаменование? Дайте мне словарь, я посмотрю, что означает это слово! Если боги сочтут нужным поговорить с человеком, пусть соизволят говорить прямо, а не трясут головами и не морочат его бабьими приметами. Ступайте! Вы двое точно два полюса у единого целого. Старбек – это Стабб наоборот, а Стабб – это Старбек; и вдвоём вы представляете весь род людской; но Ахав стоит одиноко среди миллионов этой населённой планеты, и ни богов, ни людей нет подле него! Холодно, холодно! я дрожу. Ну, так как же? Эй, там, наверху! Видите его? Подавайте голос на каждый фонтан, хотя бы он пускал их по десять в секунду!
День был уже на исходе; еле слышно шуршала лишь золотая кайма его мантии. Скоро наступила полная тьма, но дозорных с мачт всё ещё не спускали.
– Фонтан больше не виден, сэр, слишком темно! – прозвучал крик с вышины.
– Каким курсом он шёл, когда вы его видели в последний раз?
– Как и раньше, сэр: прямо по ветру.
– Хорошо! ночью он сбавит скорость. Спустить бом-брамсели и брамсели, мистер Старбек. Мы не должны нагонять его до света; он, может быть, устроит во время ночного перехода стоянку. Эй, на штурвале! держать всё время по ветру! На топ-мачтах! вниз! Мистер Стабб, послать смену на фок-мачту, и пусть там до рассвета стоит дозорный, – затем он шагнул вперёд и остановился перед золотым дублоном на грот-мачте. – Люди, это золото принадлежит мне, ибо я заслужил его; но я оставляю его здесь до тех пор, пока Белый Кит не будет мёртв; тому из вас, кто первый заметит его в тот день, когда он будет убит, достанется этот дублон; если же и в тот день первым замечу его я, десятикратная стоимость этой монеты будет разделена между всеми вами! Разойтись! – судно в твоём распоряжении, сэр.
С этими словами он прошёл по палубе, стал у себя на пороге и, низко надвинув шляпу, неподвижно простоял там до самого утра, лишь изредка поднимая голову, чтобы прислушаться к течению ночи.
Глава CXXXIV. Погоня, день второй
На рассвете дозорные снова заняли посты на верхушках мачт.
– Видите его? – крикнул Ахав, как только довольно света разлилось по волнам.
– Ничего нет, сэр!
– Вызвать всех наверх и ставить все паруса. Он идёт быстрее, чем я предполагал. Брамсели! Да, надо было не спускать их на ночь. Но всё равно, теперь, после передышки, мы его живо нагоним.
Тут надобно сказать, что подобную упорную погоню за одним определённым китом, которая длится день и ночь и ещё один день, ни в коем случае нельзя считать явлением беспримерным. Ибо таковы удивительное искусство, порождённая опытом сила предвидения и непобедимая уверенность природных нантакетских гениев кораблевождения, что им довольно бывает при некоторых обстоятельствах одного взгляда на плывущего кита, чтобы предсказать с необыкновенной точностью и направление, по которому тот будет плыть в течение определённого времени, уже скрывшись из виду, и вероятную скорость его продвижения. В этих случаях, подобно лоцману, определяющемуся по какой-нибудь косе у себя в поле зрения, перед тем как уйти в открытое море и потерять из виду берег, на который он намеревается вскоре снова взять курс, только спустившись немного пониже; подобно этому лоцману, что стоит у компаса и определяет точное положение этой видимой косы, чтобы тем уверенней найти потом невидимый мыс, служащий целью его плавания; так же поступает и китолов у своего компаса, ибо после нескольких дневных часов погони и внимательного выслеживания, когда наступает темнота, скрывающая кита от людских взоров, будущий путь этого грандиозного создания в ночи так же ясен для проницательного рыбацкого взора, как линия берега для бывалого лоцмана. Так что в глазах искусного охотника даже сам бесследно исчезающий начертанный на воде след, вошедший в пословицу своей мимолётной текучестью, оказывается таким же надёжным, как и твёрдая земля. И как появление могучего чугунного Левиафана современных железных дорог стало настолько привычным в каждом пункте, что люди с часами в руках высчитывают его скорость, будто врачи пульс ребёнка, и уверенно говорят друг другу, что такой-то поезд прибудет туда-то в такое-то время; точно так же и мужественные уроженцы Нантакета вычисляют путь Левиафана глубин в зависимости от того, как именно он плывёт; и говорят друг другу, что через столько-то часов этот кит пройдёт двести миль и достигнет такого-то градуса широты и долготы. Но для того чтобы подобная проницательность в конце концов принесла необходимые результаты, моряк должен взять себе в союзники ветер и течение, ибо какая польза для заштилевшего или задрейфовавшего корабля, если он будет знать, что находится ровно в девяноста трёх лигах от своего порта? Отсюда проистекает множество тонких соображений касательно охоты на китов.
Судно неслось всё вперёд и вперёд, оставляя за собой на волнах глубокую борозду, подобно тому как пушечное ядро, посланное мимо цели, лемехом взрывает ровное поле.
– Клянусь пенькой и солью! – воскликнул Стабб. – Быстрое движение палубы прямо по ногам добирается тебе до самого сердца. Мы с кораблём оба храбрые ребята! Ха, ха! Ну-ка, пусть меня подымут и опустят спиной в море, ведь, клянусь морёным дубом, мой хребет – это киль. Ха, ха! мы оба ходим, не пылим и следов не оставляем.
– Фонтан! Фонтан на горизонте! Прямо по курсу! – вдруг раздалось с мачты.
– Верно, верно! – воскликнул Стабб. – Я так и знал, это уж неизбежно. Дуй-плюй что есть мочи, о кит! всё равно сам обезумевший сатана гонится за тобой! Дуди в свою дудку! надрывай лёгкие! Ахав перекроет плотиной твою кровь, как мельник перегораживает запрудой быструю речку!
И слова Стабба выражали чувства всей команды. К этому времени азарт погони взыграл, запенился в людях, как пенится забродившее старое вино. Каковы бы ни были те бледные ужасы и дурные предчувствия, что испытывали ещё недавно многие из них, теперь их не только скрывали из страха перед Ахавом, они и сами разбежались и рассыпались во все стороны, точно трусливые зайцы прерий, спугнутые бегущим бизоном! Души матросов были в руке Судьбы; и подхлёстываемые опасностями минувшего дня, и пыткой ночного ожидания, и ровным, бесстрашным, безоглядным бегом их бешеного корабля, летящего к своей ускользающей цели, всё неистовее рвались вперёд их сердца. Ветер, круто выгибающий каждый парус и влекущий судно невидимой, но неодолимой рукой, сам ветер казался символом той таинственной силы, что поработила их и подчинила безумной погоне.
То был уже один человек, а не тридцать. Подобно тому как один был корабль, вмещавший их всех; хотя его и составляли самые разнородные материалы – дуб, и клён, и сосна; железо, и пенька, и дёготь; – но все они соединялись вместе в один корабельный корпус, который мчался теперь своим курсом, направляемый и уравновешенный длинным срединным килем; точно так же и разные люди в этой команде: доблесть того, малодушие этого; порочность одного, чистота другого – всё разнообразие было слито воедино и направлено к той неизбежной цели, на какую указывал Ахав, их единый киль и властитель.
Снасти словно ожили. Верхушки мачт, будто кроны высоких пальм, были увешаны гирляндами человеческих рук и ног. Одни, уцепившись рукою за стеньгу, другой рукой возбуждённо размахивали перед собою; другие, прикрывая ладонью глаза от палящего солнца, сидели на самом конце раскачивающейся реи; мачты так и гнулись, унизанные гроздьями человеческих тел – вызревшим урожаем судьбы. Ах, как пристально вглядывались они в бескрайнюю синеву, выискивая в ней то, что должно было принести им погибель!
– Почему вы не подаёте голос, разве вы его не видите? – крикнул Ахав, когда в течение нескольких минут после первого возгласа сверху не раздавалось ни звука. – Поднимите меня. Вы ошиблись, матросы. Это не Моби Дик, если он выпустил вот так один случайный фонтан, а потом исчез.
Так оно и было; охваченные азартом и нетерпением, люди приняли за китовый фонтан какой-то случайный всплеск, что и было вскоре обнаружено, когда Ахав достиг своего обычного дозорного поста; ибо едва только успели закрепить на палубе за нагель свободный конец, как тут же Ахав задал тон целому оркестру, от которого задрожал воздух, словно от гула ружейных залпов. Раздался ликующий вопль из тридцати лужёных глоток, потому что на этот раз – и гораздо ближе к судну, чем вымышленный фонтан, всего в какой-нибудь миле впереди – собственной своей тушей показался сам Моби Дик! Не ленивым и праздным своим фонтаном, этим мирным родником, бьющим у него из головы, давал теперь знать людям Белый Кит о своём появлении; на этот раз он зрителям на изумление начал сам выскакивать из воды. На крайней скорости вырываясь из тёмных глубин, кашалот взлетает всей своей тушей высоко в воздух и, взбивая целую гору ослепительной пены, обнаруживает своё местонахождение для всех в радиусе семи миль и более. Разодранные в клочья яростные волны кажутся тогда гривой, которой он потрясает; и часто эти прыжки означают у кашалота вызов.
– Вот он выскакивает! выскакивает! – раздался вопль, когда Белый Кит хвастливо, точно огромный лосось, подлетел к небесам. И поднятая им гора брызг, так внезапно выросшая на фоне синей морской равнины и ещё более синего края неба, какое-то мгновение стояла, непереносимо сияя и переливаясь, точно ледник, а затем стала постепенно тускнеть, тускнеть, теряя первоначальный яркий блеск и облекаясь туманной мглистостью надвигающегося дождика.
– Так в последний раз прыгай к солнцу, Моби Дик! – воскликнул Ахав. – Вот он, твой час и твой гарпун! Эй, все вниз, вниз! Пусть останется только один на фок-мачте! Готовить вельботы!
Пренебрегая нудными верёвочными лестницами вант, матросы, точно падающие звёзды, посыпались на палубу, скользя по штагам и фалам; Ахав же, хоть и менее стремительно, но всё же достаточно быстро, был спущен вниз в своей корзине.
– Спускать! – скомандовал он, как только очутился в своём вельботе. Это был запасный вельбот, оснащённый накануне вечером. – Мистер Старбек, корабль остаётся в твоём распоряжении. Держись в стороне от лодок, но поближе к ним. Пошёл!
Словно для того чтобы внушить людям больше страху, Моби Дик решил на этот раз сам первым напасть на них и, развернувшись, шёл теперь навстречу трём вельботам. Лодка Ахава была в центре, и он, подбадривая людей, объявил о своём намерении встретить кита лоб в лоб, то есть направить вельбот прямо навстречу киту – приём не такой уж необычный, так как, предпринятый с небольшого расстояния, он исключает ответное нападение со стороны кита, с его боковым зрением. Но пока ещё они не подошли к нему на достаточно близкое расстояние, и потому все три вельбота были видны ему так же ясно, как и три мачты «Пекода»; и вот Белый Кит, яростными ударами хвоста придав себе страшную скорость, в одно мгновение очутился возле вельботов, разинув пасть, направо и налево разя хвостом и суля гибель и разрушение; он не замечал гарпунов, что летели в него из лодок, поглощённый, казалось, единым стремлением – разнести вельботы в щепы. Но те, послушные искусным кормчим, беспрестанно кружась, точно вымуштрованные боевые кони на поле битвы, покуда ещё ускользали от его атак, хоть и оказывались то и дело на волосок от гибели; и всё это время нечеловеческий боевой клич Ахава перекрывал и заглушал вопли всех остальных.
Но в конце концов Белый Кит, бросаясь то туда, то сюда, незаметно так запутал провисшие лини от заброшенных в него трёх гарпунов, что они натянулись и сами по себе стали подтаскивать к нему вельботы; а он между тем отплыл немного в сторону, словно бы для того, чтобы приготовиться к ещё более сокрушительному нападению. Воспользовавшись этим, Ахав сначала вытравил побольше линя, а потом стал быстро выбирать и дёргать его, надеясь таким путём его распутать и высвободить, как вдруг! ему открылось зрелище, более ужасное, чем оскаленные акульи зубы!
Запутанные и перекрученные в лабиринте снастей, болтающиеся в воздухе гарпуны и остроги, сверкая лезвиями и зазубринами, неотступно приближались к носу его лодки, разбрасывая вокруг блики и брызги. Спасение было только в одном. Схватив большой нож, Ахав в отчаянном напряжении вытянул руки, перебирая натянутый канат, перехватил его по ту сторону от смертоносного пучка стальных лучей, подтянул к себе в лодку, передал переднему гребцу и, двумя ударами ножа перерубив канат в двух местах у самого носового жёлоба, уронил в море связку стальных лезвий и снова привёл лодку в равновесие. В то же мгновение Белый Кит вдруг опять бросился в самую путаницу неперерубленных линей, неотступно подтягивая вельботы Стабба и Фласка всё ближе к своему хвосту; ударил ими друг о друга, словно двумя скорлупками на гребне прибоя, а сам нырнул и скрылся в кипящей воронке, в которой долго ещё кружились пахучие обломки кедровых досок, точно крупинки тёртого муската в чаше пенного пунша.
В то время как экипажи обеих погибших лодок кружились в воде, хватаясь за вёсла, кадки и прочие плавучие предметы, которые вместе с ними описывали в волнах круг за кругом; в то время как коротышка Фласк боком подскакивал из воды, точно порожняя бутылка, повыше подгибая ноги, чтобы избегнуть ужасных акульих зубов; а Стабб со всей мочи вопил, призывая на помощь; между тем как старый капитан, разрубив свой линь, получил возможность подойти к пенной воронке, чтобы вылавливать тонувших, – в этот миг слияния тысячи смертельных опасностей уцелевший до сих пор вельбот Ахава вдруг взлетел к небесам, будто вздёрнутый на невидимых нитях, – это Белый Кит стрелою поднялся со дна морского и, ударив своим широким лбом снизу в днище лодки, подбросил её высоко в воздух, так что, несколько раз перевернувшись на лету, она снова упала на воду вверх днищем, и Ахаву вместе со всей командой пришлось выбираться из-под неё, как выбирается стая тюленей из берегового грота.
А кит, с налёту ударившись о вельбот, отскочил на некоторое расстояние от следов причинённого им разрушения и, обратившись к людям спиной, неподвижно лежал теперь на поверхности моря, медленно поводя хвостом из стороны в сторону; и всякий раз как ему попадалось при этом одинокое весло, или обломок доски, или самая незначительная щепка, он тут же подворачивал хвост и с сокрушительной силой ударял им вбок по воде. Но вскоре, будто удостоверившись в том, что дело сделано на славу, он рассёк океанскую гладь своим морщинистым челом и, волоча за собою клубок спутанных линей, снова пустился в путь по ветру размеренным ходом бывалого путешественника.
И снова корабль, с которого внимательно следили за ходом битвы, поспешил на помощь терпящим бедствие и, спустив шлюпку, подобрал из воды плавающих людей, а также бочки, вёсла и всё, что только можно было подобрать, и благополучно поднял спасённых на палубу. Тут были и вывихнутые плечи, кисти и лодыжки; и багровые кровоподтёки; и погнутые гарпуны и остроги; и безнадёжно спутанные клубки тросов; и расщеплённые вёсла и доски; однако ни одного смертельного или даже просто тяжёлого повреждения. Ахав, как накануне Федалла, был найден крепко вцепившимся в обломок своего вельбота, служивший ему на воде довольно надёжной опорой; и он был не так сильно измучен, как в прошлый раз.
Но когда капитану помогли подняться на палубу, все глаза устремились на него, потому что вместо того, чтобы твёрдо, как прежде, стоять на ногах, он тяжело опёрся о плечо Старбека, который первый поспешил к нему с поддержкой. Костяная нога капитана исчезла, на её месте торчал только короткий острый обломок.
– Так, так, Старбек, всякому человеку приятно порой опереться. Жаль только, что старый Ахав так редко до сих пор это делал.
– Ободок подвёл, сэр, – проговорил подошедший плотник. – Отличной работы была нога.
– Но, надеюсь, все кости целы, сэр? – с искренним участием спросил Стабб.
– Разбиты в щепки, Стабб! не видишь? Но и с расщеплённой костью старый Ахав всё равно невредим; хоть ни одна живая кость ни на йоту не ближе мне, чем эта, мёртвая, которой больше нет. Ни белому киту, ни человеку, ни сатане никогда даже и не коснуться подлинной и недоступной сущности старого Ахава. Есть ли такой лот, чтобы достать до этого дна, и такая мачта, чтобы дотянуться до этой крыши? Эй, наверху! Какой курс?
– Прямо по ветру, сэр.
– Руль под ветер! Поставить снова все паруса! Снять и оснастить запасные вельботы! Мистер Старбек, ступай и собери команды для вельботов.
– Позвольте прежде подвести вас к фальшборту.
– О, ох! Как вонзается теперь мне в тело этот острый обломок! Проклятая судьба! Чтобы такой непобедимый в душе капитан имел такого жалкого помощника!
– Простите, сэр?
– Моё тело, друг, я имею в виду моё тело, а не тебя. Дай мне что-нибудь, чтоб я мог опереться… вон та разбитая острога послужит мне тростью. Ступай собери людей. Но стой, возможно ли? Я ещё не видал его! Клянусь небесами! Его нет? Живее, зовите всех наверх!
Опасение, полувысказанное старым капитаном, подтвердилось. Весь экипаж выстроился на палубе, но парса нигде не было.
– Парс! – крикнул Стабб. – Верно, он запутался в…
– Чтоб тебя вывернуло в чёрных корчах! Бегите все на мачты, в трюм, в кубрик, в каюту! Найти его! Он здесь! он здесь!
Но скоро все возвратились, докладывая, что парса нигде нет.
– Видно, уж правда, сэр, – докончил свою мысль Стабб, – его захлестнуло вашим линём. Мне тогда показалось, что я видел, как его утянуло вниз.
– Моим линём? Нет его! Нет его? Что означают эти слова? Что за погребальный звон слышен в них, и почему старый Ахав весь дрожит, будто сам он – колокольня? И гарпун тоже? Переройте всю эту рухлядь! Нашли его? Закалённое лезвие, люди, для Белого Кита предназначенное! Нет? нет? Жалкий глупец! Вот эта рука метала его, значит, он торчит у рыбы в боку! Эй, наверху! не упускайте его из виду! Живо! все на оснастку вельботов! Собрать вёсла! Гарпунёры, готовьте гарпуны! Выше бом-брамсели! Дотянуть все шкоты! Эй, у штурвала, так держать! Твёрже, твёрже, если тебе дорога жизнь! О, десять раз готов я опоясать необъятную землю, готов пробить её навылет, всё равно я ещё убью его!
– Великий боже, явись хоть один-единственный раз! – вскричал Старбек. – Никогда, никогда не изловить тебе его, старик. Во имя Иисуса, довольно! Это хуже сатанинского наваждения. Два дня сумасшедшей погони, дважды разнесены в щепы вельботы; собственная твоя нога во второй раз выломана из-под тебя; твоя злая тень исчезла; все добрые ангелы наперебой спешат к тебе с предостережениями; чего ещё тебе нужно? Неужели мы должны гоняться за этой дьявольской рыбой, покуда она не утопит всех до последнего человека из нашей команды? Неужели мы позволим ей затянуть нас на самое дно морское? Или отбуксировать нас прямо в пекло? О, о! это богохульство продолжать и дальше нечестивую охоту!
– Старбек, в последние дни я чувствую к тебе какое-то странное влечение; с самого того часа, когда – ты помнишь – мы увидели нечто в глазах друг друга. Но в этом деле с китом пусть будет лицо твоё передо мною, как моя ладонь, – одна ровная безустая поверхность. Ахав всегда останется Ахавом, друг. Всё, что свершается здесь, непреложно предрешено. И ты и я, мы уже сыграли когда-то свои роли в этом спектакле, который был поставлен здесь за многие миллионы лет до того, как начал катить свои волны этот океан. Глупец! Я только подчинённый у Судеб, я действую согласно приказу. Гляди и ты, мой старший помощник, не вздумай нарушить полученный приказ. Встаньте вокруг меня, люди. Вот перед вами старик, обрубок человека, опирающийся на разбитую острогу и стоящий на единственной ноге. Это Ахав – его телесная часть; но душа Ахава – сороконожка, она движется вперёд на своих бессчётных ногах. Я чувствую, что натянут до предела, что во мне одна за другой лопаются жилы, точно волокна каната, на котором буксируют в шторм фрегат с поломанными мачтами; быть может, таким я кажусь и вам. Но прежде чем всё во мне лопнет, вы ещё услышите треск; а пока вы его не услышали, знайте, что тросы Ахава ещё буксируют его к его цели. Верите ли вы, люди, в то, что называете предзнаменованием? Тогда смейтесь погромче и кричите «бис»! Ибо тонущие предметы дважды всплывают на поверхность, а потом подымаются в последний раз, чтобы навсегда уйти в глубину. Так и с Моби Диком – два дня он всплывал – завтра будет третий. Говорю вам, люди, он подымется ещё раз, но только затем, чтобы испустить свой последний фонтан. Ну, как? храбрые вы люди или нет?
– Как сам бесстрашный огонь! – отозвался Стабб.
– И так же, как он, бездушны, – пробормотал Ахав. Затем, когда люди разбрелись по палубе, он продолжал: – Предзнаменования! А только вчера я говорил это Старбеку над моим разбитым вельботом. О, как доблестно изгоняю я из чужих сердец то, что впивается в моё собственное сердце! Парс, парс! Нет его! Нет его? А ведь он должен был уйти вперёд меня; но я должен ещё раз увидеть его, прежде чем сам смогу погибнуть. Что бы это значило? Эта загадка загнала бы в тупик всех адвокатов на свете вместе с целой корпорацией призраков-судий; она долбит мой мозг, точно ястребиный клюв. Но я, я всё же разрешу её!
Спустились сумерки, но кита всё ещё можно было видеть прямо по ветру.
И снова были взяты рифы у парусов, и всё было точно так же, как и накануне ночью; только слышался чуть не до зари стук молотков и звон точильных камней – это при свете фонарей люди трудились над полной и тщательной оснасткой запасных вельботов и затачивали новые гарпуны и остроги, готовясь к завтрашнему дню. Плотник покуда мастерил Ахаву из перебитого киля его вельбота новую ногу; а между тем сам капитан, как и накануне, всю ночь недвижно простоял у себя на пороге; и его скрытый под опущенной шляпой взор, точно гелиотроп, был повёрнут в нетерпении на восток, навстречу первым лучам солнца.
Глава CXXXV. Погоня, день третий
Взошла свежая и ясная заря третьего дня; и снова одинокого ночного стража на фок-мачте сменили добровольные дневные дозорные, густо усеявшие каждую мачту, каждую рею.
– Видите его? – окликнул их Ахав; но кита ещё не было видно.
– Но всё равно, мы идём по его прямому следу; нужно только не терять след, вот и всё. Эй, на штурвале, так держать, курс прежний. И опять какой прекрасный день! Будь этот мир создан только сейчас, чтобы служить беседкой для ангелов, в которую лишь сегодня впервые гостеприимно распахнули им дверь, и тогда бы не мог взойти над миром день прекраснее этого! Вот пища для размышлений, будь у Ахава время размышлять; но Ахав никогда не думает, он только чувствует, только чувствует; этого достаточно для всякого смертного. Думать – дерзость. Одному только богу принадлежит это право, эта привилегия. Размышление должно протекать в прохладе и в покое, а наши бедные сердца слишком сильно колотятся, наш мозг слишком горяч для этого. Правда, иногда мне кажется, что мой мозг спокоен, словно заморожен; потому что старый мой череп трещит, точно стакан, содержимое которого обратилось в лёд и вот-вот разнесёт его вдребезги. Но всё же эти волосы продолжают расти, даже вот в это самое мгновение, а для роста ведь нужно тепло; впрочем, нет, они как сорная трава, что может вырасти повсюду: и в трещинах гренландского ледника, и на Везувии между глыбами лавы. Как развевает их неистовый ветер; они хлещут меня по лицу, точно шкоты разорванных парусов, что хлещут по палубе штормующего судна. Подлый ветер, который прежде дул, наверное, сквозь тюремные коридоры и камеры узников, дул в больничных палатах, а теперь прилетел сюда и дует здесь с видом невинной овечки. Долой его! Он запятнан. Будь я ветром, не стал бы я больше дуть над этим порочным, подлым миром. Я бы заполз в какую-нибудь тёмную пещеру и сидел там. А ведь ветер величав и доблестен! Кто, когда мог одолеть ветер? Во всякой битве за ним остаётся последний, беспощаднейший удар. А бросишься на него с кулаками, – и ты пробежал его насквозь. Ха! трусливый ветер, ты поражаешь нагого человека, но сам страшишься принять хоть один ответный удар. Даже Ахав храбрее тебя – и благороднее тебя. О, если бы у ветра было тело; но всё то, что выводит из себя и оскорбляет человека, бестелесно, хоть бестелесно только как объект, но не как источник действия. В этом всё отличие, вся хитрая и о! какая зловредная разница! И всё же я повторяю опять и готов поклясться, что есть в ветре нечто возвышенное и благородное. Вот эти тёплые пассаты, например, что ровно дуют под ясными небесами со всей своей твёрдой, ласкающей мощью; и никогда не уклоняются от цели, как бы ни лавировали, ни крутились низменные морские течения; и как бы ни петляли, ни тыкались, не зная, куда податься, величавые Миссисипи на суше. И клянусь извечными Полюсами! эти самые пассаты, что гонят прямо вперёд моё доброе судно; эти же самые пассаты – или что-то на них похожее, такое же надёжное и сильное, – гонят вперёд корабль моей души! За дело! Эй, наверху! Что видите вы там?
– Ничего, сэр.
– Ничего! а уж дело к полудню! Дублон пустили по миру попрошайничать! Ну-ка, где солнце? А, так я и знал. Я его перегнал. Что же, значит, я теперь впереди? И он гонится за мной, а не я за ним? Нехорошо. Я мог бы, кстати, предусмотреть это, глупец! Тут всё дело в гарпунах и в клубке линей, которые он тянет за собой по воде. Да, да, видно, я перегнал его минувшей ночью. К повороту! Эй, спуститься вниз всем, кроме очередных дозорных! К брасам!
До этого ветер дул «Пекоду» в корму, так что теперь, повернув в противоположную сторону, судно круто вырезалось против ветра, взбивая пену на своём собственном и без того пенном следе.
– Прямо против ветра правит он теперь навстречу разверстой пасти, – тихо промолвил Старбек, закрепляя у борта только что вытянутый грот-брас. – Спаси нас бог, но я уже чувствую, что кости мои отсырели и увлажняют изнутри моё тело. Я чувствую, что, выполняя его команды, я нарушаю веления моего бога.
– Поднять меня на мачту! – крикнул Ахав, подходя к пеньковой корзине. – Теперь мы должны скоро встретиться с ним.
– Слушаю, сэр. – Старбек поспешно исполнил приказ Ахава. И вот уже Ахав опять повис высоко над палубой.
Прошёл час, растянутый золотой канителью на целые столетия. Само время затаило дух в нетерпеливом ожидании. Наконец румба на три вправо с наветренной стороны Ахав разглядел далёкий фонтан, и в тот же миг, возвещая о нём, с трёх мачт взметнулись к небу три возгласа, точно три языка пламени.
– Лицом к лицу встречаю я тебя сегодня, на третий день, о Моби Дик! Эй, на палубе! Круче обрасопить реи; идти прямо в лоб ветру! Он ещё слишком далеко, мистер Старбек, вельботы спускать рано. Паруса заполоскали! Нужно молоток держать над головой у рулевого! Вот так. Он движется быстро; надо мне спускаться. Обведу только ещё раз отсюда сверху взглядом морские дали; на это ещё достанет времени. Древний, древний вид, и в то же время такой молодой; да, он ничуть не изменился с тех пор, как я впервые взглянул на него мальчуганом с песчаных дюн Нантакета! Всё тот же! всё тот же! и для Ноя, и для меня. А там вдали с подветренной стороны идёт небольшой дождь. Как там, должно быть, сейчас хорошо! в той стороне, верно, лежит путь, ведущий куда-то, к каким-то небывалым берегам, покрытым рощами, ещё роскошнее пальмовых. Подветренная сторона! Туда держит путь белый кит [так]; и, значит, глядеть мне нужно против ветра – хоть горше, да вернее. Однако прощай, прощай, старая мачта! Но что это? зелень? да, мох пророс здесь в извилистых трещинах. Но на голове Ахава не видно зелёных следов непогоды! Есть всё же разница между старостью человека и старостью материи. Однако что правда, то правда, старая мачта, мы оба состарились с тобою; но корпус у нас ещё прочен, не правда ли, о мой корабль? Только ноги не хватает, и всё. Клянусь, это мёртвое дерево во всём превосходит мою собственную живую плоть. Я не могу идти с ним ни в какое сравнение; и я знал суда, сколоченные из мёртвой древесины, что пережили немало людей, сбитых из живучей плоти их жизнелюбивых отцов. Как это он говорил? он всё же пойдёт впереди меня, мой лоцман; и тем не менее я ещё увижу его? Но где? Сохраню ли я мои глаза на дне морском, если мне придётся спуститься вниз по этой бесконечной лестнице? Но ведь я всю ночь уходил от тех мест, где он пошёл на дно. Так-то; как и многие другие, ты говорил ужасную истину там, где дело касалось тебя самого, о парс; но что до Ахава, то здесь ты промахнулся. Прощай, мачта, хорошенько следи за китом, покуда меня нет. Мы ещё потолкуем с тобой завтра, нет, сегодня вечером, когда Белый Кит будет лежать там, у борта, пришвартованный с головы и с хвоста.
Он дал знак и, всё ещё озираясь, соскользнул из голубой расселины неба на палубу.
Вскоре стали спускать вельботы; но уже стоя в своей ладье, Ахав задумался на мгновение и, знаком подозвав к себе старшего помощника, который тянул на палубе лопарь талей, приказал ему задержать спуск.
– Старбек!
– Сэр?
– В третий раз уходит корабль души моей в это плавание, Старбек.
– Да, сэр, такова была ваша воля.
– Иные суда выходят из гавани, и с тех пор никто уже о них ничего не знает, Старбек!
– Истина, сэр, скорбная истина.
– Иные люди умирают во время прилива; другие – когда вода отступает; третьи – в разгар наводнения. А мне кажется сейчас, что я высокий морской вал, весь вспенившийся и свернувшийся белым гребнем, Старбек. Я стар; пожмём друг другу руки, друг.
Их руки встретились; их взоры слились; слёзы Старбека словно склеили их.
– О капитан, мой капитан! благородное сердце! вернитесь! Видите? это плачет храбрый человек; сколь же велика должна быть боль увещевания!
– Спустить вельбот! – вскричал Ахав, отбросив прочь руку помощника. – Команда, готовься!
А через мгновение лодка уже выгребала из-под самой кормы корабля.
– Акулы! Акулы! – раздался вдруг вопль из низкого кормового иллюминатора. – О мой господин, вернись!
Но Ахав ничего не слышал, потому что в эту минуту он сам поднял свой громкий голос; и лодка рванулась вперёд.
А ведь голос из иллюминатора возгласил правду; ибо едва только Ахав отвалил от борта, как множество акул, словно вынырнувших из-под корабельного киля, стали злобно хватать зубами вёсла, всякий раз как их опускали в воду, и так с оскаленными пастями потянулись вслед за лодкой. Подобные вещи нередко случаются с вельботами в этих изобилующих живностью водах, где акулы подчас следуют за ними с тем же упорством предвидения, с каким стервятники парят над знамёнами армий, выступающих в поход за восток. Но это были первые акулы, встретившиеся «Пекоду» с тех пор, как был замечен Белый Кит; и то ли потому, что гребцы Ахава были все азиатами, чья плоть особенно приятно щекотала нюх акулам – что, как известно, нередко бывает, – то ли по другой какой-то причине, но они следовали только за его лодкой, даже и не приближаясь к остальным.
– О сердце из кованой стали! – проговорил Старбек, глядя за борт вослед удаляющейся лодке. – Неужели ты можешь ещё смело звенеть? когда твой киль скользит среди кровожадных акул, что теснятся вслед за тобой, разинув пасти; и это на третий, решающий день погони? Ибо, если три дня сливаются в одном неотступном преследовании, значит, первый день – это утро, второй – полдень, а третий – вечер и, стало быть, конец всему делу, какой бы конец ни был ему уготован. О! Господи! что это пронизывает меня с головы до ног, оставляя мертвенно-спокойным и в то же время полным ожидания? застывшим в дрожи? Будущее проплывает передо мной пустыми очертаниями и остовами; а прошлое словно затянуто дымкой. Мэри, девочка моя! в бледном нимбе исчезаешь ты у меня за спиной; сынок! только глаза твои ещё видны мне. Какие они стали у тебя удивительно синие. Разрешаются сложнейшие загадки жизни; но набегают хмурые тучи и заслоняют всё. Неужели подходит к концу моё плавание? Ноги у меня подкашиваются, будто я целый день шагал без передышки. Надо пощупать твоё сердце – бьётся ещё? Встряхнись, Старбек! Надо предотвратить это… не стой, двигайся! кричи! Эй, на мачтах! Видите, мой сынок машет ручкой с холма?.. Безумец… Эй, наверху! Хорошенько следите за вельботами; замечайте, куда идёт кит!.. Хо! Опять? Отгоните прочь этого ястреба! глядите! Он клюёт… он вырывает мой флюгер, – старший помощник указывал на багряный флаг, реющий над грот-мачтой. – Ха! он взмыл ввысь, он уносит его! Где сейчас капитан?.. Видишь ли ты это, о Ахав? Трепещи! трепещи!
Вельботы не успели ещё отойти далеко от судна, когда по условному жесту дозорных – по опущенной вниз руке – Ахав узнал о том, что кит ушёл под воду; но, стремясь очутиться поближе к нему, когда он снова всплывёт, Ахав направил свою лодку прежним курсом, чуть в стороне от корабля; и гребцы его, точно заколдованные, хранили глубочайшее молчание под рокот волн, которые ударялись с разгона о нос упрямого судёнышка.
– Вбивайте, вбивайте свои гвозди, о волны! По самые шляпки загоняйте их! Всё равно вы заколачиваете то, что не имеет крышки. А у меня не будет ни гроба, ни катафалка; и только пенька может убить меня! Ха! ха!
Вдруг вода вокруг них медленно заходила широкими кругами; потом вспучилась и ринулась вниз, словно скатываясь по склону подводной ледяной горы, внезапно всплывшей на поверхность. Послышался низкий, глухой грохот, точно подземный гул, и у всех перехватило дыхание, ибо огромная туша, обвитая верёвками, увешанная гарпунами и острогами, наискось вылетела из глубины моря. Одетая прозрачной туманной пеленой, она на какую-то долю секунды повисла в радужном воздухе, а затем со страшным всплеском обрушилась на воду. На тридцать футов кверху взметнулись языки волн, точно высокие фонтаны, а потом опали дождём пенных хлопьев, открыв белые, точно парное молоко, круги, расходящиеся от мраморного китового туловища.
– Навались! – вскричал Ахав гребцам, и вельботы стремительно понеслись в атаку; но разъярённый вчерашними гарпунами, что ржавели теперь, впившись ему в бока, Моби Дик был, казалось, одержим всеми ангелами, низринутыми с небес. Широкие полосы узловатых жил, охватывающих его лоб под прозрачной кожей, были словно насуплены, когда головой вперёд он ринулся навстречу лодкам, расшвыривая их своим могучим хвостом. Он выбил у обоих помощников все гарпуны и остроги, выломал спереди доски в бортах их вельботов; но вельбот Ахава почти не получил повреждений.
И вот, когда Дэггу и Квикег пытались заткнуть пробоины, а кит, отплывая прочь, повернулся к ним сходу своим белым боком, громкий вопль вырвался у моряков. Накрепко прикрученный к спине чудовища, распластанный под тугими петлями линя, которые кит намотал на себя за ночь, им открылся наполовину растерзанный труп парса; его чёрное одеяние было изодрано в клочья; его вылезшие из орбит глаза устремлены прямо на Ахава.
Гарпун выпал из рук капитана.
– Одурачен! Одурачен! – вскричал он, с трудом втягивая в лёгкие воздух. – Твоя правда, парс! Я опять вижу тебя. Да, и ты идёшь впереди меня; и вот он, оказывается, тот катафалк, о котором ты говорил! Но я ловлю тебя на последней букве твоего слова. Где же второй катафалк? Назад, Стабб и Фласк, возвращайтесь на корабль, ваши вельботы уже не пригодны для охоты; исправьте их, если сумеете, и тогда придёте мне на помощь; если же нет, довольно будет умереть и одному Ахаву… Назад, мои гребцы! В первого, кто попытается выпрыгнуть из этой лодки, я сразу же всажу гарпун. Вы уже больше не люди, вы мои руки и ноги; и потому подчиняйтесь мне. Где кит? опять ушёл под воду?
Но он искал его слишком близко от вельботов; а Моби Дик между тем, казалось, спешил унести прочь у себя на спине мёртвое тело и, словно считая место их последней встречи лишь пройденным этапом своего пути, опять быстро плыл в подветренную сторону и уже почти поравнялся с кораблём, который всё это время двигался ему навстречу. Он мчался со страшной скоростью своей прямой дорогой, словно ни до чего на свете не было ему больше дела.
– О Ахав! – вскричал Старбек, – ещё и сейчас, на третий день, не поздно остановиться. Взгляни! Моби Дик не ищет встречи с тобой. Это ты, ты в безумии преследуешь его!
Подставив парус под струю крепчавшего ветра, одинокий вельбот ходко бежал по волнам, подгоняемый и вёслами и парусиной. И вот, когда Ахав пролетал мимо корабля так близко, что лицо Старбека, перегнувшегося за борт, было ему отчётливо видно, он крикнул своему помощнику, чтобы тот разворачивал судно и на небольшом расстоянии следовал за ним. Потом, переводя взор выше, он увидел Тэштиго, Квикега и Дэггу, которые торопливо карабкались на верхушки трёх мачт, в то время как гребцы раскачивались в разбитых вельботах, подтянутых вверх по борту «Пекода», и не покладая рук трудились над их починкой. Увидел он также на лету через порты и Стабба с Фласком, занятых на палубе разборкой новых гарпунов и острог. И видя всё это и слыша стук молотков в разбитых шлюпках, он почувствовал, что какие-то другие молотки загоняют гвоздь прямо ему в сердце. Но он овладел собой. И заметив, что с грот-мачты исчез флаг, он крикнул Тэштиго, который в это мгновение добрался доверху, чтобы тот спустился за новым флагом и за молотком с гвоздями и снова прибил флаг к мачте.
То ли утомившись трёхдневной отчаянной гонкой, в которой ему приходилось тащить за собой целый клубок перепутанных верёвок, сильно затруднявший его движение, то ли осуществляя свой злобный и коварный замысел, но только теперь Моби Дик стал, видно, замедлять свой ход, потому что лодка опять быстро к нему приближалась; хотя, конечно, на этот раз расстояние между ними с самого начала было не очень велико. Но по-прежнему Ахав летел по волнам в окружении беспощадных акул, которые так неотступно следовали за вельботом и так упорно впивались зубами в лопасти вёсел, что дерево крошилось и трещало и с каждым погружением оставляло на воде мелкие щепки.
– Пусть грызут! Их зубы только покрывают резьбой наши вёсла. Навались! В акулью пасть ещё лучше упереть весло, чем в податливую воду.
– Но каждый раз у них из пасти весло выходит всё тоньше и тоньше, сэр.
– Ничего, пока что они мне ещё послужат! Навались!.. Но кто знает, – тихо продолжал он, – чьим мясом рассчитывают попировать эти акулы: Моби Дика или Ахава? Навались, навались! Вот так! Ещё немного; мы уже близко. Эй, возьмите руль; пустите меня на нос, – при этих словах двое гребцов, подхватив капитана под руки, помогли ему перебраться на нос быстро летевшего вельбота.
Когда же лодка, чертя бортом по воде, вынеслась вперёд под самый бок Белого Кита, тот – как иногда случается с китами – словно и не заметил её приближения, и Ахава окутало душным облаком горного тумана, который стоял вокруг китовой струи и клубился по крутому склону его огромного, точно Монаднок[330], белого горба; – так близко был от него Ахав, когда, откинувшись всем корпусом назад и взмахнув высоко поднятыми над головой руками, он метнул в ненавистного кита свой яростный клинок и ещё более яростное проклятие. И сталь и проклятие вонзились по рукоятку, словно затянутые трясиной; а Моби Дик вдруг дёрнулся в сторону, судорожно повёл своим возвышающимся боком и, не проделав в лодке ни единой пробоины, с такой внезапностью поднял её на дыбы, что не держись в эту секунду Ахав за планшир, быть бы ему снова вышвырнутым в море. Трое из гребцов – не угадавшие точного момента, когда будет нанесён удар, и потому не успевшие к нему приготовиться – вылетели из вельбота, но так удачно, что мгновение спустя двое уже снова вцепились в борт и, поднятые на гребне накатившей волны, сумели перевалиться обратно в лодку; и только третий матрос остался в воде за кормой.
Почти в ту же секунду, весь – неослабное напряжение молниеносной воли, Белый Кит рванулся прочь по взбаламученной зыби. Но когда Ахав крикнул рулевому, чтобы тот выбрал немного линя и закрепил его; когда он приказал своей команде повернуться на банках лицом вперёд и подтягивать лодку к рыбе – предательский линь напрягся под этим двойным натяжением и лопнул, взвившись высоко в воздух.
– Что это поломалось во мне? Жилы трещат!.. Но нет, всё цело опять! Вёсла! Вёсла на воду! За ним!
Услышав шумное приближение вельбота, рассекающего волны, кит развернулся, чтобы подставить ему свой страшный лоб, но, поворачиваясь, он вдруг заметил чёрный корпус приближающегося судна и, видимо разгадав в нём источник всех своих гонений, признав в нём, быть может, более достойного противника, он внезапно устремился ему навстречу, лязгая челюстями в пламенных потоках пены.
Ахав пошатнулся, рука его взметнулась к лицу.
– Я слепну, руки мои! протянитесь передо мною, чтобы я мог ощупью искать свой путь. Может быть, ночь наступила?
– Кит! Корабль! – в ужасе вопили гребцы.
– Вёсла! Вёсла! Выгнись откосом до самых глубин, о море! чтобы, покуда ещё не поздно, Ахав мог в последний, самый последний раз соскользнуть по нему к своей цели! Вижу! корабль! Корабль! Вперёд, мои люди! Неужели вы не спасёте мой корабль?
Но когда лодка рванулась вразрез бьющим кувалдам валов, треснувшие доски на её носу проломились, и в следующее мгновение она уже погрузилась в волны по самые борта, и матросы по колено в воде начали метаться, пытаясь чем попало заткнуть пробоину и вычерпать хлынувшее через неё море.
В этот миг замер на грот-мачте молоток Тэштиго; и багряный флаг, перекинувшийся ему через плечо, наподобие плаща, вдруг вырвался и заструился по воздуху прямо перед ним, точно самое его стремящееся вперёд сердце; а Старбек и Стабб, стоявшие внизу на бушприте, одновременно с индейцем заметили мчащегося на корабль зверя.
– Кит! Кит! Руль на борт! Руль на борт! О вы, сладостные стихии воздуха, поддержите меня теперь! Пусть Старбек встретит смерть, если смерть ему суждена, по-мужски, в твёрдом сознании. Руль на борт, говорю я! Глупцы, разве вы не видите этой пасти? Неужели вот он, плод всех моих жарких молитв? Плод всей моей верной жизни? О Ахав, Ахав, взгляни на дело рук твоих. Так держать, рулевой, так держать. Нет, нет! На борт! Снова на борт! Он разворачивается, чтобы кинуться на нас! О, его неумолимый лоб надвигается прямо на человека, которому долг не позволяет покинуть поле битвы. Пребуди же со мною, господи!
– Пребуди не со мною, а подо мною, кто бы ни был, кому вздумается помочь теперь Стаббу, ибо Стабб тоже не намерен отступаться. Я насмехаюсь над тобой, ты, ухмыляющийся кит! Кто когда поддерживал Стабба, кто не давал Стаббу уснуть, если не его собственное недремлющее око? А теперь бедняга Стабб укладывается спать на матрасе, который для него чересчур мягок; эх, лучше бы уж он был набит хворостом! Я насмехаюсь над тобой, ты, ухмыляющийся кит! Взгляните, солнце, звёзды и луна. Вы – убийцы превосходнейшего парня, не хуже любого, кому когда-либо приходилось испускать дух. И всё же я бы ещё чокнулся с вами, если бы только вы протянули мне кубок! О! о! ты, ухмыляющийся кит, скоро нам предстоит как следует нахлебаться! Почему ты не спасаешься бегством, Ахав? Что до меня, то долой башмаки и куртку к ним в придачу; пусть Стабб умирает в одних штанах! До чего же, однако, плесневелая и пересоленная эта смерть… Эх, вишни, вишни! О Фласк, отведать бы нам хоть по одной вишенке перед смертью!
– Вишни? Неплохо было бы, если бы мы очутились сейчас там, где они растут. Ох, Стабб, я надеюсь, моя бедная матушка успела получить хотя бы моё жалованье; если же нет, то теперь ей достанется лишь несколько медяков.
Почти все матросы, как они оторвались от своих разнообразных занятий, так и стояли теперь, праздно столпившись на носу и ещё держа в руках бесполезные молотки, обрезки досок, остроги и гарпуны. Все взоры, точно прикованные, устремлены были на кита, который мчался им навстречу, зловеще потрясая своей погибельной головой и посылая перед собой широкий полукруг разлетающейся пены. Расплата, скорое возмездие, извечная злоба были в его облике; наперекор всему, что бы ни попытался предпринять смертный человек, глухая белая стена его лба обрушилась с правого борта на нос корабля, так что задрожали и люди и мачты. Многие упали ничком на палубу. Головы гарпунёров вверху дёрнулись у них на бычьих шеях, будто выбитые клотики на мачтах. И все услышали, как хлынула в пробоину вода, точно горный поток по глубокому ущелью.
– Корабль! Катафалк!.. Второй катафалк! – воскликнул Ахав, стоя в своём вельботе, – и сколоченный только из американской древесины!
А кит нырнул под осевший корпус судна и проплыл вдоль содрогнувшегося киля; затем, развернувшись под водой, снова вылетел на поверхность, но уже с другой стороны, в отдалении, и, очутившись в нескольких ярдах от лодки Ахава, на какое-то время в неподвижности замер на волнах.
– Я отвращаю тело моё от солнца. Э-гей! Тэштиго! что же я не слышу, как стучит твой молоток? О вы, мои три непокорённые башни; ты, крепкий киль! корпус, не устоявший лишь под божьим ударом! ты, прочная палуба, и упрямый штурвал, и нос, устремлённый к Полюсу; о мой славный корабль, осиянный смертью! Неужели ты должен погибнуть, и погибнуть без меня? Неужели я лишён последнего капитанского утешения, доступного самым жалким неудачникам? О одинокая смерть в конце одинокой жизни! теперь я чувствую, что всё моё величие в моём глубочайшем страдании. Э-ге-гей! из дальней дали катитесь теперь сюда, вы, буйные валы моей минувшей жизни, и громоздитесь, перекрывая вздыбленный, пенный вал моей смерти! Прямо навстречу тебе плыву я, о всё сокрушающий, но не всё одолевающий кит; до последнего бьюсь я с тобой; из самой глубины преисподней наношу тебе удар; во имя ненависти изрыгаю я на тебя моё последнее дыхание. Пусть все гробы и все катафалки потонут в одном омуте! уже если ни один из них не достанется мне, пусть тогда я буду разорван на куски, всё ещё преследуя тебя, хоть и прикованный к тебе, о проклятый кит! Вот так бросаю я оружие!
Просвистел в воздухе гарпун; подбитый кит рванулся; линь побежал в жёлобе с воспламеняющей скоростью – и зацепился. Ахав наклонился, чтобы освободить его; он его освободил; но скользящая петля успела обвить его вокруг шеи; и беззвучно, как удавливают тетивой свою жертву турки в серале, его унесло из вельбота, прежде чем команда успела хватиться своего капитана. А мгновение спустя толстый огон на свободном конце линя вылетел из опустевшей кадки, сбил с ног одного гребца и, хлестнув по воде, исчез в бездонной пучине.
На секунду команда вельбота застыла в оцепенении; затем все обернулись. «Корабль! Великий боже, где корабль?» И вот сквозь мглистую, зловещую пелену они увидели вытянутый призрак судна, исчезающего, словно туманная фата-моргана; одни только мачты торчали ещё над водою; а на них, пригвождённые безумием, преданностью или же судьбою, всё ещё стояли дозором трое язычников гарпунёров. В это мгновение концентрические круги достигли последнего вельбота, и он, вместе со всей командой, с плавающими поблизости вёслами и рукоятками острог, со всем, что ни было на нём одушевлённого и неодушевлённого, закрутился, завертелся в огромной воронке, в которой скрылось до последней щепки всё, что было некогда «Пекодом».
Но когда волны уже заплескали, смыкаясь над головой индейца, стоявшего на грот-мачте, от которой виднелось теперь над водой только несколько дюймов вместе с длинным развевающимся флагом, что спокойно, словно в насмешку, колыхался в лад со смертоносными валами, едва не касаясь их, – в это мгновение в воздух поднялась краснокожая рука с молотком и размахнулась, ещё прочнее прибивая флаг к быстро погружающейся стеньге. Ястреб, который со злорадством провожал последний клотик вниз от самого его исконного жилища среди звёзд, клюя флаг и мешая Тэштиго, нечаянно просунул своё широкое трепещущее крыло между стеньгой и молотком; и в этот миг, словно почувствовав трепет воздуха над собой, с последним вздохом дикарь из-под воды крепко прижал молоток к стеньге; и птица небесная, с архангельским криком вытянув ввысь свой царственный клюв и запутавшись пленным телом во флаге Ахава, скрылась под водой вместе с его кораблём, что, подобно свергнутому Сатане, унёс с собой в преисподнюю вместо шлема живую частицу неба.
Птицы с криком закружились над зияющим жерлом водоворота; угрюмый белый бурун ударил в его крутые стены; потом воронка сгладилась; и вот уже бесконечный саван моря снова колыхался кругом, как и пять тысяч лет тому назад.
ЭПИЛОГ
И спасся только я один,
чтобы возвестить тебе.
Иов
ДРАМА СЫГРАНА. Почему же кто-то опять выходит к рампе? Потому что один человек всё-таки остался жив.
Случилось так, что после исчезновения парса я оказался тем, кому Судьбы предназначили занять место загребного в лодке Ахава; и я же был тем, кто, вылетев вместе с двумя другими гребцами из накренившегося вельбота, остался в воде за кормой. И вот когда я плавал поблизости, в виду последовавшей ужасной сцены, меня настигла уже ослабевшая всасывающая сила, исходившая оттуда, где затонул корабль, и медленно потащила к выравнивавшейся воронке. Когда я достиг её, она уже превратилась в пенный гладкий омут. И словно новый Иксион[331], я стал вращаться, описывая круг за кругом, которые всё ближе и ближе сходились к чёрному пузырьку на оси этого медленно кружащегося колеса. Наконец я очутился в самой центральной точке, и тут чёрный пузырёк вдруг лопнул; вместо него из глубины, освобождённый толчком спусковой пружины, со страшной силой вырвался благодаря своей большой плавучести спасательный буй, он же – гроб, перевернулся в воздухе и упал подле меня. И на этом гробе я целый день и целую ночь проплавал в открытом море, покачиваясь на лёгкой панихидной зыби. Акулы, не причиняя вреда, скользили мимо, словно у каждой на пасти болтался висячий замок; кровожадные морские ястребы парили, будто всунув клювы в ножны. На второй день вдали показался парус, стал расти, приближаться, и наконец меня подобрал чужой корабль. То была неутешная «Рахиль», которая, блуждая в поисках своих пропавших детей, нашла только ещё одного сироту.
Словарь морских терминов
Названия мачт судна, начиная с носа: фок-мачта, грот-мачта и бизань-мачта. Каждая мачта состоит из четырёх частей: собственно мачта (нижняя часть), стеньга (второй ярус мачты), брам-стеньга (третий ярус) и бом-брам-стеньга (четвёртый ярус).
Части мачты разделены площадками – салингами, которые называются (снизу вверх): марсом, салингом, брам-салингом и салингом бом-брам-стеньги.
Паруса располагаются на реях в четыре яруса: нижний ярус составляют паруса, называемые по мачте – фок-парус, грот-парус, бизань-парус; второй ярус представлен парусами, имеющими название «марсель» (фор-марсель, грот-марсель, крюйс-марсель); третий ярус состоит из парусов, называемых брамселями (фор-брамсель, грот-брамсель, крюйс-брамсель); четвёртый ярус составляют паруса бом-брамсель (фор-бомбрамсель, грот-бомбрамсель, крюйс-бомбрамсель).
Паруса управляются с помощь шкотов и фалов, которые называются по типу своего паруса: например бом-брамфалы управляют бом-брамселями, т. е. парусами четвёртого яруса.
Помимо прямых парусов имеются также косые, которые крепятся к реям, называемым гафелями (вверху) и гиками (внизу). Косые паруса на носу судна называются кливерами, а кормовой парус – контрбизанью. Косые паруса между мачтами называются стакселями.
Бак – носовая часть палубы от форштевня до фок-мачты.
Бакштаг – 1) курс корабля, который с направлением попутного ветра образует угол более девяноста и менее ста восьмидесяти градусов; 2) снасть стоячего такелажа для укрепления с боков рангоутных деревьев. (В романе – второе значение.)
Банка – 1) мель в море среди глубокого места; 2) поперечная доска в шлюпке, служащая сиденьем для гребцов.
Барка – плоскодонное деревянное судно.
Бегучая снасть, бегучий такелаж – подвижные снасти для постановки и уборки парусов, подъёма и спуска тяжестей и т. д.
Бейдевинд – курс корабля, когда угол между направлением судна и встречным ветром менее девяноста градусов.
Бизань – 1) слово, прибавляемое к названиям деталей рангоута и такелажа или парусов, указывающее на их принадлежность к бизань-мачте; 2) нижний косой четырёхугольный парус, ставящийся на бизань-мачте.
Бизань-мачта – кормовая, обычно самая малая мачта на судах, имеющих три и более мачт.
Бимс – поперечное крепление, связывающее бортовые ветви шпангоутов и придающее судну поперечную прочность. На бимсы настилается палуба.
Бом – составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих бом-брам-стеньге.
Бот – одномачтовое судно. На лоцманском боте лоцман выходит в море для встречи судов.
Брам – составная часть названий всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих брам-стеньге.
Брам-рей – третий снизу рей.
Брам-стеньга – рангоутное дерево, служащее продолжением вверх стеньги.
Брамсель – парус третьего яруса.
Брандспойт – переносная пожарная помпа, употребляемая на судах помимо своего прямого назначения и для других надобностей: скачивания палубы и каната, мытья бортов, обливания матросов в жарких странах и пр.
Брас – снасть бегучего такелажа, прикреплённая к нокам реев и служащая для поворота реев вместе с парусами в горизонтальной плоскости.
Брасопить (обрасопить) реи – поворачивать их с помощью брасов. При попутном ветре реи становятся поперёк судна; при ветре, дующем под углом к курсу судна, – наискось, а иногда и вдоль судна.
Брать рифы – убавить парус, зарифить его (см. «Рифы»).
Бриг – двухмачтовое парусное судно с прямыми парусами.
Буй – плавучий знак в виде цилиндрического поплавка с ажурной надстройкой, устанавливаемой на якоре.
Буйреп, буйреп-трос – снасть от якорного буйка.
Булинь – снасть для оттяжки шкаторины (края) паруса к ветру.
Бушлат – род верхней одежды матросов, форменная двубортная чёрная куртка на тёплой подкладке.
Бушприт (бугшприт) – горизонтальное или наклонное дерево, выдающееся с носа судна. Служит для постановки косых треугольных парусов – кливеров впереди фок-мачты.
Валёк – утолщённая часть вёсла.
Ванты – снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков мачты, стеньги и брам-стеньги.
Ватерлиния – грузовая черта, по которую судно углубляется в воду.
Вахта – вид дежурства на судне, для несения которого выделяется часть личного состава. Вахтами называются также определённые промежутки времени суток, в течение которых несётся эта служба одной сменой. Обычно сутки делятся на пять вахт: 1) с полудня до 6 часов вечера; 2) с 6 часов вечера до полуночи; 3) с полуночи до 4 часов утра; 4) с 4 часов до 8 часов утра; 5) с 8 часов утра до полудня.
Вельбот – лёгкая быстроходная шлюпка с острым носом и кормой на пять – шесть распашных вёсел.
Вымбовка – деревянный рычаг, вставляемый в шпиль для вращения его вручную.
Вымпел – длинный узкий флаг с косицами, поднимаемый на брам-стеньге; поднимается на кораблях с начала кампании и спускается с окончанием её.
Гак – железный или стальной крюк, употребляемый на судах.
Гакаборт – верхняя закруглённая часть кормовой оконечности судна.
Галиот – небольшое парусное острокильное двухмачтовое судно с круглой кормой и косым вооружением.
Галс (курс корабля относительно ветра). – Если ветер дует с левой стороны, то говорят, что судно идёт левым галсом; если же с правой, то – правым галсом. Лечь на другой галс – повернуть так, чтобы ветер, дувший, например, в правую сторону судна, стал дуть в его левую сторону. Сделать галс – пройти одним галсом, не поворачивая.
Гик – горизонтальное рангоутное дерево, по которому растягивается нижняя шкаторина (край) триселя или бизани.
Гитовы – снасти для подтягивания нижней кромки паруса к верхней. Взять на гитовы – подобрать парус гитовами.
Гордень – снасть, проходящая через неподвижный одношкивный блок и служащая для подъёма грузов и уборки парусов; даёт тяге удобное направление без выигрыша в силе.
Грот – 1) нижний прямой парус на грот-мачте; 2) составная часть названий парусов, рангоута и такелажа, расположенных выше марса грот-мачты.
Грот-марс – марс на грот-мачте.
Грот мачта – вторая мачта, считая с носа.
Грот-руслень – площадка снаружи борта судна на высоте палубы; к русленям крепятся ванты.
Грота – составная часть названий парусов, рангоута и такелажа, расположенных ниже марса грот-мачты.
Загребной – гребец, сидящий на шлюпке первыми от кормы; по нему равняются все остальные.
Зюйдвестка – непромокаемая шляпа с большими полями.
Каболка – пеньковая нить; составная часть всякого троса, свитая из волокон пеньки по солнцу.
Каботажное судно – судно, осуществляющее перевозки вдоль берега.
Картушка (на компасе) – бумажный или слюдяной круг, соединённый с магнитной стрелкой. Круг разделён на 32 деления, называемых румбами, и на градусы. Каждое деление, кроме того, разделяется на четыре части (на четверти румба).
Кают-компания – большая каюта для общего пользования командного состава.
Квадрант – старинный угломерный астрономический инструмент для измерения высоты небесных светил над горизонтом и угловых расстояний между светилами. Лимб квадранта составляет 1/4 часть окружности.
Кильватер – 1) струя сзади судна, образующаяся при его ходе; 2) строй, когда корабли идут один за другим.
Кильсон – продольный брус, накладываемый поверх шпангоутов и обеспечивающий связь между ними и продольную крепость судна. Обычно расположен над килем.
Кливер – косой треугольный парус на носу корабля или шлюпки.
Клотик – деревянный точёный толстый кружок или сплюснутый сверху и снизу шар, надевающийся на топ (верх) мачты или стеньги. Имеет шкивы для флага-фалов – снастей, поднимающих флаги.
Клюз – сквозное отверстие в борту, служащее для пропускания тросов и якорных канатов.
Кок – корабельный повар.
Коммодор – в США – офицер самого высокого ранга в американском флоте середины XIX века. Тогда в Америке ещё не было звания адмирала.
Корвет – трехмачтовое военное судно с открытой батареей. Носил ту же парусность, что и фрегат, имел 20—30 орудий, предназначался для разведок и посылок, а иногда и для крейсерских операций.
Кофель-нагель – металлический или деревянный болт, служащий для навёртывания на него снастей.
Кранец (кранцы) – мешок, набитый паклей и оплетённый тонким тросом, вывешиваемый за борт судна для предохранения от повреждения при подходе к другому судну, пристани и т. п.
Краспица – поперечный брус (относительно продольных).
Крюйс, крюйсельный – составная часть наименований всех парусов, рангоута и такелажа, принадлежащих к бизань-мачте.
Кубрик – самая нижняя жилая палуба на корабле; ниже её идёт трюм.
Купор – корабельный бочар.
Лаг – инструмент, имеющий вид сектора; служит для измерения пройденного расстояния. Устройство его основано на том, что при равномерном ходе по расстоянию, пройденному кораблём в минуту или в пол-, четверть минуты, можно судить о расстоянии, проходимом в час.
Лаг-линь (лаглинь) – линь, который привязывается к лагу.
Лагун – бак с кранами для питьевой воды.
Лебеза – инструмент для забивания конопатки в пазы.
Левентик (привести в левентик) – положение парусов по направлению ветра так, чтобы они полоскали.
Леер – туго натянутый трос, служащий для ограждения открытых мест; также прикрепляется к реям, для того чтобы привязывать к ним прямые паруса.
Линейный корабль – трехмачтовое военное судно, несущее от 80 до 120 пушек и предназначенное для боя в кильватерном строю.
Линь – тонкий пеньковый трос, менее 25 мм толщиной.
Лисель – дополнительный парус, который ставится сбоку прямых парусов на фок– и грот-мачтах при попутном ветре.
Лопарь (лопарь талей) – трос или конец, продёрнутый в блоки и образующий с ними тали.
Лот – прибор для измерения глубины воды с судна; в старину линь с грузом.
Лот-линь (лотлинь) – тонкий трос, к которому прикреплён лот.
Марлинь – линь, спущенный (свитый) из двух нитей.
Марс – площадка на мачте в месте соединения её со стеньгой; служит для разноски стень-вант, а также для работ по управлению парусами.
Марса – приставка, означающая принадлежность следующего за ней понятия к марселю или марса-рею.
Марса-рей – второй снизу рей, к которому привязывается марсель.
Марсафал (марса-фал) – снасть, которой поднимается марсель.
Марсель – второй снизу прямой парус, ставящийся между марса-реем и нижним реем.
Марсовой – работающий по расписанию на марсе.
Мушкель – деревянный молоток, применяемый при такелажных работах.
Нагель – болт с продолговатой фигурной головкой.
Найтов – перевязка тросом двух или более рангоутных деревьев или других предметов, а также соединение двух толстых тросов одним тонким.
Найтовить – связывать верёвкой, делать найтов.
Нактоуз – деревянный шкапчик, на котором установлен компас.
Нок – оконечность всякого горизонтального или почти горизонтального рангоутного дерева.
Обстенить паруса – положить паруса на стеньгу, т. е. поставить их так, чтобы ветер дул в переднюю их сторону и нажимал их на стеньги, дабы дать судну задний ход.
Огон – обнос снасти вокруг чего-либо петлёй.
Острога – копьё, которым бьют китов и крупных рыб.
Отваливать – отойти на судне или шлюпке от пристани или от борта судна.
Пакетбот – небольшое морское почтово-пассажирское судно.
Пассат – ветер с постоянным направлением, дующий от субтропической области к экватору. Сохраняет своё направление в течение целого года.
Перлинь – корабельный пеньковый трос толщиной от 100 до 150 мм по окружности.
Перты – верёвки под реями, служащие упором для ног при креплении парусов.
Планшир, планширь – 1) деревянные или металлические перила поверх судового леерного ограждения или фальшборта; 2) деревянный брус с гнёздами для уключин, идущий по бортам шлюпки и покрывающий верхние концы шпангоутов.
Подветренная сторона, подветра. – Если судно идёт правым галсом, то левая его сторона называется подветренной и обратно. Подветренный борт – противоположный тому, на который дует ветер.
Полубак – надстройка в носовой части палубы, идущая от форштевня.
Привести к ветру – взять курс относительно ветра, ближе к ветру, ближе к линии бейдевинда.
Рангоут – общее название всех деревянных приспособлений для несения парусов.
Рифы (брать рифы; зарифленный) – горизонтальный ряд продетых сквозь парус завязок, посредством которых можно уменьшить его поверхность.
Румб – 1) единица угловой меры, равная 1/32 окружности; 2) направление (от наблюдателя) на любой предмет или точку горизонта и угол между направлением любой из этих линий и меридианом, на котором находится наблюдатель.
Румпель – рычаг для поворачивания руля.
Руслень – площадка снаружи борта судна, на высоте верхней палубы; служит для отвода винта.
Рым – железное кольцо, вбиваемое в разных местах судна для закрепления за него снастей.
Рында, бить рынду – условный сигнал, который бьют в судовой колокол (рынду) во время тумана.
Рыскать – вилять то в одну, то в другую сторону.
Салинг – площадка на мачте в местах крепления рей.
Свайка – инструмент, заострённый на конце. Железная свайка используется для отделения прядей троса; деревянная применяется при шитьё парусов.
Свистать («Свистать всех наверх!»). – Команда на судах вызывается наверх свистком в дудки; таким же свистком сопровождается всякая работа.
Склянки – на флоте удары в колокол через получасовой промежуток времени; счёт начинается с полудня: 12.30 – один удар, 13.00 – два удара и т. д. до восьми, когда счёт начинается сначала. Название произошло от склянки песочных часов.
Слани – доски настила на дне шлюпки.
«Собачья вахта», «собака» – жаргон: полувахты от 16 до 18 и от 18 до 20. Полувахты были созданы для того, чтобы одно и то же лицо не стояло вахту в одно и то же время.
Сплеснитъ (сплеснивать) – соединить без узла два конца вместе, пропуская пряди одного в пряди другого.
Стаксель – косой парус, поднимаемый по лееру.
Стеньга – дерево, служащее продолжением мачты. Брам-стеньга – дерево, служащее продолжением стеньги.
Табанить («Табань!») – двигать вёсла в обратную сторону.
Такелаж – все снасти на судне. Делится на стоячий, который поддерживает рангоутное дерево, и бегучий, который служит для подъёма и разворачивания рангоутных деревьев с привязанными к ним парусами.
Тали – система тросов и блоков для подъёма тяжестей и натягивания снастей.
Тимберс – деревянный шпангоут.
Топ – верх, вершина вертикального рангоутного дерева, например мачты, стеньги.
Топенанты – снасти бегучего такелажа, служащие для поддержания рей, выстрелов.
Топ-краспицы – тонкие параллельные бруски на верхушке грот-мачты. На китобойце служат для стояния дозорного.
Траверз – направление, перпендикулярное к курсу судна. «Быть на траверзе» – быть на линии, перпендикулярной к судну.
Травить, вытравить – здесь: ослаблять, перепускать снасть.
Транец – плоский срез кормы шлюпки, яхты или другого судна.
Трисель – косой четырёхугольный парус, ставящийся позади мачты в дополнение к прямым парусам.
Трос – общее название всякой верёвки на корабле; толщина его измеряется по окружности.
Фал – снасть бегучего такелажа, служащая для подъёма на судах реев, парусов, сигнальных флагов и пр.
Фальшборт – обшивка борта судна выше верхней палубы.
Фок – самый нижний парус на передней фок-мачте.
Фок-мачта – первая, считая с носа, мачта.
Фор – слово, прибавляемое к наименованиям реев, парусов и такелажа, находящихся выше марса фок-мачты.
Фор-марс – марс на фок-мачте.
Фор-марсель – парус второго яруса на фок-мачте.
Форштевень – продолжение киля судна спереди, образующее нос корабля.
Фрегат – трехмачтовое парусное военное судно, имевшее одну закрытую батарею.
Шаланда – небольшое грузовое судно.
Швартов – канат для прикрепления судна к пристани, к другому судну и т. д.
Шканцы – часть верхней палубы от грот– до бизань-мачты или до начала кормовой части (юта).
Шкафут – средняя часть верхней палубы от фок-мачты до грот-мачты.
Шкив – колёсико в блоке с желобком для троса.
Шкипер – старое название капитана грузового судна.
Шкот – снасть бегучего такелажа, служащая для управления парусами или их растягивания по гику и рею.
Шлюп – судно больше брига, но меньше корвета.
Шлюпбалка – выдающаяся за борт судна балка для подъёма и спуска на воду шлюпок. Обычно устанавливаются две шлюпбалки – носовая и кормовая.
Шпангоуты – рёбра судна, к которым крепится обшивка. Придают судну поперечную крепость.
Шпигат – сквозное отверстие в борту или палубе судна для стока воды.
Шпиль – ворот в виде барабана, вращаемого на вертикальной оси. Применяется на судах для подъёма якоря, для тяги рыболовных сетей и других целей.
Штаг – снасть стоячего такелажа, поддерживающая рангоутные деревья – мачты, стеньги, бушприт и т. д. – спереди в диаметральной плоскости.
Штерт – тонкий короткий тросовый конец.
Шторм-трап (штормтрап) – верёвочный трап, свешиваемый за кормой судна.
Шхуна – парусное судно, имеющее не менее двух мачт и несущее на всех мачтах косые паруса.
Ют – кормовая часть верхней палубы, сзади бизань-мачты.
Перевод английских мер в метрические
Акр – 0,405 га
Арпан – 307,71 га.
Дюйм – 2,54 см
Фут – 0,305 м
Ярд – 0,915 м
Сажень морская – 1,83 м
Миля морская – 1,85 км
Лига морская – 5,56 км.
Унция – 29,8 г
Фунт – 453,6 г
Пинта – 0,568 л
Кварта американская – 0,946 л
Галлон – 4,55 л
Баррель («бочка») – мера вместимости и объёма жидких и сыпучих тел в различных странах – от 115 до 164 л.
Герман Мелвилл и его «Моби Дик»
Книга американского писателя Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит» принадлежит к наиболее выдающимся и удивительным произведениям романтической литературы XIX века. Перевернув последнюю страницу «Моби Дика», редкий читатель не призадумается, поражённый скорбью, страстью, яростной энергией, вложенной в это полуреальное, полуфантастическое повествование об охоте на Белого Кита. Разгадка глубокого впечатления, которое производит книга, в том, что битва капитана Ахава с Белым Китом связана по замыслу автора с коренными интересами человеческой жизни в целом. Погоня за Белым Китом в «Моби Дике» имеет все черты доподлинной морской охоты; она написана профессионалом-китобоем и великим маринистом, знатоком и певцом моря. В то же время, это – поединок человеческого интеллекта и воли с олицетворёнными в романтическом символе злыми и косными силами, препятствующими людям в их поисках истины и справедливости. Разделять и рассматривать порознь две стороны, два плана книги – реальное повествование и романтическую символику – трудно, а порою и невозможно; они спаяны единым поэтическим замыслом.
Герман Мелвилл родился в 1819 году в Нью-Йорке, в семье состоятельного коммерсанта. Когда Мелвиллу было двенадцать лет, его отец обанкротился и вскоре умер; благосостояние семьи рухнуло. В пятнадцать лет будущий писатель перестал посещать школу и, прослужив некоторое время клерком в банке, ушёл юнгой на корабле, отправлявшемся в Англию. Море очаровало его. Вернувшись в США, он перепробовал несколько профессий, не привязался ни к одной и в январе 1841 года ушёл снова в море, завербовавшись матросом на китобойное судно «Акушнет». После полуторагодичного плавания Мелвилл, воспользовавшись стоянкой китобойца у Маркизских островов, бежал на берег и прожил несколько месяцев среди полинезийских племён; затем он продолжил плавание на австралийском китобойном судне «Люси-Энн». На «Люси-Энн» он принял участие в бунте команды; бунтовщиков ссадили на Таити, где Мелвилл провёл целый год с небольшим перерывом, в течение которого он совершил новый китобойный рейс. После этого он поступил матросом на американский военный корабль «Соединённые Штаты» и, проплавав ещё год, осенью 1844 года возвратился на родину. Странствия Мелвилла продолжались четыре года. Он уехал мечтательным молодым горожанином, смутно недовольным окружающей действительностью, а вернулся бывалым моряком и путешественником, составившим себе мнение по многим важным вопросам современной жизни.
Молодой Мелвилл был матросом и китобоем, не отстававшим ни в силе ни в морской сноровке от своих сотоварищей, но он был особенным матросом и китобоем. В 35 главе «Моби Дика» Мелвилл иронически предупреждает капитанов и судовладельцев, чтобы они не брали в матросы бледных юношей с высоким лбом и запавшими глазами, которые идут в плавание не с мореходными правилами, а с платоновскими диалогами в голове, новейших Чайльд Гарольдов. Молодой моряк был начитан не хуже любого «книжного червя», проводящего свои дни в городской библиотеке, и жил литературными интересами современности. Вернувшись домой, Мелвилл немедленно обратился к литературной деятельности. В 1846 году он выпустил свою первую книгу «Тайпи», в которой рассказал о своей жизни у полинезийцев на Маркизских островах; в 1847 вышла вторая повесть – «Ому», посвящённая пребыванию Мелвилла на Таити. В обеих книгах он сравнивает жизнь отсталых племён с жизнью и обычаями цивилизованного общества по большей части к невыгоде для буржуазной цивилизации. В 1849 году Мелвилл выпускает две книги. В одной из них – «Рэдберн» – он рассказывает о своём первом морском рейсе; «Марди» начинается тоже как морское путешествие, но затем переходит в социально-фантастическую аллегорию и политическую сатиру. Жанр автобиографического повествования-хроники более не удовлетворяет Мелвилла, и он ищет новой, более драматичной и обобщённой формы художественного выражения.
Вышедшие книги дали Мелвиллу некоторую литературную известность в США. В 1849 году, совершив поездку в Европу, он убедился, что его книги читаются и в Англии. В это время у Мелвилла созревает замысел «Моби Дика», в котором он хочет соединить авантюрно-морскую тематику с мотивами социального и морального протеста. Вернувшись из Европы, он пишет завершающую его морской автобиографический цикл «Белую куртку», в которой обличает бесчеловечный режим, господствующий в американском военном флоте, а затем покидает Нью-Йорк и, уединившись с семьёй в деревенском домике в Питтсфильде, полностью уходит в работу над «Моби Диком». Работа над «Моби Диком» потребовала от Мелвилла огромного напряжения творческих сил. Книга вышла в свет в 1851 году.
С выходом «Моби Дика» в литературной и личной судьбе Мелвилла произошёл резкий перелом, весьма характерный для господствовавшего в США пренебрежения к духовной культуре вообще и к литературе в частности. «Моби Дик» не был принят литературной критикой и не получил успеха у читателей. От Мелвилла отвернулись. Мелвилл жил в Питтсфильде до 1863 года, продолжая писать и борясь с нуждой. Несколько книг, выпущенных им за эти годы, не восстановили его литературной репутации. В 1886 году, побуждаемый всё возраставшими материальными невзгодами, он поступил на службу в нью-йоркскую таможню. Оставшуюся часть своей жизни этот великий американский писатель прожил никому не известным таможенным чиновником. Когда Мелвилл умер в 1891 году, то был уже настолько забыт, что автор короткого некролога в «Нью-Йорк таймс» не сумел правильно написать его имя.
В силу многих экономических и социальных причин, определивших развитие американской культуры в XIX веке, американская литература не имела своего Бальзака, который произвёл бы со скальпелем в руке анатомическое изучение буржуазного общества в США.
К середине столетия, когда такие коренные проблемы современной жизни, как углубляющееся классовое деление общества, эксплуатация неимущих, возрастающая власть капитала, привлекали к себе пристальное внимание английской, французской, русской литературы, американские писатели в подавляющем большинстве либо вовсе не видели противоречий капитализма, либо касались их неохотно, с большой робостью.
Реалистический социальный роман был слабо развит в США, не играл сколько-нибудь серьёзной общественной роли, на авансцене американской литературы господствовали романтики.
Десятки и сотни страниц в «Моби Дике» посвящены детальной классификации китов в Атлантическом и Тихом океанах, из которой Мелвилл полушутя, полувсерьез, извлекает некоторые социальные и моральные выводы, касающиеся жизни человека в современном мире. Однако он решительно не в силах дать даже самой приблизительной классификации китов и акул американского капитализма на Уолл-стрите и на Бродвее, из которой, без сомнения, сумел бы извлечь гораздо более существенные выводы по волнующему его вопросу.
И тем не менее, оставаясь в пределах морально-философских рассуждений и полуфантастических образов, Мелвилл во всех своих произведениях неустанно возвращается к социальному вопросу; основная, владеющая им моральная идея, это – отвращение ко всяческому социальному злу, жажда равенства и справедливости в отношениях человека к человеку.
Мелвилл не разделял предрассудков и иллюзий своих соотечественников по многим важнейшим социально-политическим вопросам.
В то время как большинство американцев считало буржуазную демократию в США непревзойдённым идеалом, Мелвилл видел в американской жизни тяжкие пороки и уже в своих первых книгах заявил, что полинезийские племена во многих отношениях счастливее граждан американской республики; что наблюдения над их жизнью позволили ему составить более оптимистическое представление о человеке, нежели всё, что он видел до сил пор у себя на родине.
Мелвилл не поклонялся буржуазной собственности и с большим увлечением рисовал «добрые нравы» племени тайпи, не знающего собственности на землю и плоды земли. В нарисованном им утопическом государстве Сирении в «Марди» не допускается, чтобы кто-нибудь из граждан голодал в то время как другие пируют. К американским плутократам Мелвилл испытывал сильнейшее отвращение и рекомендовал (в «Рэдберне») использовать череп капиталиста, как копилку, со щелью между зубами для опускания монет. Капиталистическое производство он считал отягчённой формой рабства и оставил незабываемую картину бесчеловечной эксплуатации женского труда на фабриках в Новой Англии.
Мелвилл высоко ценил, а кое в чём даже излишне переоценивал демократические завоевания американского народа, но он возражал против лицемерного замалчивания тёмных пятен американской жизни. Когда путешественники в «Марди» приезжают в государство «Вивенца» (Соединённые Штаты), жители Вивенцы встречают их взрывом бахвальства: «Да видели ли вы когда-либо подобную страну? Столь обширную и славную республику? Поглядите, какого мы все высокого роста! А ну, пощупайте-ка наши мускулы! Скажите теперь, разве мы не замечательный народ! Поглядите, какие у нас бороды!.. Поклянитесь, что другой такой страны нет на свете!..» Жители Вивенцы приглашают путешественников посетить Великий Храм Свободы, символ вольности их страны: «На башне храма был флагшток; когда мы подошли поближе, то увидели, как человек в ошейнике и с красными полосами рубцов на спине поднимал на флагштоке знамя; на знамени тоже были полосы». Мелвилл напоминает здесь своим соотечественникам о позорящем их страну рабовладении.
Мелвилл считал, что провозглашённые в американской конституции права на «свободу, равенство и стремление к счастью» должны быть обеспечены каждому, вне зависимости от его имущественного положения, расы и национальности. «Для меня вор, сидящий в тюрьме, не менее почтенен, чем генерал Джордж Вашингтон», – с вызовом писал он в годы создания «Моби Дика» своему другу, американскому писателю Готорну. Однако, по мере того как выяснялась неосуществимость его требований, Мелвилл всё более склонялся к скептическому и горькому взгляду на жизнь. Первые признаки пессимизма Мелвилла, его трагического взгляда на жизнь уже видны в «Моби Дике»; в дальнейшем они завладевают писателем и сочетаются с опустошающими его творчество мистическими исканиями.
Какова фабула книги Мелвилла? Что происходит на протяжении ста тридцати пяти глав «Моби Дика»?
Измаил, от лица которого ведётся повествование, молодой человек, разочарованный в жизни и сочетающий духовную любознательность со страстью к морю, уходит в плавание матросом на китобойце «Пекод». Вскоре после отплытия из порта выясняется, что рейс «Пекода» совсем непохож на обычные китобойные рейсы. Капитан «Пекода» Ахав потерял ногу в схватке с Белым Китом – Моби Диком. Теперь он вышел в море, чтобы отыскать Моби Дика и дать ему ответный решающий бой. Он заявляет команде, что намерен преследовать Белого Кита «и за мысом Доброй Надежды, и за мысом Горн, и за норвежским Мальштремом, и за пламенем погибели». Ничто не заставит его отказаться от погони. «Вот цель вашего плавания, люди! – кричит он в неистовой ярости. – Гоняться за Белым Китом по обоим полушариям, покуда не выпустит он фонтан чёрной крови и не закачается на волнах его белая туша!» Захваченная яростной энергией капитана Ахава, команда клянётся в ненависти к Белому Киту, и Ахав прибивает к мачте золотой дублон, предназначенный тому, кто первым увидит Моби Дика.
«Пекод» идёт вокруг света, охотясь по пути на китов и подвергаясь всем опасностям китобойного промысла, но не теряя ни на минуту из виду своей конечной цели. Ахав искусно ведёт судно по основным китовым путям и опрашивает капитанов встречных китобойцев о Моби Дике. Встреча с Белым Китом происходит в «его владениях», поблизости от экватора, и сопровождается рядом зловещих примет, грозящих несчастьем. Бой с Моби Диком продолжается три дня и кончается разгромом «Пекода». Белый Кит разбивает вельботы, увлекает в морскую бездну Ахава и наконец топит корабль со всей командой. «Птицы с криком закружились над зияющим жерлом водоворота; угрюмый белый бурун ударил в его крутые стены, потом воронка сгладилась, и вот уже бесконечный саван моря снова колыхался кругом, как и пять тысяч лет тому назад».
В эпилоге сообщается, как рассказчик, единственный уцелевший из команды «Пекода», спасся от гибели, ухватившись за буй, и был подобран другим китобойцем.
Такова фактическая фабула «Моби Дика». Она подкреплена в романе множеством реальных и ярких сцен, рисующих быт и нравы китобоев: автор создаёт незабываемо яркие портреты капитана Ахава, Измаила, других членов команды; картины моря у Мелвилла принадлежат к сильнейшим в мировой литературе. И всё же содержание книги, морально философское и художественное, настолько далеко выходит за пределы её фактической фабулы, что неизбежно пробуждает множество новых вопросов.
Что это за Белый Кит, за которым нужно гоняться, не зная сна и отдыха, по океанам обоих полушарий? Почему поход «Пекода», летописцем и комментатором которого выступает рассказчик, окружён ореолом великой жизненной драмы? Почему капитан Ахав со своей отчаянной командой сражается с Белым Китом так, как сражаются за жизнь и свободу на последней баррикаде?
Одно лишь объяснение, что Моби Дик необычайно сильный и свирепый кит-альбинос, окружённый легендами суеверных моряков, а Ахав маниакально-мстительный старый моряк, желающий поквитаться со свирепым противником за свою потерянную ногу, – явно недостаточно при рассмотрении содержания романа во всём его объёме. К тому же Мелвилл не скрывает, что вкладывает в книгу смысл, выходящий за пределы её фактической фабулы.
Как уже было сказано, битва Ахава с Белым Китом во втором, романтико-символическом и фантастическом, плане книги означает борьбу человека с враждебными силами, закрывающими ему дорогу к свободе и счастью.
В период написания «Моби Дика» Мелвилл, невзирая на все свои разочарования, ещё глубоко верит в достоинство человека. «Человек в идеале так велик, так блистателен, человек это такое благородное, такое светлое существо, что всякое постыдное пятно на нём ближние неизменно торопятся прикрыть самыми дорогими своими одеждами», – говорит Измаил, приступая к описанию команды «Пекода». И далее: «А потому, если в дальнейшем я самым последним матросам, отступникам и отщепенцам припишу черты высокие, хотя и тёмные; если я оплету их трагической привлекательностью, если порой даже самый жалкий среди них и, может статься, самый униженный, будет вознесён на головокружительные вершины; если мне случится коснуться руки рабочего небесным лучом; если я раскину радугу над его гибельным закатом; тогда, вопреки всем смертным критикам, заступись за меня, о беспристрастный Дух Равенства…» (гл. 26, «Рыцари и оруженосцы»).
Мелвилл раскидывает свою романтическую радугу над разнонациональной, бесшабашной и бесстрашной командой «Пекода», и она знаменует для него человечество, принявшее на свои плечи тяжкий груз борьбы с угрожающим ему злом.
Зло воплощено в Белом Ките.
«Белый Кит плыл у него перед глазами, как бредовое воплощение всякого зла, какое снедает порой душу глубоко чувствующего человека, покуда не оставит его с половиной сердца и половиной лёгкого и живи, как хочешь», – говорит Измаил об Ахаве. И ещё: «Всё, что туманит разум и мучит, что подымает со дна муть вещей, все зловредные истины, всё, что рвёт жилы и сушит мозг, вся подспудная червоточина жизни и мысли; всё зло в представлении безумного Ахава стало видным и доступным для мести в облике Моби Дика. На белый горб кита обрушил он всю ярость, всю ненависть, испытываемую родом человеческим со времён Адама; и бил в него раскалённым ядром своего сердца, словно грудь его была боевой мортирой» (гл. 41, «Моби Дик»).
Сущность зла, на которое ополчается Ахав, обозначена здесь самым общим образом. Есть огромное противоречие между силой чувства, с которой выражают свою ненависть к злу герои Мелвилла, и идейной слабостью автора, мешающей ему увидеть и понять реальные конфликты переживаемой эпохи. Лишь из последующих рассуждений и комментариев Измаила можно сделать вывод, что зло, заключённое в Белом Ките, это – царящая в жизни «неправда»: неравенство и моральная приниженность людей в обществе, где «каждый чувствует скорее не локоть, а кулак соседа»; вынужденное одиночество человека; душевная неустроенность, мешающая ему быть «великим, блистательным и светлым существом».
То, что Ахав излагает свои мысли в полумистических терминах, а Измаил – в терминах идеалистической моральной философии, не должно заслонять от читателя существа вопроса. Мелвилл нерелигиозен и он искренно хочет «пробиться» к истинному пониманию отношений людей в обществе. Следует, однако, помнить, что романтические критики капитализма атаковали буржуазные экономические отношения по преимуществу как моралисты. Следует помнить и о том, что в США середины XIX века мало кто из противников религиозного мировоззрения решался и был в силах критиковать догматическую религию с материалистических позиций: они выступали как полуидеалисты, как «пантеисты», «натур-философы» и т. п. Новейшие буржуазные литературоведы и биографы Мелвилла цепляются за идеалистическую «словесность» в «Моби Дике», пытаясь доказать, что борьба капитана Ахава с Белым Китом есть облечённый в материальные метафоры духовно-мистический конфликт и что книга не имеет отношения к проблемам земного реального мира. Дело обстоит как раз наоборот. Пафос «Моби Дика» есть жизненный и земной пафос, пусть и облечённый подчас в идеалистические одежды. Хотя Мелвилл выступает в книге полностью как романтик и даже платит дань «чёрной романтике» (в образе зловещего огнепоклонника Федаллы, предсказывающего судьбу Ахаву), ему удаётся время от времени как бы подняться над собственной позицией и бросить на неё критический взгляд. Тогда он с едкой насмешливостью отвергает попытки спрятаться от жизни за идеалистическим туманом и моральными отвлеченностями и даже не прочь поиронизировать над собственными срывами в метафизику. В заключение 78 главы – «Цистерны и вёдра» – Мелвилл говорит о людях, «завязших в медовых сотах Платона» и «обретших в них свою сладкую смерть». В 75 главе – «Голова кита», заканчивая своё «физиономическое» изучение пришвартованных с обоих бортов китобойца двух китовых голов, настоящего кита и кашалота, он приравнивает не без юмора мёртвых китов к умозрительным философам и заключает, что настоящий кит, по-видимому, «был стоиком», кашалот же – «платоником, который в последние годы испытал влияние Спинозы».
Социальные мотивы «Моби Дика» находят питательную почву и в том реальном человеческом содержании, которое присутствует почти во всех характерах романа. Герой «Моби Дика», капитан Ахав, вдохновитель и основной участник борьбы с Белым Китом – личность идеализируемая автором и почти легендарная. «Весь он, высокий, массивный, был словно отлит из чистой бронзы, получив раз навсегда неизменную форму, подобно литому „Персею“ Челлини», – говорит о нём Измаил. Не зная сна и усталости, не жалея ни себя, ни других, подчиняя всех своей несгибаемой воле, «великий безбожный, богоподобный человек», он ведёт «Пекод» в бой против Белого Кита. «Не говори мне о богохульстве, Старбек, – кричит он старшему помощнику, пытающемуся оспорить его замысел, – я готов разить даже солнце, если оно оскорбит меня… Кто надо мной? Правда не имеет пределов…» В то же время Ахав – старый китобой из Нантакета, калека на белой костяной ноге, о котором сообщаются хоть и не очень подробные, однако же достаточно достоверные бытовые сведения. Ахав жертвует всем для борьбы с Белым Китом. Дома он оставил молодую жену и маленького сына. Невзирая на свою одержимость, он глубоко страдает. Клятву в ненависти к Моби Дику он произносит, как свидетельствует Измаил, «с каким-то жутким, нечеловеческим громким рыданием в голосе, словно поражённый в самое сердце матёрый лось».
Ахав любит и жалеет безумного юнгу – негритёнка Пипа, жертву неистовой погони «Пекода» за Белым Китом. Но подобно командиру на поле сражения, он не позволяет жалости овладеть собой, чтобы не пострадала решимость его довести бой до конца, «чтобы замысел Ахава не потерпел крушения в его душе».
В канун решающей схватки с Белым Китом Ахав, подавленный великой задачей, стоящей перед ним, переживает минуту слабости. «Из-под опущенных полей шляпы Ахав уронил в море слезу, и не было во всём Тихом океане сокровища дороже, чем эта капля», – говорит рассказчик. Ахав открывает душу своему помощнику Старбеку, и тот делает последнюю попытку отговорить его. «О капитан, мой капитан! Благородная душа! великое сердце! для чего, для чего нужно гоняться за этой дьявольской рыбой? Покинем эти гибельные воды… Побежим мы по волнам назад к нашему старому милому Нантакету!..» Однако Ахав уже справился с собой и твёрдо идёт навстречу врагу.
Второй герой «Моби Дика» – Измаил, рассказчик и комментатор событий. «Зовите меня Измаил» – этой фразой начинается книга. Измаил в библейской легенде – изгнанник, покидающий семью и родимый край, чтобы бродить в пустыне. Рассказчик в «Моби Дике», не желающий открыть своё подлинное имя, уходит в море, потому что его томит отвращение к жизни своих соотечественников. «Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта, всякий раз, когда в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь, всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков… – я понимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее. Это заменяет мне пулю и пистолет. Катон с философическим жестом бросается грудью на меч – я же спокойно поднимаюсь на борт корабля».
Однако прежде чем Измаил уходит в море, с ним в порту Нью-Бедфорд, где он по необходимости задерживается на сутки, случается важное происшествие – он находит друга в лице встреченного при странных обстоятельствах в матросской гостинице гарпунщика-огнеземельца Квикега. Простодушие и благородство Квикега находят путь к сердцу озлобленного Измаила. «Попробую-ка я обзавестись другом-язычником, – говорит он, – раз христианские добродетели оказались всего лишь пустой учтивостью». Дружба с Квикегом внутренне подкрепляет Измаила, отчасти мирит его с людьми, и он вступает на борт «Пекода» способным воспринимать не только отрицательные, но и положительные стороны жизни.
Измаил образованный человек, широко начитанный и склонный анализировать свои наблюдения и обобщать свои выводы и мысли. Его страшит замысел Ахава, но тем не менее он бросает свой жребий вместе с ним и становится не только летописцем и комментатором, но также поэтом и философом погони за Белым Китом. Он остаётся в живых, чтобы поведать людям о судьбе «Пекода». Образ Измаила неотделим от голоса автора. Мелвилл передаёт ему свои широкие интересы, свою эрудицию, своё красноречие, свои романтические причуды, свой юмор.
С образом Квикега, наивного, бескорыстного, самоотверженного и исполненного притом глубокого внутреннего достоинства, в значительной мере связан демократический и гуманистический пафос романа. Мелвилл берёт своего героя из среды «цветных» угнетённых народов, третируемых его соотечественниками. Это намерение автора не случайно, что подчёркнуто в образах двух других гарпунщиков «Пекода». Один из них Тэштиго, молчаливый и бесстрашный североамериканский индеец, прибивающий вымпел к грот-мачте «Пекода» в ту минуту, как китобоец погружается на дно океана. Другой – Дэггу – «негр-исполин с походкой льва», рядом с которым любой белый человек «походил на маленький белый флаг, просящий о перемирии могучую крепость».
Хотя Квикег не занимает в дальнейшем действии «Моби Дика» того места, которое должно было бы ему принадлежать в соответствии с ролью, отведанной ему автором в экспозиции романа, подлинная человечность «дикаря»-гарпунщика противостоит в романе бунтарскому индивидуализму капитана Ахава, подчас жестокому и беспощадному.
Многоплановость содержания книги Мелвилла характерным образом отражена в многоплановости её стиля. В «Моби Дике» присутствует яркое и насыщенное реальными фактами бытописание; такова вся экспозиция романа, посвящённая похождениям Измаила в канун его вступления на «Пекод» и его знакомству с Квикегом, таковы многие эпизоды на китобойце. Однако бытописание в «Моби Дике» имеет гротескный характер, и сатирические преувеличения автора нередко сообщают даже вполне реальным фактам и образам привкус символики или фантастики.
Вторым стилевым элементом в романе служат главы, в которых преобладает патетико-лирическое начало, «кипение страстей». Интересно отметить, что, стремясь к обострённому психологически насыщенному выражению внутренней жизни своих героев, Мелвилл вводит в ткань романа драматургически построенные главы, монологи и диалоги, сопровождаемые авторскими ремарками. Источник его вдохновения в этом случае – драматургия Шекспира, причём Мелвилла как романтика особенно привлекает у Шекспира трагедия могучей личности перед лицом непреоборимых сил (таковы многочисленные монологи Ахава) и столкновение возвышенного и комического (исходным образцом для многочисленных сцен этого рода служит беседа Гамлета с могильщиками).
Третий элемент «Моби Дика» – это разбросанные по всей книге «китологические» главы, составляющие в совокупности своего рода энциклопедию китобойного дела, его теории и практики. В согласии с общим художественным принципом «Моби Дика», Мелвилл использует «китологию», или цетологию, как он её называет, для резко контрастных переходов, перемежая этими неспешными и обстоятельными лекциями или трактатами остро авантюрные и возвышенно лирические главы книги. Однако значение «китологических» глав в романе этим не ограничивается. В силу принятой автором полушутливой манеры исходить во всех своих рассуждениях «от кита», эти главы в книге дают рассказчику повод для отступлений на морально-философские и социальные темы; порою цетология лишь прикрывает острую публицистику, выпады против законов, охраняющих феодальную и буржуазную собственность (гл. 89, «Рыба На Лине или Ничья Рыба»), обличение социальной несправедливости (гл. 90, «Хвосты и головы»).
В грандиозном финале, посвящённом трёхдневному сражению с Белым Китом, Мелвиллу удаётся достичь художественного единства и в прямой повествовательной форме, без всяких метафизических комментариев, передать высокий драматизм гибели «Пекода».
Белый Кит ушёл невредимым. Китобоец, подобравший Измаила, обрёл в нём, как сказано в эпилоге романа, «только ещё одного сироту». Но капитуляции перед силами зла не произошло. Перед отважными искателями истины по-прежнему стоит задача преследовать Белого Кита «и за мысом Доброй Надежды, и за мысом Горн, и за норвежским Мальштремом, и за пламенем погибели…» Таков, пожалуй, главный урок, который хотел преподать своим читателям Мелвилл в «Моби Дике».
Как можно судить по тем высказываниям, которые посвящают Мелвиллу буржуазные историки литературы и искусства в США, и сам Мелвилл и его роман не по плечу новейшей американской капиталистической культуре. Призвав на помощь фрейдизм и поповщину, превратно истолковывая жизненный путь писателя, эти идеологи буржуазного упадка хотят во что бы то ни стало вопреки фактам и здравому смыслу представить Мелвилла одним из отцов современного декаданса, зачеркнуть его демократические и гуманистические устремления.
Прогрессивное искусство в США, являющееся хранителем лучших традиций американской культуры, высоко ценит творчество Мелвилла и ведёт борьбу за его наследие. Не случайно один из самых выдающихся передовых американских художников нашего времени Рокуэлл Кент отдал столько вдохновения и труда Мелвиллу, создав замечательную сюиту рисунков к «Моби Дику».
А. И. Старцев
1961
Послесловие к роману «Моби Дик, или Белый кит»
Во времена Германа Мелвилла профессия китобоев была окружена романтическим ореолом; китобои посещали дальние, мало знакомые страны, часто открывали новые земли, плавали во всех самых отдалённых уголках океана и, главное, охотились за огромнейшими в мире животными – китами. В случае удачного промысла они возвращались с богатой добычей.
В ту пору, когда Мелвилл впервые столкнулся с морем, его земляки успешно вели промысел китов почти столетие. Охота на китов развёртывалась на обширных пространствах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Этот промысел играл очень важную роль в экономике всех цивилизованных стран. Без китового уса нельзя было сшить модное женское платье, из китового жира делалось мыло, жилища освещались свечами из того же материала или же лампами, наполненными китовым жиром или спермацетовым маслом. Этим же жиром пользовались для приготовления политуры и красок, при отделке кожи и шерстяных тканей; улицы городов – особенно портовых – освещались газом, полученным из китового жира. В наиболее богатых домах для свечей и ламп употреблялся жир кашалота – спермацет, который горит ярко и без копоти.
Промысел китов был опасной профессией, и на китобойные корабли вербовались лишь наиболее смелые и сильные моряки, умевшие бороться со стихией и не боявшиеся нападать на морских гигантов, имея в качестве оружия лишь ручные гарпуны и пики. Недаром же военные флоты почти всех стран так усиленно вербовали китобоев, считая их храбрецами и выдающимися моряками.
На китобойных судах имелось четыре-шесть вельботов – гребных шлюпок специального устройства, с воздушными ящиками, которые не давали им затонуть даже при аварии. На этих вельботах велось преследование китов, и от гребцов требовались большая выносливость, смелость и сообразительность. Нелёгкой была служба на парусных судах, но особо трудной она была на китобойных парусниках, которые месяцами рыскали по океану в поисках добычи и редко заходили в порты.
Многие американские и английские литературоведы в настоящее время считают Мелвилла одним из величайших писателей Соединённых Штатов XIX века. На «Моби Дике» воспитывалось не одно поколение американских читателей и любителей литературы.
Наш современник, известный писатель Эрнест Хемингуэй, говоря о писателях США прошлого века, выражает своё отношение к Мелвиллу и его «Моби Дику» в следующих словах: «У нас в Америке были блестящие мастера. Эдгар По – блестящий мастер. Его рассказы блестящи, великолепно построены – и мертвы. Были у нас и риторические авторы, которым посчастливилось найти в биографиях других людей или во время путешествий кое-какие сведения о вещах, о настоящих вещах, о китах например, но всё это вязнет в риторике, точно изюм в плум-пудинге. Бывает, что их находки существуют сами по себе, без пудинга, тогда получается хорошая книга. Таков Мелвилл. Но те, кто восхваляют Мелвилла, любят в нём риторику, а она у него играет второстепенную роль. Такие почитатели приписывают его книге мистичность, которой там совсем нет»[332].
И действительно, в «Моби Дике», как, впрочем, почти во всех своих других произведениях, которые нам известны, писатель не отрывается от реальности, даже когда говорит о самых странных вещах – они всегда у него объясняются неожиданно и просто, начиная со сцены в спальной комнате матросской гостиницы. Идёт ли речь о таинственных призраках, проскользнувших на заре по нантакетским причалам, о загадочных звуках, доносящихся из трюма «Пекода», – всё на поверку оказывается очень просто и прозаично: капитан Ахав спрятал у себя на борту по секрету от судовладельцев команду гребцов для четвёртого вельбота, на котором он намерен сам принять участие в погоне за китами. Всплывает ли из пучины жуткое сторукое видение – и Мелвилл своим чередом объясняет, что это – вполне реальное существо, гигантский кальмар, какие и в самом деле служат пищей кашалотам. Заходит ли речь об огнеземельце, торгующем головами, – и тут всё получает реалистическое толкование, такое же трезвое и правдивое, как в книгах современных путешественников, вроде Бломберга или Ганзелки и Зикмунда, и это несмотря на сто лет разницы! С самого же начала, описывая Нантакет – эту столицу американских китобоев, – точнее его портовую часть, – Мелвилл не отходит от истины, точно живописуя (иначе не скажешь!) всё, что увидели его глаза. От входа в матросский дом-таверну до блюд и мебели в столовой и спальне, всё – и церковная служба одной из бесчисленных сект, и типы жителей – всё описано с величайшей художественной точностью. Читатель всегда ясно представляет себе обстановку, в которой протекает действие повествования. Вместе с ним мы дивимся убранству корабля, рубка и борта которого украшены зубами кашалотов, мы постепенно входим в детали будней китобойного судна, размеренная жизнь которого во время долгого плавания всегда готова буквально взорваться, как только замечаются фонтаны китов на горизонте. Погоня за китами изображена так, что читатели как бы участвуют в ней минута за минутой, час за часом, испытывая постоянное невольное напряжение, и вставные главы, в которых попутно описываются инвентарь и орудия, отнюдь не снижают это напряжение.
Как подробно и точно описана работа по разделке туши кашалота за бортом корабля в окружении полчища акул! Так это обычно и бывает в тропических водах, когда возбуждённые запахом крови акулы теряют свойственную им осторожность и могут быть опасными и для людей. Кажущаяся медлительность повествования несёт в себе заряд внутренней динамики и лишь усугубляет драматическое воздействие.
Даже при лирических отступлениях, когда писатель-моряк показывает нам постоянно меняющуюся неповторимую красоту океана, восходов и закатов солнца, причудливость туч и облаков, волны, то ровные и плавно катящиеся, то бурные и клокочущие во время шквала или шторма, – мы ждём чего-то возможного только в океане. В его описаниях океан всегда живёт своей особой грозной жизнью, и человек ни на одну минуту не может оторвать от него взгляда, боясь что-то пропустить, чего-то недосмотреть. И больше того, у каждого из океанов в описаниях Мелвилла свой особый колорит, и Атлантический океан совсем не так звучит и воспринимается человеком, как Индийский или Тихий. Они разные, и Мелвилл в ходе повествования показывает эту неодинаковость и в оттенках воды, и в характере волнения, и даже в шквалах, неожиданно налетающих в самый драматический момент борьбы с раненым китом. Мало кто смог так художественно описать изменчивость океана на разных географических широтах, как Мелвилл.
Реалистически рисуя бесстрашных и простодушных «морских волков», Мелвилл рассказывает об огромной власти суеверий над этими смельчаками – суеверий, идущих ещё от седой старины и бытующих среди моряков всех стран по сей день. Гибель «Пекода», окутанная в повествовании атмосферой таинственных пророчеств и примет, в сущности сводится к причинам сугубо реальным и объясняется как состоянием корабля, так и поведением его одержимого капитана.
Герман Мелвилл – художник-мыслитель. Философские размышления щедро вплетены в повествовательную ткань его романа. В этих рассуждениях широко используются исторические, географические, литературные ассоциации и, что вполне естественно для американского буржуазного писателя середины XIX века, библейские образы. Но даже когда он пишет о боге, его рассуждения носят философский, а не религиозный характер. В его глазах и современное христианство, и примитивные культы язычества – это явления одного порядка, оба они весьма далеки от истины, как её понимает автор. Достаточно вспомнить, какие мысли высказывает по этому поводу Измаил – образ нарочито расплывчатый, часто сливающийся с рассказчиком, – когда у него завязывается дружба с «дикарём» Квикегом.
Автор «Моби Дика» показывает себя настоящим, убеждённым гуманистом. Его Квикег, этот благородный, умный, тонкий человек, отважный и умелый китобой, «нецивилизованный дикарь» с обликом Георга Вашингтона делает честь американской литературе, лучшие представители которой боролись и борются со всеми проявлениями расового чванства и нетерпимости. Роман «Моби Дик» проникнут любовью к человеку и гордостью за него, и мрачный колорит, лёгший на страницы этой книги – лишь отражение смятения и боли писателя, не знающего как одолеть человеку стихию зла.
Читателю будут небезынтересны кое-какие пояснения о мифическом Моби Дике. В истории китобойного промысла можно найти несколько совершенно точно засвидетельствованных фактов, когда тот или иной кашалот становился широко известным из-за своей свирепости и каких-либо физических особенностей, а зачастую и из-за окраски. Это всегда были огромные и старые животные. Даже и сейчас известны случаи добычи кашалотов в 21 метр длины; такие громадины встречались, конечно, и раньше. Китобои их всегда отличали. Обычно это были одинокие киты, сторонившиеся своих собратьев. Такие киты имели собственные имена, данные им китобоями, и излюбленные места пребывания в огромном океане.
Их хорошо знали китобои и не раз пытались охотиться за ними, но большей частью неудачно. При этом кашалоты нападали первыми и часто разбивали вельботы и убивали или топили китобоев. Так, действительно существовал упоминаемый в «Моби Дике» (гл. XLI) «Новозеландец Том», до конца оставшийся непобеждённым, хотя «от множества вонзившихся в него гарпунов и пик он был похож на гигантского ежа», – так записано в истории американского китобойного флота. Там же рассказывается, что несколько капитанов китобойных кораблей, экипажи которых пострадали от свирепости этого кашалота – погибли люди и вельботы, – решили напасть на него соединёнными силами. Корабли подошли к уединённой бухте Южного острова Новой Зеландии, вблизи которой обычно находился этот кашалот, и, заметив его, спустили больше двадцати вельботов с лучшими гарпунёрами. Но когда флотилия вельботов приблизилась к кашалоту, он стремительно напал на них сам и в очень короткое время разбил и повредил девять вельботов, причём погибло четыре моряка. Подобрав своих товарищей и повреждённые и разбитые шлюпки, китобои были вынуждены отступить и оставить «Новозеландца Тома» в покое.
Не менее знаменит был и одиночка-кашалот, известный под именем «Пайта-Том», которого также упоминает в романе Мелвилл. Он периодически появлялся вблизи бухты Пайта (Перу) и, по мнению суеверных жителей этой бухты, был её «ангелом-хранителем», отгонявшим акул. Много раз китобои пытались охотиться за ним, но все эти попытки кончались трагично: «Пайта-Том» сам нападал, разбивал и топил шлюпки, причём очень часто гибли китобои. Есть сведения, что этот кашалот убил около 100 моряков. Но его всё же удалось перехитрить и убить, причём это сделал впервые охотившийся за кашалотами в Тихом океане штурман Мэллой, имя которого вошло в историю благодаря этому случаю.
Хорошо известны также случаи нападения крупных кашалотов и на китобойные суда, причём китобойцы иногда тонули, и погибала большая часть команды, если не вся. В 1820 году китобойное судно «Эссекс» встретило стадо кашалотов, за которыми начали охотиться с вельботов. Вдруг вблизи судна появился большой кашалот, который поплыл прямо на корабль и ударил его в борт. Удар был настолько силён, что в корабле образовалась течь. Пока команда пыталась заделать пробоину, кашалот снова бросился на судно и ударил его в носовую часть настолько сильно, что выломал доски, и «Эссекс» начал тонуть. Команда вынуждена была искать спасения в шлюпках. Большая часть экипажа погибла от лишений, и только нескольким морякам удалось выжить и рассказать о причинах гибели корабля. Передавая этот эпизод, Мелвилл и здесь не отошёл от истины.
В 1851 году на китобоец «Александр» напал раненый крупный кашалот. Судно утонуло. Из всей команды спаслось лишь два человека. Этот кашалот был впоследствии убит китобоями другого корабля и даже без особого труда – кашалот почти не сопротивлялся. При осмотре оказалось, что часть челюсти у этого кашалота была раздроблена и в ней торчали куски дубовых досок корабельной обшивки, в теле же были найдены два гарпуна с клеймом погибшей шхуны «Александр».
Известны и другие, документально подтверждённые случаи гибели кораблей под ударами рассвирепевших кашалотов. А сколько было судов, погибших без вести, о судьбе которых некому рассказать. Нужно помнить, что в тёплую зону океана арматоры часто направляли очень старые китобойцы; обшивка на таких судах была настолько изъедена морскими червями, что они не годились для промысла китов на дальнем севере или дальнем юге, где неизбежны встречи со льдами. Прогнившая обшивка, конечно, была слабой защитой от ударов 60—70-тонного гиганта, и гибель таких судов была не так уж редка.
Таким образом, Мелвилл не грешит против истины, когда описывает нападение Моби Дика на корабль и гибель судна и команды.
Более ста лет прошло с момента выхода в свет этой книги Г. Мелвилла – «Моби Дик» появился в 1851 году, – но интерес к ней и слава её, которая пришла с большим опозданием, в настоящее время всё увеличиваются. Если хотят похвалить какой-либо морской роман, то обязательно упоминают, что он «написан в лучших традициях „Моби Дика“». Почти нет семьи в странах английского языка, в библиотеке которой не было бы книг Мелвилла, и «Моби Дика» в первую очередь. «Моби Дик» переведён почти на все языки мира.
Нужно добавить, что со времён Германа Мелвилла мы узнали много о китах и их жизни, и поэтому рассуждения писателя о естественной истории китов, конечно, очень устарели. Никому теперь не придёт, конечно, в голову отстаивать положение, согласно которому кит – это рыба. Для выделения отряда китообразных и его внутренней классификации наука сегодня располагает более существенными критериями, чем полушуточные «фонтан, плоский хвост и формат», предлагаемые Мелвиллом. Однако Мелвилл основывается на взглядах, имевших повсеместное распространение в середине прошлого столетия, и это следует иметь в виду при чтении главы о классификации китообразных – «Цетологии», как она названа в романе.
После уже вышедших у нас «Тайпи» и «Ому» книга о Моби Дике пополнит наше знакомство с одним из самых колоритных американских писателей и расскажет нам о столь мало известной жизни китобоев середины прошлого века, о людях, которые годами плавали в океане, знали и любили море.
Б. А. Зенкович
1961
Роман о Белом ките
Недолгая история американской литературы полна трагедий. Примеров тому множество. В нищете и небрежении умер забытый соотечественниками «спаситель Америки» Томас Пейн. Сорока лет от роду ушёл из жизни под улюлюканье литературных ханжей Эдгар По. В таком же возрасте умер сломленный жизнью Джек Лондон. Спился Скотт Фитцджеральд. Застрелился Хемингуэй. Несть им числа, затравленным, замученным, доведённым до отчаяния, до белой горячки, до самоубийства.
Одна из самых жестоких писательских трагедий – трагедия непризнания и забвения. Такова была участь и крупнейшего американского романиста XIX века Германа Мелвилла. Современники не поняли и не оценили лучших его произведений. Даже смерть его не привлекла внимания. Единственная газета, известившая своих читателей о смерти Мелвилла, переврала его фамилию. В памяти века, если таковая существует, он остался как безвестный моряк, побывавший в плену у каннибалов и написавший об этом занимательную повестушку.
Однако история литературы состоит не из одних только трагедий. Если человеческая и писательская участь Мелвилла была горькой и печальной, то судьба его романов и повестей оказалась неожиданно счастливой. В двадцатые годы нашего столетия американские историки литературы, критики, а за ними и читатели «открыли» Мелвилла заново. Были переизданы произведения, печатавшиеся при жизни писателя. Увидели свет рассказы и стихи, отвергнутые в своё время издателями. Вышли первые собрания сочинений. По книгам Мелвилла были поставлены кинофильмы. Его образами стали вдохновляться живописцы и графики. Появились первые статьи и монографии о забытом авторе. Мелвилл признан классиком литературы, а его роман «Моби Дик, или Белый Кит» – величайшим американским романом XIX века.
В современном отношении американской критики к Мелвиллу имеется оттенок «бума», с помощью которого она словно пытается возместить полувековое пренебрежение к творчеству выдающегося прозаика. Но это не меняет дела. Мелвилл действительно крупный писатель, а «Моби Дик» замечательное явление в истории американской литературы прошлого столетия.
Мелвилл впервые взялся за перо в 1845 году. Ему было двадцать шесть лет. К тридцати годам он уже стал автором шести больших книг. В его предшествующей жизни ничто, казалось, не предвещало этого взрыва творческой активности. Не было «юношеских опытов», литературных мечтаний или хотя бы читательского увлечения литературой. Может быть, оттого, что юность его была трудной и душевная энергия истощалась постоянными заботами о хлебе насущном.
Мелвилл родился в 1819 году в семье относительно благополучного нью-йоркского коммерсанта. Однако благополучие длилось недолго. Дела торговой фирмы шли всё хуже и хуже, росли долги. В 1830 году отец Мелвилла был вынужден закрыть свою контору в Нью-Йорке и перебраться в маленький городок Олбани. Это не спасло его от полного банкротства. Два года спустя, не выдержав нервного потрясения, он сошёл с ума и вскоре умер.
Детство Мелвилла было сумрачным и окончилось рано. В тринадцать лет он бросил школу и поступил рассыльным в нью-йоркский банк. Ещё не достигнув совершеннолетия, он перепробовал целый ряд профессий: служил клерком в меховой компании, учительствовал, плавал матросом на «Св. Лаврентии», совершавшем регулярные рейсы на линии Нью-Йорк – Ливерпуль, вновь учительствовал и, наконец, не найдя другой работы, отправился в четырёхлетнее плавание на китобойном судне «Акушнет». Именно так: не из страсти к романтике, как утверждают некоторые историки литературы, не из любви к приключениям, а просто не найдя другой работы.
Отправляясь в этот рейс, Мелвилл уже знал, что морская романтика – понятие весьма относительное, особенно романтика китобойного промысла. Основу жизни матросов китобойца составляли изнурительный труд, смертельный риск, палочная дисциплина, недостаток еды и пресной воды, болезни и томительное однообразие корабельного быта. Дезертирство было явлением, широко распространённым среди матросов китобойного флота. Недаром капитаны, уходившие в море на несколько лет, старались как можно реже заходить в гавани для пополнения запасов воды и продовольствия.
Рейс «Акушнета» не составил исключения. Когда через три с половиной года этот корабль вернулся в Нью-Бедфорд, на борту его оставалось менее половины матросов, отправившихся в плавание. Не было среди них и Мелвилла, который дезертировал во время стоянки корабля у одного из Маркизских островов.
Начались приключения. Покинув «Акушнет», Мелвилл оказался пленником каннибальского племени тайпи, обитавшего на острове Нукухива. Через месяц ему удалось бежать от гостеприимных людоедов на австралийском китобойце «Люси Энн». Спустя два месяца команда «Люси Энн» взбунтовалась во время стоянки у берегов Таити. Мелвилл вместе с другими матросами попал в тюрьму. Примерно через месяц Мелвилл совершил побег. Перебравшись на соседний остров Эймео, он завербовался на австралийский китобоец «Чарльз и Генри». Спустя полгода он был списан с корабля на Гавайских островах, где бродяжничал несколько месяцев, живя случайными заработками. В августе 1843 года Мелвилл поступил матросом на военный фрегат «Соединённые Штаты», зашедший в Гонолулу. Плавая на фрегате, Мелвилл побывал в Вальпараисо, Каллао, Лиме, Рио-де-Жанейро, потом в октябре 1844 года возвратился в Нью-Йорк, и военно-морское ведомство отпустило его с миром.
Мелвилл вернулся домой без гроша в кармане, но с огромным запасом впечатлений. С морем было покончено навсегда. Мелвиллу исполнилось двадцать пять лет. Пришлось начинать сухопутную жизнь. У него не было ни средств, ни профессии, ни перспектив. Единственное его достояние составлял опыт минувших лет и талант рассказчика. Мелвилл взялся за перо.
Его первая книга «Тайпи», основанная на «каннибальском эпизоде», имела шумный успех. Благосклонно была принята и вторая («Ому»). Мелвилл сделался известен в литературных кругах. Журналы заказывали ему статьи. Американские издатели, отклонившие первые книги писателя («Тайпи» и «Ому» были изданы первоначально в Англии), просили у него новые произведения. Мелвилл работал не покладая рук. Одна за другой выходили его книги: «Марди» (1849), «Редберн» (1849), «Белый бушлат» (1850), «Моби Дик, или Белый Кит» (1851), «Пьер» (1852), «Израиль Поттер» (1855), «Шарлатан» (1857), повести, рассказы.
Однако творческий путь Мелвилла не был восхождением по лестнице успеха. Скорее, он напоминал бесконечный спуск. Энтузиазм критиков по поводу «Тайпи» и «Ому» сменился разочарованием, когда вышел в свет роман «Марди». «Редберн» и «Белый бушлат» вызвали более тёплый приём, но не восторженный. «Моби Дика» не поняли и не приняли. «Странная книга!» – таков был единодушный приговор рецензентов. Разобраться в «странностях» они не сумели и не пожелали. Единственный человек, который, кажется, понял и оценил этот роман, был Натаниель Готорн. Но одинокий голос его не был услышан и подхвачен.
В пятидесятые годы интерес к творчеству Мелвилла продолжал падать. К началу гражданской войны писатель был окончательно забыт.
Обременённый семьёй и долгами, Мелвилл не мог более существовать на литературный заработок. Он бросил писать и поступил в нью-йоркскую таможню чиновником по досмотру грузов. За последние тридцать лет своей жизни он написал всего одну новеллу, три поэмы и несколько десятков стихотворений, не увидевших света при жизни автора.
Может быть, в том обстоятельстве, что Америка не заметила смерти Мелвилла в 1891 году, есть своя логика. Умер мелкий таможенный чиновник. Мелвилл – гениальный писатель, ушёл из жизни Америки тридцатью годами раньше.
«Моби Дик» – книга необычная. Она написана попрёки всем существующим представлениям о законах жанра и не похожа ни на одно произведение мировой литературы. Если читатель после первой сотни страниц в недоумении остановится и спросит: «Какой же это роман?» – он будет совершенно прав. Но полезно при этом помнить, что этот вопрос задавали уже миллионы людей и что это не помешало им дочитать книгу до конца, а затем перечитать её ещё несколько раз.
Читать «Моби Дика» нелегко. Приходится преодолевать своего рода «сопротивление материала». Втянувшись в описание морской стихии, читатель спотыкается о специальные главы, посвящённые научной классификации китов. Неторопливая повесть о корабельной жизни неожиданно сменяется драматургическими сценами, выдержанными в духе елизаветинской трагедии. За ними вдруг идёт отвлечённое философское рассуждение о «белизне» и о том нравственном смысле, который придаёт этой «всецветной бесцветности» человеческое сознание. Поэтические картины, суховатые научные рассуждения, диалоги, монологи, философские отступления, притчи, описание разделки китовой туши, картины охоты на китов, размышления о судьбах человека, народов, государств – всё это идёт непрерывной чередой, заставляя читателя с некоторым усилием переключаться с предмета на предмет и следовать за особой глубинной логикой авторской мысли.
Американским читателям «Моби Дика» легче. Им помогает самый язык этого произведения. Трудно сказать, в чём тут секрет. О языке Мелвилла написано немало специальных статей, но тайна его стилистического мастерства осталась нераскрытой. Любопытно, что всякому, кто занимался этим вопросом, приходило в голову одно и то же сопоставление. Язык «Моби Дика» уподобляют океанской волне, которая растёт, набухает, вздымается, затем рушится, разбрызгивая миллионы сверкающих капель, а за ней уже нарастает вторая, третья, четвёртая… Эти волны как бы подхватывают читателя и несут его вперёд, перенося через рифы и скалы. И даже если какая-нибудь коварная волна не удержит его, швырнёт на камни, то следующая обязательно подберёт и повлечёт дальше.
«Моби Дик» был опубликован в 1851 году. При своём появлении эта книга вызвала некоторое замешательство в рядах критиков и растерянность в стане читателей. Довольно быстро те и другие согласились, что «Моби Дик» – произведение «странное», и на том успокоились. Роман о Белом Ките перестал привлекать внимание и через несколько лет был прочно забыт.
Поскольку «странность» этой книги не исчезла и до сих пор продолжает беспокоить читателя, надобно разобраться в ней более обстоятельно.
«Моби Дик» – это роман о Человеке и о человечестве. Но в первую очередь об исторических судьбах сообщества людей, именовавших себя американцами. Парадоксально, что именно этого современники писателя не поняли. Они не заметили Америки в самом «американском» из всех американских романов середины XIX века.
Одна из причин подобной «глухоты» к общественно-философскому смыслу книги состояла в том, что современники привыкли видеть в Мелвилле не столько писателя, сколько путешественника, наделённого наблюдательностью и не лишённого бойкости пера. Каждое его произведение воспринималось обычно как литературный «отчёт» о том или ином эпизоде в бродяжнической жизни автора.
«Тайпи» и «Ому» в глазах американской критики сороковых годов XIX века были всего лишь занимательным рассказом о пленении автора каннибалами и о жизни на Таити. В «Редберне» видели описание рейса в Ливерпуль на «Св. Лаврентии». «Белый бушлат» представлялся воспоминанием о службе на военном фрегате «Соединённые Штаты». Да и появление «Моби Дика» объясняли тем обстоятельством, что плавание на китобойце «Акушнет» оставалось единственной неиспользованной страницей в «долитературной» жизни Мелвилла, и потому автор просто не мог не написать романа об охоте на китов.
Логичность этого стройного взгляда несколько нарушило появление третьего романа Мелвилла («Марди»). Его никак не удавалось привязать к биографии автора. Но критиков это не смутило. Они объявили роман неудачным и приветствовали появление «Редберна», как свидетельство того, что Мелвилл образумился, перестал лезть не в своё дело и вернулся к рассказу о собственных приключениях.
Некоторые основания для подобной оценки творчества Мелвилла у современников были. Писатель и в самом деле широко использовал собственный жизненный опыт в своих книгах. Но критики, яростно спорившие о достоверности фактов, изложенных в «Тайпи» и «Ому», не понимали, что события личной жизни автора, его наблюдения и впечатления были только материалом его книг, но не их смыслом. Между тем даже беглое знакомство с общественной и духовной жизнью Америки времён Мелвилла убеждает нас, что его романы являются порождением американской действительности сороковых – пятидесятых годов XIX иска.
Двадцатые, тридцатые, сороковые годы XIX века в истории США были временем интенсивного экономического роста. Быстро осваивались земли американского Запада. Строились дороги, каналы и мосты. В Новой Англии как грибы росли фабрики и заводы. Со стапелей сходили всё новые и новые корабли торгового флота. Американская экономика развивалась темпами, которых мир доселе ещё не знал.
Американцы пожинали плоды экономической независимости, завоёванной в двух войнах, и жили в убеждении, что Америка – «страна неограниченных возможностей», богом избавленная от голода, нищеты, кризисов и прочих неприятностей, которыми изобиловала история Старого Света. Они гордились своим республиканизмом, демократическим духом своих учреждений, неисчерпаемыми богатствами своей родины. Отсюда энергичный патриотизм американской литературы десятых – двадцатых годов XIX века, стремление прославить Америку в поэзии и возвеличить её недолгую историю в прозе. Отсюда и стремление как можно скорее создать свою национальную культуру, достойную великого народа, и тем самым покончить с вековой культурной зависимостью от Европы.
Однако не всё в жизни Америки этой поры укладывалось в картину безоблачного процветания. Где-то подспудно зарождались и вызревали социальные конфликты, нарушавшие спокойное течение общественной жизни. Со временем они обострялись всё более и более и в конце концов взорвали американское благополучие, ввергнув страну в пучину гражданской войны.
Постепенно обнаружилось, что понятие «национальное благо» в сфере экономической, политической и социальной – не более как фикция. То, что было благом для одних, оказывалось смертью для других. Всякая попытка регулировать экономику страны законодательным путём приводила к политическим кризисам.
Ожесточённая борьба между плантаторами Юга, промышленниками Севера и фермерами Запада привнесла в политическую жизнь Америки дух коррупции и демагогии. Просветительские лозунги, начертанные на знамёнах американской буржуазной революции, утратили свой первоначальный смысл. Теперь они стали предметом спекуляции, орудием в борьбе за достижение отнюдь не бескорыстных целей.
Нравственные принципы американской буржуазной демократии, выдвинутые XVIII веком и сформулированные Франклином, постепенно переосмысливались. Под напором капиталистического прогресса их демократизм таял, их буржуазность усиливалась. Знаменитый франклиновский афоризм «Время – деньги!» звучал уже не как осуждение праздности, но как призыв к обогащению. Поклонение доллару не воспринималось более как тайный порок. Его не стыдились.
Все эти обстоятельства общественной, политической и духовной жизни Америки оказывали сильнейшее воздействие на характер развития американской литературы тридцатых – сороковых годов XIX века. Творчество Мелвилла не составляло исключения.
Он писал морские романы («Редберн», «Белый бушлат», «Моби Дик») не просто потому, что сам был моряком, но потому, что Америка в сороковые годы XIX века уже стала крупнейшей морской державой мира. Жизнь американских моряков была важной частью национальной действительности. Америка не была бы Америкой без своего торгового, военного, китобойного и рыболовного флота. Усилиями Фенимора Купера, Ричарда Дана, Мелвилла и других корабельная палуба сделалась столь же привычным местом действия романов и повестей, как фермерский дом или городская площадь. В первой половине XIX века «морской роман» стал безраздельной монополией американской литературы. И это не случайно. Не случайно и то, что в названных романах Мелвилла романтика моря занимает второстепенное место. Первое отведено социальным аспектам морской жизни.
Даже первые произведения Мелвилла («Тайпи» и «Ому») не были простым изложением впечатлений, накопленных автором в годы скитальческой жизни. Они содержат в себе обобщения, которые ставят их в непосредственную и теснейшую связь с утопическим романтизмом, столь характерным для американской социально-философской мысли и литературы сороковых годов.
Описание «идеальной» жизни каннибалов построено у Мелвилла по всем правилам романтической утопии. И дело не в том, чтобы восславить благородство людоедов, но в том, чтобы вскрыть порочность буржуазной цивилизации. В этом плане ранние книги Мелвилла тесно соприкасаются с такими сочинениями американских романтиков, как «Колония на кратере» Купера, «Блайтдейл» Готорна, «Уолден» Торо и др. Таким образом, мы видим, что невозможно ставить знак равенства между материалом книг Мелвилла и их содержанием. Материалом могли быть события из жизни писателя. Содержанием была жизнь его родины.
Каждое из его произведений, на каком бы материале оно ни было основано, представляет собой художественное исследование сложного комплекса экономических, политических, нравственных, психологических, философских явлений, определявших материальную и духовную жизнь Америки середины XIX века. Можно спорить о глубине и уровне мысли Мелвилла, о методологии и художественных достоинствах, но тот факт, что Мелвилл писал не о себе, а об Америке, – неоспорим. Это справедливо по отношению к любой его книге, и вдвойне справедливо по отношению к «Моби Дику».
Разумеется, в «Моби Дике», особенно в первых его главах, имеется довольно энергичное лирическое начало. Оно связано с образом Измаила, от имени которого ведётся повествование. Мелвилл не описывает подробно своего лирического героя, полагаясь на силу ассоциаций, которые должно было вызвать его имя. И в самом деле, достаточно было современникам Мелвилла, воспитанным на Священном писании, прочесть первую фразу романа – «Зовите меня Измаил», – как перед их взором немедленно возникала библейская параллель – образ изгнанника, осуждённого на вечные скитания.
Очень скоро, однако, лирическое начало утрачивает своё образное воплощение и становится моментом стиля. Измаил, как характер и персонаж, почти исчезает из повествования. Его сознание сливается с авторским сознанием, и в романе остаётся один повествователь – автор. Время от времени он как бы вспоминает о своём лирическом герое, но не надолго. Героем становится авторская мысль, бьющаяся в поисках истины. И эта мысль, опять-таки, не о себе и не о своей жизни, а об Америке, человечестве, вселенной. Таким образом, мы видим, что субъективно-лирическая сторона романа при всей её значительности тоже лишена автобиографического смысла.
Утвердившись в мнении, что «Моби Дик» – роман об охоте на кита, современники тут же нашли в нём массу несообразностей. Они сразу «заметили» перегруженность книги материалом, «не идущим к делу». По их понятиям, драматическим сценам место было в драме, философским главам – в эссе или философской повести, «китологиче-скому» материалу – в научном трактате.
Американский читатель середины XIX века привык к жанровой чёткости. Он отлично знал, что такое морской роман, имея в своём распоряжении сочинения Фенимора Купера и Ричарда Дана. Он был знаком с «китобойным» жанром по произведениям того же Купера и других, ныне забытых авторов. Он вполне отчётливо представлял себе, каковы характерные признаки фантастической повести, социального романа и романа приключенческого.
Но в его читательском опыте не было «синтетического» жанра, в котором оказались бы сплавленными в едином повествовании основные достижения американской романтической прозы. «Моби Дик» явился первым успешным экспериментом в этой области.
Споры о жанровой принадлежности «Моби Дика» бесплодны. Даже согласившись, что это роман, мы не придём к желаемой определённости. Романы бывают разные. «Моби Дик» содержит в себе признаки романа-эпопеи, романа из истории нравов, романа философского, социального, морского, фантастического. Но он не принадлежит ни к одному из этих типов. Более того, его нельзя расчленить на философские, приключенческие, сугубо научные «куски». Повествование о Белом Ките – монолитная глыба, не поддающаяся рассечению.
Синтетизм «Моби Дика» не был случайностью. Он составляет фундамент особой структуры повествования, которую Мелвилл долго и мучительно искал.
Необходимость поисков была очевидной. Мелвилл задался грандиозной целью создать современный американский эпос. Здесь должна была получить отражение социальная, экономическая, духовная жизнь Америки, стоявшей на пороге гражданской войны. Автор обязан был художественно осмыслить трагические противоречия действительности и сознания, которые, как ему казалось, увлекали страну к гибели. Осуществить эту цель в чётких рамках одного определённого жанра, одного уже известного типа романтического повествования было явно невозможно. Отсюда жанровая полифония «Моби Дика». Отсюда же, кстати, и его сложная система символов.
В рамках небольшой статьи немыслимо рассмотреть знаменитый роман Мелвилла во всей его сложности. Но приглядеться внимательно к трём его основным аспектам – китобойному, социальному и философскому – просто необходимо. Здесь сосредоточены главные его проблемы. Сюда тянутся все элементы повествования.
Современному читателю может показаться странным, что Мелвилл, замысливший создать эпическую картину жизни Америки середины XIX века, построил свой роман как историю китобойного рейса.
В наши дни китобойные флотилии, которые уходят в плавание, провожают с оркестром и встречают цветами. Их мало. Их названия известны всей стране. Профессия китобоя считается экзотической.
Сто лет назад китобойный промысел занимал в жизни Америки столь важное место, что именно в нём писатель увидел материал, пригодный для постановки важнейших проблем национальной действительности. Достаточно познакомиться с двумя-тремя цифрами, чтобы удостовериться в этом.
В 1846 году мировой китобойный флот насчитывал около девятисот судов. Из них семьсот тридцать пять принадлежали американцам. Добыванием китового жира и спермацета в Америке занималось около ста тысяч человек. Капиталовложения в китобойный промысел исчислялись не десятками, а сотнями миллионов долларов.
Ко времени написания «Моби Дика» охота на китов утратила уже черты промысловой патриархальности и перешла к методам промышленного капитализма. Корабли превратились в фабрики с потогонной системой труда. Если оставить в стороне чисто мореплавательскую специфику китобойного дела, то в нём было не больше экзотики, чем в чугунолитейной, угледобывающей, текстильной или любой другой отрасли американской индустрии.
Америка жила в «зависимости от кита». Нефть не была ещё найдена на Американском континенте. Вечера и ночи американцев проходили при свете спермацетовых свечей. Смазка для машин изготовлялась из китового жира. Переработанный жир шёл в пищу, поскольку американцы не стали ещё нацией скотоводов. Даже шкура кита шла в дело, не говоря о китовом усе и серой амбре.
Критик, сказавший, что «Моби Дик» мог быть написан «только американцем, причём американцем мелвилловского поколения», был безусловно прав. «Моби Дик» – американский роман не вопреки китам, а, скорее, благодаря им.
Общепризнано, что, как роман, рисующий картины китобойного промысла, «Моби Дик» уникален. Он поражает тщательностью изображения добычи китов, разделки китовых туш, производства и консервации горючих и смазочных веществ. Десятки страниц этой книги посвящены организации, структуре китобойного промысла, производственным процессам, протекающим на палубе китобойца, описанию инструментов и орудий производства, специфическому разделению обязанностей, производственным и бытовым условиям жизни моряков.
Тем не менее «Моби Дик» – не производственный роман. Различные стороны жизни и труда китобоев, показанные Мелвиллом, имеют, разумеется, самостоятельный интерес, но прежде всего они образуют круг обстоятельств, в которых живут, мыслят и действуют герои. Более того, автор без устали находит поводы для размышлений над общественными, нравственными, философскими проблемами, уже не имеющими отношения к промыслу.
В этом «китобойном» мире огромную роль играют киты. И потому «Моби Дик» – роман о китах в такой же степени, если не в большей, как и роман о китобоях. Читатель найдёт здесь массу сведений по «китологии»: классификацию китов, сравнительную их анатомию, информацию, касающуюся экологии китов, их историографию и даже иконографию.
Мелвилл придавал этой стороне романа особое значение. Не удовлетворяясь собственным опытом, он тщательно проштудировал научную литературу от Кювье и Дарвина до специальных работ Бийла и Скорсби. Здесь, однако, следует обратить внимание на одно чрезвычайно существенное обстоятельство. В соответствии с авторским замыслом, киты в «Моби Дике» (и в особенности сам Белый Кит) должны были играть необычную роль, далеко выходящую за рамки китобойного промысла. Готовясь к написанию «китологических» разделов, Мелвилл интересовался не только книгами по биологии и естественной истории. Можно сказать, что человеческие представления о китах занимали писателя гораздо больше, чем сами киты. В списке литературы, которую он изучал, наряду с Дарвином и Кювье встречаются романы Фенимора Купера, сочинения Томаса Брауна, записки шкиперов китобойных судов, воспоминания путешественников. Мелвилл тщательно собирал всевозможные легенды и предания о героических подвигах китобоев, о чудовищных по размерам и злобности китах, о трагической гибели многих вельботов, а иногда и судов, потонувших со всей командой в результате столкновения с китами. Не случайно само имя Моби Дика так близко напоминает имя легендарного кита (Моха Дик) – героя американских матросских преданий, а финальная сцена романа разворачивается в обстоятельствах, заимствованных из рассказов о гибели китобойца «Эссекс», потопленного огромным китом в 1820 году.
Авторы специальных исследований легко устанавливают связь целого ряда образов, ситуаций и других элементов повествования в «Моби Дике» с традициями американского морского фольклора. Особенно легко и отчётливо фольклорное воздействие прослеживается в тех частях книги, которые связаны с охотой на китов и самими китами. Облик кита в человеческом сознании, качества, которыми люди наделяли китов в разные времена и при различных обстоятельствах, – всё это было для Мелвилла крайне важно. Недаром он предпослал роману весьма своеобразную подборку цитат о китах. Наряду со ссылками на знаменитых историков, биологов и путешественников, читатель найдёт здесь выдержки из Библии, извлечения из Лукиана, Рабле, Шекспира, Мильтона, Готорна, из рассказов безвестных матросов, кабатчиков, спившихся шкиперов, а также из таинственных авторов, скорее всего выдуманных самим Мелвиллом.
Киты в «Моби Дике» – не только биологические организмы, обитающие в морях и океанах, но одновременно и порождение человеческого сознания. Недаром писатель классифицирует их по принципу классификации книг – in folio, in quarto, in octavo и т. д. И книги и киты предстают перед читателем как продукты человеческого духа.
Мелвилловские киты живут двойной жизнью. Одна протекает в океанских глубинах, другая – в просторах человеческого сознания. Первая описана с помощью естественной истории, биологической и промышленной анатомии, наблюдений над привычками и поведением китов. Вторая проходит перед нами в окружении философских, нравственных и психологических категорий. Кит в океане материален. Его можно и должно загарпунить, убить, разделать. Кит в человеческом сознании имеет значение символа и эмблемы. И свойства его совсем другие.
Вся китология в «Моби Дике» ведёт к Белому Киту, который не имеет никакого отношения к биологии или промыслу. Его естественная стихия – философия. Его вторая жизнь – жизнь в человеческом сознании – куда важнее первой, материальной.
Хотя сюжет «Моби Дика» построен как история китобойного рейса в далёкие просторы Атлантики и Тихого океана, главным предметом авторского внимания остаётся современная Мелвиллу Америка. Подобно многим своим современникам, собратьям по перу, Мелвилл остро ощущал неблагополучие в общественной и политической жизни своей родины. Соединённые Штаты развивались быстро, интенсивно, но само направление развития не совпадало с предначертаниями «отцов американской демократии». Идеалы продолжали оставаться идеалами, не претворяясь в практику. В экономической жизни господствующим принципом было по-прежнему имущественное неравенство, в общественной морали – стяжательство, в политике царила беспринципность, демагогия и коррупция. В результате «свободная и счастливая жизнь для каждого человека», во имя которой умирали солдаты американской революции, оказывалась пустым звуком, а знаменитая американская демократия – фикцией.
Среди американских романтиков Мелвилл был, вероятно, самым большим пессимистом. Фенимор Купер – один из наиболее острых критиков буржуазной Америки – отдавал себе полный отчёт относительно расхождения между идеалом и действительностью. Но он верил, что общественное зло в жизни Соединённых Штатов преходяще и недолговечно. Ему казалось, что американская демократия в своём развитии временно отклонилась от нормального пути, но непременно вернётся на него в будущем. Мелвилл смотрел глубже, чем Купер. Он был убеждён, что современное состояние американской демократии – естественный результат исторического развития; что социальное зло заложено в самих основах американской общественной жизни. По мысли Купера, дальнейший прогресс должен был привести Америку к выздоровлению. По мысли Мелвилла – к катастрофе.
Социальная и политическая жизнь Соединённых Штатов получила в «Моби Дике» широкое, хотя и не прямое, отражение. Мелвилла интересовали не столько конкретные события и факты, сколько общие законы и нравственные принципы, управляющие человеческой судьбой или, точнее, судьбой американцев. В многочисленных авторских отступлениях, в потоке образных ассоциаций, возникающих по всякому, иногда случайному поводу, автор исследует проблему бедности и богатства, соотношение между свободой воли и экономическим принуждением и, наконец, приходит к довольно смелому выводу о том, что собственность есть первопричина всякой зависимости человека.
Мелвилл говорит обо всём этом по ходу описания различных деталей китобойного промысла, но истоки его мысли, материал, на котором он строит свои широкие обобщения, явно лежит за пределами романа. Писатель опирается на многие стороны американской действительности, на результат многолетних наблюдений.
Одна из особенностей «Моби Дика» состоит в том, что книга эта в значительной степени обращена в будущее. Автор изучает современность не только для того, чтобы воспроизвести её в художественных образах. Главная его цель – на основе исследования сегодняшней Америки предсказать её завтрашний день. Иногда он даже обращается к вчерашнему дню, но с той же целью – выявить направление нравственной эволюции американского общества, с тем чтобы определить, к чему эта эволюция может прийти в будущем.
Не все прогнозы Мелвилла оказались точными. Но некоторые поражают проницательностью. Мелвилл сумел разглядеть в современной действительности зародыши явлений, которые развились в полную силу лишь спустя несколько десятилетий. Удивительно, что Мелвиллу удавались верные прогнозы в самых сложных областях, там, где взаимодействовали экономика и мораль, политика, философия и психология.
Предвидения Мелвилла по большой части облекались в форму сложных, многозначных символов. Так, например, образ корабля под звёздно-полосатым флагом, на борту которого собралась разноплемённая команда, помимо своего основного смысла, имеет ещё несколько символических значений. Одно из них – Америка, плывущая по неизведанным водам истории к неизвестной гавани. Куда она плывёт? Суждено ли ей доплыть? Или, может быть, она погибнет, направляемая неразумной волей? Все эти вопросы тревожили Мелвилла. Он искал ответа на них, пытаясь установить, какие силы, интересы, стремления руководят жизнью американского общества. Как всегда, его интерес имел абстрактно-этический уклон.
Америка времён Мелвилла не обладала ещё высокой степенью национального единства. То была страна, в которой соседствовали различные экономические уклады, разные нравственные системы, разнообразные политические идеи. Внутренние противоречия с каждым днём становились острее. Компромиссы, на которых строилось мирное благополучие государственной жизни, доставались всё более дорогой ценой. Никто, разумеется, не знал ещё, что через десять лет начнётся гражданская война, но предчувствие катастрофы пронизывало духовную атмосферу страны.
Понятие «Америка» не было в сознании Мелвилла всеобъемлющим. Говоря об Америке, он думал в первую очередь о Новой Англии. Это естественно. Новая Англия была гегемоном. Она задавала тон по многих областях национальной жизни и особенно в экономике. Именно эта группа штатов стала первой на путь промышленно-капиталистического развития. Судьба нации во многом зависела от того, что подумают и сделают жители Массачусетса или Нью-Гэмпшира. Отсюда повышенный интерес Мелвилла к новоанглийским устоям, нравам, к новоанглийскому характеру.
С самого начала Мелвилл отдаёт судьбу «Пекода» в руки трёх новоанглийских квакеров: владельца корабля Вилдада, капитана Ахава и его старшего помощника Старбека. От них зависит направление, успех и цель плавания. Каждый из них олицетворяет определённую эпоху в нравственном развитии Новой Англии.
Вилдад – это вчерашний день. Он набожный стяжатель и лицемер. Но ни набожность, ни стяжательство, ни лицемерие не воспринимаются как индивидуальные свойства его натуры. Они традиционны для Новой Англии и составляют самую суть американского пуританства, в котором суровое благочестие всегда уживалось с беззастенчивой жаждой наживы. Вилдад скопидом. Он стар. В нём нет энергии. Да если б и была, она вся уходила бы в скопидомство. Бурные плавания не для него. На борту «Пекода» ему делать нечего. «Пекод» отплывает, Вилдад остаётся.
Сегодняшний день Новой Англии представлен Старбеком. Он тоже благочестив, но, в отличие от Вилдада, не лицемерен. Собственно, Мелвилл и не даёт ему повода лицемерить. Он искусный моряк и китобой. Он человечен. Но в нём нет инициативы, размаха. Он не живёт ощущением великой цели. Он может вывести «Пекод» в плавание, но он обязательно приведёт его назад к Вилдаду. Ему не уйти из-под власти вчерашнего дня. Но и перед завтрашним днём ему не устоять. Завтра он будет не на месте. У Старбека много привлекательных качеств. Но у него нет будущего.
Будущее воплощено в образе Ахава. Оно-то и занимает мысли Мелвилла более всего. Ахав – характер сложный, противоречивый, многозначный. В нём сплавлены романтическая таинственность, библейская вековая боль человечества, фанатическая ненависть к Злу и неограниченная способность творить его. Но сквозь всю сложность, сквозь сплетение физических, нравственных, психологических элементов отчётливо просматриваются «законы бытия», которые ещё только формировались в Америке мелвилловских времён.
Новоанглийские «пионеры» середины XIX века уже не расчищали лесов под посевы, не воевали с индейцами, не оборонялись от хищных зверей, укрывшись за деревянным частоколом. Они строили заводы и фабрики, корабли и железные дороги. Они торговали с целым светом и открывали банки в американских городах. Тем самым они осуществляли великую задачу экономического прогресса. Своей деятельностью они способствовали процветанию родины и склонны были считать себя солью земли. В их нравственном мире бизнес был верховным владыкой, которому приносилось в жертву всё, не исключая самой человеческой жизни. Впоследствии американская литература представила читателям целую вереницу апостолов бизнеса. Среди них мы найдём многих героев Ф. Норриса, Т. Драйзера, Э. Синклера, С. Льюиса и др. Но всё это было позже.
Конечно, Ахав не «капитан индустрии» и не бизнесмен. Ему определена другая роль. Однако его целеустремлённость, способность перешагнуть через любые препятствия, его умение не смущаться рассуждениями о справедливости, отсутствие страха, жалости, сострадания, его отвага и предприимчивость, а главное, размах и железная хватка – всё это позволяет видеть в нём «пророческий прообраз будущих строителей империи второй половины века»[333], каждый из которых тоже преследовал своего Белого Кита, преступая юридические, человеческие и божеские законы.
В этом плане Ахав был одним из самых тонких прозрений Мелвилла.
В фанатическом безумии капитана Ахава и в символической картине гибели «Пекода» есть ещё и другой смысл, имеющий отношение к некоторым событиям политической жизни Соединённых Штатов середины века. О них, правда, в романе даже не упоминается, но зато внимательно исследуется одно из нравственно-психологических явлений, непосредственно связанных с этими событиями. Речь идёт о фанатизме, вписавшем, как известно, немало мрачных страниц в историю Америки.
Конфликт между Севером и Югом был основным конфликтом общественно-политической жизни США той эпохи. Накал политических страстей достиг к концу сороковых годов необычайно высокой степени. Южане, надеявшиеся подчинить жизнь нации своим интересам, с ожесточением дрались за новые территории и вынуждали конгресс к таким законодательным мерам, которые сулили выгоды плантационному хозяйству. Они держались агрессивно и шли на крайние меры. В глазах Мелвилла они были фанатиками, готовыми в своём ослеплении погубить Америку. Не меньше пугали его и новоанглийские аболиционисты, которые вкладывали в дело освобождения негров весь свой пуританский пыл и нерастраченный темперамент.
Аболиционизм был широким, демократическим, исторически-прогрессивным движением. Участники его преследовали благородную цель уничтожения рабства на американской земле и объективно содействовали дальнейшему экономическому и общественно-политическому развитию Америки. К аболиционизму примыкали все важнейшие демократические течения эпохи.
Мелвилл, как и многие его современники (Эмерсон, Торо, Готорн, Уитмен, Лонгфелло и др.), был целиком и полностью на стороне аболиционистов. Он не состоял в аболиционистских обществах, но сама идея ликвидации рабства и уничтожения расовой дискриминации была чрезвычайно близка ему. Не случайно, размышляя о силах, которые могли бы противостоять социальному неравенству и несправедливости, Мелвилл, наряду с патетическими тирадами о «царственном величии» мозолистой руки, о благородстве трудового человека, вводит в свой роман о Белом Ките мотив братского единения рас и наций. Рядом со своим героем он ставит трёх гарпунёров: индейца Тэштиго, негра Дэггу и полинезийца Квикега – людей, возвышающихся над прочими своим высоким благородством и достоинством. Этот союз, эмблемой которого могли бы стать руки, сплетённые в одном пожатии, достаточно яркое свидетельство симпатий и настроений Мелвилла. Впрочем, этот мотив по вполне понятным причинам был довольно широко распространён в американской литературе XIX века. Достаточно вспомнить Чингачгука и Натти у Фенимора Купера или Гека Финна и негра Джима у Марка Твена.
Таким образом, Мелвилл был несомненно на стороне аболиционистов и разделял их убеждения. Однако его беспокоил безрассудный фанатизм новоанглийских пуритан. Он опасался, что неблагоразумие и неосторожность фанатиков могут привести страну в состояние хаоса и погубить её в пламени гражданской войны.
Осенью 1851 года Мелвилл мог наблюдать вспышку активности аболиционистов в Массачусетсе, где традиционный фанатизм новоанглийских пуритан обрёл на этой почве новую силу. Их не могли остановить ни расправы, ни погромы, ни закон. Они были готовы на всё. И это тревожило писателя.
Показательно, что, пытаясь предугадать будущее, многие современники Мелвилла обращались в эти годы к истории пуританских поселений Новой Англии, ища в ней аналогий. Крупнейшие поэты и прозаики: Лонгфелло, Полдинг, Готорн – вспоминали о трагических событиях, в ходе которых религиозные фанатики, пытаясь истребить мнимое зло, тем самым творили зло реальное и непоправимое.
Социальное зло в современной действительности не было мнимым, но Мелвиллу представлялось, что фанатизм в борьбе, даже если это борьба за правое дело, может привести к ещё большему злу, к страшной катастрофе. Отсюда и символика образа капитана, погубившего свой корабль со всей командой. Ахав – сильный и благородный дух. Он восстал против мирового Зла. Но он фанатик, и потому его попытка достигнуть прекрасной цели оказалась гибельной.
Очевидно, что проблема фанатизма в романе, поставленная преимущественно в философско-психологическом плане, восходит какими-то своими сторонами к политической жизни Америки конца сороковых – начала пятидесятых годов. Впрочем, за какой бы эпизод мы ни ухватились, какой бы образ или символ ни стали рассматривать, мы обязательно почувствуем соприкосновение с определёнными сторонами общественной жизни Америки. Потому-то «Моби Дик» по справедливости считается социальным романом.
Размышляя над неблагополучием социальной жизни своей родины, Мелвилл, подобно многим американским романтикам, пытался выявить силы, её направляющие. Это вело его с неизбежностью к проблемам философского характера. «Моби Дик» тем самым превращался в философский роман. Подавляющее большинство современников Мелвилла полагало, что силы, руководящие человеческой жизнью, равно как и жизнью народов и государств, лежат за пределами человека и общества. Они мыслили в рамках господствующих направлений современной религии и философии и потому придавали этим силам универсальный, вселенский характер. В ходу были термины пуританской теологии и немецкой идеалистической философии, и всё сводилось, в сущности, к различным вариантам «божественной силы». То мог быть традиционный грозный бог новоанглийских пуритан, бог в человеке американских трансценденталистов, абсолютный дух немецких романтиков и философов или безличные «провиденциальные законы». Пессимист и скептик, Мелвилл сомневался в справедливости этих представлений. В своём романе он подверг их анализу и проверке, которой, в конечном счёте, ни одно из них не выдержало. Мелвилл поставил проблему в самом общем виде: существует ли в природе некая высшая сила, ответственная за жизнь человека и человеческого общества? Ответ на этот вопрос требовал в первую очередь познания природы. А так как природа познаётся человеком, то немедленно вставал вопрос о доверии к сознанию и об основных типах познающего сознания. С этим связаны наиболее сложные символы в «Моби Дике» и прежде всего, конечно, сам Белый Кит.
Историки литературы до сих пор спорят относительно символического значения этого образа. Что это – просто кит, воплощение мирового Зла, или символическое обозначение вселенной? Каждое из этих толкований подходит для одних эпизодов романа, но не годится для других. Вспомним, что Мелвилла занимали не сами киты, а человеческие представления о них. В данном случае это особенно важно. Белый Кит в «Моби Дике» существует не сам по себе, а всегда в восприятии персонажей романа. Мы не знаем, в сущности, как он выглядит на самом деле. Но зато нам известно, каким он представляется Стаббу, Измаилу, Ахаву и другим.
Для Стабба Моби Дик просто кит. Огромный белый кит, и только. Для Ахава Моби Дик воплощение всего Зла мира. Для Измаила – символическое обозначение вселенной. И дело здесь не в том, что Моби Дик символически представлен в нескольких ипостасях. Дело в типе познающего сознания. У Стабба сознание индифферентное. Оно только регистрирует явления, не подвергая их анализу и не пытаясь определить их существо. У Ахава сознание проецирующее. Ему безразлично, каков Моби Дик на самом деле, Ахав переносит на Белого Кита представления, живущие в его собственном мозгу. Именно поэтому сознание Ахава трагично. Ахав не может уничтожить Зло. Он может уничтожить лишь самого себя.
Лишь созерцательному сознанию Измаила Мелвилл даёт увидеть истину. Эта истина с точки зрения религиозной ортодоксии крамольна и ужасна. Во вселенной нет сил, направляющих жизнь человека и общества. В ней нет ни бога, ни провиденциальных законов. В ней – только неопределённость, безмерность и пустота. Её силы не направлены. Она безразлична к человеку. И незачем людям надеяться на высшие силы. Их судьбы в их собственных руках.
Этот вывод чрезвычайно важен. По сути дела, вся философия в «Моби Дике» призвана помочь в решении вопроса о том, как поведут себя американцы в момент грядущей катастрофы. Рассказывая трагическую историю «Пекода», Мелвилл словно предупреждал соотечественников: не ждите вмешательства свыше. Высших сил, провиденциальных законов, божественного разума не существует. Судьба Америки зависит только от вас!
Юрий Витальевич Ковалёв
1967
«Лицом к лицу встречаю я тебя сегодня, о Моби Дик!»
Недолгая история американской литературы полна трагедий. Примеров тому множество. В нищете и небрежении умер забытый соотечественниками «спаситель Америки» Томас Пейн. Сорока лет от роду ушёл из жизни под улюлюканье литературных ханжей Эдгар По. В таком же возрасте умер сломленный жизнью Джек Лондон. Пропал без вести Амброз Бирс, сбежавший в Мексику от опостылевшей ему американской цивилизации. Спился Скотт Фитцджеральд. Застрелился Хемингуэй. Несть им числа, затравленным, замученным, доведённым до отчаяния, до белой горячки, до самоубийства.
Одна из самых жестоких писательских трагедий – трагедия непризнания и забвения. Такова была участь и крупнейшего американского романиста XIX века Германа Мелвилла. Современники не поняли и не оценили лучших его произведений. Даже смерть его не привлекла внимания. Единственная газета, известившая своих читателей о смерти Мелвилла, переврала его фамилию. В памяти века, если таковая существует, он остался как безвестный моряк, побывавший в плену у каннибалов и написавший об этом занимательную повестушку.
Однако история литературы состоит не из одних только трагедий. Если человеческая и писательская участь Мелвилла была горькой и печальной, то судьба его романов и повестей оказалась неожиданно счастливой. В двадцатые годы нашего столетия американские историки литературы, критики, а за ними и читатели «открыли» Мелвилла заново. Были переизданы произведения, печатавшиеся при жизни писателя. Увидели свет рассказы и стихи, отвергнутые в своё время издателями. Вышли первые собрания сочинений. По книгам Мелвилла были поставлены кинофильмы. Его образами стали вдохновляться живописцы и графики. Появились первые статьи и монографии о забытом авторе. Уже в 1922 году американские читатели получили обстоятельную биографию писателя, которую автор её – Рэймонд Уивер – озаглавил «Герман Мелвилл – мореплаватель и мистик». Вдохновившись ею, жители Питтсфилда (в Массачусетсе) воздвигли у ворот фермы Эрроухед небольшой валун с чугунной дощечкой: «Здесь с 1850 по 1863 год жил Герман Мелвилл – мореплаватель и мистик». Спустя ещё полвека Беркширское историческое общество собрало наконец необходимую сумму и откупило ферму у её последних владельцев. В 1975 году здесь открылся мелвилловский мемориальный музей. Экспонатов в нём пока ещё не много, но всё же он существует.
Нынче Мелвилл признан классиком литературы, а его роман «Моби Дик, или Белый Кит» – величайшим американским романом XIX века.
В современном отношении американской критики к Мелвиллу имеется оттенок «бума», с помощью которого она словно пытается возместить полувековое пренебрежение к творчеству выдающегося прозаика. Но это не меняет дела. Мелвилл действительно крупный писатель, а «Моби Дик» замечательное явление в истории американской литературы прошлого столетия.
Мелвилл впервые взялся за перо в 1845 году. Ему было двадцать шесть лет. К тридцати годам он уже стал автором шести больших книг. В его предшествующей жизни ничто, казалось, не предвещало этого взрыва творческой активности. Не было «юношеских опытов», литературных мечтаний или хотя бы читательского увлечения литературой. Может быть, оттого, что юность его была трудной и душевная энергия истощалась постоянными заботами о хлебе насущном.
Мелвилл родился в 1819 году в семье относительно благополучного нью-йоркского коммерсанта. Однако благополучие длилось недолго. Дела торговой фирмы шли всё хуже и хуже, росли долги. В 1830 году отец Мелвилла был вынужден закрыть свою контору в Нью-Йорке и перебраться в маленький городок Олбани. Это не спасло его от полного банкротства. Два года спустя, не выдержав нервного потрясения, он сошёл с ума и вскоре умер.
Детство Мелвилла было сумрачным и окончилось рано. В тринадцать лет он бросил школу и поступил рассыльным в нью-йоркский банк. Ещё не достигнув совершеннолетия, он перепробовал целый ряд профессий: служил клерком в меховой компании, учительствовал, плавал матросом на «Св. Лаврентии», совершавшем регулярные рейсы на линии Нью-Йорк – Ливерпуль, вновь учительствовал и, наконец, не найдя другой работы, отправился в четырёхлетнее плавание на китобойном судне «Акушнет». Именно так: не из страсти к романтике, как утверждают некоторые историки литературы, не из любви к приключениям, а просто не найдя другой работы.
Отправляясь в этот рейс, Мелвилл уже знал, что морская романтика – понятие весьма относительное, особенно романтика китобойного промысла. Основу жизни матросов китобойца составляли изнурительный труд, смертельный риск, палочная дисциплина, недостаток еды и пресной воды, болезни и томительное однообразие корабельного быта. Дезертирство было явлением, широко распространённым среди матросов китобойного флота. Недаром капитаны, уходившие в море на несколько лет, старались как можно реже заходить в гавани для пополнения запасов воды и продовольствия.
Рейс «Акушнета» не составил исключения. Когда через три с половиной года этот корабль вернулся в Нью-Бедфорд, на борту его оставалось менее половины матросов, отправившихся в плавание. Не было среди них и Мелвилла, который дезертировал во время стоянки корабля у одного из Маркизских островов.
Начались приключения. Покинув «Акушнет», Мелвилл оказался пленником каннибальского племени тайпи, обитавшего на острове Нукухива. Через месяц ему удалось бежать от гостеприимных людоедов на австралийском китобойце «Люси Энн». Спустя два месяца команда «Люси Энн» взбунтовалась во время стоянки у берегов Таити. Мелвилл вместе с другими матросами попал в тюрьму. Примерно через месяц Мелвилл совершил побег. Перебравшись на соседний остров Эймео, он завербовался на австралийский китобоец «Чарльз и Генри». Спустя полгода он был списан с корабля на Гавайских островах, где бродяжничал несколько месяцев, живя случайными заработками. В августе 1843 года Мелвилл поступил матросом на военный фрегат «Соединённые Штаты», зашедший в Гонолулу. Плавая на фрегате, Мелвилл побывал в Вальпараисо, Кальяо, Лиме, Рио-де-Жанейро, потом в октябре 1844 года возвратился в Нью-Йорк, и военно-морское ведомство отпустило его с миром.
Мелвилл вернулся домой без гроша в кармане, но с огромным запасом впечатлений. С морем было покончено навсегда. Мелвиллу исполнилось двадцать пять лет. Пришлось начинать сухопутную жизнь. У него не было ни средств, ни профессии, ни перспектив. Единственное его достояние составлял опыт минувших лет и талант рассказчика. Мелвилл взялся за перо.
Его первая книга «Тайпи», основанная на «каннибальском эпизоде», имела шумный успех. Благосклонно была принята и вторая («Ому»). Мелвилл сделался известен в литературных кругах. Журналы заказывали ему статьи. Американские издатели, отклонившие первые книги писателя («Тайпи» и «Ому» были изданы первоначально в Англии), просили у него новые произведения. Мелвилл работал не покладая рук. Одна за другой выходили его книги: «Марди» (1849), «Редберн» (1849), «Белый бушлат» (1850), «Моби Дик, или Белый Кит» (1851), «Пьер» (1852), «Израиль Поттер» (1855), «Шарлатан» (1857), повести, рассказы.
Однако творческий путь Мелвилла не был восхождением по лестнице успеха. Скорее, он напоминал бесконечный спуск. Энтузиазм критиков по поводу «Тайпи» и «Ому» сменился разочарованием, когда вышел в свет роман «Марди». «Редберн» и «Белый бушлат» вызвали более тёплый приём, но не восторженный. «Моби Дика» не поняли и не приняли. «Странная книга!» – таков был единодушный приговор рецензентов. Разобраться в «странностях» они не сумели и не пожелали. Единственный человек, который, кажется, понял и оценил этот роман, был Натаниель Готорн. Но одинокий голос его не был услышан и подхвачен.
В пятидесятые годы интерес к творчеству Мелвилла продолжал падать. К началу Гражданской войны писатель был окончательно забыт.
Обременённый семьёй и долгами, Мелвилл не мог более существовать на литературный заработок. Он бросил писать и поступил в нью-йоркскую таможню чиновником по досмотру грузов. За последние тридцать лет своей жизни он написал всего одну новеллу, три поэмы и несколько десятков стихотворений, не увидевших света при жизни автора.
Может быть, в том обстоятельстве, что Америка не заметила смерти Мелвилла в 1891 году, есть своя логика. Умер мелкий таможенный чиновник. Мелвилл – гениальный писатель, ушёл из жизни Америки тридцатью годами раньше.
Судьба творческого наследия Мелвилла в России складывалась примерно по тому же стереотипу, что и на родине писателя (знакомство – забвение – признание), хотя, разумеется, без трагических обертонов. Имя Мелвилла стало известно русскому читателю в 1849 году, когда журнал «Библиотека для чтения» напечатал отрывки из «Тайпи» и беглое переложение «Ому» и «Марди». Спустя четыре года «Москвитянин» опубликовал фрагмент из «Моби Дика», озаглавленный «Китовая ловля». В 1854 году «Пантеон» поместил небольшую заметку – «Герман Мельвиль (североамериканский писатель)».
Таково было начало знакомства русской читающей публики с великим американским романтиком. К сожалению, оно оборвалось в середине 1850-х годов и не получило дальнейшего развития. Прошло более семидесяти пет, прежде чем русские переводчики, литературоведы и критики вспомнили о Мелвилле.
В 1929 году Госиздат выпустил сокращённый перевод «Тайпи». Однако широкое освоение Мелвилла русским читателем началось только в шестидесятые годы. Именно это десятилетие следует считать временем рождения «русского Мелвилла». В 1958 году Издательство географической литературы повторило в сокращённом варианте перевод «Тайпи» тридцатилетней давности. Спустя десять лет оно выпустило новый (на этот раз полный) перевод книги. В 1960 году появился русский перевод «Ому»; в 1966 году советские читатели получили «Израиля Поттера», а в 1973 – «Белый бушлат». В эти же годы в различных сборниках и хрестоматиях начали появляться переводы рассказов и повестей Мелвилла.
Тогда же, в шестидесятые годы, начинается полоса широкого интереса к Мелвиллу со стороны советского литературоведения. Его творчество становится предметом многочисленных статей, кандидатских и докторских диссертаций. В 1972 году вышла первая русская монография о Мелвилле. Будут, вероятно, и ещё.
Центральное место в русском «возрождении» Мелвилла занимает, естественно, публикация его бессмертного творения о Белом Ките. В указанное десятилетие «Моби Дик» в переводе на русский язык издавался трижды – в 1961, 1967 и 1968 годах. Читающий эти строки держит в руках четвёртое издание.
«Моби Дик» – книга необычная. Она написана попрёки всем существующим представлениям о законах жанра и не похожа ни на одно произведение мировой литературы. Если читатель после первой сотни страниц в недоумении остановится и спросит: «Какой же это роман?» – он будет совершенно прав. Но полезно при этом помнить, что этот вопрос задавали уже миллионы людей и что это не помешало им дочитать книгу до конца, а затем перечитать её ещё несколько раз.
Читать «Моби Дика» нелегко. Приходится преодолевать своего рода «сопротивление материала». Втянувшись в описание морской стихии, читатель спотыкается о специальные главы, посвящённые научной классификации китов. Неторопливая повесть о корабельной жизни неожиданно сменяется драматургическими сценами, выдержанными в духе елизаветинской трагедии. За ними вдруг идёт отвлечённое философское рассуждение о «белизне» и о том нравственном смысле, который придаёт этой «всецветной бесцветности» человеческое сознание. Поэтические картины, суховатые научные рассуждения, диалоги, монологи, философские отступления, притчи, описание разделки китовой туши, картины охоты на китов, размышления о судьбах человека, народов, государств – всё это идёт непрерывной чередой, заставляя читателя с некоторым усилием переключаться с предмета на предмет и следовать за особой глубинной логикой авторской мысли.
Американским читателям «Моби Дика» легче. Им помогает самый язык этого произведения. Трудно сказать, в чём тут секрет. О языке Мелвилла написано немало специальных статей, но тайна его стилистического мастерства осталась нераскрытой. Любопытно, что всякому, кто занимался этим вопросом, приходило в голову одно и то же сопоставление. Язык «Моби Дика» уподобляют океанской волне, которая растёт, набухает, вздымается, затем рушится, разбрызгивая миллионы сверкающих капель, а за ней уже нарастает вторая, третья, четвёртая… Эти волны как бы подхватывают читателя и несут его вперёд, перенося через рифы и скалы. И даже если какая-нибудь коварная волна не удержит его, швырнёт на камни, то следующая обязательно подберёт и повлечёт дальше.
«Моби Дик» был опубликован в 1851 году. При своём появлении эта книга вызвала некоторое замешательство в рядах критиков и растерянность в стане читателей. Довольно быстро те и другие согласились, что «Моби Дик» – произведение «странное», и на том успокоились. Роман о Белом Ките перестал привлекать внимание и через несколько лет был прочно забыт.
Поскольку «странность» этой книги не исчезла и до сих пор продолжает беспокоить читателя, надобно разобраться в ней более обстоятельно.
«Моби Дик» – это роман о Человеке и о человечестве. Но в первую очередь об исторических судьбах сообщества людей, именовавших себя американцами. Парадоксально, что именно этого современники писателя не поняли. Они не заметили Америки в самом «американском» из всех американских романов середины XIX века.
Одна из причин подобной «глухоты» к общественно-философскому смыслу книги состояла в том, что современники привыкли видеть в Мелвилле не столько писателя, сколько путешественника, наделённого наблюдательностью и не лишённого бойкости пера. Каждое его произведение воспринималось обычно как литературный «отчёт» о том или ином эпизоде в бродяжнической жизни автора.
«Тайпи» и «Ому» в глазах американской критики сороковых годов XIX века были всего лишь занимательным рассказом о пленении автора каннибалами и о жизни на Таити. В «Редберне» видели описание рейса в Ливерпуль на «Св. Лаврентии». «Белый бушлат» представлялся воспоминанием о службе на военном фрегате «Соединённые Штаты». Да и появление «Моби Дика» объясняли тем обстоятельством, что плавание на китобойце «Акушнет» оставалось единственной неиспользованной страницей в «долитературной» жизни Мелвилла, и потому автор просто не мог не написать романа об охоте на китов.
Логичность этого стройного взгляда несколько нарушило появление третьего романа Мелвилла («Марди»). Его никак не удавалось привязать к биографии автора. Но критиков это не смутило. Они объявили роман неудачным и приветствовали появление «Редберна», как свидетельство того, что Мелвилл образумился, перестал лезть не в своё дело и вернулся к рассказу о собственных приключениях.
Некоторые основания для подобной оценки творчества Мелвилла у современников были. Писатель и в самом деле широко использовал собственный жизненный опыт в своих книгах. Но критики, яростно спорившие о достоверности фактов, изложенных в «Тайпи» и «Ому», не понимали, что события личной жизни автора, его наблюдения и впечатления были только материалом его книг, но не их смыслом. Между тем даже беглое знакомство с общественной и духовной жизнью Америки времён Мелвилла убеждает нас, что его романы являются порождением американской действительности сороковых – пятидесятых годов XIX иска.
Двадцатые, тридцатые, сороковые годы XIX века в истории США были временем интенсивного экономического роста. Быстро осваивались земли американского Запада. Строились дороги, каналы и мосты. В Новой Англии как грибы росли фабрики и заводы. Со стапелей сходили всё новые и новые корабли торгового флота. Американская экономика развивалась темпами, которых мир доселе ещё не знал.
Американцы пожинали плоды экономической независимости, завоёванной в двух войнах, и жили в убеждении, что Америка – «страна неограниченных возможностей», богом избавленная от голода, нищеты, кризисов и прочих неприятностей, которыми изобиловала история Старого Света. Они гордились своим республиканизмом, демократическим духом своих учреждений, неисчерпаемыми богатствами своей родины. Отсюда энергичный патриотизм американской литературы десятых – двадцатых годов XIX века, стремление прославить Америку в поэзии и возвеличить её недолгую историю в прозе. Отсюда и стремление как можно скорее создать свою национальную культуру, достойную великого народа, и тем самым покончить с вековой культурной зависимостью от Европы.
Однако не всё в жизни Америки этой поры укладывалось в картину безоблачного процветания. Где-то подспудно зарождались и вызревали социальные конфликты, нарушавшие спокойное течение общественной жизни. Со временем они обострялись всё более и более и в конце концов взорвали американское благополучие, ввергнув страну в пучину Гражданской войны.
Постепенно обнаружилось, что понятие «национальное благо» в сфере экономической, политической и социальной – не более как фикция. То, что было благом для одних, оказывалось смертью для других. Всякая попытка регулировать экономику страны законодательным путём приводила к политическим кризисам.
Ожесточённая борьба между плантаторами Юга, промышленниками Севера и фермерами Запада привнесла в политическую жизнь Америки дух коррупции и демагогии. Просветительские лозунги, начертанные на знамёнах американской буржуазной революции, утратили свой первоначальный смысл. Теперь они стали предметом спекуляции, орудием в борьбе за достижение отнюдь не бескорыстных целей.
Нравственные принципы американской буржуазной демократии, выдвинутые XVIII веком и сформулированные Франклином, постепенно переосмысливались. Под напором капиталистического прогресса их демократизм таял, их буржуазность усиливалась. Знаменитый франклиновский афоризм «Время – деньги!» звучал уже не как осуждение праздности, но как призыв к обогащению. Поклонение доллару не воспринималось более как тайный порок. Его не стыдились.
Все эти обстоятельства общественной, политической и духовной жизни Америки оказывали сильнейшее воздействие на характер развития американской литературы тридцатых – сороковых годов XIX века. Творчество Мелвилла не составляло исключения.
Он писал морские романы («Редберн», «Белый бушлат», «Моби Дик») не просто потому, что сам был моряком, но потому, что Америка в сороковые годы XIX века уже стала крупнейшей морской державой мира. Жизнь американских моряков была важной частью национальной действительности. Америка не была бы Америкой без своего торгового, военного, китобойного и рыболовного флота. Усилиями Фенимора Купера, Ричарда Дана, Мелвилла и других корабельная палуба сделалась столь же привычным местом действия романов и повестей, как фермерский дом или городская площадь. В первой половине XIX века «морской роман» стал безраздельной монополией американской литературы. И это не случайно. Не случайно и то, что в названных романах Мелвилла романтика моря занимает второстепенное место. Первое отведено социальным аспектам морской жизни.
Даже первые произведения Мелвилла («Тайпи» и «Ому») не были простым изложением впечатлений, накопленных автором в годы скитальческой жизни. Они содержат в себе обобщения, которые ставят их в непосредственную и теснейшую связь с утопическим романтизмом, столь характерным для американской социально-философской мысли и литературы сороковых годов.
Описание «идеальной» жизни каннибалов построено у Мелвилла по всем правилам романтической утопии. И дело не в том, чтобы восславить благородство людоедов, но в том, чтобы вскрыть порочность буржуазной цивилизации. В этом плане ранние книги Мелвилла тесно соприкасаются с такими сочинениями американских романтиков, как «Колония на кратере» Купера, «Блайтдейл» Готорна, «Уолден» Торо и др. Таким образом, мы видим, что невозможно ставить знак равенства между материалом книг Мелвилла и их содержанием. Материалом могли быть события из жизни писателя. Содержанием была жизнь его родины.
Каждое из его произведений, на каком бы материале оно ни было основано, представляет собой художественное исследование сложного комплекса экономических, политических, нравственных, психологических, философских явлений, определявших материальную и духовную жизнь Америки середины XIX века. Можно спорить о глубине и уровне мысли Мелвилла, о методологии и художественных достоинствах, но тот факт, что Мелвилл писал не о себе, а об Америке, – неоспорим. Это справедливо по отношению к любой его книге, и вдвойне справедливо по отношению к «Моби Дику».
Разумеется, в «Моби Дике», особенно в первых его главах, имеется довольно энергичное лирическое начало. Оно связано с образом Измаила, от имени которого ведётся повествование. Мелвилл не описывает подробно своего лирического героя, полагаясь на силу ассоциаций, которые должно было вызвать его имя. И в самом деле, достаточно было современникам Мелвилла, воспитанным на Священном писании, прочесть первую фразу романа – «Зовите меня Измаил», – как перед их взором немедленно возникала библейская параллель – образ изгнанника, осуждённого на вечные скитания.
Очень скоро, однако, лирическое начало утрачивает своё образное воплощение и становится моментом стиля. Измаил, как характер и персонаж, почти исчезает из повествования. Его сознание сливается с авторским сознанием, и в романе остаётся один повествователь – автор. Время от времени он как бы вспоминает о своём лирическом герое, но не надолго. Героем становится авторская мысль, бьющаяся в поисках истины. И эта мысль, опять-таки, не о себе и не о своей жизни, а об Америке, человечестве, вселенной. Таким образом, мы видим, что субъективно-лирическая сторона романа, при всей её значительности, тоже лишена автобиографического смысла.
Утвердившись в мнении, что «Моби Дик» – роман об охоте на кита, современники тут же нашли в нём массу несообразностей. Они сразу «заметили» перегруженность книги материалом, «не идущим к делу». По их понятиям, драматическим сценам место было в драме, философским главам – в эссе или философской повести, «китологиче-скому» материалу – в научном трактате.
Американский читатель середины XIX века привык к жанровой чёткости. Он отлично знал, что такое морской роман, имея в своём распоряжении сочинения Фенимора Купера и Ричарда Дана. Он был знаком с «китобойным» жанром по произведениям того же Купера и других, ныне забытых авторов. Он вполне отчётливо представлял себе, каковы характерные признаки фантастической повести, социального романа и романа приключенческого.
Но в его читательском опыте не было «синтетического» жанра, в котором оказались бы сплавленными в едином повествовании основные достижения американской романтической прозы. «Моби Дик» явился первым успешным экспериментом в этой области.
Споры о жанровой принадлежности «Моби Дика» бесплодны. Даже согласившись, что это роман, мы не придём к желаемой определённости. Романы бывают разные. «Моби Дик» содержит в себе признаки романа-эпопеи, романа из истории нравов, романа философского, социального, морского, фантастического. Но он не принадлежит ни к одному из этих типов. Более того, его нельзя расчленить на философские, приключенческие, сугубо научные «куски». Повествование о Белом Ките – монолитная глыба, не поддающаяся рассечению.
Синтетизм «Моби Дика» не был случайностью. Он составляет фундамент особой структуры повествования, которую Мелвилл долго и мучительно искал.
Необходимость поисков была очевидной. Мелвилл задался грандиозной целью создать современный американский эпос. Здесь должна была получить отражение социальная, экономическая, духовная жизнь Америки, стоявшей на пороге гражданской войны. Автор обязан был художественно осмыслить трагические противоречия действительности и сознания, которые, как ему казалось, увлекали страну к гибели. Осуществить эту цель в чётких рамках одного определённого жанра, одного уже известного типа романтического повествования было явно невозможно. Отсюда жанровая полифония «Моби Дика». Отсюда же, кстати, и его сложная система символов.
В рамках небольшой статьи немыслимо рассмотреть знаменитый роман Мелвилла во всей его сложности. Но приглядеться внимательно к трём его основным аспектам – китобойному, социальному и философскому – просто необходимо. Здесь сосредоточены главные его проблемы. Сюда тянутся все элементы повествования.
Современному читателю может показаться странным, что Мелвилл, замысливший создать эпическую картину жизни Америки середины XIX века, построил свой роман как историю китобойного рейса.
В наши дни китобойные флотилии, которые уходят в плавание, провожают с оркестром и встречают цветами. Их мало. Их названия известны всей стране. Профессия китобоя считается экзотической.
Сто лет назад китобойный промысел занимал в жизни Америки столь важное место, что именно в нём писатель увидел материал, пригодный для постановки важнейших проблем национальной действительности. Достаточно познакомиться с двумя-тремя цифрами, чтобы удостовериться в этом.
В 1846 году мировой китобойный флот насчитывал около девятисот судов. Из них семьсот тридцать пять принадлежали американцам. Добыванием китового жира и спермацета в Америке занималось около ста тысяч человек. Капиталовложения в китобойный промысел исчислялись не десятками, а сотнями миллионов долларов.
Ко времени написания «Моби Дика» охота на китов утратила уже черты промысловой патриархальности и перешла к методам промышленного капитализма. Корабли превратились в фабрики с потогонной системой труда. Если оставить в стороне чисто мореплавательскую специфику китобойного дела, то в нём было не больше экзотики, чем в чугунолитейной, угледобывающей, текстильной или любой другой отрасли американской индустрии.
Америка жила в «зависимости от кита». Нефть не была ещё найдена на Американском континенте. Вечера и ночи американцев проходили при свете спермацетовых свечей. Смазка для машин изготовлялась из китового жира. Переработанный жир шёл в пищу, поскольку американцы не стали ещё нацией скотоводов. Даже шкура кита шла в дело, не говоря о китовом усе и серой амбре.
Критик, сказавший, что «Моби Дик» мог быть написан «только американцем, причём американцем мелвилловского поколения», был безусловно прав. «Моби Дик» – американский роман не вопреки китам, а, скорее, благодаря им.
Общепризнано, что, как роман, рисующий картины китобойного промысла, «Моби Дик» уникален. Он поражает тщательностью изображения добычи китов, разделки китовых туш, производства и консервации горючих и смазочных веществ. Десятки страниц этой книги посвящены организации, структуре китобойного промысла, производственным процессам, протекающим на палубе китобойца, описанию инструментов и орудий производства, специфическому разделению обязанностей, производственным и бытовым условиям жизни моряков.
Тем не менее «Моби Дик» – не производственный роман. Различные стороны жизни и труда китобоев, показанные Мелвиллом, имеют, разумеется, самостоятельный интерес, но прежде всего они образуют круг обстоятельств, в которых живут, мыслят и действуют герои. Более того, автор без устали находит поводы для размышлений над общественными, нравственными, философскими проблемами, уже не имеющими отношения к промыслу.
В этом «китобойном» мире огромную роль играют киты. И потому «Моби Дик» – роман о китах в такой же степени, если не в большей, как и роман о китобоях. Читатель найдёт здесь массу сведений по «китологии»: классификацию китов, сравнительную их анатомию, информацию, касающуюся экологии китов, их историографию и даже иконографию.
Мелвилл придавал этой стороне романа особое значение. Не удовлетворяясь собственным опытом, он тщательно проштудировал научную литературу от Кювье и Дарвина до специальных работ Бийла и Скорсби. Здесь, однако, следует обратить внимание на одно чрезвычайно существенное обстоятельство. В соответствии с авторским замыслом, киты в «Моби Дике» (и в особенности сам Белый Кит) должны были играть необычную роль, далеко выходящую за рамки китобойного промысла. Готовясь к написанию «китологических» разделов, Мелвилл интересовался не только книгами по биологии и естественной истории. Можно сказать, что человеческие представления о китах занимали писателя гораздо больше, чем сами киты. В списке литературы, которую он изучал, наряду с Дарвином и Кювье встречаются романы Фенимора Купера, сочинения Томаса Брауна, записки шкиперов китобойных судов, воспоминания путешественников. Мелвилл тщательно собирал всевозможные легенды и предания о героических подвигах китобоев, о чудовищных по размерам и злобности китах, о трагической гибели многих вельботов, а иногда и судов, потонувших со всей командой в результате столкновения с китами. Не случайно само имя Моби Дика так близко напоминает имя легендарного кита (Моха Дик) – героя американских матросских преданий, а финальная сцена романа разворачивается в обстоятельствах, заимствованных из рассказов о гибели китобойца «Эссекс», потопленного огромным китом в 1820 году.
Авторы специальных исследований легко устанавливают связь целого ряда образов, ситуаций и других элементов повествования в «Моби Дике» с традициями американского морского фольклора. Особенно легко и отчётливо фольклорное воздействие прослеживается в тех частях книги, которые связаны с охотой на китов и самими китами. Облик кита в человеческом сознании, качества, которыми люди наделяли китов в разные времена и при различных обстоятельствах, – всё это было для Мелвилла крайне важно. Недаром он предпослал роману весьма своеобразную подборку цитат о китах. Наряду со ссылками на знаменитых историков, биологов и путешественников, читатель найдёт здесь выдержки из Библии, извлечения из Лукиана, Рабле, Шекспира, Мильтона, Готорна, из рассказов безвестных матросов, кабатчиков, спившихся шкиперов, а также из таинственных авторов, скорее всего выдуманных самим Мелвиллом.
Киты в «Моби Дике» – не только биологические организмы, обитающие в морях и океанах, но одновременно и порождение человеческого сознания. Недаром писатель классифицирует их по принципу классификации книг – in folio, in octavo, in duodecimo и т. д. И книги и киты предстают перед читателем как продукты человеческого духа.
Мелвилловские киты живут двойной жизнью. Одна протекает в океанских глубинах, другая – в просторах человеческого сознания. Первая описана с помощью естественной истории, биологической и промышленной анатомии, наблюдений над привычками и поведением китов. Вторая проходит перед нами в окружении философских, нравственных и психологических категорий. Кит в океане материален. Его можно и должно загарпунить, убить, разделать. Кит в человеческом сознании имеет значение символа и эмблемы. И свойства его совсем другие.
Вся китология в «Моби Дике» ведёт к Белому Киту, который не имеет никакого отношения к биологии или промыслу. Его естественная стихия – философия. Его вторая жизнь – жизнь в человеческом сознании – куда важнее первой, материальной.
Хотя сюжет «Моби Дика» построен как история китобойного рейса в далёкие просторы Атлантики и Тихого океана, главным предметом авторского внимания остаётся современная Мелвиллу Америка. Подобно многим своим современникам, собратьям по перу, Мелвилл остро ощущал неблагополучие в общественной и политической жизни своей родины. Соединённые Штаты развивались быстро, интенсивно, но само направление развития не совпадало с предначертаниями «отцов американской демократии». Идеалы продолжали оставаться идеалами, не претворяясь в практику. В экономической жизни господствующим принципом было по-прежнему имущественное неравенство, в общественной морали – стяжательство, в политике царила беспринципность, демагогия и коррупция. В результате «свободная и счастливая жизнь для каждого человека», во имя которой умирали солдаты американской революции, оказывалась пустым звуком, а знаменитая американская демократия – фикцией.
Среди американских романтиков Мелвилл был, вероятно, самым большим пессимистом. Фенимор Купер – один из наиболее острых критиков буржуазной Америки – отдавал себе полный отчёт относительно расхождения между идеалом и действительностью. Но он верил, что общественное зло в жизни Соединённых Штатов преходяще и недолговечно. Ему казалось, что американская демократия в своём развитии временно отклонилась от нормального пути, но непременно вернётся на него в будущем. Мелвилл смотрел глубже, чем Купер. Он был убеждён, что современное состояние американской демократии – естественный результат исторического развития; что социальное зло заложено в самих основах американской общественной жизни. По мысли Купера, дальнейший прогресс должен был привести Америку к выздоровлению. По мысли Мелвилла – к катастрофе.
Социальная и политическая жизнь Соединённых Штатов получила в «Моби Дике» широкое, хотя и не прямое отражение. Мелвилла интересовали не столько конкретные события и факты, сколько общие законы и нравственные принципы, управляющие человеческой судьбой или, точнее, судьбой американцев. В многочисленных авторских отступлениях, в потоке образных ассоциаций, возникающих по всякому, иногда случайному поводу, автор исследует проблему бедности и богатства, соотношение между свободой воли и экономическим принуждением и, наконец, приходит к довольно смелому выводу о том, что собственность есть первопричина всякой зависимости человека.
Мелвилл говорит обо всём этом по ходу описания различных деталей китобойного промысла, но истоки его мысли, материал, на котором он строит свои широкие обобщения, явно лежит за пределами романа. Писатель опирается на многие стороны американской действительности, на результат многолетних наблюдений.
Одна из особенностей «Моби Дика» состоит в том, что книга эта в значительной степени обращена в будущее. Автор изучает современность не только для того, чтобы воспроизвести её в художественных образах. Главная его цель – на основе исследования сегодняшней Америки предсказать её завтрашний день. Иногда он даже обращается к вчерашнему дню, но с той же целью – выявить направление нравственной эволюции американского общества, с тем чтобы определить, к чему эта эволюция может прийти в будущем.
Не все прогнозы Мелвилла оказались точными. Но некоторые поражают проницательностью. Мелвилл сумел разглядеть в современной действительности зародыши явлений, которые развились в полную силу лишь спустя несколько десятилетий. Удивительно, что Мелвиллу удавались верные прогнозы в самых сложных областях, там, где взаимодействовали экономика и мораль, политика, философия и психология.
Предвидения Мелвилла по большой части облекались в форму сложных, многозначных символов. Так, например, образ корабля под звёздно-полосатым флагом, на борту которого собралась разноплемённая команда, помимо своего основного смысла, имеет ещё несколько символических значений. Одно из них – Америка, плывущая по неизведанным водам истории к неизвестной гавани. Куда она плывёт? Суждено ли ей доплыть? Или, может быть, она погибнет, направляемая неразумной волей? Все эти вопросы тревожили Мелвилла. Он искал ответа на них, пытаясь установить, какие силы, интересы, стремления руководят жизнью американского общества. Как всегда, его интерес имел абстрактно-этический уклон.
Америка времён Мелвилла не обладала ещё высокой степенью национального единства. То была страна, в которой соседствовали различные экономические уклады, разные нравственные системы, разнообразные политические идеи. Внутренние противоречия с каждым днём становились острее. Компромиссы, на которых строилось мирное благополучие государственной жизни, доставались всё более дорогой ценой. Никто, разумеется, не знал ещё, что через десять лет начнётся Гражданская война, но предчувствие катастрофы пронизывало духовную атмосферу страны.
Понятие «Америка» не было в сознании Мелвилла всеобъемлющим. Говоря об Америке, он думал в первую очередь о Новой Англии. Это естественно. Новая Англия была гегемоном. Она задавала тон по многих областях национальной жизни и особенно в экономике. Именно эта группа штатов стала первой на путь промышленно-капиталистического развития. Судьба нации во многом зависела от того, что подумают и сделают жители Массачусетса или Нью-Гэмпшира. Отсюда повышенный интерес Мелвилла к новоанглийским устоям, нравам, к новоанглийскому характеру.
С самого начала Мелвилл отдаёт судьбу «Пекода» в руки трёх новоанглийских квакеров: владельца корабля Вилдада, капитана Ахава и его старшего помощника Старбека. От них зависит направление, успех и цель плавания. Каждый из них олицетворяет определённую эпоху в нравственном развитии Новой Англии.
Вилдад – это вчерашний день. Он набожный стяжатель и лицемер. Но ни набожность, ни стяжательство, ни лицемерие не воспринимаются как индивидуальные свойства его натуры. Они традиционны для Новой Англии и составляют самую суть американского пуританства, в котором суровое благочестие всегда уживалось с беззастенчивой жаждой наживы. Вилдад скопидом. Он стар. В нём нет энергии. Да если б и была, она вся уходила бы в скопидомство. Бурные плавания не для него. На борту «Пекода» ему делать нечего. «Пекод» отплывает, Вилдад остаётся.
Сегодняшний день Новой Англии представлен Старбеком. Он тоже благочестив, но, в отличие от Вилдада, не лицемерен. Собственно, Мелвилл и не даёт ему повода лицемерить. Он искусный моряк и китобой. Он человечен. Но в нём нет инициативы, размаха. Он не живёт ощущением великой цели. Он может вывести «Пекод» в плавание, но он обязательно приведёт его назад к Вилдаду. Ему не уйти из-под власти вчерашнего дня. Но и перед завтрашним днём ему не устоять. Завтра он будет не на месте. У Старбека много привлекательных качеств. Но у него нет будущего.
Будущее воплощено в образе Ахава. Оно-то и занимает мысли Мелвилла более всего. Ахав – характер сложный, противоречивый, многозначный. В нём сплавлены романтическая таинственность, библейская вековая боль человечества, фанатическая ненависть к Злу и неограниченная способность творить его. Но сквозь всю сложность, сквозь сплетение физических, нравственных, психологических элементов отчётливо просматриваются «законы бытия», которые ещё только формировались в Америке мелвилловских времён.
Новоанглийские «пионеры» середины XIX века уже не расчищали лесов под посевы, не воевали с индейцами, не оборонялись от хищных зверей, укрывшись за деревянным частоколом. Они строили заводы и фабрики, корабли и железные дороги. Они торговали с целым светом и открывали банки в американских городах. Тем самым они осуществляли великую задачу экономического прогресса. Своей деятельностью они способствовали процветанию родины и склонны были считать себя солью земли. В их нравственном мире бизнес был верховным владыкой, которому приносилось в жертву всё, не исключая самой человеческой жизни. Впоследствии американская литература представила читателям целую вереницу апостолов бизнеса. Среди них мы найдём многих героев Ф. Норриса, Т. Драйзера, Э. Синклера, С. Льюиса и др. Но всё это было позже.
Конечно, Ахав не «капитан индустрии» и не бизнесмен. Ему определена другая роль. Однако его целеустремлённость, способность перешагнуть через любые препятствия, его умение не смущаться рассуждениями о справедливости, отсутствие страха, жалости, сострадания, его отвага и предприимчивость, а главное, размах и железная хватка – всё это позволяет видеть в нём «пророческий прообраз будущих строителей империи второй половины века»[334], каждый из которых тоже преследовал своего Белого Кита, преступая юридические, человеческие и божеские законы.
В этом плане Ахав был одним из самых тонких прозрений Мелвилла.
В фанатическом безумии капитана Ахава и в символической картине гибели «Пекода» есть ещё и другой смысл, имеющий отношение к некоторым событиям политической жизни Соединённых Штатов середины века. О них, правда, в романе даже не упоминается, но зато внимательно исследуется одно из нравственно-психологических явлений, непосредственно связанных с этими событиями. Речь идёт о фанатизме, вписавшем, как известно, немало мрачных страниц в историю Америки.
Конфликт между Севером и Югом был основным конфликтом общественно-политической жизни США той эпохи. Накал политических страстей достиг к концу сороковых годов необычайно высокой степени. Южане, надеявшиеся подчинить жизнь нации своим интересам, с ожесточением дрались за новые территории и вынуждали конгресс к таким законодательным мерам, которые сулили выгоды плантационному хозяйству. Они держались агрессивно и шли на крайние меры. В глазах Мелвилла они были фанатиками, готовыми в своём ослеплении погубить Америку. Не меньше пугали его и новоанглийские аболиционисты, которые вкладывали в дело освобождения негров весь свой пуританский пыл и нерастраченный темперамент.
Аболиционизм был широким, демократическим, исторически-прогрессивным движением. Участники его преследовали благородную цель уничтожения рабства на американской земле и объективно содействовали дальнейшему экономическому и общественно-политическому развитию Америки. К аболиционизму примыкали все важнейшие демократические течения эпохи.
Мелвилл, как и многие его современники (Эмерсон, Торо, Готорн, Уитмен, Лонгфелло и др.), был целиком и полностью на стороне аболиционистов. Он не состоял в аболиционистских обществах, но сама идея ликвидации рабства и уничтожения расовой дискриминации была чрезвычайно близка ему. Не случайно, размышляя о силах, которые могли бы противостоять социальному неравенству и несправедливости, Мелвилл, наряду с патетическими тирадами о «царственном величии» мозолистой руки, о благородстве трудового человека, вводит в свой роман о Белом Ките мотив братского единения рас и наций. Рядом со своим героем он ставит трёх гарпунёров: индейца Тэштиго, негра Дэггу и полинезийца Квикега – людей, возвышающихся над прочими своим высоким благородством и достоинством. Этот союз, эмблемой которого могли бы стать руки, сплетённые в одном пожатии, достаточно яркое свидетельство симпатий и настроений Мелвилла. Впрочем, этот мотив по вполне понятным причинам был довольно широко распространён в американской литературе XIX века. Достаточно вспомнить Чингачгука и Натти у Фенимора Купера или Гека Финна и негра Джима у Марка Твена.
Таким образом, Мелвилл был несомненно на стороне аболиционистов и разделял их убеждения. Однако его беспокоил безрассудный фанатизм новоанглийских пуритан. Он опасался, что неблагоразумие и неосторожность фанатиков могут привести страну в состояние хаоса и погубить её в пламени гражданской войны.
Осенью 1851 года Мелвилл мог наблюдать вспышку активности аболиционистов в Массачусетсе, где традиционный фанатизм новоанглийских пуритан обрёл на этой почве новую силу. Их не могли остановить ни расправы, ни погромы, ни закон. Они были готовы на всё. И это тревожило писателя.
Показательно, что, пытаясь предугадать будущее, многие современники Мелвилла обращались в эти годы к истории пуританских поселений Новой Англии, ища в ней аналогий. Крупнейшие поэты и прозаики: Лонгфелло, Полдинг, Готорн – вспоминали о трагических событиях, в ходе которых религиозные фанатики, пытаясь истребить мнимое зло, тем самым творили зло реальное и непоправимое.
Социальное зло в современной действительности не было мнимым, но Мелвиллу представлялось, что фанатизм в борьбе со злом, даже если это борьба за правое дело, может привести к ещё большему злу, к страшной катастрофе. Отсюда и символика образа капитана, погубившего свой корабль со всей командой. Ахав – сильный и благородный дух. Он восстал против мирового Зла. Но он фанатик, и потому его попытка достигнуть прекрасной цели оказалась гибельной.
Очевидно, что проблема фанатизма в романе, поставленная преимущественно в философско-психологическом плане, восходит какими-то своими сторонами к политической жизни Америки конца сороковых – начала пятидесятых годов. Впрочем, за какой бы эпизод мы ни ухватились, какой бы образ или символ ни стали рассматривать, мы обязательно почувствуем соприкосновение с определёнными сторонами общественной жизни Америки. Потому-то «Моби Дик» по справедливости считается социальным романом.
Размышляя над неблагополучием социальной жизни своей родины, Мелвилл, подобно многим американским романтикам, пытался выявить силы, её направляющие. Три выдающихся художника этой поры как бы поделили между собой области поисков. Натаниель Готорн занялся вопросами нравственной истории. Эдгар По углубился в исследование психологических аномалий сознания. Мелвиллу «досталась» сфера общих, универсальных законов бытия. Это вело его с неизбежностью к проблемам философского характера. «Моби Дик» тем самым превращался в философский роман. Подавляющее большинство современников Мелвилла полагало, что силы, руководящие человеческой жизнью, равно как и жизнью народов и государств, лежат за пределами человека и общества. Они мыслили в рамках господствующих направлений современной религии и философии и потому придавали этим силам универсальный, вселенский характер. В ходу были термины пуританской теологии и немецкой идеалистической философии, и всё сводилось, в сущности, к различным вариантам «божественной силы». То мог быть традиционный грозный бог новоанглийских пуритан, бог в человеке американских трансценденталистов, абсолютный дух немецких романтиков и философов или безличные «провиденциальные законы». Пессимист и скептик, Мелвилл сомневался в справедливости этих представлений. В своём романе он подверг их анализу и проверке, которой в конечном счёте ни одно из них не выдержало. Мелвилл поставил проблему в самом общем виде: существует ли в природе некая высшая сила, ответственная за жизнь человека и человеческого общества? Ответ на этот вопрос требовал в первую очередь познания природы. А так как природа познаётся человеком, то немедленно вставал вопрос о доверии к сознанию и об основных типах познающего сознания. С этим связаны наиболее сложные символы в «Моби Дике» и прежде всего, конечно, сам Белый Кит.
Историки литературы до сих пор спорят относительно символического значения этого образа. Что это – просто кит, воплощение мирового Зла, или символическое обозначение вселенной? Каждое из этих толкований подходит для одних эпизодов романа, но не годится для других. Вспомним, что Мелвилла занимали не сами киты, а человеческие представления о них. В данном случае это особенно важно. Белый Кит в «Моби Дике» существует не сам по себе, а всегда в восприятии персонажей романа. Мы не знаем, в сущности, как он выглядит на самом деле. Но зато нам известно, каким он представляется Стаббу, Измаилу, Ахаву и другим.
Для Стабба Моби Дик просто кит. Огромный белый кит, и только. Для Ахава Моби Дик воплощение всего Зла мира. Для Измаила – символическое обозначение вселенной. И дело здесь не в том, что Моби Дик символически представлен в нескольких ипостасях. Дело в типе познающего сознания. У Стабба сознание индифферентное. Оно только регистрирует явления, не подвергая их анализу и не пытаясь определить их существо. У Ахава сознание проецирующее. Ему безразлично, каков Моби Дик на самом деле. Ахав переносит на Белого Кита представления, живущие в его собственном мозгу. Именно поэтому сознание Ахава трагично. Ахав не может уничтожить Зло. Он может уничтожить лишь самого себя.
Лишь созерцательному сознанию Измаила Мелвилл даёт увидеть истину. Эта истина с точки зрения религиозной ортодоксии крамольна и ужасна. Во вселенной нет сил, направляющих жизнь человека и общества. В ней нет ни бога, ни провиденциальных законов. В ней – только неопределённость, безмерность и пустота. Её силы не направлены. Она безразлична к человеку. И незачем людям надеяться на высшие силы. Их судьбы в их собственных руках.
Этот вывод чрезвычайно важен. По сути дела, вся философия в «Моби Дике» призвана помочь в решении вопроса о том, как поведут себя американцы в момент грядущей катастрофы. Рассказывая трагическую историю «Пекода», Мелвилл словно предупреждал соотечественников: не ждите вмешательства свыше. Высших сил, провиденциальных законов, божественного разума не существует. Судьба Америки зависит только от вас!
«…Когда душа поэта созрела и мысль его окрепла, природа отделяет от него сложённые им стихи и песни и посылает странствовать в мир это отважное, неутомимое, нетленное потомство, которому не страшны превратности событий в неустойчивом царстве исторического времени…»* Эти слова Эмерсона приложимы не только к «стихам и песням», но к любому великому произведению искусства, в том числе и к шедевру Германа Мелвилла.
[* Р.-У. Эмерсон. Поэт. Цит. по кн.: «Эстетика американского романтизма». М., 1977, с. 315.]
«Моби Дик» отправился в самостоятельное плавание в 1851 году. Вот уже сто тридцать лет плывёт он в океане духовного бытия человечества, то незаметно, почти пропадая в глубине, то всплывая на поверхность и привлекая к себе всеобщее внимание. В последние несколько десятилетий интерес к творчеству Мелвилла буквально захлестнул американскую критику. Количество монографий и книг о нём исчисляется десятками, количество диссертаций и статей давно перевалило за тысячу. Возник даже иронический термин «мелвилловская индустрия», объединяющий все виды деятельности на ниве мелвилловедения и заставляющий вспомнить о китобойном промысле.
«Моби Дик» сделался вожделенной добычей критиков, философов, психологов и даже богословов, которые выходят на великую китовую охоту, вооружившись кто как может. Структуралисты и «новые критики» режут его на кусочки деликатным скальпелем, полагая, что главный смысл содержится именно в кусочках и в том, как они сложены; фрейдисты втыкают в него гарпуны и норовят вытащить из воды (зачем киту вода, когда всё дело в подсознании, подавленных влечениях и комплексах?); юнгианцы и мифокритика лупят по нему гранатами из гарпунных пушек, надеясь отыскать в развороченной туше неуловимый «архетип». Однако мелвилловский «Моби Дик» обладает неуязвимостью легендарного Белого Кита. Его ни гарпунами, ни пушками не возьмёшь. От критических налётов остаются только брызги, пена и обломки, а Левиафан плывёт себе дальше, рассекая волны могучим лбом.
Обилие истолкований «Моби Дика» – не только результат вольных или невольных методологических заблуждений. Это ещё и некая закономерность, обусловленная внутренним качеством романа, общая для многих выдающихся явлений мировой литературы. Возьмём, к примеру, историю истолкований бессмертной трагедии о принце датском. Каких только Гамлетов не перевидали зрители за последние триста лет! Были среди них пожилые и молодые, сильные и слабые, волевые и безвольные, интеллектуальные и эмоциональные, бунтари и конформисты. Который из них был «правильным»? Совершенно очевидно, что такая постановка вопроса незаконна. И прав, конечно, был Джон Гилгуд, утверждая, что каждое поколение должно прочитывать «Гамлета» заново и находить в нём «свои» проблемы и ценности. То, что волновало читателей середины XIX столетия, может оставить их равнодушными сегодня, и наоборот.
«Моби Дик» именно такого рода книга. Она не устаревает, ибо каждое новое поколение читает её по-своему, в свете собственного исторического и духовного опыта. В издательской аннотации на одну из последних значительных монографий о Мелвилле говорится, что автор её предлагает новое прочтение «Моби Дика», которое соотносит проблематику и всю художественную систему романа «с заботами и страхами человека, живущего в конце XX века и с неизбежностью обречённого загрязнять атмосферу, отравлять озёра и реки, стирать с лица земли естественный пейзаж»*. И это не пустая реклама. Исследователь и в самом деле трактует роман как книгу о судьбах человечества, которому открыты два способа существования: в антагонизме с природой или в органическом единстве с ней.
[* R. Zoeliner. The salt-sea mastodon. Berkeley, 1973.]
Мелвилловскому «Белому Киту» суждена долгая жизнь. Долго ещё будет он бороздить просторы человеческого сознания, и каждое новое поколение читателей, берущее в руки великий американский роман, может воскликнуть вместе с капитаном Ахавом: «Лицом к лицу встречаю я тебя сегодня, о Моби Дик!»
Юрий Витальевич Ковалёв
1981
Пределы вселенной Германа Мелвилла
В литературной истории Соединённых Штатов творчество Германа Мелвилла – явление выдающееся и своеобразное. Писатель давно уже причислен к классикам американской словесности, а его замечательное творение «Моби Дик, или Белый Кит» с полным основанием считается одним из шедевров мировой литературы. Жизнь Мелвилла, его сочинения, переписка, дневники досконально изучены. Существуют десятки биографий и монографий, сотни статей и публикаций, тематические сборники и коллективные труды, посвящённые различным аспектам творчества писателя. И всё же Мелвилл как личность и как художник, прижизненная и посмертная судьба его книг продолжают оставаться загадкой, до конца не разгаданной и не объяснённой.
Жизнь и творчество Мелвилла полны парадоксов, противоречий и труднообъяснимых странностей. Так, например, у него не было сколько-нибудь серьёзного формального образования. Он никогда не обучался в университете. Да что там университет! Суровая жизненная необходимость вынудила его бросить школу в возрасте двенадцати лет. Вместе с тем, книги Мелвилла говорят нам, что он был одним из образованнейших людей своего времени. Глубокие прозрения в сферах гносеологии, социологии, психологии, экономики, с которыми читатель сталкивается в его произведениях, предполагают не только наличие острой интуиции, но также и солидный запас научных знаний. Где, когда, каким образом он их приобретал? Можно только предполагать, что писатель обладал удивительной способностью к концентрации внимания, позволявшей ему в короткое время осваивать огромное количество информации и критически её осмысливать.
Или возьмём, скажем, характер жанровой эволюции творчества Мелвилла. Мы уже привыкли к более или менее традиционной картине: молодой литератор начинает со стихотворных опытов, затем пробует себя в кратких прозаических жанрах, потом переходит к повестям и наконец, достигнув зрелости, берётся за создание крупных полотен. У Мелвилла всё было наоборот: он начал с повестей и романов, затем взялся за сочинение рассказов и закончил свой творческий путь как поэт.
В творческой биографии Мелвилла не было ученического периода. Он не пробивался в литературу, он «ворвался» в неё, и первая же его книга – «Тайпи» – принесла ему широкую известность в Америке, а затем в Англии, Франции и Германии. В дальнейшем мастерство его возрастало, содержание книг становилось более глубоким, а популярность необъяснимым образом падала. К началу шестидесятых годов Мелвилл был «намертво» забыт современниками. В семидесятые годы один английский почитатель его таланта пытался разыскать Мелвилла в Нью-Йорке, но безуспешно. На все расспросы он получал равнодушный ответ: «Да, был такой писатель. Что с ним теперь – неизвестно. Кажется, умер». А Мелвилл жил тем временем в том же Нью-Йорке и служил досмотрщиком грузов в таможне. Вот и ещё один загадочный феномен, который можно назвать «молчанием Мелвилла». В самом деле, писатель «замолчал» в расцвете сил и таланта (ему не было ещё сорока лет) и молчал три десятилетия. Единственное исключение составляют два сборника стихотворений и поэма, опубликованные мизерным тиражом за счёт автора и совершенно не замеченные критикой.
Столь же неординарной была и посмертная судьба творческого наследия Мелвилла. До 1919 года его как бы не существовало. О писателе забыли столь прочно, что когда он действительно умер, то в кратком некрологе не сумели даже правильно воспроизвести его имя. В 1919 году исполнилось сто лет со дня рождения писателя. По этому поводу не было ни торжественных собраний, ни юбилейных статей. О славной дате вспомнил лишь один человек – Рэймонд Уивер, именно тогда приступивший к сочинению первой биографии Мелвилла. Книга вышла спустя два года и называлась «Герман Мелвилл, моряк и мистик». Усилия Уивера поддержал известный английский писатель Д. Г. Лоуренс, чья популярность в Америке в эти годы была огромна. Он написал две статьи о Мелвилле и включил их в свой сборник психоаналитических статей «Этюды о классической американской литературе» (1923).
Америка вспомнила Мелвилла. Да как вспомнила! Книги писателя начали переиздаваться массовыми тиражами, из архивов были извлечены неопубликованные рукописи, по мотивам сочинений Мелвилла снимали кинофильмы и ставили спектакли (в том числе и оперные), художники вдохновлялись образами Мелвилла, и Рокуэлл Кент создал серию блистательных графических листов на темы «Белого Кита».
Естественно, что мелвилловский «бум» распространился и на литературоведение. За дело взялись историки литературы, биографы, критики и даже люди, далёкие от литературы (историки, психологи, социологи). Тонкий ручеёк мелвилловедения превратился в бурный поток. Сегодня этот поток несколько поутих, но далеко ещё не иссяк. Последний сенсационный всплеск случился в 1983 году, когда в заброшенном амбаре в северной части штата Нью-Йорк были случайно обнаружены два чемодана и деревянный сундук с рукописями Мелвилла и письмами членов его семьи. Сто пятьдесят мелвилловедов заняты теперь изучением новых материалов, имея в виду внести необходимые коррективы в жизнеописания Мелвилла.
Заметим, однако, что «возрождение» Мелвилла имеет лишь отдалённую связь с его столетним юбилеем. Истоки его следует искать в том общем умонастроении, которое характеризовало духовную жизнь Америки конца десятых – начала двадцатых годов нашего века. Общий ход социально-исторического развития США на рубеже веков и особенно первая империалистическая война породила в сознании многих американцев сомнение и даже протест против буржуазно-прагматических ценностей, идеалов, критериев, коими страна руководствовалась на протяжении полуторавековой своей истории. Этот протест реализовался на многих уровнях (социальном, политическом, идеологическом), в том числе и на литературном. Он был заложен в качестве идейно-философского основания в творчестве О'Нила, Фицджеральда, Хемингуэя, Андерсона, Фолкнера, Вулфа – писателей, которых традиционно относят к так называемому потерянному поколению, но которых правильнее было бы именовать поколением протестующим. Именно тогда Америка вспомнила о романтических бунтарях, утверждавших величайшую ценность человеческой личности и протестовавших против всего, что эту личность подавляет, угнетает, перекраивает по меркам буржуазной нравственности. Американцы вновь открыли для себя творчество По, Готорна, Дикинсон, а заодно и позабытого Мелвилла.
Сегодня уже никому не придёт в голову усомниться в праве Мелвилла расположиться на литературном Олимпе США, и в Пантеоне американских писателей, сооружаемом в Нью-Йорке, ему отведено почётное место рядом с Ирвингом, Купером, По, Готорном и Уитменом. Он читаем и почитаем. Завидная судьба, великая слава, о которой писатель не мог и помыслить при жизни![335]
Герман Мелвилл родился 1 августа 1819 года в Нью-Йорке в семье коммерсанта средней руки, занимавшегося импортно-экспортными операциями. Семья была многодетной (четыре сына и четыре дочери) и, на первый взгляд, вполне благополучной. Сегодня, когда мы знаем, сколь тесно личная и творческая судьба Мелвилла переплелась с историческими судьбами его родины, самый факт его рождения в 1819 году представляется знаменательным. Именно в этом году молодая, наивная, исполненная патриотического оптимизма и веры в «божественное предназначение» заокеанская республика пережила трагическое потрясение: в стране разразился экономический кризис. Самодовольному убеждению американцев, что в Америке «всё не так, как у них там, в Европе», был нанесён первый ощутимый удар. Впрочем, не всем было дано прочесть огненные письмена на стене. Отец Мелвилла оказался среди тех, кто не внял предупреждению и был жестоко наказан. Дела его торговой фирмы пришли в полный упадок, и в конце концов ему пришлось ликвидировать своё предприятие, продать дом в Нью-Йорке и перебраться в Олбани. Не выдержав нервного потрясения, он потерял рассудок и вскоре умер. Семейство Мелвиллов впало в «благородную нищету». Мать с дочерьми переехала в деревушку Лансинбург, где кое-как сводила концы с концами, а сыновья разбрелись по свету.
Смерть отца была первым трагическим рубежом в жизни Мелвилла. Ему было всего двенадцать лет, но детство кончилось. Он должен был бросить школу и наняться переписчиком бумаг в банковскую контору. Потом он батрачил на ферме у своего дядюшки Томаса. Тяжкий крестьянский труд оказался мальчишке не по силам, и он решил сделаться учителем. Для этого пришлось пройти годичный курс в классической гимназии в Олбани, где он получил сертификат, дающий право преподавания в начальной школе. Учительский хлеб оказался горек. Положение учителя в американских посёлках того времени отдалённо напоминало статус пастуха в дореволюционной российской деревне: его нанимали в складчину, и, следовательно, он пребывал в полной зависимости от родителей своих учеников. К тому же ученики в большинстве своём были старше учителя, и не было никаких способов заставить их учиться. Дважды Мелвилл становился на учительскую стезю – в 1837 году в Питтсфилде и в 1839 году в Гринбуше – и оба раза позорно капитулировал.
Попытки получить начатки инженерного образования, а затем найти работу на строительстве канала Эри тоже оказались бесплодны. Образование (полугодичный курс в лансинбургской «академии») Мелвилл получил, но работы не нашёл. Оставалась лишь одна дорога, по которой до него пошли многие Мелвиллы – деды, дядья, двоюродные братья, – дорога в море.
В первый свой морской вояж Мелвилл отправился в 1839 году юнгой на грузо-пассажирском корабле «Св. Лаврентий», совершавшем регулярные рейсы между Нью-Йорком и Ливерпулем. Спустя полтора года началось «великое морское приключение» будущего писателя, длившееся без малого четыре года.
Есть в Штате Род-Айленд тихий и пустынный, насквозь продуваемый атлантическими ветрами городок Нью-Бедфорд. Скромно и с достоинством он хранит былую славу китобойной столицы Соединённых Штатов. Здесь начинался американский китобойный промысел, отсюда и с близлежащих островов (Нантакет и Виноградник Марты) уходили в многомесячные, а иногда и многолетние рейсы китобойные суда. Как драгоценную реликвию жители городка охраняют небольшую церковь, расположенную близ гавани. Здесь, на одной из скамей в задних рядах, прибита металлическая дощечка, сообщающая, что на этой скамье сидел Герман Мелвилл в канун своего отплытия на китобойном судне «Акушнет» 3 января 1841 года.
«Акушнет» плыл традиционным для китобоев маршрутом: Рио-де-Жанейро – мыс Горн – Сантьяго – Галапагосский архипелаг – Маркизские острова – «китовые» районы Тихого океана. Здесь не место рассказывать в подробности о чудовищных условиях, в которых жили и трудились матросы китобойного флота, о палочной дисциплине, потогонной системе труда, смертельном риске, сопряжённом с охотой на китов. Всё это хорошо известно и многократно описано. Укажем лишь на одно обстоятельство, имеющее для нас существенное значение: дезертирство матросов с китобойных судов носило массовый характер. Капитаны старались по возможности не заходить в крупные гавани, дабы не остаться без команды. Как правило, китобойцы возвращались из рейса, имея на борту менее половины первоначального состава команды.
Проплавав на «Акушнете» полтора года, Мелвилл вдосталь хватил горько-солёной матросской жизни. Силы и терпение его истощились, и во время стоянки у одного из островов Маркизова архипелага он сбежал с корабля в компании товарища-матроса Тоби Грина. Перевалив через прибрежный хребет, беглецы оказались в плодородной долине, где и были захвачены в плен каннибалами племени Тайпи.
Людоеды, однако, не съели Мелвилла. Они смотрели на него отчасти как на пленника, отчасти как на гостя. Как пленнику ему воспрещалось покидать долину; как гостю ему было оказано должное гостеприимство. Жизнь его не подвергалась опасности и даже не лишена была некоторой приятности. Тем не менее, месяц спустя он сбежал от гостеприимных каннибалов и завербовался матросом на австралийское китобойное судно «Люси Энн», как раз в это время бросившее якорь в близлежащей бухте.
Порядки на «Люси Энн» мало отличались от суровой рутины «Акушнета», а недовольство команды было, пожалуй, более сильным и активным. 24 сентября 1842 года, когда судно находилось у берегов Таити, группа матросов (к ней примкнул и Мелвилл) взбунтовалась, была арестована и заключена в местную тюрьму. Через месяц Мелвилл бежал и перебрался на соседний остров Эймео, где вновь завербовался на американский китобоец «Чарлз и Генри», приписанный к Нантакету. На сей раз срок его матросской службы был оговорён – полгода. Через полгода капитан «Чарлза и Генри», верный слову, высадил Мелвилла на Гавайях.
Мелвилла потянуло на родину. Однако путь был далёк, а денег не было. Случай представился, когда американский фрегат «Соединённые Штаты» бросил якорь в гавани Гонолулу. Мелвилл явился к капитану и выразил желание поступить на военную службу. Гребец вельбота сделался военным моряком.
Фрегат не торопился домой. Корабль побывал у берегов Маркизова архипелага, Таити, в Вальпараисо, Кальяо, Рио-де-Жанейро и лишь потом направился в Бостон. Военно-морская служба Мелвилла растянулась на полтора года. Флотское лихо оказалось не слаще китобойного, и Мелвилл был рад оставить службу. 14 октября 1844 года он был вчистую уволен и отправился в Лансинбург, где жили мать с сёстрами. Всё вернулось на круги своя: Мелвилл снова был дома, без работы и почти без денег. Единственное, что он приобрёл, – это жизненный опыт и огромный запас впечатлений, которыми охотно делился с друзьями, родными и знакомыми.
Биографам не удалось установить, кто был тот умный человек, который посоветовал Мелвиллу написать книгу о своих приключениях. Известно лишь, что такой человек нашёлся и что Мелвилл внял мудрому совету. Предметом повествования он избрал наиболее экзотический эпизод своих странствий – жизнь у каннибалов – и рьяно взялся за дело. Голова Мелвилла была полна воспоминаний и впечатлений, но руки более привыкли к обращению с канатами, вёслами, якорными цепями и с трудом удерживали перо. Поначалу ему казалось, что написать книгу несложно: садись, вспоминай и пиши. Но вскоре его со всех сторон обступили чисто писательские заботы: проблемы общей структуры книги, жанра, сюжета, языка, стиля. Мелвилл решил построить своё сочинение по образцу распространённого тогда «описания путешествий» и тут же обнаружил, что ему не хватает материала. Начинающему автору пришлось засесть за труды по истории, географии, этнографии, ознакомиться с записками путешественников, трактатами миссионеров, воспоминаниями мореплавателей. На его столе громоздились кипы романов, повестей, рассказов, английские и американские журналы и орфографические словари.
Уже тогда у Мелвилла возникла потребность в осмыслении и обобщении опыта, своего и чужого, жизненного и книжного. Он начал читать труды философов, теологов, моралистов, постепенно вырабатывая собственное представление о мире и человеке. Этапы этого процесса зафиксированы в его книгах.
Далее всё происходило как в волшебном сне. Мелвилл отдал рукопись своему старшему брату Гансворту, который получил назначение на должность секретаря американской «легации» в Англии. Прибыв в Лондон, Гансворт с чисто американской непосредственностью отправился к крупнейшему английскому издателю Джону Меррэю. Тот познакомился с рукописью и согласился её опубликовать. Это произошло 3 декабря 1845 года. Спустя два с половиной месяца Меррэй выпустил английское издание «Тайпи». Узнав о том, что рукопись принял «сам Меррэй», американский издатель Дж. Патнэм, пренебрегши правилом не печатать американских авторов, пока они не получат одобрения английских критиков, решился выпустить американское издание книги Мелвилла, которое и увидело свет в марте 1846 года.
Мелвилл молниеносно прославился как «человек, который жил среди каннибалов». Его книгу читали, о ней спорили, английские и американские журналы печатали рецензии на «Тайпи». Молодого автора хвалили и ругали (часто за одно и то же). Появились первые переводы на иностранные языки. Пока всё это происходило, Мелвилл, уверовавший в своё писательское дарование, принялся за вторую книгу («Ому»), которую завершил к концу 1846 года. Рукопись была немедленно принята к изданию в Англии и в США, а Мелвилл тем временем уже трудился над третьей книгой («Марди»).
Мелвилл вступил на тернистую стезю профессионального литератора. Среди выдающихся американских писателей того времени почти не было профессионалов, то есть людей, живших только на литературные заработки. У всех были дополнительные источники дохода: Купер был землевладельцем, Ирвинг – дипломатом, Готорн – таможенным чиновником в Бостоне, смотрителем сейлемского порта, а затем консулом в Ливерпуле, Лонгфелло – университетским профессором. Единственное исключение составляет Эдгар По, который жил исключительно литературным трудом и умер в нищете. Оптимистическим прогнозам Мелвилла тоже не суждено было осуществиться. Вечная борьба с «дьяволом нищеты», который постоянно «околачивался возле дверей», истощила его силы, и он оставил карьеру литератора. Но это случилось потом, лет через десять-двенадцать. А пока, уповая на удачу, он начал устраивать жизнь заново: перебрался в Нью-Йорк, женился и, что самое важное, с головой окунулся в литературную жизнь Нью-Йорка – этой «литературной столицы США».
В одном из писем к Готорну Мелвилл писал: «Всё моё развитие совершилось за последние несколько лет. Я – словно семя, найденное в египетской пирамиде. Три тысячи лет оно было только семенем и больше ничем. Теперь его посадили в английскую почву, оно проросло, зазеленело… Так и я. До двадцати пяти лет я не развивался совсем. Свою жизнь я исчисляю с этого возраста…» Переведя цифры в биографические даты, легко увидеть, что Мелвилл связывал начало своего развития с работой над «Тайпи», переездом в Нью-Йорк и приобщением к американской литературной жизни.
Многочисленные критики, пытавшиеся представить Мелвилла «одиноким гением», отключённым от чаяний и надежд своего времени, от общественной, политической и литературной борьбы эпохи, либо добросовестно заблуждались, либо сознательно искажали факты в угоду предвзятой концепции. Понять характер и направление внутреннего развития Мелвилла отдельно от жизни Америки сороковых годов попросту невозможно, а жизнь эта была полна противоречий и парадоксов.
К тому времени, когда Мелвилл ступил на литературное поприще, американский романтизм уже миновал первый этап своей истории. Старшее поколение (В. Ирвинг, Д. Ф. Купер, У. Симмз, У. Брайант, Д. Уиттьер) ещё не ушло со сцены, а на смену уже явились новые имена (Р. Эмерсон, Г. Торо, Г. Лонгфелло, Э. По, Н. Готорн). Главная задача американских романтиков на раннем этапе заключалась в том, чтобы «открывать Америку». Все они были вовлечены в мощный поток нативизма – культурного движения, смысл и пафос которого заключался в художественно-философском освоении Америки, её природы, истории, общественных институтов, её нравов. Литература двадцатых – тридцатых годов открывала для читателей мир бескрайних прерий и девственных лесов, могучих рек и водопадов, показывала ему быт и нравы старинных голландских поселений, развёртывала перед ним героические страницы Войны за независимость, рассказывала о событиях колониальной истории Америки, рисовала картины жизни на табачных плантациях Юга. Нативизм способствовал формированию общей концепции Америки в сознании американцев. Без этого невозможно было бы становление национального самосознания и, следовательно, национальной литературы.
Однако в процессе художественного освоения американской действительности романтики первого поколения с тревогой обнаружили, что историческое развитие молодого государства фатальным образом «уклоняется» от просветительских мечтаний «отцов-основателей», что оптимистические прогнозы не сбываются, просветительские лозунги искажаются, демократические идеалы выхолащиваются. Экономическому прогрессу сопутствовали кризисы; «народовластие» уживалось с рабовладением; героическое освоение новых территорий пионерами сопровождалось хищническим разграблением естественных богатств, а сами эти земли становились предметом спекуляции; право человека на «жизнь, свободу и стремление к счастью», записанное в Декларации Независимости, не мешало правительству жестоко истреблять индейские племена; коррупция проникла во все эшелоны власти, включая самые высокие; ложь, клевета, демагогия стали «нормальными» методами политической борьбы; фетишизация богатства достигла небывалых высот.
Однако ранние романтики не усомнились ни в основных принципах буржуазной демократии, ни в благотворности капиталистического прогресса, ни в политических институтах Соединённых Штатов. Им казалось, что нравственная болезнь («моральное затмение» в терминологии Купера), поразившая американцев, занесена извне и вполне излечима. Достаточно лишь вскрыть пороки, изобличить недостатки и «отклонения» от здоровой нормы и тем содействовать их ликвидации. Именно с этим связано возникновение романтических утопий, сделавшихся непременным атрибутом американской литературы вплоть до гражданской войны. Писатели творили некий (чисто условный) социальный и человеческий идеал, на фоне которого пороки реального бытия Америки высвечивались бы с особенной ясностью. Таков был мир старинных поселений Новых Нидерландов у Ирвинга или мир Кожаного Чулка, мудрой природы и благородных индейцев, живших в полном согласии с нею, у Купера.
В сороковые годы вышеуказанные тенденции в американской экономической и социально-политической жизни значительно усилились. Кризис 1837 года потряс экономику страны и вызвал к жизни многочисленные радикально-демократические движения. Обострились противоречия между Севером и Югом. Усилились экспансионистские настроения. Захват новых земель мыслился многими как выход из положения. В 1846 году Америка начала первую и, увы, не последнюю в своей истории захватническую войну.
В этих обстоятельствах романтическая утопия не утратила своего значения как орудие критики современных нравов и порядков. И вполне понятно, почему Мелвилл включился в литературную традицию, которая насчитывала уже более двух десятилетий: она ещё далеко не исчерпала себя.
На первый взгляд, «Тайпи» – это честное и несколько наивное описание приключений американского матроса-китобоя, оказавшегося пленником каннибалов. Основное место в книге занимают бесхитростные наблюдения автора над нравами, обычаями, образом жизни полинезийских дикарей. Однако, если присмотреться повнимательней, то нетрудно убедиться, что повествователь-матрос не так уж бесхитростен, как хочет казаться. Большая часть того, что он рассказывает, – правда, но далеко не вся правда. Картина жизни Тайпи, представленная им, явно идеализирована и не полна. Она нарисована по принципу оппозиции порокам американской буржуазной цивилизации. Контраст между «идеальностью» людоедов и порочностью буржуазного общества проходит красной нитью через всё повествование, превращая его в классический образец романтической утопии.
Мелвилл принадлежал ко второму, младшему поколению американских романтиков. У этого поколения были свои идеи и свои понятия о целях и задачах художественного творчества. Внутри романтического движения сформировались группы и объединения («Никербокеры», «Молодая Америка», «Трансценденталисты» и т. п.), ожесточённо полемизировавшие друг с другом. Литературная борьба сблизилась с политической, и партийные задачи оказались неотъемлемой частью эстетических принципов и программ.
В середине сороковых годов Мелвилл связал свою творческую судьбу (хоть и не очень надолго) с деятельностью «Молодой Америки» – литературно-политической группировки, выступавшей за всестороннюю демократизацию национальной жизни, в том числе и литературы. Устремления младоамериканцев были близки Мелвиллу, хотя в его отношении к соратникам был оттенок скептицизма и лёгкой иронии. Костяк группировки составляли писатели, публицисты, критики, для которых понятие «народ» обладало известной долей абстрактности. Они думали о народе, трудились на благо народа, но сами стояли «отдельно» от народа. Мелвиллу же изначально было свойственно уитменовское ощущение слитности с народом. Потребности народа не составляли для него загадки: он ступил на литературную «палубу» из матросского кубрика; он сам был народ. У него были все основания назвать себя «беспощадным демократом».
Важность приобщения Мелвилла к деятельности «Молодой Америки» состояла в другом: он включился в литературную жизнь и борьбу эпохи, начал осознавать ответственность писателя, вырабатывать собственную точку зрения на общий характер социально-исторического развития Америки и на роль искусства в этом развитии.
Здесь, по-видимому, уместно охарактеризовать некоторые черты мировоззрения Мелвилла, хотя задача эта содержит почти непреодолимые трудности. И дело не только в том, что Мелвилл не оставил теоретических трудов и единственным источником сведений для нас могут служить его художественные произведения, но главным образом в том, что мировоззрение писателя являло собой не завершённую стабильную систему, а неостановимый мыслительный процесс. С одной стороны, изучая и наблюдая конкретную действительность, Мелвилл искал в ней проявления общих законов, что и объясняет его неудержимую тягу к символическим обобщениям. Нередко «открытые» им законы оказывались в противоречии друг с другом, и это опять-таки вело к появлению сложных, внутренне противоречивых символов. С другой стороны, Мелвилл пытался постигать реальность посредством наложения на её хаотическое движение устойчивых представлений и философских категорий, выработанных человеческой мыслью на протяжении долгих столетий. Его можно было бы причислить даже к идеалистам кантианского типа, если бы не одно существенное обстоятельство: Мелвилл смутно подозревал, что сами человеческие представления есть особая форма отражения реального бытия. Мысль об этом прорывается во многих его сочинениях и особенно явно – в «Моби Дике».
Подобно некоторым своим современникам – Эмерсону, По, Готорну, Уитмену, – Мелвилл был романтическим гуманистом и центральным ядром мироздания полагал человеческое сознание как триединство интеллекта, нравственного чувства и психики. Вместе с тем он не был похож на других. Эмерсон видел в человеческом сознании частицу «мировой души» и на этом основании строил свою оптимистическую теорию «доверия к себе». Готорн считал, что душа человеческая являет собой нерасторжимое единство Добра и Зла и что всякая попытка ликвидировать Зло неизбежно ведёт к уничтожению Добра. В его мировоззрении оптимизм присутствовал в микроскопических дозах. Эдгар По при всём своём преклонении перед могуществом интеллекта был пессимистом, ибо основной чертой сознания полагал нестабильность психики, искажающую деятельность разума и нравственное чувство. Мелвилл тоже был пессимистом, но совершенно иного толка. Он не верил в существование эмерсоновской «сверхдуши», не соглашался с метафизическими представлениями об извечном Зле в душе человека или о врождённой нестабильности психики. В его миросозерцании мы находим в качестве высших ценностей бескомпромиссный демократизм, идею всеобщего равенства рас и народов, высокое достоинство Труда и безграничное уважение к Труженику. В этом смысле Мелвилл был близок к молодому Уитмену – автору первой редакции «Листьев травы». Однако при всей своей склонности к универсальным обобщениям и символическим абстракциям сознание Мелвилла обладало известной историчностью. Признавая здоровую основу «души народа», Мелвилл говорил о пагубном воздействии на неё буржуазной цивилизации, в особенности буржуазной этики. Он не видел способа остановить этот разрушительный процесс. Отсюда его неповторимый, так сказать, «фундаментальный» пессимизм. Расхождения между идеалом и действительностью, между «нравственной моделью» и практикой социального поведения соотечественников, осознанные писателем достаточно рано, дали определённое направление его интеллекту. Он двинулся по пути художественного исследования всеобщих законов и сил, регламентирующих и направляющих человеческую деятельность. Это был путь к «Моби Дику».
Первой ступенькой на этом пути явился роман «Марди» – сочинение, в котором Мелвилл потерпел сокрушительное поражение как художник. Книга оказалась перенасыщена сведениями из области истории, философии, социологии, политики, эстетики. Информация была обильна, но плохо переварена и бессистемна. Мелвиллу не удалось найти адекватной формы для её художественного осмысления. Книга производила странное впечатление. Да и сегодня, знакомясь с ней, трудно поверить, что её создал большой мастер. В ней нет сюжетного единства, жанровой цельности, характеры героев абстрактны и условны, как условна и действительность, их окружавшая.
Неудачу «Марди» отчасти можно объяснить писательской неопытностью Мелвилла. Но главная причина заключалась, видимо, в том, что Мелвилл слишком прямолинейно истолковал один из кардинальных принципов романтической эстетики, в соответствии с которым воображение определялось как кратчайший путь к познанию высшей истины. Молодой Мелвилл споткнулся на том же, на чём двумя десятилетиями ранее споткнулся Эдгар По, погубивший прекрасный замысел поэмы «Аль Аарааф», пытаясь создать «мир чистого воображения» путём изъятия из него «всего земного». Оказалось, что воображение не может работать в отрыве от земного материала, не может создавать что-либо из «ничего», и По оставил поэму незавершённой. Примерно то же произошло и с Мелвиллом. Он, правда, довёл повествование до конца, но вынужден был перевести его в условно-аллегорический план, что не спасло положения: эстетический ущерб оказался непоправимым.
Так же, как и По, Мелвилл извлёк урок из неудачи. Он понял, что управляющие жизнью законы могут быть доступны человеческому сознанию только через их проявление в конкретных реальностях бытия, и задача писателя заключается в том, чтобы постигать общее в частном, представлять конкретное движение жизни так, чтобы в нём просматривалось, открывалось действие всеобщих законов во всей их сложности и противоречивости.
Неуспех «Марли», конечно, огорчил Мелвилла, но не обескуражил. Едва завершив рукопись и отправив её к издателям, Мелвилл вновь вернулся к письменному столу и принялся разрабатывать замыслы, зародившиеся у него ещё в ходе сочинения неудачного романа. Результатом явились две книги совершенно иного направления – «Редберн» и «Белый Бушлат». Они неравноценны. «Белый Бушлат» – вершина американской маринистики сороковых годов, книга, пропитанная духом демократизма, сосредоточенная на важных социальных проблемах времени, насыщенная острыми и гневными инвективами против установившегося порядка вещей в государстве и на флоте. Что же касается «Редберна», то это, так сказать, подступы к «Белому Бушлату». Здесь в зародыше можно обнаружить многое из того, что развернётся в полную силу в последующих сочинениях Мелвилла.
И «Белый Бушлат», и «Редберн» свидетельствуют о том, что Мелвилл отвернулся от принципа «чистого воображения» и осознал его бесплодность. Он вновь обратился к собственному жизненному опыту и к книгам. Воображению же была отведена иная роль: связывать факты в систему, проникать под их поверхность, улавливать их закономерность и глубинный смысл. Мелвиллу стала очевидна многозначность фактов и возможность интерпретации действительности на многих уровнях. Отсюда общие сдвиги в поэтике мелвилловской прозы, почти полное исчезновение аллегорического начала и стремительное нарастание романтической символики. Всё это можно обнаружить в «Редберне» и «Белом Бушлате», а затем, в полном расцвете, в «Моби Дике».
Напомним, что раннее творчество Мелвилла развивалось в рамках нативизма и утопического романтизма. Правда, Мелвилл не посягал на изображение прерий, лесов, озёр и водопадов. Не привлекали его и события далёкого прошлого. Его Америкой была корабельная палуба. И дело здесь не только в жизненном опыте писателя, но ещё и в том, что морская жизнь была важной частью национальной действительности.
Америка изначально была страной моряков. Все её торговые, экономические, политические и культурные связи с миром осуществлялись через Атлантику и Тихий океан. Даже внутренние коммуникации ввиду отсутствия дорог, каналов и мостов через реки пролегали по морям. Отсюда огромное количество каботажных судов и внушительные размеры океанского торгового флота. Не забудем также, что в Америке тех времён не было развито скотоводство и не открыты ещё были залежи нефти. Потребность в мясе, жирах, коже, горюче-смазочных материалах удовлетворялась в основном за счёт китобойного промысла. Китовый жир шёл в пищу и для смазки машин, из китовой шкуры изготовлялись приводные ремни (почти вся промышленность работала на водной энергии) и подошвы для обуви, вечера и ночи американцев проходили при свете спермацетовых свечей. Неудивительно, что из 900 судов мирового китобойного флота 735 принадлежали американцам. Если к сказанному прибавить, что Соединённые Штаты располагали значительным военным флотом, то станет понятно, почему корабельная палуба могла с полным основанием рассматриваться как существенная часть национальной действительности и почему именно Америка явилась родиной морского романа и вообще литературной маринистики.
Почти все романы Мелвилла («Марди», «Редберн», «Белый Бушлат», «Моби Дик», «Израиль Поттер»), некоторые повести («Бенито Серено», «Энкантадас», «Билли Бадд») и ряд стихотворений (сборник «Джон Марр и другие матросы») могут быть целиком или частично причислены к морским жанрам. Это логично. Мореплавание было той сферой бытия, которую Мелвилл знал лучше всего.
«Белый Бушлат» – морской роман, повествование о буднях военно-морского флота США, осмысленных с позиций романтической идеологии. Сочинение Мелвилла окончательно утвердило господство нового направления в американской литературной маринистике, пришедшего на смену традиции, заложенной Купером ещё в двадцатые годы.
Купер был первопроходцем. Его не напрасно называют «отцом» морского романа. Однако специфическая атмосфера американской духовной жизни двадцатых годов, пронизанная патриотическим пафосом, наложила существенный отпечаток на эстетику куперовского морского романа. Купер «отключил» корабль от национальной действительности, вывел морскую жизнь из-под власти социальных законов, идеализировал и героизировал «морские» характеры. Корабль в его романах – истинный и единственный дом моряка, предмет привязанности, любви и эстетического любования; море – прекрасный и грозный противник в благородной борьбе человека. В произведениях Купера не было места для изображения тягот морской службы, корабельного быта, самодурства капитанов и жестокости офицеров, палочной дисциплины и бесправия матросов.
В Америке двадцатых – тридцатых годов у Купера оказалось множество подражателей. Но куперовская традиция исчерпала себя почти сразу. В американской маринистике тридцатых годов отчётливо обозначилось новое, антикуперовское направление. Новизна его заключалась в отказе принять куперовский общий взгляд на морскую жизнь. Корабельную палубу стали воспринимать как участок национальной действительности с её социальной дифференциацией и антагонистическими противоречиями. Исчезло понятие моряка вообще. Оно заместилось понятиями «матрос», «боцман», «офицер». Соответственно стали разниться и представления о морской службе. У матроса они были иными, нежели у офицера.
Волна радикально-демократических движений, охватившая Америку на рубеже тридцатых – сороковых годов и оказавшая существенное воздействие на литературу, способствовала тому, что в маринистике на первый план выдвинулась фигура рядового матроса. Новую ситуацию первым осознал Р. Г. Дейна (младший), который опубликовал в 1840 году повесть с нарочито неловким названием «Два года рядовым матросом». Она была воспринята писателями-маринистами как манифест и на долгие годы определила характер американской морской прозы. За Дейной пошли десятки писателей. В их числе был и Мелвилл. Его «Белый Бушлат» – книга о бесчеловечности флотских установлений, о трагической судьбе и горькой участи рядовых матросов, книга, заряженная социальным пафосом и реформаторским духом, – стал вершиной американской маринистики десятилетия. Это была последняя ступень перед «Моби Диком».
В конце 1849 года, завершив работу над «Белым Бушлатом», заключительные главы которого писались уже на пределе сил, Мелвилл «сбежал» в Европу под предлогом необходимости переговоров с лондонскими издателями. Он побывал в Париже, Брюсселе, Кёльне, Рейнской области и в Лондоне. 1 февраля 1850 года Мелвилл вернулся в Нью-Йорк и принялся за «Моби Дика», замысел которого в общих чертах уже сложился у него к этому времени. Прошло полгода, мучительных и тяжёлых, прежде чем он окончательно убедился, что работать в существующих бытовых обстоятельствах невозможно. На деньги, взятые в долг у тестя, он купил ферму «Эрроухед» (неподалёку от маленького городка Питтсфилд) и в сентябре перебрался туда со всем семейством.
С переездом на ферму участие Мелвилла в литературной и общественной жизни страны отнюдь не прекратилось. Он сохранил связи с «Молодой Америкой», часто наезжал в Нью-Йорк, а младоамериканцы посещали его в Питтсфилде. Он продолжал сотрудничать в журналах и активно выступать в защиту национальной литературы. Важное значение имело и то, что в пяти милях от фермы Мелвилла (в Леноксе) примерно в это же время обосновался Натаниель Готорн, с которым Мелвилл свёл знакомство, переросшее вскоре в тесную дружбу. Их регулярные встречи и переписка, долгие беседы о литературе, обмен мнениями по насущным вопросам общественной, политической и духовной жизни Америки, обсуждение чисто профессиональных писательских проблем – всё это сыграло важную роль в творческой эволюции обоих, особенно Мелвилла, который был пятнадцатью годами моложе Готорна. На какое-то время Питтсфилд стал одним из центров романтического искусства Америки. Здесь в пятидесятом – пятьдесят первом годах создавались два выдающихся произведения романтической литературы – «Дом о семи фронтонах» Готорна и роман о Белом Ките.
У мелвилловского шедевра сложная творческая история. Попытки восстановить её, опираясь на переписку Мелвилла, дают нам картину приблизительную, неполную, хотя в общих чертах достоверную. Судя по всему, писатель замыслил создать ещё один морской роман, посвящённый на сей раз китобойному флоту. Он должен был как бы заключать морскую трилогию («Редберн», «Белый Бушлат», «Моби Дик»), охватывающую все виды мореплавания в Америке XIX столетия. По-видимому, Мелвилл хотел написать приключенческий роман о китобойном промысле, но вместе с тем книгу, материал которой допускал бы широчайшие обобщения экономического, социального, политического, философского характера, затрагивающие всю жизнь Соединённых Штатов, а может быть, и всего человечества. В этом первоначальном замысле уже была заложена неизбежность усиления символического начала в мелвилловском романтизме, которая реализовалась в окончательном тексте романа.
Однако путь к окончательному тексту был нелёгок. Финансовые трудности держали писателя в тисках. Долги росли как снежный ком. Мелвилла не покидала мысль о необходимости коммерческого успеха. Памятуя об уроках «Марди», он держал в железной узде свою склонность к отвлечённым построениям и запирал крепкими шлюзами поток обобщающей философской мысли. Он должен был написать популярный приключенческий роман, хотя всё в нём, включая присущее ему чувство ответственности писателя перед временем, историей, обществом, протестовало против этого. В письмах к Готорну Мелвилл жаловался, что не имеет права писать так, как ему хочется, но и «писать совершенно иначе тоже не в состоянии». Так длилось довольно долго. Писатель сражался не столько с Белым Китом, сколько с самим собой, и, кажется, даже побеждал себя. Во всяком случае, осенью 1850 года он писал издателям, что надеется в ближайшее время представить рукопись.
Далее начинается «тёмный» период в истории романа. Мелвилл не представил рукопись «в ближайшее время». Он продолжал трудиться над ней ещё почти год, и в результате получился не популярный приключенческий роман, а нечто совершенно иное – грандиозное эпическое полотно, воплотившее в сложнейшей системе символов настоящее, прошлое и будущее Америки.
Что же случилось? Что побудило Мелвилла «открыть шлюзы» и выпустить рвавшиеся на волю мысли, идеи, образы? Среди историков литературы существуют всякие предположения. Некоторые критики ищут объяснения во влиянии Готорна, другие говорят о воздействии шекспировских трагедий, которые Мелвилл читал, работая над «Моби Диком», третьи видят причину в общем характере социально-исторического развития Америки, в политической атмосфере того времени. Думается, что правы именно третьи, невзирая на то, что следы влияния Готорна и шекспировского наследия видны в тексте вполне отчётливо.
Напомним, что к середине века социально-экономические, политические, идеологические противоречия в жизни Соединённых Штатов достигли беспрецедентной остроты. В сентябре 1850 года конгресс под давлением южан принял бесчеловечный закон о беглых неграх, как бы распространив статус рабовладельческого общества на всю страну. Страна всколыхнулась. Аболиционистское движение приняло массовый характер. Народ митинговал, протестуя против варварских актов правительства. Антирабовладельческая тема ворвалась в литературу и заняла в ней господствующее положение: Бичер Стоу взялась за «Хижину дяди Тома», Р. Хилдрет – за переделку «Арчи Мура» («Белый раб»), Джон Уиттьер клеймил рабовладение в страстных стихах. Брошюры, памфлеты, листовки печатались тысячами. Генри Торо произнёс (а затем и напечатал) знаменитую речь «Рабство в Массачусетсе», где отрекался от своей родины… Этот перечень можно было бы продолжить, называя имена известных и не очень известных писателей, публицистов, философов… Америка напоминала паровой котёл, в котором давление далеко превысило допустимые нормы, а стрелка манометра ушла за красную черту, предвещая скорый взрыв. Страна катилась к гражданской войне, незаметно для себя перевалив тот рубеж, когда обратно пути уже нет. Мелвилл, разумеется, этого не знал, но ощущение его было верным: он предвидел катастрофичность ближайшего будущего. А потому было чрезвычайно важно установить причину всех причин, понять, какие законы, силы или, может быть, Высшая Воля направляют поступки человека, народов, государств. На что могут рассчитывать американцы в момент кризиса?
В свете этих обстоятельств все соображения относительно популярности и коммерческого успеха утрачивали силу, отступая перед социальной ответственностью писателя. Мелвилл начал перестраивать роман. Идеологический материал был огромен. Ни одна из существующих художественных структур не могла бы его выдержать. Потребовался новый, доселе неизвестный тип повествования, который мы условно назовём синтетическим романом. Конечно, «Моби Дик» – это приключенческий роман, но также и «производственный», «морской», «социальный», «философский» и, если угодно, «роман воспитания». Все эти аспекты не соседствуют в книге, не сосуществуют, но проросли друг в друга, образуя нерасторжимое целое, пронизанное сложнейшей системой многозначных символов. К сказанному добавим, что повествование связано единой стилистикой (в ней как раз и ощущается влияние Шекспира и Готорна), сцементировано неповторимым мелвилловским языком, которые критики охотно уподобляют океанской волне.
Общепризнанно, что «Моби Дик» – одна из вершин романтического символизма в американской, да, пожалуй, и в мировой литературе. Сложнейшая система символов образует, так сказать, эстетический фундамент романа. Всё в нём – события, факты, авторские описания и размышления, человеческие характеры – имеет, кроме прямого, поверхностного, ещё и главный, символический смысл. Среди критиков царит также полное согласие относительно того, что мелвилловские символы характеризуются универсальностью и высокой степенью отвлечённости. При этом из поля зрения уходит тот факт, что символика в «Моби Дике», при всей её абстрактности, вырастает непосредственно из современной писателю социально-политической действительности.
Обратимся к группе символов, сопряжённых с плаванием «Пекода». Сам «Пекод» в его символическом значении не требует каких-либо усилий при истолковании. Корабль-государство, – символ традиционный, известный литературе ещё со времён средневековья. Но в «Моби Дике» он существует не сам по себе. Успех или неуспех плавания корабля зависит от многих моментов, но прежде всего от трёх персонажей: судовладельца Вилдада, капитана Ахава и его старшего помощника Старбека. Вилдад стар. Он – набожный стяжатель и лицемер – классический образец старого пуританина. В нём почти не осталось энергии, а та, что сохранилась, уходит в скопидомство. Старбек тоже благочестив и набожен, но не лицемерен. Он опытный моряк и искусный китобой, но в нём нет инициативы и размаха. Он не очень уверен в себе и в своих жизненных целях. Наконец, Ахав – характер сложный, противоречивый, многозначный. В нём сплавлены романтическая таинственность, непредсказуемость поступков, фанатическая ненависть ко злу и безграничная способность творить его, маниакальное упорство в стремлении к поставленной цели и способность пожертвовать ради её достижения кораблём, жизнью команды и даже собственной жизнью. Для Ахава не существует преград.
Различие этих характеров очевидно, но чтобы понять их истинный смысл и значение в повествовании, необходимо обратить внимание на то, что их объединяет: они все – новоанглийские квакеры, потомки первых поселенцев, наследники «пионеров». И это знаменательно. Мелвилл всегда питал особенный интерес к Новой Англии, и не только потому, что сам был потомком пуритан. В Новой Англии ему виделся, и совершенно справедливо, гегемон социально-исторического прогресса Америки. Новая Англия задавала тон во многих областях национальной жизни и особенно в экономике. Именно эта группа штатов первой стала на путь промышленно-капиталистического развития. Судьба нации во многом зависела от того, что подумают или сделают жители Массачусетса, Нью-Гемпшира или Коннектикута. Отсюда повышенный интерес писателя к новоанглийским устоям, нравам, характерам. В свете сказанного характеры трёх новоанглийских квакеров в романе обретают дополнительное символическое значение. Вилдад, с его благочестием, беззастенчивой жаждой наживы, нежеланием рисковать, старческим бессилием и мелочностью, символизирует вчерашний день Новой Англии, её прошлое. Риск, далёкие плавания по бурным морям – не для него. «Пекод» уходит в рейс, Вилдад остаётся на берегу. Старбек – это сегодняшний день и, как всякий сегодняшний день, несколько смутен. Он может вывести корабль в плавание, но ему незнакомо ощущение великой цели. Он безынициативен и неспособен уйти из-под власти вчерашнего дня. Он обязательно привёл бы «Пекод» назад к Вилдаду. Иное дело Ахав. Его образ может быть соотнесён с деятелями новой формации, которая складывалась в середине XIX века, когда новые «пионеры» уже не расчищали лесов под посевы, не оборонялись от индейцев и хищных зверей, укрывшись за деревянным частоколом. Они строили заводы и фабрики, корабли и железные дороги. Они торговали с целым светом и открывали банки в американских городах. Они были лидерами прогресса, способствовали экономическому процветанию родины (во что бы это процветание ни обходилось народу) и считали себя солью земли. В их мире бизнес был верховным владыкой, обогащение – высшей целью, в жертву которой приносилось всё, в том числе и человеческая жизнь. Конечно, Ахав не бизнесмен и не «капитан индустрии». Эти герои появятся позже в творчестве Норриса, Драйзера, Синклера Льюиса и др. Но его целеустремлённость, способность перешагнуть через любые препятствия, его умение не смущаться понятиями о справедливости, отсутствие страха, жалости, сострадания, его отвага и предприимчивость, а главное, размах и железная хватка – всё это позволяет видеть в нём «пророческий образ будущих строителей империи второй половины века»[336], каждый из которых преследовал своего Белого Кита, преступая юридические, человеческие и божеские законы.
Другая группа символических значений связана с фанатическим безумием капитана Ахава, погубившего доверенный ему корабль и жизнь всей команды (за исключением Измаила). Фанатизм и безумие – не новые сюжеты для мировой литературы, да и в американской мы найдём немало сочинений, трактующих эти предметы, начиная от романов Брокдена Брауна и кончая рассказами По. Но вот что обращает на себя внимание: в творчестве американских романтиков на рубеже сороковых и пятидесятых годов проблема Зла, чинимого фанатиками во имя торжества Добра, и вообще проблема фанатизма заняла весьма важное место. Многие писатели обращались в эти годы к истории пуританских поселений Новой Англии, к тем её эпизодам, когда религиозные фанатики, пытаясь истребить мнимое Зло, тем самым творили зло реальное и непоправимое. Не случайно Сейлемский процесс над «ведьмами» сделался модным сюжетом в литературе. Ему посвятили свои сочинения Лонгфелло, Мэтьюз, Готорн и другие писатели.
Понять природу интереса к проблеме фанатизма несложно, ибо в указанное время проблема эта имела не только нравственно-психологический, но и общественно-политический смысл. Основным конфликтом той эпохи был конфликт между Севером и Югом. К концу сороковых годов накал политических страстей достиг необычайно высокой степени. Южане с ожесточением дрались за новые территории и вынуждали конгресс к таким законодательным мерам, которые сулили выгоду плантационному хозяйству. Они были готовы на всё, вплоть до государственного раскола и выхода южных штатов из Союза. В глазах Мелвилла они были фанатиками, готовыми в своём ослеплении погубить Америку. Не меньше пугали его и новоанглийские аболиционисты, которые вкладывали в дело освобождения негров весь свой пуританский пыл. Аболиционистов не могли остановить ни расправы, ни погромы, ни закон. Они уже ощущали сияние мученического венца над головой.
Известно, что Мелвилл был сторонником аболиционистов, хоть и не принадлежал к ним. Идея уничтожения рабства и расовой дискриминации была чрезвычайно близка ему. (Она тоже получила символическое отражение в романе.) Он понимал, что социальное Зло, конкретно воплощённое в рабовладельческой системе, было вполне реальным. Вместе с тем ему представлялось, что фанатизм в борьбе, даже если это борьба за правое дело, может привести к ещё большему злу, к страшной катастрофе. Отсюда символика фанатического безумия. Ахав – сильный и благородный дух. Он восстал против мирового Зла. Но он фанатик, и потому его попытка достигнуть прекрасной цели оказалась гибельной.
Таким образом, мы видим, что, сколь бы сложной, абстрактной и «универсальной» ни была система символов в «Моби Дике», она имеет своим основанием живую реальность национальной жизни.
Художественное исследование, предпринятое Мелвиллом, привело его к неутешительным выводам. Если попытаться кратко сформулировать философские итоги «Моби Дика», то получится примерно следующее: в мире (и даже во вселенной) нет никакой высшей силы или провиденциальных законов, направляющих жизнь человека и общества и несущих за это ответственность. В борьбе со злом у человека нет наставников и помощников. Ему не на что надеяться, разве что на себя. Это был чрезвычайно смелый вывод. Мелвилл «отменил бога». Недаром в письме к Готорну, написанном тотчас по окончании «Моби Дика», он заявил: «Я написал крамольную книгу…».
Современники не приняли творение Мелвилла. Они предпочли его «не понять», ссылаясь на «странную» и «туманную» философию, которой насыщено повествование. Поняли роман и приняли его – единицы. Среди них – Готорн. Так случилось, что Белый Кит лёг на дно, с тем чтобы всплыть и продемонстрировать свою мощь лишь спустя три четверти века[337].
«Моби Дик» был высшей точкой в творческой эволюции Мелвилла. Дальше начинается спад. Мелвилл не стал писать меньше. В ближайшее пятилетие он создал ряд повестей и рассказов (большая их часть собрана в книге «Веранда») и три романа. Но во всём этом не было уже прежней масштабности и глубины.
Среди разнообразных моментов, окрасивших жизнь Мелвилла после 1851 года, выделим два: одиночество и «эффект неудачи». Одиночество явилось следствием разного рода объективных обстоятельств: Готорн покинул Ленокс и перебрался в Вест-Ньютон, а затем в Конкорд; распалась «Молодая Америка»; неурядицы в домашней жизни способствовали некоторому отчуждению от семейных дел. Мелвилл никогда не был интровертом, погружённым в себя, и общение составляло важную часть его существования как писателя. Теперь он вынужден был замкнуться в себе. Это угнетало его. Одиночество среди людей стало подспудной темой многих его сочинений и особенно остро проявилось в повести «Писец Бартлби».
Что касается «эффекта неудачи», то здесь мы имеем дело с понятием достаточно сложным. Речь идёт, разумеется, о неудаче «Моби Дика». Мелвилл вовсе не считал, что роман ему не удался, что он не сумел осуществить поставленной перед собой цели. Напротив, он был вполне удовлетворён результатами своего труда. Неудача состояла в другом: Америка не услышала пророчеств Мелвилла. Писатель не сумел «достучаться» до сознания соотечественников. Они не хотели или не могли его понять. Форма романа и впрямь была непривычной, но что мешало американским читателям воспринять необычность формы и нетрадиционность идей? Этот вопрос заставил писателя задуматься над двумя важными проблемами. Одна из них затрагивала область читательских вкусов. Как они возникают? Что их формирует? Другая – состоятельность той системы художественных принципов, на которую опирался Мелвилл и которую мы сегодня называем романтическим методом. Означенные проблемы легли в основу некоторых его рассказов (например, «Веранда» и «Скрипач») и романа «Пьер, или Двусмысленности».
«Пьер» совершенно непохож на всё, что ранее выходило из-под пера Мелвилла. В нём читатель находил полный набор романтических и даже «готических» штампов: чудовищно запутанный сюжет, роковые страсти, убийства, самоубийства, мотивы кровосмесительной любви и т. п. И всё это сопровождалось ироническим комментарием автора, который, с одной стороны, будто бы был вполне серьёзен, а с другой – ни за что не хотел принимать всерьёз поведение и мысли своих героев. У нас есть все основания счесть «Пьера» злой пародией на популярную беллетристику середины века. Но этим дело не исчерпывается. «Пьер» – это ещё и роман о литературе. Его герой – молодой писатель, пытающийся составить себе имя сочинением романов и повестей. Мелвилл проводит его через литературные кружки и салоны, через редакции и издательства, с тем чтобы привести к полному поражению. «Литературная» часть романа написана не менее зло, чем любовно-романтическая. И если последнюю мы можем назвать пародией, то первая вполне подходит под определение сатиры. Мелвилл не пощадил никого, не сделал даже исключения для «Молодой Америки», сатирическому изображению которой посвятил целую главу. В завершение характеристики романа добавим, что он весь пронизан самоиронией. Мелвилл занял здесь позицию «иронического романтика», то есть художника, который, по определению Ф. Шлегеля – одного из теоретиков немецкого романтизма, оказавшего сильное влияние на европейскую и американскую эстетику, – «с высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда и собственное искусство, и добродетель, и гениальность»[338].
Как художественное явление «Пьер» стоит невысоко и не прибавляет Мелвиллу писательской славы. Но дело даже не в этом. Ни один писатель не застрахован от неудачи. Существеннее здесь другое: в условиях Америки середины пятидесятых годов XIX века скептицизм романтической иронии вёл к заключению о бессилии художника, о бессмысленности любых попыток говорить горькую правду, ибо люди, живущие по законам выгоды, не захотят её понять. Не случайно в романе возникает тезис о бесполезности всех книг. По-видимому, тезис этот имеет некоторое отношение и к собственной писательской судьбе Мелвилла, который «замолчал» как прозаик через пять лет после публикации «Пьера».
В рассказах, повестях, романах середины пятидесятых годов Мелвилл постоянно обращался к проблемам, более всего тревожившим современников. Среди них на первое место выдвигались проблемы войны и рабства. Следует, однако, подчеркнуть, что трактовка их у Мелвилла носит своеобычный характер. Писатель отказывается рассматривать их в политическом или религиозном аспекте. Уроки «Моби Дика» не прошли для него даром. Он пришёл к той же мысли, что и некоторые другие романтики (каждый своим путём), а именно: что будущее Америки зависит от общественного поведения американцев, которое определяется индивидуальной нравственностью и социальными нравами. На протяжении долгих лет два поколения романтиков занимались пристальным изучением американских нравов. Романтики младшего поколения по примеру своих старших собратьев вновь обратились к прошлому, к истории. Они возродили исторический роман, но придали ему совершенно новые черты. Их интересовали уже не героические страницы славного прошлого, а исторические корни современных нравов, происхождение той системы этических ценностей, которая могла погубить страну. Эталоном жанра стала «Алая буква» Готорна.
Единственный исторический роман Мелвилла «Израиль Поттер. Пятьдесят лет его изгнания», при всей его самобытности, явление вполне характерное. Это роман о войне, о солдатской судьбе, повествование на тему «победитель не получает ничего». Герой его – рядовой солдат, «творец независимой Америки», один из десятков тысяч добровольцев, отдавших родине всё и не получивших никакой награды. Всю свою жизнь он провёл в изнурительной борьбе за кусок хлеба и умер нищим.
Специфика «Израиля Поттера» как исторического повествования состоит в том, что события истории играют здесь второстепенную роль. Основное выражение авторская мысль получает через взаимодействие, а иногда – просто взаимоотношение характеров. Таких характеров в романе – четыре, и все они являются реальными историческими лицами. Это – безвестный солдат Израиль Поттер, учёный и дипломат Бенджамин Франклин, авантюрист и флотоводец Джон Поль Джонс и «герой Тикондероги», командир «Зелёных Горцев» Вермонта Итен Аллен.
Мелвилл исходил из представления, согласно которому всякая нравственность, индивидуальная и социальная, формируется на базе естественных этических склонностей человека или народа, подвергающихся воздействию определённых моральных концепций. Носителем естественной нравственной склонности в романе является заглавный герой – человек из народа – фермер, траппер, матрос. Он честен и трудолюбив. Он любит свою родину и готов отдать за неё жизнь и свободу. Он не спрашивает себя, за что он её любит. Участие в Войне за независимость для него не есть исполнение долга или обязанности, но – естественная потребность. В нём есть некая внутренняя независимость, духовная свобода, определяющая его поступки и слова. Вместе с тем Израиль Поттер – это характер, почти лишённый индивидуальности. Он схематичен и до известной степени условен. По замыслу автора, он – не столько личность, сколько возможность личности. Он являет собой некую основу, на которой мог бы формироваться «идеальный» национальный характер. Его нравственность – естественная нравственность, и в таком виде не годится для общественного употребления, о чём и свидетельствует горькая его судьба.
Мелвилл полагал, что в современниках-американцах естественная нравственная основа исчезла под всевозможными наслоениями, глушившими внутреннюю свободу и независимость человека. Слишком много сомнительных «правил», слишком много ложных представлений о смысле человеческой деятельности нацелено на разрушение здоровой народной основы. О каких, собственно, правилах и представлениях идёт речь? О тех самых, которые мы именуем этикой буржуазного общества (или «делового мира») и которые впервые для своих соотечественников сформулировал Бенджамин Франклин. Не случайно Мелвилл в своём романе обошёл вниманием многообразную деятельность Франклина как учёного, философа, просветителя, дипломата, сохранив за ним только одну роль – роль моралиста.
Франклиновская этическая система, являвшая собой альфу и омегу буржуазной морали XIX века, представлялась Мелвиллу огромной паутиной, опутавшей сознание соотечественников и не допускавшей свободного проявления естественного нравственного чувства. Мелвилл не был одинок в этом своём ощущении. Сошлёмся хотя бы на пример Эмерсона и Торо, которые тоже были озабочены указанной проблемой. Теоретическое разрешение её они связывали с концепциями «доверия к себе» (Эмерсон) и пассивного сопротивления (Торо). Мелвилл был знаком с этими концепциями и подверг их художественной проверке в одной из лучших своих повестей («Бартлби»), которую нередко сравнивают с творениями Гоголя и Достоевского. Проверка дала негативный результат. Герой, «доверившийся себе» и отважившийся на «пассивное сопротивление», погибает. Его антипод (рассказчик) – носитель франклиновской морали, глушащий голос естественной совести филантропическими деяниями, – благоденствует и процветает. Иными словами, Мелвилл не разделял трансцендентального оптимизма. Единственная призрачная надежда рисовалась ему в туманном облике «нового человека», который должен был явиться с далёкого легендарного Запада[339].
Эти же самые проблемы, то есть проблемы нравственности и нравов в их соотнесённости с общественной практикой, взятые в психологическом и философском аспекте, составляют содержание последнего, самого иронического, жестокого и пессимистического романа Мелвилла «Искуситель». Впрочем, трудно найти среди его сочинений пятидесятых годов такое, где они не присутствовали бы. Каковы бы ни были темы его рассказов и повестей – война («Израиль Поттер»), рабство («Бенито Серено», «Энкантадас»), назначение искусства и судьба художника («Веранда», «Скрипач», «Башня с колоколом») – все они трактуются преимущественно в нравственно-психологическом аспекте.
Закончив «Искусителя», Мелвилл почувствовал, что дошёл до конца пути. Ощущение это было сложным. Им владела огромная усталость: за десять лет он написал девять романов и книгу повестей, не считая журнальных статей и очерков. Силы его подошли к концу. Но было тут и другое. Жизнь стремительно шла вперёд, и романтический метод перестал справляться с материалом действительности. Мелвилл-романтик остро это почувствовал. Он попытался преодолеть кризис романтической идеологии, оставаясь в рамках романтического мышления. Из этого ничего не вышло. Ему казалось, что дальше пути нет. Отсюда ощущение, что жизнь прожита, хотя было ему всего тридцать семь лет. Отсюда же состояние депрессии, наложившееся на общую усталость.
Жена, братья и многочисленные родственники пришли к единодушному заключению: «Герман не должен больше писать». Великий бунтарь не взбунтовался против этого приговора. Все считали, что ему следует отдохнуть, совершить путешествие, а тесть даже дал денег (в долг, разумеется). Осенью 1856 года началось путешествие, которое длилось полтора года и осталось в памяти Мелвилла на всю жизнь. Запас впечатлений был огромен, но Мелвилл не очень понимал, что с ними делать. Он даже не вёл записей.
Тем временем родственники и друзья развили кипучую деятельность в надежде раздобыть для Мелвилла какую-нибудь государственную должность, желательно по дипломатической линии. Отчего же нет? Ирвинг был послом в Мадриде, Купер – консулом в Лионе, Готорн – в Ливерпуле. Однако усилия оказались тщетны. Тогда родилась новая идея: Мелвилл должен выступать с лекциями, тем более что в те времена писательские лекционные турне были делом широко распространённым. Чтение лекций (или отрывков из собственных произведений) было своего рода материальной помощью, дававшей литератору возможность продержаться от гонорара до гонорара. Мелвилл читал лекции в течение трёх лет, совершая далёкие поездки по городам провинциальной Америки. Позднее Мелвилл сделал ещё несколько попыток поступить на государственную службу, но все они оказались безуспешны. Только в 1866 году он получил должность помощника инспектора нью-йоркской таможни. Началась новая, непривычная жизнь. Рано утром он уходил из дома и до вечера занимался досмотром грузов. В любой час дня и в любую погоду его можно было видеть в гавани или в таможенной конторе.
Таможенная служба длилась девятнадцать лет. Мелвилл ушёл в отставку в 1885 году, за шесть лет до смерти. На поверхностный взгляд может показаться, что жизнь Америки и движение литературы катились мимо него, мало его задевая. Но это не так. Мелвилл остро переживал трагические повороты американской истории. Гражданская война и реконструкция Юга оставили тягостный след в его душе. Он отказался от статуса профессионального литератора, но не перестал быть писателем. Просто теперь он перестал зависеть от издательств и гонораров и не должен был оглядываться на вкусы публики. И писал он теперь не много – только в свободное время, а такого времени было мало.
Ещё в конце пятидесятых годов Мелвилл начал писать стихи и писал их до самой смерти. Его поэтическое наследие образуют несколько стихотворных сборников («Батальные сцены и война с разных точек зрения» – 1866, «Джон Марр и другие матросы» – 1888, «Тимолеон» – 1891), большая философская поэма «Клэрел» (1876) и множество разрозненных стихотворений, большинство из которых увидело свет лишь после смерти Мелвилла.
Поэзия Мелвилла в целом носит лирико-философский характер и в этом плане перекликается с поэтическим наследием Эмерсона. Однако в основе поэзии Мелвилла лежит не только абстрактное размышление, но и живая жизнь Америки того времени. Подтверждением тому служат стихи о Гражданской войне «Батальные сцены» и сборник «Джон Марр и другие матросы». Современники обратили внимание на необычность формы мелвилловского стиха, значительно отличавшейся от традиционной романтической поэтики и по структуре своей нередко приближавшейся к прозаической речи. Исследователи нашего времени, обладая преимуществом временной дистанции, без труда установили её родственность «вольной» поэтике Уитмена. Стало ясно, что Мелвилл сказал новое слово и в поэзии. Недаром сегодня его стихотворные сборники переиздаются многотысячными тиражами.
Уйдя в отставку в 1885 году, Мелвилл вернулся к активной литературной деятельности. К этому времени у него накопилось множество набросков, заметок, незавершённых стихотворений. Он начал приводить их в порядок. Два сборника «Джон Марр» и «Тимолеон» ему удалось опубликовать при жизни. Как поэт Мелвилл не искал популярности. Он издал эти сборники за свой собственный счёт тиражом 25 экземпляров. Остальное пролежало в его архиве более тридцати лет, прежде чем увидело свет.
«Лебединой песней» позднего Мелвилла явилась повесть «Билли Бадд, фор-марсовый матрос», над которой писатель начал работать в 1888 году. Он завершил её незадолго до смерти. «Билли Бадд» во многом напоминает повести Мелвилла пятидесятых годов, такие, как «Бенито Серено» или «Писец Бартлби». Писатель вновь обратился к нравственно-философскому истолкованию бытия человека и общества. Однако сорок лет, прошедшие со времени «Бенито Серено», – а за это время в Америке случилось многое, в том числе Гражданская война, – существенно повлияли на представления Мелвилла, на его понимание социальной этики. Неудивительно, что разрешение центрального конфликта между человечностью и законом в «Билли Бадде», если рассматривать его в одном ряду с ранними повестями, поражает неожиданностью. В конфликте между природой человека и юридическим законом Мелвилл оказался на стороне закона, что совершенно противоречило всем традициям романтической идеологии[340]. Это был уже другой Мелвилл.
«Билли Бадд» разделил судьбу многих сочинений позднего Мелвилла. Он был впервые напечатан в 1924 году и тут же признан одним из высших достижений американской «малоформатной» прозы. Такая оценка никого не удивила. К этому времени Мелвилл уже занял подобающее ему место в американской литературе.
Знакомство русского читателя с творчеством Мелвилла имеет сравнительно недавнюю историю – около четверти века, если не брать в расчёт небольшие фрагменты «Тайпи», «Ому», «Марди» и «Моби Дика», печатавшиеся в русских журналах прошлого столетия, и первый полный перевод «Тайпи», опубликованный в 1929 году, который прошёл совершенно незамеченным. Начало «русского Мелвилла» следует, по-видимому, относить к шестидесятым годам нашего века, когда усилиями издательств «Географическая литература» и «Художественная литература» были выпущены в свет «Ому» (1960), «Моби Дик» (1961), «Израиль Поттер» (1966), «Тайпи» (1967). В 1979 году издательство «Наука» опубликовало русский перевод «Белого Бушлата» в серии «Литературные памятники». Тогда же, в семидесятые годы, был издан сборник повестей Мелвилла.
Предлагаемое читателю Собрание сочинений включает три романа – «Моби Дик», «Тайпи», «Израиль Поттер», почти полную подборку повестей и рассказов и фрагменты из поэтических сборников. В нём представлены все художественные жанры, в которых работал Мелвилл, все этапы творческого пути великого американского романтика.
Юрий Витальевич Ковалёв
1987
Послесловие к роману Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит»
«Моби Дик, или Белый Кит» – произведение уникальное, написанное вопреки всем существующим понятиям о законах жанра. Американские критики середины XIX века сочли эту книгу «странной». Ощущение «странности», возникающее при чтении мелвилловского шедевра, сохраняется и сегодня. Роман о Белом Ките – трудная книга и не поддаётся беглому прочтению. Тому есть несколько причин, из которых мы выделим две основные. Первая связана с тем, что каждая из 135 глав романа побуждает к размышлению, и это, вероятно, высшая похвала, какую можно воздать любому произведению искусства. Мысли, возникающие у читателя в процессе чтения, касаются не только содержания романа, но также собственной жизни, своего времени, предназначения человека на земле, закономерностей в поведении людей, общих принципов бытия человечества. Вторая причина заключается в качестве самого текста, его организации, структуре, способе изложения материала. Последовательность расположения глав и даже их форма характеризуются своего рода перепадами, разрушающими инерцию повествования. Стоит, например, читателю увлечься описаниями морской стихии, как автор «подсовывает» ему классификацию китов; эпическое повествование о корабельной жизни перебивается монологами, диалогами и даже целыми сценами в духе елизаветинской трагедии, за которыми следуют отвлечённые философские рассуждения. Череда сюжетов и форм течёт непрерывным потоком: диалоги, монологи, суховатые научные рассуждения, описание деталей китобойного промысла, философские отступления, притчи, картины охоты на китов, размышления о человеческой судьбе, об истории народов и государств, исследование религиозных систем – всё это идёт по видимости бессистемно, но, в сущности, продиктовано особой глубинной логикой авторской мысли. Тем не менее переключение читательского внимания с предмета на предмет, от одной формы к другой осуществляется с некоторым усилием, преодолевая сопротивление материала.
Для верного понимания мелвилловского замысла необходимо внести ясность в вопрос о «герое» романа, тем более что среди историков литературы и по сей день не существует единого мнения на этот предмет. Одни полагают, что героем следует считать Измаила, другие отдают предпочтение капитану Ахаву, третьи – Белому Киту, и каждый находит подтверждение своему взгляду как в тексте самого романа, так и в многочисленных высказываниях самого Мелвилла и в его переписке.
Ошибка исследователей заключалась в том, что они подходили к «Моби Дику» с теми же мерками, что и к любому романтическому роману, и не желали допустить, что в каноническом тексте «Моби Дика» вообще нет традиционного «героя» и что именно в этом – главная причина «странности» книги. Это, разумеется, не означает, что в романе о Белом Ките вообще нет героя. Он есть, но он столь нетрадиционен, что его легко не заметить. Этим «героем», которому подчинены и действие, и описания, и характеры действующих лиц, является мысль, мысль – постоянно ищущая, пульсирующая, взлетающая от тривиальностей будничной жизни к границам Вселенной, воплощённая то в простых словах матросов, то в многозначных символах, проникающая под поверхность явлений, она неукоснительно стремится к своей единственной цели – постижению универсальной истины, если таковая имеется. Мысль – главный герой романа, её развитие – его главный сюжет.
Именно мысль являет собой тот стержень, который гарантирует слитность жанровой полифонии «Моби Дика», его органический синтетизм. Она соединяет в нерасторжимое целое различные модификации романного жанра (приключенческий, морской, социальный, роман воспитания и роман-путешествие), превращая их в роман философский. Именно эта динамическая мысль лежит в основе особой повествовательной структуры «Моби Дика», где каждое событие, предмет, поступок воспринимаются читателем на двух уровнях – как явление материального мира и как феномен сознания, как однозначный предмет и как многозначный символ.
Всё это легко увидеть, если вглядеться повнимательней хотя бы в «промысловый» аспект романа. Общепризнанно, что «Моби Дик» являет собой своего рода энциклопедию китобойного промысла. С необыкновенной тщательностью и подробностью здесь описан процесс добычи китов, разделка туш, производство и консервация горючих и смазочных веществ. Мелвилл обстоятельно знакомит читателя с организацией, структурой китобойного промысла, с производственными процессами, протекающими на палубе китобойца, с инструментами и орудиями производства, с производственными и бытовыми условиями, с «узкими» промысловыми специальностями. Автор не упускает из виду экономические и социальные аспекты промысла, этические принципы, с ним связанные, и даже его эстетическую сторону. Все эти моменты возникают в потоке ассоциаций, ведущих по мыслительной цепочке от конкретного предмета или события к широчайшим обобщениям (например, от понятия «рыба на лине» к выводу «Собственность – это весь закон»).
Охота на китов становится у Мелвилла как бы самостоятельным миром, далеко выходящим за пределы корабельной палубы и океанских просторов. Он захватывает и сушу, как бы «оморячивая» традиционно сухопутные предметы, явления, институты. Под пером писателя возникает «странная», хотя и вполне реальная действительность, где гостиницы называются «Под скрещёнными гарпунами» или «Китовый фонтан», где буфетная стойка располагается под аркой из китовой челюсти, где язычники бреются гарпунами, а священник читает проповедь с кафедры, имеющей форму «крутого корабельного носа» и снабжённой подвесным трапом из красного каната. И священник, одетый в зюйдвестку, приглашает прихожан сесть потесней: «Эй, от левого борта! Податься вправо!» И вот уже морская стихия захватывает часовню, и сама часовня становится похожа на корабль. Странным путём идёт авторская мысль, но вполне целенаправленным – к обобщению и символу. Образ корабля, который только что «совпадал» с часовней, продолжает шириться: «Ведь кафедра проповедника искони была у земли впереди, а всё остальное следует за нею; кафедра ведёт за собой мир…» – таково начало мощной риторической тирады, выводящей читателя к одному из важнейших мелвилловских символов: «Воистину, мир – это корабль, взявший курс в неведомые воды открытого океана…» В дальнейшем авторская мысль не оставляет эту метафорическую связку (мир-корабль) и порождает реверсивный символ (корабль-мир). Но теперь это уже не условный, а самый что ни на есть настоящий корабль – китобойное судно «Пекод» – с его командой, составленной из представителей разных рас и национальностей, – образ, который в символическом плане может трактоваться как Америка или как человечество, плывущие неведомо куда в погоне за призрачной целью.
В этом реальном и одновременно «странном» китобойном мире бесконечно важное место занимают сами киты. «Моби Дик» может рассматриваться не только как энциклопедия промысла, но и как справочник по «китологии». Китам посвящены специальные главы и разделы, содержащие естественную историю китов, их подробную классификацию, иконографию, биологическую и промышленную анатомию и даже эстетику. К тому же, роману о ките предпослана подборка высказываний о китах, почерпнутых из самых разных источников (от Библии, Плиния, Плутарха, Шекспира и короля Альфреда до безвестных рассказчиков матросских «баек» в атлантических портах Америки).
Мелвилл необыкновенно добросовестен, и сведения о китах, которые он сообщает, вполне достоверны. Однако постепенно читатель начинает замечать во всей этой «китологии» некоторую странность, проистекающую из того, что писателя явно интересуют не столько киты, сколько человеческие представления о них. И если сами киты не меняются, то представления о них лишены стабильности. Китология в «Моби Дике» перерастает промысловые и биологические границы. Появляются абзацы о китах в религии, в философии, в политике и, наконец, в системе мироздания. Постепенно мелвилловские киты переходят из разряда морских животных в разряд продуктов человеческого духа и начинают жить двойной жизнью: одна протекает в морских глубинах, другая – в просторах человеческого сознания. Не случайно писатель классифицирует их по системе, принятой для классификации книг, – киты in Folio, in Quarto, in Duodecimo… Понятие о ките как о биологическом виде отступает в тень, а на первый план выдвигается его символическое значение. Вся «китология» в романе ведёт к Белому Киту, который плавает в водах философии, психологии, социологии и политики.
Следует подчеркнуть, что тяготение Мелвилла к символическим абстракциям и обобщениям ни в коей мере не отрывает «Моби Дика» от экономической, политической, социальной реальности современной Америки. Почти всякий символ в романе имеет среди многочисленных возможных значений, по крайней мере, одно, непосредственно относящееся к жизни и судьбе Соединённых Штатов. Самый простой пример – уже упоминавшийся образ корабля под звёздно-полосатым флагом, на борту которого собрались представители всех рас и многих национальностей. Его можно трактовать по-разному, но первое, что приходит в голову, – разноплемённая Америка, плывущая по неизведанным водам истории к неизвестной гавани. Доплывёт ли? К какой гавани стремится? Кто направляет её? Именно так читатель расшифровывает для себя этот символ, и потому в сцене гибели «Пекода» усматривает трагическое пророчество.
Авторская мысль в «Моби Дике» разворачивается по чрезвычайно широкому фронту и охватывает огромное количество явлений национальной жизни. Но она имеет, так сказать, генеральное направление, а именно – будущее Америки. На основе исследования современности она стремится предсказать завтрашний день. Не все прогнозы Мелвилла оказались верными, но некоторые удивляют нас и сегодня. В круговороте современной жизни писатель разглядел зародыши явлений, которые развились в полную силу лишь спустя десятилетия. Поразительно, что Мелвилл, ошибаясь порой в простых вещах, оказывался точен в самых сложных областях, там, где взаимодействовали экономика и мораль, политика, философия и психология.
Движение мелвилловской мысли множественно по направлению и временами хаотично, но сохраняет единство цели: выявить общую тенденцию в нравственной эволюции американского общества, чтобы определить, к чему эта эволюция может в конечном счёте привести. Как и многие его современники, Мелвилл полагал, что поступки людей определяются их представлениями о мире и об универсальных законах бытия, отлитыми в форму религиозных учений и философских систем. Но какова степень истинности и достоверности этих систем? Проницательная мысль писателя легко установила их общую черту: они снимали с человека ответственность, выводя силы, руководящие человеческой жизнью, равно как и жизнью народов и государств, за пределы человека и общества. В ходу были понятия пуританской теологии и идеалистической философии, и всё сводилось, в сущности, к различным вариантам «божьего промысла». То мог быть традиционный грозный бог новоанглийских пуритан, любвеобильный бог унитарианцев, «сверхдуша» трансценденталистов, «абсолютный дух» немецких философов или безличные «провиденциальные законы».
Десятки глав «Моби Дика» отведены под художественное исследование и проверку означенных религиозных и философских систем, и ни одна из них этой проверки не выдержала. Отсюда, в своём непрестанном движении, авторская мысль должна была со всей неизбежностью прийти к постановке проблемы в самой общей и крамольной по тем временам форме: а существует ли вообще некая высшая сила, ответственная за жизнь человека и человеческого общества? Ответ на этот вопрос требовал, казалось бы, концентрации внимания на изучении природы, включая сюда все виды и формы человеческого бытия. Однако мысль Мелвилла отказывалась двигаться этим прямолинейным путём. Писатель отчётливо понимал, что в процессе познания участвует не только объект, но и субъект. И если объект был стабилен и объективен, то субъект, напротив, обладал большим разнообразием. Отсюда вытекала необходимость гносеологического эксперимента, цель которого – исследование основных типов познающего сознания.
Гносеологический эксперимент занимает значительную часть романа. В нём «задействованы» несколько субъектов и один объект – Белый Кит. Вспомним, что Мелвилла интересовали не столько киты, сколько человеческие представления о них. Вспомним также о множественности символических толкований образа Кита в романе. Всё это имеет непосредственное отношение к эксперименту. В самом деле, кто таков Моби Дик – просто кит? воплощение мирового Зла? эмблематическое обозначение вселенной? Каждое из этих толкований находит своё подтверждение, но и опровержение в романе. Дело не в том, каков он на самом деле, дело в том, как его видят, воспринимают и понимают разные персонажи книги, носители различных типов сознания.
Для Стабба Моби Дик просто кит. Он воспринимает его в рамках своей профессиональной деятельности. Его сознание индифферентно. Оно только регистрирует явления, не ища в них скрытого смысла и не докапываясь до их существа и общего значения. У Ахава сознание проецирующее. Для него Моби Дик лишь некий внешний объект, на который он переносит субъективные представления и идеи, живущие в его мозгу. В его сознании Белый Кит превращается в средоточие мирового Зла. Именно поэтому сознание Ахава трагично. Он не может уничтожить Зло, даже если уничтожит Кита. Для него открыт только один путь – самоуничтожение. Любой персонаж, которого Мелвилл сталкивает с Китом, становится участником эксперимента.
Среди всех возможных типов познающего сознания Мелвилл отдаёт предпочтение сознанию созерцательному. Носителем его в романе становится Измаил, которому в финальной части автор вновь доверяет повествование. Для него Моби Дик – олицетворение мира, космоса, вселенной. Сила, энергия, мощь и даже белизна Кита порождают в сознании Измаила ужас своей бесцельностью, бессмысленностью и безразличием. В них нет ни добра, ни зла, ни красоты, ни уродства. Во вселенной Измаила нет никакой разумной высшей силы: она неуправляема и лишена цели. В ней нет ни бога, ни провиденциальных законов. Здесь нет ничего, кроме неопределённости, безмерности и бессердечной пустоты. Вселенная безразлична к человеку. Стало быть, людям нечего надеяться на высшие силы. Их судьбы зависят только от них самих.
Вывод этот носит более или менее отвлечённый характер. Однако в условиях Америки середины XIX столетия, когда на её историческом горизонте уже засверкали первые зарницы Гражданской войны, он имел далеко не абстрактный смысл.
Мы рассмотрели здесь лишь один круг проблем, одно направление в развитии авторской мысли. Разумеется, шедевр Мелвилла гораздо богаче, но всё его идейно-художественное богатство, сколь бы разнообразно оно ни было, так или иначе привязано к этой генеральной линии и может существовать только в соотнесённости с нею.
Юрий Витальевич Ковалёв
1987