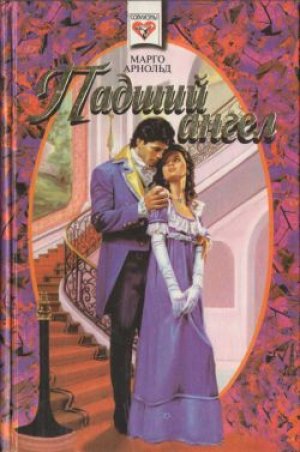
1
Жизнь человека начинается вовсе не в тот момент, когда он появляется на свет, и заканчивается не тогда, когда он умирает. Я полагаю, моя жизнь – хорошо ли, плохо ли она сложилась – началась тем летом, когда мне исполнилось шестнадцать. Лето 1794 года… Это было время, когда по ту сторону Пролива,[1] в соседней Франции, нож гильотины продолжал обрушиваться на шеи тех, кто сам давал ей пищу на протяжении последних двух лет, и она жадно питалась их кровью, как некогда кровью их жертв. А человек, которому предстояло повлиять на мою жизнь больше, чем кому бы то ни было, – хотя нам и не суждено было встретиться, – служил пока неприметным солдатом на юге Франции.
Но для обитателей узеньких улочек вокруг собора св. Павла, видевших мое рождение и детство, все эти события не значили ровным счетом ничего, если, конечно, не считать появления немногих причудливо одетых иностранцев, которых тут изредка можно было встретить, да неизменно возраставшей нищеты, связанной с тем, что страна все еще находилась в состоянии войны. Я родилась в то время, когда Англия воевала с американскими колониями. И так продолжалось всю мою жизнь: война и растущие цены, нищета и война.
Отец мой, Питер Колливер, был плотником – хорошим мастером и неплохим человеком, разве что болезненным. Случалось, что он не работал неделями, лежа в постели с коликами в животе, – тогда семья лишалась даже тех жалких грошей, которые ему обычно удавалось заработать. Но, если бы даже он трудился каждый день от рассвета до заката на протяжении всей своей жизни, ему все равно не удалось бы выбраться из нищеты – с хворающей женой и шестью ребятишками на руках. А так в нашем нищем квартале мы были самыми нищими.
Нас, детей, было восемь, но над двоими судьба сжалилась, милосердно позволив им умереть. Моему старшему брату исполнилось двадцать, и он уже был отдан в учение к бондарю. К нему единственному из всей семьи я испытывала хоть какую-то привязанность, поскольку он нашел время, чтобы научить меня грамоте, так что из всех сестер я одна умела, пусть с грехом пополам, писать и считать. Следующей по возрасту шла моя сестра – старше меня на три года, а между нами был еще один ребенок – тот, что умер. Затем шла я и мои братья-близнецы младше меня на четыре года, с ними нас разделял еще один умерший ребенок. Эти двое были настоящие чертенята. Единственным их занятием было сломя голову гонять по улицам и всячески досаждать мне. И, наконец, последней была моя маленькая сестричка, которой исполнилось всего два годика. Я полагаю, именно она была косвенной виновницей смерти нашей матери: последние роды были очень тяжелыми, после них матушка так и не сумела оправиться, и лихорадка унесла ее от нас сразу же после моего пятнадцатого дня рождения. Все хлопоты по дому пришлось взять на себя сестре.
Таким образом, я выделялась среди всех своих братьев и сестер – от ближайших по возрасту меня отделяло по нескольку лет. Я выделялась и внешне, унаследовав от матери темные волосы и голубые глаза, тогда как остальные дети пошли в отца – с его льняными волосами и карими глазами. Я выделялась даже тем, – и это, пожалуй, самое главное, – что была единственным человеком в семье, который не был нужен дому и, в свою очередь, сам не нуждался в нем. Еще до того, как умерла матушка, в семье уже начали поговаривать о том, что же со мной делать в дальнейшем. Мать склонялась к тому, чтобы отдать меня в ученицы к модистке, но в то время у семьи не было денег даже для того, чтобы внести весьма скромную плату за ученичество. Отец мой хотел бы, чтобы я нанялась на службу в какой-нибудь из аристократических лондонских домов. Но, учитывая положение нашей семьи, традиционно состоявшей из ремесленников и мастеровых, это было не так просто. Чтобы проникнуть в этот тщательно оберегаемый и наглухо закрытый для посторонних мир, нужны были знакомства и связи – как, впрочем, и везде в наше время. Вот так они поговорили, и я осталась дома – обуза помимо собственной воли, сама не зная, что делать. Ведь я была детищем мира, раскинувшегося вокруг собора св. Павла. Мое тело и разум бесцельно блуждали в окутывавшем меня облаке нищеты – слишком невежественные, чтобы даже мечтать.
Останься в живых моя матушка, я, видимо, все же стала бы модисткой, как она и хотела. Но, возможно, даже она не смогла бы противостоять Белль Дэвис, женщине с очень сильным характером и чрезвычайно практичной. Она хорошо изучила по крайней мере одну дорогу в лабиринте жизни и теперь собралась повести по ней и меня.
Белль Дэвис… Эта женщина несла в себе некую загадку. Ее нечастые посещения нарушали наше монотонное существование, давая пищу для размышлений и пересудов. Она была сестрой нашей соседки на Рыбной улице – такой же измученной родами и домашними хлопотами женщины, как и моя мать. Наверное, самое первое воспоминание моей жизни – это карета Белль, что катит по улице к нашему дому, а затем из нее выходит сама Белль, одетая так же роскошно, как леди, которых мы видели в соборе св. Павла по воскресеньям. Она наносила непродолжительные визиты сестре, оставаясь в ее домике до тех пор, пока привычное для нас зловоние и духота убогого жилища не заставляли ее ретироваться. А уходя, она всегда совала в жадную руку своей сестры кошелек. Затем она садилась в карету и под крики разгонявшего толпу кучера удалялась, кивая зевакам с величием королевы.
Нам, детям, она представлялась существом из какого-то другого мира, да, впрочем, так оно и было. И мой детский рассудок был озадачен, когда однажды мне удалось подслушать разговор между моей матушкой и сестрой Белль. Они шептались о ней, как об умершей, и жалели ее. Жалели ее! – это ослепительное, счастливое существо, являвшееся подобно ангелу и олицетворявшее собой благополучие. Это было выше моего понимания, и я попыталась найти ответ на эту загадку у старших сестры и брата. Брат наплел мне всякой ерунды, а менее деликатная сестра фыркнула:
– Она падшая женщина. Проститутка.
Мне было достаточно хорошо известно, что означает слово «проститутка», – в трущобах таким вещам учишься быстро, но что общего могла иметь прекрасная Белль с теми грязными созданиями в струпьях и язвах, что после наступления темноты слонялись по мостовым, приставая к юнцам и пьяным, а потом валялись в грязных переулках, зарабатывая свои жалкие шесть пенсов! Что общего могла иметь Белль с ними!
Став постарше, я сделала для себя вывод: так же, как на свете существуют богатые и бедные «честные люди» – к этому приучила меня матушка, и мы, по ее схеме, относились к последним, – должны существовать богатые и бедные проститутки. Как-то раз я высказала это соображение вслух.
– Нет, – твердо ответила матушка, – падшая женщина она и есть падшая. Все они кончают одинаково: вечным проклятьем и геенной огненной, нищетой и сточной канавой, болезнями и мучительной смертью.
Тогда я стала ждать, когда же настанет этот день и для Белль и она станет ползать по мостовой в отрепье, выклянчивая милостыню, но он почему-то так и не наступил. Моя мать умерла и была похоронена вместе со своей честностью, а к соседнему дому по-прежнему подъезжала карета и Белль казалась еще прекраснее, чем прежде.
Но вот как-то раз, вернувшись домой под вечер, я с удивлением заметила, что карета стоит возле нашего дома. Я ходила на рынок в Ковент-Гарден, где по вечерам торговцы выбрасывали остатки непроданных овощей и беднякам было чем поживиться. К тому времени, как я добралась домой, уже стемнело, и то, что Белль приехала так поздно, тоже удивило меня: в ночную пору наш район был не самым подходящим местом для прогулок хорошо одетых дам в каретах. Еще больший сюрприз ждал меня в комнате, когда я открыла дверь и втащила тяжело нагруженную корзину. Белль, как всегда, прекрасно одетая, в платье с тончайшими оборками и рюшами, сидела за столом напротив моего отца, а сальная свеча отбрасывала на них свой неверный свет. Вечер был прохладным, но на бледном лице отца выступили крупные капли пота – я помню, это поразило меня и даже немного встревожило: не подхватил ли и он лихорадку? Ведь он страдал от колик на протяжении почти всего лета, в результате чего мы прочно сели на мель.
Увидев меня, отец занервничал еще больше и начал что-то говорить, но Белль знаком велела ему замолчать и одарила меня ослепительной улыбкой. Слишком крупные квадратные зубы были, пожалуй, единственным, что портило ее. Поманив меня рукой, она сказала:
– Подойди сюда, Элизабет, подойди, дорогая. Присаживайся рядом с нами. Мы с твоим отцом только что обсуждали планы относительно твоего будущего. Я намерена забрать тебя отсюда. Садись, дитя мое, и слушай.
Повернувшись к моему отцу, она заговорила, словно продолжая прерванную фразу:
– Как я уже сказала, в течение года ничего не произойдет, но я настаиваю на том, чтобы у меня были полностью развязаны руки. За это время она должна будет выучиться всему: танцевать, петь, говорить, развлекать гостей, со вкусом одеваться. – Белль выразительно пожала плечами и подвела итог: – Абсолютно всему. Ты умеешь читать и писать? – внезапно обратилась она ко мне.
Хоть я и была ошеломлена, мне удалось съязвить:
– Да, и разговаривать я тоже уже умею.
Белль не смогла сдержать тихий приятный смех:
– О, мое чудесное дитя! Я и забыла, как остер твой язычок.
Это было правдой. Когда я была поменьше, мы часто болтали с ней, и мои высказывания нередко заставляли ее смеяться. Повзрослев, я несколько отдалилась от Белль, подсознательно чувствуя, что старшие не одобряют нашей дружбы.
– Да нет же, – продолжала она. – Я имею в виду, что ты должна выучиться говорить должным образом: без акцента и без всех этих ужасных словечек на кокни,[2] которыми пестрит твоя речь. Ты научишься говорить так, как говорю я.
Голос Белль был одной из самых привлекательных ее черт: глубокий и приятный, без всякого следа жаргона и визгливости, присущих всем нам. Только в те редкие моменты, когда Белль была рассержена или очень возбуждена, в ее речь возвращались жаргонные словечки и резкость, но теперь она говорила, как настоящая леди.
– Впрочем, то, что ты умеешь читать и писать, в огромной степени поможет нам. Уроки будут даваться тебе гораздо легче. Что же касается финансовой стороны, – обернулась она к моему отцу, – то все расходы в течение следующего года я беру на себя. После этого мы встретимся и еще раз обсудим материальный вопрос – в зависимости от того, каковы будут ее успехи.
У меня похолодело внутри и окаменели губы, но я все же сумела выговорить:
– Зачем вам все это? Что вы собираетесь сделать со мной? Вы что, хотите превратить меня в… – я запнулась, но затем все же нашла в себе силы произнести это слово: —…проститутку? Так вот, я не буду ею! Не буду!
При этих словах мой отец издал какой-то сдавленный звук: не то стон, не то всхлипывание. Несколько мгновений Белль молчала, а затем со вздохом подняла руку, желая привлечь мое внимание.
– Дитя мое, я полагаю, они говорили тебе, что я – проститутка. И ты, разумеется, знаешь, что это такое?
Я упрямо кивнула.
– И еще они говорили тебе, что я несчастна, покрыта позором и обязательно плохо кончу?
Я вновь кивнула.
– А теперь взгляни на меня, – резко приказала Белль. – Неужели я похожа на такое ничтожество?
В то время ей было около тридцати пяти. Высокая и хорошо сложенная, с большой крепкой округлой грудью и роскошными плечами, которые она любила демонстрировать, Белль находилась в расцвете своей красоты. У нее была копна волос цвета спелой кукурузы и живые голубые глаза. Конечно, ремесло, которым она занималась уже многие годы, не могло не наложить на нее свой отпечаток: цвет ее лица несколько поблек, но она компенсировала этот недостаток с помощью косметики, умело пользуясь румянами. На фоне нашей убогой обстановки она казалась мне окруженной сиянием, поэтому я отрицательно покачала головой.
– Позволь кое-что сказать тебе. – Она заговорила почти шепотом. – Когда я начинала, то была так же бедна и невежественна, как ты теперь. И никто не мог мне помочь. Это было двадцать лет назад. Теперь я владею тремя домами, на моем счету в банке лежит пять тысяч фунтов. У меня есть слуги, кареты, платья, которые с гордостью одела бы даже принцесса, а ведь я еще молода и у меня все впереди. Если ты используешь умную головку, которую, как я полагаю, носишь на плечах, то сможешь добиться всего того же – и даже большего. Это шанс изменить всю твою жизнь, шанс выбраться из всего этого… – Жест, которым Белль обвела то, что нас окружало, был подобен пощечине. Я взглянула на отца, и мне показалось, что он съежился, а стены нашей и без того мрачной комнаты сдвинулись теснее.
– Но это вовсе не то, чего я хочу, – удалось вымолвить мне.
– Чего же ты хочешь? – мягко спросила она. Запинаясь, я постаралась объяснить это ей и отцу, но, по-моему, вышло у меня плохо. Иногда по воскресеньям мой брат брал меня на прогулку за пределы Сити, и мы неторопливо шли по полям к Айлингтону или Сэдлерз-Уэллс. Мы проходили мимо домов – не тех больших и элегантных, которые обычно строят для себя за городом богачи, а маленьких уютных домиков с заплатками крохотных садиков. Обитатели этих домов одевались небогато, но со вкусом, по вечерам они часто выходили посидеть на свежем воздухе и поболтать с соседями. По словам моего брата, это были дома, принадлежавшие «среднему классу» – владельцам магазинов, обслуживающих богачей, и клеркам, работавшим в огромных торговых домах, что теснили наши трущобы в Сити. Над ними витало ощущение покоя, удовлетворенности и надежности. Мой брат мечтал о том, как в один прекрасный день мы заведем такой же домик, и в такие моменты я чувствовала, что это предел желаний любого человека.
Все это я пыталась объяснить в тот вечер отцу и Белль. Когда я закончила свою сбивчивую речь, Белль, смотревшая на меня с болью и сожалением, порывисто сжала мою руку и произнесла:
– Да, звучит очень мило. Все эти твои мечты – обычные мечты честного человека. Но скажи мне, дорогая, каким образом, по-твоему, такие, как мы, могут достичь всего этого?
«Такие, как мы»… Какая грусть прозвучала в ее словах!
– На что ты можешь надеяться? – продолжала она. – Твоя мать, насколько мне известно, хотела отдать тебя в ученицы. Ну что ж, ты работала бы семь лет за гроши, а то и вообще бесплатно, приходя домой поздно вечером и трясясь от страха, потому что в любую ночь какой-нибудь оборванец мог затащить тебя в темный переулок и изнасиловать. Если бы ты не пошла в обучение, ты могла бы выйти замуж, взвалить на себя обязанности по содержанию дома вроде этого и жить так до конца своих дней. А пойди ты на службу в какой-нибудь богатый дом, как того хочет твой отец, с тобой обращались бы как с самым ничтожным созданием на свете. Лакеи шарили бы у тебя под юбками, а джентльмены вытворяли бы с тобой все что им угодно и когда угодно. Тебе пришлось бы кланяться и унижаться перед всеми, кому это по душе, в том числе и перед такими, как я. Нет, девочка моя. Позволь мне сказать тебе, что все несчастные развалины, которые на твоих глазах продают свое тело за шиллинг первому встречному пьянице, все эти заживо разлагающиеся обломки начинали именно с того, что работали служанками в домах знатных – и не очень – вельмож. Эта дорога не приведет тебя к твоему маленькому домику в полях, уж поверь мне. Я повидала достаточно много, чтобы знать это наверняка.
Произнося эту речь, Белль так разволновалась, что у нее перехватило дыхание.
И все же я снова отрицательно покачала головой.
– Я не понимаю, почему ты – такая богатая, а они – такие бедные, коли вы занимаетесь одним и тем же.
При моих последних словах спокойствие вернулось к Белль, и она вновь рассмеялась.
– Сейчас я не могу объяснить тебе всего, но дело обстоит примерно следующим образом. Так уж случилось, что Англия непрерывно воюет, и это длится так долго, что я даже не помню, когда было иначе. Когда идет война, повсюду есть солдаты, моряки – мужчины, оторванные от дома, мужчины, ищущие немного уюта и женской ласки, прежде чем им снова придется рисковать своей головой на поле боя. Кроме того, существуют господа, позаботившиеся о том, чтобы обезопасить своих маленьких симпатичных жен и детей, отправив их в деревни. Сами они остаются в городах и тоже хотят получить свой кусочек удовольствий. И вот тут-то появляемся мы – те, для кого французы нашли замечательное слово «полусвет». Та часть общества, о которой не принято говорить вслух, но без которой не обойтись. Но мы не обслуживаем просто солдата Билла или морячка Джека – это для тех, кто шляется по улицам и торгует собою за полкроны. Мы доставляем удовольствие богатым людям. Тем богачам, которые, залезая в постель, не хотят заработать сифилис, которые стремятся получить домашний уют, сдобренный пряной приправой. Чем они богаче, тем большего ожидают и тем больше получают. Поверь мне, в Англии таких предостаточно, поэтому у нас не хватает времени даже на капитанов и майоров, у которых за душой нет ничего, кроме их жалованья.
Белль снова рассмеялась, но теперь уже более жестко. Когда же она вновь заговорила, горечь ее последних слов врезалась мне в память на многие годы.
– Да, – продолжила она, – к нам приходят богачи, и многим из них вполне можно облегчить их тугие кошельки. Так что чем сообразительнее ты будешь, тем богаче сможешь стать. Я не обещаю тебе молочных рек с кисельными берегами, но существует много гораздо худших способов существования. Гораздо худших.
С этими словами Белль закуталась в шаль, словно на нее внезапно дохнуло холодом.
Однако я продолжала сражаться за маленькие мечты своего детства.
– Но почему именно я? – Безнадежность и в то же время упрямство владели мной. – Я не очень красива, не слишком умна. Почему тебе нужна я? Почему не… – Я чуть было не упомянула ее племянниц, но, сама не зная отчего, запнулась.
Белль смотрела сквозь меня, как будто не в силах отвести взгляда от чего-то за моей спиной.
– Почему ты, а не Селина, что живет за стенкой, или Фанни через дорогу, или Рози за углом? Что ж, с одной стороны, потому что ты мне нравишься. Я всегда любила тебя – еще с тех пор, как ты была малюткой, и сейчас мне хочется вытащить тебя отсюда. – Она сделала паузу, и лицо ее стало жестким. – С другой стороны, потому, что я деловая женщина и то, что я из тебя сделаю, станет источником прибыли для нас обеих. За двадцать с лишним лет я хорошо поняла, что представляют собой мужчины. Если тебя хорошенько отмыть, вложить в твои уста нужные слова и нарядить тебя в красивое платье, ты станешь именно тем, чего им хочется. У тебя нежный взгляд, который так нравится мужчинам, хорошенькое маленькое тело, с которым правильное питание может сотворить чудеса, у тебя красивые руки, глаза и прекрасные волосы. А с твоим острым умом ты, если бы захотела, могла бы заставить половину Лондона пасть у твоих ног.
Белль замолчала и утомленно поднялась со стула.
– Однако для одного вечера я и так наговорила слишком много. Мистер Колливер, вы должны принять решение до конца недели. В пятницу я вернусь за ответом.
Отец беспокойно вскочил на ноги.
– Думаю, мне лучше посоветоваться с ее тетушкой. Это очень важный шаг, Белль, и я хочу поступить во благо дочке.
Но Белль уже ушла, одарив меня лучезарной улыбкой и бросив на прощанье:
– Подумай над моими словами, дитя, и ответ сам придет к тебе.
Мой отец, застыв в напряженной позе, провожал ее глазами.
– Так я и сделаю, – сказал он довольным тоном человека, нашедшего наконец выход из сложного положения, – поговорю с твоей тетушкой.
Если бы слезы не стояли в моих глазах, я бы, наверное, расхохоталась ему прямо в лицо. Моя тетушка, сестра моей матери… Впоследствии мне доводилось встречать людей, которые с первого взгляда проникались ко мне ненавистью, но тогда я уже ко многому привыкла и они были мне не страшны. Только один человек возненавидел меня с первого дня моей жизни и даже не особо пытался это скрывать – моя тетушка Сара, старшая сестра моей матери. Разница в годах между ними была так велика, что тетушка Сара относилась к своей сестре скорее как к дочери и любила ее до умопомрачения. Я никогда не могла понять, за что же она так ненавидит меня. Возможно, до моего появления на свет жизнь была не так жестока к моим родителям, у них еще оставались маленькие радости и изредка предоставлялась возможность хоть чем-то побаловать себя, а после рождения третьего, четвертого и пятого ребенка все это ушло в прошлое. Из всех троих удалось выжить только мне. А может быть, это чувство объяснялось тем, что я была слишком похожа на свою мать в молодости, до того, как нищета и бедствия наложили на нее свое клеймо.
Впрочем, каковы бы ни были причины, моя тетушка ни за что не призналась бы в этом чувстве. Но тем не менее все мое детство и отрочество прошли под заунывный аккомпанемент бесконечных причитаний тетушки, не устававшей перечислять мои недостатки и провинности. Именно она с момента смерти матушки без устали подзуживала моего отца, уговаривая его «пристроить» меня куда-нибудь, чтобы я тоже зарабатывала деньги для семьи. И я абсолютно точно знала, что она скажет отцу на сей раз: «Какая удача для Элизабет – вырваться отсюда и пожить в роскоши, в то время как остальная семья будет прозябать в нужде! Я надеюсь, она не забудет своих менее удачливых братьев и сестер, этих бедных овечек».
Если впоследствии мои дела пойдут плохо, она скажет: «Я всегда знала, что ничего путного из нее не выйдет. Я знала, что именно так все и получится». А если у меня все будет хорошо, тетушка наверняка заявит: «Она все равно плохо кончит, вот попомните мои слова!» Я знала все это наперед, когда стояла в кухне и смотрела на своего бедного отца-неудачника, пытавшегося избавиться от тяжкой ответственности – толкнуть свою дочь на путь, который приведет ее к богатству и проклятию.
Все случилось точно так, как я и предполагала. Моя тетушка произнесла именно те слова, которые я ожидала от нее услышать, и еще множество других. Младшие, конечно, участия в разговоре не принимали, поскольку были слишком малы, чтобы понять, о чем речь. Моя старшая сестра, которой на протяжении всей нашей жизни не было до меня никакого дела, смотрела на все это проще: в доме станет одним голодным ртом меньше, а постель теперь придется делить не с двумя, а всего лишь с одной сестрой. Только брат встал на мою защиту. Обычно тихий и молчаливый, на сей раз он выкрикивал в лицо отцу такие слова, от которых беднягу передергивало. Но даже мой брат не мог тягаться с тетушкой. В четверг вечером мы все уже были нравственно и физически истощены, но и тогда брат сумел утешить меня, подарив мне крохотный лучик надежды.
– Лиз, – сказал он, – если даже они сумеют избавиться от тебя на этот год, за это время, как я понимаю, с тобой ничего не произойдет – ты пока что будешь только учиться. А к концу года я уже закончу свое учение и стану сам зарабатывать на жизнь. Вот тут-то только они нас и видели. Я найду работу, а ты, может быть, сможешь шить, учить детей или делать что-то еще. Все будет хорошо, вот увидишь.
Боже, как мне хотелось верить в это! И я поверила.
Когда в пятницу появилась Белль, мы уже все ждали ее, включая тетушку, хотя она и заявила, что не обмолвится и словом «с этой женщиной». Белль вошла словно свежий ветер, принеся с собой запах фиалок. Помню, на ней был плащ из фиолетового бархата, подбитый белым горностаем. Она была неотразима.
– Итак? – спросила она своим мягким глубоким голосом.
Отец нервно откашлялся.
– Белль, мы обдумали твое предложение и решили, что для людей в таком положении, как наше, оно представляется весьма заманчивым. Хотя, – он растерянно взглянул в сторону моей тетушки, – учитывая, что Элизабет могла бы помогать семье, зарабатывая деньги в течение следующего года, мы подумали, что, может быть… – И он беспомощно умолк.
Глаза Белль вспыхнули.
– В вашем доме станет одним ртом меньше. Согласитесь, уже одно это кое-что значит. Кроме того, это дело Элизабет – посылать что-нибудь домой или нет, а меня сие не касается. Кстати, что скажет она сама?
Я взглянула на нее спокойно, как только могла, хотя внутри меня все сжималось от страха.
– Я не хотела, чтобы так было, но все они твердят, что я должна поехать с тобой. В течение года я буду делать все, что ты прикажешь, но после этого – ничего не обещаю. Абсолютно ничего. И нет такого закона, по которому меня можно принудить к чему-то иному.
Белль запрокинула свою прекрасную головку и рассмеялась.
– Это честно, дитя мое. Честно сказано, хотя мне и предстоит излечить тебя от чрезмерной честности в отношениях с другими, иначе ты никогда ничего не достигнешь. Давай вернемся к этому разговору через год. А теперь пошли, нам пора.
Я в изумлении уставилась на нее.
– Что ж, если ты по-прежнему хочешь забрать меня, я должна собрать свои вещи.
– Оставь их, дитя мое, оставь их. Я уверена… – в голосе ее зазвучала неприкрытая насмешка, – в этом доме им найдут применение. Что же касается тебя, то со мной ты начнешь новую жизнь с новыми вещами. У тебя больше нет прошлого – у тебя есть только будущее.
Вот так теплым августовским вечером 1794 года я начала новую жизнь с Белль Дэвис. Мне предстояло научиться тому, как стать преуспевающей проституткой.
2
Я не хотела уходить, но так решила моя семья, и поэтому, когда двери дома Белль захлопнулись за моей спиной, родные как будто перестали для меня существовать. Рыбная улица, ее запахи и шум, невзгоды и болезни – все это растворилось и исчезло, словно было не чем иным, как страшным сном. Как утка, ныряющая в воду, я погрузилась в жизнь, полную порочной праздности, если не сказать – наслаждений.
Белль отмыла грязь с моего тела, никогда не знавшего горячей воды, и была восхищена белизной и мягкостью моей кожи. Она щипала соски моих грудей до тех пор, пока они не встали – твердые и розовые, подобно двум бравым стражникам, и после этого удовлетворенно засмеялась. Она вымыла мои волосы и расчесала беспорядочные завитушки, превратив их в аккуратные и блестящие вьющиеся локоны. Она сделала мне маникюр и педикюр, и впервые, улегшись спать, я почувствовала нежное прикосновение батиста к моей коже и льна – к моей щеке. От хорошей пищи, которую я ела впервые в жизни, я почувствовала себя голубем на откорме, и на моем теле стали появляться соблазнительные ямочки. А Белль, наблюдая происходящие со мной перемены, все смеялась и смеялась, целуя меня горячо, словно мать.
Однако мне нравилось не только то, как меняется мое тело. Шестнадцать лет моя душа не знала ласки, она была пуста, и вокруг не было ничего, что могло бы ее заполнить. А теперь на меня благодатным дождем изливалось все, о чем только может мечтать юная девушка в пору зарождающейся женственности и о чем до сих пор я не имела ни малейшего представления. Сегодня, когда на троне восседает молодая королева, возможно, все изменится и женщины смогут научиться тому, что ранее было им недоступно. Но во времена моей молодости мы, дамы полусвета, должны были обладать вполне определенным набором навыков: петь, танцевать, рисовать, немного вышивать, немного музицировать, хоть как-то говорить по-французски, декламировать, играть в карты – и в случае необходимости элегантно проигрывать, – развлекать гостя, ухаживать за домом, одеваться по последней моде и удовлетворять мужчину – вот и все. Всему этому мне предстояло научиться, и я впитывала эти науки, как впитывает воду губка, высушенная под жарким африканским солнцем.
Когда я вспоминаю тот год, передо мной встает целая галерея лиц – новых людей, с которыми мне пришлось тогда познакомиться. Артур, мой преподаватель дикции… В прошлом актер, он покинул подмостки из-за своего пьянства, но продолжал держаться с наигранным величием сценического трагика. Он боролся с моим произношением, учил меня начаткам актерского мастерства, тому, как подавать себя – вплоть до умения падать в обморок в нужный момент.
Доктор Дивер, трогательный маленький эмигрант, давал мне уроки французского, на котором я говорила с чудовищным акцентом. Он также обучал меня танцам. Удивительно, но при том, что сам он был коротышкой, танцевал он со сказочной легкостью и грацией. Когда со временем я наконец появилась в бальных залах, то с удивлением обнаружила, что высокие и мужественные кавалеры по сравнению с моим учителем кажутся хромоногими слонами.
Маленькая, похожая на сушеное яблоко женщина пыталась научить меня вышиванию и рисованию. Я забыла ее имя, но помню, что Белль охарактеризовала ее как «настоящую леди в стесненных обстоятельствах».
Бедная душа! Несмотря на отчаянные усилия, которые я прилагала, чтобы постичь ее премудрости, любая девятилетняя школьница дала бы мне, наверное, сто очков вперед. В конце концов Белль поняла тщетность этих стараний и с печальным вздохом велела мне сосредоточиться на других предметах, поскольку ни вышивальщицей, ни художницей мне, видимо, стать не суждено.
Через полгода начали проявляться мои сильные и слабые стороны. Голос у меня был нежный и чистый, но ему не хватало силы. Я умела играть на пианино достаточно хорошо, чтобы аккомпанировать самой себе и исполнять простенькие вещицы. Я правильно говорила, научилась со вкусом одеваться и придумывать различные наряды и украшения – моя матушка была права, когда прочила мне будущее модистки. С другой стороны, я была безнадежна в вышивании и рисовании, с трудом произносила французские фразы, которыми в то время было модно пересыпать речь, и была слишком снисходительна к слугам, когда дело доходило до искусства ведения домашнего хозяйства. Увы, от этих недостатков мне не удалось избавиться до конца моей жизни. Но в целом Белль была довольна моими успехами. Очень довольна.
Занималась я не одна. Тяготы учения со мной делила девушка чуть постарше, чье прошлое было еще более мрачным, чем мое собственное. Она была высокая, с темно-рыжими волосами, чистой смуглой кожей, огромными карими глазами и худая, если не сказать тощая. Будучи наивной и помня, что говорила Белль обо мне самой, я удивлялась: как она может ждать, что эта девочка будет пользоваться успехом у мужчин? Мне и в голову не приходило, что, если одним мужчинам нравятся женщины пышные и белые, другим могут нравиться смуглые и худощавые. Белль, как я уже сказала, была весьма умной женщиной, и мы с этой смуглой девушкой по имени Люсинда составляли восхитительную пару.
Белль сама преподавала нам «интимные науки»: как заказать хороший ужин, как одеться, чтобы привлечь к себе внимание и в то же время не выглядеть вульгарной, как флиртовать, оставаясь при этом в безопасности, и как внушить мужчине, что восхитительнее его нет никого в целом свете. Должна признать, что эти уроки нравились мне несравненно больше остальных. Мне казалось, что я учу какие-то волшебные слова, с помощью которых смогу в жизни, как в кукольном театре, дергать за любые веревочки, а потом смеяться над марионетками, послушными моей воле. Если бы все было так просто!
Хотя теперь я была слишком поглощена своей новой жизнью, чтобы думать о несчастьях, которые может принести завтрашний день, страх порой снова возникал в моей душе. Нас с Люсиндой поместили в отдельную часть дома. Белль приходила туда, чтобы поесть и заняться своими делами, которые, как я заметила, по большей части состояли из возни с бумагами. Ей, кроме того, принадлежал соседний дом, и, хотя нам было запрещено появляться в нем, сквозь общую стену до нас доносился шум вечеринок, которые происходили там практически каждую ночь. В эти часы, замерзшая, я лежала под гладкими простынями и прислушивалась к заливистому хохоту и крикам, часто переходившим в резкие злые вопли. Тогда я пыталась отвлечься от действительности, мысли мои улетали далеко, и я снова, как в прежние времена, рассматривала вместе с братом маленькие айлингтонские коттеджи с их неприметными обитателями, которые не умели отличить одно вино от другого, не могли позволить себе хороший обед, даже если и сумели бы заказать его со знанием дела, у которых не было дорогих вещей. Тем не менее мир этих людей не нарушался ни воплями, ни звуками ударов, разносящимися в ночи.
Однажды, поскольку мы делили одну комнату, я попыталась выяснить, что думает об этом Люсинда. Она была тихой, сдержанной девушкой, не любившей обычной девичьей болтовни. Поэтому и я, в свою очередь, вела себя с ней достаточно скромно. И все же однажды ночью, когда из-за стены раздавался шум еще более неприятный, чем когда бы то ни было, я спросила у соседки, не мешает ли он ей. Она коротко засмеялась своим резким смехом, от которого Белль безуспешно пыталась ее отучить.
– Разве в твоей семье отец не бил мать? – спросила она. Услышав это, я отпрянула, словно ударили меня саму, но Люсинда даже не заметила этого. – Мой отец занимался этим каждый вечер. Он бил мать ремнем с пряжкой на конце – с большой медной пряжкой. Крики из-за стены раздражают гораздо меньше, чем тогда, когда они раздаются прямо в твоей комнате. Но ничто не могло сравниться с ревом отца, когда мать подсыпала ему в пиво крысиного яда. Вот то были крики!
И она улыбнулась, словно эти воспоминания доставили ей удовольствие.
– Что же стало с твоей матерью? – спросила я, чувствуя головокружение.
– Ее повесили, – просто ответила Люсинда, – и если когда-нибудь хоть один мужчина посмеет меня ударить, им придется повесить и меня.
Это был первый и последний раз, когда мы говорили с ней о чем-то личном, но впоследствии я поняла, что Люсинда не шутила. Десять лет спустя ее действительно повесили за то, что она отравила своего любовника лорда Краудера. Я хотела выступить на суде со свидетельскими показаниями в ее пользу, но Белль сказала, что это все равно ничего не изменит: цыганская кровь, которая придавала Люсинде такой неповторимый шарм, обернулась своей худшей стороной, и теперь ни один мужчина не сможет чувствовать себя с ней в безопасности. И все же долгое время меня не покидало чувство вины.
Июль 1795 года. Этот месяц запомнился мне двумя, казалось бы, не связанными друг с другом событиями. Во-первых, я заметила, что Белль и Люсинда имели две встречи tete-a-tete,[3] на которые я приглашена не была. Я восприняла это довольно болезненно, поскольку привыкла считать себя фавориткой Белль. Спрашивать об этом ее мне не позволила гордость, поэтому однажды я поинтересовалась у Люсинды, о чем же у них шла речь.
– Белль рассказывала мне, как заниматься любовью с мужчиной, – угрюмо ответила она. И добавила: – В постели.
Я была смущена. Само собой предполагалось, что в течение первого года знания подобного рода мне не понадобятся, но все же, почему Белль обошла меня, тем более в таком важнейшем для нее вопросе? Я должна была выяснить это, поэтому на следующий день, оказавшись в кабинете Белль, заговорила на эту тему:
– Почему ты не рассказала мне ничего из того, о чем вы говорили с Люсиндой – о том, как заниматься любовью?
Посмотрев на меня с некоторым подозрением, Белль ответила:
– Я и не собираюсь делать этого.
– Но почему? Ведь ты же рассказала Люсинде!
– Люсинде я должна была рассказать об этом потому, что она ненавидит мужчин. А ты – нет.
Я даже подпрыгнула от удивления.
– А какая тут разница?
– Долго объяснять, – устало отмахнулась Белль, – но… в общем, мужчины довольно скоро понимают, что ты – женщина, предназначенная для любви, а не для ненависти, ведь и то, и другое существует в отношениях между мужчиной и женщиной. И когда они почувствуют, что ты создана для любви, они сами захотят научить тебя, поскольку ты будешь принадлежать им. Если же я заранее обучу тебя премудростям нашего ремесла, мужчины почувствуют себя одураченными и выместят это на тебе. Поверь мне, дорогая, я знаю, что говорю, и ты должна доверять мне.
– И ты не собираешься научить меня ничему из этого? – в изумлении спросила я.
– Ничему, – твердо ответила она. – Абсолютно ничему.
В то время я очень обиделась на Белль, теперь же я понимаю, что она имела в виду.
Второй случай произошел под конец месяца. За неделю до этого Белль сообщила, что собирается «выпустить нас в свет» – мы должны были появиться на трех предстоящих балах. Нам, как воспитанницам Белль, предстояла возможность впервые увидеть и, в свою очередь, показать себя всему лондонскому полусвету и половине подлинного света столицы. И вот однажды Белль взяла меня за руку и отвела в свою комнату. Там, разостланные на диване, лежали три самых восхитительных платья, какие мне только доводилось видеть. Первое было из белоснежного шелка с муслиновой накидкой, такое легкое и воздушное, что казалось одеянием ангела. Второе – тоже шелковое, но небесно-голубое, под цвет моих глаз. Третье платье переливалось серебром, а накидка у него была светло-серой.
– Твои бальные платья, – просто сказала Белль.
От восторга я совсем потеряла голову и едва не довела до безумия несчастную портниху, пританцовывая и выделывая различные пируэты, пока она подгоняла на мне все эти наряды. Однако радость моя мгновенно испарилась, стоило мне увидеть платья Люсинды. Для первого бала, где я, по словам Белль, должна была появиться в белом, Люсинде приготовили изысканный наряд: кроваво-красное с белым платье, откровенно подчеркивавшее все изгибы ее стройного тела и придававшее ей сходство с прекрасной ленивой тигрицей. На втором балу мне предстояло выйти в голубом, а Люсинде – в ярко-желтом. Этот цвет удачно оттенял ее смуглую кожу, а рыжие волосы девушки горели на желтом фоне подобно снопу огня. Для третьего бала у меня было приготовлено серебряное платье, а у Люсинды – золотое, в котором она походила на некое божество, вылитое из драгоценного металла.
Как ни прекрасны были мои платья, я понимала, что рядом с Люсиндой буду выглядеть серенькой школьницей. «Возможно, – мелькнула у меня мысль, – Белль уже догадалась, что я не собираюсь в дальнейшем следовать по пути, уготованному ею для меня, и это просто способ изысканной мести? Ведь не может же она не понимать, что Люсинда в своих роскошных нарядах прикует всеобщее внимание, а меня на ее фоне ждет полнейшее фиаско».
Белль, видимо, догадалась, что со мной происходит, и за день до первого бала тихонько отвела меня в сторону.
– Тебе кажется, что я поступила несправедливо в отношении ваших нарядов, не так ли?
Я не ответила, и она попыталась зайти с другого конца.
– Предположим, ты видишь Люсинду впервые в жизни. Как бы ты описала ее?
Покопавшись в уме, я извлекла на свет несколько недавно выученных слов:
– Я бы сказала, что она выглядит экзотичной, загадочной – как существо из какого-то другого мира.
Белль удовлетворенно кивнула.
– Ты видишь ее теми же глазами, какими на нее будет смотреть свет. А теперь взгляни в зеркало и скажи, что ты видишь в нем.
Обернувшись к зеркалу, я увидела лицо, пусть и знакомое, но все же совершенно отличавшееся от того, каким оно было год назад. Став округлым и белоснежным, в обрамлении черных как смоль локонов, оно производило ошеломляющее впечатление. Рот у меня был небольшой и красиво очерченный, Белль научила меня умело накладывать на губы кармин – так, чтобы они эффектно выделялись между ямочками по обеим сторонам рта. Глаза – самое красивое, что было в моей внешности, – глубокого синего цвета, широко расставленные, сияли под густыми темными бровями и длинными шелковистыми ресницами. В общем, это было лицо милой, молодой, но вполне обычной девушки, о чем я и сказала Белль.
Она нетерпеливо передернула плечами.
– Хорошо, в таком случае я сама расскажу, какой тебя видят окружающие. А видят они девственную юность, губы которой сулят страсть, а в глазах светится возвышенное. К тому же твои плечи и грудь очень соблазнительны, обрати внимание – ведь платья намеренно сшиты так, чтобы подчеркнуть их привлекательность. Так что можешь быть уверена: половина мужчин на балу просто глаз от тебя не оторвет. А после первого котильона, я полагаю, по крайней мере полдюжины каталеров уже будут дышать мне в шею, пытаясь побольше выведать о тебе.
– А как же Люсинда? – не удержалась я.
– Тут им не повезет, – ответила Белль, к моему полному изумлению. – Будущее Люсинды уже определено.
– Зачем же тогда ей вообще появляться на балах? – спросила я в полном недоумении.
– Чтобы на ее фоне ярче засияла ты, глупая ты гусыня! – удовлетворенно воскликнула Белль, заканчивая разговор.
3
Первый бал – всегда одна из главных вех в жизни девушки, будь она богатой или бедной. Именно в этот день, избавившись наконец от надоевших уроков и учителей, она расправляет крылья и готовится вступить во взрослую жизнь.
Для девчонки с Рыбной улицы в Чипсайде это грандиозное событие должно стать особенно незабываемым. Однако, признаюсь, ко дню моего первого бала я настолько изнервничалась, что в памяти яркими вспышками запечатлелись только отдельные «живые картинки» да какие-то разрозненные сценки. Все остальное слилось в сплошной водоворот мундиров, платьев, музыки и голосов.
Начало бала было назначено на девять, однако Белль заявила, что мы должны появиться гораздо позже. Я страшно боялась что-нибудь пропустить, но Белль успокоила меня, сказав, что люди, которые «хоть что-то значат», придут не раньше десяти, поэтому очень важно, чтобы и мы появились точно в назначенный срок.
После обеда она заставила нас отдохнуть, а в шесть часов мы легко поужинали, прямо в домашних халатах. Я была сама не своя от возбуждения, так мне не терпелось одеть новое платье. Люсинда, напротив, сохраняла полное спокойствие. Казалось, что происходящее вообще не волнует ее. Я даже подумала, не знает ли она того, о чем мне рассказала Белль. Наконец мы были готовы.
Сама Белль выглядела в тот вечер, как Юнона. Она была одета в изумительное платье из золотого шелка, подчеркивавшее изгибы ее точеной фигуры, великолепные волосы убраны в высокую прическу, украшенную чудесным гребнем, тремя страусовыми перьями и окутанную подобием тюрбана из белого газа. Волосы Люсинды, одетой в открытое красно-белое платье, тоже были убраны наверх, и прическа ее также венчалась белым страусовым пером. Мои же были распущены и перехвачены сзади широкой белой лентой. Белль искусно вплела в них шесть ярко-красных роз, а одну, малиновую, приколола к белому муслиновому корсажу моего платья – прямо посередине груди. Посмотрев на свое отражение в зеркале – между двумя ослепительными созданиями, – я решила, что выгляжу лет на двенадцать. Тем не менее я начала понимать, какого эффекта стремилась добиться Белль. Она и Люсинда, хотя и были совершенно не похожи друг на друга, выглядели в чем-то одинаково, словно рука одного и того же художника придала им обеим оттенок некоторой жесткости. В то же время я… Я просто выглядела по-другому.
Пока мы ехали в карете, я засыпала Белль вопросами: «Что мне делать, если ко мне обратится какой-нибудь мужчина, а я не пойму его? А если какой-то танец будет мне незнаком? А что мне делать, если со мной никто не захочет танцевать?» – и так далее, и тому подобное. Белль была очень терпелива.
– Постарайся просто быть вежливой и естественной, какой ты обычно бываешь дома. Если ты не знаешь ответа на какой-либо вопрос, улыбнись и попроси чего-нибудь: стакан пунша, льда – чего угодно. Что касается танцев, то ты знаешь их все и чудесно танцуешь, так что на этот счет не беспокойся. Я не буду спускать с тебя глаз, и если тебя что-то или кто-то потревожит, попроси, чтобы тебя проводили ко мне. Не забывай, что тебя будут окружать джентльмены, а не кучка завывающих дикарей.
Все это время Люсинда молчала и, кажется, дремала.
Карета остановилась перед каким-то домом, и я увидела широкую пологую лестницу, по которой нам нужно было спуститься, чтобы оказаться в бальном зале. Правой рукой Белль взяла Люсинду, более чем когда-либо похожую на полусонную грациозную тигрицу, левой – меня и, велев нам держаться на шаг позади нее, поплыла вниз по ступеням.
Я не помню, как спустилась по лестнице. Ноги мои были ватными, и мне все время казалось, что я вот-вот упаду и мячиком скачусь вниз или опрокинусь навзничь в обмороке – самом настоящем, а не таком, какие учил нас изображать мистер Артур. Часы показывали половину одиннадцатого, во всех комнатах уже толпились гости. Воздух был наполнен несмолкающим гулом голосов и музыки. По мере того, как, ведомые Белль в облике Юноны, мы спускались все ниже и ниже, музыка звучала все громче. Затем я поняла: этот эффект возник благодаря тому, что с нашим появлением все голоса смолкли. С тех пор, бывая на ярмарках скота или в зверинцах, я всегда испытывала чувство острой жалости к несчастным созданиям. Потому что уж я-то знаю, что испытывают бедные твари, когда на них таращатся десятки незнакомых глаз. По мере того, как в зале воцарялось молчание и лица гостей виделись все более отчетливо, я начала по-идиотски бормотать себе под нос: «Глазеть – неприлично! Глазеть – неприлично!» Мне едва удалось сдержать внезапно возникшее желание истерически захихикать. Я бросила взгляд на Люсинду. Она была невозмутима, как каменное изваяние, казалось, что она обдумывает нечто крайне важное и мысли ее – за тысячу миль отсюда.
Наконец мы кое-как спустились по лестнице. Поначалу, ничего не видя, я стояла за спиной Белль и слышала, как начал снова нарастать шум голосов, а затем посмотрела на толпу и увидела, что уже могу различить отдельные лица. Зал казался мне морем военных мундиров: красных, темно-синих, зеленых и серых, рядом с которыми бледнели даже дамские наряды. Перед Белль, склонившись над ее рукой, стоял высокий мужчина.
– Мадам, мы привыкли к тому, что вы творите чудеса, но сегодня вы настоящая Юнона, царица Олимпа, спустившая на землю саму прекрасную Прозерпину!
«Прозерпина – богиня весны», – вспомнила я. Теперь мне было известно даже это! Мужчина уже подошел ко мне и возвышался надо мной подобно колоссу. Автоматически я протянула ему руку.
– Полковник гренадеров Его Величества Крэнмер Картер, ваш покорный слуга. – С этими словами великан низко поклонился и поцеловал мне руку. – Не осчастливит ли богиня, осветившая мир своим появлением, простого смертного, оказав ему честь и подарив первый танец?
Все еще онемевшая, я уже была готова протянуть ему программку с перечнем танцев, которые нам дали при входе. В нее нужно было записывать, какому кавалеру отдан тот или иной танец – новое веяние тогдашней моды. Но вдруг я услышала звонкий смех Белль:
– Не торопитесь, Крэн, ведите себя прилично. Все должно быть как положено. Мисс Элизабет Колливер. Полковник Крэнмер Картер.
Офицер улыбнулся в ответ.
– Возможно, для вас, мадам, она и Элизабет, но для меня всегда будет богиней весны.
– Как бы то ни было, – с живостью ответила Белль, – вы не единственный, кто хотел бы танцевать с ней, так что позвольте девушке заполнить программку как положено.
Офицер отступил на шаг.
– В таком случае я подожду, – сказал он, не спуская с меня глаз.
Лица и руки продолжали появляться передо мной как бы ниоткуда, и представление шло своим чередом: «майор такой-то», «капитан такой-то», «ваш покорный слуга, мэм», «я восхищен, мэм», «как насчет первой мазурки?», «как насчет третьего полонеза?».
Я стояла, пытаясь выполнять все, чему меня учили, но единственный, кого я видела, был Крэн Картер: он не отходил и все смотрел на меня, смотрел, смотрел…
В тот вечер Крэн показался мне огромным. Твердо упираясь в пол своими мощными ногами в ботинках на каблуках, какие носили военные, он возвышался более чем на шесть футов[4] и имел соответствующее телосложение. А я, хоть и вполне нормального для женщины роста, собираясь танцевать на балу, надела туфли без каблуков, и потому полковник вознесся надо мной словно башня. Посмотрев вверх, я увидела его массивную голову с плотными седыми буклями. В сочетании с длинными баками это выглядело так, будто на нем надет серебряный римский шлем. Широкий разрез рта, узкие и чувственные губы и нависающий над ними изрядных размеров нос – полковник выглядел бы весьма мужественно, если бы не его глаза – слишком маленькие по сравнению с остальными чертами лица и чересчур близко посаженные. Взгляд его независимо от настроения всегда был жестким. И все же среди многих мужчин именно он привлек бы к себе женские взгляды.
Наконец толпа вокруг нас рассеялась. Начинались танцы. Последнее наставление, которое прозвучало в адрес кавалеров из уст Белль, было таким:
– После каждого тура прошу возвращать ее ко мне. Запомните это хорошенько, джентльмены.
Прямо перед Белль выпрыгнул пухленький человечек с длинными бакенбардами.
– Барри! – радостно воскликнула она и позволила взять себя под руку. Люсинда уже растворилась в толпе, а мы с Крэном остались стоять и глядеть друг на друга, причем я напоминала самой себе кролика под взглядом удава. Глаза Крэна блеснули.
– Вашу руку, мэм. Не пора ли нам потанцевать?
И мы пошли. Полковник был хорошим танцором, причем скорее не от природы, а благодаря опыту, и я была признательна ему за то, что он сглаживал мои промахи, вызванные волнением. Оказавшись в его умелых руках, я скоро успокоилась и, к собственному удивлению, заметила, что уже получаю удовольствие от танца. Когда закончился один, какой-то неизвестный мне капитан с большими висячими усами немедленно пригласил меня на следующий. Танцевал он ужасно, но все время радостно болтал, рассказывая мне городские сплетни и перемывая косточки собравшимся. От меня ему ничего не было нужно, за исключением внимания да милых улыбок, которыми я время от времени одаривала его. Так продолжалось и дальше: танец за танцем, и каждый раз – новый партнер. Некоторые из них просили меня рассказать о себе, и на эти вопросы я отвечала так, как меня научила Белль, предупредив: «Ни за что не рассказывай слишком многого – некоторая таинственность никогда не повредит женщине». Но большинству моих партнеров гораздо больше нравилось говорить о самих себе или об окружающих, что меня вполне устраивало. Я подумала, что развлекать мужчин на самом деле гораздо проще, чем мне казалось раньше. И все же единственными, кому удалось произвести на меня впечатление, оказались Крэн Картер и высокий стройный молодой лейтенант с цветом лица, как у девушки. Уж его-то никак нельзя было упрекнуть в болтливости. Наоборот, во время нашего танца он только и делал, что повторял одно и то же:
– Будь я проклят, если не танцую с самой симпатичной девушкой в этом зале, будь я проклят!
Но танцевал он хорошо и по возрасту был мне ближе всех, кого я здесь встретила в этот вечер. Ему было не более двадцати, и с ним я чувствовала себя гораздо проще, чем с остальными.
За весь вечер Люсинда попалась мне на глаза всего один раз. Она стояла в уголке, а вокруг нее собралась небольшая группа мужчин. Судя по всему, она что-то говорила: я заметила, как шевелятся ее губы. Впрочем, создавалось впечатление, будто Люсинда разговаривает с каким-то пятном на самой дальней стене – поверх голов всех собравшихся вокруг нее. Что касается мужчин, то они смотрели на нее, как сироты на рождественскую елку.
Во время перерыва на ужин Белль повела меня за собой, а возле ее локтя возвышался Крэн Картер. Он усадил нас за стол и сел рядом. После танцев я испытывала страшный голод и начала было пробовать все, до чего только могла дотянуться, но затем остановилась и виновато посмотрела на Белль. «Настоящая леди, – всегда повторяла она, – находясь в обществе, может разве что чуть-чуть поклевать. Это напоминает мужчинам, с какими хрупкими, деликатными созданиями они имеют дело».
Я ожидала увидеть на ее лице осуждающий взгляд, но она, наоборот, широко улыбалась, а вместе с ней и Крэн Картер. Вспыхнув, я торопливо отодвинула от себя тарелку, хотя, будь моя воля, с удовольствием проглотила бы все, что на ней находилось, и тихим голосом попросила бокал вина. Одним мановением руки, словно волшебник, Крэн выудил откуда-то бутылку с вином и налил мне бокал, выражая сожаление, что не имеет возможности напоить меня нектаром. Затем, подняв свой, протянул его к Белль.
– За самую умную женщину в Лондоне! – провозгласил он. В ответ она засмеялась от удовольствия и поклонилась, выражая свою признательность. – И, – он протянул свой бокал в мою сторону, – за самую красивую!
И после того, как он выпил, я поняла, что мне никогда не суждено жить в небольшом домике в Айлингтоне.
Публика потекла обратно в зал для танцев. Протянув руку, Крэн взял мою программку.
– Последняя мазурка, – тихо произнес он и, найдя этот танец, хладнокровно вычеркнул вписанное напротив него имя, написав вместо него свое. От удивления я разинула рот, а Белль стала протестовать:
– Не надо создавать неприятности, Крэн, вы не можете так поступить! Тем более что на следующей неделе состоится еще один бал.
– Никаких неприятностей не будет, – улыбнулся он в ответ, – хотя дуэль между мужчинами после первого же выхода в свет вовсе не повредила бы крошке. Однако тот несчастный, которого я вычеркнул, служит капитаном в моем полку. Я просто расставил нас согласно субординации.
И ушел.
Еще несколько раз я танцевала с высоким молодым лейтенантом и однажды, когда мы проплывали мимо Белль, с удивлением увидела, как враждебно смотрит она на моего кавалера. Губы ее были плотно сжаты, на лице читалось недовольство. Наконец объявили последнюю мазурку, и передо мною возник Крэн. В те времена, танцуя мазурку, в определенный момент кавалер должен был обвить рукой талию дамы и вести ее в танце. Когда этот момент настал, Крэн обхватил меня с такой силой, что на секунду я испугалась, как бы он не сломал меня пополам. Губы его были сжаты, щека дергалась от нервного тика, а глаза впились мне в лицо подобно двум стальным клинкам. По телу разлилась волна слабости, и, если бы он не держал меня так крепко, я наверняка бы упала. Наконец он ослабил хватку, и мы закончили танец как ни в чем не бывало. Держа под руку Люсинду, к нам подошла Белль, а полковник, нагнувшись, чтобы поцеловать мне руку, произнес, обращаясь ко всем нам:
– Буду с нетерпением ждать встречи с вами на следующем балу.
С этими словами он ушел, привлеченный голосами своих коллег-офицеров. Под нескончаемый хор «ваш покорный слуга, мэм» и «до следующего бала, мэм», мы прошествовали к выходу и, совершенно измученные, рухнули в карету. После этого каждый погрузился в собственные мысли, и всю обратную дорогу мы ехали молча.
Едва мы вошли в дом, Белль по очереди поцеловала нас.
– Вы обе умницы, я очень горжусь вами, – похвалила она.
Уже плетясь к кровати, я сонно подумала, что за весь вечер не сказала ни одной умной фразы, не сделала ничего примечательного. Непонятно, чему так радуется Белль! Раздеваясь, я увидела, что все мои красные розы увяли. Бал кончился…
4
В следующие несколько дней я редко видела Белль, ибо она, похоже, постоянно находилась в водовороте разных дел. Наконец она позвала меня в свой кабинет. Несколько минут мы просто болтали, причем разговор наш в основном крутился вокруг бала, но, неожиданно переменив тему, она спросила:
– Что ты думаешь о Крэне Картере?
Что я думаю о Крэне Картере? Я и понятия не имела! Вопрос немного напугал меня, но в то же время я была заинтригована.
– Я бы сказала, что он выглядит очень мужественно, особенно для человека в его возрасте.
– Он чрезвычайно заинтересовался тобой, ты заметила? – В голосе Белль прозвучали жесткие нотки.
– Да, – неуверенно ответила я. – Мне тоже так показалось. Но то же самое я могу сказать и в отношении Эгертона. – Эгертон был тем самым высоким, стройным и неразговорчивым лейтенантом. Белль только фыркнула, поэтому я продолжала, защищаясь: – Возможно, Эгертон не так умен или мужествен, как полковник Картер, но, видишь ли, он не намного старше меня, поэтому с ним я чувствую себя проще.
Я вопросительно посмотрела на Белль, ожидая ответа. Некоторое время она молчала, в раздумье сплетая и расплетая пальцы, а затем заговорила:
– Видишь ли, Элизабет, на самом деле я не хотела слишком подробно обсуждать с тобой такие вещи – по крайней мере до следующего бала, поскольку пока трудно делать какие-то прогнозы. Тем более с таким человеком, как Крэн Картер: он мог вообще не заметить тебя. Но раз уж он обратил на тебя особое внимание, то, полагаю, сделает предложение.
– Предложение? – ошарашенно повторила я за ней словно эхо. – Ты имеешь в виду предложение выйти за него замуж?
– Боже мой, ну что ты за ребенок! – нетерпеливо вскричала она. – Конечно же, нет! Крэн женат уже тридцать лет, он по-своему очень любит жену и растит четырех дочерей. Видимо, все же придется объяснить тебе все поподробнее.
Через несколько дней я отвезу тебя к Джереми Винтеру – это законник, который обеспечивает юридическую сторону нашего бизнеса, и он объяснит тебе все связанные с этим тонкости. Пока же могу только сказать, что, выражаясь деловым языком, в предложении того или иного джентльмена проявляется интерес определенного рода. Тут необходимо предусмотреть несколько важных финансовых аспектов. Во-первых, аванс наличными – это является залогом его добросовестности и того, что по той или иной причине в конце месяца ты не останешься без гроша. Кроме того, обычно заключается соглашение, предусматривающее ежемесячные выплаты определенного характера: тут оговаривается, возьмет ли он на себя содержание твоих слуг, какие твои счета он готов оплачивать и так далее. Главное различие между мужчинами даже не в том, сколько у них денег, а в том, сколько каждый из них готов за тебя выложить.
В обмен на все это они получают твою персональную благосклонность. Во всех отношениях ты становишься чем-то вроде их жены – на тот срок, пока действует соглашение. Если выясняется, что ты не заслуживаешь доверия или не удовлетворяешь их в ином смысле, соглашение утрачивает силу, но во всех случаях это прекрасно отлаженная и юридически выверенная система взаимных обязательств.
Ты удивлена, почему я фыркнула при упоминании об Эгертоне? Что ж, могу объяснить. Да, он богат, у него обширные связи, и он также вполне может сделать тебе предложение. Но он не годится именно потому, что молод. Молодому повесе ни к чему вторая жена – он хочет резвиться на воле. Ты можешь заинтересовать его в лучшем случае на несколько месяцев. С Крэном совсем другое дело. Если он сделает предложение, для тебя это будет означать как минимум целый год обеспеченной жизни, а возможно, и больше. Принимая во внимание щедрость Крэна, а он щедр до безрассудства, я уверена, что его не остановит даже требование чрезмерного аванса наличными, если, конечно, он решится на это всерьез. Кроме того, Крэн – светский человек, который знает всех, и все знают его. – Белль задумчиво улыбнулась собственным мыслям. – Он побывал везде, и никому не удастся обвести его вокруг пальца. Здесь у меня ты только начала свое обучение, но если ты будешь держать уши и глаза открытыми, то, находясь рядом с Крэном, узнаешь в два раза больше того, что следует знать любой женщине. А окажись ты с Эгертоном, вы двое так и останетесь беспомощными сосунками. От него тебе вряд ли удастся узнать что-либо ценное.
Видишь ли, дорогая, – продолжала она, – мы ведь предоставляем мужчинам не просто возможность периодически получать наслаждение в постели. До тех пор, пока общество остается таким, каково оно сейчас, всегда сохранится и место для нас, и необходимость в нас. Действительно, к нам приходит много мужчин и все они разные, но все они хотят чего-то большего, чем просто постель. Многие из них женились только ради карьеры и денег, поэтому у себя дома они не в состоянии найти любви. Многие уже состарились, и теперь все, что у них осталось, – это морщины и пожилые жены. Они смотрят на нас в надежде, что мы вернем им хоть что-то из утраченного. Многим нужна просто милая и приятная подружка, с которой можно провести досуг после того, как окончены дела. И мы, в свою очередь, если только у нас есть голова на плечах, не должны гоняться за случайными распутниками или юнцами, которым только и нужно, что задирать нам юбки, причем чем чаще, тем лучше. Учитывая все это, вряд ли тебе стоит надеяться, что хоть один из твоих любовников будет слишком молод.
Все, что говорила Белль, оказалось чистой правдой. Я убедилась в этом гораздо позже, когда уже имела возможность подумать о собственном удовольствии, но тогда вдруг поняла, что у меня начисто пропал вкус к неоперившейся юности. Однако в тот момент, слушая пространную речь Белль, я чувствовала, что во мне нарастает какое-то холодное, враждебное чувство. От ее слов веяло жестокостью, они напоминали об аукционах рабов в Древнем Риме, о которых мне приходилось читать. В наше время никто, конечно, не разденет вас и не выставит обнаженной на мостовой, чтобы продать подороже первому попавшемуся покупателю. Теперь все делалось гораздо цивилизованнее: нас наряжали, пудрили и вели на балы, чтобы точно так же продать в рабство.
– Значит, – взорвалась я, – меня продадут тому, кто даст самую высокую цену?
– Как жутко у тебя это звучит! – вздохнула Белль. – Нет, вовсе необязательно. Разумеется, нет смысла засовывать тебя в постель к человеку, который внушает тебе отвращение. Хотя бы потому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но, с другой стороны, если мужчина высоко тебя ценит и имеет соперников, также положивших на тебя глаз, вполне естественно ожидать, что он сделает наиболее выгодное предложение. Кроме того, вряд ли он будет так стараться заполучить тебя, если ты, в свою очередь, не проявишь к нему определенной симпатии. Я надеюсь, ты видишь логику в моих рассуждениях?
Однако я ее уже не слушала. Я понимала только, что должна вырваться отсюда и вернуться домой. Здесь оставаться я больше не могла. Постаравшись, чтобы мой голос звучал как можно жестче, я произнесла:
– Белль, в прошлом году я обещала всего лишь побыть у тебя некоторое время и выучиться всему, чему ты захочешь меня научить. Что ж, этот год прошел, и теперь я намерена ехать домой.
Как ни странно, мое заявление, казалось, вовсе не удивило Белль.
– Конечно, – сказала она, – ты поедешь домой, и я не понимаю, почему ты до сих пор этого не делала.
Это был сильный удар. Действительно, на протяжении последнего года я ни разу не выразила намерения навестить свою семью.
– Я уверена, что твои родные будут счастливы повидаться с тобой, хотя я и рассказывала им о твоих успехах, когда навещала своих. – С этими словами Белль испытующе посмотрела на меня.
– Я имею в виду, – твердо возразила я, – что собираюсь вернуться домой насовсем.
Белль окинула меня ласковым взглядом.
– Я велю запрячь карету. Поезжай домой и обсуди все со своими родными. Если ты не изменишь своего решения, пришли мне весточку, и я велю собрать твои вещи. Я понимаю, каково тебе сейчас.
Белль была спокойной, как всегда, и, как всегда, ей удалось одержать надо мной верх.
Август в том году выдался жарким, поэтому на следующий день в ожидании кареты я надела белое шелковое платье, вышитое незабудками и примулами, а на плечи набросила белую кашемировую шаль. Туалет дополняла итальянская соломенная шляпа с желтыми лентами. Когда я спустилась в зал, из двери напротив появилась Белль.
– Вручи им это, дорогая, – сказала она, вкладывая в мою руку кошелек. – Ты же знаешь, чего они всегда ожидают от нас.
И, засмеявшись, закрыла дверь.
Дорога до Рыбной улицы показалась мне долгой. Карета въехала в Сити, и сразу же дома теснее обступили нас, улочки сузились и превратились в мрачные туннели между закопченными стенами. Карета остановилась, я вышла. Меня немедленно окружила толпа изможденных ребятишек в лохмотьях. Они стояли и молча смотрели на меня, словно чего-то ожидая. В нос ударило отвратительное зловоние. Нет, я не забыла его – наоборот, слишком хорошо помнила. С трудом проложив себе дорогу сквозь толпу маленьких голодранцев, я открыла дверь и очутилась дома.
Прошло, наверное, несколько минут, пока глаза мои привыкли к скудному свету, сочившемуся сквозь крохотные оконца. Когда наконец ко мне вернулась способность видеть, я разглядела трех человек, смотревших на меня с открытыми ртами. На одном конце лавки, что стояла вдоль кухонного стола, сидел мой брат, рядом с ним – светловолосая девушка с невыразительным лицом. Напротив них, на отцовском стуле, сидела моя старшая сестра Нелли и чистила картошку. Младшая сестричка ползала по полу, подбирая упавшие картофельные очистки и вешая их себе на уши. Она была чудовищно грязной.
Первым нарушил молчание брат.
– Боже мой, Лиз! Это же наша Лиз! – и, обернувшись, он толкнул невзрачную девицу. – Полли, это наша Лиз, моя сестренка, о которой я тебе столько рассказывал. Господи, Лиз, а я-то уж думал, что ты про всех нас забыла. Но уж нам-то есть что тебе порассказать, верно, Полли?
– Она, видно, была слишком занята, – огрызнулась моя старшая сестра. Она уже рассмотрела меня с головы до ног и теперь вновь стала со злостью обдирать картофелины. – Ну что, научилась ты шить платья? Уж не сама ли ты сшила то, что на тебе?
Перегнувшись через стол, Джек неловко положил руки мне на плечи и поцеловал меня. Пахло от него застаревшим потом и луком, руки были грязными, ногти нестриженными и с черной каймою.
– Познакомься, это Полли, моя невеста, – гордо произнес он.
– Рада познакомиться, – сказала Полли, протянув мне грязную потную ладонь, а затем вновь погрузилась в молчание, тщательно изучая каждую деталь моего туалета.
С большой осторожностью я уселась на колченогую табуретку, оказавшуюся поблизости. Малышка тем временем подползла к Нелли и стала дергать ее за юбку.
– Тетя, тетя? – лепетала она, вопросительно показывая на меня.
– Сестра это твоя, а не тетя, – грубо отрезала Нелли, отталкивая детскую ручонку. – Теперь она настоящая леди, поди к ней да хорошенько поцелуй, может, она и даст тебе шесть пенсов.
Девочка застенчиво приблизилась и протянула чумазую ручонку к моему подолу. Благословляя Господа за то, что в моем ридикюле оказалось несколько монет, я привлекла сестричку к себе. Она неловко поцеловала меня, и я вложила в ее худенькую ладошку шиллинг. Неверящими глазами девочка посмотрела сначала на монетку, потом на меня, а затем на старшую сестру и наконец, прижав к груди свое сокровище, забралась в самый темный угол комнаты, скорчилась и стала что-то мурлыкать себе под нос. Я почувствовала дурноту.
Мой брат не умолкал, и мне с трудом верилось, что еще совсем недавно я сама говорила так же гнусаво и противно. Неужели это могло быть?! Неужели я сама была такой же?! Я не понимала и половины того, что он болтал.
– …Так что, видишь, Лиз, я уже и бумажками нужными обзавелся, так что, ку-ку! Могу теперь и работенку получить у старого Тэрнера – ну, этот, который пивоварню держит в Уайтчепле. Двадцать пять бобов в неделю да пара комнат над конюшней в придачу. А скоро, когда хоть какие-то палки-доски – ну, мебелишку, в смысле – достанем, так мы с Полли и окрутимся. Как ты насчет того, чтоб теткой стать, а, Лиз? – Он ткнул Полли под ребра, и она захихикала.
Попытавшись по мере сил собрать разбегающиеся мысли, я ответила:
– Как раз поэтому я сюда и приехала, Джек. Помнишь, о чем мы говорили в прошлом году? Мы договорились, что, когда ты закончишь свое обучение, я вернусь домой и мы куда-нибудь уедем, чтобы вместе жить и работать.
Старшая сестра пронзительно засмеялась.
– Семья из двоих – об этом я слыхала, но чтобы трос? Вы что, утки? Ну ты даешь!
Джек слушал меня с полуоткрытым ртом.
– Ну, верно говоришь… Я-то чего? Я-то помню, конечно. Но я ж тогда еще Полли не повстречал… Но мы когда устроимся своим домом – ясное дело, думаю, найдем и для тебя подстилку. Верно, Полли?
Полли промолчала. Было видно, что ее такая перспектива не прельщает.
А Джек с пылом продолжал:
– А ты чего делать-то можешь? Шить, готовить, а? Может, там по соседству кто-то будет, кому служанка нужна? Во, кстати, у старика Тэрнера жена в прошлом году откинула копыта, так, может, ты за ним присматривать станешь? А то еще лучше будет, если ты ему приглянешься, да вы и того… Ну, секешь? Чтобы его окрутить… Во чего я тебе скажу. Я его в понедельник увижу, да и потолкую про все про это.
Милый Джек, он выглядел таким возбужденным! На бледном лице его темные глаза казались кусочками угля. У моего брата было доброе сердце, и по-своему он был ко мне искренне привязан. До сих пор меня утешает мысль, что брат никогда не страдал по моей вине, наоборот, я по мере сил старалась помочь ему. Надеюсь, его сын сейчас преуспевающий лондонский солиситор.[5] Я оплатила и его обучение, и практику. Возможно, он предпочел забыть своего отца, я же сохранила память о нем на всю жизнь.
Не знаю, что бы я ответила, но в этот момент распахнулась дверь и вошел мой отец. Я подошла к нему и поцеловала. При виде меня он поначалу остолбенел, но затем положил руки мне на плечи и крепко прижал к себе.
– У тебя все в порядке, Лиз? – хриплым голосом спросил он.
– Ну, конечно! А разве может быть иначе? – Наконец-то мне пригодились уроки театрального мастерства, которые давал нам мистер Артур. – У меня все прекрасно, папа. Просто захотелось навестить вас. Кстати, я привезла немного денег от Белль. Теперь время от времени я, наверно, смогу и сама помогать вам.
Пройдя мимо меня, отец тяжело уселся на свой стул, который сестра нехотя уступила ему.
– В этот год я многое передумал о той сделке, которую мы заключили, и о том, каково было тебе, Лиз. Белль рассказывала нам о тебе много разных замечательных вещей. Да, замечательных вещей… – Отец, похоже, забыл, что собирался сказать. – Так вот, если дела пойдут не так, как бы тебе хотелось, ты всегда должна помнить, что у тебя есть дом, – всегда, в любое время.
С этими словами он бросил вызывающий взгляд на мою старшую сестру и Джека, хотя тот с полным одобрением кивал головой.
«Дом»… Я обвела глазами нашу каморку: объедки, так и оставшиеся валяться на грязной поверхности стола после скудной трапезы, вонючие, давно превратившиеся в лохмотья занавески на окнах, худые, изможденные лица моих родных. Я представила себе еще две тесные комнаты, грубые грязные простыни на старых постелях – обитель отверженных. О Боже, Боже мой!
– Спасибо, отец, я буду помнить об этом. – Мне уже удалось взять себя в руки. – Но сейчас мои дела идут отлично, и будем надеяться, что ничего не изменится.
Я взглянула на отца и впервые подумала о том, как хорош он, видимо, был в молодости: высокий, с золотыми волосами, красивыми и тонкими чертами лица. Внезапно мне вспомнился Эгертон. Как был бы похож на него мой отец, водись у него деньги! Деньги, деньги… Вечно эти проклятые деньги! Вытащив кошелек, полученный от Белль, я бросила его на стол. Моя старшая сестра с нескрываемой жадностью вцепилась в него и высыпала на стол пять золотых соверенов. Отец, глядя перед собой отсутствующим взглядом, кажется, даже не заметил их.
– Белль прислала пять соверенов, отец, целых пять! – вскрикнула сестра.
– Очень мило с ее стороны, – автоматически ответил он. – Когда я увидел карету возле двери, я решил, что приехала именно она. Я даже не думал, что ты вернешься, Лиз. Я боялся, что ты ничего не поняла и не простила…
– Если ты не шибко торопишься, Лиз, – вмешалась моя сестра, – я сейчас возьму один из этих соверенов, сбегаю в лавку и куплю нам чего-нибудь на ужин.
Деньги, видимо, неудержимо притягивали ее. Но я была настолько тронута последними словами отца, что уже не слушала ее. Приехав сюда, я по глупости отпустила кучера, сказав ему, что остаюсь здесь. Теперь больше всего на свете меня волновал вопрос, как мне удастся выбраться с Рыбной улицы до наступления темноты. Потому что мне стало ясно: ни за какие сокровища мира я не смогу провести еще одну ночь в окружении своих близких. И вдруг, словно по волшебству, отворилась дверь и в проеме показалась голова кучера, осведомившегося, точно ли я собираюсь остаться. Тогда я торопливо произнесла:
– Спасибо тебе, Нелл, но мне нужно возвращаться. Сегодня вечером я зачем-то понадобилась Белль. Жаль, что мне не удалось погостить у вас подольше, но, надеюсь, в будущем я смогу бывать здесь чаще.
Вряд ли я сама верила своим словам, поскольку сердце мое никогда не было таким добрым и щедрым, как у Белль, а в следующие несколько месяцев ему предстояло еще более ожесточиться против них, почти превратившись в кремень. Впрочем, всю мою жизнь от этого больше всего страдала именно я, так что, думаю, все мы наказаны в достаточной мере.
Единственное, чего мне теперь хотелось, – это поскорее убраться отсюда. На прощанье я поцеловала свою маленькую сестричку, которая наконец вылезла из угла, все еще сжимая в руке свой шиллинг.
– Прощай, отец, – сказала я, видя, что он поднялся с места. На сей раз, когда он целовал меня, я почувствовала, что его бьет дрожь.
– Я говорил всерьез, Лиз, – прошептал он. – Верь каждому моему слову.
– Конечно, отец, я запомню все, что ты сказал мне, – ответила я и выскочила из дома.
Кучер распахнул передо мной дверцу кареты, вокруг которой по-прежнему толпились зеваки. Усевшись внутрь, я холодно сказала ему:
– По-моему, я велела тебе не ждать меня.
Кучер ответил мне ничего не выражающим взглядом хорошо вышколенного слуги.
– У меня было несколько поручений миссис Дэвис, которые я должен был выполнить по соседству, вот я и решил оставить карету возле вашего дома.
И с этими словами он захлопнул дверцу.
На обратном пути мне хотелось заплакать, но я с удивлением почувствовала, что не могу. Мои глаза оставались сухими и тогда, когда в вестибюле я увидела поджидавшую меня Белль.
– Ведь ты знала, что я вернусь, не так ли? – спросила я сквозь зубы. В ответ на это она утвердительно кивнула. – И это ты велела кучеру дожидаться, разве нет?
Она кивнула опять и обняла меня за плечи.
– Вспомни, Элизабет, перед твоим отъездом я сказала, что понимаю, каково тебе сейчас. Я понимаю и твое теперешнее состояние, но, поверь, нет смысла мучить себя. Пойдем, я велела накрыть в кабинете небольшой ужин. Мы перекусим, а затем ты отправишься прямиком в постель. Завтра бал, и мне хочется, чтобы на нем ты была свеженькой, как маргаритка.
Я поступила так, как мне было велено, и, раздеваясь, заметила, что подол моего платья облеплен грязью с Рыбной улицы, а на тех местах, до которых дотрагивались руки моего отца, брата и сестрички, остались грязные следы. Честные бедняки – живущие в грязи и убожестве, но все же честные бедняки! Измученная, я рухнула в постель и с грустью призналась себе, что сама уже не принадлежу к их числу.
5
И вот вновь наступил день бала. Нам опять пришлось пройти через ритуал послеобеденного сна, ужина и одевания. Теперь я уже не волновалась так, как в первый раз. Я знала, что в голубом шелковом наряде буду чувствовать себя гораздо увереннее, нежели в своем белом платье маленькой девочки. И вероятно, меня ждет больший успех. На сей раз я решила продемонстрировать хоть какие-то признаки собственного ума и постараться быть более интересной. По крайней мере я уже не переживала по поводу того, что оплошаю во время танцев: на прошлом балу я убедилась, что двигаюсь по паркету с гораздо большей легкостью, чем многие другие дамы. Теперь Белль убрала мне волосы вверх, сделав прическу в греческом стиле, перевязала ее филигранной золотой цепочкой с вплетенными белыми розами. Настал черед Люсинды оставить волосы распущенными. Ее голову украшала золотая шапочка Джульетты, поэтому в своем желтом шелковом платье она была похожа на одну из женщин с полотен Тициана.
Закончив процедуру одевания, я обернулась к зеркалу посмотреть на результат и с недоумением увидела, что выгляжу гораздо моложе, чем когда бы то ни было. Белль была в бледно-лиловом шифоновом платье, которое прекрасно гармонировало с моим нарядом, но, честно говоря, мне показалось, что золотое шло Белль больше, поскольку оно скрывало блеклый цвет ее лица.
На сей раз все было проще. В доме, где в этот вечер устраивался бал, танцевальный зал находился наверху, а не внизу, что значительно облегчало наше появление. Для женщины гораздо проще грациозно пройти вверх по лестнице, нежели спуститься, к тому же в этом случае удается избежать перекрестного огня десятков любопытных глаз.
Тем не менее, когда вслед за Белль я поднималась по ступеням, нервы мои были напряжены. Что если никого из тех, кто ухаживал за мной на прошлом балу, здесь не окажется? Что если полковник Крэн Картер не заметит меня? Что если… И тут на вершине лестницы я увидела Эгертона. Он ждал, он явно ждал кого-то. Я догадывалась кого, потому что при виде нас на губах его заиграла радостная улыбка.
К великому неудовольствию Белль, он бегом спустился к ней, полыхая девичьим румянцем, и галантно провел ее по нескольким ступенькам, которые нам оставались. Затем, обернувшись ко мне, он взял мою программку танцев и начал что-то лихорадочно писать в ней.
– Минуточку, молодой человек, – вмешалась Белль, несколько ошарашенная таким неудержимым напором, – не больше трех танцев. Я не могу допустить, чтобы кто-то предъявлял особые права на Элизабет.
Окинув Белль нахальным взглядом, юноша ответил:
– Что вы, мэм, я не могу воздать должное богине весны менее чем за четыре танца, а с вами мы увидимся за ужином.
С этими словами он вернул мне программку и, поклонившись, исчез прежде, чем Белль успела придумать достойный ответ.
В глубине души я была довольна. Во-первых, потому что он был мне симпатичен: он казался таким дружелюбным и безобидным, во-вторых, подчеркнутые знаки внимания, которые он мне оказывал, не остались незамеченными. Несколько еще незнакомых мне офицеров уже со всех ног спешили к Белль, пожирая меня голодными глазами, – им не терпелось быть представленными. Программка моя быстро стала заполняться. «Кому нужен этот Крэн Картер!» – подумала я про себя, и в этот момент протянувшаяся сзади рука схватила мою программку и глубокий голос произнес:
– Осталось ли тут хоть что-нибудь для того, кто опоздал на этот праздник?
Возле меня возник Крэн Картер. Тяжелым взглядом он смотрел на Белль.
– С вашей стороны, Белль, было бы очень мило подумать о старом друге. Вы же сказали мне, что появитесь тут не раньше половины одиннадцатого, вот я вас и не искал.
Белль беспомощно пожала плечами, показывая, что в этой ситуации она была бессильна. Тогда полковник обратил свой сердитый взгляд на меня.
– Или, возможно, сама Прозерпина не захотела со мной танцевать?
Я была так напугана, что стала судорожно подыскивать слова, способные смягчить разгневанного Крэна.
– Наоборот, полковник, я с нетерпением ожидала этого еще с предыдущего бала. Не увидев вас, я пришла в отчаяние, но, надеясь, что вы все-таки появитесь, оставила свободными два своих самых любимых танца. – Я нервно улыбнулась ему и, взглянув на программку, увидела, что ничьих фамилий не стоит только напротив менуэта, который мне действительно нравился, и полонеза. – Взгляните, – сказала я, дотронувшись до его руки и указывая на пустые места в программке.
Он немедленно накрыл мою ладонь своею и, запрокинув голову назад, разразился смехом.
– Умный ответ усмиряет гнев, не так ли, богиня? Вот так всегда Марс оказывался побежден Венерой. Что же, я буду с нетерпением ждать… – он заглянул в программку, – нашего менуэта и… гм… полонеза.
С этими словами он отошел в сторону, прищелкивая языком.
И вот первый партнер повел меня на танец. Когда я проходила мимо Белль, она одобрительно подмигнула мне. Она понимала, что ее птенчик уже оперился и ему не терпится опробовать свои крылышки.
Этот бал был похож на все остальные, на которых мне довелось побывать с тех пор. Я наслаждалась им так же, как и многими другими, которые, впрочем, ничем мне не запомнились. А вот в тот вечер произошел один весьма неприятный случай, который, возможно, наложил отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь. Так причудливо сплетаются иногда нити судьбы.
Бал уже подходил к концу, и я пошла в дамскую комнату. Традиции того времени требовали, чтобы молодые девушки ни на одну минуту не оставались без сопровождения, поэтому Эгертон, последний, с кем я танцевала, проводил меня до двери и остался стоять возле нее, чтобы затем отвести обратно в бальный зал. Не знаю, что случилось: то ли он неправильно рассчитал время, необходимое женщине для посещения подобного места, то ли сам почувствовал настойчивый зов природы, – как бы то ни было, когда я вышла, его возле дверей не оказалось. Мне бы следовало снова зайти в ту самую комнату и дождаться его возвращения, но я по своей глупости отправилась в зал одна. Передо мной тянулся длинный коридор, который вел в верхние помещения, а уже оттуда – в танцевальный зал. И вот, когда я приближалась к верхним комнатам, двойные двери с шумом распахнулись и из них вывалились трое юнцов. Все они были молодыми лейтенантами линейного полка и все вдребезги пьяны.
– Ой-ой-ой, какую маленькую симпатичную штучку я нашел! – стал сюсюкать один из них. – И что же мы станем делать с этой чудесной штучкой?
Второй нагло уставился мне в лицо, а потом протянул:
– Да это же одна из девок, которых водит на поводке Белль. Не та, что похожа на кошку, а другая. Простите, дорогуша, я спустил все свое жалованье, но, может, вы не против поцеловаться и пообжиматься в кредит?
Я отшатнулась и попыталась было повернуть назад, но третий из молодых людей встал за моей спиной и перекрыл путь к отступлению. Я была страшно напугана, хотя теперь понимаю, что они не смогли бы сделать мне ничего дурного.
– Пустите меня! – взмолилась я.
– Ну-у, птичка, маленькая симпатичная птичка, что же ты такая неприветливая… Подари же поцелуй красавцу солдату. – Нагнувшись, он попытался обнять меня за талию. Мне удалось оттолкнуть его, и я закричала, но в этот момент другой, заломив мне руки за спину, схватил за волосы и стал загибать мою голову назад, пытаясь добраться до губ. И вдруг все разом закончилось. На нас словно обрушился какой-то бешеный шквал. В лучших традициях гвардейцев на помощь мне пришел полковник Крэн Картер.
Все случилось так внезапно, что я даже толком не поняла, что же именно произошло. Только что я находилась в опасности: в лучшем случае мне угрожало оскорбление, в худшем – насилие, но вот прошла секунда, и трое юнцов уже, скорчившись, летели в разные стороны. Один из них врезался головой в дверь и, рухнув, так и остался лежать. В двух других проснулся боевой дух, и они попытались атаковать Крэна, в то время как я в полуобморочном состоянии бессильно прислонилась к стене. Отступив на шаг назад, чтобы размахнуться, Крэн сжал кулак и влепил одному из нападавших боковой удар в челюсть, да так сильно, что голова у того откинулась, и я подумала, что у него сломана шея. Затем полковник левой рукой схватил того офицера, который распускал руки, за украшенный тесьмой мундир, буквально поднял в воздух и правым кулаком нанес ему страшный удар в живот. Рухнув на пол, тот стал корчиться и задыхаться, словно в агонии. Тогда-то я и поняла, что Крэн Картер – не тот человек, с которым можно шутить.
Повернувшись, он приобнял меня за плечи и сказал:
– Пойдемте, Элизабет, вам не следует здесь оставаться.
С этими словами он бережно повел меня, прокладывая путь сквозь толпу любопытных, собравшихся возле дверей в столовую, чтобы поглазеть на происходящее. Мы отыскали Белль, и тут же торопливо подошел смущенный Эгертон.
– Вы сопровождали эту даму, – ледяным тоном обратился к нему Крэн, – или я ошибаюсь?
«Значит, он наблюдал за нами», – отметила я про себя.
– Ну да, я… Я отошел буквально на секунду, думая, что она… э-э-э… занята, – бормотал Эгертон с багровым лицом.
– Полагаю, вам следует вернуться к юбке вашей мамочки и, прежде чем вновь появиться в свете, хорошенько запомнить, что джентльмен, сопровождающий даму на балу, несет определенные обязательства, – резко выговаривал Крэн.
Эгертон покраснел еще больше и, судя по всему, хотел ответить дерзостью, но Белль успокаивающе положила руку на его плечо и указала на меня, поскольку я все еще была бледна, как призрак.
– Прошу вас, достаточно с нее потрясений на сегодняшний вечер. Пожалуйста, уходите.
Эгертон неловко поклонился, повернулся на каблуках и ушел. Белль и Крэн провели меня в небольшой альков, где не было народу, и я без сил рухнула на стоявшую там кушетку.
– Что произошло? – обратилась Белль к Крэну.
– Три молодых болвана пристали к ней в коридоре, – скупо пояснил он.
– Что они вам сделали? – в свою очередь, обратился он ко мне.
– Они были очень пьяны, – слабо ответила я. – Они только хотели поцеловать меня и говорили всякие глупости.
– Что они говорили? – резко спросила Белль. Я ответила.
– Мерзкие щенки! – взорвался Крэн. – Завтра я пошлю им вызов и прикончу по одному.
– Нет, не нужно! – Я уже начинала верить каждому его слову. – Они были очень пьяны, я уверена, в иных обстоятельствах они не сказали бы ничего подобного.
«Они бы это только подумали», – с горечью закончила я про себя.
– Остынь, Крэн, – раздалась вдруг медлительная речь. – Похоже, ты и без того вывел их из обращения: у одного сломана челюсть, у второго отбиты внутренности. А третий до сих пор не очухался.
Это был Морисон, еще один гвардейский офицер и, как мне предстояло узнать, один из ближайших друзей Крэна.
– Тоже неплохо, – продолжал кипеть Крэн, – но я предпочел бы переломать челюсти им всем. Проклятые недоноски! – Затем, обратившись к Белль, он добавил: – Мне придется тут немного задержаться. Я провожу вас до кареты, и не беспокойтесь: я сделаю все, чтобы не было никакого шума.
Мы с трудом отыскали Люсинду и выбрались на улицу. Остановившись возле нашей кареты, Крэн нежно поправил на моих плечах накидку.
– Будем считать, что на Олимпе разразилась война из-за Венеры, – мягко сказал он, а затем привлек меня к себе и нежно поцеловал в лоб. Затем через мою голову он обратился к Белль: – Завтра я заеду повидать вашего старого живодера.
– А как вообще ваши успехи в последнее время, Крэн? – прохладно взглянула на него Белль.
– Вы знаете, как изменчива фортуна: то отлив, то прилив. У меня все время был отлив, но теперь – довольно. Не может же это продолжаться вечно!
С минуту он пристально смотрел мне в лицо, а потом подсадил в карету.
На следующее утро Белль отвезла меня в контору Джереми Винтера – необычного, разностороннего юриста, представлявшего интересы всего лондонского полусвета. Если бы меня спросили, какой мужчина оказал на мою жизнь наибольшее влияние, я бы, по правде говоря, должна была, забыв о самых близких, назвать Наполеона и Джереми Винтера.
Как описать его? Когда мы впервые встретились поздним летом 1795-го, он показался мне ужасно старым – с венчиком седых волос, колечками обрамлявших лысый череп, с лицом состарившегося младенца, с маленьким ротиком, похожим на бутон, с пухлыми розовыми щечками, круглыми и наивными голубыми глазами и маленькой кнопкой носа, на которой чудом держались очки в металлической оправе. Джереми ходил на тонких ножках, над которыми нависал большой живот, а ростом всего лишь на дюйм[6] или два был выше меня. Но зато руки его напоминали дрезденский фарфор: слишком белые и слишком тонкие для мужчины, а голоса более прекрасного, чем у Винтера, мне не приходилось слышать никогда. С тех пор минуло сорок лет, но он совсем не изменился – все такой же старый и такой же жизнерадостный. Если кто и изменился, так это я.
По дороге Белль мало что рассказала мне о нем. В юности Винтер получил в наследство от отца небольшую сумму, пустился в различные спекуляции и неимоверно преуспел. К двадцати пяти годам он уже стал богатым человеком, но вместо того, чтобы уйти на покой, занялся вот таким необычным ремеслом и с тех пор трудится на этом поприще с невероятным усердием.
– Люди станут говорить тебе, что Винтер – порочное чудовище, – предупредила меня Белль, – но, поверь мне, ни у одной из нас нет более преданного и умного друга.
Внезапно мне в голову пришла ужасная мысль, объяснявшая, почему этот человек уделяет такое внимание дамам полусвета.
– Он что – развратник? – слабым голосом спросила я.
– Ты имеешь в виду, по части женщин? – с трудом сдерживая смех, переспросила Белль. – Нет, в этом отношении можешь быть совершенно спокойна. Он питает слабость к молоденьким мальчикам. – И она громко рассмеялась. – Ему нравятся мальчики так же, как большинству мужчин нравятся женщины.
Сказанное ею звучало для меня настолько необычно, что я была буквально оглушена. С ранних лет я – дитя лондонских трущоб – знала о многих пороках, но этот встречается среди бедняков крайне редко, поэтому мне ни разу не приходилось даже слышать о нем.
– Но если он не любит женщин, – пробормотала я, – зачем же он работает на них?
Белль пожала плечами.
– Может быть, ему доставляет удовольствие составлять сделки таким образом, чтобы мужчины, которых он, вероятно, презирает, оставались в дураках. Однако лучше не спрашивай меня об этом – я вовсе не претендую на понимание психологии Джереми, она слишком сложна для меня. Я лишь воспринимаю его с благодарностью, как и любой другой подарок судьбы.
Не хочу судить Джереми. Определенные пристрастия и антипатии владели лишь небольшой частью его существа, в остальном же он был и остается самым мудрым, добрым и культурным человеком, которого мне довелось встретить. Речь его, когда разговор шел не о делах, всегда искрилась умом и обаянием, он любил – и продолжает любить – жизнь в этом безумном мире во всех ее проявлениях. Он настолько любит жизнь, что Господь позволил ему жить очень долго, чтобы он смог выдавить из нее все доступные ему наслаждения – вплоть до последней капельки.
Мы приехали в его контору, Белль представила нас друг другу и удалилась, и вот я уже сижу напротив Джереми и прислушиваюсь к звукам его изумительного голоса.
– Что ж, душечка, – сказал Джереми, – надеюсь, Белль объяснила вам хотя бы в общих чертах, как все бывает? Вот и прекрасно! В таком случае перейдем к делу. По поводу вас поступило четыре предложения. Два из них и обсуждать не стоит, так что я сразу же отверг их, но остальные два представляются весьма перспективными, и нам следует поговорить о них.
Прежде чем перейти к их рассмотрению, хочу прояснить для вас финансовый интерес Белль во всем этом деле. В течение последнего года она, по моим подсчетам, потратила на ваше содержание 495 фунтов. – Услышав такую невероятную сумму, я даже вздрогнула. – Вдобавок к этому она, как вы понимаете, хотела бы получить компенсацию за вашу подготовку и управление вашими делами. Полагаю, что с учетом имеющихся на сегодняшний день предложений эта сумма составит тысячу фунтов. – И вновь меня подбросило от размеров произнесенной цифры. – Заплатив ее, вы будете полностью в расчете с Белль и в дальнейшем станете единолично получать все причитающиеся вам выплаты. Вам понятно?
Я, с трудом соображая, кивнула.
– Теперь о поступивших предложениях. Те два, заслуживающие внимания, о которых я упомянул, – от полковника Картера и лейтенанта Эгертона. Оба предлагают по полторы тысячи фунтов аванса, что весьма щедро, а впоследствии по семь фунтов в неделю на протяжении всего времени, пока будут продолжаться ваши отношения. Оба согласны подписать обязательство оплачивать ваше жилье, обстановку, содержание слуг, а также все счета за приобретенные вами шляпки и платья.
От охватившего меня изумления я буквально онемела, но он, похоже, даже не заметил этого.
– Так что, как видите, кого бы вы ни избрали, вы получите пятьсот фунтов аванса – очень неплохая сумма для девушки вашего возраста, плюс большую часть вашего еженедельного содержания. Расходов у вас никаких не будет, разве что вы захотите помогать своей семье. – Винтер поднял брови и вежливо кашлянул. – Теперь пришло время выбирать. И я, и Белль хотели бы посоветовать вам остановить свой выбор на полковнике Картере. Он щедрее других, да и в остальных отношениях может оказаться весьма полезным для вас. К сожалению, ему присуща некоторая экстравагантность, а поскольку он привык удовлетворять все свои желания, его финансовое положение нестабильно, но я составлю документы таким образом, что ваши счета он будет оплачивать даже в том случае, если у него не окажется денег на оплату всех остальных.
И вот еще какой момент вам следует учесть. Если все пойдет хорошо, думаю, ваши отношения с Картером продлятся в течение года, а то и больше. Что же касается лейтенанта Эгертона, то это темная лошадка. Он может оказаться щедр, но мы этого пока не знаем. Кроме того, все молодые люди его возраста весьма непостоянны, особенно в том, что касается оплаты своих… гм… прихотей, поэтому он вполне может отказаться от вас через несколько месяцев. Впрочем, он достаточно богат для того, чтобы уплатить аванс.
Внезапно сухая юридическая точность, звучавшая в его голосе, пропала, и он улыбнулся мне, как старый дружелюбный гном.
– Помимо всего прочего, у Крэна бешеный темперамент, это настоящий дьявол. А учитывая, что ты тоже девочка с огоньком, вы с ним будете прекрасной парой. Думаю, ты не можешь не согласиться, что у Эгертона для тебя кишка тонка.
– Можно ли мне подумать? – спросила я, не зная, что ответить.
– Конечно, дорогуша, конечно, – засуетился он, вновь дружески подмигнув мне. – Я вернусь через десять минут.
Для самой себя я все решила еще накануне вечером – перед тем, как в одиночку пойти по длинному коридору. И все же на протяжении десяти минут я послушно обдумывала все «за» и «против», пытаясь сравнивать двух мужчин, о которых я практически ничего не знала. Перед моими глазами непрестанно возникал образ Крэна, сражавшегося так, как разъяренный самец гориллы сражается за свою самку. А Эгертон? Да, он был молод, дружелюбен и безобиден, только и всего. Крэн возбуждал мой интерес, привлекал, интриговал меня. Это был настоящий мужчина.
Когда Джереми вернулся в кабинет, я спокойно сообщила ему:
– Я решила прислушаться к вашему с Белль совету. Пусть это будет полковник Картер.
– Чудесно! Чудесно! – захлопотал Джереми, извлекая откуда-то – чуть ли не из заднего кармана – графин и два бокала. – Это необходимо отметить! Попробуй: тончайший букет. – И он наполнил бокалы. – За наше долгое и плодотворное сотрудничество, дорогая моя!
Вот так прекрасным старым амонтильядо мы отметили мой отказ от добродетели.
6
Конечно же, Белль была невероятно довольна. Она суетилась и хлопотала вокруг меня, как мать после обручения единственной дочери. Вся деловая сторона должна была быть улажена в течение нескольких дней, и дни эти обещали быть весьма напряженными. Крэн жил в доме, где обитали и другие офицеры. Отдельного жилища у него в городе не было, так что Белль сдала ему в аренду один из принадлежавших ей особнячков – красиво отделанный и похожий на маленькую коробочку из-под шоколадных конфет. Она взяла на себя и хлопоты по найму обслуги, ведь я была еще столь неопытна, а Крэн не хотел, чтобы его тревожили по таким пустякам. Кроме того, поскольку Крэн взялся теперь оплачивать мои счета, Белль не терпелось прикупить мне новой одежды, и вскоре она буквально засыпала меня кружевным бельем, ночными рубашками, а также множеством самых разнообразных платьев.
Я все думала, когда же «мной займутся». Белль была настолько погружена в заботы, что едва замечала меня, а сходить к Джереми мне недоставало смелости. Что же касается самого Крэна, то у меня не было ни малейшего представления о том, где его найти.
Как-то днем я сидела за пианино. Было жарко, и я надела одно из своих новых домашних платьев – из бледно-голубого жатого шелка. Ощущая на своем теле приятную прохладу, я не видела ничего вокруг, исполняя одну из недавно разученных песен Роберта Бернса, и не заметила, как отворилась дверь. Как раз в этот момент я пела: «Моя любовь – как красная, красная роза». В комнату вошел Крэн и торжественно воззрился на меня. Я встала и не без робости направилась к нему. Остановившись перед ним, я улыбнулась, а он мягко заключил меня в свои объятия.
– Элизабет, – почти прошептал он, – ведь я нравлюсь вам, не так ли?
– Конечно, нравитесь, – в ответ прошептала я.
– Вы любите меня?
– Я еще не знаю, что такое любовь, – честно ответила я, – но мне хотелось бы узнать об этом. От вас.
Крэн улыбнулся, в глазах его читалась нежность.
– Клянусь вам, что я стану хорошим учителем и буду верен своей единственной ученице.
– Мне будет очень приятно.
Мы по-прежнему говорили шепотом, будто хотели скрыть свой разговор от посторонних ушей, хотя в комнате, кроме нас, никого не было.
– Я приехал сообщить вам, что сам буду сопровождать вас на следующий бал, а после него мы вместе вернемся домой. Кроме того, я хотел просить вас об одном одолжении.
– О каком? – пробормотала я. Его руки медленно сжимались вокруг моей талии, он наклонился и стал покрывать мое лицо нежными поцелуями.
– Я хочу просить, чтобы вы надели белое платье – то самое, которое было на вас во время первого бала – и сделали такую же прическу, как тогда.
– Но, – робко запротестовала я, – у меня есть замечательное новое серебряное платье. Оно уже готово. Разве вы не хотите увидеть его?
– Нет, – ответил Крэн, – не хочу, – и поцеловал меня в ямочку на шее. – Вам нравится? – спросил он.
– Да, – слабо ответила я. В его руках я чувствовала себя легкой, как перышко. Внезапно он крепко прижал меня к себе и начал целовать страстно, необузданно, просовывая язык между моими зубами, изо всех сил сжимая руками мою спину и плечи. Я почувствовала, что мои колени становятся ватными.
– А как вам нравится это? – спросил он, резко отпустив меня. Ощущение было столь непривычным, что, посмотрев на полковника невидящим взглядом, я только и смогла, что прильнуть к нему.
С удовлетворенным вздохом он снова прижал меня к себе и на сей раз стал целовать медленно, мягко и ласково.
– О, весна, о, моя весна! – шептал он. – Я не чувствовал ничего подобного уже много лет. Мы вместе достанем звезды с небес, и ты сможешь украсить ими свои волосы…
В этот момент отворилась дверь, и я отпрыгнула от полковника, как испуганная лань. На пороге стояла Белль.
– Чем обязаны, Крэн? – спросила она.
На лбу полковника выступили крупные капли пота, что я, разумеется, отнесла на счет жары, и, вынув широкий белый носовой платок, он стал поспешно их вытирать.
– Просто заехал сообщить Элизабет о предстоящем бале и попросить об одном одолжении, – улыбнулся он.
– О каком еще одолжении? – холодно допрашивала его Белль.
– Полковник хочет, чтобы я была одета так же, как на первом балу, – торопливо пояснила я. – Я рассказала ему о своем новом серебряном платье, но он хочет видеть меня в белом.
– Судя по тому, как блестят ваши глаза, я понимаю, что мне пора восвояси, – констатировал Крэн. – Что вы за жестокосердная женщина, Белль! Следующие три дня будут самыми долгими в моей жизни.
Уже взявшись за дверную ручку, он повернулся к Белль и, одарив ее хитрым взглядом, спросил:
– Кстати, она никогда ничего не надевает под платье, когда находится дома?
И вышел.
Я залилась густым румянцем и только открыла рот, чтобы дать своей наставнице пояснения, как дверь вновь отворилась и в проеме показалась голова полковника.
– Только что, моя красная роза, у вас был урок номер один.
И дверь опять захлопнулась. Да, Крэн положительно был скорее дьяволом, чем человеком.
– А теперь изволь объяснить мне, что означает весь этот спектакль! – потребовала Белль. Внезапно мне стало весело: все-таки это здорово – нравиться кому-то.
– Поскольку ты не хочешь научить меня ничему, что связано с любовью, за мое обучение взялся Крэн.
– Как хорошо, что я вовремя вошла, – сухо парировала Белль. – Какая ты еще, в сущности, глупая маленькая гусыня! Ведь бумаги до сих пор не оформлены. А теперь, ради всего святого, пойди и надень нижнее белье. Хватит мне из-за тебя головной боли.
Словно на крыльях, я понеслась в свою комнату. Белль боялась, как бы чего-нибудь не произошло, пока не подписаны эти глупые, никчемные бумажки. Но я-то знала, что ей не о чем волноваться – Крэн слишком сильно хотел меня, чтобы рисковать.
Открыв дверь нашей спальни, Я ошеломленно остановилась: Люсинда сидела на своей постели с ножницами в руках и сосредоточенно резала свое золотое бальное платье на мелкие кусочки. Я не стала заходить внутрь и, тихо закрыв дверь, с неистово бьющимся сердцем прислонилась к ней спиной. По лестнице поднималась Белль.
– Что все это значит? – взорвалась она. – Только не говори мне, что Крэн…
– Там Люсинда, – прошептала я. – Она сидит и режет свое золотое платье.
– О, бедная девочка! – в волнении произнесла Белль и, знаком велев мне следовать за ней, вновь спустилась по ступенькам и вошла в свой кабинет.
– И ты не остановишь ее? – изумилась я.
Белль устало села за письменный стол и положила голову на ладонь.
– Думаю, нет.
– Но почему? – возмутилась я. – Это же безумие!
– Пусть лучше она изрежет свое платье, чем мужчину, которому она нравится.
Я вспомнила единственный разговор по душам, который произошел у нас с Люсиндой, и, в свою очередь, воскликнула:
– Бедняжка!
После этого Белль поведала мне историю Люсинды, которая частично уже была мне знакома. После того как ее мать повесили, Люсинда присоединилась к цыганскому табору. Дело в том, что в жилах ее отца текла и цыганская кровь, но он считался таким подонком, что даже цыгане не признавали его за своего. Вскоре после этого в городе, где она предсказывала прохожим судьбу, парочка юнцов попыталась изнасиловать ее. Ножом, который у нее был, она убила одного и изрезала до полусмерти другого. Люсинду посадили в тюрьму, и вскоре она предстала перед мировым судьей. Так случилось, что человек этот оказался старым другом Белль и членом печально известного «Клуба дьявольского огня». У него были странные вкусы, и от Люсинды судья буквально пришел в восторг. Поэтому после долгой беседы с девушкой он решительно закрыл дело и взял ее под свое «покровительство». Однако, на его вкус, она была еще «сыровата», поэтому судья отправил девушку к Белль, чтобы та «отшлифовала» ее и после этого вернула обратно. Теперь этот человек решил, что «шлифовка» слишком затянулась, и приказал, чтобы Люсинду прислали к нему в течение следующих двух дней.
– Не думаю, что она питает ненависть лично к нему, – с тревогой говорила Белль. – В конце концов, он спас ее от виселицы. Боюсь, она ненавидит мужчин вообще и в то же время привлекает их к себе, как удав – кроликов. Уж и не знаю, что из всего этого выйдет.
Но на этот раз ничего страшного не произошло. Как я уже сказала, пройдет еще целых десять лет, прежде чем Люсинда убьет еще раз.
Со свойственным молодости легкомыслием я вскоре забыла Люсинду вместе с ее проблемами. Три дня пролетели, как мгновение, и наступил вечер третьего бала.
В тот день Белль очень возмутила меня. Она вошла, когда я только что кончила принимать ванну и вылезла на ковер перед горящим камином. Отпустив служанку, она сама принялась вытирать меня и вдруг просунула руку мне между ног и стала исследовать мое самое потаенное место.
– Ты соображаешь, что делаешь?! – взбунтовалась я, пылая от возмущения.
– Стой спокойно, дитя мое, – невозмутимо отвечала она, – я должна убедиться в одной вещи.
– Как ты смеешь! – Я вся кипела от стыда и ярости. – Тебе прекрасно известно, что я девственна.
– Не об этом я волнуюсь, дитя мое. – Она села и озабоченно посмотрела на меня. – Я боюсь, милая, что Крэн Картер окажется слишком тяжелой едой для твоего желудка, если ты понимаешь, о чем я говорю. В течение следующих нескольких дней ты должна быть очень послушной, очень смелой и очень терпеливой. Если ты вдруг почувствуешь себя плохо, запомни: ты не должна подавать вида и тем более не должна говорить Картеру ни слова – ни сейчас, ни потом. Он – мужчина. Не хуже, но и не лучше других, и поведет он себя соответственно.
– Подходящее же ты выбрала время, чтобы предупредить меня, – враждебно ответила я. – С самого начала вся эта затея принадлежала тебе и Джереми. Вы держали меня в полном неведении, а теперь, когда обратного пути нет, начинаете волноваться, как я это перенесу. Я не стану винить Крэна ни в чем. Мне больно только из-за того, что во всей этой истории он такая же марионетка, как и я. Так что если я захочу найти виноватых, то знаю, где их искать. Белль устало вздохнула.
– Что бы я ни сказала тебе сейчас, дорогая моя, от этого мало что изменится – поверь мне. Терпение не относится к числу добродетелей Крэна. Он не любит, когда что-то встает у него на пути, так что в самом начале тебе, наверное, придется тяжелее всего, но если ты постараешься быть с ним послушной и терпеливой, то он, думаю, будет очень добр к тебе. И щедр.
– Ты говоришь либо слишком много, либо слишком мало. – Я все еще никак не могла простить ее. – Уже поздно. Если тебе больше нечего сказать, я бы хотела, чтобы вернулась служанка и помогла мне одеться.
Грустно покачав головой, Белль вышла из комнаты.
Я оделась так, как хотел Крэн, и была уже готова, когда он наконец появился – как всегда, стремительный и неотразимый в своей военной форме. В руке у него был небольшой кожаный футляр, который он с глубоким поклоном подал мне.
– Пусть это украшает мою богиню до тех пор, пока я не достал для нее звезд с неба.
Я открыла футляр. На белой бархатной подушечке, словно в гнездышке, лежал набор украшений из мерцающих как звезды сапфиров – точно такого же цвета, что и мои глаза.
– О, Крэн, – выдохнула я, – как красиво! Как удивительно красиво! Можно мне надеть их?
– Позвольте мне, – сказал он и с ловкостью, говорившей о немалом опыте, надел на меня серьги, браслет и ожерелье. Когда он застегнул его на моей шее, я обвила его руками и поцеловала. Это был очень долгий поцелуй.
– Что ж, полагаю, нам вовсе не обязательно ехать на бал, – раздался неторопливый голос за нашей спиной. – Мы с Белль можем просто сесть здесь и, наблюдая, получить не меньшее удовольствие.
Это появился Морисон, который должен был сопровождать Белль.
Крэн неохотно отодвинулся от меня и рассмеялся.
– Черт бы тебя побрал, Нед, ты все испортил!
– Мне бы не хотелось никого торопить, – вежливо рокотал Морисон, – но у меня дьявольски пересохло в глотке. Тем более что я целый день носился, выполняя твои поручения, Крэн, и у меня не было возможности опрокинуть хотя бы пинту портера, чтобы смочить губы.
– В таком случае поехали, – сказал Крэн, – а то скажут еще, что я уморил Неда, не дав ему выпить.
– Или что я уморил тебя, не позволив потанцевать, – парировал Морисон.
Я совершенно не запомнила этот бал. Я плыла сквозь него, видя только обращенные ко мне глаза Крэна и ощущая только прохладу сапфиров на шее. Я чувствовала радостное возбуждение, и в то же время меня не оставляло недоброе предчувствие. Мне казалось, что мы с Крэном – части какого-то огромного калейдоскопа, крутившегося все быстрее и, словно воронка, втягивавшего нас внутрь помимо нашей воли.
Бал закончился. Когда мы садились в кареты, Белль отвела Крэна в сторону и приглушенным голосом стала ему что-то говорить. Склонив голову, Крэн слушал невнимательно, нетерпеливо подергиваясь, как взнузданный жеребец.
– Хорошо, Белль, не стоит волноваться. Я буду осторожен, – сказал он наконец и, похлопав ее по плечу, помог мне сесть в карету. Как только экипаж тронулся, он схватил меня в объятия, и весь последующий путь слился в моей памяти в череду нежных и страстных поцелуев.
Денщик Крэна открыл нам дверь и помог снять верхнюю одежду.
– Не тревожь нас, покуда я не позвоню, Бейтс, и пусть в доме будет тихо. Сам понимаешь: чтобы никто из служанок не шаркал наверху. Сегодня нам больше ничего не понадобится.
Слуга поклонился и вышел. Взглянув на меня сверху вниз, Крэн улыбнулся.
– Немного волнуетесь, богиня?
Я еще не совсем пришла в себя после поездки в карете, поэтому просто покачала головой.
– Ну вот и замечательно! – засмеялся он и, подняв меня как пушинку, понесся вверх по лестнице подобно быку, похищающему Европу. Затем, рывком отворив дверь моей комнаты, осторожно поставил меня на ноги.
– Познакомься со своей новой служанкой, – улыбнулся он и аккуратно стал выплетать розы из моих волос. Сняв с меня драгоценности, он стал целовать те места, где они находились. Это были чудесные, легкие, словно бабочки, поцелуи, от которых по моей спине разбегались мурашки. Когда он наконец снял с меня платье, я задрожала.
– Нет, богиня, не бойтесь. – Крэн привлек меня к себе, его лицо горело. Я пыталась держать себя в руках, но ощутила, как во мне вновь поднимается какое-то холодное чувство. Когда же он попытался снять с меня сорочку, я сделала протестующий жест.
– Я должна надеть ночную рубашку, – прошептала я, пунцовая от стыда.
– Нет, я хочу видеть тебя обнаженной, – промурлыкал он и снял с меня сорочку. Вся дрожа, я стояла перед ним. – Боже мой, до чего же ты красива! – прорычал он и, упав на колени, зарывшись лицом в мои груди, стал покрывать их поцелуями, бормоча что-то бессвязное. Когда он снова встал, взгляд его изменился – как будто он смотрел не на меня, а куда-то внутрь. Он взял меня на руки, уложил на постель и накрыл простыней, а затем вышел в свою комнату, что находилась по соседству. Вся дрожа, я лежала голая между двумя холодными простынями и страдала от этого еще больше, чем от холода, царившего в моем сердце.
Вскоре, мягко ступая, Крэн пришел обратно. Мне никогда раньше не приходилось видеть обнаженного мужчину – бедняки придерживаются очень строгих правил относительно наготы. Без одежды Крэн выглядел еще больше, чем обычно, причем все части его тела были абсолютно пропорциональны.
Я лежала, скованная страхом, а Крэн, улегшись позади меня, положил руки на мои груди. Он стал нежно целовать меня и ласкать мою шею, груди, живот, бедра. Поцелуи его становились все крепче, руки – нетерпеливее, дыхание – тяжелее. Внезапно он взгромоздился на меня и жадно поцеловал в губы, глубоко засунув язык мне в рот, отчего я едва не задохнулась.
– Раздвинь ноги, – прошептал он. В ужасе я повиновалась.
Меч острой боли, казалось, разрубил меня пополам. Я закричала, но Крэн не останавливался. С каждым движением его огромного тела боль внутри меня росла. Она накатывалась на меня волнами, мне казалось, что меня заживо режут ножом. Он истекал потом, а по моему лицу катились слезы. Рыдая, почти в истерике, я отчаянно боролась, пытаясь оттолкнуть его от себя. Мы уже были с ног до головы мокрыми, и при каждом его движении наши тела издавали отвратительные хлюпающие звуки. Тут уже не было ни богини, ни ее «покорного слуги» – все галантности были отброшены в сторону, оставался только самец, яростно вбивающий, обрушивающий свое мужское начало на самку, пойманную врасплох и не имеющую права на отказ. То же бессмысленное скотство, что у жеребца с кобылой, у кобеля с сукой…
Внезапно остановившись, он тихо лежал на мне, задыхаясь от изнеможения, а я чувствовала, как по моим ногам теплой струйкой течет кровь. Я лежала под ним сломленная, раздавленная, словно какое-то насекомое, приколотое булавкой к доске. Я вновь застонала, пытаясь столкнуть его с себя. Он испустил долгий прерывистый вздох и вытер губы о мой лоб.
– Какая решительная маленькая девственница! – прошептал он. – Сожалею, что это вышло так непросто, но отныне все будет по-другому.
Руки его вновь принялись ласкать меня, тело начало ритмично двигаться, и меня опять пронзила боль.
– Не надо, пожалуйста, не надо! – закричала я. Теперь я уже ногтями раздирала ему тело, пытаясь добраться до глаз. Я была готова на что угодно, лишь бы остановить его. Однако он быстрым движением сгреб мои руки и заломил их мне за голову.
– Прекрати! – жестко сказал он. – Прекрати или, клянусь, я свяжу тебя!
Я перестала шевелиться и только плакала навзрыд, а он продолжал объезжать меня. Продолжалась и боль. Казалось, этому не будет конца. К счастью, я, видимо, время от времени теряла сознание, но каждый раз, когда оно возвращалось, он все еще сидел на мне верхом, его руки терзали и мяли мое тело, его огромный орган входил и выходил из меня. Он был ненасытен – пыхтящий зверь, заманивший в ловушку свою жертву и куражащийся над ней.
Наконец, когда свет из окон стал разгонять серые предрассветные тени, он все-таки слез с меня и, улегшись на свою половину постели, немедленно уснул. Сначала, совершенно измученная, я лежала под грузом невероятной усталости, а затем еще один благодатный обморок принял меня в свои объятия.
Не знаю, сколько мы спали – на несколько дней я совершенно потеряла счет времени. Я только смутно помню, как Крэн осторожно встал с постели и вышел в свою комнату. Вскоре он вернулся, но я прикинулась спящей. Наклонившись надо мной, он поцеловал меня – одним из нежных поцелуев, адресованных «покорным слугой» своей «богине».
– Элизабет, – осторожно потряс он меня за плечо, – дорогая, просыпайся. Ну, давай же, давай!
Открыв глаза, я отшатнулась от него и зарылась лицом в подушки.
– Бедная роза! – пробормотал он. – Неужели это так больно?
В ответ я молча мотнула головой.
– Что ж, думаю, я могу облегчить твои страдания, – сказал он и вышел из комнаты, за дверями которой тут же послышалось какое-то бормотание.
Вскоре он вернулся, неся тазик с теплой водой, тонкое льняное полотенце и хорошее белое мыло. Полковник откинул простыню, и лицо его исказила гримаса. Опустив глаза, я увидела, что вся постель перепачкана кровью.
– Если бы ты жила на Востоке, – мягко заметил он, – сейчас бы тебя чествовало все твое племя. Там такие доказательства девственности ценятся очень высоко.
Испытывая тошноту от стыда и унижения, я не могла даже говорить и, не вставая с постели, молча смотрела на него. Если бы в этот момент я увидела выросшие у него за ночь рога, хвост и раздвоенные копыта, то вовсе не удивилась бы, но он выглядел так, как в тот день, когда впервые поцеловал мне руку. К еще большему моему изумлению, дикий, безумный зверь, терзавший меня всю ночь, теперь принялся осторожно и нежно мыть мое тело. Он делал это так, как делает мать со своим ребенком, а прикосновения его были мягкими, словно легкий ветерок.
Закончив, Крэн взял одно из моих домашних платьев и протянул мне его с ласковыми словами:
– Надень вот это. Я пока провожу тебя в другую комнату, а потом пришлю к тебе служанку. Ты должна встать и немного походить, иначе у тебя будет болеть еще больше.
Я повиновалась, но, когда он стал помогать мне подняться, у меня вырвался невольный стон. Крэн подхватил меня на руки, отнес в соседнюю комнату и, уложив на свою постель, поцеловал.
– Не надо испытывать ко мне ненависть, Элизабет, – прошептал он. – Я очень люблю тебя. Любовь – это не только боль. Боль скоро пройдет, моя родная, и тогда я покажу тебе, что такое настоящая любовь.
Должно быть, я снова заснула, потому что, когда вновь открыла глаза, послеполуденное солнце уже клонилось к закату, а моя служанка суетилась в комнате, раскладывая вещи. Ее звали миссис Мур. Это была женщина средних лет, которую Белль, учитывая мою собственную неопытность, наняла, чтобы та одновременно выполняла обязанности моей личной служанки и домоправительницы. Работала она хорошо, но была ужасно болтливой. Увидев, что я проснулась, она засуетилась еще больше.
– Как вы себя чувствуете, моя несчастная овечка? Я сразу же поняла, что за ночка выпала на вашу долю, когда увидела постель. Я чуть с ума не сошла. Какие же грубияны эти мужчины – все до одного!
И так она продолжала тараторить – все об одном и том же. Это были именно те слова, которые мне хотелось слышать в эту минуту, и крупные слезы начали скапливаться в моих глазах. Я горько заплакала от жалости к самой себе.
– Ну, будет, будет, милая, не изводите себя так. – Служанка доверительно приблизила ко мне свое круглое луноподобное лицо, покрытое плотной сеткой фиолетовых прожилок. – Когда его не будет, – многозначительно склонила она голову, – я дам вам глоточек кое-чего, и вам вмиг полегчает. А теперь давайте подниматься. Он скоро вернется – хочет забрать вас из дома.
– Из дома?! – с ужасом переспросила я. – Да я с места двинуться не могу!
– Нет-нет, как только вы подниметесь, вам сразу станет лучше, – жизнерадостно возразила женщина. – Да вам и не придется много ходить: он всего лишь хочет съездить с вами в театр.
Театр! Жалость, которую я испытывала к своей особе, моментально уступила место проснувшемуся интересу. Никогда в жизни мне еще не приходилось бывать в театре, поскольку в течение года, когда шло наше с Люсиндой обучение, Белль держала нас в полной изоляции. Однако после тех рассказов, скорее даже сказок, которые мне приходилось слышать о театре, я страстно мечтала попасть в эту волшебную страну. Сейчас это было единственным, что могло вытащить меня как из дома, так и из бездны страданий по поводу собственной участи. Возможно, Крэн – большой знаток женской психологии – именно на это и рассчитывал, но, как бы то ни было, когда в сопровождении еще трех офицеров он ворвался в комнату, я была уже полностью одета и сгорала от нетерпения.
Если бы он предложил мне ужин на двоих, это, видимо, было бы печальным зрелищем, но я не могла противостоять зажигательному веселью сразу четырех гренадеров, уже знакомых мне по предыдущим балам. И хотя сама я пока что была не в силах поддерживать оживленную беседу, к своему собственному удивлению, я обнаружила, что во все горло смеюсь над уморительной пикировкой, которую они затеяли за столом.
Как сейчас помню: мы отправились в театр Ковент-Гарден и я увидела Изабеллу Мэттокс в обновленной постановке шеридановской «Школы злословия».[7] Я была потрясена, почти загипнотизирована чарами впервые открывшегося мне мира – театра, публики, актерской игры. С тех пор я стала страстной поклонницей этого искусства, и, хотя вот уже несколько лет, как моя нога не переступала порога театра, я до сих пор с наслаждением вспоминаю все пьесы, которые мне довелось посмотреть, а также блиставших в них актеров.
Я была настолько очарована увиденным, что только тогда, когда мы уже тряслись в карете на пути домой, до меня дошло, что наступила новая ночь и я обречена разделить ее с мужчиной, который сейчас обнимал меня за талию, сонно покачивая поникшей головой.
Не могу вспоминать эту ночь. Как только мы очутились дома, я попыталась убежать от него, хотя только Господь знает, куда мне было бежать. Конечно же, Крэн поймал меня и с холодной яростью – всю эту сцену видели и кучер, и денщик, и служанка – отвел меня наверх. Уже в моей комнате он немного смягчил свой гнев и попытался успокоить и урезонить меня, но от страха я совсем потеряла голову и, не слушая его, лишь всячески пыталась увернуться.
Наконец Крэн вышел из себя и, почти срывая с меня платье, закричал:
– Видит Бог, Элизабет, если ты не хочешь меня любить, то по крайней мере я заставлю тебя повиноваться!
И, швырнув меня на постель, он вышел в свою комнату. Вскоре Крэн вернулся, лицо его было мрачным. Когда он лег в постель, я резко отпрянула от него, чувствуя ненависть даже к запаху, исходившему от этого человека. Однако он грубо притянул меня к себе и вновь предался своим наслаждениям. На сей раз не было ни произносимых шепотом нежностей, ни мягких ласканий – одно только примитивное утоление низменного инстинкта. Каждый раз, когда он с силой входил в меня, я испытывала все ту же жестокую боль, и поэтому снова рыдала и отталкивала его. Но это, кажется, только еще больше распаляло Крэна, а я так и оставалась под ним – беспомощная и измученная. Когда ночь была на исходе, мне показалось, что боль пошла на убыль, а к тому времени, когда наконец, насытившись, он встал с меня, она уже превратилась не более чем в сильный зуд. Поднявшись с постели, Крэн прошел в свою комнату и захлопнул разделявшую нас дверь. Тогда я перекатилась на середину кровати, зарылась лицом в подушки и вновь дала волю слезам. Теперь, правда, меня беспокоила не столько боль, сколько вертевшиеся в голове мысли.
Неужели именно на это меня сознательно обрекли моя семья, Белль и Джереми? Неужели мне суждено превратиться в инструмент наслаждения для любого мужчины, готового заплатить? Мысли бесконечным хороводом вертелись в моем мозгу. Мои покровители с легкостью говорили о шести месяцах, о годе или даже больше, в течение которых может продолжаться эта связь. Сейчас мне было всего лишь семнадцать, но уже теперь я с ужасом думала о бесконечной череде мужских тел с пустыми пятнами вместо лиц, которые станут передавать меня из рук в руки, трогая, терзая, лапая… И чем дальше меня передают, тем сильнее высыхает и увядает мое собственное тело, тем грубее, жестче и грязнее становятся руки мужчин. И так до тех пор, пока однажды я снова не окажусь на Рыбной улице в вонючей сточной канаве, издавая беспрерывные хриплые вопли, в то время как на меня будут наваливаться обезумевшие орды.
Все еще плача, я проснулась и ощутила руку Крэна. Он обнял меня и нежно прижал к себе.
– Элизабет, ради всего святого, в чем дело? Рыдая, я прильнула к нему, не в силах избавиться от ужаса, навалившегося на меня в этом кошмарном сне.
– Не отдавай меня им! Пожалуйста, не отдавай!
– Не отдавать тебя кому? – не понял Крэн спросонья. – Тихо, тихо, никто не сделает тебе ничего плохого, – уговаривал он меня, баюкая, как ребенка. Наконец я успокоилась, и Крэн встал, словно собираясь уйти.
– Не покидай меня, Крэн! – взмолилась я, почувствовав, что наяву мне стало еще страшнее. Тихо вздохнув, он нырнул обратно в постель и обнял меня. Оказавшись в надежном убежище его рук, я наконец уснула.
Когда я открыла глаза, Крэна рядом со мной не было, зато стояла миссис Мур с подносом, на котором дымился завтрак. Я села в постели, чтобы поесть, и тут в моей памяти всплыла ночная сцена, заставив меня покраснеть от стыда. Отворилась дверь, и вошел Крэн – розовый и свежевыбритый, в коричневом шелковом халате. Жестом он отослал служанку и сел на край постели. Несколько секунд он молча смотрел на меня, а затем произнес:
– Элизабет, я не очень терпеливый человек и не переношу женских слез, даже тогда, когда плачет такая прекрасная женщина, как ты. Прошлая ночь расстроила меня не меньше, чем тебя, и мне не хотелось бы, чтобы это повторилось. Ты поняла?
– Прости, что я разбудила тебя, – ответила я виновато.
– Не о том речь, и ты это прекрасно понимаешь, – резко сказал он и, внезапно улыбнувшись, добавил: – На самом деле это был единственный приятный момент за всю эту проклятую ночь. Запомни, что я сказал, – и наклонившись, он поцеловал меня. Я молча кивнула, и он поцеловал меня еще раз. – Сейчас я должен ехать на Уайтхолл.[8] Меня не будет почти целый день, я вернусь только к обеду. Будь со мной поласковее.
Он произнес это чуть ли не с тоской и вышел из комнаты.
Я бессильно откинулась на подушки. О чем предупреждала меня Белль в тот памятный день? Казалось, с тех пор прошли века. «Что бы с тобой ни происходило, не впутывай в это Крэна – он поведет себя так же, как и любой другой мужчина». Вот что она имела в виду, а я, как всегда, вела себя по-дурацки. Я ненавидела всех остальных – все это мерзкое скопище. И сейчас у меня был только один союзник и защитник от них – Крэн. Я не должна его потерять – ни при каких обстоятельствах! И тогда я решила сделать все возможное, чтобы завоевать его любовь, которой едва не лишилась по собственной неосторожности.
Вновь появилась служанка и захлопотала вокруг меня.
– С вами все в порядке, мэм? Если мне позволительно будет задать такой неделикатный вопрос, я хотела бы узнать, говорила ли вам что-нибудь миссис Дэвис о необходимости заботиться о себе?
– Заботиться о себе? – удивленно переспросила я. – Что вы имеете в виду?
– Ага, – доверительно пробормотала она, – теперь я вижу, что не говорила. Я имела в виду, как уберечься от ребеночка. Ведь молоденькой девушке вроде вас не нужен такой жернов на шее. И в отношениях с вашим кавалером ничего хорошего не выйдет, если вы прямо сейчас забеременеете. Они тут как тут, когда вы розовенькая и стройная, но, как только лицо у вас становится измученным, а живот начинает расти, их и след простыл.
Я была в ужасе. Меня настолько потряс сам акт, что мысль о его возможных последствиях даже не приходила мне в голову.
– А вы знаете, как уберечься от детей? – спросила я, все еще не в силах взять себя в руки.
– Ну, так уж точно не скажу, но слышала я о паре вещей, которые могут помочь. Одна из них – это травка, которую используют цыгане, а вторую я обнаружила сама. Но вы же понимаете, травка ведь чего-нибудь да стоит, – хитро добавила женщина.
– Подайте мне мою сумочку, – приказала я. Эта старая лиса говорила правду, и ее советы стоили денег. Я отсчитала пять соверенов в ее жадную лапу, холодно спросив: – Думаю, этого хватит?
– О, благодарю вас, мэм! Я сейчас пойду и все приготовлю. Судя по тому, как вы выглядите, дорогуша, нам не стоит терять времени.
Возле двери она задержалась и оглянулась. Видимо, привычка к болтовне взяла в ней верх над желанием поскорее удалиться со своим неправедно заработанным богатством.
– Хорошо еще, что полковник в годах, хоть и очень темпераментный мужчина. С ним у вас, может, и не получится забеременеть сразу. А вот когда с молодыми, которые вообще ничего не понимают, это моментально происходит. Но вам повезет, дорогуша, вот попомните мои слова.
Сообщив мне эту пикантную новость, она удалилась.
Она была противной старухой, но то, чему я от нее научилась, наверняка спасло меня от будущей нищеты и прозябания, поэтому, в конечном итоге, я благодарна ей. Хотя тогда благодаря ее руководству мне в самом ближайшем будущем предстояло оказаться в серьезной опасности.
После того как она закончила совершать надо мной свой таинственный обряд, я оделась и устало спустилась вниз.
– Идите в гостиную, – сказала мне миссис Мур, – там в камине горит чудесный огонь, а я пока принесу вам кое-что такое, отчего все ваши проблемы как рукой снимет.
Вскоре она вернулась со стаканом прозрачной жидкости.
– Похоже на воду, – с сомнением сказала я.
– Давайте-давайте, попробуйте. К этому, правда, надо немного привыкнуть, но когда оно попадает в жилы… Впрочем, сейчас вы поймете, о чем я говорю.
Ей, похоже, доставляла удовольствие даже сама эта мысль.
Я сделала глоток и остолбенела: мое горло горело словно в огне, я едва могла дышать.
– Вы отравили меня! – прохрипела я.
– Нет, дорогуша, – произнесла она с сочным выговором кокни. – Сперва всегда так бывает. Хотя давайте-ка по первому разу я добавлю вам туда лимончика.
Так она и сделала, и я снова поднесла стакан к губам и с сомнением отпила маленький глоточек. Приятное тепло волнами разлилось по моему телу, очертания комнаты немного задрожали. Я взглянула на миссис Мур, и мне почудилось, что она плавно поднимается и опускается вместе с полом. Мне вдруг стало удивительно хорошо.
– Теперь я вас поняла. Спасибо, миссис Мур. Внезапно я расчувствовалась.
– Спасибо вам за вашу доброту. Глаза мои защипало от слез.
– Вот и хорошо, дорогуша.
Она наблюдала за мной с легкой ухмылкой.
– В какое время обещал вернуться полковник?
– К обеду, – икнула я.
– Я принесу вам еще одну порцию прямо перед его приходом, и тогда вы не будете волноваться, что бы он ни делал, хорошо?
– Вы настоящий друг, миссис Мур. Самый лучший друг! – Теперь я снова чувствовала себя на коне: центром мира, хозяйкой собственной судьбы. – Если кто-нибудь придет и станет спрашивать меня, говорите всем, что меня нет, что я ушла. Я не хочу никого видеть. Никого!
И я прикончила стакан одним глотком.
– А миссис Дэвис? – спросила она.
– Особенно миссис Дэвис! В первую очередь миссис Дэвис! Миссис Дэвис даже на порог не пускать, понятно? – бушевала я.
– Я все поняла, – примирительно сказала женщина. – Может, вам стоит немного полежать на кушетке?
Шатаясь, я доплелась до кушетки и рухнула на нее.
– Кстати, миссис Мур, как называется этот чудесный напиток?
– Джин, мисс. Обыкновенный джин.
Джин! Это слово было мне знакомо. Помнится, матушка неоднократно предупреждала нас, детей, и в особенности моего старшего брата Джека о пагубном воздействии этого напитка. Мне вновь подумалось, как невежественна и сбита с толку была моя мать.
– О восхитительный, вкуснейший джин! – пробормотала я. Миссис Мур с видом чрезвычайного довольства на лице вышла из гостиной, а я в то же мгновение уснула.
Остаток дня прошел для меня в приятной алкогольной дымке. Я побренчала на пианино, и хотя музыка у меня звучала вовсе не так, как была написана в нотах, ее звуки казались мне божественными. Покопавшись в своем гардеробе, я пришла к выводу, что нет на свете девушки счастливее меня, поскольку мне принадлежит столько красивых вещей. Я восхищенно рассматривала свои сапфиры и раздумывала, какое именно платье мне надеть вечером. Мне было наплевать на все и вся.
Подошло время обеда. Появилась миссис Мур с еще одним стаканом джина.
– Но он же наполовину пустой! – раздраженно протянула я, чувствуя тупую боль в висках.
– Как раз сколько надо, дорогуша моя, вот увидите. Вам не нужно больше, иначе может стошнить.
Я выпила содержимое стакана, и боль мгновенно отпустила.
– Вы настоящее чудо, миссис Мур.
– Я только стараюсь помочь вам, – скромно ответила она. – Может, мне и самой понадобится помощь. Ох, и тяжелые настали деньки… – вздохнула женщина.
– Если я могу вам помочь… – начала я, но она продолжала говорить так, словно и не слышала меня:
– Вот и мой бедный брат: побирается у черного хода, довольный любым объедком с нашего стола. Жена, пятеро детишек, а работы нет. Бедняга!
– О несчастный!.. – И я снова полезла в свой кошелек, вручив ей еще один золотой соверен. – Вот, отдайте ему это.
– Да благословит Господь ваше доброе сердце, мэм! Из вас выйдет настоящая леди, я уже сейчас это вижу. – Служанка понизила голос: – Когда хозяин вернется домой и если он что-нибудь заметит – я про джин говорю, – скажите, что вы нашли его в шкафчике внизу. В том, который стоит в кабинете. Ему может не понравиться, что я сама дала вам выпить, понимаете?
– Не беспокойтесь, миссис Мур, это останется нашим секретом, – хихикнула я. – А теперь помогите-ка мне переодеться к обеду.
Я постаралась вспомнить все хитрости, которым научила меня Белль, чтобы выглядеть особенно красивой в этот вечер, и, когда вернулся Крэн, под воздействием джина и сапфиров чувствовала себя ни больше ни меньше, как самой Клеопатрой.
Услышав стук его кареты, я бросилась к пианино и заиграла «Моя любовь – как красная, красная роза». Он, как всегда, вихрем ворвался в дом, и когда я поднялась, чтобы встретить его, то с удовлетворением заметила: Крэн буквально застыл, пожирая меня взглядом. Тогда я сама бросилась ему навстречу, но перед глазами у меня все расплывалось и мне показалось, что он стоит дальше, чем было на самом деле, так что я буквально упала ему на грудь, обвив рукой его шею. Крэн выглядел удивленным и довольным. Он наклонился, чтобы поцеловать меня, и вдруг от изумления брови его взметнулись так высоко, что мне показалось: еще чуть-чуть и они вообще исчезнут.
– Что ты пила? – спросил он.
– Джин, – ответила я, счастливо прижимаясь к нему.
– Джин? Но где, черт побери, ты его взяла?
– В шкафу, что стоит в кабинете, – сказала я, подставляя лицо для поцелуя.
– Но как… – Тут я поцеловала его сама, и он ответил мне тем же. – О Элизабет, – пробормотал он и снова поцеловал меня, но теперь уже гораздо крепче. Я тоже одарила его еще более пылким поцелуем. – Ты восхитительная маленькая идиотка, ты же пьяна… Впрочем, что мне за дело, – прошептал он и страстно поцеловал меня в губы.
– Я не пьяна. Я чувствую себя замечательно, просто прекрасно, – упрямилась я.
Крэн расхохотался и, оторвав меня от пола, сказал:
– Что ж, взглянем на место преступления.
Он открыл шкаф в кабинете, и там действительно оказалась приземистая серая керамическая бутылка. Миссис Мур действовала быстро. Крэн понюхал ее, немного отпил и скорчил гримасу:
– Ну и пакость! Наверное, кто-то из рабочих оставил. Вот только как она могла тут оказаться? – Он взглянул на меня и опять рассмеялся. – Моя дорогая весна, если ты будешь пить эту бурду, все твои цветы завянут. Ни капли больше, слышишь? Нектар и амброзия – вот это для тебя. Ну, может, еще изредка бутылочка шампанского. Но не джин!
Крэн страстно поцеловал меня, а затем – к моему ужасу – взял бутылку и швырнул ее за окно.
– Давай-ка выпьем немного вина, чтобы ты избавилась от вкуса этой гадости, – радостно предложил он. А я втайне утешала себя тем, что бутылка, которую он только что выбросил, вероятно, была у миссис Мур не последней.
От выпитого за обедом вина остатки джина в моих жилах заиграли еще веселее. Я смотрела на Крэна как сквозь легкую пелену: какой же он мужественный! Я любила его. Впрочем, в этот момент я любила всех и каждого: и Джека, и Эгертона, и Люсинду, и Джереми, и Белль. Хотя нет, Белль, наверное, все же не любила.
Под конец обеда Крэн с сомнением в голосе сказал:
– Я думал взять тебя сегодня вечером в Гарденс. Гарденс… В моей захмелевшей голове это название прозвучало холодно и непривлекательно. Мне почему-то подумалось, что там должна царить толчея.
– Ты думаешь, нам обязательно надо ехать? – сонно пробормотала я. – Здесь так хорошо… Нас только двое… Может, останемся дома?
– Что ж, если ты так хочешь… – Голос Крэна вдруг стал низким, лицо раскраснелось. Я сидела на кушетке, и он, подсев поближе, осторожно взял меня пальцами за подбородок и поднял мое лицо. Я сонно улыбнулась. – Элизабет, – произнес он с каким-то блеском в глазах, – такая, как сейчас, ты заставляешь кипеть кровь в моих жилах. Я буквально схожу с ума. – Крэн пробежал пальцами от моей шеи вниз до самых грудей. Он явно сгорал от желания. – Я и не думал до сих пор, что существуют женщины, способные до такой степени вывести меня из равновесия. – На несколько секунд Крэн прижал меня к себе, а затем поднял на руки и понес на второй этаж.
Когда он наконец поставил меня на ноги, я снова прижалась к нему и обвила его шею руками.
– Извини меня за прошедшую ночь, Крэн. Я знаю, что вела себя дурно, но прости меня, я обещаю слушаться тебя отныне и во веки веков.
Крэн даже застонал.
– Мне не нужно твое послушание, дорогая, мне нужна твоя любовь. Если бы ты испытывала ко мне хоть сотую часть той любви, что испытываю я, я уже был бы доволен.
В эту ночь под воздействием джина я была покладистой и услужливой: мое тело с готовностью отвечало на каждую его прихоть. Крэн занимался любовью как одержимый. После того как он кончал, я прижималась к нему, и его огромный член снова начинал напрягаться, наливаться жаром, и он снова входил в меня. А я плыла на облаке, пропитанном джином, и мне казалось, что я нашла решение всех своих проблем.
Разбудила меня миссис Мур с подносом для завтрака. Я испытывала озноб, головную боль и неуверенность в себе. Прислуга, видимо, почувствовала мое состояние: она постояла возле меня несколько секунд и, ничего не говоря, вышла. Я кое-как поела – вкус еды казался мне ужасным, а все мои страхи и заботы, похоже, вернулись обратно. Поэтому когда в дверь вошел Крэн, прятавший что-то за спиной, я смогла выдавить лишь слабое подобие улыбки.
Бросив мне на постель синий кожаный футляр, он отступил в сторону и стал наблюдать с мальчишеским интересом. Я открыла коробку. С шелковой подушечки голубоватым светом блеснули бриллианты: браслет, серьги, ожерелье – они сияли чудесным, холодным огнем, словно пришельцы с далеких планет остывающих звезд. От восторга у меня перехватило дыхание, и я смогла только с благодарностью протянуть руки к Крэну. Когда мы оба немного успокоились, он взял из футляра ожерелье и застегнул его на моей шее.
– Все это, – сказал он, – застывшие слезы, которые я заставил тебя пролить. Я дарю их тебе в знак того, что с этого дня между нами не будет слез – отныне и вовеки. – Крэн осторожно прикоснулся к драгоценным камням. – Это единственные слезы, которые я согласен видеть, особенно когда речь идет о такой прекрасной женщине, как ты.
Крэн был замечательным человеком во многих отношениях. Может быть, для женщин даже хорошо, что таких, как он, немного.
На протяжении нескольких следующих дней он почти не отходил от меня. Мы были в театре, в Гарденс, на скачках, на вечеринках, а по ночам я отдавалась ему – если не страстно, то по крайней мере с готовностью. Наконец однажды ночью, когда я, уставшая после тяжелого дня, оказалась в его объятиях, я неожиданно почувствовала острое возбуждение. Его голова была склонена – он поочередно целовал и брал в рот мои груди. И тут я резко повернулась и сильно укусила его в шею, одновременно с этим царапая и раздирая его спину ногтями. Мне вдруг надоело быть пассивным инструментом удовлетворения его желаний, мне захотелось сделать с его телом то, что раньше он делал с моим. Реакция Крэна была немедленной и страстной, и мы кончили бешено и одновременно. Когда он откинулся, до меня вдруг дошло, что я наделала. Я чувствовала кровь, текущую из его плеча, и, замерев от страха, ждала того, что, как мне казалось, должно было последовать. Крэн, зарывшись лицом в подушки, трясся всем телом, и я не знала, что делать. Только чуть позже я поняла, от чего он трясся: от смеха! Вне себя от удивления, я протянула руку и дотронулась до него.
– О Крэн, дорогой, я не хотела… – начала оправдываться я. В ответ он оторвал голову от подушки и захохотал еще громче.
– Весна, – пытался выговорить он между приступами хохота, – я вижу, ты более чем готова к уроку номер два. Сегодня я слишком устал, но завтра, моя маленькая чертовка, моя очаровательная кошечка, я начну учить тебя, как заниматься любовью.
– Как заниматься любовью? А чем же в таком случае мы занимались в течение последней недели? – выпалила я.
Крэн сразу же успокоился.
– В течение последней недели, моя роза, это я занимался любовью с тобой; теперь же, прелесть моя, любовью со мной будешь заниматься ты. Между двумя этими вещами огромная разница.
И с этими словами, все еще посмеиваясь, он отвернулся и уснул.
Раньше я думала, что мое образование еще просто не закончено, теперь я поняла, что оно только начинается.
7
С тех пор ни единое облачко не омрачало нашу жизнь с Крэном. Мне стало даже нравиться доставлять ему удовольствие, хотя я и не любила его. Он был очень привлекательным мужчиной, способным увлечь любую женщину. Во всем остальном, увы, было не так. Пока он находился рядом со мной, само его присутствие заслоняло от меня все сомнения и страхи относительно моего будущего. Но стоило ему уйти, дом, казалось, наполнялся холодом и моя душа – тоже. Миссис Мур, конечно, очень помогала мне, но на всех остальных слуг я наводила ужас, и мне ничем нельзя было угодить. Я попала в зависимость от миссис Мур, поскольку она снабжала меня джином – только он был в состоянии изгнать уродливых чудовищ из моего сознания. Нам приходилось остерегаться, потому что у Крэна слова с делами не расходились, так что я прилагала массу усилий, чтобы он не разоблачил меня. В те дни, когда он сидел дома, я, разумеется, не могла пить. В другие дни я выпивала регулярно и не переставала удивляться, как у него не возникает подозрений по поводу моего внезапного пристрастия к мятным конфетам, которые я усердно начинала поглощать, слыша приближение его кареты.
Миссис Мур это весьма устраивало, поскольку приносило ей значительный добавочный доход, кроме того, по возникшему между нами негласному соглашению я перестала контролировать то, как она содержит дом. Я не виделась ни с кем из своих старых знакомых, хотя их и раньше было у меня не так уж много. Теперь мне приходилось общаться с новыми людьми – из круга Крэна. С Белль мне видеться не хотелось: я до сих пор не могла простить ей то, что считала двойным предательством с ее стороны. Миссис Мур, которой также не хотелось, чтобы Белль вмешивалась в наши с ней дела и интересовалась тем, как она ведет хозяйство, помогала мне в этом, а вот с Крэном было сложнее.
Примерно через месяц после того, как мы стали жить вместе, он заявил:
– Вчера я встретился с Белль, и она сказала мне, что ты не хочешь ее видеть.
– У меня действительно нет никакого желания встречаться с ней, – подтвердила я.
– Не слишком ли это? В конце концов, именно она свела нас вместе, – возразил Крэн.
Как это похоже на него, подумалось мне. Можно подумать, что единственной целью Белль было устроить нашу встречу! Я ничего не ответила, и Крэн продолжал:
– Белль многому научила тебя, и ты многим ей обязана – сама знаешь.
«И кроме того, ей хорошо за это заплатили», – подумала я, но вместо того, чтобы произнести это вслух, обвила руками его шею и сказала:
– То, что я узнала от Белль, это песчинка по сравнению с той горой знаний, которые я получила от тебя.
Как любой другой мужчина, Крэн с удовольствием проглотил эту наживку, а вместе с ней и крючок, и леску, и даже поплавок. Явно польщенный, он стал слабо протестовать:
– Но, Элизабет, в самом деле, с тобой ничего не случилось бы, если…
– Прошу тебя, Крэн, – я нежно прильнула к нему и крепко сжала его руку, – у меня действительно есть причины, по которым я не хочу видеть Белль. Пожалуйста, не настаивай. Меня расстраивает сама мысль об этом.
Крэн ненавидел плакучую иву, но не мог устоять перед вьющейся лианой. Когда я так нежно льнула к нему, крепкий цемент его солдатского характера сразу же оборачивался мягким воском. Так случилось и на этот раз.
– Конечно, я не стану заставлять тебя встречаться с ней, дорогая, просто я подумал, что, раз уж вы были такими близкими подругами… Впрочем, неважно. Я скорее сошлю ее в Тимбукту, чем огорчу тебя.
Я решила, что на этом вопрос исчерпан, но, как всегда, недооценила Белль.
Как-то раз, когда я не испытывала смягчающего действия джина уже на протяжении трех дней и потому находилась в отвратительном настроении, я поехала повидаться с Джереми. Он несколько удивился, но был все же рад видеть меня, тем более что я, приехав к нему с просьбой, старалась вести себя как можно обходительнее. Не желая ходить вокруг да около, я заявила:
– Мне нужна твоя помощь, Джереми. Выясни, если можешь, в какую сумму обойдется кров, одежда и еда в течение года для ребенка из бедной семьи. Когда ты сделаешь это, умножь результат на шестнадцать лет. Я приеду через две недели и хочу, чтобы к этому времени у тебя был готов ответ.
Джереми изучающе оглядел меня.
– Подумываешь усыновить сиротку, моя дорогая? – спросил он.
– Нет, – спокойно ответила я. – Так ты сделаешь то, что я прошу?
– Конечно, милочка, – кивнул он, – это для меня несложно.
– В таком случае увидимся через две недели, – скупо сказала я и оставила его сидеть за письменным столом с озадаченным видом.
Теперь, спустя годы, я со стыдом вспоминаю этот свой поступок – подобные вещи невозможно искупить даже за много лет. Через две недели я спросила Крэна, не сможет ли он отвезти меня к Джереми Винтеру, а потом дать мне карету, чтобы я могла ездить по своим делам.
– Ты уже устала от меня? – шутливо спросил он.
– Конечно, – с легкостью парировала я. – Я без ума от генерала Дрепера и хочу попробовать с ним.
Крэн зашелся от смеха, поскольку Дрепер был известен как самый занудный и уродливый мужчина в Лондоне, но вопросов больше задавать не стал. Джереми встретил меня изобилием фактов и цифр, закончив следующим заявлением:
– Общая сумма составляет 240 фунтов – расходы большие, и они, конечно, пробьют значительную брешь в твоем бюджете, так что я советую тебе серьезно подумать, прежде чем решиться на такой шаг.
Джереми выглядел явно озабоченным. Я окинула его ледяным взглядом.
– Я забочусь о будущем своей семьи. Разве не это долг хорошей дочери?
Джереми был на редкость умным человеком, поэтому он, видимо, угадал мои мысли. Его розовое личико побледнело, и он произнес:
– Элизабет, я не знаю точно, что ты задумала, но умоляю только об одном: обдумай все хорошенько. Почему бы тебе не поручить эту заботу мне? Помощь твоей семье могла бы быть не единовременной, а долгосрочной.
– Нет! – Я была непреклонна. – Это единственное удовольствие в моей жизни, лишить меня которого не вправе никто, – жутковато улыбнулась я.
– Ну пожалуйста, Элизабет, – умолял Джереми, уже не на шутку встревоженный.
Но я лишь отмахнулась от него.
– Так ты дашь мне денег или мне нужно обратиться к Крэну и сообщить ему, что ты утаиваешь их от меня?
Я, конечно же, блефовала, у меня не было ни малейшего желания, чтобы Крэну стало известно хоть что-нибудь о моей семье.
– Ну хорошо, – вздохнул он. – Но предупреждаю тебя, Элизабет: со временем ты очень пожалеешь об этом.
И я действительно пожалела.
Я высадила Крэна возле его клуба, а затем и впрямь съездила по нескольким делам, прежде чем отправиться в то место, которое являлось главной целью моих передвижений. Это было сделано, чтобы ввести в заблуждение кучера.
Рыбная улица была все такой же узкой и грязной, так же толпились оборванные мальчишки, глазевшие по сторонам, привычное зловоние ударило в нос – и ужас недавнего ночного кошмара вновь нахлынул на меня. Я вылезла из кареты, еще более укрепившись в своих намерениях. Испытывая злую радость, я толкнула дверь родного дома и вошла.
И отец, и сестра, и младшие – все они были там. К счастью, не было Джека, и я до сих пор рада, что его тогда не оказалось дома. Отец встал мне навстречу с улыбкой, которая, видимо, редко появлялась на его губах. Однако лицо его застыло, когда он увидел выражение моего лица. Подойдя к столу, я грохнула на него большой тяжелый саквояж, содержимое которого при этом громко звякнуло. Затем я развернула лист бумаги с выкладками, написанными рукой Джереми, и помахала им перед носом отца.
– Тут все, – сказала я. – Подсчитан каждый пенни, потраченный вами на меня с того несчастливого дня, когда я появилась на свет. Теперь вы можете забыть, – хотя я думаю, вы уже давно сделали это, – о том, что у вас когда-то была дочь. Я же с помощью Господа и этих самых денег могу забыть, что у меня когда-то была семья – такая, как вы.
Я не остановилась на этом и подробно изложила, что я думаю о «честности» так называемых честных бедняков. Я препарировала семейную жизнь моих родителей, безжалостно вскрывая все ее отвратительные гнойники. С красочными деталями и, надо сознаться, призвав на помощь богатое воображение, я описала, во что обходится моему телу каждый заработанный им соверен. По мере того, как я говорила, я заводилась все сильнее, монолог мой все больше становился похож на истерику. Я неистово поносила отца за то, что он сделал со мной, до тех пор, пока он не разрыдался, скрючившись на своем стуле и заткнув уши руками. Все остальные сбились в кучу, испуганные и ошарашенные моей тирадой. Но мне было не до них. Мишенью, в которую вонзалось мое жало, был отец – именно он, и никто другой. Наконец, обессилев, я умолкла. Отец был в полуобмороке, младшие дети хныкали.
За убийство человеческого тела карой служит виселица, но никого не наказывают за убийство души – именно то, что я совершила в тот вечер. Я убила, растоптала душу своего отца.
Уже не в силах продолжать, я поднялась и окинула взглядом все семейство.
– С сегодняшнего дня, – прошипела я, – вы никогда больше не увидите меня. Я не переступлю порог этой клоаки даже в том случае, если вы будете подыхать от голода или гнить от сифилиса. Что касается меня, то лично мне очень хотелось бы, чтобы вы сгнили – только этого вы, подонки, и заслуживаете.
С этими словами я ушла. Больше я никогда не видела отца живым.
Вернувшись домой, я была настолько измучена, что выглядела больной. Крэн разволновался и, когда я пожаловалась на легкий озноб, стал хлопотать вокруг меня, как заботливый отец. В эту ночь он оставил меня в покое. Я лежала в постели, и мне казалось, что отравлявшие меня в последние дни чувства – ярость, страх, неуверенность – наконец-то исчезнут и Я обрету покой. Однако это был самообман: я лишь немного придавила змею, но яд в крови остался.
На следующий день Крэн уехал в свои загородные владения, чтобы пару недель побыть с семьей. Обычно он посещал родных не реже раза в месяц, но в последнее время из-за того, что увлекся мною, не был там гораздо дольше. Я была ему благодарна за то, что он уезжает, поскольку мне очень хотелось побыть одной – наедине с бутылкой джина.
При активной помощи миссис Мур я провела два дня в глухом алкогольном мраке, снова и снова злорадно перебирая в памяти фразы, которыми я хлестала своих родных. Наступило утро третьего дня. К вечеру должен был вернуться Крэн, поэтому мне пора было завершать свою оргию.
С бутылкой и стаканом перед собой я сидела в гостиной и тихо плакала – джин, выпитый в достаточном количестве, способствует слезливому настроению. Внезапно дверь резко распахнулась, и на пороге появилась Белль. За ее спиной маячила озабоченная физиономия слуги.
Со слезами, все еще текущими по лицу, я вскочила на ноги и завопила:
– Кто посмел впустить эту женщину?! Прогоните ее отсюда!
– Не раньше того, как мы поговорим, – сказала она и, плотно закрыв дверь перед растерянным слугой, повернула ключ в замке.
– Мне нечего тебе сказать, – всхлипнула я. – Ты получила свою тысячу фунтов, а это, видит Бог, гораздо больше, чем один фунт человеческой плоти. Теперь оставь меня в покое, ты, жадная шлюха!
Подойдя поближе, Белль взяла со стола бутылку и попробовала ее содержимое.
– Так вот в чем дело, – протянула она. – Кто дал тебе эту мерзость? Отвечай, маленькая пьяная сучка! Уж наверное, не Крэн.
– Как ты смеешь так разговаривать со мной в моем собственном доме! – Моя апатия сменилась злостью. – Все, что я делаю, думаю или говорю, не имеет к тебе абсолютно никакого отношения. Если мне хочется пить джин по утрам, я буду его пить. А теперь проваливай. Проваливай восвояси!
Белль сбавила тон.
– Идя сюда, я хотела говорить о другом, но, видит Бог, это объясняет многое, и, как я понимаю, Крэн не имеет к этому никакого отношения. Я догадываюсь, кого следует благодарить за твое новое пристрастие.
Она дернула за веревку звонка, а я, рыдая, упала в кресло. Когда миссис Мур постучала в дверь, Белль рывком распахнула ее настежь.
– А-а, миссис Мур… – Голос ее рассекал воздух подобно стальному клинку. – Не соблаговолите ли вы приготовить крепкий кофе для своей хозяйки и немедленно принести его сюда! А после этого мы с вами побеседуем.
Служанка выбежала из комнаты, как перепуганная курица.
Повернувшись ко мне, Белль продолжала жестким голосом:
– Я получила записку от своей сестры и поэтому вчера вечером отправилась на Рыбную улицу, где узнала все о твоем «благотворительном визите». Зачем ты это сделала, Элизабет? Зачем ты обрушила на них все это, причем так безжалостно? Отец почти при смерти, полагаю, тебе об этом известно. Если тебе так хотелось излить на кого-нибудь свою злость, почему было не выбрать меня или Джереми? Да, кстати, у меня для тебя кое-что есть.
Открыв свою большую дорожную сумку, она вынула оттуда кожаный мешок.
– Твой отец, разумеется, не захотел оставить ни единого пенни из этих денег, но, учитывая то, как он плох, я убедила твою сестру взять втайне от него пятьдесят фунтов. Иначе только одному Богу известно, как им удастся выжить. За исключением этой суммы, все остальные деньги здесь. Думаю, ты должна быть очень довольна собой.
– Мне не нужны эти деньги, – отшатнулась я. – Они принадлежат им – вплоть до последнего поганого пенни. А если тебя так волнует их судьба, отдай эти деньги Джереми и пусть он возьмет на себя заботу о моем семействе. Или, может быть, ты захочешь оставить их себе в качестве дополнительной платы за услуги ангела-хранителя?
Белль, казалось, готова была ударить меня, но ей все же удалось взять себя в руки.
– Если бы я не чувствовала, что тут есть доля и моей вины, я пошла бы к Крэну и выложила ему всю эту мерзкую историю – от начала до конца, и пусть камни упали бы туда, куда должны упасть. Но поскольку я во многом чувствую ответственность за то, что случилось, – хотя, Господь свидетель, я хотела как лучше, – то буду держать рот на замке. Но мне до сих пор непонятно, почему ты это сделала и что означает вот это? – Она помахала перед моим лицом бутылкой с джином. – Неужели ты до такой степени ненавидишь Крэна? Неужели он так плохо с тобой обращается?
В ответ на это я отрицательно покачала головой.
– Что ж, слава Богу, что ты хотя бы не стала врать, – сказала Белль. – Потому что, насколько мне известно, Крэн влюблен в тебя, как восемнадцатилетний мальчишка, а мужчины не теряют головы из-за плохих любовниц или тех, кому они безразличны.
Я быстро трезвела, и слова Белль били по моим барабанным перепонкам подобно ударам грома.
– Так объясни же мне тогда, ради всего святого: что происходит?! – вскричала она. Мне казалось, что Белль никогда не оставит меня в покое, что этот допрос будет продолжаться до бесконечности, поэтому я решила избавиться от груза мучительных мыслей, переложив эту тяжесть на нее. И тогда я начала рассказывать: сначала о страхах, возникших у меня, когда я слышала крики через стену, затем об ужасе первых ночей с Крэном и страхе перед неизвестностью и, наконец, – о ночном кошмаре, который до сих пор преследовал меня.
Белль слушала меня, не прерывая, лицо ее было бледным и расстроенным.
– О, моя дорогая, – произнесла она голосом, в котором не осталось и следа гнева, – ты возложила на меня тяжкую ношу. Если ты хотела отомстить мне, можешь считать, что ты этого добилась – более страшной мести и придумать нельзя. Наверное, из-за той жизни, которую я вела, мои чувства притупились, если я вообще когда-нибудь была способна так чувствовать. Мне надо было понять, что ты другая, и если бы я поняла это вовремя, то, вероятно, никогда бы не поступила с тобой таким образом. Но что сделано, то сделано, и, мне кажется, некоторые из твоих страхов неоправданны.
После этого Белль с присущей ей мудростью стала говорить о возможностях, таившихся в той жизни, в которую меня так безжалостно вышвырнули.
Принесли кофе, и мы выпили его в молчании, а затем она продолжала:
– Мне кажется, что тебе не грозят ловушки этой жизни: ты умная девочка, и если перед тобой откроются какие-то иные дороги, – а я думаю, что так и случится, – ты, конечно, выберешь их. Вполне возможно, настанет день, когда ты повстречаешь честного – в полном смысле этого слова – мужчину, который захочет взять тебя замуж. Такое уже случалось с женщинами, подобными нам, и будет случаться впредь. А пока что ходи с правильных карт и береги свои деньги. В этом смысле за Джереми ты будешь как за каменной стеной. И кроме всего, повесь замок на свое сердце. Потому что, если ты хочешь быть в безопасности, ты должна пока забыть о любви.
При этих словах губы Белль предательски задрожали и скривились.
– Для таких, как мы, любовь – это непозволительная роскошь. И вот это тоже, – указала Белль на бутылку с джином. – Это не поможет нам в нашем нелегком ремесле и окажется как раз самой верной дорогой к тому, чего ты больше всего боишься.
Белль вынула часы.
– Когда должен вернуться Крэн?
– Около шести, – рассеянно ответила я.
– В таком случае собирайся: я забираю тебя на особую прогулку.
– Случайно не на Рыбную улицу? – обеспокоенно спросила я.
– Нет, – скривилась она, – твой приезд туда вызовет не радость, а боль.
Белль подобрала одежду для выезда в город и заставила меня переодеться. Уходя, мы прошли мимо миссис Мур, бесцельно возившейся около двери, но Белль, казалось, не обратила на нее внимания, а я потихоньку улыбнулась служанке – мне вовсе не хотелось терять такого союзника.
– Куда мы едем, Белль? – спросила я уже в карете.
– На Джин-аллей, – коротко ответила она. – Это всего лишь одна из пятидесяти совершенно одинаковых улиц в Сити, на которые я могла бы тебя повезти. Кстати, ведь именно миссис Мур приучила тебя к джину, верно? Можешь не отвечать, я и сама знаю. Это тоже моя ошибка, мне следовало все предусмотреть.
– Она только хотела помочь мне, – упрямо сказала я.
– Помочь! – фыркнула Белль. – Сейчас я покажу, что за помощь она хотела тебе оказать – кстати, очень неплохо на этом зарабатывая, уж поверь мне. Сколько она брала с тебя за одну бутылку?
– Десять шиллингов, – пробормотала я.
– А знаешь ли ты, сколько на самом деле стоит та пакость, которую ты пила? Два пенса за пинту.
Я была поражена.
– Думаю, она еще прилично клала себе в карман, мухлюя в отчетных книгах. Я обязательно посмотрю их, когда мы вернемся. А ты, я уверена, в них даже и не заглядывала, не так ли?
С несчастным видом я отрицательно покачала головой, и Белль раздраженно продолжала:
– Так я и думала. А ведь я знала, что Крэн тоже не будет этим заниматься. И все же, если бы дело ограничилось только этим, старую воровку еще можно было бы извинить, но то, что она сделала с тобой, – непростительно!
Знаешь, как действует она и ей подобные? Сначала присосется к тебе, подобно пиявке – до тех пор, пока ты не почувствуешь, что уже больше не можешь обходиться без нее. А она тем временем будет всячески поддерживать твою привычку к спиртному. Рано или поздно у тебя закончатся деньги или ты свяжешься с мужчиной, который захочет знать, куда уходит каждый твой пенни, – таких, поверь мне, предостаточно. Вот тогда она и сообщит тебе, что знает, как можно заработать деньги. Она скажет тебе, что один джентльмен положил на тебя глаз и что, если ты «окажешь ему услугу», то сможешь надолго себя обеспечить. Стоит тебе сыграть в эту игру хоть раз, и ты пропала. Предложения «оказать услугу» станут раздаваться все чаще, а твое пристрастие к джину и деньги, которые для этого нужны, превратятся в средство откровенного шантажа. Ты не успеешь и глазом моргнуть, как превратишься в дешевую проститутку, которая обслуживает десяток мужчин за ночь, а она станет твоей «мадам». Именно с помощью таких старых ведьм, как она, распутники находят своих жертв, а уж ей-то известны распутники во всех кругах общества. Именно этим все обычно и кончается, – сказала Белль, и карета остановилась.
Мы вышли на улицу – такую же отвратительную, как и Рыбная.
– Ты пойдешь с нами, – приказала Белль лакею, стоявшему на запятках. По грязным разбитым ступеням мы спустились в какой-то подвал.
– Это лавка, где продают джин, – прошептала мне Белль. – Они гонят его прямо в задних комнатах. А вот – конечный результат, – указала она на скамейки, где скорчились несколько старых уродин в разной стадии опьянения. Зрелище было жутким и омерзительным.
– Готова побиться об заклад, что ни одному из этих созданий еще не исполнилось и сорока. Хотя это и трудно из-за грязи, но кое-кого из них я узнаю – они даже моложе меня.
Несколько старых ведьм встали и направились к нам.
– Уйдем отсюда, пожалуйста! – взмолилась я.
– Достаточно насмотрелась? – осведомилась у меня Белль. – Ну ладно. Вильямс, брось им немного мелочи.
Слуга выполнил распоряжение хозяйки, и страшилища, издавая нечленораздельные звуки, подобно животным, сцепились на полу в попытках вырвать друг у друга жалкие монетки.
Всю дорогу до дома мы молчали. Белль доказала, что хотела, и говорить больше было не о чем. С тех пор я никогда больше не прикасалась к спиртному.
Когда мы вернулись домой, Белль вызвала насмерть перепуганную миссис Мур в кабинет, а я была предоставлена самой себе в гостиной. Меня обуревали невеселые думы. Я размышляла о том, как теперь будут складываться мои отношения с Крэном. То, что на протяжении последнего времени облегчало мне жизнь, теперь становилось недосягаемым и запретным – Белль собиралась избавиться от миссис Мур немедленно. Плакать тоже было нельзя – Крэн терпеть не мог слез и мог быть ужасен в гневе, поэтому я решила вернуться к тактике вьющейся лианы.
Наконец перед домом остановилась карста и в дверь, как всегда, ураганом ворвался Крэн. Я бросилась к нему в объятия.
– Крэн, дорогой, я так рада, что ты вернулся! Я так много хочу тебе рассказать!
Он пылко поцеловал меня, и я потащила его в гостиную.
– Крэн, я должна сделать тебе ужасное признание. Ты страшно рассердишься на меня. Я была такой дурой!..
– Ну ладно, – усмехнулся он, – переходи к делу. Сколько новых платьев ты купила? Или, может, ты взяла в дом какую-нибудь мерзкую комнатную собачонку?
– Нет, гораздо хуже.
– Гм-м… – Крэн сразу посерьезнел.
Крепко прижавшись к нему, я спрятала лицо у него на груди.
– Я обманывала тебя.
При этих словах Крэн напрягся всем телом, поэтому я торопливо продолжала:
– Ты не велел мне пить джин, а я все равно пила его, а сегодня утром приехала Белль… – я не стала пускаться в подробности, – и застала меня за этим, а потом она обнаружила, что миссис Мур грабит тебя, поскольку из-за джина я не следила за хозяйством как положено, и поэтому теперь все перепуталось, и виновата в этом только я.
Меня всю трясло в его руках. Отчасти эта дрожь была неподдельной, но отчасти – должна признаться – я использовала уроки мистера Артура. После признания в том, что мой обман заключался в употреблении джина, я почувствовала, как Крэн расслабился.
Отведя мою голову назад, он спросил:
– Белль все еще здесь?
Сейчас он больше чем когда-либо напоминал армейского полковника. Он смотрел на меня, а я широко раскрытыми глазами смотрела на него. Так нас и застала Белль, которая, появившись на пороге, воскликнула:
– Крэн, хвала небесам, наконец-то вы вернулись! Нам нужно поговорить.
– Мне тоже так кажется.
Когда они выходили, лицо Крэна было хмурым. Уже от двери он обернулся и увидел, что я сижу на кушетке, одинокая и всеми забытая. Тогда он решительно вернулся ко мне и произнес:
– Я совсем забыл сказать тебе, моя дорогая весна, что я страшно рад вновь оказаться дома.
Он поцеловал меня и вынул из кармана небольшую коробочку.
– Пусть вот это развлечет тебя, пока я буду заниматься делами.
В коробочке оказалась оправленная в бриллианты миниатюра, изображавшая Крэна в молодости.
Их, казалось, не было целую вечность. Наконец Крэн вернулся один, а за окном раздался звук отъезжающей кареты Белль. Я видела, что он до сих пор вне себя от бешенства. У Крэна было обостренное самолюбие, поэтому он очень болезненно реагировал, когда кто-то оставлял его в дураках, а миссис Мур занималась этим в его же доме. Он не мог простить ее. Крэн стал мерить комнату шагами, не замечая меня.
Спустя несколько минут я не выдержала.
– Что теперь будет? – жалобно спросила я, но ответа не получила. – Я ужасно себя чувствую из-за того, что оказалась такой дурой. Белль была права? Миссис Мур действительно жульничала с отчетными книгами?
Крэн хмуро кивнул.
– Да. Наворовала фунтов на сто. Белль настаивает на том, что именно она несет за это ответственность, поскольку наняла эту женщину, и хочет возместить ущерб. Почему, черт побери, – вдруг взорвался он, – ты позволила ей прибрать себя к рукам?! Уж, наверное, ты знакома с людьми подобного сорта.
– Нет, – спокойно ответила я, не обращая внимания на его гнев. – Я ничего не знала о людях подобного сорта. Белль пыталась сохранить мою «невинность», не рассказывая мне о многих вещах, боюсь даже – о слишком многих. В тот момент, когда мне был нужен друг, а рядом никого не было, миссис Мур проявила ко мне доброту. Она научила меня некоторым вещам, которые мне необходимо было знать. Что же касается джина, то после первого раза я сама просила ее об этом, так что, как бы ни были низменны ее намерения, я виновата не меньше нее. Поэтому, если ты собираешься се уволить, ты…
– Уволить? – заревел он. – Ее бы надо было бросить в Ньюгейт, эту мерзкую воровку! Ее счастье, что Белль уговорила меня не делать этого. Поскольку она собирается возместить ущерб, я уступил ей. Такие, как миссис Мур, должны быть стерты с лица земли, и чем скорее, тем лучше.
Крэн подошел и сел возле меня. Он смотрел на меня с некоторой опаской, словно собираясь задать вопрос, ответ на который боялся услышать.
– Тебе приходилось пить джин из-за меня? Неужели все это, – он неопределенно повел в воздухе рукой, – так для тебя отвратительно? Я спрашиваю потому, что если это так… – и Крэн замолчал, не в силах продолжать.
– Крэн… – мягко начала я, сидя по-прежнему на некотором расстоянии. Я пока сознательно избегала малейших проявлений ласки, хотя видела, как ему этого хочется. – Подумай сам: сколько раз на прошлой неделе ты оставлял меня одну хотя бы на несколько минут?
– По-моему, раза три или четыре, – пробормотал он.
– И какой я была все это время?
– Ты была такой, как обычно. – Его лицо немного смягчилось.
– Если ты это признаешь, то сам должен понять, что в эти дни мне не было никакой нужды накачиваться джином.
– Да, я признаю это.
Он уже почти улыбался.
– Так как же ты можешь думать, дорогой мой, что мое пристрастие к джину имеет хоть какое-то отношение к тебе! Когда ты находился рядом со мной, это было все, что мне нужно, потому что с тобой я чувствовала себя надежно и безопасно, я любила и была любима. Только когда ты уезжал от меня, во мне начинали расти всякие страхи, не имеющие к тебе никакого отношения, и вот тогда я чувствовала необходимость в джине. Белль сегодня доказала мне, какой я была глупой и в отношении страхов, и в отношении джина. Я могу попросить у тебя прощения за свою глупость, но никогда я не думала плохо о тебе. – С этими словами я протянула к нему руки. – Разве ты не знаешь, как я отношусь к тебе? Если тебе этого мало, если помимо меня ты нуждаешься в чем-то еще…
Крэн схватил меня и крепко поцеловал.
– Ты все, что мне нужно, и даже гораздо больше того. Для меня была невыносима сама мысль о том, что у нас ничего не получится. Если ты повела себя глупо, то что же говорить о нас с Белль! Мы вознесли тебя на пьедестал богини Весны и Невинности, а сами стали ждать, что ты будешь вести себя, как богиня Мудрости. Дураками оказались именно мы.
Не выпуская меня из объятий, он спросил:
– Тебе понравилась миниатюра?
– Очень, но ты нравишься мне больше таким, как сейчас.
Глаза Крэна блеснули.
– Это был верный ответ, и в награду я приглашаю тебя на ужин. Давай забудем все неприятности. А после возвращения я преподам тебе пятую главу второго урока. Или она будет уже шестой? А ты будь повнимательнее.
Как и всегда, Крэн сдержал свое слово.
8
Крэн был усердным учителем. Для мужчины его возраста, а к тому времени, когда началась наша связь, ему уже стукнуло пятьдесят, он обладал на удивление могучей потенцией. В то время мне еще не с кем было его сравнивать, и это меня не особенно удивляло. Только потом я поняла, насколько он отличался от других мужчин. Впоследствии я часто думала о том, каким он был в молодости – его жена, вероятно, не знала ни минуты покоя и даже, может быть, испытала облегчение, когда, сделав ей четырех дочерей, он устремил свой ненасытный аппетит на сторону.
Его познания в области любовных утех были безграничны. У Крэна было много иллюстрированных книг, в которых описывались всевозможные способы любви, и он часто требовал, чтобы мы воспроизводили в жизни то, что было изображено на гравюрах. Иногда эти попытки приводили к поистине смехотворным результатам, и мы оба разражались беспомощным, но искренним хохотом. Иногда я начинала протестовать, когда тот или иной рекомендуемый способ казался мне противоестественным – особенно тогда, когда предлагалось воспроизводить нормальные позы «с точностью до наоборот». Однако Крэн всегда отбрасывал мои возражения в сторону.
Главный его довод заключался в том, что слияние мужчины и женщины должно приносить им обоим самое большое наслаждение в жизни, а потому абсолютно все, что бы они ни делали для достижения этой цели, может считаться оправданным. Он был моим единственным учителем в этой области, и в то время мне ничего иного не оставалось, как соглашаться на все его причуды. Только потом я поняла, насколько необычным был этот его подход к любви. Даже сейчас, спустя много лет, общество все еще не приемлет таких взглядов.
Как бы то ни было, первый год нашей связи вспоминается мне как время бесконечных экспериментов. Иногда Крэн впадал в раж и после ухода слуг обнаженный гонялся за мной по всему дому. В такие минуты он удивительно походил на огромного волосатого сатира, я же была робкой нимфой. Настигнув, он неистово бросался на меня, как Бахус на нимфу, и овладевал мною похотливо и с криками. Иногда он бывал таким нежным и предупредительным, как сам Казанова, подолгу лаская каждую чувствительную точку моего тела и медленно доводя нас обоих до высшего наслаждения.
Как это ни странно, но при всем своем умении ему никогда не удавалось подарить мне полного счастья. Очень часто, когда он уже спал, я лежала без сна, испытывая странное чувство неудовлетворенности. Может быть, это объяснялось тем, что в пору нашей с Крэном связи мое тело еще не окончательно созрело, а может быть, разгадку надо было искать в другом: я еще не знала подлинной любви, а без нее, мне кажется, полное удовлетворение для женщины невозможно. Мне удалось испытать истинное наслаждение гораздо позже, когда я встретила свою настоящую любовь.
Занятия любовью были, разумеется, не единственной наукой, которую преподал мне Крэн. Вместе с ним я впервые по-настоящему вышла в свет. Белль, конечно, научила меня кое-каким вещам, которые помогли мне на первых порах, однако, чтобы успешно обходить все мели и рифы светской жизни, мне еще предстояло учиться и учиться. Когда мы начали посещать различные вечеринки, я старалась держаться поближе к Крэну и зорко, словно ястреб, следила за тем, как себя ведут, что говорят и делают остальные. Сама я говорила очень мало. Со временем я начала обмениваться замечаниями со своими соседями по столу или партнерами по танцам, с удивлением замечая, что мои высказывания нравятся им, а шутки заставляют смеяться. Постепенно я испытывала все большую уверенность в себе, расширяя круг собеседников. Теперь, издалека, все это кажется несерьезным и глупым: действительно, чего мне было опасаться? Но все шло хорошо, и Крэн, которому нравилось быть в центре внимания, всячески воодушевлял меня на этом поприще.
Примерно в то время меня стали называть Прекрасной Элизабет. Думаю, это пошло от пьяных офицеров, которые, отвечая на вопрос своих приятелей относительно меня, презрительно говорили: «Это Элизабет Белль[9]». Их такие же пьяные, но более грамотные дружки переделали это в Прекрасную Элизабет. Это прозвище прилипло ко мне, и я не очень возражала против него. В какой-то степени оно даже льстило мне, ведь я никогда не была писаной красавицей. Но мужчины обычно видели во мне именно то, что им хотелось видеть.
Живя с мужчиной бок о бок долгое время, вы постепенно узнаете о нем все: все его сильные и слабые стороны, привычки, пристрастия. К своему удивлению, я выяснила, что Крэн был не очень уверен в себе и не очень умен. Правильнее сказать, он был тугодумом, из-за чего, находясь в компании, оказывался в незавидном положении, поскольку там требовались быстрая реакция и умение моментально парировать словесные выпады. Чтобы компенсировать этот свой недостаток, Крэн выработал особый тон в общении с людьми разного положения: по отношению к нижестоящим это было высокомерие, в общении с равными – обаяние и веселый нрав, с теми же, кто стоял выше его, – почтительность. Крэн был ужасным снобом и предпочел бы общество какой-нибудь скучной графини компании интересных сослуживцев. Если его вызывали ко двору или в кабинет к кому-то из королевских чиновников, его переполняла гордость, он обожал козырять именами известных людей. Многие из них были бы изумлены, если бы кто-то сообщил им, в каких тесных отношениях они состоят с полковником Картером.
Я же в отличие от Крэна моментально схватывала суть дела и умела быстро и остроумно отвечать. Поэтому скоро я стала выступать в качестве его прикрытия во время светских бесед. Это позволяло ему выглядеть умнее, чем он был на самом деле. Думаю, он вскоре заметил это, и, хотя вслух никто из нас эту тему не затрагивал, он, бесспорно, ценил мои усилия. Видимо, под конец нашей связи, когда моя физическая привлекательность уже потеряла для него прелесть новизны, он продолжал хранить мне верность именно из-за этого.
Причиной постоянного беспокойства являлась для меня его обостренная гордость. Он постоянно вызывал мужчин на дуэль, и после третьей я задумалась, как могла выносить такое его жена на протяжении тридцати лет. Тем не менее он очень редко обижался всерьез и получал огромное удовлетворение, когда его соперник, струсив, приносил ему свои извинения. Поэтому со временем я перестала тревожиться, став относиться к этому как к одной из многих опасностей, которые таит в себе жизнь.
Крэн гораздо больше заботился о том, что называл «делами чести», чем о своих долгах, из которых не вылезал и о которых, похоже, иной раз полностью забывал. Деньги для него не значили ровным счетом ничего, он сорил ими направо и налево так, словно имел собственный ключ к монетному двору. Все мужчины, которые у меня были, временами дарили мне драгоценности, но Крэн буквально осыпал меня ими, и это помимо оплаты счетов за мои платья и шляпки, которые никак не назовешь скромными. Я пыталась протестовать, зная, как наседают на него кредиторы, но он в таких случаях разражался криком:
– Мои владения невозможно продать – они могут быть только переданы по наследству, а у меня нет сына, который мог бы наследовать их. И черт бы меня побрал, если я оставлю хоть пенни в наследство своему сладкоголосому кузену!
На этом все и заканчивалось.
Если Крэну переходили дорогу или он бывал чем-то расстроен, он рвал и метал, носясь по дому, как раскапризничавшийся избалованный ребенок. Но эти приступы ярости были похожи на летнюю грозу, когда гремит гром, сверкают молнии, но уже через несколько минут небо вновь становится ясным. При этом я слышала, что Крэн – прекрасный солдат, которого обожают подчиненные, хотя он и насаждал у себя в полку железную дисциплину. Он был храбр как лев и отличался полным отсутствием воображения.
Если на первом месте у Крэна стояла служба, – а он был солдатом по призванию, – то второе место в списке его пристрастий занимал спорт. Он был готов охотиться на что угодно и стрелять по всему, что бегает или летает. Именно сопровождая его во время охотничьих выездов, я впервые почувствовала вкус к загородным экспедициям. Ему по преимуществу нравились грубые виды спорта. Единственное, что всегда удивляло меня, учитывая его эксцентричный характер, это то, что он никогда не играл в азартные игры. Он любил скачки и прекрасно разбирался в лошадях, часами рассуждая об их породах и родословных. В то же время, если бы Крэна попросили перечислить королей и королев Англии, у него бы это ни за что не получилось.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что книги никогда не являлись для Крэна предметом первой необходимости. Я не могу вспомнить, чтобы хоть раз застала его с книгой в руках, а кабинет был для него всего лишь комнатой, где хранились кипы счетов. Однако в юности у Крэна был учитель, который пичкал его классикой, и кое-что из нее до сих пор сохранилось в его памяти. Как пошутил однажды Нед Морисон, «у Крэна имеется избитая цитата на каждый случай, даже для постели».
Таков был Крэн – человек без малейших признаков возвышенного, которого было трудно ненавидеть и которым было легко увлечься.
Прошло время, и мы уже исследовали все закоулки любовных утех. То, что когда-нибудь его физический интерес ко мне пойдет на убыль, было неизбежным, поскольку ничто не могло поддерживать такую неукротимую страсть на протяжении долгого времени. И хотя теперь Крэн иногда не приходил ночевать, он никогда не демонстрировал при мне своих новых увлечений и ни разу не привел в дом другую женщину, когда там находилась я. В конце 1796 года я была абсолютно уверена, что он вежливо разорвет наши отношения, но однажды ко мне пришел Джереми с известием, что Крэн, связавшись с ним, заявил о своих намерениях продолжить наши отношения, если я не стану возражать, еще на один год. Что ж, если я теперь и не являлась для него центром мироздания, он по крайней мере не торопился найти мне замену.
Не могу не вспомнить об одном событии, происшедшем на втором году нашей с Крэном совместной жизни. Мы в то время находились в Бате.[10] Белль подписала контракт с Недом Морисоном, который бесконечно развлекал ее, и мы все вчетвером арендовали один дом. Крэну пришлось отлучиться в Лондон по каким-то семейным делам, и когда он вернулся, то выглядел расстроенным и озабоченным.
Сначала я подумала, что его настроение связано с военными новостями, которые были плохи, как никогда. Если в 1794 году Англия объединилась против Франции с половиной Европы, то теперь, в 1797-м, ей одной приходилось противостоять растущей мощи Бонапарта. Под угрозой находились уже сами наши берега. Однако могло ли все это служить объяснением тому, что в течение целых трех дней после своего возвращения Крэн не прикоснулся ко мне даже пальцем? Не на шутку встревожившись, я отправилась к нему.
– Что случилось, Крэн? Я чем-то рассердила тебя?
– Нет, цветочек, я на тебя не сержусь.
– Тогда в чем же дело? – настаивала я. – Ты ведешь себя так странно!
Крэн смущенно засмеялся.
– Что ж, если хочешь знать, могу сказать тебе, что так будет продолжаться еще несколько недель. Честно говоря, приехав в Лондон, я как-то вечером отправился в «Воксхолл» и повалялся там с одной шлюшкой. А теперь я узнал, что эта маленькая грязная сучка наградила меня триппером. Чтобы вылечиться, мне понадобится несколько недель, и если я прикоснусь к тебе раньше этого времени, то ты от меня заразишься – так мы и будем передавать друг другу этот «подарочек». Видишь, какую высокую цену мне приходится платить за свои грехи – не прикасаться к тебе, а это очень трудно. Поэтому нам не остается ничего другого, как только пожить некоторое время в разных комнатах.
Я была и удивлена, и расстроена, а Белль, которой я пересказала наш разговор, страшно рассердилась.
– Как это глупо со стороны Крэна! Уж в его-то возрасте можно быть хоть немного осторожнее! Все это кончится тем, что он полностью разрушит себя как мужчину. Как бы то ни было, я ему не доверяю. Сейчас он преисполнен благими намерениями, но если выпьет, то обязательно полезет к тебе в постель – тут-то и начнутся неприятности. На твою дверь необходимо поставить задвижку.
Белль проследила, чтобы так и сделали, но Крэн вскоре это заметил. С любопытством потрогав задвижку пальцем, он закрыл ее и подергал дверь, а затем с улыбкой повернулся ко мне.
– Несомненно, идея Белль.
Я улыбнулась в ответ.
– Если бы я на самом деле решил к тебе войти, эта штуковина задержала бы меня ровно на пять секунд. Если сейчас ты запрешь дверь за мной, я докажу это и заодно пугану Белль. Это научит ее, как не доверять мне.
Смеясь, я пыталась протестовать, но Крэн велел мне делать так, как он сказал. Я закрыла за ним дверь и заперла ее на задвижку, а он через пару секунд ударил в нее плечом. После второго удара вылетела вся дверная коробка и вместе с дверью в комнату ввалился Крэн. На грохот невесть откуда прибежала Белль – с побледневшим лицом и плотно сжатыми губами. Крэн сидел на полу и, увидев ее, расхохотался.
– Ах, Белль, сифилис тебя забери, почему ты лезешь куда не следует! Ты должна мне доверять!
– Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы доверять тебе до такой степени, – холодно ответила она. – А что касается сифилиса, то его и так слишком много вокруг, чтобы еще и друг другу желать. Еще один такой фокус, сэр, и я выгоню Неда, а Элизабет заставлю спать с собой.
– И все же ты не права, – щелкнул языком Крэн. Он действительно умел держать свое слово и ни разу не причинил мне вреда.
От Крэна я узнала еще одно неписаное правило жизни. Однажды мне зачем-то понадобилось войти в его комнату. На столике возле кровати я увидела пять миниатюр: четыре юные девочки, удивительно похожие на Крэна, и седовласая женщина средних лет – его жена. Я знала, что она унаследовала состояние своей знатной семьи и Крэн с присущим ему благородством наотрез отказывался прикоснуться хотя бы к одному пенни из этих денег, как бы ни наседали на него кредиторы.
Пока я изучала портреты, вошел Крэн.
– Какие чудесные у тебя девочки, – радостно сказала я, – и какая милая жена! Разве можно разлюбить такую!
Крэн подошел к столику, собрал миниатюры и спрятал их в ящик. Он выглядел недовольным.
– А я и не разлюбил ее, – холодно ответил мне он. – Сейчас я люблю и ценю ее еще больше, чем когда женился на ней, и это будет длиться до конца моей жизни.
– Но почему же тогда ты отослал ее в деревню и уделяешь ей так мало времени? – продолжала глупо допытываться я.
Теперь Крэн уже превратился буквально в глыбу льда.
– Моя жена – благородная леди, она понимает меня так, как ни одна женщина вроде тебя никогда понять не сможет. Поскольку моя жизнь и пристрастия принуждают меня жить в довольно сомнительном окружении, которое было бы ей в тягость, мы договорились проводить большую часть времени порознь. Это не значит, что я стал ее меньше ценить, хотя, конечно, в моей жизни есть и другие женщины.
Поскольку тебе о моих отношениях с женой неизвестно ровным счетом ничего, – надменно продолжал он, – я надеюсь, что мы больше не будем затрагивать эту тему никогда!
С этими словами Крэн вышел. После этого я не видела его в течение двух дней.
Я поняла, что муж может говорить о жене, жена – о любовнице, но любовницы никогда не должны говорить о женах.
Однако такие неприятные сцены между мной и Крэном случались крайне редко. Жизнь наша была веселой и наполненной людьми. Мы оставались дома только тогда, когда нам хотелось развлечься вдвоем, а все остальное время нас окружала счастливая и без умолку болтающая толпа. На самом деле ситуация в стране отнюдь не располагала к веселью: Бонапарт уже в открытую угрожал нам, и по ту сторону Пролива собиралась его «английская армия», готовясь к большому вторжению. Все ждали, что вот-вот разразится гроза.
Но, глядя на развлекавшихся английских военных и их женщин, вы решили бы, что их не заботит ничто на свете. Вот и я плыла по течению, довольная тем, что Крэн продолжает любить меня, не думая, не осмеливаясь задуматься о будущем.
Конец наступил внезапно. Стояла поздняя весна 1798-го. Крэн был занят целыми днями. Однажды он вернулся домой угрюмым.
– Элизабет, нам надо поговорить. Пойдем в гостиную.
Я последовала за ним, перебирая в уме все свои проступки, которые могли рассердить его.
Крэн подождал, пока я закрою дверь, и затем произнес:
– Плохие новости. Я давно ожидал этого, и вот – свершилось. Мой полк направляют за границу. Вскоре мне придется уехать.
Ноги у меня подкосились, и я бессильно опустилась на кушетку.
– Куда? – спросила я слабым голосом.
– В Индию, на подкрепление нашим войскам.
– В Индию? – не веря своим ушам, переспросила я. – Но ведь в Индии нет французов…
– Французов как таковых нет, – мрачно подтвердил он, – но Наполеону удалось взбунтовать местных правителей, и если мы не усмирим эти беспорядки как можно скорее, то потеряем Индию, которая имеет для нас огромное значение.
Наполеон… Именно тогда мрачная тень этого человека впервые коснулась моей жизни.
– Когда ты уезжаешь? – с трудом спросила я.
– Мы отплываем в начале июня, но до этого я должен хотя бы месяц пробыть с семьей. Это значит, что у нас с тобой осталось не более двух недель.
«Две недели – и он уедет!» – в отчаянии подумала я. Крэн подошел и, обняв меня, поцеловал в лоб.
– Я не хотел, чтобы наша жизнь закончилась вот так, моя весна, но мы не вольны выбирать.
Я молчала, прижавшись к нему, а он перебирал мои локоны.
– В последнее время я много думал о твоем будущем, Элизабет. Есть один человек, на попечение которого я хотел бы тебя оставить. Он сходит по тебе с ума с тех пор, как впервые увидел, и поскольку это хороший человек и мой большой друг, – все знакомые Крэна были его «большими друзьями», – я хотел бы, чтобы вы познакомились.
– Кто же он? – без всякого интереса осведомилась я.
– Сэр Генри Рашден, – с надеждой в голосе сказал Крэн.
– Сэр Генри Рашден? – изумилась я. Это был пожилой человек, который не пропускал ни одной юбки и постоянно пытался лапать и щипать нас. Кроме того, я никогда не замечала, чтобы он был увлечен мною.
– Да, Генри не очень привлекателен, – торопливо продолжал Крэн, – но ты его совсем не знаешь, а я знаю, и очень хорошо. Года два назад он потерял жену – она уже несколько лет была прикована к постели. Говорят, пока она была жива, он вообще не смотрел на других женщин. После ее смерти Генри пытается наверстать упущенное, но он человек принципов, и ему самому не нравится такая беспорядочная жизнь. Жениться он больше не хочет, однако ему нужна постоянная женщина, которая скрасит его жизнь лаской.
Хотя Крэн и старался изо всех сил произвести на меня впечатление, его слова звучали не слишком убедительно.
– Он очень умен, ты сама это знаешь, он бригадный генерал, хоть и не на действительной службе. Он является советником военного министерства по вопросам тактики, вооружений и прочего. Очень умный человек, и, конечно, ему не грозит отправка за границу. Ты понимаешь, Элизабет, что по теперешним временам, когда большинство из нас в любую минуту могут куда-нибудь отправить, это очень важное соображение. Он довольно богат, у него загородное имение в Суссексе, да и в городе отличный дом.
Он замолчал, с надеждой глядя на меня. Бедный Крэн, мой бедный дорогой Крэн!
– Я ничего не имею против сэра Генри, – мрачно сказала я, – но что-то никогда не замечала, чтобы он особенно мною интересовался. Ты случаем не убедил себя в этом сам, Крэн?
– Нет, – пылко ответил он, – когда Генри узнал, что я уезжаю, он сам подошел ко мне с этим. Он буквально сходит по тебе с ума, говорит, что ты чудесная, прекрасная девушка. И считает тебя очень умной, – наивно добавил он.
– Ну что ж, – вздохнула я, – мне не хочется даже и думать об этом, но, похоже, придется. Я поговорю с Джереми, и, если сэр Генри захочет приступить к переговорам, пусть обращается к нему.
Я обняла Крэна за шею.
– Ты знаешь, что мне никто не нужен, кроме тебя. Любой другой не будет значить для меня ровным счетом ничего, но если ты настаиваешь, чтобы я была с ним, что ж – я подумаю об этом.
– Моя дорогая, мне больно представить тебя в объятиях другого, но что же я могу поделать? По крайней мере я буду знать, что ты в хороших руках и он обращается с тобой как подобает. Больше мне нечего сказать.
– Крэн, у нас осталось две недели, давай не будем омрачать их, думая о расставании, – прошептала я. К горлу подступили слезы, но в этом доме они были запрещены. – Оставим все эти хлопоты Джереми.
Так мы и сделали.
9
Две недели пролетели быстро, слишком быстро. В то, последнее, утро мы с Крэном почти не разговаривали: все было уже сказано, теперь у каждого оставались лишь воспоминания. Наконец подали коляску – отправляясь в деревню, Крэн собирался править сам. Он обнял меня и, проведя пальцами по моему лицу, произнес охрипшим от волнения голосом:
– Ты знаешь, что мне не хочется покидать тебя, Элизабет. Ты снова подарила мне весну, хотя я думал, что мне уже не суждено ее увидеть, и я очень полюбил тебя.
Мы стояли у двери, был теплый весенний день, но Крэна сотрясала дрожь.
– Когда весна уходит, как быстро наступает осень! – Крэн поцеловал меня и добавил: – Прощай, любовь моя, и не смей плакать обо мне.
Он заглянул в мои глаза и, увидев, что, несмотря на его приказ, они были полны слез, быстро прыгнул в коляску. Я послала ему воздушный поцелуй, он хлестнул лошадей и, обернувшись, крикнул:
– Я вернусь к тебе, моя весна!
Я думаю, в ту минуту он сам верил своим словам. И вот он уехал. Его великолепный военный плащ багрово-золотым пятном развевался вдоль серой предрассветной улицы. Это мое последнее воспоминание о Крэне. Больше мне не суждено было увидеть его.
Не видя ничего перед собой, я поплелась в дом. Раньше неуемный Крэн целиком наполнял его жизнью, и теперь комнаты казались на удивление пустыми, словно все ушло отсюда вместе с ним. Слуги сновали мимо меня подобно серым призракам, а я, сама похожая на призрак, бесцельно слонялась из комнаты в комнату.
Наконец я села в маленькой гостиной, дав волю слезам. «Я любила его, а он ушел. Я любила его, и вот он потерян для меня», – так, вопреки воле Крэна, я оплакивала его, и такой – в луже слез – застал меня Джереми, вошедший в комнату с моим будущим в виде аккуратной стопки листков, зажатых под мышкой.
Хотя с такой клиентурой, какая была у него, Джереми должен был обладать большим опытом утешения представительниц противоположного пола, в действительности все обстояло не так. Позволив мне поплакать у себя на плече, он перевел на меня огромное количество носовых платков, которые доставал из самых неожиданных мест. Но если не считать редких похлопываний по плечу, которые, вероятно, должны были служить знаками утешения, он вел себя так, будто меня и не было рядом. Он процитировал несколько монологов Шекспира, прочел мне лекцию о тревожном состоянии национального долга, проанализировал политику Питта[11] и выступил с короткими рецензиями на некоторые из последних театральных постановок. Если бы я не была так расстроена, все это могло бы даже показаться интересным.
Наконец, всхлипнув последний раз, я растянулась на кушетке в полном изнеможении.
– Вот так-то лучше, – ободренно сказал Джереми. – Теперь я понимаю, почему Крэн не выносил женских слез. – При одном упоминании этого имени я готова была вновь разразиться рыданиями, но Джереми сделал страшное лицо и сжал свои маленькие ручки.
– Нет, пожалуйста, только не это! Слез на сегодня вполне достаточно. Тем более что ты не единственная моя клиентка и прекрасно это понимаешь. Я не могу сидеть тут целый день, к тому же насквозь промокшим – в моем возрасте нужно опасаться воспаления легких.
Всерьез это было сказано или Джереми пытался меня развеселить, но слова его прозвучали так нелепо, что я невольно улыбнулась сквозь слезы.
Он тоже ответил мне улыбкой.
– Белль собирается на несколько дней в Брайтон,[12] и я бы посоветовал тебе отправиться с ней. Там нет ничего, кроме чудесных каменистых пляжей и эдакого мокрого моря, в котором ты сможешь утопить все свои печали. Я считаю морские купания одной из наиболее отвратительных привычек, но это тоже нужно попробовать хоть один раз – как и все остальное в нашей жизни. Сейчас мы покончим с делами, и ты сможешь совершенно спокойно уехать.
Он взял в руки стопку листков и, подводя черту под прошлым, стал намечать пути, которыми отныне должна была следовать моя жизнь.
– На сегодняшний день твое состояние составляет 1400 фунтов, не считая драгоценностей, которые стоят по крайней мере еще 1500 фунтов. Таким образом, ты владеешь примерно тремя тысячами фунтов стерлингов.
– По-моему, не так уж много, – вздохнула я. За прошедшие два года мои представления о том, что такое много и мало, сильно изменились.
– Более чем достаточно, чтобы купить домик в Айлингтоне, – лукаво заметил Джереми.
Значит, ему известно и об этом. Я смерила Джереми ледяным взглядом. Теперь, когда я смотрела на те дома в Айлингтоне, они казались мне такими же грязными и убогими, как и на Рыбной улице, поэтому мы с Крэном тоже частенько посмеивались над моей детской мечтой. Но это было позволено только Крэну и никому больше.
С минуту я молча смотрела на Джереми, а потом холодно спросила его:
– Ты слышал о сэре Генри Рашдене?
– О да, – ответил он. – Именно об этом я и хотел поговорить. Сэр Генри весьма заинтересовался тобой, хотя, надо признаться, это чрезвычайно осторожный человек. Тем не менее он предлагает аванс в размере тысячи фунтов, что весьма неплохо по нынешним временам. Кроме того, он готов выплачивать тебе шесть фунтов в неделю все время, пока продолжаются ваши отношения, а они, добавлю от себя, будут продолжаться до конца его дней или до тех пор, пока ты сможешь его терпеть. Что же касается оплаты твоих счетов, то сэр Генри настаивает на том, чтобы были соблюдены внешние приличия. Поэтому он официально предлагает тебе место его домоправительницы и вместо оплаты счетов будет ежегодно выплачивать дополнительно двести пятьдесят фунтов на эти цели.
Джереми сухо откашлялся.
– Могло быть гораздо хуже, Элизабет. Вся эта маскировка с должностью домоправительницы вызвана, по-моему, только одним: он боится, как бы его сын – кавалерийский офицер – не был шокирован тем, что его папаша завел себе любовницу. Согласись, необычно по нашим временам.
Я согласилась, поскольку большую часть кавалерийских офицеров, которых мне приходилось встречать, вообще ничем невозможно было шокировать.
– Ну и что ты обо всем этом думаешь? – чирикнул Джереми.
– Да ничего я не думаю, – был мой усталый ответ. – Так захотел Крэн. В соглашении что-нибудь говорится о том, где я буду жить и так далее?
– Да, – брюзгливо ответил Джереми. – Мне следовало упомянуть об этом раньше. У сэра Генри имеются владения и в Лондоне, и за городом, а поскольку жены у него нет, ты будешь одинаково свободно чувствовать себя и там, и здесь. Ты сможешь завести личную служанку по собственному выбору, а если не захочешь, то будешь пользоваться услугами тех, которые уже наняты. Ну, что скажешь?
– Джереми, что мне говорить? – вздохнула я, и перед моим мысленным взором снова промелькнуло багрово-золотое пятно. – Что я могу сказать, кроме «да»?
Вместе с Белль я отправилась в Брайтон, который в то время только становился модным. Море было синим, пляж – каменистым. Мы познакомились со множеством людей. Кажется, мы болтали с ними, ужинали, танцевали. Честно говоря, я не помню. А в середине мая 1798 года я вернулась в Лондон, на Бельгрейв-сквер, 10, оказавшись в объятиях сэра Генри Рашдена. Когда я легла в постель с другим мужчиной, Крэн все еще находился в Англии.
В 1798 году мне было двадцать, а сэру Генри – пятьдесят семь. В отличие от Крэна, который носил свои годы словно мальчишка и по сути таковым являлся, сэр Генри был очень старым 57-летним человеком. Возможно, в юности он и был симпатичным, но к тому времени, когда я с ним познакомилась, на голове его красовалась обширных размеров лысина в обрамлении жиденьких светло-песочных волос, лицо сплошь состояло из обвисших складок, нос был большим и крючковатым, а рот – маленьким. Только в глазах – непонятного зелено-карего цвета – сохранилось мальчишеское выражение. Он был худ как жердь, а тело его заросло густой шерстью.
Не стану врать, что первые наши дни были хоть сколько-нибудь приятны. Да, он действительно страстно жаждал моего тела. Жаждал, но… не мог. Даже пуская в ход все ухищрения, которым научил меня Крэн, мне было трудно доставить сэру Генри более или менее ощутимое удовлетворение, а когда ему все же удавалось кончить, он падал поперек меня и лежал, не в силах двинуться, задыхаясь, как кит, выбросившийся на сушу. Все это было печально, поскольку он действительно хотел меня. Обычно он залезал в постель и дрожал за моей спиной, словно кобель, подбирающийся к течной суке. Затем прижимался ко мне и неумело пытался что-то сделать – до тех пор, пока я не начинала испытывать желание закричать от отвращения и растерянности. Я возненавидела сам запах этой старой плоти, ее дряблость. «До тех пор, пока ты сможешь его терпеть», – сказал мудрый Джереми. Я решила, что терпения моего надолго не хватит.
Однако Крэн оказался прав: Генри Рашден действительно был чутким и мудрым человеком. Как-то утром через три недели после того, как я стала его «домоправительницей», он позвал меня к себе в кабинет. Наверное, это случилось на следующий день после того, как Крэн покинул Англию.
– Садитесь, моя дорогая, – сказал он. – Думаю, пришло время нам обстоятельно поговорить.
Я села. Некоторое время он перекладывал бумаги на своем письменном столе, явно не зная, с чего начать, затем раз или два прокашлялся и наконец нетерпеливым жестом придвинул стол ближе к себе.
– Боюсь, я не очень силен в таких делах – слишком мало опыта, – начал он чуть охрипшим голосом, сомкнув руки и положив их перед собой. – Мне хорошо известно, как дорог вам был полковник Картер. Это вовсе не заставляет меня думать о вас хуже – им действительно очень просто увлечься.
При упоминании имени Крэна у меня перехватило дыхание. В горле встал ком, а глаза заволокло пеленой.
– Вы многим обязаны ему. Я сам наблюдал, как под его покровительством вы на протяжении последних двух лет выросли из застенчивой и неуклюжей девочки в блестящую и умную молодую особу. Я понимаю, что по сравнению с ним представляю собой жалкое зрелище – скорее даже неприятное, хотя мы с полковником примерно одного возраста.
На самом деле Крэн был на пять лет моложе его.
– Время обошлось с ним милостиво, а вот на меня наложило тяжкий отпечаток. – Сэр Генри взглянул на свои сомкнутые руки, и его следующие слова удивили меня: – Вы, наверное, знаете, что я очень любил свою жену, вот почему мне никогда не заменит ее другая. Но за много лет до своей кончины моя жена стала инвалидом, смерть ее была медленной и мучительной. Поскольку я видел, как она угасает с каждой минутой, – голос его задрожал, – поскольку в течение всех этих лет нормальная жизнь была мне недоступна, поскольку я не мог предать и никогда бы не предал ее, – голос сэра Генри вновь окреп, – то и состарился раньше времени. Но из этого вовсе не следует, что внутренне я так уж сильно отличаюсь от Крэна Картера. У меня точно такие же желания и потребности.
Он поднялся с места и стал медленно расхаживать по кабинету.
– Для молоденькой девушки вроде вас желания пожилого человека должны казаться неприятными, даже противоестественными. Но это не так. То, что усыхает телесная оболочка и затухает жар в крови, вовсе не значит, что вместе с ними деградируют также сердце и разум. Я хочу любви – во всех смыслах этого слова, точно так же, как и любой другой. Я хочу быть нужным кому-то и чтобы кто-то был нужен мне. Вы можете возразить, что союз Апреля и Декабря вряд ли может способствовать удовлетворению таких желаний, если только один из партнеров не является мастером самообмана, и что в данном случае Декабрю больше подошел бы Сентябрь. Так оно и есть, если не считать одной очень важной вещи. По мере того как человек взрослеет и старится, у него вырабатываются устойчивые привычки и вкусы, формируется определенный склад ума и ему становится все труднее привыкать к новому. Если два человека старятся бок о бок, конфликты между ними практически исключены, но возьмите двух взрослых одиноких людей и заставьте их жить вместе – у них немедленно возникнет разница вкусов и интересов. К счастью, у молодых людей вкусы и интересы гораздо более гибкие, их можно развивать, формировать, особенно когда эти молодые люди умны, – улыбнулся мне сэр Генри, сделав короткую паузу. – А вы, моя дорогая, без сомнения, умны. Вот почему я предлагаю вам заключить сделку. Крэн Картер многому научил вас. Я тоже могу вас многому научить, если вам этого захочется. Может быть, это звучит скучно, но поверьте, что на самом деле все иначе. У вас хороший ум, но, как мне кажется, он незнаком с настоящей учебой. К сожалению, многие считают, что учить женщин чему бы то ни было бессмысленно, что это вредит их женственности. Я считаю такую точку зрения сущим вздором. Если бы у меня были дочери и я увидел бы, что они умны, девочки получили бы такое же образование, как и мой сын, – горячо звучал голос сэра Генри. – На свете не существует более возвышенных наслаждений, чем те, что доставляет вам хорошо развитый ум, особенно тогда, когда вы становитесь старше. Так что со временем может оказаться, что я преподнес вам гораздо более важный дар, чем кто-либо еще.
Итак, я снова оказалась в руках мужчины, во многом опередившего свое время. Его предложение заинтересовало меня, поскольку развлечения и фривольности последних двух лет еще не успели заслонить той радости, которую я испытывала от обучения в доме Белль. Кроме того, общаясь с умными людьми вроде Джереми, я поняла, насколько ограниченны мои собственные умственные ресурсы.
Сэр Генри продолжал:
– Взамен я хотел бы, чтобы вы удовлетворяли причуды пожилого человека, чтобы вы были до такой степени любящей и преданной, насколько позволяет ваше сердце, чтобы вы уважали мои желания, хотя я и не требую от вас беспрекословного повиновения, и чтобы вы верили мне. Если когда-нибудь вы почувствуете, что не можете отвечать этим требованиям, придите ко мне и прямо скажите об этом – тогда мы вместе подумаем, что можно сделать. А теперь, – он смущенно кашлянул и снова стал мерить комнату шагами, – перейдем к интимной части наших отношений. Думаю, мы оба оказались в сложном положении, поскольку не знали, чего ожидать друг от друга. Как вы, наверное, поняли, у меня это первая связь подобного рода. С этого момента и впредь, когда мы будем оставаться в доме одни, я хотел бы просить, чтобы вы спали обнаженной – считайте, что это одна из моих причуд. Тем не менее, учитывая мои ограниченные возможности, я не претендую на близость с вами чаще, чем три раза в неделю, причем достаточно короткую по времени. Думаю, что такой порядок удовлетворит нас обоих.
Я с трудом подавляла в себе желание истерически расхохотаться. Сэр Генри замолчал и поморщился.
– Все это звучит крайне неприятно, но не сказать об этом нельзя. Насколько упростилась бы жизнь, если бы можно было избавить себя от запросов, предъявляемых телом!
Я была удивлена: раньше мне никогда не приходилось видеть в мужчинах подобную чувствительность. Видимо, мне предстояло узнать о них еще много нового.
Покончив с неприятным объяснением, сэр Генри с облегчением вздохнул и сел в кресло.
– Что вы обо всем этом думаете? Не шокирует ли вас подобное предложение: учение в обмен на любовь? Я, похоже, сказал все, что собирался, и теперь хотел бы выслушать ваше мнение.
Я была в растерянности. В свое время Белль предостерегала меня от излишней откровенности, но сэр Генри был первым мужчиной, если не считать Джереми, который разговаривал со мной на равных. Только что мне было сделано честное и веско обоснованное – хотя, бесспорно, не совсем обычное – предложение, и теперь я должна была принять решение. Я чувствовала себя очень скованно, слова у меня выходили торжественные, как фигуры менуэта, в них сквозила напыщенность, присущая только юности.
– Вы совершенно правы, сэр Генри, говоря о моих чувствах к полковнику Картеру. Видимо, пройдет еще немало времени, прежде чем какой-либо другой мужчина сможет занять в моем сердце принадлежащее ему место.
Сэр Генри ободряюще кивнул головой.
– Но я весьма польщена тем, как вы говорили со мной сегодня. Впервые… – Я умолкла, подбирая слова. – Со мной так разговаривали впервые, и вы должны извинить меня, если я буду говорить не очень связно. Ведь вы сами верно заметили, что у меня было мало возможностей заняться своим образованием, меня обучали только тем предметам, которые считаются необходимыми для таких женщин, как я. Мне очень хочется учиться, хотя я и не знаю, насколько сообразительной ученицей я окажусь и что конкретно мне хочется узнать. Сэр Генри улыбнулся.
– Вы предельно честны со мной. Так, значит, пожмем друг другу руки?
И вот, торжественно поднявшись, Апрель и Декабрь по доброй старой англосаксонской традиции закрепили свою сделку крепким рукопожатием.
Оглядываясь назад, я понимаю, что выиграла от нашего соглашения гораздо больше, нежели он, хотя со временем мне, думаю, удалось создать ему определенный комфорт. Большего я не смогла бы сделать для него при всем желании. Хотя бы потому, что к моменту нашей встречи сэр Генри Рашден был уже наполовину мертв – той прижизненной смертью, которую впоследствии мне приходилось наблюдать столь часто.
Таким образом, нас с сэром Генри связали узы партнерства, которые оборвала только его смерть. Не могу сказать, что мне когда-либо доставляла удовольствие физическая близость с этим человеком. Наоборот, все в нем отталкивало меня, точно так же, как все, что было связано с Крэном, – привлекало. К счастью, потребности его, как он и сказал, были скромны и легко удовлетворимы. И пусть я так и не привыкла к его волосатым рукам, из ночи в ночь, из года в год гладившим мое обнаженное тело, которое отдавало жар своей молодости его охладевшим членам, я молча терпела это, скупо отдавая свой долг за те богатства, которыми он осыпал меня. Под конец, когда последние удары судьбы окончательно сломили его, сэр Генри превратился в полного импотента, что, признаюсь, принесло мне огромное облегчение.
Пока мы находились в городе, занятия мои были не особенно напряженными, поскольку сэр Генри почти все время проводил на бесконечных правительственных консультациях. Тем не менее развлечений у нас хватало. Я стала снова брать уроки музыки под руководством хорошего преподавателя, а сэр Генри начал осторожно вводить меня в бурный мир английской литературы, постепенно все более углубляясь в предмет. Он также взялся преподавать мне латынь, знать которую, по его словам, было просто необходимо. Она, однако, шла у меня с большим скрипом, особенно поначалу. Вот, собственно, и все. Но Генри сказал, что когда мы переедем в загородный дом, то сможем уделять занятиям гораздо больше времени.
В течение городского сезона дом его был открыт для офицеров, и они собирались у нас по крайней мере раз в неделю, а то и чаще. Именно к этому времени относится встреча, которой суждено было впоследствии изменить всю мою жизнь. Все эти вечеринки были исключительно мужскими, а я выступала лишь в качестве «домоправительницы» – титул этот, впрочем, вопреки надеждам бедного сэра Генри, никого не мог ввести в заблуждение. Поэтому участие мое в таких застольях было чисто формальным: я подгоняла прислугу, разносившую еду и питье, следила за тем, чтобы всем было удобно, иногда заглядывала в комнаты, чтобы узнать, не хочет ли сэр Генри чего-нибудь еще, болтала со старыми приятелями и смотрела, не чувствует ли себя кто-то из гостей забытым и лишенным внимания.
Это случилось в конце октября 1798 года. Генри все чаще заговаривал о переезде за город. Помню, на мне в тот вечер было вишневое бархатное платье и бриллиантовые украшения, подаренные Крэном. В последнее время я чувствовала какую-то странную внутреннюю пустоту. Мне чего-то смутно хотелось, но чего, я не знала.
Проходя по комнатам, заполненным гостями, я заметила небольшую группу офицеров в темно-зеленых мундирах, беседовавших в уголке. Один из них не спускал с меня глаз. Подумав, что он может оказаться кем-то из моих знакомых и хочет со мной поговорить, я подошла поближе и поняла, что никогда прежде не встречалась с этим человеком. Он был невысоким, но очень крепкого сложения, отчего казался еще меньше ростом. У него были седые волосы, подстриженные короче, чем требовала тогдашняя мода, отчего казалось, что он носит серебряную шапочку. Лицо этого офицера не выделялось ничем особенным, разве что в нем было больше обаяния, нежели мужественности. Он стоял, слегка раскачиваясь с носков на пятки, отчего его отлично скроенное ладное тело казалось легким и упругим.
Увидев, что он мне незнаком, я двинулась дальше – в конце концов я не привыкла, чтобы на меня глазели посторонние, но каждый раз, когда я входила в эту комнату, я чувствовала на себе его взгляд, а посмотрев в тот угол, встречалась с ним глазами.
Неожиданно пожелав угостить своего старого друга, Генри попросил принести две бутылки особого кларета и послал меня за ними в кабинет, где он держал их под замком в специальном шкафу. Взяв вино, я собиралась уже выйти из кабинета, как вдруг в дверях столкнулась с тем самым офицером, что смотрел на меня весь вечер. Извинившись, он вызвался помочь мне донести бутылки.
– Мы с вами не встречались, – сказал он, – но мое преимущество состоит в том, что я знаю, кто вы такая. Я капитан королевской артиллерии Дэвид Прескотт.
И он улыбнулся чудесной светлой улыбкой, полностью преобразившей его лицо. Улыбаясь, он становился похож одновременно и на ангела, и на озорного мальчишку, и на светского льва. Впрочем, светские львы меня уже порядком утомили, поэтому мне больше понравилось в нем все остальное.
Рассмотрев своего собеседника поближе, я заметила, что у него высокий чистый лоб, красиво очерченные брови, широко расставленные голубые глаза, которые, казалось, изменяли свой цвет каждый раз, когда менялось освещение. Мне еще предстояло узнать, что, когда он сердится, они становятся серыми как сталь, а когда бывает счастлив, напоминают безмятежное летнее небо. Если не считать улыбки, глаза этого человека были наиболее примечательной чертой его внешности – особенно в те моменты, когда они становились небесно-голубыми. Лицо его с обеих сторон изборождали шрамы. Их не могла скрыть даже синева от могучей растительности на щеках, которую, как я потом узнала, ему приходилось брить дважды в день.
Словно очнувшись от сна, я вдруг поняла, что не могу оторвать от него глаз. Пытаясь скрыть смущение, я спросила:
– Вы знаете, кто я такая?
– Любой в Лондоне знает о Прекрасной Элизабет, а некоторые из нас даже имели честь видеть ее, – ответил он, и чудесная улыбка вновь осветила его лицо.
– Здесь, – произнесла я чуть более холодным тоном, чем хотела, – меня знают как мисс Колливер. Я домоправительница сэра Генри.
– Это мне тоже известно, – ответил он. Глаза его потемнели, а лицо зарделось. – Я, кстати, даже знаком с вашим семейством.
Холодная рука сдавила мое сердце, и мне представилась Рыбная улица во всем своем ужасающем безобразии.
– Мое семейство? – слабым эхом повторила я.
– Да, ведь вы из Колливеров, что живут в Севеноксе?
Это была легенда о моем происхождении. Узнав, что в графстве Кент есть мои однофамильцы – весьма респектабельная семья, Белль распустила слух о том, что я происхожу именно оттуда.
– Моя семья живет неподалеку от Севенокса, и мы знаем несколько семей Колливер. Которая из них доводится вам родней?
– Мы находимся в далеком родстве. Так… Троюродные, четвероюродные братья и сестры… – стала выпутываться я.
Офицер посмотрел на меня с любопытством. В его голосе слышался приятный западноанглийский акцент, придававший его речи легкость и музыкальность, поэтому я торопливо спросила:
– А сами вы, видимо, из Кента?
– Нет, я родом из Девона, но моя жена с семьей живет в Кенте. Однако служба заставляет меня почти все время находиться на юго-востоке, и мне очень редко удается бывать дома.
Непонятно почему, но я была разочарована, услышав, что он женат, хотя вряд ли человек его возраста и положения мог оказаться холост. Англия тогда не могла похвастать большим количеством старых холостяков. В моем мозгу всплыли слова, давным-давно сказанные Белль: «Женатые капитаны, живущие на одно жалованье, не для нас», но я недовольно отогнала их от себя – что за глупость! Он спокойно стоял рядом и смотрел на меня. Появился сэр Генри, пришедший, чтобы поторопить меня.
– Элизабет, куда, ради всего святого, ты задевала эти бутылки? Не могу же я заставить Джордана ждать всю ночь!
– Вы знакомы с капитаном Прескоттом? – слабым голосом спросила я.
– Конечно, я знаком с Прескоттом, а иначе как бы он здесь оказался! – недоуменно ответил Генри. – А теперь, пожалуйста, возьми эти бутылки и пойдем со мной. Не хотите ли присоединиться к нам, Прескотт? – добавил он после секундного размышления. Однако Дэвид Прескотт извинился и, одарив нас очередной восхитительной улыбкой, ушел.
К счастью, Генри не заметил, какой рассеянной я была весь остаток вечера. Чувство пустоты, которое я испытывала до этого, исчезло, но его сменила странная щемящая боль где-то в глубине сознания. Я попыталась понять ее природу. Неужели меня так притягивал к себе капитан Прескотт? Это чувство сильно отличалось от того, что я когда-то испытывала к Крэну, а больше мне не с чем было сравнивать. Или дело было в том, что этот человек сознательно искал встречи со мной? В этом я не сомневалась, но мужчины поступали так и раньше, однако тогда это не вызывало во мне никаких ответных чувств. Как бы то ни было, твердо решила я, мне следует позабыть о нем как можно быстрее. Прекрасная Элизабет, изнеженная любовница генерала-вдовца, была не для женатого артиллерийского капитана. И все же, прежде чем лечь в тот вечер в постель, я решила во что бы то ни стало разузнать о капитане Дэвиде Прескотте побольше.
К выполнению этой цели я приступила на следующий же день. Наливая Генри чаю, я небрежно обронила:
– Вчера у нас в гостях было множество незнакомых мне офицеров.
Генри буркнул что-то невразумительное. В то утро он был явно не в духе.
– А откуда были те, что в темно-зеленой форме? – не отступала я.
– С золотыми нашивками или без? – пробурчал он.
– Без, – сладким как мед голосом подсказала я.
– Из королевской артиллерии.
– А что такое артиллерия? – продолжала разыгрывать я свой спектакль.
– Артиллерия? Это пушки – будто сама не знаешь… Новый вид вооруженных сил. Проблема в том, что кучка идиотов, назначенных генералами, похоже, понятия не имеет, как его использовать. Есть, правда, и умные люди – настоящие специалисты. Взять хотя бы того парня, с которым ты вчера говорила, – капитана Прескотта. Вот у кого есть голова на плечах! Какая жалость!..
– Почему жалость? – Я почувствовала болезненный укол в сердце.
– Такой умница – и всего-навсего капитан. Старая история: за ним нет больших денег и знатного семейства, которое могло бы его поддержать. Вот и приходится ему сидеть и не высовываться. Даже несмотря на то, что его болваны-начальники не знают и четверти того, что знает он. Неудивительно, что Англия села в лужу…
Генри оседлал своего любимого конька, но я его уже не слушала. Мои опасения полностью подтвердились, хотя только небу известно, на что я еще надеялась. Теперь я окончательно поняла, что должна раз и навсегда забыть Дэвида Прескотта, а именно этого мне и не хотелось.
После этого мы виделись еще несколько раз на различных приемах. Я старалась держаться от него подальше, но, по-моему, мне не всегда это удавалось. По крайней мере заканчивалось всегда тем, что мы оказывались беседующими друг с другом, причем губы наши говорили одно, а глаза – совсем другое. Иногда, когда мы разговаривали, находясь в группе людей, он вдруг неподвижно застывал, задумчиво глядя на меня. В такие моменты мне казалось, что на нас двоих опускается некая завеса, которая отделяет нас от всего и вся, и тогда нам становилось удивительно хорошо.
А потом он вдруг перестал приходить.
Как-то в разговоре мне удалось ненавязчиво задать вопрос о его теперешнем месте пребывания.
– А-а, Прескотт? Его перевели в какую-то Богом забытую батарею на южном побережье. Они полагают, что Бони[13] в любой момент может двинуться на Англию.
И разговор вновь свернул на военную тему.
Видимо, это было лучшее, что могло случиться в подобной ситуации, и все же мне очень не хватало его. Вскоре после этого мы уехали в деревню, и в моей жизни произошли значительные перемены.
10
Впервые я по-настоящему почувствовала вкус деревенской жизни. До этого мне несколько раз приходилось совершать вместе с Крэном загородные прогулки, но в такие дни нас всегда окружала шумная толпа – выезды бывали массовыми. Теперь же мы остались вдвоем: Генри и я. Я первый раз познала мир и уединенность английской деревни. Мне и впрямь это было необходимо.
Дом Генри – Маунт-Менон – был поистине прекрасен. По-моему, этот архитектурный стиль относился к эпохе короля Иакова I, и дом являл собой великолепный его образец. Он располагался прямо под одним из уступов гор в Саунд-Даунсе и поэтому был надежно укрыт от северных ветров. Фасадом дом смотрел прямо на Пролив, который в ясные дни вился вдоль горизонта подобно серебряной ленте. Широкая водная гладь отделяла нас от грозного гиганта на противоположном берегу, и это давало нам чувство безопасности. Мне нравился особняк и мне нравились английские сады, искусно разбитые одним из предков Генри еще два столетия назад, когда дом только строился.
Сами горы и раскинувшиеся у их подножия леса казались мне немного пугающими. После детства, проведенного на Рыбной улице, такие просторы подавляли: я чувствовала себя потерянной, беззащитной и очень маленькой. Сэр Генри, при всей своей образованности, не был истинным любителем природы и не мог раскрыть передо мной все ее тайны. Должны были пройти годы, прежде чем любимый мною человек открыл мне глаза на ее красоту и волшебство.
В деревне Генри стал другим человеком. Когда мы жили в городе, он казался меньше других во всех отношениях. Коллеги-офицеры уважали знания и опыт Генри, но даже за тем вниманием, с которым они прислушивались к нему, проскальзывал оттенок некоторого презрения. Казалось, они принимают его за чужака, за слабого человека, обманом пробравшегося в круг сильных мужчин. Точно с таким же недоверием зачастую относились к нему и в среде образованных людей, которую он иногда предпочитал компании военных, видимо, полагая, что военный никогда не может постичь премудрости научных материй. Если это было очевидным даже для меня, то Генри и подавно видел это со всей отчетливостью. Будучи чрезвычайно чувствительным и вспыльчивым, он не терпел возражений и часто доходил до бешенства, когда собеседники отметали в сторону его тщательно взвешенные доводы, втихомолку посмеиваясь над ним. И там, и здесь он был так же не к месту, как пигмей среди гигантов.
Тут, в своих собственных владениях, он, казалось, вырастал. Предаваясь своим занятиям, он начинал чувствовать силу и уверенность в себе. Однажды, вскоре после нашего приезда, мы сидели в его кабинете – пожалуй, самой чудесной комнате в доме. Три стены были от пола до потолка уставлены полками с изумительным собранием книг в великолепных обложках, а четвертую стену украшали огромные окна, выходившие на море и наполнявшие комнату сверкающим и подрагивающим светом солнца, поднимавшегося из-за горных вершин. Я должна была заниматься. Генри разработал для меня такой план занятий, который привел бы в ужас даже доктора наук. Но вместо этого я рассматривала Генри, сидевшего за столом и погруженного в чтение. Вокруг него царила аура покоя и счастья, которой прежде я никогда не замечала.
Внезапно я задала вопрос, который лениво всплыл в моем мозгу:
– Кем бы ты хотел быть больше всего на свете?
Он резко поднял голову и несколько мгновений смотрел на меня, а увидев, что я молча жду ответа, ласково улыбнулся.
– Больше всего мне хотелось бы стать преподавателем университета.
Я была удивлена и заинтригована.
– Почему именно преподавателем?
– Мне кажется, у них очень интересная жизнь, – терпеливо стал объяснять он, – помогать молодым людям учиться, овладевать огромными запасами мировой мудрости.
– Но почему же тогда со всем этим, – я обвела комнату рукой, – ты не стал тем, кем хотел?
– Именно из-за «всего этого», как ты изволила выразиться, – мягко ответил он.
– Не понимаю, – озадаченно протянула я.
– Пойдем, я покажу тебе.
Генри обнял меня и повел в картинную галерею. Мы шли между величественными портретами его предков – первых Рашденов, облаченных в крахмальные жабо и странные латы елизаветинских времен, покуда не добрались до последнего из них – отца сэра Генри, написанного верхом на огромном черном коне.
– Вот они все, – развел руками Генри. – Все – Рашдены, и все – солдаты. С незапамятных времен все члены семьи Рашден служили своей стране как военные, а поскольку я был старшим сыном, с того самого дня, как я родился, ни у кого не возникало даже сомнений относительно моей будущей карьеры и относительно того, что Маунт-Менон будет моим.
– Но, – не сдавалась я, – если бы твой отец узнал, о чем ты мечтаешь, он наверняка пошел бы тебе навстречу вместо того, чтобы заставлять тебя заниматься нелюбимым делом!
– Подобное не могло прийти в голову ни мне, ни моему отцу, – возразил Генри. – Традиции такой семьи, как наша, гораздо важнее любых личных симпатий или антипатий. Тебе это, разумеется, трудно понять, но сила Англии зиждется именно на традициях, подобных этой, и когда ты станешь постарше, то поймешь, какая в этом заключена мудрость.
Он был абсолютно прав. Я действительно не понимала этого, и мне казалось на редкость глупым, что человек должен заниматься делом, которое не любит, только потому, что тем же самым занимались его предки. Генри ошибся в другом: даже став старше, я не смогла признать его правоту, мои взгляды остались неизменными до конца жизни.
Все это показалось мне еще глупее, когда я встретила младшего брата сэра Генри, бывшего каноником Чичестерского собора. Он был маленьким тучным человечком с красным лицом и моргающими глазками. По его беззаботной болтовне я поняла, что призвание свыше забыло посетить его, что псовая охота и поглощение портера привлекали его гораздо больше, чем необходимость помогать людям или увеличивать запас мировых знаний.
Сидя между этими столь разными людьми за обеденным столом, я думала: «Какое безумие! Только из-за того, что один человек родился чуть раньше другого, им обоим пришлось пойти жизненными дорогами, которые ни в малейшей степени не соответствуют влечениям каждого из них». Насколько было бы лучше, если бы они росли вместе, если бы родители внимательно следили за развитием их склонностей и интересов, если бы им было позволено следовать путем призвания. В семье Рашденов все равно был бы военный, поскольку я так и видела жизнерадостного маленького каноника кавалерийским офицером, и жизнь каждого из них наверняка была бы полнее и счастливее.
Однако эта точка зрения встречала сопротивление на протяжении всей моей жизни, и мои взгляды на этот счет всегда считались странными. Со мной соглашался один только Джереми, и он даже предсказал, что эта традиция, которой так гордились англичане, однажды обернется против них.
Однако вернусь к Генри. Еще одной характерной для него чертой, которую я обнаружила после переезда в деревню, оказалась его любовь и глубокая привязанность к сыну. Он постоянно писал ему длинные отеческие письма, которые, я думаю, юноша – ему и было-то тогда всего двадцать пять – никогда не читал. Чтобы послушать, как они звучат, Генри зачитывал мне эти письма вслух, и я неизменно находила их теплыми и трогательными. Генри страшно хотел, чтобы сын остепенился и нашел спутницу жизни – в первую очередь, мне кажется, для того, чтобы положить начало новому поколению Рашденов, и в своих письмах детально перечислял и описывал те качества, которые он хотел бы видеть в своей будущей невестке. С болью в сердце я поняла, что, если бы судьба позволила мне родиться под другой крышей, я стала бы гораздо лучшей женой сыну, чем любовницей – отцу.
Впрочем, судьба была не до конца глуха к моим просьбам. Моя личная служанка не последовала за нами в Суссекс, поскольку собиралась выходить замуж, так что мне нужно было подыскать другую. Однажды утром, когда я сидела, как обычно, за письменным столом в библиотеке и занималась, вошел лакей и доложил, что пришла миссис Маунт и спрашивает, по-прежнему ли мне нужна служанка. Я ответила, что поговорю с ней, и попросила проводить ее ко мне. После этого я продолжала свои занятия до тех пор, пока не увидела, что на мои записи легла чья-то тень. Я подняла глаза.
Темная на фоне освещенного окна, передо мной возвышалась длинная, худая и ширококостная фигура женщины неопределенного возраста. Мрачное выражение лица, черные волосы, стянутые серой лентой и собранные сзади в пучок, выпуклый лоб, огромные темные глаза, в которых светилась какая-то свирепая гордость… Я почувствовала растерянность: эта женщина была похожа скорее на разгневанную фурию, нежели на служанку. Она сделала в мою сторону величественный реверанс, и я едва удержалась, чтобы не ответить тем же.
– Меня зовут Марта Маунт, – произнесла она сильным глубоким голосом, который вполне подходил к ее облику. – Я слышала, что вам нужна служанка. Я бы с удовольствием стала служить у вас, мисс.
Кое-как оправившись от удивления, я попросила ее рассказать о себе. Девочкой она воспитывалась в доме священника, где научилась читать, писать и выполнять практически любую домашнюю работу. Потом нанялась служанкой в богатый дом по соседству, а впоследствии вышла замуж за моряка и уволилась.
Вскоре я узнала, что мистер Маунт оказался ничем не примечательным, невзрачным человеком, которого было почти не видно и не слышно. У семейной четы родилось пятеро сыновей – таких же высоких и чернявых, как их мать, и молчаливых наподобие отца. Только что младший из Маунтов присоединился к остальным четырем братьям и отцу на службе в военно-морском флоте, а их мать, освободившись от хлопот по ведению собственного домашнего хозяйства, принялась за поиски работы.
Я объяснила женщине, что, если она согласится работать у нас, работа эта будет временной, поскольку мы с сэром Генри планировали бывать здесь только наездами, а остальное время собирались проводить в Лондоне. Она внимательно слушала, не отрывая от меня своих странных темных глаз.
– Когда вы уедете, уеду и я, – сказала она после того, как я закончила говорить. – Увидев вас в деревне, я поняла, что вам кто-то очень нужен. Я и стану этим «кем-то».
Это прозвучало так странно, что я буквально открыла рот. В ее присутствии я чувствовала себя робко и неуверенно, она подавляла меня, поэтому я поспешно сказала, что, очевидно, ее муж и сыновья время от времени будут приезжать на побывку и, может быть, ей следовало бы подыскать работу поближе к Дому.
– Если они захотят со мной увидеться, то сами приедут ко мне, – резко ответила она.
– Но как же ваш дом? – неуверенно спросила я.
– Всегда найдутся люди, которым нужна крыша над головой и которые готовы заплатить за нее, – твердо ответила она.
Несмотря на то что она, видимо, обладала большим опытом ведения хозяйства, я не испытывала никакого удовольствия при мысли о том, что она станет служить в нашем доме, но аргументы у меня закончились, и слабым голосом я сказала, что со следующей недели она может выходить на работу. Я назначила ей испытательный срок в один месяц. Она даже не улыбнулась, лишь какой-то огонек блеснул в ее больших черных глазах.
– Благодарю вас, мисс, – сказала она. – Если я смогу разделить ваше горе, я сделаю это, если я смогу доставить вам радость, я доставлю ее.
И, сделав еще один реверанс, эта загадочная женщина удалилась.
Вот так вошла в мою жизнь миссис Марта Маунт – наполовину ангел, наполовину дракон. Она ушла, а я продолжала ошарашенно сидеть. С самого начала своей жизни я всегда больше тянулась к мужчинам, пусть даже не в плотском смысле. Из всей семьи единственным близким мне человеком был мой брат Джек, и впоследствии – на протяжении всей жизни – я всегда испытывала больше симпатии и понимания по отношению к мужчинам, нежели к женщинам. С некоторыми из женщин, как, например, с Белль, я была даже дружна, но нас никогда не связывали более глубокие узы. Однако с того самого первого дня, когда я сидела за письменным столом, между мной и Мартой возникла прочная и глубокая духовная связь, и так будет продолжаться до того момента, когда она навсегда закроет мои глаза. Мне никогда не удавалось понять природу этих уз. Может быть, я, никогда не знавшая материнской любви, испытывала потребность в ком-то, кто мог заменить мне мать? Или, возможно, Марте, на протяжении всей жизни окруженной мужчинами, нужна была дочь, на которую она могла бы выплеснуть свои нерастраченные чувства? Не знаю. Я не сомневаюсь, что Марта в свойственной ей яростной манере любит меня – она слишком часто доказывала это. Всякий раз, когда утлому кораблику моей жизни грозило неминуемое крушение, на помощь приходили два человека – Марта и Джереми. Они служили мне опорой против ударов судьбы, у них искала я убежища в минуты отчаяния.
Ирония судьбы заключается в том, что эти два человека, являющиеся полной противоположностью во всем, стали преданными друзьями и глубоко почитают друг друга. Но, может быть, это потому, что мы все трое объединены какой-то странной общностью, неразрывно связавшей нас.
Мне никогда не приходилось видеть матери более сдержанной, чем Марта. Появляясь у нас по очереди, ее рослые сыновья молча сидели на кухне, в то время как она суетилась по хозяйству. И все же я знала, что ей приятно видеть их, поскольку с их приходом она начинала ожесточенно стряпать и с довольным вздохом успокаивалась лишь тогда, когда они дочиста вытирали тарелки, доев последний кусочек. Они были тоже по-своему, молчаливо преданы матери и с гордостью дарили ей причудливые вещи, привезенные из самых разных уголков света, – от изысканных кашемировых шалей и китайского фарфора до сушеных морских обитателей и безвкусных восточных побрякушек. Она свято хранила все эти подношения, и поэтому со временем ее комната стала напоминать лавку древностей.
Эти ребята были хорошими сыновьями, и, видимо, поэтому судьба отнеслась к ним благосклонно: при том, что они принимали участие во всех морских битвах, которые вела в те годы Англия, все они выжили и со временем вернулись домой, чтобы остепениться, завести жен – я заметила, что им нравились маленькие пухленькие блондинки, – и, к вящей радости Марты, взрастить урожай одинаково флегматичных и немногословных внучат семейства Маунт.
Только одна тема могла воодушевить и заставить разговориться любого из этих мальчиков: баталии, в которых они участвовали, поэтому мы услышали обо всех сражениях, спасших Англию, – Нильском, Трафальгарском, при Копенгагене – не от сторонних наблюдателей, а от тех, кто находился в передних рядах. Они, впрочем, немного рисовались, и, должна признаться, когда впоследствии я читала официальные сообщения, мне казалось, что речь идет о разных битвах.
После первого года службы Марты в нашем доме я никогда больше не встречала мистера Маунта. Могу только предположить, что он, увидев, как прочно устроилась Марта, исчез, чтобы найти утешение в более веселой компании.
Марта сняла с моих плеч все хлопоты, связанные с выполнением обязанностей домоправительницы – во всем, что касалось забот по дому, она была гораздо компетентнее меня, я же оказалась свободной и смогла посвятить все свое время занятиям. Генри радовался тому, как безукоризненно велись теперь домашние дела, и относил это на счет развития моих умственных способностей. Ему и в голову не приходило, что настоящей «властью за троном» являлась мрачная фигура моей служанки, путавшая его так же, как она пугала большинство других людей, что образцовое ведение домашнего хозяйства было результатом не моих мыслительных качеств, а ее здравого смысла.
Марта была единственным человеком, которому я рассказала всю правду о себе и своем происхождении. Не знаю, какой необъяснимый приступ честности заставил меня так поступить, но мне почему-то захотелось сделать это после ее странных высказываний во время нашей первой встречи. Мне показалось, что у этой женщины существуют какие-то необычные романтические представления относительно наших с сэром Генри отношений и между нами никогда не возникнет доверия, если я не расскажу ей обо всем.
После того как я закончила свою исповедь, Марта не проронила ни слова, но огоньки в ее глазах запрыгали еще сильнее, а линия губ стала еще жестче. С этого дня она оберегала меня так же яростно, как тигрица оберегает своего детеныша. Прошло немного времени, и я с удивлением заметила, что при встречах с Белль Марте с трудом удается держать себя в рамках приличий.
К Новому году мы все вернулись в Лондон, а наша жизнь – в привычную колею. Во время приемов я ловила себя на том, что выискиваю глазами аккуратную фигуру с серебряными волосами, однако, поскольку она не появлялась, я похоронила себя под грудой своих обязанностей и еще упорнее стала отдаваться занятиям, спасаясь в них от щемящей внутренней пустоты.
Генри снова погрузился в пучину своих дел, так что иногда, устав от себя самой, я отправлялась повидаться с Джереми, общение с которым доставляло мне все большее удовольствие. Мы говорили об истории, философии, искусстве, политике – темы были неисчерпаемы. Я в то время очень увлеклась географией, и для меня не было ничего интереснее книг о диковинных народах и странах. Я бредила путешествиями, однако Джереми не разделял этих моих порывов. Он считал, что гораздо интереснее познать сначала самих себя и тех, кто нас окружает, разобраться в том, как функционирует наше общество, и понять, каким образом его можно улучшить. Он также утверждал, что совершенно необязательно выезжать за пределы Лондона, чтобы узнать о жизни все, что о ней следует знать. Мы спорили об этом часами, и, конечно же, ни одному не удавалось переубедить другого.
Иногда мы обсуждали более приземленные темы. Как-то раз я спросила его, какое состояние, с его точки зрения, я должна сколотить, чтобы «уйти на покой» и жить своей собственной жизнью. Собрав губы в трубочку, Джереми задумался.
– Трудно сказать, Элизабет. Ты так быстро меняешься! За последние четыре года в тебе произошли разительные перемены, меняются вместе с тем и твои потребности. Впрочем, если ты хочешь поставить перед собой какую-то цель и стремиться к ней, то я бы определил ее суммой в десять тысяч фунтов плюс большой и красивый дом.
Это показалось мне невероятным, о чем я и сказала Джереми.
– Ну уж не знаю, – усмехнулся он. – Nil desperandum,[14] моя дорогая. Ты еще так молода, а мне уже удалось удвоить твое состояние. Сейчас ты владеешь примерно тремя тысячами фунтов, не считая твоих драгоценностей. Еще десять лет, и ты станешь свободной, как птичка, а если повезет, то и раньше.
Через десять лет мне должен был исполниться тридцать один год. Тогда мне показалось, что в этом возрасте я уже буду старухой.
Как-то раз в моей голове зародилась идея, которую в течение некоторого времени я тщательно обдумывала.
Мне подумалось, что я нацеливаюсь на людей, стоящих недостаточно высоко на общественной лестнице, что если бы я смогла хоть на короткое время заполучить кого-нибудь из действительно великих людей, кому бы я понравилась, то выигрыш был бы по-настоящему велик и я смогла бы уйти на покой в любой момент, когда захочу. Джереми зарубил эту идею на корню, засыпав меня примерами, подтверждавшими его правоту. Он рассказал мне о герцоге Кларенсе и госпоже Джордан. Кларенс был без ума от нее, но настолько плохо ее обеспечивал, что несчастной женщине, чтобы сводить концы с концами, пришлось вернуться на подмостки, где до этого она сделала блестящую карьеру. Морганатическая жена принца Уэльского миссис Фицжерберт жила в основном на то, что оставил ей первый муж, а она при этом была настоящей леди – по рождению и воспитанию. Все, о чем рассказывал Джереми, вызывало у меня огромный интерес и в то же время глубокую печаль.
Я, в свою очередь, привела пример леди Гамильтон, любовницы Горацио Нельсона, которая, как говорят, начинала посудомойкой на кухне, а теперь была любимицей света.
– Да, и судя по всему, если с Нельсоном что-то случится, посудомойкой она и закончит, – добавил Джереми.
Как он был прав! Нельсон, наш величайший герой, стяжавший Англии неувядаемую славу, перед смертью поручил судьбу любимой женщины своей стране, и та «отблагодарила» его, отправив леди Гамильтон в ссылку, ввергнув в нищету и ничтожество – ничем не лучше тех, которые я наблюдала на Рыбной улице.
– Нет уж, – вздохнул Джереми, – пусть подольше, зато наверняка и в известной мере безопасно. Может быть, сейчас тебе и кажется, что ты понапрасну растрачиваешь жизнь, Элизабет, но это не так. Ты набираешься знаний, житейского опыта. Жизнь длинна, и горя в ней больше, чем радости, но зато, когда ты повстречаешь наконец свое счастье, ты будешь готова принять его и тем выше станешь ценить.
Однако в то время я думала, что мое счастье уже позади, поэтому слова Джереми не успокоили меня.
4 мая 1799 года мы вновь вернулись в Маунт-Менон. Впоследствии мне не раз приходилось мысленно возвращаться к этому дню. Весна в тот год выдалась ранней, и деревенские просторы Суссекса напоминали волшебную страну: живые изгороди были усыпаны белыми цветами, а луга – первоцветом и примулой.
Вид этой красоты наполнял меня радостью и в то же время каким-то беспокойством, причину которого мне никак не удавалось понять. Марта и сэр Генри, должно быть, заметили это, поскольку каждый по-своему пытался максимально занять меня различными делами. Генри посвящал меня в тайны ночного неба, поскольку был заядлым астрономом-любителем и даже соорудил в своих владениях небольшую обсерваторию. Что касается Марты, то она раскрывала передо мной секреты различных лечебных трав, росших на здешних лугах, и того, как превращать их в лекарства, которыми в основном и лечился местный люд. Так я проводила свои дни – между приготовлением отваров и разглядыванием небес. Раньше я видела их только сквозь мутную пелену лондонских туманов, но чистый воздух этих мест позволил мне увидеть их по-другому – в виде прекрасного черного бархата, усыпанного точками сияющих алмазов. Впервые разглядев Венеру, Сатурн с его кольцами и Юпитер в окружении девяти лун, я онемела от восхищения. Оно до сих пор живет во мне, и каждую ночь я приветствую звезды как самых старых и преданных друзей.
Однако напоследок Рыбной улице все же удалось еще раз вцепиться в мою жизнь. Это случилось примерно через неделю после моего приезда в Маунт-Менон. Озабоченный посыльный привез мне письмо, пришедшее в наш городской дом. Конверт был надписан знакомыми каракулями моего брата Джека. Внутри у меня все похолодело. Коротенькое письмо Джека гласило: «Лиз, если в тебе еще сохранилась хоть капля жалости, забудь о прошлом. Отец болен, и говорят, он умирает. Он зовет тебя, бредит и не находит себе места. Пожалуйста, приезжай как можно скорее. Твой любящий брат Джек».
Расспросив посыльного, я с ужасом узнала, что письмо пришло еще три дня назад. Его принес какой-то уличный мальчишка, и до сегодняшнего утра оно лежало на крыльце незамеченным.
В двух словах я объяснила Марте, что произошло, и велела передать сэру Генри, что мне пришлось уехать по срочным семейным делам. Затем я велела запрячь лошадь в самую легкую коляску и опрометью помчалась в Лондон. Мне казалось, что мы ползем со скоростью черепахи. До окрестностей Рыбной улицы мы добрались уже поздно ночью, и мне стало страшно, когда со всех сторон нас обступили жуткие звуки трущоб. Я пожалела, что со мной нет лакея, но было уже слишком поздно, чтобы обращаться за помощью к кому-либо из наших лондонских друзей. Я старалась не думать о том, что ждет меня на самой Рыбной улице.
Наконец мы приехали. Я велела кучеру немедленно отправляться к Джереми Винтеру и привезти его как можно скорее, а затем, собравшись с духом, вошла в дом. Там были Джек, Нелли, моя младшая сестра и странный младенец с бледным лицом, которого она держала на руках. Обе мои сестры плакали.
– Я получила твое письмо только сегодня утром, находясь в Суссексе, – обратилась я к Джеку, – и приехала так быстро, как только смогла. Я успела?
Джек угрюмо покачал головой.
– Нет. Он помер рано утром. Чудо еще, что он так долго продержался. Наверное, тебя хотел дождаться.
Внезапно у Джека перехватило горло.
– Но мы не знали, где тебя искать. Сунулись было к Белль, а ее не оказалось. Она ведь приносила нам деньги от старого Винтера – слышала небось? Один из ее слуг сказал, что знает, где ты, вот мы и послали Кита с запиской. Тебя он там не нашел, но записку все равно оставил – авось она к тебе как-нибудь попадет. Мы, похоже, все опоздали. – Он снова судорожно перевел дыхание. – Повсюду опоздали.
– Я хочу увидеть его, – сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо.
– Ясное дело. Он там, наверху. Иди за мной, да гляди, поосторожнее, тут малость темновато.
Мы поднялись в спальню, где мой отец провел все ночи с того момента, как стал женатым человеком. Он лежал, вытянувшись, одетый во все лучшее, что у него было. Комнату освещали две коптящие свечки, и в их неверном свете казалось, что с лица его исчезли изможденность и усталость, не покидавшие его при жизни. В день смерти ему было пятьдесят, но сейчас мне казалось, что передо мной лежит двадцатилетний юноша.
Я взглянула на него, и меня пронзила жалость – не оттого, что он умер, а потому, что жизнь его была так убога и беспросветна, потому, что бедность заставила его подавить то хорошее, что жило в нем. Я жалела и саму себя за то, что я так жестоко обошлась с ним и теперь уже не было возможности вымолить у него прощение. Наклонившись, я поцеловала отца и почувствовала, что кожа его была влажной и холодной. Но даже тогда я не сумела заплакать.
Мы вернулись вниз. Все остальные продолжали молча сидеть там же, где мы их оставили. Джек пододвинул мне стул, а сам бессознательно опустился на отцовский.
– Когда похороны? – нарушила я молчание. Джек прочистил горло.
– Завтра придут из похоронного бюро.
– Есть у вас деньги?
– У меня немного отложено, – жалким голосом ответил Джек. – Мы хотели попросить мистера Винтера, чтобы он добавил.
– Я возьму это на себя, – сказала я. – Это единственное, что я могу сделать.
На лице Джека появилось облегчение, смешанное со стыдом.
– Это случилось настолько быстро после последних похорон, что у меня не было времени собрать достаточно денег. Тем более что отец-то не работал.
– Последних похорон? – недоумевающе переспросила я.
Джек опустил глаза на свои огрубевшие от работы руки.
– Да, я потерял Полли сразу после рождения ребенка. У нее началась родильная лихорадка, и спасти ее уже было нельзя. Семь месяцев назад…
Я вспомнила девушку с невыразительным лицом и поняла, откуда взялся младенец.
– Мне очень жаль, – произнесла я.
– Мне тоже, – просто сказал он. – Моя Полли была хорошей девочкой, но я рад, что отец дожил до того дня, когда смог увидеть хотя бы одного внука. Я назвал сына в его честь, так что в нашей семье все равно будет Питер Колливер.
За столом вновь повисло молчание.
– Что же теперь будет с семьей? – спросила я. Джек, казалось, собирался с духом.
– Я присмотрю за ними. Я снова переехал сюда после того, как померла Полли, хотя это и не шибко удобно для моей работы. Но Салли хорошо приглядывает за малышом, а Нелли, как всегда, по хозяйству. У отца в учениках ходили Кит и Тед. Я попробую получить немного наличных за их обучение. Да еще у нас осталось кое-что из твоих денег, Лиз. – В голосе Джека вновь прозвучало смущение. – Теперь, когда отца нет, я попробую найти для нас место поближе к моей работе. Чего ради нам тут оставаться?
Он шарил взглядом по стенам, словно пытался разглядеть каждую трещинку и запомнить ее на всю жизнь.
В дверь постучали, и на пороге появился Джереми, словно существо из другого мира. Впрочем, он таковым и являлся. Подойдя, он озабоченно посмотрел на меня и спросил:
– С тобой все в порядке, Элизабет?
Лицо его было мрачным.
– Слишком поздно, – устало ответила я. При виде Джереми на меня вдруг навалилась смертельная усталость.
– Я глубоко сочувствую тебе, моя дорогая, – сказал он, дотрагиваясь до моего плеча. – Мне очень жаль, что твой отец скончался, не успев повидаться с тобой перед смертью. А теперь пойдем, я отвезу тебя к Белль. Мы с твоим братом организуем все как положено. Ты больше ничем не поможешь.
Я посмотрела на Джека, и он ответил мне взглядом, в котором не было враждебности, разве только какая-то тоскливая усталость, словно тяготы, лежавшие на нашем отце, уже легли на его плечи.
– Если вам когда-нибудь что-то понадобится, сообщи мне через Джереми, и я сделаю все что смогу.
– Все в порядке, Лиз, – робко ответил он. – Мы справимся. Ты там будешь? На похоронах?
– Да, я буду там.
Джек наклонился и поцеловал меня в лоб.
– Благослови тебя Господь, Лиз.
– Благослови тебя Господь, Джек, – сказала я и вышла вместе с Джереми.
В течение всего времени, пока я находилась в доме, никто больше не произнес ни слова.
В день похорон стояла холодная погода и дул пронизывающий ветер. Белль поехала вместе со мной, и я была рада ее присутствию, потому что, взглянув на своих родственников, чьи обноски развевались на ветру и в чертах которых, словно в зеркале, отражался лежавший в сосновом гробу окоченевший человек, я поняла, что сейчас, как и раньше, я для них чужая.
После похорон мы разошлись в разные стороны, и они навсегда ушли из моей жизни. Джек в возрасте тридцати пяти лет был насмерть раздавлен телегой на пивоварне, где он работал. Как я уже говорила, я оплатила воспитание и обучение его сына, хотя видела его всего лишь раз в жизни. Моя младшая сестренка умерла от дифтерита, когда ей было тринадцать. Моя сестра Нелли, я полагаю, вышла замуж за гончара – вдовца с несколькими детьми, и они растворились в море безымянной лондонской бедноты.
Белль уговаривала меня провести у нее еще одну ночь, но мне не терпелось вернуться. Теперь, когда Рыбная улица осталась позади, все, что мне было нужно, – это свежий воздух Даунса и сладкий запах цветов в Маунт-Меноне. Может быть, там мне удастся забыть светловолосого человека с изможденным лицом – человека, чей дух я убила. Мне была нужна Марта, мне был нужен даже сэр Генри.
Когда я очутилась в Маунт-Меноне, было уже очень поздно и в небе бледным светом сияли звезды. Марта ждала меня, и я не удивилась этому: я почему-то знала, что так оно и будет. Она напоила меня чем-то горячим и уложила в постель, словно ребенка. Я тут же заснула, провалилась в глубокий сон, и Рыбная улица не снилась мне.
Утром я рассказала сэру Генри о смерти моего отца. Генри посочувствовал, но было видно, что он озабочен своими делами: вскоре на побывку должен был приехать его сын, и чувствительная совесть сэра Генри вновь не находила себе места при мысли о том, что подумает юноша, увидев такую молодую домохозяйку.
И тут мне в голову пришла блестящая мысль. На то время, пока молодой человек будет находиться дома, я могу переехать в коттедж Марты, она же официально примет на себя обязанности домохозяйки, а заодно будет присматривать и за мной. Генри пришел в восторг от этого предложения, а Марта с оттенком удивления в темных глазах приняла на себя роль, которую до этого момента формально приходилось исполнять мне. Набрав с собой книг, я незаметно переехала в ее коттедж и провела там три спокойные и мирные недели. Гуляя по деревне, я один или два раза видела Джона Рашдена. Он оказался темноволосым юношей бравого вида, с приятной внешностью и умным взглядом. Не без иронии я сделала вывод, что он, должно быть, пошел в мать.
Наконец визит был окончен, и я вернулась в Маунт-Менон. Сэр Генри подарил мне замечательное кольцо с рубином в знак признательности за мою сообразительность и покладистый характер. Стояло жаркое утро конца июня. Я собрала корзину красных роз и собиралась внести их в дом, когда на террасе появился сэр Генри и жестом велел мне следовать за ним в кабинет. Не выпуская цветов, я вошла в дом.
– Сядь, Элизабет, – сказал он. Глаза его были грустны. – Боюсь, у меня для тебя плохие новости. Только что мне доставили срочный пакет.
С этими словами он протянул мне лист бумаги. Это было официальное сообщение, в котором говорилось о штурме и захвате Серингапатама[15] войсками Бэрда и Уэлсли[16] 4 мая 1799 года. Во время сражения был убит местный правитель Типу-султан, и его гибель вкупе с победой английских войск, говорилось в бумаге, означают, что Индия по-прежнему остается владением Англии. Здесь же был список погибших, в первой строчке которого значился Крэнмер Картер, полковник гренадеров-гвардейцев его королевского величества. Скомкав бумагу в ладони, не в силах думать ни о чем, я ошеломленно опустилась на стул. Осторожно вынув ее из моей руки, Генри подошел к окну и, присев возле него, принялся вновь перечитывать сообщение. Безмерная печаль расцвела внутри меня подобно черному цветку. На сей раз я горевала не о себе, поскольку давно смирилась с мыслью, что, если бы даже Крэн вернулся, нам уже не суждено было быть вместе и что пережитые нами минуты счастья навсегда остались в прошлом. Нет, я оплакивала Крэна, так любившего жизнь, так наслаждавшегося ею. Судьба была несправедлива к нему, позволив умереть так рано.
Сидя у окна, Генри что-то бормотал себе под нос, и его отрывистые фразы словно расставляли знаки препинания в печальной череде моих мыслей. «Очень интересная тактика, – бубнил он. – Совершенно неожиданная и потому имеющая полное право на успех. Блестящее владение ситуацией. Может быть, именно этого человека нам и недоставало – железного человека, который сможет поколотить Наполеона».
Но Наполеон уже снял первую кровавую жатву с моей жизни. Никогда больше огромный человек в пурпурно-золотом не пройдет гремящим шагом по коридорам времени, никогда и никого уже не станет он учить изысканному искусству любви в уединенных комнатах, никогда не скрестит холодным туманным утром шпаги с глупым соперником, никогда не будет жить. Мои мысли ходили по кругу. Уэлсли одержал великую победу, а Крэн погиб. Как бы мне хотелось, чтобы было наоборот! Я готова никогда больше не видеть его, не слышать его громкого веселого голоса, который до сих пор звучал у меня в ушах. Пусть бы он только оставался в живых. Пусть только…
Сэр Генри продолжал разговаривать сам с собой, беспорядочно перескакивая с предмета на предмет, и так же лихорадочно метались мои мысли. Я думала о том, как умер Крэн. У меня не было сомнений в том, что погиб он храбро, но как? Пронзил ли его клинок какого-нибудь темнокожего человека еще до того, как разгорелся настоящий бой, или он погиб в пылу сражения, штурмуя стены города? Мне бы хотелось это знать. Погиб ли он в то время, когда утром 4 мая мы уезжали из Лондона, или тогда, когда я наслаждалась красотой цветущих примул? Об этом мне тоже хотелось бы знать. Пошел ли он на бой прямо из объятий какой-нибудь белокурой красотки или находился там один – с душой, посыпанной пеплом, и осенним холодом в сердце? Любя Крэна, любя свои воспоминания о нем, мне хотелось верить в последнее.
Я не плакала о нем, зная, что это привело бы его в ярость. Я впала в какое-то оцепенение, а придя в себя, обнаружила, что бессознательно оборвала все розы и теперь их пурпурные лепестки лежали на полу библиотеки подобно каплям крови из пронзенного сердца. Мне подумалось, что это вполне подходящий памятник Крэну.
На следующий день сэр Генри, проявив свойственную ему чуткость, вспомнил, что в Лондоне его ожидает какая-то срочная работа, и уехал на целый месяц, позволив мне побыть в Маунт-Меноне одной. Я благословила его за это и, как обычно, поклялась себе, что после его возвращения буду уделять ему гораздо больше внимания. Печально, но этот человек всегда больше нравился мне во время своего отсутствия.
Я с головой ушла в занятия. Свою печаль по Крэну я похоронила в томах древней истории, астрономии, философии. Мне приходила в голову мысль, что бы он сказал, увидев меня за подобной работой? Думаю, он был бы крайне удивлен. Но, в конце концов, это лучше, чем джин. Когда тоска моя немного утихла, я поняла, что рассталась со своей первой любовью, и подумала: «А будет ли вторая?»
Остаток года прошел достаточно спокойно, с обычными переездами между Лондоном и Суссексом. Мои успехи в занятиях стали настолько заметны, что Генри начал подтрунивать надо мной, называя меня «синим чулком» и говоря, что, если я не сбавлю обороты, он будет вынужден отослать меня в Оксфорд или Кембридж, поскольку его преподавательские возможности были для меня уже недостаточны. Приемы, которые он все еще устраивал, позволяли нам не отвыкнуть окончательно от светской жизни, а временами мы даже выбирались на балы.
Однажды ноябрьским утром, когда мы находились в Лондоне, ко мне вошла Марта и сказала, что в кабинете меня ждет посетитель. На мгновение в моем сердце вспыхнул огонек надежды, и я побежала вниз. Но увы! Это был Нед Морисон – похудевший и посерьезневший, с нездоровым тропическим загаром на коже.
– Привет, Элизабет! – произнес он, отчаянно пытаясь выглядеть веселым. – Только что с войны и вот решил проведать всех девушек, от которых я без ума.
Затем он внезапно сменил тон.
– Я полагаю, ты знаешь… про Крэна?
– Да, Нед, знаю и очень давно. Достаточно давно, чтобы спокойно разговаривать об этом.
Он тяжело опустился в кресло.
– Я рад этому. И все же мне казалось, что ты захочешь узнать. Я имею в виду – подробности.
И вот в этой тихой комнате, куда из-за лондонского тумана не пробивался уличный шум, Нед рассказал мне о взятии Серингапатама и последнем дне Крэна.
Накануне ночью у них была грандиозная вечеринка. Нед не стал вдаваться в подробности, и я была благодарна ему за это, поскольку примерно представляла, как все это могло выглядеть. Придя в себя после утреннего похмелья – это для него всегда было проблемой, – Крэн отправился на совещание к генералу Бэрду, старому вояке, который однажды побывал в плену у Типу-султана и теперь жаждал лично отомстить ему. Что касается Уэлсли, то Крэн не воспринимал его всерьез. Тот был чересчур опаслив и заражал этим всех офицеров. Он продолжал высказывать опасения даже 4 мая, настаивая на продолжении артиллерийской подготовки. Наконец Бэрду все это надоело, и после полудня он отдал приказ начать штурм городских стен.
«Вперед, мои мальчики!» – рычал он, и Крэн с саблей в руке ринулся вместе со своими людьми в пролом, как мальчишки бросаются на угощение в воскресной школе. Защитники города стояли насмерть, и схватка в проломе стены оказалась кровопролитной. Когда пыл битвы утих и город оказался взят, Крэна нашли под кучей убитых индусов, а его сабля была сломана возле самого эфеса. Вражеские клинки пронзили его тело не менее дюжины раз, так и не сумев поразить его в голову. Крэна похоронили на следующий день вместе с шестьюдесятью пятью его солдатами, павшими рядом с ним. Нед умолк.
Значит, предчувствия не обманули меня: Крэн сражался как лев, и смерть настигла его в тот момент, когда я, за тысячи миль от него, любовалась весенними цветами. Теперь я это знала, и это давало мне какое-то горькое удовлетворение.
– Мне бы хотелось, чтобы ты кое-что сделал для меня, – сказала я Неду. Затем принесла миниатюру с изображением Крэна в молодости и отдала ее Неду. – Передай это его семье, хорошо, Нед? И пусть они не знают, что она была у меня.
– Очень похож. Разве ты не хочешь оставить ее у себя? – спросил он, рассматривая портрет.
– Я помню его другим, – ответила я, с трудом удерживаясь, чтобы мой голос не задрожал. – Тем более что она по праву принадлежит им.
– Хорошее было время, правда? – невпопад сказал Нед, продолжая разглядывать миниатюру.
– Да, – согласилась я, – действительно. Некоторое время мы сидели молча.
– Что ты собираешься делать дальше, Нед?
– Через несколько недель я снова уезжаю, но, слава Богу, не в Индию. Вероятно, в Ирландию – там снова ожидаются неприятности. Впрочем, чего другого можно ждать от Ирландии! У тебя все в порядке, Элизабет?
– Да, у меня все хорошо, – спокойно ответила я.
– Если я могу быть чем-нибудь полезным для тебя – драться на дуэлях, подносить шляпные коробки, выгуливать собачек, – только скажи. Примерно на сотую часть я еще остаюсь джентльменом.
В нем на секунду проглянул старый насмешник Нед.
– Спасибо, Нед, – слабо улыбнулась я. – В случае такой надобности я пошлю тебе в Ирландию срочную депешу.
Он засмеялся и положил миниатюру в карман.
– Что ж, если я не найду смерть в ирландском болоте или на торфяном пожаре, то через несколько лет вернусь, так что не забывай меня.
И с почтительным поклоном он удалился.
Впоследствии мне довелось услышать, что Крэн умер точно так же, как и жил – по уши в долгах. Однако его жена, состояние которой благодаря донкихотским представлениям мужа осталось нетронутым, немедленно расплатилась со всеми его кредиторами. Я думаю, дух Крэна был немного разочарован, увидев, что после него не осталось ни одного неоплаченного счета – хотя бы в порядке памятника.
Началось новое столетие, но война все еще продолжалась. Колосс Бонапарта по-прежнему сокрушал все на своем пути, и Англия переживала непростые времена.
Лично для меня первый год нового столетия начался с небольших ударов судьбы, а закончился сокрушительными. Джереми одолела подагра, а Белль после крайне неудачной связи с лихим кавалерийским офицером заболела сифилисом. Один из сыновей Марты был ранен во время кораблекрушения. Сначала Марта ужасно переживала, но рана, к счастью, оказалась несерьезной.
Затем Генри разругался в пух и прах со своим начальством в военном министерстве. У них уже давно существовали трения, поскольку Генри упорно сидел на своем коньке – создать плацдарм английской армии на континенте, чтобы наши союзники не оказывались все время в одиночестве. После того, как Бонапарт всыпал австриякам под Маренго,[17] Генри стал буквально одержим этой идеей и настаивал на немедленном осуществлении своего плана, угрожая в противном случае уйти в отставку. Его требования были встречены с насмешкой, и он действительно подал рапорт об отставке. Хотя Генри давно подумывал о том, чтобы оставить службу и переселиться в Маунт-Менон, случившееся стало болезненным ударом по его самолюбию.
Заперев лондонский дом, мы произвели организованное отступление в Суссекс, однако Генри стал чахнуть и все больше отдаляться от окружающего мира. Теперь он вовсе не претендовал на физическую близость со мною и часто лежал рядом так неподвижно, что я была вынуждена дотрагиваться до него, желая убедиться, что он еще жив.
Отчасти его истерическое стремление ослабить нажим на наших австрийских союзников объяснялось личными страхами. В силу того, что Генри пользовался репутацией выдающегося стратега, его сын был прикомандирован к австрийской армии в качестве военного консультанта. Генри боялся именно за него.
Вскоре нам пришлось убедиться в том, что опасения его были не напрасны. Это случилось перед самым Рождеством. Я встала поздно и только собиралась позавтракать, как в комнату вбежала Марта. Лицо ее было белым как полотно.
– Скорее… Пойдемте к сэру Генри, у него удар.
Я поспешила вслед за ней в библиотеку. Генри лежал, вытянувшись на полу. Его обычно бледное лицо было теперь багровым, дышал он шумно и с большим трудом. Встав рядом с ним на колени, я развязала ему галстук и расстегнула сюртук, а затем велела перепуганному мальчишке-посыльному с почты, беспомощно стоявшему рядом, немедленно бежать за доктором. В левой руке Генри была зажата бумага, с виду похожая на официальный документ. С трудом разжав его стиснутые пальцы и разгладив лист, я стала читать. Это было официальное сообщение, подобное тому, в котором говорилось о взятии Серингапатама и гибели Крэна. На сей раз речь шла о сокрушительном поражении, нанесенном австрийцам французским генералом Моро 3 декабря под Гогенлинденом. В конце документа была сделана приписка: «С глубочайшим сожалением вынуждены сообщить о смерти капитана Джона Рашдена, прикомандированного к австрийской имперской армии, наступившей от ран, полученных во время указанного сражения».
Глядя на искаженное лицо Генри, я жалела его всем сердцем. И снова я проклинала Наполеона. Мне не было дела до того, что он сокрушил австрияков. Я не могла простить ему того, что он сокрушил Генри, и думала, настанет ли когда-нибудь конец этой бессмысленной бойне.
Пришел врач. Генри пустили кровь и осторожно перенесли в постель. Сидя у его изголовья и прислушиваясь к свистящему дыханию, я думала о том, милосердно ли мы поступили по отношению к нему, будет ли он благодарен нам за то, что мы вернули его из царства теней, где собрались все те, кого он когда-то любил? Но людьми руководят безжалостные правила, объединяющие нас в борьбе с общим врагом – смертью. Мы не могли позволить ему умереть только потому, что ему этого хотелось, и в итоге, не отходя от Генри ни на минуту, мы с Мартой вернули его к жизни.
К Новому году он немного пришел в себя, но дух его был уже полностью сломлен. К середине января Генри поправился настолько, что даже мог ходить, но он угасал прямо на наших глазах, съеживаясь, как осенний лист под ударами заморозков.
Однажды он робко вошел в мою комнату, держа в руках обтянутую кожей шкатулку. Аккуратно поставив ее на стол, он тяжело опустился в кресло.
– Дорогая моя, – слабым голосом произнес Генри, – видимо, у меня осталось немного времени, поэтому я решил принести тебе это, пока я еще в состоянии. Я хочу, чтобы все это осталось у тебя.
Я открыла шкатулку. Она была полна драгоценностей. В большинстве это были старомодные наборы украшений, хотя и очень красивые – драгоценности его жены. Я была глубоко растрогана.
– Я берег их для жены Джона, но теперь… – тоскливо сказал он, и вдруг его голос окреп и наполнился гневом. – Почему Джон? Почему именно он, Элизабет? Почему на его месте не мог оказаться я? Я был бы рад, просто счастлив уйти, умереть, если бы только это сохранило Джона!
И Генри затрясся в жалких, беспомощных стариковских рыданиях. Это был плач, который разносился во все концы Времени, плач, которому суждено остаться без ответа. Я сидела молча. Я хотела утешить его, но сердце мое понимало, что утешения нет.
Вскоре после этого Генри окончательно слег. Огонек его жизни мерцал все слабее, и 2 апреля 1801 года, когда Нельсон справлял победу в сражении под Копенгагеном, наконец потух навсегда.
Я не оплакивала Генри. Наоборот, я была рада, что его бедная измученная душа все же обретет наконец покой, а возможно, даже и счастье. И все же печаль переполняла мое сердце. Никогда уже Маунт-Менон не увидит, как Джон Рашден приведет сюда юную невесту, и новое поколение Рашденов не вырастет среди красоты и покоя этих мест. Мне было больно смириться с этой безумной и бессмысленной потерей.
11
Хозяином Маунт-Менона стал брат сэра Генри. Он жизнерадостно намекнул, что, если я продолжу выполнять свои «обязанности», он будет приветствовать это всем сердцем. Но я уже устала от старой плоти, устала от отчаяния и печали, что клубились над моей головой на протяжении последних двух лет. Поэтому, когда в мае снова набухли бутоны, а примулы и первоцветы осыпали поля золотом, я простилась с Маунт-Меноном.
Марта уехала со мной, несмотря на мое предупреждение, что, если дела пойдут неважно, мне придется отпустить ее. В ответ на это она лишь одарила меня одной из своих загадочных улыбок и согласно кивнула головой. Да и я в глубине души знала, что теперь мы уже никогда не расстанемся. Я арендовала у Белль небольшой домик и поселилась там наедине с неприятной перспективой – мне вновь предстояло продать единственный имевшийся у меня товар.
Помимо драгоценностей, сэр Генри отписал мне в своем завещании еще две тысячи фунтов. Мне казалось, что это было гораздо больше, чем я заслужила, а с учетом приобретенных мною знаний платить, возможно, должен был не он, а я. Я оставила себе самые лучшие драгоценности, а остальные продала, получив на этом еще полторы тысячи. Мой капитал теперь составлял около семи тысяч фунтов стерлингов, и все же до той цели, которую наметил мне Джереми, предстояло еще идти и идти, а я уже была далеко не девочкой. Мне исполнилось двадцать три, и за последние два года я забыла, что такое смех.
Джереми решил, что для меня наступило самое подходящее время купить собственный дом. Это означало хорошее вложение капитала на будущее, но и значительное его уменьшение в настоящем. Он начал переговоры о приобретении одного из домов, строившихся на Уорик-террас, совсем рядом с Эдвер-роуд. Я тем временем показывалась на балах и приемах и не без удовольствия заметила, что о Прекрасной Элизабет еще не совсем забыли. Однако в воздухе витала усталость, как будто люди были измучены бесконечными и непосильными требованиями, которые предъявляла война. Возможно, эта усталость существовала только во мне, поскольку, глядя на отметины, оставленные временем на внешности Белль, я словно в зеркале видела саму себя через несколько лет, и мысли эти не приносили утешения.
Однажды, придя домой, я обнаружила, что меня ожидает Джереми – взволнованный и неуверенный. Оба эти качества были настолько несвойственны ему, что я воскликнула:
– Боже мой, что случилось! Ты выглядишь так, словно тебя бросил твой последний мальчик!
Даже не улыбнувшись, Джереми стал бегать на своих тоненьких ножках взад-вперед по комнате, будто за ним гонялась стая чертей.
– Элизабет, только что я получил самое неожиданное в моей практике предложение. Оно мне не нравится, я его не понимаю, но я счел своим долгом рассказать тебе о нем.
– В таком случае прекрати прыгать по комнате, как старая скаковая лошадь, сядь и выпей со мной немного вина.
Кое-как он уселся и начал рассказывать:
– Предложение поступило от капитана Джона Чартериса из третьего гусарского полка. Он предлагает две тысячи фунтов аванса, шесть фунтов еженедельно в течение года, оплату всех твоих счетов и должность домохозяйки в его лондонском особняке.
Чартерис? Я пыталась вспомнить, кто же это такой.
– Почему же ты так разволновался? – спросила я Джереми.
– Во-первых, он пользуется довольно сомнительной репутацией, его считают весьма подлым человеком. Кроме того, когда он пришел ко мне, его буквально трясло от похоти.
Наконец-то я вспомнила этого Чартериса. Коротенький, чернявый, толстый, молодящийся человечек с сальной кожей и темными блестящими глазами. Он часто наблюдал за мной, когда я появлялась с Крэном, а на одном из приемов Генри подкараулил меня одну и пытался заигрывать. Я вспомнила, как он постоянно хотел дотронуться до меня, и наконец поняла, что имеет в виду Джереми: в этом человеке было что-то крайне нездоровое.
– Да, – неторопливо ответила я, – теперь вспомнила. А что конкретно ты имеешь в виду, говоря о его сомнительной репутации? По крайней мере в сделанном им предложении ничего нечестного нет.
Расстроенный Джереми бурчал в ответ что-то нечленораздельное.
– Я пытался что-нибудь выяснить, но… Ничего конкретного, одни только слухи. Его первая жена умерла при довольно странных обстоятельствах. Со второй он, говорят, обращается безобразно, всячески унижая ее. И еще, пожалуй, то, что Чартериса терпеть не могут его коллеги-офицеры. В этом, конечно, ничего особенного нет, но, если бы у нас было еще одно предложение, пусть даже не такое выгодное, я, не колеблясь, дал бы Чартерису от ворот поворот. Однако в том-то и дело, что больше у нас ничего нет, – закончил Джереми с тяжелым вздохом.
Я в это время обдумывала услышанное. Две тысячи фунтов значительно приумножат мой капитал – я почти доберусь до своей цели. Кроме того, Джон Чартерис был относительно молод – ему исполнилось от силы лет сорок, а это при моем нынешнем состоянии духа было дополнительным и довольно весомым очком в его пользу.
– Если ты не можешь раскопать ничего конкретного относительно его персоны, почему бы тебе просто не ответить, что я готова принять это предложение, но не более чем на шесть месяцев? К тому же, если он действительно такой мерзавец, как ты говоришь, грубо отказать ему было бы небезопасно. Если он согласится, постарайся покрепче повязать его всякими юридическими закорючками, а я попробую пройти через это. В конце концов, нет ничего такого, чего не смог бы вытерпеть человек на протяжении полугода.
Джереми выглядел мрачным.
– Повязать-то я его повяжу. Но я понимаю одно: если он подпишет все наши бумаги, это будет означать, что он действительно помешался от желания владеть тобой.
Я прочитала подготовленные документы и некоторое время не могла прийти в себя от изумления. Они настолько изобиловали всяческими оговорками и условиями, призванными защитить меня, что, казалось, Чартерис вряд ли будет иметь право даже посмотреть на меня. Джереми предусмотрел и вписал в документ такие вещи, читая о которых, я чувствовала, что краснею. Здесь присутствовал термин «личный ущерб», который предусматривал защиту от побоев и болезней. Здесь был пункт, касавшийся menage-a-trois,[18] который запрещал ему приводить в дом еще одну любовницу в течение всего времени, пока там буду находиться я, а также требовать от меня «услуг» в присутствии еще одного мужчины. И так далее – ad infinitum.[19] У меня не укладывалось в голове, как Джереми удалось предусмотреть абсолютно каждую мелочь.
– Если Чартерис подпишет все это, значит, он сумасшедший, – согласилась я с Джереми. Тогда я даже не догадывалась, как близка была к истине.
Джереми вернулся через несколько дней, и опять с угрюмой физиономией.
– Он все подписал, и я боюсь, Элизабет, что мы с тобой дали маху. Я уже начинаю чувствовать, что это за человек. И мы еще кое о чем забыли. О Марте.
Я поперхнулась. Предусмотрев все остальные мелочи, мы совершенно забыли включить пункт о личной служанке.
– Я вспомнил об этом только сегодня, – продолжал Джереми, – и невзначай сказал ему, даже не думая, что тут могут возникнуть какие-либо проблемы. Тогда он перечитал подписанные им бумаги – если бы ты видела, как гнусно он при этом выглядел! – и сказал, что, поскольку такого пункта в соглашении нет, то об этом нечего и говорить. Он заявил, что у него в доме уйма прислуги, которую ты можешь использовать по своему усмотрению, а персональная служанка тебе вовсе не нужна. Я возразил, что ты очень привязана к женщине, которая служит у тебя, и если надо, будешь платить ей зарплату из собственных денег. Думаю, ты не стала бы против этого возражать.
В ответ я утвердительно кивнула головой.
– И что же ты думаешь? Он только фыркнул, сказав, что ему уже приходилось сталкиваться с подобными преданными служанками и больше он не потерпит ни одну такую в своем доме. Они, видите ли, подрывают его авторитет! Таким образом, если ты отправишься туда, то без Марты.
Джереми вновь принялся бегать по комнате.
– Еще не поздно, Элизабет, он должен заплатить аванс только завтра утром. Что если нам отказаться и объявить соглашение недействительным?
Я думала. Отказ Чартериса мог быть спровоцирован очень жесткими, почти оскорбительными условиями соглашения. Вполне возможно, что это была всего лишь реакция ущемленного самолюбия. Более того, думалось мне, нет худа без добра. Чартерис уже продемонстрировал свой мерзкий и склочный характер, а учитывая то, насколько фанатично была предана мне Марта, это могло обернуться крупными неприятностями, о которых мне было даже страшно подумать. Если бы ей показалось, что меня обижают, она способна была хладнокровно, не задумываясь, убить обидчика. Но что же с ней теперь делать? Всеми этими мыслями я поделилась с Джереми.
Он неохотно признал, что в моих рассуждениях есть определенная логика, и, что если Марта согласится, она может вести хозяйство у него в доме до тех пор, пока не будет закончено сооружение моего собственного. Мы позвали Марту, и началась конференция с участием трех договаривающихся сторон. Марте вся эта затея не нравилась точно так же, как и Джереми, – они к этому времени уже начинали становиться друзьями, – и это при том, что, разумеется, многих деталей мы ей не рассказали. Марте была ненавистна сама мысль о том, что я останусь без ее присмотра на целых шесть месяцев, но я смягчила ее, пообещав, что, если она переселится к Джереми, я буду часто навещать ее, а когда закончат мой дом, на нее ляжет обязанность следить, как его обставляют и украшают. Таким образом, пусть с огромной неохотой, но они оба согласились со мной.
До сих пор не пойму, зачем я так упорно стояла на своем, если уже в тот момент все было совершенно ясно. Видимо, только потому, что Джон Чартерис также являлся частью моей судьбы и ему суждено было вплести в ее ткань свою суровую нить. Сначала – к моему горю, потом – к радости.
Приготовления продолжались. Чартерис должен был уплатить Джереми аванс, а затем вызвать меня, чтобы я начала устраиваться в его доме. Уходя, Джереми обернулся и сказал:
– Элизабет, запомни накрепко: с этим человеком ты должна быть твердой, как алмаз. Ты должна настаивать на выполнении каждого слова, записанного в контракте, невзирая на любые мольбы и угрозы. Если возникнут какие-либо проблемы, связанные с деловой стороной всего этого, отправляй его ко мне. Слава Богу, у меня есть Карлуччи – он может очень пригодиться, когда имеешь дело с таким парнем, как Чартерис, который, по-моему, еще и трус.
Карлуччи был очередным увлечением Джереми. У этого огромного светловолосого гиганта – выходца из Северной Италии – вряд ли хватило бы мозгов даже на то, чтобы перекреститься, но своему странному любовнику он был предан, как собака. Джереми нашел его в бродячем цирке, где тот гнул железные прутья и дрался с тремя мужчинами одновременно.
– Если Чартерис будет требовать чего-то в нарушение контракта, – продолжал Джереми, – ты должна немедленно покинуть его дом и сразу же идти ко мне. Понятно?
Надеясь, что Джереми попросту драматизирует ситуацию, я кивнула головой. Однако его опасения все же передались и мне, поэтому я решила оставить большую часть своих драгоценностей и гардероба под присмотром Марты. Если мне придется быстро ретироваться, размышляла я, врагу по крайней мере не достанется все, чем я владею.
Наступил следующий день. У моих дверей остановилась карета. В голове мелькнула мысль о том, сколько раз с замирающим сердцем я слышала этот звук, думая, что в следующую секунду откроется дверь и в комнату войдет Крэн, но я одернула себя. Прошлого не вернуть, теперь для меня существовало только настоящее.
В дверях появился Чартерис. Он был еще ниже, чем мне казалось, и даже без каблуков я возвышалась над ним по крайней мере на дюйм. Выражение его лица было как у человека, который только что проглотил очень дорогое лекарство, но не сомневается в том, что оно ему поможет. Когда он разглядывал меня с головы до ног, лицо его лоснилось, а глазки жадно блестели.
– Элизабет, – произнес он. Голос у него был довольно приятный, хотя он немного шепелявил. – Прекрасная Элизабет! Я мечтал о вас с того самого момента, когда впервые увидел.
Я покорно подошла к нему. Чартерис обнял меня и поцеловал – голодным и мокрым поцелуем. Кожа его была теплой и влажной, но от нее хотя бы не пахло старостью. Наконец он отступил и улыбнулся, показав маленькие, белые и острые зубы – почти как у кошки. В улыбке его было что-то неприятное.
– Да, я мечтаю о вас очень давно, но я терпелив, и никакие препятствия не могут помешать выполнению моих желаний. Я всегда достигаю цели, всегда! Нет ничего, что не покорилось бы воле человека, если он достаточно терпелив и обуреваем желанием.
И он поцеловал меня еще раз. Его язык впрыгнул в мой рот и стал вертеться там, как разъяренная змея, но губы оставались холодны. Затем он резко отстранился.
– Поехали, – бросил он мне через плечо, – ваши вещи привезут позже.
Я последовала за ним к карете.
Не успели мы отъехать, как Чартерис засунул руку мне за корсаж и принялся мять мои груди. Он молча пожирал меня глазами, затем залез под платье и попытался щупать меня там, однако, наткнувшись на чулки и нижнее белье, вытащил руку с такой физиономией, будто его ужалили. Чартерис изобразил улыбку, но глаза его оставались ледяными.
– Я всегда считал, что нижнее белье – это не более чем жеманство со стороны хорошеньких женщин. Больше вы его не будете носить. Если вы считаете, что оно возбуждает мужчин, могу вам сообщить, что я в возбуждении подобного рода не нуждаюсь. Все, что мне нужно, – это удовлетворение.
После этого он умолк.
Наконец мы добрались до его дома. Особняк, выстроенный в стиле королевы Анны, производил тяжелое впечатление. Стены его покрывала лондонская сажа, и он нуждался в срочной покраске. Внутри дом был добротно обставлен и украшен, однако во всем чувствовался старомодный вкус, и обстановку также не помешало бы подновить. Слуги были выстроены в шеренгу, и Чартерис пошел вдоль нее, лающим голосом оглашая имена и обязанности каждого и при этом глядя на них, как на пустое место. Одни выглядели виноватыми, другие – запуганными, третьи – угрюмыми, но все они олицетворяли собой абсолютную покорность.
Закончив эту процедуру, Чартерис разогнал слуг и подал мне знак следовать за ним на второй этаж. Поднявшись первым, он подождал меня, придерживая дверь. Когда он повернулся ко мне, я заметила, что блеск в его глазах исчез. Теперь они были пустыми и мертвыми.
– Раздевайся, – приказал он.
Я попробовала разыграть из себя дурочку и скроила такую мину, будто услышала это слово в первый раз.
– Раздеваться?
– Да, раздевайся, – нетерпеливо повторил он.
– Вы имеете в виду, что я должна снять с себя одежду? – продолжая разыгрывать удивление, спросила я.
– Да, и немедленно! – почти зарычал он.
Я разделась. Весь в поту, он смотрел на мое обнаженное тело.
– Нагнись над постелью, – приказал он.
От этого меня передернуло, но я повиновалась. Я почувствовала, как он навалился на меня сзади, руки его судорожно тискали мои груди. Однако скоро все кончилось. Чартерис повернул меня к себе и изучающе посмотрел мне в лицо. Оно было бесстрастным. Уроки Крэна сделали меня выносливой.
– Ложись на постель, раздвинь ноги, руки – за голову.
Голос его был холодным и отвратительным, лицо слегка подергивалось. Я сделала так, как мне было велено. Чартерис взобрался на меня. На сей раз ему понадобилось больше времени, и, когда мне показалось, что у него не получается, я опустила руки, желая помочь. Но он резко и нетерпеливо отбросил их.
– Делай, что тебе говорят! – рявкнул он.
Тогда я снова расслабилась. Мне стало немного страшно, потому что я, кажется, начала понимать, что за человек этот Джон Чартерис.
Мне приходилось видеть и слышать о таких, как он. Они покупали изумительных чистокровных лошадей, а потом жестоко загоняли их – до тех пор, пока те не превращались в полудохлых одров. Они покупали прекрасные картины и прятали их в темных и пыльных комнатах, где никто не мог видеть этой красоты и где полотна со временем неизбежно портились. Они намеренно искали умных, одухотворенных и любящих женщин, а когда те оказывались в их власти, запугивали и изводили их до тех пор, пока невыносимое ярмо не ломало душу и тело этих несчастных.
Чартерис натянул бриджи; что касается рубашки, то он даже не брал на себя труд снимать ее. Не глядя на меня, он пролаял:
– С тобой пока все. Вернусь к шести. Будь готова и одета к ужину. Потом мы поедем в «Ранело». И не забудь, что я сказал тебе в карете.
После его ухода я осталась лежать в глубоком раздумье. Мне было холодно, меня тошнило – и в прямом, и в переносном смысле. На меня наводили ужас даже не сами эти совокупления: после Крэна не осталось, наверное, ничего, что было бы мне неизвестно относительно половых отношений. Мне был отвратителен тот дух, которой пронизывал эти соития. С Крэном это было если не радостью, то по крайней мере полными света путешествиями по неким чистым морям наслаждения. Теперь, когда ко мне прикоснулся злой дух Чартериса, я впервые увидела, какой отвратительной может быть похоть, какую боль может причинить она тому, кем хотят обладать. Чартерис действительно жаждал меня – это было правдой. Но его желание основывалось на тяге к разрушению. Даже при тех ограничениях, которые предусмотрел Джереми в отношении Джона Чартериса (а я была уверена, что этот трус побоится навлечь на себя хоть какую-то кару), тот, бесспорно, использует власть, которую имеет надо мной, чтобы сломить мою волю, мой дух и мое тело.
Но я также не сомневалась, что за те полгода, что есть у него в запасе, ему это не удастся. Я плохо знала этого человека, но уже успела раскусить его мелочную и подлую душонку. Унижениям, которым он подвергал мое тело, я могла противопоставить ум и собранную в кулак волю, друзей, в чьей преданности не приходилось сомневаться, и еще память о любви другого рода и далекую, далекую фигуру, с которой вопреки всем доводам рассудка я связывала надежду на счастье.
Так что в «кошках-мышках», которые вскоре должны были начаться между нами, Джон Чартерис был обречен на проигрыш. Оглядываясь назад, я думаю, что, даже если бы за моей спиной не было столь мощной поддержки, я все равно одержала бы над ним верх, поскольку в самом злобном «я» Чартериса были уже заложены семена саморазрушения. Я знала подлых людей, которые, несмотря на это, были щедры, знала непорядочных, которые могли быть ласковыми, и знала трусов с доброй душой. Но я не знала ни одного человека, кроме Джона Чартериса, который был бы подлым, непорядочным и трусливым одновременно. В нем все эти три качества были развиты до невероятной степени, и все они, будучи направлены против окружающих, били рикошетом в первую очередь по нему самому.
Я по-прежнему лежала на постели, но пассивность во мне уступила место ярости. Что ж, если последующие месяцы придется провести, получая удары и нанося ответные, так тому и быть! Я оделась, чтобы выйти на улицу. Я была готова нанести первый контрудар.
Обойдя все свои излюбленные магазины, я заказала столько новых шляпок и платьев, что мне должно было хватить их по крайней мере на год вперед. Всем продавцам я строго наказала прислать счета капитану Чартерису не позже завтрашнего дня, а если в течение месяца они не будут оплачены, то их следует переслать мистеру Винтеру, который без труда вытрясет из капитана деньги. Я также сообщила, что в течение следующих нескольких месяцев собираюсь сделать еще много покупок, и попросила их подготовить для меня все самые изысканные товары, какие только есть на складах. Поскольку в этих магазинах я всегда считалась хорошим клиентом, их хозяева были рады услужить мне. Для меня же в грядущие полгода они могли стать неоценимыми союзниками. Думаю, самые умные из них догадались, что грядет нечто необычное, и, проникшись духом этой игры, приготовили собственные сюрпризы для капитана Чартериса. Довольная проделанной работой, я отправилась домой и оделась – именно так, как повелел мне мой властелин.
Вернувшись домой, он стал лихорадочно вглядываться в мои глаза в поисках хоть каких-то эмоций, я же была с ним приветлива – так, будто он только что спустился к утреннему чаю. От охватившего его разочарования Чартерис буквально взбеленился, и по дороге в «Ранело» мне, как я и опасалась, пришлось испытать весьма большие неудобства физического характера. После того, как мы приехали туда, он почти сразу бросил меня, и, если бы не старый друг Белль – кавалерийский офицер, я оказалась бы в крайне неудобном положении – одна в столь людном месте. Офицер и два его младших коллеги, желая вывести меня из затруднения, приняли в свою компанию. Через некоторое время вернулся Чартерис. Увидев, что, вопреки его ожиданиям, я не одна и не в растерянности, а окружена друзьями и пребываю в прекрасном настроении, он закатил мне отвратительную сцену. То, что он говорил, было до такой степени неприятным, что один из младших офицеров даже пригрозил ему дуэлью. После этого Чартерис моментально сник и мрачно велел мне собираться. В последующие месяцы такие сцены повторялись очень часто, и, надо сказать, я вполне привыкла к этому. В этот, самый первый раз, признаюсь, я была немного расстроена и, наверное, поэтому не задумалась над тем, что именно угроза вызова, брошенная молодым офицером, на какое-то время сделала Чартериса абсолютным импотентом.
Мы вернулись домой, и он лег со мной. Но, даже несмотря на мои усилия, которым теперь мой властитель уже не препятствовал, он не смог добиться ничего. Поэтому, вылив на мою голову ушат грязных оскорблений, он оставил меня в покое – наедине с ночью и моими мыслями.
Так прошел первый день битвы между нами. Этот день не был для меня бесполезен: мне удалось отыскать уязвимые места моего противника. Во-первых, он был трусом, и угроза физической расправы могла стать хорошим способом давления на него. Во-вторых, то ли из-за постоянной потребности спариваться, то ли вопреки ей потенция Чартериса была весьма низкой. На сей раз я имела дело не с полноценным мужчиной, а с невротиком-извращенцем. Что ж, перспектива не особенно приятная, но и не смертельная.
Когда Чартерис обнаружил, что своими обычными постельными упражнениями не может вызвать у меня вообще никаких эмоций – ни удовольствия, ни ярости, он стал изобретать способы как можно больнее задеть меня. Без сомнения, он был не дурак. Заметив, что в самом хорошем расположении духа я нахожусь по вечерам, а в плохом – по утрам, он перенес удовлетворение своих запросов на утренние часы. Увидев, что я привыкла и к этому, он стал экспериментировать, выбирая для совокупления самые странные места и моменты, пытаясь таким образом выбить меня из колеи. Нередко он приглашал меня днем в свой кабинет, приказывал раздеться и затем часами ласкал, заставляя меня принимать самые немыслимые позы, которые придумывало его низменное воображение. Под конец мне уже хотелось кричать и плакать от всего этого ужаса, но никогда – ни разу! – я не дала ему это понять. Иногда он заставлял меня раздеться и, встав на колени у кресла, в котором он сидел, ртом… Ну, я не буду продолжать. Даже теперь, спустя много лет, мое тело сжимается от стыда, и единственное, чего мне хочется, – забыть об этом раз и навсегда.
Его низость причиняла мне много страданий. Когда ему стало ясно, что он не может сломить меня с помощью обычных унижений, у него, я уверена, зачесались руки от желания испытать мою волю, пустив в ход хлыст или огонь, но на это он не отважился. Этот человек был буквально пропитан подлостью. Когда к нему пришла первая пачка счетов за мои покупки, он метался по дому как безумный и, швыряя их мне в лицо, требовал объяснений. Я холодно предложила ему перечитать наше соглашение и сказала, что все деловые вопросы решаются через Джереми.
Однако встречи с Джереми также не приносили Чартерису никаких результатов. Не желая выслушивать его истерики, Джереми попросту звал Карлуччи, которого по моей просьбе он предварительно проинструктировал на случай подобных стычек. Джереми сказал капитану, что теперь его станет представлять именно Карлуччи, который первого числа каждого месяца будет появляться в нашем доме со счетами к оплате. Если же по каким-то причинам денег не окажется, то он, Джереми, за поведение Карлуччи не отвечает.
– Будучи итальянцем, – мягко объяснил Джереми Чартерису, – Карлуччи чрезвычайно вспыльчив, а поскольку он крайне привязан к Прекрасной Элизабет, то воспримет любое посягательство на ее интересы как личное оскорбление. Капитан Чартерис, без сомнения, понимает, что такие здоровые ребята не умеют держать себя в руках и от них можно ожидать всякого.
С большой неохотой капитан Чартерис понял и под угрозой того, что первого числа каждого месяца его будет потрошить ужасный Карлуччи, стал более покладисто расставаться с суммами, необходимыми для оплаты моих поистине вымогательских счетов.
Та же история происходила с содержанием дома. Когда я выбранила кухарку за ужасные блюда, она принялась оправдываться тем, что ей практически не дают денег на ведение домашнего хозяйства. Проверив ее слова, я убедилась в том, что женщина говорила чистую правду. Чтобы не затевать еще одну битву, я стала питаться днем (поскольку Чартерис в это время редко бывал дома) с Джереми или с Белль. Это было приятнее во всех отношениях: я не сидела в одиночестве и одновременно избавила себя от дрянной еды во время домашних обедов или в ресторанах, где скупость Чартериса также не позволяла поесть по-человечески.
Гости к нам не приходили, поскольку Чартерис своим подлым нравом сумел восстановить против себя всех знакомых, да он и не видел в этом надобности. Зато мы бывали на людях практически каждый вечер. Завладев предметом своих вожделений, Чартерис сгорал от желания похвастаться мною, как своим военным трофеем, хотя впоследствии неоднократно случались неприятные сцены вроде той, что произошла во время нашего первого приезда в «Ранело». Но так было не всегда. При желании он умел быть вежливым и обаятельным. В такие дни мне даже казалось, что его вполне можно выносить. Но все равно потом он говорил и делал что-нибудь до такой степени отвратительное, что меня передергивало и ненависть к нему возвращалась с новой силой.
Все время, проведенное рядом с Чартерисом, представляется мне одним большим грязным пятном, но несколько эпизодов заслуживают того, чтобы рассказать о них отдельно. Как-то раз мы отправились на прием. Чартерис находился в отвратительном расположении духа и бросил меня после первого же танца. Я чувствовала себя ужасно, поскольку перед выездом, когда я одевалась, он вынудил меня к одному из своих омерзительных совокуплений, а уж то, что он вытворял в карете, было просто немыслимым. Поэтому вместо того, чтобы по обыкновению искать своих старых друзей, я присела на один из диванов, стоявших вдоль стен бального зала. В длинном зеркале, висевшем в простенке, я видела свое бледное измученное лицо с печатью невероятной усталости. Мне казалось, что время застыло.
Внезапно я заметила, что передо мной остановилась фигура мужчины, и знакомый голос медленно протянул:
– Не откажешься ли ты перекинуться несколькими словами со своим старым другом, Элизабет?
Подняв глаза, я увидела перед собой Неда Морисона. Я была рада встретить его, но чувствовала себя слишком измученной, чтобы куда-то идти.
– А не можем ли мы поговорить прямо здесь, Нед? – слабо улыбнулась я.
– Нет, мне нужно поговорить с тобой наедине, Элизабет.
Голос Неда звучал жестко, взгляд был суров. Я встала, и он вежливо проводил меня в одну из маленьких комнат по соседству с залом для танцев. Затем, плотно закрыв дверь, подошел и сел рядом.
– Я только что вернулся из Ирландии, – мрачно заговорил он, – и когда услышал про вас с Чартерисом, то сначала просто не поверил. Скажи мне, ради всего святого, что заставило тебя связаться с типом вроде него? Ведь ты не могла не слышать, что он собой представляет!
В ответ я устало пожала плечами.
– Нельзя быть всегда рядом с лучшими – сам понимаешь, Нед. Кроме того, я не слышала о нем ничего определенного, если не считать слухов.
– Для того чтобы понять, какую жизнь он тебе устроил, достаточно взглянуть на твое лицо, – упорствовал Нед. – Этот человек и так топчет землю слишком долго. Позволь мне вызвать его на дуэль и избавить мир от этого мерзавца раз и навсегда. Я обязан сделать это ради Крэна.
Зря он упомянул это имя. Я находилась в таком состоянии, что не выдержала и разрыдалась.
– Стоит мне подумать, что бы сделал Крэн с подобной тварью… – Нед был тоже слишком расстроен, чтобы продолжать.
– Не надо, Нед, – всхлипнула я, – мне становится только тяжелее от воспоминаний, которые ты приносишь с собой.
С этими словами я выбежала из комнаты и окунулась в шумный, бурлящий водоворот бала. Я бежала не от Неда, а от пурпурно-золотого призрака, с улыбкой стоявшего за моим плечом, обнимая юную девушку, еще не успевшую познать зло, – ту, которая теперь превратилась в такого же призрака.
Вопреки моему желанию Нед решил довести свой план до конца и нанес Чартерису настолько грубое оскорбление, что дуэль казалась уже делом решенным. Однако, как я и предполагала, трусость Джона оказалась сильнее его гордости, и он отвертелся от дуэли, послав Неду пространные и малодушные извинения. А пострадала из-за этого, конечно же, я, хотя Джон вовсе не подозревал, что своими неприятностями был обязан именно мне.
Наверное, только Джереми догадывался, через какие испытания мне пришлось пройти за все это время, и только он, вероятно, смог оценить силу моей воли. Он помогал мне, восхищался моими контрударами и с благоговением взирал на то, как мастерски я пускаю на ветер деньги Чартериса. За эти шесть месяцев я смогла сделать такие запасы лент, шляпок, тканей и прочего, что их хватило бы мне на несколько лет. Я буквально опустошила магазины. Как-то раз мы с Джереми сидели в его кабинете, тщетно размышляя, что бы такое еще я могла учинить, и вдруг ему в голову пришла свежая мысль.
– Жаль, что мы ограничили твои счета платьями и услугами модисток, – сказал он. – При твоих вкусах и учитывая, что скоро будет готов новый дом, тебе бы надо приобрести библиотеку. Представь только, какие книги ты могла бы купить, если бы нам удалось заставить его подписать такое обязательство!
– Ты же понимаешь, что он никогда…
Не успела я окончить фразу, как меня осенила блестящая идея.
– Джереми, – засмеялась я, – ты просто чудо! Он купит мне книги, даже не подозревая об этом. С этого дня повнимательнее следи за моими счетами из галантерейной лавки.
Моя шляпница была дружелюбной маленькой женщиной, и, когда я рассказала ей о своем плане, она с удовольствием согласилась мне помочь. У торговца книгами я стала покупать те издания, которые мне приглянулись; их доставляли и оплачивали за счет галантерейного магазина. А потом нам присылали счета за несуществующие шляпки. Когда Чартерис начинал рвать и метать, требуя показать ему то, за что он платил, я просто показывала ему несколько шляпок из своих старых запасов, оставленных под надзором Марты.
Иногда, войдя в раж, он мог изорвать мое платье или, схватив корсет, разломать его на мелкие кусочки, однако вскоре перестал это делать, поскольку взамен испорченной вещи я неизменно покупала что-нибудь другое, причем вдвое дороже прежнего. Теперь он предпочитал вымещать свое бешенство на мне самой или на мебели. Вытягивание денег из Чартериса мы возвели в ранг высокого искусства, так что временами мне было даже жаль этого человека.
Вскоре у меня появилось еще одно приятное занятие, отвлекавшее мои мысли от мрачной повседневности: строительство дома было наконец-то закончено. Я до сих пор не решила, каким образом он должен быть обставлен и украшен. Я поделилась общими представлениями об этом с Джереми и позволила ему действовать по собственному усмотрению. Несколько из его бывших молодых людей принадлежали к миру искусства, а поскольку, расставаясь со своими любовниками, он всегда сохранял с ними дружеские отношения, теперь к его услугам была целая группа подлинных мастеров своего дела. Результат их трудов выглядел великолепно. Поскольку дом был новым, его обставили в современном стиле, который с той поры принято называть регентским, хотя он вошел в моду еще до того, как принц Уэльский стал регентом своего отца.[20] Этому стилю были присущи легкость и утонченность, изящные линии. Как непохожа на него была массивная, тяжелая мебель предыдущей эпохи! Изысканная и необычная цветовая гамма, придуманная Джереми для дома, словно заставляла его светиться, наполняя светлым, чистым и свежим воздухом. В нем всегда было солнечно, и с трудом верилось, что он расположен в грязном дымном Лондоне. Когда я приходила в свой дом из мрачной берлоги Чартериса, мне казалось, что я попадаю в сказочную страну свежести и надежды.
А время шло. Чартерис, видя, что он может лишь внешне подчинить меня своей воле, но не в силах сломить, придумывал все новые истязания. Однажды, велев мне одеться к чаю, он сообщил, что ждет гостя. Он даже сказал мне, что я должна надеть: открытое платье из пурпурного шелка, которое вполне подходило для вечернего времени, но было совершенно неуместным для дневного чая. Он даже вынул из письменного стола кое-какие драгоценности – довольно симпатичный гарнитур из хрусталя и граната – и так же приказал мне их надеть. Я была удивлена, но сочла, что все это не стоит препирательств.
Наступило время чая, и Джон позвал меня вниз. Он буквально лоснился от удовольствия и был само обаяние, а его глазки сияли подобно черным бриллиантам. Я не могла понять, что с ним происходит.
– Я сгораю от нетерпения познакомить тебя с нашим гостем, – сказал он и настежь распахнул дверь в гостиную.
Перешагнув порог, я застыла в немом изумлении. Возле едва горящего камина сидела белокурая женщина с измученным лицом, которую я сразу же узнала: ее портрет висел в кабинете Чартериса. Это была его жена. С ужасом я смотрела на нее, и, когда она, подняв глаза, увидела меня, в них отразился ответный ужас. С первого взгляда можно было определить, что когда-то она была очень миленькой девушкой, типичной «деревенской розой». Ей и сейчас было немного лет, но, несмотря на это, она осунулась и съежилась, волосы ее стали тусклыми, щеки – мертвенно-бледными, а глаза в обрамлении светлых ресниц – красного цвета, словно не просыхали от слез. При моем появлении она поднялась, и на ее впалых щеках вспыхнули пунцовые пятна. Джон стоял тут же, ухмыляясь, словно кот, держащий в одной лапе мышь, а в другой – канарейку.
– Мадам, – сказала я, – надеюсь, вы поверите, что эта встреча произошла не по моей воле. Я не представляла, что здесь вы.
Не обращая внимания на мои слова, женщина посмотрела на Джона, и, когда она заговорила, голос ее дрожал – уж не знаю, от страха или гнева.
– Вы ведь привезли меня сюда не для того, чтобы я встречалась с этими вашими… тварями. Существует предел, за которым даже я не могу больше выносить ваших оскорблений. Я должна немедленно уехать.
– В этом совершенно нет необходимости, – вмешалась я. – Уехать следует мне.
И с этими словами я направилась к двери. Джон схватил меня за руку и, выкручивая ее, вернул на прежнее место.
– Не так быстро, – прошипел он. – Хозяин здесь я, и мне решать, кто уйдет, а кто останется. Я же ясно сказал: мы все вместе будем пить чай, значит, так тому и быть.
Тут он резко сменил тему и обратился к жене:
– Розаманда до сих пор увлекается верховой ездой? Розаманда была их десятилетней дочуркой. Краска медленно сходила с лица женщины.
– Зачем говорить о Розаманде сейчас, в такой компании. Ты не хуже моего знаешь, что верховая езда – это единственное, о чем она думает.
– Какая жалость, что в последнее время у меня были слишком большие расходы! – бросил он злобный взгляд на меня. – Боюсь, мне придется продать лошадей – уж слишком дорого обходится их содержание.
– Нет, – протестующе застонала женщина. – Ты не можешь так поступить, ведь это же наш ребенок…
– В общем-то я уже настроился на то, чтобы именно так и поступить, но, думаю, мы сможем обсудить этот вопрос за чаем, – сказал Чартерис, многозначительно глядя на меня. – Может быть, тебе и удастся убедить меня в том, что ты сможешь экономить на чем-то еще.
Женщина со стоном упала на стул и закрыла лицо руками. Я повернулась к Чартерису, не в силах сдерживать переполнявшую меня ненависть.
– Вам лучше убрать свои пальцы с моей руки. Синяки, которые на ней останутся, могут дорого вам обойтись.
Он с неохотой отпустил меня, и я села.
За этим последовало, наверное, самое неприятное и неловкое чаепитие в истории человечества. Супруга Чартериса сидела, опустив глаза и съежившись. Несколько раз он грубо требовал, чтобы она говорила со мной, и тогда несчастная женщина слабым, дрожащим голосом лепетала какие-то общие и ничего не значащие фразы. Я вежливо отвечала, не выказывая никаких чувств, но сердце мое сжималось от ненависти к нему и от жалости к ней.
Как часто я мечтала о том чувстве уверенности, которое дарит брак, но теперь, глядя на измученное тело и сломленный дух этой женщины, я поняла, каким обманом может обернуться эта «уверенность». Я, пусть уставшая, пусть изменившаяся, все же чувствовала себя под надежной защитой друзей. И я могла в любой момент избавиться от этого монстра. А вот то несчастное создание, что сидело напротив меня, только смерть могла избавить от бесконечных унижений и издевательств. Мне было мучительно даже думать об этом.
Впоследствии я попыталась разузнать о ней побольше, недоумевая, что за приступ безумия толкнул ее на этот брак. Мне удалось выяснить, что она была дочерью священника – из хорошей, но не очень состоятельной семьи. Чартерис же был очень богат. Он владел собственным состоянием и унаследовал деньги своей первой жены, которая была старше его и которую он, судя по всему, успешно загнал в могилу. Так что, несмотря на репутацию мерзавца, которую он уже снискал к тому времени, родители невесты дали благословение на брак. Видимо, не только честные бедняки были готовы продавать своих дочерей в рабство.
Наконец Джону наскучила игра в «кошки-мышки», и он грубо сказал:
– Я прикажу, чтобы подали карету. Тебе пора возвращаться. У нас с Элизабет еще есть кое-какие дела.
И, к моему ужасу, он засунул руку мне за корсаж и прямо на глазах у жены стал мять и трясти мои груди. Я отшвырнула его руку, но, к моей радости, женщина, похоже, даже не видела того, что творилось прямо перед ее глазами.
Однако когда она встала и проходила мимо, то впервые посмотрела прямо на меня и вдруг отпрянула назад с жалобным криком, как если бы я ударила ее. И тут я увидела, что она смотрит даже не на меня, а на драгоценности, которые были на мне.
– Они – ваши? Это он заставил меня надеть их, – торопливо сказала я, мечтая запихнуть все эти украшения ему в глотку, чтобы он подавился.
– Нет, – слабо ответила несчастная женщина, и мне показалось, что она вот-вот упадет в обморок, – они не мои. Они принадлежали моей матери.
И неверной походкой она вышла из гостиной. Думаю, в тот день Чартерис добился своего – он окончательно убил ее бедную душу.
Остаток дня Джон пребывал в лучезарном настроении. А как же! Ему удалось причинить максимум страданий тем, кто был в его власти. Теперь я понимала, что испытывала мать Люсинды, и, если бы у меня под рукой был крысиный яд, я бы, наверное, лично подсыпала его Джону Чартерису.
Шел последний месяц действия нашего соглашения, и чем ближе подходил конечный срок, тем больше поднималось мое настроение. Тем не менее я не расслаблялась и была готова к новым пакостям, поскольку знала: Джон не успокоится до тех пор, пока не убедится, что я сломлена. В его присутствии я старалась казаться покорной, но он, при всем уродстве своей души, был далеко не дурак и чувствовал, что на самом деле я отнюдь не так безвольна, как ему бы того хотелось.
Как-то вечером он ушел из дома один, с чем я себя и поздравила. Однако выяснилось, что радовалась я преждевременно, поскольку поздно вечером вошел лакей и доложил, что хозяин желает видеть меня в своем кабинете. Войдя в кабинет, я увидела, что Чартерис там не один, с ним был еще какой-то офицер – немец или голландец, я не смогла определить это по его мундиру. Кроме того, я знала, что ни один британский офицер не переступит даже порога этого дома. Незнакомец был большим мясистым человеком с квадратной тевтонской головой, маленькими поросячьими глазками, мокрым губастым ртом и красной физиономией. Оба приятеля были пьяны, и для пущей безопасности я встала так, чтобы нас разделял стол.
Джон оглядел меня глазами, похожими на бусинки.
– Раздевайся, мы хотим поразвлечься.
Немец таращился на меня, переминаясь с ноги на ногу, как кобыла в стойле, и облизывал свои жирные губы.
Я даже не пошевелилась.
– Позволь мне напомнить тебе о пункте соглашения, в котором говорится о menage-a-trois, Джон. Я не собираюсь делать то, что ты велишь.
Взгляд Чартериса стал злобным.
– К черту это идиотское соглашение! Снимай одежду или мы сорвем ее с тебя!
Затем, повернувшись к немцу, он прорычал:
– Видал, как мне повезло? Нарвался на гордую шлюху!
Немец не отрывал от меня глаз.
– Если она не хочет, – сказал он резким отрывистым голосом, – мы разденем ее сами. Я подержу ее, пока ты будешь резвиться, а потом ты подержишь ее для меня. А потом, когда она успокоится, мы займемся ею одновременно. Может, так будет даже лучше – хороший спорт, ja? – и он сделал движение в мою сторону.
Я схватила итальянский стилет, который Чартерис держал на столе для того, чтобы вскрывать письма и, осмелюсь сказать, для некоторых других целей.
– Если кто-то из вас посмеет хотя бы прикоснуться ко мне, я пушу в ход вот это, – произнесла я с тихим бешенством. – И если ты, Чартерис, немедленно не прекратишь эту глупую выходку, я обещаю, что тебя вышвырнут из полка и ты станешь посмешищем всего Лондона. Мне будет что порассказать о тебе, – злорадно усмехнулась я.
Джон был вне себя от ярости, но угроза, как всегда, возымела на него отрезвляющее действие. Не обращая внимания на немца, я сосредоточила всю свою волю на Чартерисе.
– Более того, некоторые мои друзья умоляли меня, чтобы я разрешила им перерезать тебе глотку. Если сегодня ночью со мной что-нибудь случится, тебе крышка, ты не доживешь и до конца недели. И причиной тому станет не дуэль, от которой ты, конечно, трусливо откажешься. Ты должен понимать, что не все мои друзья являются джентльменами.
Я вложила в свой голос всю накопившуюся во мне ненависть, и он капитулировал.
– Нет, пока она в таком настроении, с ней никакого веселья не получится, – пробурчал он немцу. – Лучше развлечемся где-нибудь еще. Пошла юн с моих глаз, ты… – И он обрушил на меня целый водопад площадной брани.
Идя к выходу, я не спускала с них глаз, поскольку немец все еще выглядел разгоряченным и свирепым. Выйдя из кабинета, я кинулась бегом в свою комнату и, заперев дверь, достала маленький двуствольный пистолетик, которым снабдил меня Джереми, предусмотрительно объяснив, как им пользоваться. Так я и сидела – в темноте, зажав пистолет в ладони и решив, что, если они станут ломиться в дверь, я пристрелю обоих. В глубине души мне даже хотелось этого.
Через некоторое время я действительно услышала, как они топают по лестнице. Однако, не остановившись около моей двери, они прошли на чердак, где обычно спали слуги. Вскоре после этого я услышала их шаги в обратном направлении, и на сей раз до моего слуха донеслось еще испуганное женское всхлипывание. Они спустились по лестнице, и через некоторое время из кабинета раздались душераздирающие крики. Кажется, так продолжалось полночи. Я сидела, стиснув уши ладонями, чтобы только не слышать этих ужасных звуков, и мне на память пришли слова Белль об участи господских служанок: «Джентльмены вытворяли бы с тобой все, что им угодно и когда угодно». Джентльмены… Боже милосердный! При том, насколько незавидным было мое теперешнее положение, я почувствовала, что мне все же приходится лучше, чем многим другим.
На следующее утро я со всех ног бросилась к Джереми и рассказала ему о том, что произошло. Прихватив с собой Карлуччи, он поехал вместе со мной к Чартерису. Я не присутствовала при их объяснении, но, без сомнения, оно было бурным, поскольку после него капитан вышел бледный как мел и с трясущимися губами. Теперь я была уверена, что больше мне уже не придется проходить через это испытание, но с ужасом и отвращением я заметила, что ковер в кабинете перепачкан кровью. У перепуганной челяди я постаралась выяснить, кто же стал жертвой той оргии; я думала, что хоть что-нибудь смогу сделать для бедной жертвы. Выяснилось, что ею стала шестнадцатилетняя девочка, служившая при кухне, но я опоздала со своим желанием помочь – немец забрал ее с собой.
В последнюю неделю, движимый какими-то своими мрачными соображениями, Чартерис решил устроить вылазку за пределы Лондона. Он предложил посетить Тан бридж-Уэллс – некогда популярный водный курорт, который теперь пришел в упадок. Хоть я и испытывала некоторые опасения, все же решила, что перемена обстановки заставит время бежать быстрее, и потому дала свое согласие.
Услышав об этом, Джереми был очень недоволен.
– Ты же знаешь, Элизабет, что срок соглашения заканчивается в субботу, – сказал он, – и сама же говоришь, что Чартерис собирается вернуться домой не раньше понедельника. Это означает, что в течение целого дня ты будешь находиться рядом с ним, лишенная какой-либо юридической защиты. Поэтому будь осторожна. Будь очень осторожна!
Я дала ему такое обещание, но сказала, что капитан мало что может сделать в таких условиях и всего за один день. Однако это не успокоило Джереми. Вскоре после нашего отъезда я получила от него записку. Дело в том, что недавно он купил для меня карету и теперь писал, что посылает ее вслед за мной в Танбридж-Уэллс. Карета должна будет находиться в конюшнях в Маунт-Зайоне, так что я смогу уехать оттуда в любой момент. Прочитав записку, я не смогла удержаться от улыбки. Какой генерал получился бы из Джереми! Он предусматривал все детали, даже возможность стратегического отступления.
В Уэллсе с Чартерисом произошла удивительная метаморфоза. На людях он был обаятелен, наедине со мной – почти дружелюбен. Однако глаза его не покидал странный блеск, казалось, он втайне чему-то радуется. Нередко я замечала, что Чартерис исподтишка рассматривает меня, и мне это очень не нравилось.
Как-то раз, когда он отсутствовал, я решила порыться в его вещах, так как по циничному обыкновению Чартериса мы занимали одну комнату в жилом доме на Маунт-Эджкомб. Первое, что я обнаружила там, был хлыст, но что я могла с ним поделать? Разве что спрятать его… И вот тут-то я наткнулась на небольшую черную бутылочку. Понюхав ее содержимое, я смогла только понять, что это какая-то кислота. Тогда я вылила немного жидкости на свой носовой платок. Ткань буквально на моих глазах задымилась и стала съеживаться, а я почувствовала, что сейчас упаду в обморок. В бутылке было купоросное масло! Когда ко мне вернулось самообладание, я села и стала размышлять над тем, что же мне делать дальше. Я уже не сомневалась в безумии Джона, а то, что ему не удалось сломить меня обычным способом, видимо, заставило его перейти грань, которую из-за своей трусости он обычно не переступал.
Теперь я ясно понимала, что перед отъездом из Танбридж-Уэллса он собирался искалечить и ослепить меня, хотя непонятно было, каким образом он надеялся избежать наказания. Впрочем, вполне возможно, что его больной рассудок даже не задумывался над этим.
Первой моей мыслью было собраться и немедленно бежать, но до конца контракта оставалось еще несколько дней, и я знала, что, поступи я так, Чартерис устроит мне целый ворох неприятностей. Для того ли я страдала все эти шесть месяцев, чтобы под конец все потерять! Затем меня осенила прекрасная мысль. Если его поймают при попытке причинить мне вред или тем более изуродовать меня, его, несомненно, засунут в сумасшедший дом. Может случиться и по-другому: даже если его план, направленный против меня, просто сорвется, это может стать толчком, который окончательно сбросит его рассудок в бездну полного безумия. Игра в «кошки-мышки», которая длилась между нами в течение полугода, не прошла даром и для меня, и мысли о различных способах мести согревали мое сердце. Я решила, что он не станет ничего предпринимать до самого последнего дня, а я в это время буду выжидать.
Вылив из бутылки купорос, я тщательно промыла ее, наполнила чистой водой и добавила туда чуть-чуть эфирного масла, которое осталось наверху, придав содержимому видимость вязкости и легкий запах. Затем я положила бутылку туда, откуда взяла. Каждый день я проверяла, не обнаружил ли Джон сделанную мной подмену, и с облегчением убеждалась, что все в порядке. Он продолжал играть взятую на себя роль милого и обаятельного человека, так что все пожилые леди, составлявшие основное население Уэллса, были просто очарованы им и шептались о нем с неослабевающим воодушевлением. Разумеется, они считали меня его женой и чуть ли не поздравляли с тем, что у меня такой приятный и умный муж. Я же цинично думала, как бы они повели себя, узнав, что мой «муж» собирается зверски разделаться со мной еще до конца недели.
Наконец наступила суббота. Мы собирались идти на танцы в «Эссэмбли румз». Я надела платье из изумрудного шифона с высоко поднятой талией, что недавно вошло в моду, маленькую зеленую шапочку и туфли на высоком каблуке. Это должно было особенно разъярить Чартериса, поскольку на каблуках я возвышалась над ним чуть ли не на голову, а он это ненавидел.
Перед тем, как ехать на бал, он протянул мне небольшую коробочку.
– Я хочу подарить тебе это, – сказал он.
Внутри находились те самые украшения из хрусталя и гранатов.
– Это не твое, чтобы дарить, – холодно ответила я. – И даже если бы эти вещи принадлежали тебе, я все равно не взяла бы их.
Глаза его стали страшными и ледяными, как у змеи.
– Если ты не возьмешь эти украшения, – прошипел он, – я клянусь, что отдам их первому встречному на улице.
Пожав плечами, я надела драгоценности. «При первом же удобном случае отошлю их его жене, – решила я, – хотя вряд ли они доставят радость этой несчастной».
На балу Джон почти не отходил от меня. Это было настолько необычно, что я даже стала испытывать неловкость. За ужином он неожиданно поднял свой бокал:
– За наш последний день, Элизабет, и пусть он нам запомнится надолго!
Я вежливо улыбнулась, но зловещий смысл его слов наполнил мое сердце холодом. Мне стало страшно. После ужина его окружила стайка старых дев, и, не желая слушать никаких отговорок, с триумфальным видом они увлекли его за собой. Мне показалось, что он пошел с ними крайне неохотно.
Желая немного успокоиться и собраться с мыслями, я вышла на улицу. Вспомнив о своей карете, я подумала, как бы мне послать записку на конюшни, чтобы она была готова на тот случай, если моим планам мщения не суждено сбыться. В надежде встретить какого-нибудь мальчишку-посыльного, я пошла вверх по улице.
Внезапно из тени раздался голос:
– Могу ли я сопровождать вас в вашей прогулке, мадам?
Я вздрогнула от испуга, но тут из мрака выступила фигура и встала в светлый круг от висевшего поблизости фонаря. От неожиданности я оцепенела. Это был Дэвид Прескотт.
Это было похоже на чудо: как если бы кто-то годами безуспешно тер волшебную лампу, а потом, в отчаянии отбросив ее в сторону, увидел, как именно в этот момент из нее появляется джинн. Смутный образ, хранимый в моем сердце все эти годы, вдруг обрел плоть и кровь. И то, что он появился именно в этот вечер, когда я вновь обретала свободу, было знаком свыше.
– Извините меня, мадам, – заговорил он, – я не хотел напугать вас. Возможно, вы не помните меня. Я Дэвид Прескотт. Мы встречались у сэра Генри.
Если бы я не была так ошеломлена его внезапным появлением, то, без сомнения, расхохоталась бы. Я его не помню? Как бы не так!
– Конечно же, я помню вас, капитан Прескотт, и помню очень хорошо, – тихо ответила я. – Я удивилась, увидев вас, только потому, что прошло так много времени… – пытаясь скрыть замешательство, добавила я.
– Я в отпуске, а моя семья живет неподалеку отсюда, – сказал Прескотт, будто продолжая разговор, прерванный накануне, а не четыре года назад.
– И это я тоже помню, – вежливо ответила я. Из-за моих высоких каблуков мы с ним оказались одного роста, поэтому могли смотреть друг другу прямо в глаза. Дрожащие лучи фонаря падали на его лицо, и я увидела, что оно совсем не изменилось: глаза остались такими же нежно-голубыми и так же меняли цвет в зависимости от настроения. А я была рада тому, что мое лицо оставалось в тени: последние годы потрудились над ним так, что лучше бы Дэвид его не видел.
– Чего бы вы хотели: вернуться обратно или пройтись? – мягко спросил он.
– Если вы не против, давайте пройдемся до Уэллса. Мне вдруг стало страшно, что неожиданно появится Чартерис и навсегда испортит этот момент. Дэвид предложил мне руку, и, когда я взяла его под локоть, между нами словно пробежал некий электрический разряд: мы обменялись быстрыми взглядами, и я вспомнила, что до сегодняшнего дня мы еще ни разу не дотрагивались друг до друга.
Я понимала, что хочу только одного: избавиться от Чартериса и никогда больше не видеть его ненавистную рожу. Я должна была уехать в Лондон немедленно, этой же ночью. Я резко остановилась.
– Капитан Прескотт, – сказала я, – могу я просить вас об огромном одолжении?
– О чем угодно, мэм, – ответил он, и в его голосе я уловила странное спокойствие.
– Я решила уехать в Лондон этой ночью. Не могли бы вы либо проводить меня до конюшен в Маунт-Зайоне, что гораздо ближе, либо до того места, где я живу, в Маунт-Эджкомб, чтобы я могла послать записку и вызвать свою карету? Я понимаю, что путь неблизок, но вы оказали бы мне неоценимую услугу.
– С радостью провожу вас куда угодно, – ответил он, – в вашей компании даже дорога до луны и обратно не покажется мне длинной. Однако вы, видимо, не захотите стоять здесь и ждать, пока я схожу за вашей каретой?
Слово «да» чуть не сорвалось с моего языка, но мне не хотелось, чтобы он покидал меня.
– Нет, – ответила я, – лучше я пойду с вами.
– Что он сделал, чтобы так запугать вас? – печальным голосом спросил Дэвид.
– Кто? – слабо переспросила я.
– Ведь вы же здесь с Чартерисом, разве не так?
От стыда, что ему обо всем известно, я внутренне сжалась, но попыталась придать своему голосу как можно больше твердости.
– Я приехала сюда с капитаном Чартерисом, но между нами все кончено. По многим причинам, говорить о которых сейчас нет времени, я не собираюсь провести еще одну ночь в его компании. Если он заметит, что я ушла с бала, он, вероятно, станет искать меня и, вполне возможно, устроит безобразную сцену. Эти сцены, впрочем, меня не волнуют, но так или иначе для всех будет лучше, если я уеду отсюда раньше, чем он обнаружит мое исчезновение.
– Понятно, – мрачно сказал Дэвид. – Что ж, в таком случае пойдемте. Но я прошу вас не беспокоиться, мэм. Нам, артиллеристам, правда, больше привычны пушки, но в случае чего мы и саблей поработать умеем.
– Этого не потребуется, капитан, – слабо усмехнулась я, – уверяю вас. Для того чтобы достигнуть желаемого эффекта, будет достаточно направить в сторону капитана Чартериса ножны. Он ведет себя как лев только с беззащитными женщинами.
Дэвид крепче сжал мою руку, и мы пошли по направлению к холму, за которым лежал Маунт-Эджкомб. Мимо нас пробегал мальчишка-посыльный, и Дэвид дал ему немного денег, чтобы тот передал в конюшни записку с просьбой прислать мою карету. Мальчишка убежал. Стояла мягкая и теплая не по сезону ночь, ведь был уже конец ноября, и я с удивлением подумала о том, какой мир внезапно воцарился в моей душе.
Мы шли в молчании, но у подножия холма Прескотт заговорил:
– Если мы пойдем этой дорогой, она займет не менее получаса. Здесь можно срезать путь и добраться до вашего жилища за пятнадцать минут. Думаю, нам следует пойти именно так. Однако тропинка тут грязная, а на вас легкие туфли, поэтому я вас понесу.
– Нет, – стала протестовать я, – вы не можете тащить меня полмили вверх по этому ужасному холму – это убьет вас!
Но он только засмеялся:
– Что ж, я попробую или с доблестью погибну. Если я сломаюсь на полпути, вам придется нести мои жалкие останки до самого дома.
И без лишних слов он взял меня на руки и стал легко взбираться вверх по склону. А я, прижавшись к нему и обвив рукой его шею, удивлялась тому, как причудливо складывается жизнь. Меньше часа назад, находясь в руках ненавистного человека, я тряслась за свою жизнь. Теперь же меня держал на руках человек, которого я хранила в своем сердце многие годы и уже не надеялась увидеть. Мне было все равно, дойдем ли мы до цели, – я была вполне счастлива и здесь.
Наконец мы выбрались на сухое пространство, и Дэвид поставил меня на ноги. Я знала, что сделал бы в такой ситуации Крэн, и надеялась, что так же поступит и Дэвид, но увы… Дыхание его было тяжелым, и мне хотелось верить, что причиной тому была не только усталость, но и что-то более глубокое.
Подойдя к двери, я обернулась и с улыбкой спросила:
– Не станет ли слишком тяжелым испытанием для вашего терпения, если я попрошу вас побыть со мной, пока я собираю вещи, и дождаться кареты?
Чудесная улыбка осветила его лицо.
– Я вовсе не собираюсь уходить. Если хотите, я с удовольствием провожу вас до Лондона, чтобы убедиться, что вы в безопасности и со своими друзьями.
Мы поднялись наверх, и я снова обратилась к Дэвиду:
– Я хотела бы, чтобы вы стали свидетелем еще одной вещи. Вполне возможно, что в результате моего сегодняшнего поспешного отъезда у меня через некоторое время возникнут трудности. Если это произойдет, я заявлю, что была испугана, а причины этого страха – перед вами.
С этими словами я открыла чемодан Джона и вытащила из-под его одежды хлыст и черную бутылку.
– Теперь эта бутылка совершенно безобидна, – продолжала я, – но, когда я обнаружила ее несколько дней назад, в ней находился купорос. Вот почему сегодня вечером я была так напугана. Будет очень кстати, если вы, как незаинтересованный свидетель, сможете подтвердить, что эти вещи существовали в действительности, а не являются плодом больного воображения женщины легкого поведения, как, видимо, попытается представить дело он.
Побледневший, с глазами цвета стали, он произнес голосом твердым как кремень:
– Я не являюсь незаинтересованным свидетелем точно так же, как вы – не женщина легкого поведения.
И, подойдя поближе, он взял хлыст и без видимых усилий легко разломил его на несколько кусков. Затем он положил их на каминную полку, вынул из кармана визитную карточку и аккуратным почерком написал на ней: «На саблях или пистолетах, в любое удобное для вас время». И аккуратно положил карточку поверх обломков хлыста.
– Нет, только не это! – в ужасе вскричала я. – Вы не должны так поступать. Этот человек безумен, на сей раз он может принять вызов! Он может убить вас!
– Сомневаюсь, – ответил он, и в голосе его прозвучали леденящие нотки, не предвещавшие Чартерису ничего хорошего.
Я поспешно закончила сборы, и удивленная прислуга помогла приехавшему кучеру спустить мои вещи к карете.
– Вы точно не хотите, чтобы я проводил вас в Лондон? – с печалью спросил Дэвид.
Я отрицательно покачала головой. К этому моменту я была слишком измучена, чтобы пускаться еще в какие-либо приключения, пусть даже и приятные.
– Чартерис не подозревает о том, что у меня тут есть карета, так что если он и будет искать меня, то только здесь, в Танбридж-Уэллсе. В Лондоне я буду в безопасности. Но мне, похоже, никогда не удастся отблагодарить вас за ту доброту, которую вы проявили ко мне сегодня, и мне бы очень не хотелось, чтобы наше расставание опять надолго затянулось.
Повинуясь внезапному порыву, я протянула к нему руки. Взяв их в свои ладони, он смотрел на них так, словно никогда раньше не видел женских рук.
– А мы и не прощаемся, – сказал он внезапно охрипшим голосом. – После отпуска меня направляют в Вулвик – я буду учить молодых офицеров. Если бы я знал, где вас найти, я бы с удовольствием заехал к вам, чтобы засвидетельствовать свое почтение.
– Почтение? – с иронией переспросила я.
Дэвид поднял глаза и усмехнулся одновременно лукаво и грустно.
– Что же еще можно взять с артиллерийского капитана, живущего на жалованье, тем более когда речь идет о Прекрасной Элизабет?
И с этими словами он поцеловал мои руки. Я могу поклясться, что своей улыбкой он разоружил бы даже Наполеона.
– Если у вас найдется еще одна визитная карточка, думаю, я смогла бы отыскать карандаш.
Взяв у него визитку, я написала свой адрес.
– С сегодняшнего вечера я не принадлежу никому. Только своему дому, своим друзьям и своему собственному выбору жизни, – сказала я, пристально глядя ему в глаза. – Можете считать, что с этого момента Прекрасная Элизабет прекратила свое существование. Надеюсь, ее преемница придется вам больше по вкусу.
– Несомненно, – мягко ответил он, – и все же я с нетерпением буду ждать встречи с ней – прежней.
Сказав это, он подсадил меня в карету и помахал рукой.
Итак, я отделалась от Джона Чартериса, хотя мне еще предстояло испытать на себе его злые чары. Он не сумел сломить меня, как ему хотелось, но все же эти шесть месяцев не прошли для меня бесследно. Я устала – устала от мужчин, от света, от самой себя. Особенно от самой себя! Я чувствовала себя грязной и потасканной, мне казалось, что до конца жизни я не смогу смыть со своего тела мерзкие пятна, оставленные руками Чартериса.
Однако, несмотря на всю усталость, в моем сердце поселилась новая радость. В тот вечер во мне возродилась уже почти угасшая надежда, и в тряской карете, на пути домой, я вновь начала строить планы на будущее. За этим занятием меня застал сон, и ранним утром я проснулась в доме Джереми Винтера, на руках Марты Маунт, которая благодаря своей изумительной интуиции ожидала меня на протяжении всех томительных ночных часов.
12
Джереми и Марта от радости, что я вернулась к ним в целости и сохранности, беспрестанно кудахтали, как наседки вокруг цыпленка, что заблудился в лесу, а потом вновь нашелся. Когда они наконец угомонились, я послала Марту, чтобы та подготовила мой дом – мне не терпелось переехать туда. Мы же с Джереми устроились в его кабинете, чтобы обсудить наши дела.
Молча выслушав мой рассказ, он подвел черту:
– Все обстоит хуже, чем я думал. Хотя я и не сомневался в том, что он вынашивает планы мести и так или иначе попытается причинить тебе зло. Думаю, само провидение послало тебе этого Прескотта именно в тот момент, когда он был тебе нужнее всего. Надеюсь, встретившись с Чартерисом на дуэли, он сделает из него решето и мы будем избавлены от дальнейших неприятностей, связанных с этим мерзавцем. В конце концов, каким бы сумасшедшим он ни был, у него достанет ума понять, что в Лондоне и без Прескотта хватает мужчин, готовых перегрызть ему глотку из-за тебя, ведь не собирается же он посвятить весь остаток своей жизни дуэлям. Нет, думаю, мы можем спокойно забыть об этом подонке, как о ночном кошмаре.
Я согласилась. Довольно с меня ночных кошмаров. И вот Джереми занялся своим любимым делом – подсчетами.
– Что касается твоего финансового положения, милочка, могу тебе сказать, что дела идут блестяще. Учитывая произведенные мною вложения твоего капитала, он на сегодняшний день составляет девять тысяч фунтов, не считая дома и его обстановки, которые полностью оплачены и принадлежат тебе. Конечно же, нужно учесть те расходы, которые предстоят тебе до того, как подвернется новое дельце. Боюсь, они будут немалыми. Хотя расходы на содержание такого дома не очень велики, но все эти современные постройки… – Джереми продолжал болтать, чувствуя себя счастливым в роли моего казначея.
– Джереми, дорогой Джереми, – прервала я его словесный поток, – знаю, что тебе было непросто, но именно об этом я и хотела с тобой поговорить. Последние шесть месяцев оказались для меня очень тяжелыми, поэтому сейчас у меня нет никакого желания искать новое дельце, как ты это называешь. А может, и вообще никогда больше не появится.
– Но, Элизабет, дорогая, – попытался протестовать он, – я прекрасно знаю, каково тебе пришлось, однако посуди сама: твой капитал еще далеко не достаточен. Возможно, я пессимистически смотрю на вещи, но на те средства, что ты зарабатываешь сейчас, тебе придется жить всю оставшуюся жизнь, а ты ведь еще очень молода. Сколько тебе лет? Двадцать четыре? Двадцать пять? Дом просто съест твои сбережения, если ты не станешь зарабатывать деньги на его содержание, – в этом убедилась даже Белль.
– О, Джереми, – рассмеялась я, – я вовсе не собираюсь проводить все дни за чтением книг и игрой на пианино. Я размышляла о двух вещах, и если они у меня получатся, то позволят накопить денег вполне достаточно, чтобы содержать дом. Выслушай меня и выскажи свое мнение.
Джереми немного покулдыкал, словно беспокойный индюк, но затем все же угомонился и сел.
– Знаешь, кого я недавно встретила? – начала я. – Люси Барлоу. Ты помнишь ее?
Конечно же, Джереми ее помнил. После изгнания миссис Мур заботы по ведению домашнего хозяйства в доме Крэна взяла на себя я под жестким присмотром Белль, а в качестве личной служанки для меня она наняла Люси – маленькую симпатичную девушку из простой семьи. Люси отличалась ловкостью и сообразительностью и была вполне сносной служанкой. Когда же дело доходило до причесок или изготовления шляпок, ей поистине не было равных. Ее руки творили настоящие чудеса с кружевами и лентами, создавая шедевры фантазии и изящества. Люси оставалась со мной даже тогда, когда я сошлась с сэром Генри, но после нашего переезда в Суссекс она уволилась, поскольку собралась замуж. Я совсем было потеряла ее из виду, но как-то раз, когда я уже была с Чартерисом, она остановила меня на улице и буквально умоляла, чтобы я позволила ей что-нибудь сшить для меня. Ее мужа забрали во флот, и она переживала трудные времена, пытаясь в одиночку содержать саму себя и двух своих детей. Я помогла ей чем смогла и убедилась, что она не утратила своих прежних навыков. Тогда-то мне в голову пришла мысль, что я могла бы организовать для Люси шляпный магазин, став ее незримым партнером.
Все это я рассказала внимательно слушавшему Джереми.
– Неплохая мысль, Элизабет, – согласился он. – Покуда женщины сходят с ума от всякой мишуры, на хороших модисток всегда будет спрос. Но учти, предпринимательство в наши дни – довольно рискованное занятие, а мода переменчива. Хотя, поскольку первоначальные вложения, видимо, будут невелики, я думаю, стоит рискнуть. Так что там еще за идеи вертятся в твоей головке?
Вторая моя идея была несколько более туманной. Но, поскольку у меня был теперь собственный дом, я подумала, что могу попробовать организовать un petit salon,[21] куда люди смогут приходить, чтобы послушать музыку, потанцевать, вкусно поесть и пообщаться друг с другом, и все это за небольшую сумму, которую они будут вносить на определенный срок. На этот счет Джереми высказал сомнения.
– Пока я не вижу, что из этого может получиться, дорогая. Половина мужчин, которые болтаются в Лондоне, вряд ли будут удовлетворены тем, что ты собираешься им предложить. В конце концов, они в изобилии могут получить все это в десятке других мест или, на худой конец, у себя дома.
– Я не согласна с тобой, Джереми. Многие мужчины, особенно те, что постарше, находят места вроде «Воксхолла» и «Ранело» утомительными. Они часто живут вдали от дома, а клубы, которые они посещают, не могут предложить им ничего, кроме выпивки и карточной игры. Я не думаю, что мой салон будет ломиться от посетителей, но мне кажется, найдется достаточно мужчин, готовых заплатить за отдых с хорошей трапезой и интересной беседой в приятной женской компании. Если существуют платные концерты и лекции, не вижу причин, по которым не должно быть платных вечеринок. Если же посетителям будет недостаточно моей компании, я всегда могу послать их в один из домов Белль.
Мне не удалось до конца убедить Джереми в своей правоте, но, поскольку расходов тут больших не ожидалось, он согласился помочь мне всем, чем только сможет. Впоследствии Джереми стал одним из завсегдатаев моего салона, и должна с сожалением признать, что большинство мужчин приходили туда именно для того, чтобы послушать его, а не меня. Приходилось утешаться только мыслью о том, что смотреть все же было приятнее на меня.
Забегая вперед, скажу, что моя затея полностью удалась. Я оповестила об этом многих друзей сэра Генри и всех остальных офицеров, которых, по моему мнению, это могло заинтересовать, и нашла прекрасную кухарку – невесту одного из молодых Маунтов. Она страшно боялась своей будущей свекрови и делала восхитительные пирожные – такие же аппетитные и пышные, как она сама. Конечно же, мне пришлось как следует запастись провизией.
В первый раз Джереми привел с собой Карлуччи – на тот случай, если кто-то из офицеров захочет удовольствий определенного рода и попытается их получить. Если таковые и были, присутствие этого здоровенного парня охладило их пыл, но все же думаю, мне удалось собрать публику именно того круга, на который я и рассчитывала. Все были довольны, и я в первую очередь, поскольку денег от этого вполне хватало на содержание дома, да еще оставалось. Кроме того, к моим услугам постоянно была чудесная компания и самое главное – неведомое мне раньше ощущение свободы.
Однако все это было еще впереди, а до тех пор злобная тень Чартериса еще раз омрачила мою жизнь. Через несколько дней после моего возвращения из Танбридж-Уэллса я почувствовала странное жжение и чесотку, которых раньше никогда не испытывала. Разумеется, я испугалась и, решив, что это не входит в компетенцию двух моих ангелов-хранителей, отправилась к Белль. Когда я поведала ей о своем странном самочувствии, она тоже не на шутку перепугалась и велела мне немедленно отправляться домой и лечь в постель, сказав, что пришлет ко мне врача-специалиста.
– Что это может быть? – спросила я, чувствуя, как ужас охватывает все мое существо.
– Похоже на сифилис, – откровенно ответила она. – Если это так, то чем скорее будет начато лечение, тем лучше.
Застывшая от страха, я вернулась домой. Теперь мне стало понятно, отчего так радовался Чартерис в последние дни. Он, видимо, намеренно заразился сифилисом от какой-нибудь уличной потаскушки в надежде передать его мне, зная, что никакого наказания ему за это не будет. Несмотря на мои предосторожности, ему все-таки удалось запятнать мое тело – точно так же, как и душу.
Приехал врач и, осмотрев меня, полностью подтвердил опасения Белль.
– Да, это сифилис. Плохая его разновидность, но, к счастью, на ранней стадии. Вы никогда не болели им прежде? – бросил он мне.
Не в силах говорить, я только помотала головой.
– Существуют два способа лечения, – пролаял доктор. Он был шотландец – немногословный и угрюмый. – Первый способ – быстрый, но небезопасный, второй – медленный и безопасный, но с возможными неприятными последствиями.
– Какими последствиями? – слабо спросила я.
– За время лечения болячки распространятся по всему телу и могут достичь лица, а после излечения на их месте останутся рубцы. Возможно также, что вы потеряете способность к деторождению, впрочем, это, по всей вероятности, не очень вас волнует.
– Я выбираю первый способ, – твердо ответила я. Белль попыталась что-то возразить, но он прервал ее:
– Вы должны отдавать себе отчет в том, что этот способ опасен. Поскольку вы никогда раньше не принимали таких лекарств, я не знаю, как они подействуют на ваш организм, а для того, чтобы излечиться быстро, вам придется принимать их в очень больших дозах. Вы можете умереть. Вы понимаете это?
– Я все прекрасно понимаю, – холодно сказала я, – но если мне не удастся быстро излечиться, то дальнейшая жизнь будет лишена для меня смысла. Поэтому давайте начнем, не откладывая.
Я представила себе, как Дэвид Прескотт видит мое лицо, обезображенное сифилитическими рубцами, – мысль была не из приятных.
Белль все еще пыталась спорить, но я не обращала на нее внимания, и доктор, дав мне первую дозу лекарства, ушел. После его ухода я рассказала Белль о своих последних днях, проведенных с Чартерисом. Она слушала меня со страхом, но без удивления, поскольку ей, видимо, уже приходилось слышать о подобных случаях.
– Так он намеренно заразил тебя? Ах, он, грязная… – возмутилась Белль, но я знаком велела ей молчать. На пороге, словно ангел мщения, стояла Марта.
– Это правда? – спросила она своим необычным глубоким голосом, входя в комнату. – Он сознательно причинил вам зло?
Меня всегда удивляла ее старомодная манера выражаться.
– Нет, Марта, – поспешно заговорила я, стараясь смягчить ее мрачную решимость. – Такая опасность всегда существует при нашей жизни.
Ее сверкающие глаза пытливо вглядывались в мое лицо, словно пытаясь проникнуть в мои мысли.
– Если он посеял ветер, то пожнет бурю, – мрачно проговорила она и зловеще улыбнулась.
– Марта, – сурово сказала я, как всегда, чувствуя испуг перед безднами, таившимися в этой женщине, – ты ничего не должна предпринимать в связи с этим. Ты слышишь меня? С Чартерисом покончено, и я не хочу, чтобы у меня были неприятности в связи с ним.
– Да что же может сделать бедная невежественная деревенская женщина вроде меня с таким богатым джентльменом, как капитан Чартерис? – с усмешкой ответила она и, неслышно ступая, выплыла из комнаты.
Доктор был прав: лекарство оказало на меня страшное воздействие, и в течение трех дней я была буквально прикована к постели. Марта не отходила от меня, а Джереми бегал по всему дому, словно взбудораженный будущий папаша в ожидании своего первенца. Однако потом крепкий организм, которым благословил меня Господь, стал брать верх над болезнью: через неделю я пошла на поправку и вскоре встала на ноги, хотя была еще очень слаба. На моем теле не осталось ни одного рубца. Я снова победила Джона Чартериса.
Поправившись окончательно, я послала за Люси Барлоу и объяснила ей свою идею. Я беру в аренду магазин и обеспечиваю ее всем необходимым. Люси станет работать модисткой, а я – вести всю отчетность. В течение первого года я буду забирать шестьдесят процентов дохода, а ей останется сорок. Затем, если дела пойдут хорошо, мы сможем продлить наше соглашение еще на пять лет из расчета равного участия в прибылях, а после этого, если она проявит добрую волю, я соглашусь отдавать ей шестьдесят процентов выручки. Через десять лет она сможет выкупить мою долю и стать единоличным владельцем этого предприятия. Люси была в восторге, хотя и несколько напугана перспективой собственного дела, и мы приступили к выполнению этого плана.
Мы с Белль очень помогли Люси на первых порах, посылая к ней всех женщин, которых знали. Даже мужчины не остались в стороне: им казалось чрезвычайно забавным купить шляпку для своей благоверной в магазине Прекрасной Элизабет. Впрочем, чаще всего благоверные вскоре после этого приходили сами и меняли подаренные шляпки на те, которые нравились им самим.
Однако истинный талант, когда ему открывают дорогу, уже не нуждается в поддержке. Дар Люси в скором времени сделал ее изделия настолько популярными, что ей пришлось даже нанять помощниц, чтобы справляться с огромным потоком заказов. Теперь мы с ней не сомневались: дело будет весьма прибыльным. Я с удовлетворением думала о том, как была бы рада моя матушка, увидев, что я все-таки стала модисткой, пусть даже это было моей побочной профессией.
Через несколько недель, когда я уже поправилась окончательно, ко мне пришла Белль, держа в руках свежий номер «Газетт».
– Видела? – спросила она, отметив ногтем абзац на первой странице. Это была колонка новостей. Там сообщалось, что капитан Джон Чартерис из третьего гусарского полка попал в уличную драку с двумя пьяными матросами, был зверски избит и брошен. Раны его оказались не смертельны, но ему, без сомнения, придется оставить военную службу. Далее репортер сетовал на беззаконие, воцарившееся в военно-морском флоте, и вопрошал правительство, что оно намерено предпринять в этой связи.
Но дальше я уже не стала читать. В голову мне закралась страшная мысль. Я вспомнила необычную суету, царившую на кухне в течение нескольких последних дней. Запах стряпни наполнял дом гораздо чаще, чем обычно. После ухода Белль я, прихватив газету, отправилась на кухню. Я резко распахнула дверь, и все мои опасения немедленно подтвердились: прочно обосновавшись за столом, двое младших Маунтов усердно поглощали красовавшуюся перед ними гору пирожков, а Марта и Энни – моя вторая кухарка – с гордостью следили за их трапезой.
– Добро пожаловать домой! – с вызовом проговорила я. – У вас двоих отпуск в одно и то же время – какое необычайное везение!
Я бросила взгляд на Марту, которая, в свою очередь, спокойно смотрела на меня. Заговорил старший из ее сыновей:
– Да, пока нет боевых действий, нас часто отпускают. А почему бы и нет, коли есть возможность? Здорово, что и мама, и Энни – в одном доме. Вы ведь знаете: она моя невеста, – и он с нежностью посмотрел на девушку.
– Интересно, знаете ли вы двое что-нибудь об этом? – протянула я им газету, указав на тот самый абзац.
Водя пальцем по строчкам, старший из Маунтов медленно прочитал сообщение собравшимся, а затем покачал головой и очень серьезно сказал:
– Ужасно, просто ужасно. Тэд, ты ничего об этом не слышал?
Его младший брат насмешливо покачал головой. Три пары темных глаз простодушно смотрели на меня.
– Тут говорится про пьяных матросов. Да, мэм, некоторые из наших братишек действительно бывают грубоваты. Но разве можно их упрекать? Выпивка творит с человеком страшные вещи, вот что я скажу.
Нечего и говорить, что ни один из сыновей Марты не прикасался к спиртному – они слишком боялись матери.
Читавший аккуратно вернул мне газету.
– Надеюсь, этот офицер не был вашим другом? – вежливо осведомился он.
Я сдалась. «Дубовые сердца у наших кораблей, дубовые сердца у наших моряков», – эта строчка из старинной песни всегда ассоциировалась у меня с младшими Маунтами. Я понимала: бесполезно спрашивать, почему разбиты костяшки на их руках, – мамочка наверняка предусмотрительно научила их, что отвечать и на этот вопрос. Этих парней ничем не прошибешь. Вот уж действительно: дубовые сердца!
В тот раз Джон Чартерис выжил, а юных Маунтов так и не поймали. Но, возможно, Чартерису лучше было бы умереть под их мстительными кулаками, поскольку после вынужденной отставки, ища удовлетворения своих извращенных инстинктов, он опускался все ниже и ниже, пока наконец не подхватил страшную форму сифилиса от какой-то шлюхи с Друри-лейн и не умер, прикованный к постели, заживо сгнив, крича от боли и окончательно потеряв рассудок. Но к тому времени я уже и думать забыла о Чартерисе, поскольку в мою жизнь вернулся Дэвид Прескотт. Он появился тихо, как не умел больше никто, осмотрелся и, насколько позволяла ему служба в Вулвике, стал неотъемлемой частью круга, собиравшегося у меня по вечерам.
Это было удивительно тихое и мирное время. Ни один из нас ни разу не упоминал о том вечере в Танбридж-Уэллсе, и никогда мы не были так близки, как теперь. Мы, словно игроки в шахматы, осторожно выясняли сильные и слабые стороны друг друга, измеряя глубину чувств и мыслей другого. Рядом с нами всегда толпились люди, но порой казалось, что мы находимся наедине, в каком-то магическом круге, который ему удавалось создать вокруг нас. Постепенно мы узнавали друг друга все лучше. Как бы ни развивались в дальнейшем наши отношения, мне хотелось, чтобы все шло естественным путем, поэтому с Дэвидом я никогда не прибегала к тем ухищрениям, которым обучило меня мое ремесло. Это могло оттолкнуть его, а я ни за что на свете не согласилась бы теперь потерять этого человека. Время от времени я, признаюсь, флиртовала с другими офицерами, чтобы посмотреть, смогу ли я разжечь в нем ревность. Однако жизнь так вымуштровала Дэвида, что он умел полностью контролировать свои чувства. Я понимала, что мне удалось спровоцировать его, только тогда, когда глаза его темнели и он покидал компанию раньше обычного. И в такие моменты я проклинала себя за собственную глупость. Я знала, что люблю его, и знала, что рано или поздно мы окажемся вместе, но не торопилась. Мне было известно абсолютно все о том, что называется страстью, и я была сыта этим по горло. Теперь мне хотелось нежности и доброты, чтобы меня баловали, чтобы за мной ухаживали. Именно это и делал Дэвид в присущей ему мягкой манере.
Его история, как выяснилось мало-помалу, была весьма обычна для нашего времени. Он происходил из хорошей семьи на западе страны, но ему не повезло в том, что он оказался младшим сыном младшего сына в семье его деда. Отец его был деревенским юристом, получавшим достаточно, чтобы обеспечить своим сыновьям хорошее образование, однако для блестящей карьеры денег явно не хватало. Мать Дэвида умерла, когда он был еще ребенком, и отец женился вторично. Мачеха, насколько я поняла, оказалась неплохой женщиной, но с достаточно жестким характером и не любившей нежностей, поэтому Дэвид с детства привык уходить в себя и сдерживать эмоции. Когда отец умер, его дело унаследовал старший брат Дэвида, и денег хватило только на то, чтобы Дэвид купил себе либо самый нижний офицерский чин, либо духовный сан. Он выбрал первое, так как, по его собственным словам, предпочел жизнь бедного солдата жизни бедного священника.
Именно в этом чине он принял участие в заключительной стадии американской войны. Там он и получил раны, которые навсегда оставили шрамы на его теле, – от взорвавшейся пушки, как он сказал. Поэтому Дэвиду не пришлось повоевать как следует, но он был этому только рад: побывав в Америке, он проникся огромным уважением к тамошним колонистам и много говорил об укладе их жизни, о плодородии этой страны, которая произвела на него очень глубокое впечатление. Он считал, что англичане могли бы многому поучиться у американцев.
Поначалу он рос в армии довольно быстро благодаря своим способностям как в военной теории, так и в практике. К двадцати шести годам Дэвид уже стал капитаном. На этом чине он и застрял, поскольку высшие должности в артиллерии, как и в других родах войск, были доступны только для тех, кто обладал толстой мошной или связями в высших сферах. Кумовство тогда, как, впрочем, и сейчас, было в порядке вещей. А Дэвид не обладал ни деньгами, ни покровителями, поэтому так и остался капитаном, в то время как бездари, тупицы и бездельники, которые не могли похвастаться ничем, кроме титула, командовали им. Ему пришлось научиться сдерживать свои юношеские порывы. Он не мог позволить себе роскошь спорить с начальством из опасения навлечь на себя его гнев, ведь ему приходилось содержать семью. Поэтому капитан Прескотт привык выполнять свою работу насколько возможно незаметно, все время оставаясь в тени и надеясь, что когда-нибудь ему еще выпадет шанс сделать что-то стоящее. Слыша покорность в его голосе, когда он говорил об этих вещах, я была готова передушить все командование британской армии и в щепки разнести всю прогнившую систему, на которой та покоилась.
Получив в свое время урок от Крэна, я не пыталась заговаривать с Дэвидом о его жене и детях, однако постепенно узнала и о них. Жена Дэвида – хрупкая и чрезвычайно набожная женщина – приходилась ему кузиной. Женившись на ней, он словно воссоздал атмосферу своего собственного детства. У него был любимый сын с большими склонностями к математике, и Дэвид надеялся купить для него лейтенантский чин в том же полку, где служил сам. Дочь его, видимо, была больше привязана к матери и отличалась слабым здоровьем, что очень беспокоило родителей.
Сама я о себе почти ничего не рассказывала – помимо того, что ему и так уже было известно. Дэвид вовсе не был любопытным, но, когда однажды мы сидели рядом и, как всегда, беседовали, он неожиданно спросил:
– Кто вы, Элизабет?
В этот момент мы были одни, если не считать майора валлийских стрелков Эванса – сперва он не переставая пил, а теперь храпел на софе – и двух кавалерийских офицеров, склонившихся над шахматной доской, за которой они провели весь вечер. Было похоже, что они либо спят, либо прочно отгородились от всего мира.
– Если вы и теперь не знаете, кто я такая, то где же вы находились все эти месяцы? – засмеялась я.
– Нет, – серьезно взглянул он на меня, – я действительно хочу знать, кто же вы? Конечно, кое-что мне о вас известно, и я слышал про вас некоторые истории, но дело в том, что они кажутся мне не очень правдоподобными.
– Что же вам обо мне известно и какие такие истории вы слышали? – полюбопытствовала я.
– Вам действительно интересно? – спросил Дэвид, и я ответила утвердительно. – Что ж, – сказал он, подняв брови и уставившись в потолок, как всегда, когда собирался сказать мне что-то не очень приятное, – я знаю, что вы появились из ниоткуда в качестве протеже Белль Дэвис семь лет назад. Что у вас было три любовника: один – блестящий солдат, второй – выдающийся и прекрасный человек, а третий – сумасшедшее животное.
Меня удивило то, как высокопарно отозвался Дэвид о сэре Генри – он вообще не любил превосходной степени, но думаю, на сей раз в чем-то был прав. Я помню, какого высокого мнения был о нем сам Генри. Видимо, их действительно связывала взаимная симпатия.
– Я знаю, – продолжил Дэвид, – что ваша фамилия – Колливер, но вы не имеете никакого отношения к Колливерам из Севенокса, как рассказывала когда-то Белль. Одни говорят, что вы – родившаяся от служанки незаконная дочь некоего графа, который дал вам образование, но не позаботился обеспечить. Другие утверждают, что вы – дочь священника и сбежали из дому из-за несчастной любви. Кое-кто даже доказывает, что вы – дочь Джереми Винтера.
Я расхохоталась, и Дэвид тоже улыбнулся.
– Как я уже сказал, я не верю во все эти россказни.
– Отчего же? – не скрывая любопытства, спросила я.
– Потому что ни одна из них к вам не подходит.
– И почему же они не подходят ко мне?
– Расскажите мне, кто вы такая, и тогда я скажу почему. Честный обмен, не правда ли? – обезоружил он меня своей улыбкой.
– Это займет слишком много времени. Откроем лучше еще одну бутылочку вина.
– Мне некуда торопиться. – Дэвид обвел взглядом комнату. – А учитывая, что все они, похоже, решили здесь заночевать, то почему бы не остаться и мне? – И он лукаво усмехнулся.
Мы выпили еще вина, и я рассказала ему всю историю моей жизни – до того момента, когда я оказалась с Крэном. Я сделала это второй раз за всю жизнь; впервые я поведала об этом Марте. Больше таких признаний от меня никто не слышал. Он сидел молча, с серьезным выражением лица. Когда я закончила, немного взволнованная вновь нахлынувшими воспоминаниями, Дэвид глубокомысленно кивнул:
– Да, вот это подходит.
– Но почему, Дэвид?
– Потому, – ответил он, – что такая прекрасная, умная и добрая женщина, как вы, с той родословной, какую вам приписывают, не смогла бы вести жизнь, какую вели вы на протяжении последних семи лет, если бы только она не преследовала некую особую цель.
А поскольку вы никаких целей не преследуете, я предполагал, что на подобную жизнь вас могла толкнуть только крайняя нужда и необразованность. Теперь я вижу, что так оно и есть.
Его слова больно ужалили меня, и я горячо заговорила:
– Вот и прекрасно! Теперь, когда подтвердились ваши подозрения относительно того, что я вылезла из сточной канавы, вы с присущим вам благородством простите мне все мои грехи, ошибки и падения, не так ли? Прибавьте их к моему жуткому происхождению – и дело с концом.
– Боже милостивый, что вы говорите, Элизабет! – воскликнул он. Глаза его светились, как два сапфира. – Неужели вы это всерьез? Неужели думаете, что мне есть дело до вашего прошлого или до того, откуда вы появились? Я знаю вас такой, какая вы сейчас, и только это волнует меня. И мне всего-навсего хотелось проверить предположения, которые появились у меня уже очень давно.
Значит, ему наплевать на то, что со мной было раньше, его не трогают страдания, через которые я прошла!
– А вам не приходит в голову, что вдобавок к тем качествам, которыми вы наделили меня, я стала шлюхой еще и потому, что мне это нравилось? – презрительно сказала я. – Может быть, в ваших рассуждениях вы перевернули все с ног на голову?
Вот теперь он разозлился не на шутку.
– Да что на вас нашло, в самом деле! – заревел он вне себя. – Вы несете абсолютную чушь и сами знаете это. Почему вы должны стыдиться или наговаривать на себя, если в этом нет совершенно ничего стыдного! Неужели вы сами не видите?
– Я вижу, что вам бесполезно что-либо рассказывать, поскольку вы возомнили себя одновременно и судьей, и присяжными! – набросилась я на него в ответ.
Мы свирепо смотрели друг на друга, как пара боксеров на ринге, и только Богу известно, чем бы закончилась эта сцена, если бы наши крики не пробудили шахматистов. Они запоздало откланялись, а Дэвиду пришлось взвалить на себя бездыханное тело майора Эванса, чтобы вынести его на улицу и погрузить в карету. Разговор наш прервался.
Назавтра, когда Дэвид, как обычно, появился вечером у меня, мы оба испытывали некоторое неудобство, но вокруг царила такая суета, что у нас совершенно не было времени поговорить. Наконец Дэвид все же пробился ко мне.
– Простили меня? – тихо спросил он. Я окинула его ледяным взглядом – или по крайней мере попыталась сделать это. – Если нет, то я сейчас встану на колени и на глазах у всего почтенного собрания буду просить у вас прощенья. – Он улыбался, но в голосе его звучала решимость.
– Ради всего святого, Дэвид! – пришлось мне улыбнуться в ответ. – Вы и без того уже вогнали меня в краску. Прощаю вас, хотя и не знаю точно, за что.
Так закончилась наша первая буря в стакане воды.
Все было бы прекрасно, если бы только не те отношения, которые складывались между Джереми и Дэвидом. Они невзлюбили друг друга с первого взгляда. Думаю, это произошло оттого, что Дэвида раздражали многие бросавшиеся в глаза причуды Джереми, заслонявшие от него хорошие качества моего старого смешного друга. Со свойственной ему чуткостью Дэвид никогда не высказывал открыто своей неприязни, но я замечала, что, когда Джереми оказывался в центре внимания, – а это случалось очень часто, – Дэвид сразу же прятался в свою раковину и старался отойти подальше.
Почему Джереми, в свою очередь, невзлюбил его, было мне менее понятно, и как-то раз я пристала с этим вопросом к моему законнику. Он отвечал очень уклончиво:
– Этот парень слишком самоуверенный, слишком скрытный и контролирует каждый свой шаг. Никогда не доверяй таким людям. Они скрытны или потому, что внутри у них пустота, или же, наоборот, это вулканы, готовые в любой момент взорваться. Как бы то ни было, такие люди мне не нравятся.
Я резонно возразила, что сдержанность в людях появляется в зависимости от того, как обходится с ними жизнь, а у Дэвида она складывалась так, что от него требовался самый тщательный самоконтроль.
– Никогда не знаешь, чего от таких можно ожидать, – фыркнул Джереми. – Возьми, к примеру, Крэна – он всегда был предсказуем, а вот с Прескоттом никогда не знаешь, о чем он думает и что собирается сделать в следующий момент. Держу пари, что он упрямее мула. Месяцами сидит и пожирает тебя глазами, но я уверен, что он даже ни разу не попытался тебя поцеловать.
Я с грустью подумала, что это была чистая правда.
– Говорю тебе, Элизабет: если у тебя в голове крутятся какие-нибудь глупые мысли по поводу этого типа, чем скорее ты о них забудешь, тем лучше. От него, кроме неприятностей, ничего не дождешься.
Я сочувственно улыбнулась. Бедный Джереми, как плохо он знает женщин! Но в то же время мне было очень жаль, что они не любят друг друга.
Торговля шляпками процветала, мои вечеринки – тоже. Я полностью поправила здоровье, и мы с Дэвидом виделись практически каждый день. Мне казалось, что такое блаженство будет тянуться вечно, но, конечно, этому не суждено было сбыться. Несчастье обрушилось на нас в июне 1803 года.
Я работала в своем кабинете, и, как сейчас помню, на мне было белое платье с вышитыми красными розами и большим воротником наподобие шали из белого органди.[22] Ко мне вошла Марта и доложила о приходе Дэвида. Его необычно раннее появление удивило, но и обрадовало меня. Я вышла ему навстречу. Остановившись на пороге, он смотрел на меня, будто пытался запечатлеть в памяти каждую мою черточку. Затем вошел, и Марта с довольной улыбкой на своем вечно угрюмом лице осторожно закрыла дверь – Дэвид был ее любимчиком.
Он остановился в нескольких шагах от меня. Взгляд его был грустным, хотя в нем и читалось некоторое возбуждение.
– Боюсь, я снова пришел прощаться, Элизабет, – сказал он. – Меня переводят.
Ноги перестали меня держать, и я рухнула на ближайший стул.
– Возле Гастингса разворачивают батарею, на которой будут испытывать новый тип пушек. Меня назначают ее командиром.
«Гастингс… Что ж, по крайней мере это ближе, чем Индия», – промелькнуло у меня в голове, и я попыталась внимательнее вслушаться в его слова.
– Скоро в нашем полку открывается майорская вакансия. Спейхауз, который будет решать, кому она достанется, – порядочный человек, и я думаю, что с учетом моего нового назначения я вполне могу рассчитывать на майорский чин.
В голосе Дэвида звенело мальчишеское возбуждение.
– Мне неприятна даже мысль о том, чтобы уехать из Лондона именно сейчас, но я чувствую, что должен это сделать. Возможно, это тот самый шанс, которого я так долго ждал.
Я промолчала, а он отвернулся и стал смотреть в окно, сомкнув руки за спиной. Затем он снова заговорил, но уже гораздо более взволнованно. Его голос подрагивал и звучал громче обычного.
– Наверное, я не имею права говорить то, что собираюсь сказать, Элизабет, но я не могу уехать снова, промолчав об этом. Я люблю вас, и, думаю, вам давно это известно. Я люблю вас так сильно, что сама мысль о том, что возле вас может появиться другой мужчина, буквально сводит меня с ума. До нынешнего дня я никогда не чувствовал, что у меня мало денег, – конечно, часто мне их не хватало, но это ни разу не приводило меня в отчаяние. Но сейчас я бы отдал все на свете, чтобы у меня были либо деньги, либо законное право заботиться о вас.
Дэвид обернулся и с грустной улыбкой посмотрел на меня.
– Из меня получился бы хороший турок: самое большое мое желание – спрятать вас куда-нибудь подальше от людских глаз, чтобы никто не смел любоваться вами, кроме меня. Глупо, не правда ли?
– Мне не кажется, что это глупо, – неуверенно ответила я. От любви и желания принадлежать ему я почти теряла сознание. Дэвид подошел ко мне, не отрывая от меня своих небесно-голубых глаз.
– Не прикасайтесь ко мне, Дэвид, – сказала я, больше боясь самой себя, чем его.
– Я и не осмелюсь, – хрипло ответил он.
– Не осмелитесь? – с удивлением переспросила я.
– Нет. Потому что, если я прикоснусь к вам, то уже не смогу остановиться. Мне невыносимо даже находиться так близко от вас, тем более когда мы одни. Я слишком сильно хочу вас. Я ведь тоже не железный, вы сами должны это понимать.
Дэвид пытался справиться со своим голосом, поэтому говорил едва слышно. Я же с трудом собрала свои разбегающиеся мысли.
– Дэвид, прежде чем вы произнесете хотя бы еще одно слово, я хочу сказать, что это расставание будет временным и недолгим. – Я попыталась улыбнуться. – Я уже давно собиралась сказать вам, что на жаркое время хочу уехать в деревню. Я поеду в Рэй, – это было первое название, что пришло мне в голову, – на три месяца начиная с августа. Это ведь не так далеко от Гастингса, не правда ли? Сначала мне придется уладить здесь кое-какие дела, а затем я отправлюсь. Вы навестите меня там?
Его глаза внимательно изучали мое лицо.
– С сегодняшнего дня между нами все будет по-другому, правда?
– А разве может быть иначе? – ответила я, внимательно глядя на него.
– Но я же ничего не могу вам дать… – начал он.
– А разве я что-нибудь прошу? – прервала я его. – В ту ночь, когда я избавилась от Чартериса, я сказала вам, что отныне хочу быть свободной. Вот я и свободна. Если я и буду что-то делать, то только по собственной воле, а не по чьей-то еще. Может быть, то, что произошло между нами этим утром, еще ничего и не значит. Я могу послать за вами, а вы не придете, а, возможно, я и сама не буду звать вас. Но если я позову и вы откликнетесь, это будет означать, что между нами достаточно сильная любовь, чтобы мы могли быть спокойны за нас обоих.
Я остановилась, удивившись собственной смелости.
– Если вы позовете меня, я обязательно приду, – тихо ответил он. – Но даже если нам не суждено больше встретиться, я хочу, чтобы вы знали: возможность быть рядом с вами, просто видеть вас – на большее я не смел надеяться – сделала эти полгода самым счастливым временем в моей жизни.
Такое признание, вероятно, заставило бы Джереми взвыть от отчаяния. Но сказанное Дэвидом было настолько в его духе, что сердце у меня сжалось от нежности.
– Вероятно, теперь вам лучше уйти, – мягко произнесла я. – Но прежде чем вы сделаете это, оставьте мне одну из ваших глупых карточек, чтобы я знала, где вас разыскать.
Улыбнувшись, он выполнил то, о чем я просила.
– До свидания, любовь моя, – прозвучали его прощальные слова.
– До свидания, любимый, – откликнулась я. После того как он ушел, я поняла, что мне многое предстоит сделать. Ранее я сказала ему, что мне нужно уладить кое-какие дела в Лондоне, прежде чем мы сможем увидеться вновь. Это было сущей правдой, поскольку я приняла твердое решение в первую очередь позаботиться о том, чтобы следующим в королевской артиллерии чин майора получил Дэвид Прескотт, причем в ближайшее время. В качестве первого шага на этом пути предстояло выведать все возможное о полковнике Спейхаузе. Таким образом, мне вновь пришлось прибегнуть к помощи Джереми Винтера.
13
Джереми был просто вне себя, когда я открыла ему свой план.
– Ты, видно, и в самом деле лишилась рассудка, Элизабет! – вскричал он. – Соблазнить Спейхауза, с которым ты даже незнакома, чтобы он сделал Прескотта майором? Что за вздор! Если эта бредовая идея так прочно засела в твоей голове, то какого дьявола ты просто не дашь денег Прескотту? Пусть подсуетится, купит себе должность, и делу конец!
Зная, как Джереми относится к Дэвиду, я заставила себя набраться терпения.
– Неужели ты действительно думаешь, что Прескотт на такое способен? Да он скорее умрет. Он вообще ничего не должен знать об этом – таково мое непременное условие. К тому же, как я понимаю, подобные действия могут и не понадобиться. Спейхауз очень честен, а Дэвид является идеальной кандидатурой на вакансию майора. Я просто хочу, чтобы ты выяснил, откуда дуст ветер и есть ли у него конкуренты. Мне также нужно разузнать все о Спейхаузе на тот случай, если самой придется вступить в игру. Ну, пожалуйста, Джереми… – Я решила применить тактику вьющейся лозы, которая столь безотказно действовала на Крэна. – Ведь речь идет о моей жизни. Помоги, умоляю тебя! Впервые в жизни я узнала, что такое счастье, и не хочу утратить его.
Джереми немного оттаял.
– Видит Бог, ты заслуживаешь счастья, Элизабет, и я не сказал бы ни слова против, если бы Прескотт был свободен. Твоей просьбы было бы вполне достаточно, раз уж тебе понадобился именно этот человек. Но ведь он не свободен! Наоборот, он связан по рукам и ногам, и я при всем желании не могу видеть в твоем будущем с ним ничего, кроме несчастий. Чего ты можешь ждать от него и что можешь дать ему самому? На что надеешься? И задумывалась ли, что может случиться, если он все же узнает о твоих намерениях? Не такой он человек, чтобы простить подобное, и ты это прекрасно знаешь.
– Он ничего не узнает, – сказала я, с трудом сохраняя терпение, – если мы будем правильно управлять событиями. Я люблю его, Джереми, и очень боюсь, что, если его положение не изменится, это медленно, но верно погубит его. А майорский чин вселит в него надежду, придаст новые силы. Я знаю, что мне не удастся удерживать его подле себя вечно, но ведь и несколько месяцев счастья хоть что-нибудь да значат! Я не осмеливаюсь заглядывать в более отдаленное будущее. Несколько месяцев – вот все, о чем я мечтаю.
– Послушай, Элизабет, – глубокий голос Джереми звучал мягко и убедительно, – для меня просто невыносимо видеть, как после таких неимоверных усилий ты готова отказаться от столь желанной свободы, почти добившись ее. Позволь мне рассказать тебе одну историю. Я не говорил об этом еще никому, но тебе просто обязан. Достигнув двадцати восьми лет, Белль, подобно тебе, была исполнена решимости оставить свое занятие. Ею овладела мечта покинуть Лондон и отправиться жить в какой-нибудь сонный городишко, где она могла бы предстать в обличье богатой леди и выйти замуж. Нашелся даже человек, который захотел взять ее в жены. И вдруг она влюбляется – совсем как ты. Это был симпатичный, но слабохарактерный молодой хлыщ, к тому же картежник и, конечно же, женатый. Связав с ним свою судьбу, она оставалась глуха к любым увещеваниям. За полтора года он спустил почти все ее состояние, но затем, к счастью, подвернулся кому-то под горячую руку в таверне во время ссоры за карточным столом, где и окончил свой жизненный путь. Если бы он не погиб, Белль осталась бы без единого пенни в кармане. Так вот, чтобы вернуться на вершину, где она была к моменту, когда ее угораздило влюбиться, ей потребовались годы лишений. Взгляни на нее теперь: она снова вполне обеспечена, но можно ли назвать ее счастливой?
– Бедная Белль, – прошептала я. Джереми прочитал мне проповедь, однако я сделала из нее совсем не тот вывод, на который он надеялся. Мое сердце наполнилось жалостью к Белль, но не потому, что она пожертвовала всем ради любви, а потому, что потеряла любимого.
– Так ты не поможешь мне, Джереми? – горестно спросила я, надеясь, что мои поникшие плечи выглядят достаточно жалостно. – Тогда мне придется рассчитывать только на собственные силы.
– Я не говорил, что не помогу тебе, милочка, – резко возразил он. – Вероятно, мне придется сделать это, коль скоро сердце твое охвачено столь пламенной страстью. Просто я намного старше тебя, и мне больно видеть, как ты стремишься навстречу неотвратимой беде. И все же я выясню, что смогу, о Спейхаузе и всем остальном.
– Я просто обожаю тебя, Джереми! – Я обвила его руками и наградила поцелуем. – Пожалуйста, сделай все как можно скорее. Мне так этого хочется!
– Да поможет нам Господь, – вздохнул он, – а главное, пусть не оставит он Элизабет, потерявшую голову от любви.
В ожидании вестей от Джереми, который по моей просьбе занялся изысканиями, я отправила Марту в Рэй подыскать подходящий коттедж и сделать все необходимые приготовления, чтобы я смогла жить там в течение трех месяцев. К счастью, в этом городке у нее были знакомые. Поначалу я и сама не могла понять, почему мне на ум пришел именно Рэй, но потом вспомнила рассказы отца о том, что именно оттуда много лет назад перебралась в Лондон его семья. Повнимательнее вглядевшись в карту, я увидела, что этот Рэй находится за добрые десять миль от Гастингса, и тут же пожалела, что не выбрала местечко поближе. Но, поскольку мне не было точно известно, на каком конце города расквартирована батарея Дэвида, я сочла, что лучше оставить все как есть.
В конце концов прибыл Джереми с новостями, которые оказались не слишком обнадеживающими. Спей-хауз пользовался репутацией хорошего и справедливого человека. Родом он был из старинного семейства в Оксфордшире. Корнями этот род восходил к саксонским королям, но, как это часто бывает с такими фамилиями, его былая слава увяла, а богатство почти растаяло. Еще больше подточила семейное состояние страсть отца к азартным играм, и Эдгар Спейхауз был вынужден вступить в брак по расчету с женщиной не своего круга. Он взял в жены богатую наследницу одного железных дел мастера с севера Англии, выдающегося человека, разбогатевшего благодаря войнам, которые Англия вела на протяжении значительной части минувшего столетия.
Во многих отношениях невеста Спейхауза сама оказалась железной женщиной – властной и непреклонной. И, конечно же, семейный кошелек всецело находился в ее руках. Спейхауз до смерти боялся своей повелительницы. Злые языки даже утверждали, что и в артиллерию он пошел лишь затем, чтобы испытывать изделия предприятий, принадлежащих супруге. На других женщин полковник не осмеливался даже глаз поднять, хотя его жена почти все время проводила в туманных северных краях, железной рукой ведя дело, полученное в наследство от отца. Все эти сведения не сулили ничего отрадного.
– А что слышно насчет майорского чина? – осведомилась я.
– И здесь ничего хорошего, – скривился Джереми. – Все отзываются о Прескотте как о достойном человеке, да и сам Спейхауз, судя по всему, склоняется в его пользу. Но жена держит его на коротком поводке, и он отчаянно нуждается в деньгах. Уже два или три раза его дразнили заманчивыми предложениями, а он не так уж и стоек.
– Каковы же, на твой взгляд, шансы Дэвида? – спросила я, стараясь не терять самообладания.
Джереми нахмурился.
– Если быть честным до конца, то думаю, что в нынешних обстоятельствах у него нет ни малейшего шанса.
– Что ж, в таком случае придется изменить обстоятельства, – сказала я с мрачной решимостью. – Я должна встретиться с полковником Эдгаром Спейхаузом.
И я с ним встретилась. Бедняга вряд ли даже догадался, что за сила обрушилась на него. Я не стала заигрывать с ним, а просто набросилась на него. Мною были пущены в ход все уловки, каким меня когда-либо учили. Я льстила, дразнила, флиртовала, ластилась к нему, вскружив ему голову до такой степени, что полковник и сам толком не знал, на каком он свете. Очевидно, ему еще никогда в жизни не доводилось испытывать такого внимания к собственной персоне, и он буквально упивался этим. Через две недели полковник был без памяти от меня, но туманная, устрашающая фигура на севере все еще прочно держала его на привязи, и он никак не мог решиться на открытое предложение. Между тем время убегало как вода, и мною начало овладевать отчаяние.
– Ну что, сделал он предложение? – чуть ли не каждый день донимала я Джереми.
– Должно быть, полковник попросту не ведает, как это делается, – уныло отвечал тот.
– Тогда остается единственное средство, – решила я с отчаянием обреченной. – С ним придется поговорить тебе, Джереми.
– Что?! – переспросил он, почти сорвавшись на визг. – Господи, мы и так уже зашли слишком далеко! Но чтобы выступать в роли твоего сутенера? Будь я проклят, если соглашусь на это, Элизабет!
– Если не согласишься на это ты, я сделаю все сама, – не унималась я, – но для меня это будет гораздо труднее.
– Да пойми же, если к нему пойду именно я, то у меня будут связаны руки, – простонал Джереми. – Скажи, ради всего святого, о чем мы сможем с ним договориться? Ты не можешь толкать меня на это. Не можешь!
– Могу, – твердо произнесла я. – Ты просто должен сделать все, что в твоих силах.
Бедный Джереми! Часто я недоумевала, какая сила заставляет его мириться со всеми моими прихотями.
Через некоторое время Джереми вернулся из поездки, все еще сам не свой от той роли, которую я ему навязала.
– Ну так хочет он меня или нет? – сразу же потребовала я отчета.
– Ясное дело, хочет, – тут же застонал Джереми. – Но тебе от этого много не перепадет, уж поверь мне. О крупных деньгах речь, естественно, не заходила. Я плел ему всякую чушь о том, что в качестве свидетельства сердечной привязанности ты хочешь, чтобы он отдал открывающуюся майорскую вакансию достойнейшему из достойных, а именно Прескотту. Не заморочь ты ему голову, он ни за что на свете не попался бы на такую дешевую уловку. Но полковник, кажется, воспринимает все как само собой разумеющееся, поскольку, судя по всему, и сам уверен, что лучше Прескотта на эту должность никого не найти. Что же касается остального, то он настолько боится женушки, что согласен лишь на трехмесячную связь. Предлагает платить за твое жилье плюс четыре фунта в неделю, оплата остальных счетов не гарантируется. Если бы я думал, что он хоть что-то смыслит в таких делах, то счел бы это оскорблением. Однако Спейхауз в этом ни черта не смыслит. У него есть дом в городе, но он так запуган, что боится пустить тебя туда. Впрочем, может, это и к лучшему.
– Не нужно мне ни денег, ни чего иного, – обрадован но произнесла я. – Майорство обеспечено, а это главное. Он знает, что я не буду готова до ноября?
Лицо Джереми исказила гримаса, и сердце мое упало.
– Об этом отдельный разговор, Элизабет. Поначалу он, казалось, с пониманием отнесся ко всему, что я говорил о твоей занятости семейными – да простит меня Господь! – делами за городом на протяжении трех месяцев, но потом вдруг заупрямился и начал твердить, что если в качестве доказательства своей страсти он должен дать кому-то чин майора, то и ты, со своей стороны, должна представить ему кое-какие доказательства. Короче говоря, он не подпишет приказ, пока ты не переспишь с ним. Будучи человеком, который сам по себе ничего особенного не представляет, он скорее всего опасается, что ты за три месяца попросту забудешь о его существовании, а потому хочет получить хотя бы какую-то гарантию, что не останется в дураках.
Я равнодушно пожала плечами.
– Что ж, пусть будет так, если уж без этого не обойтись. Когда он приедет за «гонораром»?
Джереми сокрушенно покачал головой.
– Никогда бы не подумал, что ты можешь быть такой, Элизабет, – изумился он, – что ты готова пойти на такие крайности ради человека, которого даже не надеешься удержать рядом с собой на достаточно долгий срок. Значит, несмотря на свой преклонный возраст, я так и не распознал вас, женщин.
– Дорогой мой, – улыбнулась я ему, – ты сотворил чудо, на которое не способен никто другой. Когда же приедет Спейхауз?
– Я сделал все, что было в моих силах, – глухо проговорил Джереми, будто каждое слово давалось ему с трудом. – Я сказал ему, что ты уезжаешь в деревню в четверг, – тут я должна заметить, что наш разговор происходил в понедельник, – значит, он проведет здесь завтрашний день и среду. Он обещал подписать приказ о назначении и передать его в мои руки в среду утром, – вздохнул мой друг. – Поверь, Элизабет, никогда в жизни я не чувствовал себя столь подавленным, как сейчас.
– Не беспокойся обо мне, Джереми. – Мои губы тронула нежная улыбка. – В конце концов Спейхауз не какой-нибудь Чартерис, и мысли мои будут не о вторнике, а о пятнице.
Так я стала любовницей Эдгара Спейхауза, в то время как сердце мое переполняла любовь к Дэвиду Прескотту.
Бедный Эдгар был воплощением всех Изъянов, присущих вырождающемуся роду: очень высокий и худой, сутулый, с длинными, неправдоподобно узкими ступнями и ладонями. Волосы его были столь светлыми и жидкими, что казались почти белыми. Продолговатое лошадиное лицо с тонкими чертами выдавало в нем прирожденного аристократа. Нос был столь длинен и узок, что ноздри почти светились, а высокие скулы, казалось, вот-вот прорвут пергаментную кожу. Хотя ему было уже под пятьдесят, Спейхауз выглядел гораздо моложе благодаря своей тонкой и гладкой коже. Борода у него почти не росла, что придавало его лицу мальчишеское выражение. Водянистые бледно-голубые глаза подслеповато щурились, а поскольку очков полковник не носил из-за неодобрительного отношения к ним жены, создавалось впечатление, что он постоянно что-то ищет вокруг себя.
В целом его отнюдь нельзя было назвать уродом, но, как я уже отмечала, из него было вытравлено все, что превращает человека в самостоятельную личность. С таким мужчиной вы можете встречаться хоть сто раз, но во время каждой новой встречи будете с трудом припоминать, кто это и где вы могли видеться прежде.
Исполненная решимости сыграть свою роль до конца, я приняла его во вторник почти как Клеопатра, встречающая своего Антония из военного похода, хотя, подозреваю, наша ночь была гораздо менее бурной, чем та, которую провели вместе прославленные любовники. Эдгар нервничал, как восемнадцатилетняя девственница, и вел себя так, словно дверь спальни того и гляди распахнется и к нам ворвется его грозная супруга. Однако, применив все свое искусство и изобразив восторги, которых на самом деле не чувствовала, я полностью приручила его. Он проявлял столь горячее любовное влечение, что в среду утром мне стоило немалых трудов не подпускать его к себе хотя бы на то малое время, которое понадобилось ему, чтобы подписать приказ о назначении Прескотта, тут же перешедший в руки Джереми. В конце концов дело было сделано, и Джереми, привычно заметая следы, переправил бумагу в Гастингс при посредничестве агентства, принадлежавшего его другу-юристу. А я была так горда собой, что делала в тот день все возможное, чтобы ублаготворить Эдгара. Это оказалось проще простого. Бедняжка быстро получил свое и в четверг утром, когда наступила пора прощания, чуть не плакал. Шмыгая от волнения носом, он клялся мне в любви до гроба и уверял, что следующие три месяца покажутся ему вечностью. Я же не смогла сдержать вздох облегчения, когда услышала, что его жена готовится вскоре прибыть с одним из редких триумфальных визитов. Теперь я знала, что полковник будет находиться в Лондоне в надежных и крепких руках, а значит, нет нужды опасаться неожиданного десанта в Рэй.
Едва дождавшись, пока за ним захлопнется дверь, я молнией взлетела по лестнице, чтобы завершить упаковку вещей. Устроив все дела с коттеджем, Марта вернулась, чтобы помочь мне с переездом, поскольку свой дом я сдавала на три месяца жене одного офицера. Наконец вещи были сложены, и я тепло попрощалась с унылым Джереми, который пришел проводить меня.
– Не волнуйся, – смеялась я. – Обещаю больше никогда в жизни не докучать тебе своими просьбами.
В ответ он улыбнулся, умудрившись при этом не терять похоронный вид. Это делало его похожим на эльфа в припадке меланхолии.
– Ты будешь верна своему обещанию лишь до первого нового затруднения. А потом снова прибежишь ко мне вся в слезах, взывая о помощи. Поверь, дорогая, всякий раз, когда ты приходишь в мою контору, я чувствую, что постарел еще на год. И все же, – добавил он, посерьезнев, – не думаю, что хотел бы иной участи. Надеюсь, ты найдешь свое счастье, дорогая Элизабет. Благослови тебя Господь! Ты знаешь, где меня искать, когда я вновь тебе понадоблюсь.
И он неловко заковылял прочь, как внезапно состарившийся младенец.
Мы отправились в путь. Всю дорогу я грезила, строя прекрасные воздушные замки. Сидевшая напротив Марта, как всегда, строго смотрела прямо перед собой.
– Вы уверены, что любите его? – внезапно спросила она.
– Уверена, – откликнулась я из своего розового облака.
Она удовлетворенно кивнула, но потом как бы между прочим заметила:
– Счастье не обходится без страданий.
– Ну что ж, такова жизнь! – отмахнулась я. Вообще-то мне вовсе не хотелось об этом думать.
– Но запомните: нет такого страдания, которое нельзя пережить. Призывать смерть – грех, во всяком случае пока вы молоды, – продолжала она.
– Послушай, Марта, ты изъясняешься в высшей мере загадочно, – довольно резко произнесла я, выведенная из терпения. – Что это значит?
– Я говорю вам все как есть, – ответила она все с той же суровостью. – И все же вы должны быть благодарны судьбе, потому что не так уж часто это случается. Ведь это удел лишь немногих счастливцев, очень немногих.
– Какой удел? – Я была в полном недоумении.
– Как какой? Настоящая любовь, – тихо проговорила она, выглянув из окна кареты. – Настоящая любовь – и больше ничего.
Мы приехали в Рэй, когда только начинало вечереть, и я тут же направила весточку Дэвиду, пригласив его отужинать со мной на следующий день. Если же дела службы не позволят ему отлучиться, он должен был уведомить меня о невозможности встречи.
Коттедж, который подыскала Марта, располагался как раз в центре Уэст-Гейта – старой части города. Снаружи дом выглядел совсем крохотным, но внутри оказался на удивление просторным. Там была обширная гостиная, переходившая в небольшую столовую, внизу – кухня вполне приличных размеров, а наверху – одна большая и две маленькие спальни. Марта превратила дом в удивительно уютное гнездышко, добавив к старой и неуклюжей деревенской мебели кое-какие вещи из нашей лондонской обители. Она также позаботилась о том, чтобы украсить обстановку всевозможными глиняными горшочками, которые купила у местных гончаров, и медными кувшинами с цветами. Ведь был конец июля. Закрывая глаза, я до сих пор ощущаю их тяжелый аромат.
Марта сочла, что вполне управится по дому без помощников, и, поскольку экипаж теперь мне был уже не нужен, я отправила его назад в Лондон. Кучеру было сказано, что в случае необходимости я пошлю ему уведомление. Но в глубине души я надеялась, что это мне не понадобится.
Следующий день прошел в лихорадочном ожидании. Я не находила себе места, словно в день первого бала. Однако время шло, а ни самого Дэвида, ни весточки от него не было. Я терзалась догадками. Трижды я меняла наряды, прежде чем остановила выбор на голубом шелковом платье с серебряными звездами и моих лучших сапфирах. На ужин мною было заказано уже около десятка различных блюд, но я никак не могла остановиться и высказывала все новые прихоти. Марта, как обычно, была сама невозмутимость и воспринимала мои сумасбродства со стойкостью великомученицы. Много лет спустя я не раз спрашивала себя: а может, отличаясь редкой проницательностью, она вовсе и не подходила в тот день к плите, поскольку наперед знала, что ее стряпня не понадобится? К тому времени, когда сумерки окрасили все в серые тона, я уже находилась на грани нервного срыва, будучи уверена в том, что он не придет, ибо не любит меня. Но что это? Вдруг по Уэст-Гейту разнесся дробный топот конских копыт. Этот звук, почему-то показавшийся мне забавным, становился все ближе и оборвался у двери нашего дома. Тихо заржала лошадь. Дэвид приехал.
Он вошел, закутавшись в военный плащ, хотя на улице был теплый вечер. Едва взглянув на него, я почувствовала, что он охвачен непреодолимым желанием.
– Добро пожаловать, капитан Прескотт, – приветствовала я его, сделав глубокий реверанс.
Глядя мне прямо в глаза, он медленно снял плащ, обнажив новые знаки отличия на мундире и майорские эполеты. Мой возглас удивления, должно быть, согрел бы сердце бедного учителя, который приобщал меня к тайнам актерского мастерства.
– О Боже! Мне следовало сказать: майор Прескотт Вы просто великолепны!
В тот же момент я очутилась в его объятиях, наши уста слились в поцелуе, и нас закружил не поддающийся описанию водоворот чувств.
Способен ли кто-нибудь передать, что такое настоящая любовь? Тем немногим счастливцам, которые познали это чудо, не нужны мои слова – им и так все известно. Несчастное же большинство людей так навсегда и останется в неведении. Им не дано познать восторг, экстаз и боль всепоглощающего чувства, а жалкие слова мои покажутся лишь бессмысленным лепетом идиота. Это все равно, что пытаться рассказать слепцу о том, как прекрасно крыло бабочки или насколько красива паутинка, покрытая мельчайшими капельками росы. Экстаз любви охватывает не только тело, но и дух, и рассудок – все сливается воедино. Дэвид не был чем-то отдельным от меня. Вместе мы составляли единое совершенное существо – движущееся, дышащее, чувствующее и мыслящее. Мы принадлежали друг другу, как ночь и звезды, как два звена цепи.
Я не помню, как в тот первый вечер мы очутились наверху. Наверное, Дэвид нес меня на руках, а может, я летела по воздуху. Все, что осталось в моей памяти, – это белизна его тела, на котором синими тенями лежали шрамы былых ран, непреходящий восторг любви, подобного которому я прежде никогда не знала. Сумерки за окном сменила тьма, на смену тьме пришел рассвет, а мы лежали на любовном ложе, не в силах распознать границы между нашими телами – столь полным было наше слияние. Если мы и заснули, что, наверное, в конце концов должно было произойти, то лишь затем, чтобы увидеть одни и те же волшебные сны, которые вновь стали явью после нашего пробуждения.
Лишь солнце, щедро залившее комнату, заставило наши души с неохотою и по отдельности вселиться в каждое из двух переплетенных тел. Мы лежали, глядя в глаза друг другу и силясь понять, наяву ли испытали чудеса минувшей ночи или же рассудок наш помутился под влиянием какой-то прекрасной фантазии. Голубые глаза Дэвида блестели, как сапфиры, которые по-прежнему украшали мою шею. Издав долгий прерывистый вздох, он притянул меня к себе.
– Любимая моя, бесценная, я слышал рассказы о рае на земле, но до этой ночи не знал, что он действительно существует. Неужели мир не перевернулся, неужели все осталось прежним теперь, когда я нашел свой рай, свое истинное блаженство? И как мне жить дальше, если я утрачу тебя?
С этими словами Дэвид уткнулся лицом мне в грудь, будто хотел спрятаться от всего остального мира.
Моя ладонь пробежала по его шее, где волосы были волнистыми, напоминая на ощупь витое серебро.
– Это только начало, любимый мой, – прошептала я. – Давай не думать об изгнании из рая, который только что обрели. Этим утром мир кажется мне добрее, чем когда-либо. Я полностью в ладу с ним, пока ты принадлежишь мне.
Очевидно, наш разговор в таком духе мог длиться бесконечно, если бы реальность в лице Марты, постучавшей в дверь, не напомнила о себе. Марта принесла теплую воду для мытья и новость о том, что завтрак уже готов, если, конечно, такие вещи нас все еще интересуют.
В ярких лучах утреннего солнца мы, должно быть, являли собой забавную сцену: майор средних лет с подбородком, посиневшим от отросшей за ночь щетины, и шлюха не первой молодости со спутанными волосами. Но друг для друга в тот момент мы были прекраснее ангелов.
После завтрака Дэвид собрался обратно в Гастингс, и я спросила его, когда же мы снова увидимся.
– За долгие годы не слышал вопроса глупее, – добродушно ответил он. – Я буду вновь с тобой, как только распределю обязанности. Слава Богу, у меня толковый лейтенант. Жди меня сегодня во второй половине дня, душа моя.
С этими словами он дал коню шпоры и был таков.
Во второй половине дня начался проливной дождь, со стороны Пролива задул, загулял по болотам злой ветер. Дэвид приехал, вымокнув до нитки: на его плаще и кителе не было сухого места. Я развела в камине огонь. Отдав Марте вещи на просушку, Дэвид вошел в комнату и, дрожа от холода, присел рядом со мной. Сидя перед камином, он выглядел на удивление юным и беззащитным. Белая полотняная рубашка обтянула его широкие плечи, когда мой майор протянул руки к языкам пламени, бросавшим отсветы на его открытое, чистое лицо, оттеняя мужественные очертания губ. Глядя на Дэвида в этот момент, я так любила его, что едва не плакала от радости.
Опустившись на колени, я помогла ему снять сапоги, в которых хлюпала вода. И тогда он, взяв меня за подбородок, поднял мое лицо.
– Ты выглядишь так, будто тебе шестнадцать, любимая, – тихо произнес Дэвид. – А я чувствую себя похитителем невинного ребенка.
– Я тоже хотела бы, чтобы мне было шестнадцать лет, раз того хочется тебе, – сказала я с улыбкой, подумав, что это не единственная причина, почему мне захотелось стать шестнадцатилетней.
– Но я рад, что ты не такая, и тому есть много причин, – возразил он, словно читая мои мысли. И, притянув меня к себе, впился своими губами в мои – жадно, грубо, сладко – до тех пор, пока в этой комнате с догорающим огнем в камине наши тела и души не стали вновь единым целым.
До сих пор удивляюсь, как за эти несколько дней мы не умерли от истощения. Не могу припомнить ни одной из наших трапез. Но, полагаю, Марта время от времени насильно усаживала нас за стол и кормила, иначе мы бы погибли от упадка сил. И дело не в том, что Дэвид был столь умелым любовником – на самом деле у него не было ни утонченности, ни той мужской силы, которыми отличался Крэн. Но, поскольку мы были частью друг друга, он безошибочно знал, чего я хочу, точно так же, как я знала о его желаниях, а потому физическому наслаждению, которое мы черпали друг из друга, не было конца.
Естественно, это не означало, что мы предавались любовным утехам дни и ночи напролет, хотя бы потому, что Дэвиду все же приходилось выполнять кое-какие служебные обязанности. Впрочем, он устроил свои дела так, что мог отлучаться в понедельник и среду вечером, а затем в пятницу днем, с тем чтобы проводить у меня конец недели до утра понедельника. Для нас этого было катастрофически мало, но большего мы себе позволить не могли.
Когда опьянение первых дней схлынуло, уступив место более глубокому и нежному чувству, мы с удивлением обнаружили, что вокруг нас существует реальный мир. И пусть нам не хотелось жить в этом мире, ведь в нашем собственном было намного уютнее, мы решили познакомиться с ним поближе.
Мы обошли весь Рэй – странный городок, от которого отступило море, оставив о себе лишь воспоминания и свой необычный соленый дух. От бывшей пристани мы поднялись по улочке, вымощенной булыжником, чтобы взглянуть на постоялый двор «Русалка». По преданию, в поисках своего неверного возлюбленного – моряка она выбросилась на берег из морских вод и умерла на пороге бревенчатой харчевни, распевая погребальную песнь, которую иногда поет само неукротимое море. Говорили, что пение ее до сих пор можно слышать грозовыми ночами – русалка по-прежнему выходит из волн, а потому местные жители старались в такие ночи не появляться на этой улице. Я сочувствовала маленькой русалочке, хотя и не могла при всем желании представить, что такое – иметь неверного любовника.
Рэй был полон привидений. Была там обезглавленная женщина, которая якобы имела обыкновение прогуливаться по Петушиной улице вблизи старинного аббатства, а вокруг гостиницы Георга на Высокой сражались друг с другом два призрака-дуэлянта, но мы с Дэвидом ни разу не видели их, потому что почти все время смотрели друг на друга. Единственной городской достопримечательностью, которой мы избегали, была Ипрская башня, в которой содержали французских военнопленных. С этой башни в сторону моря смотрели пушки небольшой батареи, а нам не нужны были никакие напоминания о том, что мы всеми силами старались забыть.
Одним прекрасным субботним утром мы взобрались на колокольню церкви святой Девы Марии, откуда открывался великолепный вид. Церковь возвышалась на самом краю утеса, с которого можно было видеть весь город, теснившийся у подножия скалы, и серебро реки, что змеилась по равнине, норовя слиться с более широкой серебряной лентой Пролива, простиравшейся до самого горизонта. Был жаркий ясный день, настолько жаркий, что Дэвид не набросил ничего поверх рубахи, а я надела кисейное платье, самое легкое из всех, что были в моем гардеробе. Мы стояли бок о бок, облокотившись на парапет и устремив взоры в морскую даль.
Внезапно Дэвид предложил:
– Давай убежим отсюда, Элизабет. Поедем в Америку, начнем все заново. Мне говорили, что землю там дают любому, кто пожелает. Это страна, где мужчина может добиться своего, если у него достанет решимости. В Ирландию все еще заходят американские корабли, а мы бы могли добраться туда из Бристоля пакетботом и были бы уже в пути, прежде чем кто-то хватился бы нас. И началась бы новая жизнь, полная счастья для нас обоих.
В голосе его звучали порыв, горячность и в то же время печаль. В тот день на башне он был словно одержим. Меня же мучили сомнения, которые я не в силах была скрыть от него.
– И ты смог бы бросить все просто так? – спросила я, щелкнув пальцами. – Карьеру, семью – все, что тебе до сих пор удалось создать?
Дэвид закрыл лицо руками, словно желая отогнать видения, вызванные моими словами. Плечи его поникли.
– Я готов на все, абсолютно на все, лишь бы ты была со мной, Элизабет. – От волнения у него перехватило горло. – До встречи с тобой мне часто казалось, что во мне чего-то не хватает, у меня появлялось чувство какого-то несовершенства или неисправимого изъяна, мешающего мне раскрыться до конца, почувствовать уверенность в собственных силах. Но теперь я понял, что дело было не во мне самом – просто мне нужна была ты. С тобою я совершенен, я чувствую себя единым целым, которое никто и ничто не в силах разрушить. Я не могу, не должен потерять тебя, иначе буду навеки потерян для самого себя.
Однако наваждение все не отпускало меня. Я хотела быть с Дэвидом, желала бы сделать все так, как он говорит, и все же не могла отделаться от груза тяжких воспоминаний жизни, которую до сих пор вела. Я мечтала быть с ним вместе до самой смерти, но хотела, чтобы он был свободен, чтобы руки его были развязаны, твердо зная при том, что это вне моих возможностей. Отправься мы хоть за сто морей, путы, которыми он связан здесь, все равно останутся. А поскольку он добрый и порядочный человек, эти путы рано или поздно увлекут его от меня, разорвав то, что ныне соединяет нас. Я не верила, что наши души сплелись настолько, что выдержат подобное испытание. И я боялась – боялась того, что станется с ним и со мной.
Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что заблуждалась. Наверное, в тот день я собственными руками разрушила свое счастье. Счастье, каким видел его он, счастье, которым мы могли бы наслаждаться по сей день. Не найдя в себе сил, чтобы собственной любовью победить возможные тяготы новой жизни, я навлекла на нас обоих страдания куда более страшные. Что ж, я всегда дорого платила за свои ошибки.
– Все это прекрасные мечты, дорогой, не более того, – сказала я спокойно, – и, наверное, ты не хуже меня знаешь это. Если бы ты был так же свободен, как и я, то я, не задумываясь, пошла бы за тобой хоть на край света, о чем тебе хорошо известно. Но ты не свободен и, видимо, навсегда. Так будем жить настоящим. Вероятно, это все, что нам остается. Нужно смириться с этим, и, пожалуйста, давай не будем истязать себя, стремясь к невозможному. Каждое мгновение, проведенное нами вместе, дороже золота, не станем же губить те бесценные минуты, которые нам еще отпущены, раздумьями о будущем. Оно нам не принадлежит.
Отвернувшись от меня, Дэвид вновь облокотился на парапет и опустил голову на ладони. Я постояла рядом, позволив ему некоторое время побыть наедине с самим собой, а потом мягко тронула его за плечо.
– Пожалуйста, Дэвид, не надо. Я не хочу вновь заводить разговор, который столь мучителен для нас обоих. Давай жить каждым наступающим днем, как делали это до сих пор. Хотя на какое-то время мы можем отрешиться от внешнего мира, и мне хотелось бы, чтобы это время длилось как можно дольше.
Он обернулся, взял меня за руку и зарылся лицом в мои волосы.
– Ах, Элизабет, я так люблю тебя, что не могу выразить это словами. Нет ничего, что я не сделал бы ради тебя, и я выполню все, что только ты пожелаешь. Но послушай, любовь моя, ведь ты никогда не будешь свободна от меня, как и я никогда не освобожусь от тебя, – что бы ни случилось, как бы далеко ни разбросала нас жизнь. Разве ты не чувствуешь этого?
Да, я чувствовала это, и мы целовались, целовались без устали, пытаясь уйти от боли, которая уже вошла в наши сердца.
Несколько дней спустя Дэвид пришел в веселом расположении духа и, обхватив меня за талию, воскликнул:
– Бери свой чепчик, женщина, и пойдем со мной! Мы отправляемся на прогулку.
– По какому поводу такая спешка? – рассмеялась я.
– Мне нужен твой маленький портрет, который можно носить на шее, и я нашел здесь неподалеку, в Рэе, человека, который такие портреты пишет. Что же касается спешки, то в последние дни я всегда спешу. Разве ты еще не заметила этого?
И он начал покрывать мое лицо поцелуями.
– Ах, Дэвид, – с улыбкой отстранилась я от него, – если речь только о маленьком портретике, то у меня здесь есть один такой.
Порывшись в ящике с драгоценностями, я нашла миниатюру, которую сэр Генри писал с меня в Маунт-Меноне.
Дэвид бросил на картинку критический взгляд.
– Недурно, – произнес он холодным тоном, и глаза его приобрели стальной оттенок. Он вернул мне портрет. – Но мне нужен мой собственный. Так ты идешь со мной или мне силой тебя тащить?
– Я пойду лишь в том случае, если мне, в свою очередь, достанется твой портрет, – надула я губы.
Его лицо расплылось в улыбке.
– Любая твоя прихоть для меня закон, если портретисту это под силу.
Миниатюрист оказался маленьким смешным человечком, почти карликом, с огромной головой, которая, казалось, вот-вот свалится с длинной, как стебель, шеи. Но, будучи подлинным мастером своего дела, он великолепно передал наши черты. Мы оба выглядели очень серьезно и торжественно, а Дэвид в своей строгой форме – даже сурово. Однако художник смог уловить главное и единственно важное – выражение наших глаз, когда мы смотрели друг на друга, позируя для него. Теперь, когда я пишу эти строки, два маленьких портрета лежат рядом со мною. Вместе с двумя простыми золотыми кольцами они – самое ценное из всего, что есть у меня в жизни.
В то время как я позировала для первого наброска, Дэвид осматривал лавку, поскольку художник оказался одновременно часовщиком и ювелиром. В конце концов он, кажется, нашел то, что искал, и принес мне эту вещицу, сжимая в кулаке. Когда он разжал пальцы, на ладони оказалось золотое колечко с маленькой печаткой, на которой было изображено рукопожатие. Дэвид торжественно показал мне внутреннюю часть ободка. Присмотревшись, я увидела выгравированную надпись: «Как были мы вместе при жизни, так будем и после нее» и пару инициалов – Э. К. и Д. К.
Миниатюрист обернулся, чтобы посмотреть, что там такое.
– А-а, вижу, вы отыскали колечко с девизом, – проскрипел он смешным фальцетом. – Очень старинное, должно быть, шестнадцатого века.
– А для чего такие колечки делались? – полюбопытствовала я.
– В старые времена ими, бывало, обменивались при помолвке, ведь тогда еще было не так много красивых камушков, как сейчас. А иногда их использовали и как свадебные кольца – вот в таких случаях на них и делали надписи. Потешные иной раз встречаются. Помню, как-то раз прочитал на одном кольце: «Господи, помоги нам обоим».
И он пронзительно закудахтал, что должно было означать смех.
Глядя на старого уродца, не удержалась от улыбки и я, но Дэвид был по-прежнему поглощен находкой.
– Не мог бы ты изменить инициалы и вписать дату? – спросил он.
– Это очень просто, – ответил старик. – Скажите, что вам нужно, и я все исполню в лучшем виде.
Дэвид сделал заказ, но названная им дата изумила меня – смысл ее был для меня непостижим. Он назвал 18 октября 1798 года.
– Почему именно такая дата, а не сегодняшний день? – удивленно прошептала я.
– Это дата нашей первой встречи, – невозмутимо отвечал Дэвид. – Она мне кажется весьма знаменательной, ведь с тех пор мы уже не были свободны друг от друга, не так ли?
Мне нечего было возразить. На сей раз он был, несомненно, прав.
Вскоре работа над миниатюрами и кольцом была завершена, и мы получили свой заказ. Портреты были заключены в медальоны черного дерева: мой – на толстом шелковом шнурке, Дэвида – на тонкой золотой цепочке. Мы торжественно повесили свои портреты друг другу на шею. И тут мне стало дурно от осознания простой истины: «Скоро, слишком скоро мне придется снять его, когда я пойду в объятия другого мужчины». Вынув из коробочки кольцо, Дэвид надел его мне на палец – в точности, как сделал бы это на бракосочетании.
– Сентенция на нем не отличается красноречием, – сказал он с затаенной грустью, – но я и сам не очень-то красноречив. Эти простые слова трогательны в своей наивности. И пусть будет так, как здесь сказано: в жизни и смерти неразделимы. Носи его всегда, любимая моя, – ради меня.
Я выполняю его просьбу.
Минул месяц – как я и опасалась, слишком быстро. Однажды утром я лежала в объятиях Дэвида, пальцы мои блуждали по следам его ран. Он был в полудреме, голова его покоилась на моих разметавшихся волосах. Как я любила эти мгновения – столь нежные и всепоглощающие, но вместе с тем проникнутые покоем!
– Дорогая, тебе обязательно нужно оставаться в Рэе? – сонно пробормотал он, зарывшись лицом в мои волосы.
– А разве тебе здесь не нравится? – прильнула я к нему.
– Не о том речь, но я подыскал коттедж в Гастингсе. Если бы ты перебралась туда, мы могли бы быть вместе каждый день и мне не пришлось бы набивать на мягком месте синяки, несясь галопом десять миль, – тихо засмеялся он, еще не проснувшись окончательно.
– Но разве тебе будет удобно, если на батарее узнают о моем существовании?
Дэвид лишь крепче сжал меня в объятиях.
– Любимая моя, разве это имеет для меня хоть какое-то значение? К тому же коттедж находится на Замковой горе, а батарея расположена за две мили от города. Им нет нужды знать о тебе, коли ты этого не хочешь.
– Здесь у меня полно вещей, – разволновалась я, – целый воз наберется. Представляешь, какая это морока?
– Никакой мороки. – Его голос был все еще сонным, но Дэвид уже начал просыпаться. Его руки шаловливо блуждали по моим грудям. – Мы можем раздобыть повозку и превратиться на один день в фермера с женой, приехавших в город на ярмарку.
Руки его играли все оживленнее, и мои глаза начал застилать розовый туман.
– Верно, можно сделать и так, – томно протянула я, и розовый туман скрыл от меня все, кроме нас двоих, слившихся, как всегда, в единое целое.
Итак, мы уложили все мои пожитки в большую крестьянскую телегу и тряслись в ней целых десять миль до Гастингса. Это была незабываемая поездка! Дэвид – вылитый деревенский парень в штанах до колен, холщовой рубахе и соломенной шляпе, сбитой на затылок, – ловко управлял повозкой, натягивая загорелыми мускулистыми руками поводья и нахлестывая по бокам ленивых лошадей. А я подпрыгивала на сиденье рядом с ним – ни дать ни взять фермерская жена в широком чепце и клетчатом хлопковом платье. И все же я была счастливее самой королевы. Искрилось море под сияющим солнцем, из-под колес поднимались белые клубы меловой пыли, а мы купались в лучах счастья.
Марта отнеслась к переезду без малейшего ропота. Мне думается, она восприняла его даже с некоторым облегчением, поскольку отныне была избавлена от моих капризов в те дни, когда Дэвид отсутствовал. Новый коттедж был далеко не так вместителен и красив, как тот, что мы оставили в Рэе, но он уютно примостился у стены замка. Гуляя там вечерами, мы смотрели на Пролив, в ту сторону, где на французском берегу жгла свои походные костры наполеоновская «Армия Англии» в ожидании приказа ринуться к британским берегам.
– Как ты думаешь, кончится ли это когда-нибудь? – спросила я Дэвида во время одной из прогулок.
Он пожал плечами.
– Пока Наполеон способен вести за собой армию, вряд ли Англия будет в безопасности. Когда-нибудь его сила будет сломлена раз и навсегда, но не думаю, что это время уже наступило, и молю Господа, чтобы у нас нашелся генерал подходящего калибра. Иначе нам конец.
От этого разговора мне стало не по себе, и я теснее прижалась к Дэвиду, желая в душе, чтобы он был кем угодно, только не солдатом.
Иногда наши прогулки продолжались до глубокой ночи, и я заводила разговор о звездах, демонстрируя познания, приобретенные за годы, проведенные в Маунт-Меноне. Часто я обнаруживала, что внимание Дэвида сосредоточено не на звездах, а на мне, и тогда начинала выговаривать ему. Крэн в таком случае непременно высказался бы в том смысле, что ему вовсе не обязательно разглядывать Венеру в небесах, когда существует Венера на земле, к тому же у него под боком. Дэвид же изъяснялся просто: «Уж лучше я посмотрю на тебя, любовь моя», – и лучше сказать не смог бы никто.
Дни – один прекраснее другого – бежали как песок сквозь пальцы. Приближалось время моего отъезда. С момента нашего памятного разговора на колокольне Дэвид ни разу не нарушил моего желания, и мы по взаимному уговору не говорили о будущем. Теперь я знаю, что мне все же следовало затронуть запретную тему.
И вот я вновь лежала в его объятиях, на сей раз чувствуя себя скованной и жалкой под грузом того, что мне сейчас предстояло сказать. Наконец я решилась.
– Дорогой, – прошептала я, – три месяца почти прошли. Скоро мне придется ехать обратно в Лондон.
Он прижал меня к себе.
– Так ли уж нужно тебе ехать? Раньше я старался не задумываться об этом. Я понимаю, этот коттедж не Бог весть что, но, как только вопрос с лейтенантством Ричарда будет решен, все несколько упростится, и тогда я смогу подыскать в городе что-то получше. Разлука с тобой будет для меня невыносима. Не сейчас, дорогая, умоляю, не сейчас.
Но что толку в мольбах? Я знала, что Спейхауз не будет ждать слишком долго и начнет разыскивать меня. И даже если бы я рискнула нарушить нашу с ним договоренность, оставшись здесь, как того хотелось Дэвиду, наша волшебная жизнь продлилась бы в лучшем случае не более нескольких лет, а в худшем – еще несколько недель. Рано или поздно, если не я его, то он вынужден был бы оставить меня, а с этим я не могла смириться.
К тому же была еще одна веская причина, побуждавшая меня к отъезду. Теперь я была вполне уверена, что жду ребенка от Дэвида. С самой первой ночи нашего любовного безумия я не применяла ни одного из тех средств, с помощью которых предохранялась на протяжении многих лет. Зная с самого начала, что мне придется потерять Дэвида, я в глубине души хотела, чтобы со мной осталась его частица, которую никто не сможет у меня отнять. Я желала ребенка – отчаянно, безумно, но не хотела, чтобы Дэвид знал об этом. Если бы он узнал, то никогда не избавился бы от чувства ответственности передо мной и ребенком, а ему и без того приходилось нести тяжелое бремя. Это был бы его ребенок, но он всецело принадлежал бы мне, и я сама взлелеяла бы наше дитя – живое свидетельство моей первой, последней и единственной любви.
В ответ на все его мольбы я непреклонно качала головой.
– Помни о нашем уговоре, дорогой. Свободной я пришла к тебе, свободной и уйду. И ухожу я не потому, что мне так хочется, а потому, что вынуждена. Ты единственный мужчина, которого я люблю и буду вечно любить, единственный, кто значил и будет значить все в моей жизни. Теряя тебя, я теряю половину самой себя, и, пожалуйста, не заставляй меня страдать больше, чем я уже страдаю. За эти три месяца мы испытали счастье большее, чем то, которое выпадает на долю большинства людей за всю их жизнь. Но мы не в праве надеяться на то, что все это будет длиться вечно, – так уж складывается наша жизнь.
– Я не говорю, что мы никогда не встретимся вновь, – продолжала я, – это было бы слишком неправильно и жестоко, но сейчас у меня, как и у тебя, есть обязанности, от которых никуда не уйти, и я смогу их выполнить лишь в том случае, если избавлюсь от постоянной мучительной потребности в тебе. Ты должен дать мне слово, что по меньшей мере год не будешь разыскивать меня. После того, как боль разлуки немного утихнет, мы могли бы возобновить отношения, которые поддерживали до моей поездки в Рэй. Если, конечно, это возможно.
– Неужели ты в самом деле думаешь, что это в наших силах? – Глаза Дэвида потемнели от боли. – Что мы можем быть вместе, но не быть любовниками?
– Что делать, если так складываются обстоятельства, – вздохнула я. – Это наверняка лучше, чем никогда не увидеться вновь, разве не так?
Говоря это, я вполне отдавала себе отчет в том, что не права, хотя он и дал горькую клятву неукоснительно выполнить мою волю. Я приняла твердое решение, и все же где-то в глубине души мелькала мысль, не совершаю ли я жестокую ошибку.
Приближался конец октября. Погода и воды Пролива стали серыми, совсем как наше настроение в преддверии близкой разлуки. Дэвид был более тих и сдержан, чем обычно, а Марта, видя мою подавленность, однажды, когда мы были наедине, все же решила высказаться.
– Почему бы вам не остаться, коли он того желает? Если вы беспокоитесь насчет Спейхауза, то Джереми придумает что-нибудь, чтобы отвадить его от вас. Оставайтесь же и ловите свое счастье, пока оно дается вам в руки.
В ответ я скорбно покачала головой.
– Это бессмысленно, Марта. Агония неизбежна, и, если я не покину его сейчас, рано или поздно наступит Время, когда он будет вынужден покинуть меня, а я этого не вынесу.
О ребенке я ей пока ничего не сказала. Марта посмотрела на меня с похоронной серьезностью.
– Любовь и гордость – плохие попутчики, – сурово возразила она, – и от своей гордости вы пострадаете больше, чем от любви.
– Ничего-то ты не понимаешь, Марта, – произнесла я устало, – а потому давай-ка закроем эту тему.
И все же, думается мне, она меня отлично понимала.
Я обманула Дэвида, сказав ему, что уезжаю в субботу. В действительности я собралась покинуть город на день раньше. Я страшно боялась момента прощания, а потому решила бежать тайком. Я направила Джереми секретное послание с просьбой прислать за мной карету. Вместе с экипажем от него прибыла записка, в которой говорилось, что по прибытии я должна ехать прямиком к нему, поскольку у него для меня есть важные новости.
В нашу последнюю ночь – ночь невыразимой печали – я всецело отдалась порыву необузданной страсти, едва Дэвид попал в мои объятия. И когда он уснул, утомленный моими исступленными ласками, я продолжала изо всех сил прижимать моего любимого к себе, стараясь запечатлеть в памяти каждую его черточку. Я мечтала умереть, как вакханка после оргии, однако знала, что столь легкий уход из жизни не для меня. Страдания казались невыносимыми, но мне тогда было невдомек, что это только начало настоящих мук.
Наступил день, и Дэвиду было пора возвращаться на батарею. Я, как всегда, нежно попрощалась с ним, но, произнося свое обычное «прощай», не позволила себе пролить ни единой слезинки. Он уехал, а я села за прощальное письмо, чтобы излить всю свою любовь к нему, всю печаль. Я клялась в вечной любви и напоминала ему о его обете. Во мне теплилась надежда, что когда он оправится от первого удара в связи с моим отъездом, то поймет: так лучше для нас обоих. Выводя строки прощального послания, я всей своей израненной душой чувствовала, какое горе меня постигло.
В то время как я писала, Марта с угрюмым видом укладывала вещи. Она не одобряла моего поступка, причем и не думала скрывать этого, но что мне было за дело! Ведь именно мое, а не ее сердце сейчас разрывалось на части. Наконец все дела были завершены, и я в последний раз затворила дверь – за своей жизнью, за своим счастьем – и села в карету. Сквозь тронутые осенним багрянцем перелески Суссекса она повезла меня к теням и призракам, которые поджидали меня в Лондоне. Я проплакала всю дорогу.
14
Все еще рыдая, я явилась к Джереми, который, как всегда, хорошо подготовился к встрече, приготовив для меня кипу носовых платков и грубоватые утешения. Однако он не смог вытянуть из меня ничего, кроме всхлипываний, а Марта, уподобившись ледяному обелиску, продолжала молчаливо выражать недовольство всем происходящим. Поэтому ему не оставалось ничего иного, как уложить меня в постель, заставив перед этим выпить полный бокал бренди, а самому набраться терпения в ожидании лучших времен. После всех треволнений бренди сразу же подействовал на меня, и я уснула глубоким сном. Мне снилось, что все тревоги позади и я вновь нахожусь в нежных объятиях моего Дэвида.
Следующий день вернул меня к действительности, и первым, кого я увидела, был Джереми. Мягко ступая, он вошел ко мне, едва Марта доложила ему о моем пробуждении. При виде его на моих глазах тут же выступили слезы, но он твердо остановил меня:
– Нет, Элизабет, у тебя нет времени на скорбь.
И затем, присев ко мне на краешек постели, стал рассказывать:
– Уже целую неделю Спейхауз не слезает с меня, требуя раскрыть твое местонахождение. Кажется, он в очередной раз принял новое решение. Его жена совсем недавно вернулась к себе на север, вот он и решил, что теперь ему нечего опасаться, а потому желает, чтобы ты отправилась в его дом на Гросвенор-сквер. Он уж совсем было собрался в экспедицию за город на твои поиски, но мне удалось отговорить его, сказав, что сейчас для этого неподходящий момент, так как ты переживаешь утрату близкого человека. Мне такое объяснение показалось весьма удачным, поскольку в ближайшем будущем оно поможет снять вопросы о причинах твоего дурного настроения. Приготовься при встрече услышать от него соболезнования – он ведь, как тебе известно, человек неплохой. Чем скорее ты поедешь к нему, тем лучше. Короче говоря, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Пойми, Элизабет, Прескотт уже в прошлом, а у тебя только один путь – вперед.
Мне с трудом удалось сдержать себя.
– Ты на удивление жесток, – сказала я ему, стараясь, чтобы голос мой звучал ровно. – Должно быть, легче живется, когда у тебя совсем нет сердца. Ты дергаешь за ниточки, и марионетки танцуют – вот твой идеал счастья, не так ли? Какое тебе дело до их чувств, когда речь идет о точном выполнении твоих блестящих планов? Если бы я столь глубоко не презирала тебя, то наверняка позавидовала бы твоему олимпийскому спокойствию.
Внезапно он проказливо ухмыльнулся.
– Ты права, Элизабет. Давай, нападай на меня, поддай мне жару. У меня шкура толстая – все снесет. Только не делай того же со Спейхаузом, а то он, не ровен час, рассыплется в прах от испуга. Так что, в самом деле, прибереги-ка лучше свои проклятия для меня.
– Если бы я не боялась, что это будет иметь неблагоприятные последствия для Дэвида, – сказала я, кипя от злости, – то расстроила бы сделку только ради того, чтобы посмотреть, как ты будешь выпутываться из положения. Но пусть не болит об этом твоя злокозненная голова – я пойду куда надо. И уверяю тебя, Спейхауз получит от меня такие нежности, что больше моего обрадуется, когда истекут оговоренные три месяца. Заруби это себе на носу.
Джереми вновь обрел свою обычную холодноватую манеру, голос его звучал спокойно.
– Дело твое, Элизабет. Меня мало волнует, почему ты собралась вымещать злобу на человеке лишь за то, что он любит тебя.
– Любит! вновь взорвалась я. – Да что этот Спейхауз знает о любви?
– Лишь то, чему научила его ты, – грустно ответил Джереми. – Бедняга… Взяв его в оборот, ты открыла ему глаза, показала мир, в существование которого он не верил. И ты не можешь винить его за то, что он до сих пор ожидает от тебя рая, пусть ты в одночасье и превратилась из ангела в дьявола. Хоть я и люблю тебя, Элизабет, а все же не могу забыть, что каждый шаг в этом деле сделан по твоему настоянию, а потому, если я и могу сочувствовать кому-то, то в данном случае мои симпатии на стороне Спейхауза.
Его слова несколько отрезвили меня, хотя и не облегчили терзавшую меня боль.
– Если я отправлюсь к нему на Гросвенор-сквер, то как быть с договоренностью насчет моего дома?
– Я продлил договор о его аренде еще на три месяца, – оживился Джереми. – За это время расходы на дом вполне окупятся, а потому нет никаких причин для беспокойства. К тому же Спейхауз готов взять на себя расходы по содержанию Марты как твоей служанки, а также держать для тебя личный экипаж. Когда я могу сообщить ему о твоем приезде?
– Я и сама могу поехать к нему, – ответила я ледяным тоном. – Можешь не беспокоиться, я не задержусь под крышей этого дома ни на секунду дольше, чем требуют дела.
Я медленно оделась и пошла к карете, где по-прежнему лежали тюки с моими вещами. Мое прощание с Джереми не обошлось без пары резкостей. В скверном настроении я проследовала к дому номер 12 на Гросвенор-сквер. Дверь открыл слуга, которому я властно приказала проводить меня к хозяину. Однако, услышав мой голос от парадного, Эдгар выскочил из кабинета и сам сбежал вниз встретить меня. На его бледных щеках выступил румянец волнения, а в словах приветствия было так много счастья и заботы, что лед неприступности, которую я напустила на себя, не мог не оттаять. А из его выцветших глаз едва не лились слезы сочувствия. Он провел меня в гостиную так бережно, словно я была инвалидом, едва оправившимся от долгой и опасной болезни. Усадив меня, Спейхауз буквально рухнул передо мной на колени и, нежно взяв за руку, принялся изливать соболезнования по поводу постигшей меня трагической утраты. Почувствовав смущение, я от души пожалела, что своевременно не спросила у Джереми, какую именно «невосполнимую утрату» он для меня придумал.
Бедный Эдгар с неподдельной искренностью бормотал о том, как рад меня видеть, но не осмелится нарушить мое уединение, пока я не оправлюсь от горя. Глядя на его лошадиное аристократическое лицо, я поняла, насколько нелепо было бы отыгрываться на нем за собственные сердечные муки. Это было бы хуже, чем пнуть бездомную собаку.
Я сидела горестная и подавленная. Бог знает, зачем мне это было нужно. Наверное, чтобы укрепить его в уверенности, что меня постигло огромное несчастье. Он, запинаясь, говорил еще что-то, потом его бормотание прекратилось. Тронутая душевной простотой этого человека, взглядом его близоруких глаз, светившихся подлинным сочувствием, я мягко проворковала, что если он даст мне несколько дней, чтобы собраться с силами после всех пережитых мною горестей, то я постараюсь забыть о собственной беде и подарить счастье ему.
Эдгар еще раз нежно поцеловал мне руку.
– Одно лишь то, что ты здесь, рядом со мной, делает меня счастливым, Элизабет, – проговорил он, спотыкаясь на каждом слове. – Стоя у ворот рая, можно и потерпеть, ожидая, пока они распахнутся.
Его слова так напомнили мне другие, бесконечно более дорогие, что я не удержалась и разрыдалась вновь. Бедный Эдгар принялся хлопотать, пытаясь утешить меня, но потом, отчаявшись, побежал на поиски Марты, а сам, подобно бледному духу, чувствующему за собой вину, скрылся в кабинете. Понемногу я успокоилась и отправила Джереми записку с вопросом о том, какая в конце концов трагическая потеря меня постигла.
На следующее утро Джереми сам явился с ответом.
– Я сказал ему, – сообщил он, – что ты долгое время была отлучена от семьи из-за ранней неудачной любви, однако несколько месяцев назад твои родители тяжело заболели, причем, заметь, оба. Будучи их единственной дочерью, ты, едва узнав об этом, поспешила домой, чтобы примириться с близкими. Они же, несмотря на то, что ты долго и терпеливо ухаживала за ними, не смогли победить болезнь и тихо скончались, на последнем дыхании прошептав тебе свое благословение.
– И он тебе поверил? – спросила я недоверчиво.
– Спейхауз, – веско сказал Джереми, – способен поверить во что угодно.
Именно тогда в уме моем зародился замысел сорвать в подходящее время странный и прекрасный плод.
К концу недели я сочла, что достаточно долго испытывала терпение Эдгара, и исполнила сладкую песнь сирены, приглашая его в вожделенный рай. Он тут же поспешил ко мне – исполненный желания и в то же время, как всегда, робкий. Его любовь напоминала постоянные сбивчивые извинения. Но это наполняло его таким счастьем, что переносить близость с ним было не так уж тяжело. К тому же я быстро нашла способ оставаться одной, если мне того хотелось: достаточно было легкому облачку грусти затуманить мой взор, как Эдгар в спешке ретировался с моей кровати, как будто бы он причинил мне невыносимые страдания и не в силах видеть это.
Все эти дни я вспоминала о его существовании лишь в те редкие моменты, когда он, напоминая привидение в офицерской форме, заскакивал ко мне и затем снова убегал, чтобы отправиться на Уайтхолл или в свой клуб. Сама того не ожидая, в доме на Гросвенор-сквер я обрела покой. И здание, и его обстановка отличались особой изысканностью, которая появляется лишь там, где долгие годы живут люди с утонченными чувствами и вкусом. Все здесь было гармонично, как в футе Баха. Все здесь успокаивало, манило, радовало глаз и сердце. К тому же в отличие от моего дома ничто тут не пробуждало дорогих и мучительных воспоминаний. И все же, несмотря на окружающие меня красоту и великолепие, я часто мысленно переносилась из царственных хором в маленький темный коттедж, прилепившийся к склону холма. Мое сердце вновь пронзала боль, и я желала себе скорой смерти. Я пыталась забыться, погружаясь в чтение книг из обширной домашней библиотеки, но делала это через силу. Постижение нового впервые казалось мне пустым и бессмысленным занятием, черные мысли не отпускали мой мозг.
Я начала худеть, черты моего лица заострились. Из-за беременности я испытывала по утрам жестокие приступы тошноты, и меня мутило от одного вида еды. Хотя я и пускалась на всевозможные ухищрения, чтобы выглядеть как можно свежее, когда дома бывал Эдгар, от меня не укрывались тревожные взгляды, которые он порой бросал на меня. В такие моменты он бывал особенно предупредителен и всеми силами пытался услужить, как хорошо вышколенный пес. Все встало на свои места однажды утром, когда он вошел ко мне в комнату, где я как раз судорожно корчилась над тазом. Зрелище было не из приятных. Из горла лилась лишь какая-то светлая жидкость, рвотные судороги полностью обессилили меня, голова шла кругом. Подбежав, он обвил меня руками.
– Элизабет, родная моя, ты больна. Нужно немедленно вызвать врача.
– От этой болезни ни у одного доктора нет лекарства, – простонала я и слабо взмахнула рукой, жестом показывая, чтобы он отошел прочь.
Его лицо стало пепельно-серым. Скорее всего мой бедный любовник подумал, что я умираю от той же таинственной болезни, которая ранее подкосила моих воображаемых родителей.
– Ах, любовь моя, скажи, что же гнетет тебя? – спросил он дрогнувшим голосом.
– У меня будет ребенок – вот что, – ответила я раздраженным тоном.
Он покачнулся, как будто теряя равновесие. Казалось, он вот-вот рухнет без чувств.
– У тебя будет ребенок… от меня? – прошептал Эдгар.
– Уж не обвиняешь ли ты меня в распущенности? – огрызнулась я, потому что чувствовала себя прескверно. – Если это так, то, может быть, ты хочешь, чтобы я немедленно ушла отсюда?
– О, нет-нет, – почти застонал он, – вовсе нет.
Я с удивлением и ужасом увидела, как по его щекам потекли слезы.
Упав передо мной на колени и обхватив меня руками, Эдгар прижался лицом к моей груди.
– Я и думать не смел о таком счастье. Я только мечтал об этом, но не думал, что это возможно. Это самое прекрасное из всего, что случалось в моей жизни. Видишь ли, я последний в своем роду. У нас с Мэри-Энн, моей женой, нет детей. Вот она и говорила, что все это потому, что моя линия сошла на нет, что это не ее вина, а моя. Ну, в общем, что у меня недостаточно мужской силы, чтобы иметь детей.
От волнения у него перехватило горло, и он запнулся, не разжимая объятий. Ранее мне часто приходилось стыдиться самой себя, но никогда еще это чувство не охватывало меня с такой силой. С моих уст едва не сорвалась неприглядная правда, но он вдруг поднял лицо. Покрытое слезами, оно светилось такой радостью и счастьем, что у меня язык присох к небу.
Медленно поднявшись с колен, Эдгар приосанился. В его позе появилось какое-то новое достоинство, невиданная дотоле уверенность в себе.
– Я был последним отпрыском рода, получившего свое гордое имя задолго до того, как Завоеватель[23] запятнал Англию норманнской кровью. Сознание того, что мне некому передать славное наследие, всю жизнь преследовало меня, не давая почувствовать себя настоящим мужчиной. Но ты, любимая, драгоценная моя, преобразила меня. Ты, ангел мой, вновь вселила в меня жизнь и надежду. – Он решительно вцепился мне в плечи. – Если родится мальчик, он будет носить мое имя. Спейхауз и все остальное, что мне принадлежит, перейдет к нему. Если это будет девочка, она тоже унаследует мое имя, и я обеспечу ее всем, чем только смогу.
– Однако, – возразила я, чувствуя, как из-за столь неожиданного поворота событий сжалось от тревоги сердце, – ребенок будет моим, а не твоим. У тебя не будет на него юридических прав, и ты не сможешь отнять его у меня.
– Отнять у тебя? – Столь ужасное предположение ошеломило Эдгара. – Неужели ты думаешь, что я способен на это? Поверь мне, дорогая, если бы я мог каким-то образом избавиться от жены, которая всегда была для меня злым наваждением, и жениться на тебе, то сделал бы это без колебаний. Но при нынешнем законодательстве у меня нет никакой надежды получить развод. Я знаю, она ни за что не даст мне его. Нет-нет, ребенок твой и всегда будет твоим, но, когда он родится, в акте о регистрации мы запишем его под моим именем. И никто не сможет помешать этому, даже дьяволица, которую я имел несчастье взять в жены.
Я еще никогда не видела его таким возбужденным: он почти плевался, произнося ее имя.
– И если – дай-то Бог! – наступит время, когда я стану свободным, – продолжал он, – я женюсь на тебе и мой ребенок получит законные права наследника. Сегодня же утром пойду к моим адвокатам обсудить этот вопрос.
– Я в таком смятении, Эдгар, – бессильно выдохнула я, и это было сущей правдой. – Мне и в голову не приходило, что ты обрадуешься ребенку. Я так волновалась, мне так нездоровилось.
– Обрадуюсь ли я! – Эдгар запрокинул голову и ликующе расхохотался. Потом, когда до него дошел смысл моих последних слов, смех сменился крайней обеспокоенностью. – Ах, дорогая, ведь тебе нужен отдых. Позволь, я помогу тебе лечь в кровать. Тебя должен осмотреть доктор – не возражай, я настаиваю на этом. Ты должна очень беречься. Нет, это я должен очень беречь тебя.
Я терпеливо позволила ему отнести себя в постель, и Эдгар бережно положил меня на простыни.
– Понимаешь ли ты, – нежно спросил он, – что отныне мы не можем разлучиться? – а потом, вновь развеселившись, мечтательно добавил: – Кто знает, может быть, у нас будет полдюжины ребятишек…
И он выпорхнул в мир, который вдруг наполнился для него новым смыслом.
Я лежала, пытаясь спокойно осмыслить ситуацию, хотя столь бурная реакция Эдгара на неожиданное известие глубоко поразила меня. Получалось, что я почти помимо собственной воли сожгла за собой все мосты. Ведь теперь любая моя попытка представить случившееся в ином свете была бы равнозначна гибели Эдгара Спейхауза, означая крушение всех его надежд. Потом пришла мысль о том, сойдет ли мне с рук обман. Я была на третьем месяце беременности, и если ребенок родится в срок, то для Спейхауза это попросту означало бы рождение ребенка недоношенным, семимесячным, поскольку мы были вместе в течение месяца.
Но можно ли родившееся в срок дитя выдать за семимесячного недоноска? Честно говоря, я не знала этого, однако тут в моих ушах напоминанием зазвучал многозначительный голос Джереми: «Спейхауз способен поверить во что угодно». В данном случае Эдгар был единственным человеком, чье мнение было для меня решающим, к тому же он отчаянно хотел верить, что ребенок – от него. И я пришла к выводу, что обман может удасться. Таким образом было бы найдено решение сразу нескольких проблем: обеспеченное будущее ребенка, да и мое тоже, стоило мне только захотеть. К тому времени я узнала Спейхауза слишком хорошо, чтобы сомневаться в его словах. Случись что-нибудь с его супругой, я вышла бы замуж за одного из самых богатых и знатных людей во всей Англии. Мой сын, – а я ни на секунду не сомневалась, что это будет именно мальчик, – незаконнорожденный отпрыск девки с Рыбной улицы, стал бы наследником одного из старейших родов в стране.
Но тут мои мысли приняли иное направление. Допустим, мне удастся обмануть Эдгара, но как быть с Дэвидом? Я сбежала от Дэвида отчасти потому, что хотела избавить его от ответственности за ребенка, отцом которого он являлся. Но я не хотела и не могла навсегда вычеркнуть его из своей жизни, потому что он был частью меня самой, моим любимым, моим желанным. Я не слишком задумывалась о том, как преподнесу ему нашего ребенка в качестве «свершившегося факта», смогу ли я сделать так, чтобы ребенок был для него только радостью, а отнюдь не новой обузой. Но как бы то ни было, именно в этом я видела свою высшую цель. А что мне было делать теперь? Каким образом мог вернуться ко мне Дэвид, если я вдруг стану обожаемой женой его начальника, который к тому же твердо убежден, что именно он отец ребенка? Как их примирить, чтобы при этом не пострадали ни Дэвид, ни Эдгар? От всех этих мыслей голова моя шла кругом, я не видела выхода из тупика.
Позвав Марту, я излила ей все свои мысли и сомнения. Она молча слушала меня с видом карающего ангела на Страшном Суде, а когда я закончила, произнесла своим странным сухим голосом:
– Я видела, как он выходил из дому, – его словно подменили. И я догадалась отчего.
– Так что же мне делать, Марта? – жалобно спросила я.
Как всегда, прямого ответа не последовало.
– От зачатия до родов проходит немало времени, сказала она хмуро. – Чему быть, того не миновать. Тут уж ничего не поделаешь. Не от вас это зависит, так что не стоит ни о чем думать и беспокоиться. – Вдруг ее прекрасные темные глаза наполнились болью. – Если бы я смогла избавить вас от страданий, – произнесла она смягчившимся тоном, – то с радостью умерла бы ради этого.
– Женщины постоянно рожают, – сказала я довольно раздраженно, поскольку ее слова меня отнюдь не утешили, – и их страдания при этом не всегда столь уж велики. У меня много сил, так что роды я как-нибудь выдержу.
– Из всех страданий это будет самым малым, – голос Марты зазвенел от волнения, – и в родах я смогу вам помочь. Но будут и другие, более тяжкие муки, где даже я ничего не смогу для вас сделать…
И, закрыв лицо ладонями, она выскочила вон из комнаты как укушенная.
Ей, как обычно, вполне удалось одновременно озадачить и разозлить меня. «Вот уж в самом деле, – думала я, окончательно выведенная из себя, – чем старее, тем глупее. Не знаю, смогу ли я терпеть ее и в будущем». Но все же в словах Марты при всей их странности была соломинка надежды, и я вцепилась в нее, как утопающий. Между зачатием и родами действительно проходит не так уж мало времени, и я с наигранным оптимизмом подумала, что за оставшиеся шесть месяцев мне на ум наверняка придет какой-нибудь замечательный план.
Как, должно быть, злорадно хихикали в этот момент парки,[24] верша свою черную работу!
И все же после утреннего разговора с Эдгаром настроение у меня поднялось. Частичка счастья, окружавшего его подобно ореолу, передалась и мне. Жизнь моя начинала обретать новые краски, даже приступы тошноты стали реже. Эдгар и прежде был неизменно внимателен и нежен ко мне, а теперь своей предупредительностью стал мне просто докучать. Его любовь ко мне приняла характер обожествления, и в пределах возможностей, ограниченных скупостью скряги-жены, он осыпал меня подарками и знаками внимания. Он постоянно хлопотал по поводу моего здоровья, и, если бы не наши с Мартой усилия, перед домом выстроилась бы длинная процессия врачей.
То и дело к нам приходили юристы, устраивая торжественные совещания, а Эдгар начал вести со мной разговоры о состоянии, как если бы сын уже родился, вырос и был готов взять наследство в свои руки. Он заставил меня погрузиться в объемистые тома по истории рода и книги с гравюрами имения Спейхауз и прилегающих владений. Его энтузиазм был столь безграничен, что мне не хватало духу огорчать его хотя бы намеком на скуку, которую эти занятия нередко на меня нагоняли. Не удовлетворившись одним разговором, он добрый десяток раз разъяснял мне порядок наследования в роду Спейхаузов.
Кажется, у него был какой-то кузен, который также носил родовое имя. В случае смерти Эдгара этот человек вне зависимости от собственного желания становился наследником родового имения,[25] однако он был значительно старше Эдгара и к тому же считался закоренелым холостяком, чьи наклонности, судя по всему, исключали даже саму мысль о браке. После его кончины все состояние переходило к ребенку, причем не имело значения, будет ли он признан законным или нет. Я рассеянно слушала все эти объяснения, в то время как мысли мои блуждали в поисках решения моих собственных, более насущных проблем.
Но, как и предсказывала мне моя сивилла,[26] решение зависело не от меня. Однажды утром я сидела в библиотеке, просматривая отчеты Люси Барлоу и поражаясь росту доходности шляпных мастерских. Эта сцена настолько запечатлелась в моем мозгу, что даже сейчас, закрыв глаза, я могу вспомнить цифры, которыми были исписаны нескончаемые страницы. Дело было после Рождества, погода стояла холодная и сырая. Хотя в помещении было достаточно светло от неяркого сияния зимнего солнца, заглядывавшего в широкие окна, я сидела перед жарко пылавшим камином, дрожа от холода, который, казалось, сочился во все щели. Эдгар объезжал соседние графства, инспектируя пороховые погреба королевской артиллерии, а Марта отправилась на улицу по каким-то поручениям. В доме было безлюдно и очень тихо. И когда раздался стук в дверь, вслед за которым в парадном послышался мужской голос, я не придала этим звукам особого значения, полностью погруженная в свои размышления. Внезапно дверь в библиотеку распахнулась. Я подняла глаза и вздрогнула от неожиданности: это был Дэвид.
Не в силах подняться, я словно окаменела. Он же, захлопнув за собой дверь, стремительно вошел внутрь. Глаза его сверкали стальным блеском, а осунувшееся и посеревшее лицо выдавало страшный холодный гнев, поселившийся в его душе. Он нес кожаный кошель, в котором что-то звякало. Костяшки пальцев, судорожно впившихся в потертую кожу, побелели от напряжения.
– Что ты здесь делаешь? – растерянно пробормотала я. От страха при виде Дэвида у меня пересохло в горле.
Он бросил кошель на стол.
– Я пришел расплатиться с долгами, – хрипло произнес Дэвид. Его голос дрожал от гнева. – Здесь мое жалованье за квартал. Если не ошибаюсь, именно такие комиссионные полагаются за майорский чин.
Он отступил на шаг и сжал пальцы в кулаки.
– Почему ты сделала это, Элизабет? – Его голос опустился до шепота. – Ответь, ради Бога, за что ты так поступила со мной? Как, наверное, смеялась в душе, глядя на несчастного выскочку-майоришку, который топорщил свои новые перышки, думая, что честно их заслужил! А на деле они были просто куплены белым телом, которое он, глупец, боготворил. Участвовал ли Спейхауз в этой шутке? Посмеялся ли всласть? Или ему было некогда, поскольку он пожинал плоды своей щедрости?
Последние слова он буквально выплюнул мне в лицо.
– Ах, Дэвид, Дэвид! Прошу, выслушай меня. Все было не так, как ты думаешь, – молила я, пытаясь унять безжалостный поток слов, но он не прекращался.
– За кого ты меня приняла, интересно знать, за какого идиота? Неужели тебе ни разу не пришло в голову, что есть на свете мужчина, который скорее умрет, чем согласится на продвижение по службе подобным путем? Клянусь Богом, если бы не семья, которая висит у меня на шее, я бы разорвал свое паскудное майорство в клочья и запихал их в глотку этому трусу Спейхаузу, а потом бы выпустил из него потроха и бросил их к твоим прелестным ножкам, чтобы ты видела, как я отношусь к вам обоим.
– Ты должен выслушать меня! – в отчаянии закричала я, зажав уши, чтобы не слышать этих проклятий, водопадом извергавшихся на меня. Каждое его слово жалило, как удар бича. Из глаз моих брызнули слезы. – Дэвид, я люблю тебя, люблю! Прекрати эту пытку!
Я сделала шаг к нему, однако Дэвид шарахнулся от меня, как от ядовитой гадины.
– Не подходи ко мне! – зловеще зашипел он и, наверное, убил бы меня на месте, осмелься я прикоснуться к нему. Как сильно он меня любил, так яростно теперь ненавидел.
– Ты нарушил данную мне клятву и обвиняешь меня, даже не выслушав, – рыдала я. – Что же это за любовь, Дэвид, если в мгновение ока она превращается в ненависть?
– Любовь! – издевательски протянул он. – Скажи на милость, какое отношение можешь иметь к любви ты? Полагаю, все это, – еле сдерживая бешенство, Дэвид обвел вокруг себя рукою, – имеет какое-то вполне невинное объяснение? Несомненно, есть какая-то уважительная причина, по которой ты перескакиваешь из моей кровати прямиком в постель к Спейхаузу. И еще смеешь говорить о любви! Я же должен тихо сидеть в провинции, свято соблюдая свои идиотские клятвы, в ожидании, когда ты соизволишь позвать меня, не так ли? И какая же роль уготована мне – добавить остроты ощущений? Быть шутом в дурацком балагане? Величайшим из шутов, который додумался возвести прожженную потаскуху на пьедестал любви и веры, бросить к ее ногам свою жизнь, чтобы она втоптала ее в грязь, из которой вышла сама…
Я попыталась пройти мимо него к двери, но Дэвид отрезал мне путь к отступлению. Я кружила по комнате в тщетной надежде вырваться наружу, а он продолжал преследовать меня с неумолимостью хищника, охотящегося за своей жертвой.
– Пожалуйста, перестань, – умоляла я, едва не падая в обморок.
– Я перестану, когда выскажу все, – ревел он в ответ, беспощадно продолжая один за другим разбивать вдребезги золотые дни, проведенные нами вместе. Теряя сознание, я опустилась к его ногам. Одному Богу известно, сколько бы еще продолжалась эта пытка, если бы вновь не распахнулась дверь и на пороге, как ангел мести, не появилась Марта. Увидев меня на полу, она, должно быть, подумала, что Дэвид поднял на меня руку. Подобно тигрице, она набросилась на него, едва не выцарапав ему глаза.
– Что вы вздумали, – заверещала Марта, – убить ее, а заодно и вашего ребенка?
Он дрогнул под ее напором, из царапин, оставленных на его щеках ногтями моей защитницы, сочилась кровь. Она же подняла меня и, бережно поддерживая, подвела к дивану, на который я опустилась как подкошенная. Потом Марта решительно, как часовой, заслонила меня своим телом.
– Убирайся! – прокаркала она Дэвиду. – Выметайся отсюда, пока я не убила тебя!
Не обращая на нее внимания, он нетвердым шагом подошел ко мне и вперил в меня взгляд, в котором не было ничего, кроме ненависти.
– Правда ли то, что она сказала о ребенке? В ответ я слабо кивнула.
Его уста искривила злобная усмешка.
– Значит, пора ждать весточки от господина Винтера, – едко произнес он. – Все ясно: начинается шантаж.
Я встрепенулась как ужаленная, вновь обретя чувства.
– Тебя не связывают никакие обязательства, – зашипела я. – Ребенок мой, и с этого момента его отцом становится Спейхауз. Во всяком случае он рад этому.
Взгляд Дэвида стал еще более пронзительным.
– Так, значит, за все сполна заплатит Спейхауз и заплатит к тому же кровью и честью своего знаменитого рода, коим он так кичится? – Он залился зловещим смехом. – Повесить ему на шею моего ублюдка… Какое утонченное коварство! Если бы я от всей души не презирал его, то, наверное, пожалел бы. Еще одна бедная жертва твоей благосклонности… Как же ты должна всех нас ненавидеть! И еще думала, что я ни о чем не узнаю.
– Ради всего святого, уходи отсюда, – комната поплыла у меня перед глазами, – и прихвати свои грязные деньги. Я не хочу больше никогда видеть тебя.
– Можешь не опасаться этого. Уж этого урока я не забуду до гроба. – Его глаза стали холодными, как два куска гранита. – Что же касается денег, то оставляю их тебе. В конце концов ты заслужила вдвое больше, не так ли? – С этими словами он хлопнул дверью, навсегда уходя из моей жизни. С его уходом наша любовь рассыпалась в прах, который пеленою застелил мой взор. Я потеряла сознание.
Тяжелое пробуждение наступило через четыре дня. Лишь мое крепкое здоровье и железная воля Марты Маунт сохранили жизнь ребенку, но я все еще металась в нервной горячке. Марта и Джереми, сменяя друг друга, как ангелы-хранители, не отходили от меня ни на минуту. Когда же ко мне хотел заглянуть Спейхауз, они, подобно драконам, вставали на его пути, зная, что проклятия, которые я выкрикивала в беспамятстве, не для его ушей.
Я лежала неподвижно, будто душа уже покинула мое тело. Разум отвергал случившееся, как дурной сон. «Нет, ничего этого не было, – грезила я. – Привиделся один из обычных кошмаров – вот и все. Не было ни Дэвида, ни ненависти. Просто на меня нашло что-то плохое». Однако в глазах Марты и Джереми я читала, что это был не сон, и отворачивалась от них, будто именно они олицетворяли страшную явь.
Однажды сквозь туманное облако, которым я была окружена, проник сочный голос Джереми:
– Ты должна выслушать меня, Элизабет. Ты должна позволить нам помочь тебе. Слушай же, Элизабет. Не хочешь ли ты, чтобы мы перевезли тебя из этого дома в твой собственный?
В мой разум вторглись безумные видения из жизни на Рыбной улице. Потом все это смешалось с медными чашами, из которых торчали букеты роз, и лунным светом, озаряющим бледное тело, покрытое шрамами.
– Не хочу на Рыбную улицу, – жалобно простонала я. – Не увозите меня обратно на Рыбную.
– Нет, Элизабет, мы не повезем тебя на Рыбную улицу. Ведь ты живешь на Уорик-террас. Вспомни: Уорик-террас.
В то же время другой, сладкий голос продолжал напевать мне о том, как солнце озаряет прелестные комнаты, а Дэвид, улыбаясь, говорит о любви и счастье, которого не ведал до встречи со мной.
– Очнись, Элизабет, услышь меня. Скажи, хочешь ли ты этого – покинуть Спейхауза и уехать с нами?
Сладкий голос затих. Спейхауз? Это имя вселило в меня тревогу. Спейхауз? Ах да, тот самый человек, который плакал от счастья. Бедный Спейхауз, бедный Эдгар!
– Бедный Эдгар, – произнесла я вслух.
– Ты хочешь видеть Эдгара?
Все еще находясь в тумане, я кивнула головой. Бедный Эдгар – это ведь тот самый, что плакал точно так же, как и я. Надо мной склонилось бледное встревоженное лицо.
– Эдгар? – спросила я в недоумении.
Лицо было не тем, каким запомнилось мне. Волосы должны быть серебристыми, глаза – голубыми, но не такими. И шрамы куда-то исчезли.
– Не презирай меня, Эдгар, – жалобно запричитала я.
– Презирать тебя, драгоценная моя? Да я люблю тебя больше жизни. – Его руки обвили меня. – Ты должна поправиться, дорогая. Не сдавайся. Ты нужна мне – ты и ребенок.
Голос просил, умолял – и удалялся.
– Обними меня, – потребовала я. – Не дай мне уйти. Я люблю тебя, люблю, не презирай меня.
Руки сжали меня крепче, и я вновь стала погружаться в глубокий сон.
Я пробудилась в полном сознании. Рассудок мой прояснился. Эдгар спал рядом в полном обмундировании, крепко обхватив меня руками. От изнеможения его лицо было бледнее обычного. Марта стояла у моих ног. Увидев, что я проснулась, она, тревожно поглядев на меня, предупреждающе поднесла палец к губам. Я лежала неподвижно, прислушиваясь к тому, как из глубины тела поднимаются страх и боль. Когда боль стала невыносимой, я конвульсивно дернулась и разбудила Эдгара. Увидев, что мой взгляд не затуманен, он измученно улыбнулся.
– О Элизабет, слава Богу, ты вернулась ко мне! Ты вернулась!
И он теснее прижал меня к себе.
– Вы спасли ее, сэр, – поспешно произнесла Марта, – а сейчас подите отдохните немного. Она очень слаба, но теперь-то уж я сама справлюсь.
Эдгар устало поплелся прочь, а мы с Мартой в молчании уставились друг на друга.
– Он знает? – слабым голосом спросила я.
– Ничего он не знает, – ответила она. – Он вернулся к тому времени, когда вы уже два дня лежали в беспамятстве, и, пока вы тут неистовствовали, мы его не пускали. Он думает, что все это из-за ребенка. Подтвердите это, не стоит его разуверять.
Я была мертва, хотя еще дышала. Теперь я точно знала, что испытал мой отец после того, как я поставила на нем крест. Дэвид убил меня. А может, это я убила Дэвида? Должна ли я теперь уничтожить и Эдгара? Я чувствовала, что он не заслуживает такой участи. «Как же ты должна всех нас ненавидеть!» – говорил Дэвид. Но правда заключалась в том, что я ни к кому не испытывала ненависти. Единственным человеком, кого я ненавидела, был Чартерис, но это было давно, чуть ли не две жизни назад.
– Помоги мне, Марта, – попросила я. – Пожалуйста.
– Конечно, помогу, – ласково откликнулась она. – Вы хотите уехать?
Я затрясла головой.
– Нет, я останусь. Хватит с меня разбитых жизней. Больше я не разобью ни одной.
Сказав это, я вновь уснула.
Мой здоровый организм взял все-таки верх над болезнью, и дела быстро пошли на поправку. Из моего благого намерения остаться с Эдгаром в доме на Гросвенор-сквер ничего не вышло. В скором времени его жена должна была нанести свой очередной визит, и он, все еще не в силах противиться ее железной воле, испуганно перевез меня на Уорик-террас. Честно говоря, не думаю, что он боялся только за себя. Его бросало в дрожь от одной мысли, что может случиться со мной и ребенком, стоит его жене проведать о нас. Учитывая мое состояние, Эдгар решил не рисковать. У него не было намерения полностью отстраниться от меня, но, пока его гарпия оставалась в Лондоне, он мог посещать меня лишь с короткими визитами, чтобы узнать, как я себя чувствую, да и то изредка.
Переезд не обрадовал меня. Дом на Уорик-террас был полон воспоминаний о былом. Хотя я избегала заходить в кабинет, где Дэвид впервые признался мне в любви, память о нем продолжала жить во всех остальных уголках, и нигде я не могла скрыться от нее. С тех пор, как меня когда-то покинул Крэн, я впервые чувствовала себя столь одинокой. В моей жизни бывали трудные времена, но даже в тяжелейшие из них в сердце у меня теплилась надежда. Теперь не было и ее.
Каждый пытался отвлечь меня от черных мыслей, подыскивая мне какое-нибудь занятие. Белль ничего не знала о том, что произошло со мной за последний год. Из рассказа Джереми, который тщательно отобрал и опустил все наиболее драматические детали, ей стало известно о Спейхаузе и ожидаемом рождении ребенка. Тогда она в порыве материнской заботы принялась опекать меня, как наседка цыпленка. Узнав от Джереми историю ее несчастной любви, я стала гораздо теплее относиться к ней. И хотя я никогда не испытывала к Белль особой нежности, теперь мне было приятно общаться с нею, поскольку она пробуждала во мне воспоминания о более ранних и беспечных временах.
Возраст наложил на нее беспощадную печать. Хотя ей было всего лет сорок пять, на вид ей можно было дать гораздо больше. По иронии судьбы, она с запозданием на много лет стала наконец выглядеть той, кем теперь уже не была: истаскавшейся раскрашенной шлюхой. Ее великолепное тело раздалось вширь и стало рыхлым, цвет лица под слоем румян поблек, волосы утратили свой былой блеск, а глаза отсвечивали тусклым металлическим блеском. Она казалась немного растерянной. Теперь, когда можно было почивать на лаврах, наслаждаясь с таким трудом добытым богатством, она не могла решить, за что взяться, к чему стремиться. Мой ожидаемый ребенок возбуждал у нее ненасытный интерес, и у меня не хватало духу дать ей от ворот поворот, хотя любопытство Белль не доставляло мне никакого удовольствия. И Марта, и Белль, и Джереми делали все возможное, чтобы любой ценой заставить меня радоваться жизни, но их нелепые усилия лишь раздражали меня.
Однажды Спейхауз, сам того не подозревая, просыпал соль на мои раны. Во время одного из своих мимолетных наездов он обмолвился, что часть их полка переводят в Ирландию, где снова неспокойно после неудачного восстания, вспыхнувшего в Дублине в минувшем июле под предводительством Роберта Эммета.[27]
Издав вздох облегчения, поскольку его самого в Ирландию не посылали, он добавил:
– А ведь нашлись безумцы, которые вызвались поехать туда добровольно. Прескотт, например. Майорский чин, кажется, не на шутку вскружил ему голову. Но если он отправился в Ирландию за очередным повышением, могу сказать, что он скорее найдет там свой конец, сгинув в болоте с мушкетной пулей в затылке. Умиротворение ирландцев – самое неблагодарное занятие из всех, которые я знаю. Они всю жизнь устраивали и будут устраивать смуты. Любой англичанин, в ком есть хоть капля здравого смысла, знает это и старается держаться от них подальше.
Он продолжал нести вздор, а я, глядя на это глупое лошадиное лицо, была готова убить его. Дэвиду было более чем достаточно уже одного такого повышения, а в Ирландию он отправился именно за тем, чтобы получить в затылок мушкетную пулю – по нашей с Эдгаром милости. И я истово молилась, чтобы Дэвид не нашел столь легкой смерти. Мне хотелось, чтобы он выстрадал столько же, сколько и я.
Приближался срок родов, и я начала страшиться физических мук, которые ожидали меня впереди. Рождение ребенка не было для меня чем-то неведомым. Мне было всего тринадцать лет, когда мать рожала мою маленькую сестренку, и я помогала ей при родах. Воспоминания о долгих и трудных потугах были не из приятных, и душа моя трепетала от страха.
Супруга Спейхауза вновь укатила к себе, и, поскольку врачи не рекомендовали мне возвращаться в дом на Гросвенор-сквер, Эдгар почти все свое свободное время проводил на Уорик-террас. Приготовления к появлению маленького занимали его гораздо больше, чем меня. Из имения в Спейхаузе он уже доставил две колыбели для наследника. Одну – для детской, другую – на тот случай, если дитя будет спать внизу, на первом этаже. Хотя он и раздражал меня до крайности, я не могла не быть тронута, видя, как придирчиво он перебирает младенческие распашонки, которые Люси Барлоу шила одну за другой, заботливо поправляет простынки в пустых колыбельках, задумчиво глядя внутрь, как если бы желанный ребенок уже протягивал к нему оттуда свои ручонки.
Много споров было о врачах и повивальных бабках. С присущей ей властностью Марта однажды раз и навсегда положила конец всем этим разговорам. Когда мы в очередной раз обсуждали избитую тему, она, не обращая внимания на Эдгара, который, как всегда, не мог сделать окончательный выбор, поставила вопрос ребром, обратившись прямо ко мне:
– Вы мне доверяете?
– Конечно, доверяю, – беспомощно пролепетала я.
– Нечего тогда и рассуждать о докторах да повитухах. Вот придет время, и я займусь вами. Никого не подпущу. Будете у меня в полном порядке – и вы, и ребеночек.
– Да ты хоть смыслишь в этом что-нибудь? – встрепенулся Эдгар, который побаивался ее, как и все остальные в доме.
– Уж будьте уверены, – сухо ответила она, пригвоздив его к месту одним лишь взглядом своих темных глаз. – Доказательством тому могут служить пятеро моих сыновей.
И 11 мая 1804 года, когда у меня начались схватки, Марта взялась за дело. Для начала она выгнала из дому всех, за исключением Спейхауза, который, проявив неожиданное упрямство, ни за что не хотел уходить, а затем уложила меня в кровать. Именно она отирала пот с моего лица и давала мне сок макового семени, чтобы облегчить мои страдания. Я тужилась изо всех сил, а Спейхауз мерил шагами соседнюю комнату. Он волновался, не зная, что ждет не своего ребенка, в то время как настоящий отец скитался где-то по свету, затаив в своем сердце ненависть ко мне.
Моя крестьянская кровь еще раз сослужила мне добрую службу. На несколько часов я погрузилась в пучину невыносимой, раздирающей боли, но, к счастью, роды длились недолго, и рано утром 12 мая мой сын появился на свет. Закончив со мной, Марта занялась ребенком, насухо обтерев и запеленав его. Я протянула к нему дрожащие руки, но моя повитуха отрицательно покачала головой.
– Это ему сейчас нужно дитя. А вам нужен покой, так что лучше поспите. Ребенок будет рядом с вами до конца ваших дней, а вот Спейхаузу отпущено не так уж много времени.
С этими словами Марта выскользнула из комнаты, унося с собой мальчика. Я была слишком измучена, чтобы протестовать, а потому мирно заснула.
Когда я проснулась, Спейхауз сидел рядом со мной, держа ребенка на руках. Никогда еще я не видела столь счастливого лица.
– Любимая, – нежно прошептал он, – посмотри только, как красив наш сын.
И положил дитя рядом со мной.
Мой сын не спал. Как и все новорожденные, он безразлично смотрел на меня. У него были светлые волосики, и в его личике уже угадывались черты моего отца, но глазенки, смотревшие на меня, были явно от Дэвида. И ушки, похожие на маленькие раковинки, слегка оттопыривались, совсем как у его родителя.
– На меня похож. Ты не находишь? – спросил Эдгар. Его лицо и голос выдавали крайнюю степень возбуждения.
– Очень, – отвечала я со стыдом и болью в сердце. Малыш разинул крохотный ротик и начал плакать.
Я вполне понимала его, потому что сама готова была расплакаться.
С этого времени Спейхауз превратился в одержимого. Он немедленно поднимал тревогу, стоило ему потерять ребенка из виду, и едва не довел Марту до безумия, постоянно путаясь у нее под ногами. С другой стороны, в нем появились не замечавшиеся ранее основательность и уверенность в себе, так что мне было впору засомневаться: неужели это тот самый жалкий слизняк, который робко подполз мне под бок в нашу первую ночь?
– Я желаю, чтобы наш сын был наречен Артуром Эдвардом, – твердо сказал он однажды. – Если тебе нравятся какие-нибудь еще имена, можно добавить и их.
У меня не было никаких пожеланий, и Артур Эдвард был окрещен честь по чести, для чего из Спейхауза была специально доставлена посеребренная купель пятнадцатого столетия. На следующий день после рождения Артур был внесен в регистрационную книгу как Спейхауз, став законным наследником всего имущества, которое не подпадало под категорию родового. Я смотрела на сына, которого хотела видеть только своим и ничьим больше, размышляя, не утратила ли его уже с первых минут после рождения. Оставаясь с ним наедине, я чувствовала, как отступает душевная боль, но такие моменты случались крайне редко, и я по-прежнему была очень одинока.
Вскоре выяснилось, что я не смогу кормить его грудью. Марта чуть не силой притащила в дом одну из своих пухлых белокурых снох, которая стала кормилицей моего младенца. Убедившись, что малыш не угаснет от недостатка материнского молока, Эдгар успокоился и был счастлив. Для меня же это стало лишним доказательством того, что я никому здесь не нужна.
Вскоре я обрела былую форму, по крайней мере внешне – последствия родов миновали на удивление быстро. Спейхауз все время проводил подле меня, но его взоры и помыслы отныне были обращены не ко мне. Со мной он был по-прежнему вежлив и предупредителен, однако все крохи любви, на которое было способно это худосочное существо, теперь были всецело отданы ребенку. Марта вместе со своей снохой оберегали дитя как зеницу ока, а Белль кудахтала над ним, словно была его настоящей мамашей. Один лишь Джереми, который, как и следовало ожидать, чувствовал себя в присутствии новорожденного не в своей тарелке, казалось, понимал, что со «счастливой матерью» не все в порядке. Поэтому он постоянно маячил рядом, пытаясь втянуть меня в споры, заинтересовать мировыми проблемами, но обычно терпел неудачу и ретировался, озабоченно морща лоб.
А я чувствовала, что ухожу от окружающих все дальше и дальше. Дело было не столько в дурном расположении духа, сколько в какой-то отрешенности от всего. Мне казалось, что я выполнила все возможное, все, чего от меня ждали, а потому не стоит дальше длить эту ставшую для меня такой мучительной жизнь. Я дождалась дня, когда все юридические формальности, касающиеся будущего Артура, были доведены до конца, и той же ночью, убедившись, что весь дом уже спит, пробралась в аптечку за бутылкой настойки опия, купленной мною несколько недель назад в связи с бессонницей. Меня занимала одна лишь смутная мысль, будет ли мне больно умирать. Вынув из бутылки пробку, я мысленно подняла тост за Дэвида и припала к горлышку.
Бутылка была выбита из моих рук жестоким ударом, заставившим меня завопить от боли. Кто-то железной рукой вывернул мне кисть. Надо мной темной тенью нависла Марта.
– Нет, – прозвучал ее хриплый голос, – я же говорила вам: даже не думайте помирать.
– Пусти, ты не можешь остановить меня! – Я рванулась, пытаясь освободиться от ее медвежьей хватки. – Я не хочу жить, и ты меня не заставишь. Жизнь не нужна мне. Вот увидишь: я все равно умру, и ты ничего не сможешь сделать.
Она не отпускала меня.
– Так вы хотите, чтобы он вернулся и нашел вас мертвой? Так, что ли?
– Он не вернется никогда. Он ненавидит меня, а я – его. И я никогда не захочу увидеть его вновь! – рыдала я, извиваясь в ее железных объятиях, но не в силах разорвать их.
– Он вернется. В его сердце нет ненависти к вам, там одна лишь любовь, точно так же, как в вашем. И поверьте мне – вы еще будете вместе.
– Ты врешь! – завизжала я ей в лицо. – Я не нужна ему, никому не нужна. Господи, как я хотела бы умереть!
Марта встряхнула меня, как кошка пойманного мышонка.
– Разве я вам когда-нибудь врала? Если я говорю, что вернется, – значит, вернется. Не пройдет и года. Вы очень нужны ему, как и своему сыну, как и мне. Ну уж нет, помереть я вам не позволю.
Ее сила была устрашающей.
– Ты с ума сошла, – прохрипела я, едва держась на ногах. – С какой стати мне слушать твою болтовню?
– Ну, может, и сошла, – откликнулась Марта уже более добродушно. – В жизни всяко бывает. Но вы будете слушаться меня, и чтобы без всяких дурацких выходок. Если вам наплевать на всех нас, подумайте хотя бы о ребеночке. Вам хочется, чтобы его растил Спейхауз? А именно так оно и будет, вздумай вы скончаться. Тогда уж всем нам тут с ним не совладать, и если вы хотя бы на секунду перестанете думать только о себе, то отлично поймете это.
В изнеможении я позволила ей довести себя до постели. Она была совершенно права. Действительно, родив малыша, я вовсе не выполнила своего долга до конца. Но нельзя сказать, что именно эта мысль сохранила мне жизнь. Бессвязные слова Марты вновь зажгли в моей душе огонек надежды. Однажды чудо вернуло мне Дэвида. Кто знает, быть может, это чудо повторится? Отныне я не помышляла о самоубийстве. У меня появилась новая цель – хранить сына и ожидать невозможного. В конце концов я научилась страдать.
15
Никто, кроме Марты, так и не узнал о том, что я пыталась покончить с собой. Таким образом, мое возвращение к жизни прошло незамеченным. Несколько недель она не спускала с меня глаз, но, убедившись, что я теперь всецело посвятила себя заботам о ребенке и доме, понемногу успокоилась.
Однако период спокойствия длился недолго. Это случилось утром, в один из первых дней сентября. Я сидела в кабинете; рядом в колыбельке лежал сын, который непрестанно капризничал, потому что у него резался первый зуб. Вдруг открылась дверь, и к нам вошел Эдгар. Его лицо было белым как полотно. Он подошел к колыбели, встал на колени и отдернул полог, чтобы бросить нежный взгляд на Артура. Я вскочила с места, потому что вид его был ужасен.
– Скажи, ради Бога, что случилось, Эдгар? Он обернулся с несчастным видом.
– Полку дан приказ собираться в поход, Элизабет. В следующем месяце нас отправляют в Вест-Индию.
Мы пробудем там два года, если не дольше. В общем, все будет зависеть от того, какой оборот примет война.
«Вест-Индия? Бессмыслица какая-то, ведь война идет совершенно на другом краю света», – мелькнула у меня мысль.
– Почему в Вест-Индию? – спросила я.
Эдгар неохотно поднялся с колен. Его высокая фигура казалась еще более сутулой.
– В прошлом году Наполеон продал французские территории в Америке. Есть подозрение, что в результате у него теперь достаточно денег и людей для нападений на наши острова в Вест-Индии – Ямайку, Барбадос и все остальные. Потеря любого из них нанесла бы серьезный урон нашей торговле. Вот кое у кого и родилась мысль о том, что, разместив на каждом острове по небольшому артиллерийскому гарнизону, мы сможем сдержать любую французскую угрозу до подхода основных сил нашего флота.
– Туда отправляется весь полк? – спросила я дрогнувшим голосом. Сердце мое похолодело.
– Да, весь, кроме подразделений, расквартированных в Ирландии. Они подтянутся позже.
Мне стало немного легче. Эдгар взял на руки ребенка, который тут же расплакался, и начал с отсутствующим видом качать его.
– Я не хотел ничего говорить, пока не узнаю это наверняка, но теперь, когда подходит время моего отъезда, я обязан сообщить тебе кое-что. Тебе известно, что месяц назад я ездил проведать свою жену?
Я кивнула.
– Так вот, когда я приехал, она была больна. В разговоре со мной она ни словом не обмолвилась о своей болезни, но я беседовал с нашим семейным врачом. Он говорит, что ее медленно убивает растущая внутренняя опухоль. Моя жена не протянет долго, а когда она умрет, больше не будет препятствий для нашего брака и для того, чтобы Артур стал моим законным сыном.
Он говорил с горячностью одержимого, и я на мгновение испытала приступ жалости к женщине, которая была замужем за этим бледным существом с ограниченным умом фанатика.
– Ее состояние, естественно, перейдет ко мне; к тому же я продам эту проклятую литейную мастерскую. Таким образом, ни мне, ни Артуру не придется беспокоиться о финансовом будущем родового поместья Спейхаузов. – Он говорил с таким хладнокровием, будто эта женщина уже ушла в мир иной. – А пока нам придется обходиться доходами от Спейхауза, которые не столь уж велики. Я буду выделять тебе 450 фунтов в год, но, как только подыщу на островах место со здоровым климатом, ты сможешь вместе с ребенком переехать ко мне.
– В Вест-Индию – с ребенком?! – испуганно выдохнула я.
– Конечно, – взглянул на меня Эдгар, подняв свои аристократические брови в надменном удивлении. – Надеюсь, ты не полагаешь, что я пошлю за тобой, не убедившись в том, что наш ребенок будет там в полной безопасности или что он достаточно подрос, чтобы перенести тяготы морского путешествия?
– О да, понимаю, – ответила я, едва удерживаясь от смеха. В том, что Артуру еще долгое время будут противопоказаны дальние плавания, у меня не было никакого сомнения.
Хотя Эдгар устраивал меня во многих отношениях, я не могла воспринять весть о нашей скорой разлуке иначе, как с некоторым облегчением, и определенно не собиралась торопиться к нему на другой конец света.
– Ты, судя по всему, продумал все до последней мелочи, – польстила я ему с притворной серьезностью.
– Н-да, нужно быть готовым к любой неожиданности, – пробормотал он, сокрушенно глядя на малыша, – хотя… я предпочел бы никуда не ехать, тем более сейчас, когда у него режутся зубки.
Услышав эти нелепые слова, я едва не прыснула со смеху. Бедный Эдгар, его трагедия заключалась в том, что он появился на свет мужчиной лишь по ошибке природы. Из него получилась бы великолепная мамаша.
В расстроенных чувствах он отплыл в октябре в дальний путь, оставив на память о себе портрет в полный рост, который, по его настоянию, должен был висеть перед колыбелькой малыша. Помимо этого, Эдгар дал подробнейшие инструкции о том, как воспитывать сына в предстоящие два года. Он чуть ли не на коленях умолял меня вести дневники, которые надлежало отправлять ему как можно чаще. Эдгару просто необходимо было знать о событиях каждой недели. С собой же он увозил два наших миниатюрных портрета, а также несколько белокурых локонов Артура, которые, к счастью, были похожи на его собственные.
Хотя мой прощальный поцелуй сопровождался грустным вздохом, признаюсь, что провожала я его с легким сердцем. Впервые я смогла остаться наедине со своим сыном в тишине и спокойствии, избавленная от назойливой опеки и бесконечных причитаний. Если раньше я не мешала Спейхаузу наслаждаться счастьем общения с малышом, то сейчас он полностью принадлежал мне, и я была рада этому. Поскольку теперь у нас в доме был ребенок, мы решили отметить Рождество на старомодный манер и так повеселились, что даже Джереми, который в последнее время стал несносным брюзгой, радовался как дитя. Впрочем, он недолго пребывал в хорошем расположении духа и, едва завершились праздники, начал воспитывать меня.
– Каковы же теперь твои планы, Элизабет? – допытывался он.
– Пока никаких, – спокойно отвечала я.
– Не хочешь ли ты сказать, что будешь сидеть здесь, как приклеенная, наблюдая, как у ребенка режутся зубки? – спросил Джереми ворчливо.
– А что ты предлагаешь? – разозлилась я. – Очередного любовника? В таком случае тебе следует учесть, что его, вероятно, будет сильно раздражать детский плач.
– Да нет же, нет, и еще раз нет. – Он и сам начал раздражаться. – Ты прекрасно знаешь, что ничего подобного я предлагать тебе не собираюсь. В подобном занятии отныне нет никакой финансовой необходимости. Что же касается твоего выбора мужчин, то не могу без содрогания вспоминать твой недавний опыт. – Это уже был удар ниже пояса, и Джереми прекрасно знал это, а потому поспешил продолжить: – Нет, я просто подумал, что, поскольку обстоятельства стали несколько благоприятнее, тебе, может быть, стоит совершить небольшое путешествие. Ты же всегда мечтала об этом, не так ли? А ведь до сих пор даже Англию не узнала как следует. Сам-то я не любитель путешествовать, поскольку считаю это варварской привычкой, но сейчас речь не обо мне, а о тебе.
Такая забота показалась мне несколько подозрительной.
– Надеюсь, ты не предлагаешь мне отправиться колесить по Англии в зимнюю стужу.
– Сегодня утром ты почему-то особенно бестолкова, Элизабет. Конечно же, не предлагаю. Но как только повеет весной, почему бы тебе вместе с Белль не отправиться в поездку по всей стране? Подумай только: Англия, Шотландия, Уэльс – отличнейшее путешествие! Марта тем временем прекрасно приглядит за ребенком.
– Джереми, – произнесла я тихо, – скажи-ка, когда возвращаются из Ирландии наши артиллеристы?
Вопрос застал его врасплох. Джереми съежился и, казалось, постарел на глазах.
– Откуда мне знать? – огрызнулся он.
– Должно быть, ранней весной, – продолжала я, – иначе ты не стал бы так хлопотать. Скажи, Джереми, отчего ты так боишься Дэвида?
Джереми бросил на меня суровый взгляд.
– Разве мало тебе твоих страданий, Элизабет? – Голос его звучал резко. – Зачем тебе прошлое, зачем мучить себя? Может быть, он вообще не вернется.
Но в глубине души я чувствовала: Джереми заблуждается, а вот Марта, наоборот, говорила правду.
– Возможно, ты и прав, он не вернется, – спокойно сказала я. – Но если вернется, я буду ждать его.
И мое ожидание началось. Я исправно отправляла Эдгару столь нужные ему сводки новостей о ребенке, получая в ответ испещренные восклицательными знаками длинные эпистолы, в которых содержались заверения в вечной любви ко мне и подспудная убежденность в том, что я не сумею как следует воспитать наследника рода Спейхаузов. Я находила их забавными, но послание, пришедшее в конце марта, вряд ли можно было назвать смешным. Жена Эдгара скончалась, и ее гигантское состояние переходило к нему. «Как только подышу здесь подходящий дом, – писал он, – вы должны переехать ко мне». А пока, не откладывая дел в долгий ящик, Эдгар предлагал мне заочно заключить с ним брак. Мне не хотелось заниматься этим вопросом, а потому его письмо лежало на моем секретере без ответа.
Было первое апреля. За окном кабинета легкий ветерок качал ветви с набухшими почками. Я сидела, уставившись на письмо Эдгара, в тысячный раз пытаясь придумать ответ. Дверь тихонько скрипнула, и на пороге появился Дэвид. Он вошел решительным шагом, как на параде. Лицо его было суровым и постаревшим, но глаза лучились голубизной, и я отметила про себя, что это хороший признак.
– Я хочу видеть своего сына, – твердо произнес он.
Я была рада, что встретила его сидя, иначе ноги подкосились бы подо мной. Мои руки тоже тряслись, и я спрятала их в складках платья.
– Он не здесь, – тихо ответила я. Мой ответ поверг его в растерянность.
– Не здесь… А где же?
– Должно быть, в своем полку. А если не там, то скорее всего все еще гостит у матери, – произнесла я ледяным тоном.
Несколько секунд он выглядел обескураженным, потом на смену растерянности пришло раздражение.
– Я имею в виду нашего сына, – недружелюбно отрезал Дэвид.
– Ах, вот как! – сказала я, будто до меня наконец дошло, чего он от меня требует. – Значит, речь о моем сыне? И зачем же это тебе вдруг понадобилось видеть его?
Дэвид словно окаменел. Внезапно я поняла, что нервы его напряжены до предела.
– У меня есть для него кое-что, и я хочу передать ему это, прежде чем отправлюсь в заморские края.
Я медленно склонила голову набок, как бы обдумывая вопрос государственной важности.
– Что ж, коли ты того желаешь… – вымолвила я наконец и позвонила в колокольчик.
Когда на вызов прибежала горничная, я отправила ее к Марте сказать, чтобы та принесла мне сына, поскольку его хочет видеть один посетитель. Дэвид подошел к окну и, отвернувшись, стал смотреть на улицу, а я украдкой любовалась гордой посадкой его серебряной головы и мужественными очертаниями плеч.
Принеся ребенка, Марта едва не выронила его из рук, увидев, что за посетитель к нам пожаловал. Они с Дэвидом обменялись оценивающе-настороженными взглядами, как два бойца на ринге перед началом боя. Для Дэвида предосторожность была вовсе не лишней, поскольку, как мне помнилось, во время их прошлого свидания Марта едва не выцарапала ему глаза.
– Дай ему его сына, – велела я ровным голосом.
Марта с явной неохотой передала Артура в руки Дэвиду и отступила в сторону, по-прежнему готовая при необходимости ринуться в атаку. Отец и сын смотрели друг на друга с нескрываемой подозрительностью.
– А волосы-то у него светлые, – произнес Дэвид прокурорским тоном.
– Он твой, поверь мне на слово. Впрочем, если не хочешь, не верь. – Сейчас мне не хотелось вдаваться в споры. – У моего отца тоже были светлые волосы, – припомнила я через секунду.
– Да нет, что ты… Конечно же, мой.
Впервые Дэвид смотрел прямо на меня, и из глаз его лился небесно-голубой свет.
– Я рада, что мы наконец можем хотя бы о чем-то договориться, – ласково произнесла я.
Дэвид не ответил. Неожиданно умело прижав к себе Артура одной рукой, свободной он порылся за пазухой, вытащил оттуда продолговатый пакет и дал ребенку. Получив новую игрушку, малыш тут же сунул ее в рот и начал пробовать на зуб. Я поднялась с места и выхватила пакет из детской ручонки. Дэвид хотел было запротестовать, но мне так было спокойнее.
Марта подошла ближе, чтобы забрать Артура, однако я жестом отстранила ее.
– Можешь оставить его здесь ненадолго. Я положу его в колыбель.
Она неохотно вышла, и мой тонкий слух подсказал мне, что Марта осталась караулить за дверью.
Открыв пакет, я обнаружила внутри полный набор миниатюрных копий медалей Дэвида, а также выполненные из золота знаки отличия королевского артиллерийского полка. Был там и перстенек с печаткой – точно такой же, какой носил Дэвид. Я едва не лишилась чувств, однако напряжением воли заставила себя держаться. Сейчас я не имела права проявить слабость.
– Очень мило, – произнесла я, изо всех сил стараясь, чтобы голос мой не дрогнул. – Он наверняка оценит эти вещицы, когда подрастет… если, конечно, до тех пор не проглотит. Уследить бы, – добавила я еле слышно.
Осторожно опустившись на стул, Дэвид положил Артура в колыбель и поднял глаза на меня. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, после чего я сказала:
– Боюсь, ему нечего дать тебе взамен. Разве что ты согласишься взять с собой вот это.
Я сняла с шеи и протянула ему его миниатюрный портрет, который постоянно носила с тех пор, как уехал Эдгар.
Разглядев, что я ему протягиваю, Дэвид побелел и закрыл руками лицо.
– Пожалуйста, Элизабет, не надо.
Вновь наступило молчание, и после заговорил уже он:
– Я знаю, что очень дурно поступил с тобой. В Ирландии у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать, – все мои мысли были о тебе. Я не хочу сказать, что твой поступок был правилен, – на мгновение в его глазах вновь сверкнул гнев, – но мне не следовало говорить и поступать таким образом. Из двух зол не сотворишь благо, однако я был так взбешен, что даже не подумал выслушать тебя. Это еще одна причина, почему сегодня я здесь. Мне не хотелось уезжать, увозя в памяти ту отвратительную сцену как последнее воспоминание о тебе.
Меня вновь начала бить дрожь, поэтому, быстро подойдя к письменному столу, я села.
– Понимаю, – проговорила я, стараясь выглядеть безразличной. – Ты весьма предусмотрителен: зачем брать в дорогу груз неприятного прошлого?
Однако Дэвид, казалось, более не настроен был продолжать разговор. Вынув мальчика из колыбели, он задумчиво принялся подбрасывать его на колене, делая это грубо, как и все мужчины, но дети почему-то обожают именно такое катание. Затем Дэвид заговорил вновь:
– Пока я здесь, мне нужно признаться тебе еще кое в чем. Отправляясь в Ирландию, я так ненавидел тебя, что едва не лишился рассудка от злобы. Однажды вечером я напился до бесчувствия и пошел в ирландский бордель. Выбрал там девчонку, очень похожую на тебя. У тебя, знаешь ли, ирландские черты лица, – заметил он рассеянно. – Наверное, мне хотелось убедить себя в том, что чувство, которое я испытываю к тебе, – всего лишь похоть, и ее можно удовлетворить с любой женщиной, похожей на тебя. Надо было убедиться, что по-настоящему ты мне не нужна, что все мои переживания – самообман. Я лег с ней в постель, – его голос едва заметно дрогнул, – и, когда наступило время взять ее, у меня ничего не получилось. Между нею и мной все время вставали твое лицо, твое тело, твой голос. Так продолжалось всю ночь. У меня не хватило духу даже пальцем притронуться к ней. – Он выдавил жалкую улыбку. – Когда утром, уходя, я расплачивался с ней, она расхохоталась мне в лицо и сказала, что если все англичане такие, то нечего и удивляться, что ирландцы непобедимы.
– После этого, – продолжал Дэвид, – мне пришлось признать истину: ты всегда была, есть и будешь нужна мне. И как бы я ни старался, что бы ни делала ты, я никогда не смогу перестать любить тебя.
Лишь большим усилием воли мне удалось сдержать порыв и не броситься к нему в объятия. Помня о своих муках, я хотела, чтобы и он испил до дна чашу страданий.
– Что ж, – сказала я, глядя ему прямо в глаза, – наверное, сейчас нам приходится переживать одинаковые сложности.
Он смущенно опустил глаза.
– У тебя все в порядке, Элизабет? Ведь Спейхауз уехал. Как ты со всем справляешься?
– Ал, да, кстати, – я решила ударить его побольнее, – ты, должно быть, не знаешь. Мы с Эдгаром Спейхаузом скоро поженимся.
И я вручила ему письмо, оставленное без ответа. Письмо, которое останется без ответа навсегда. Теперь я знала это наверняка.
Дэвид молча прочитал послание и вернул его мне.
– Что ж, тогда, полагаю, мне не имеет смысла здесь задерживаться, – процедил он сквозь зубы. – Ведь Спейхауз, кажется, уже обо всем позаботился – о моем ребенке, о моей любви, одним словом, обо всем.
Недоумение и беспомощность слышались в его словах.
– Ах, тебе действительно пора? – Я встала с места, словно мне не терпелось выставить его за дверь, но тут же добавила: – Правда, я думала, что, раз уж ты пришел проведать сына, то мог бы немножко и задержаться, чтобы развлечь его мать. Ведь сегодня торжественная дата, которая имеет для нас обоих особое значение.
На его лице отразилось еще большее изумление. Дэвид тщетно пытался вспомнить, какое отношение может иметь к нам этот весенний день.
– А что мы сегодня отмечаем? – в конце концов выдавил он.
– Как что? Неужели ты забыл, дорогой? День дураков – всех дураков без исключения.
Я нежно улыбнулась ему. Его лицо озарилось ответной улыбкой – улыбкой облегчения.
– Ах, Элизабет, драгоценная моя! – прошептал он, шагнув мне навстречу.
Но не успел Дэвид заключить меня в объятия, как до нашего слуха донеслось тоненькое покашливание. Забытый всеми, Артур ухитрился открутить одну из позолоченных пуговиц от мундира отца и запихал ее в горло. Теперь он задыхался – его личико синело на глазах. Заботливые родители чуть ли не пять минут молотили его по спине до отрыжки, пока пуговица не вылетела из глотки. Наш малыш не остался в стороне от празднования дня дураков, на свой манер сыграв с нами первоапрельскую шутку.
Еще не придя в себя от потрясения, мы позвали Марту, которая вплыла в комнату грознее грозовой тучи и унесла ребенка, не забыв на прощание сказать нам пару ласковых слов. Дэвид повернулся ко мне. На его лице вновь играла улыбка, увидеть которую я уже не надеялась.
– На чем же мы остановились? – пробормотал он, нежно притянув меня к себе. – Кажется, мы были где-то здесь…
Его губы жадно впились в мои, и все горести и обиды, разделявшие нас в этот страшный год, утонули в розовом приливе, захлестнувшем обоих.
Когда голова перестала кружиться от сладости поцелуев, я обнаружила, что мы каким-то образом переместились на диван. Дэвид был полностью поглощен сразу двумя занятиями: он то нежно покусывал мое левое ухо, то целовал меня в затылок. Внезапно отстранившись, он произнес странным грубым голосом:
– Довольно.
Вздрогнув от испуга, я открыла глаза. Он склонился надо мной. Его лицо пылало, глаза озорно искрились.
– Элизабет, – произнес Дэвид с притворной жалобой в голосе, – я не лучшим образом действую на диване. Не найдется ли в этом доме кровати?
Я вздохнула с облегчением.
– Как тебе не стыдно, ты едва не напугал меня до смерти, идиот ты эдакий! Кровать тебе нужна… А ты хоть знаешь, который час? К твоему сведению, полдвенадцатого дня.
– Не вижу никакой связи, – ответил он голосом, исполненным мольбы, в то время как в глазах у него прыгали смешинки, – между временем суток и желанием отправиться в кровать.
– Что ж, в таком случае добро пожаловать в постель, – парировала я, – но знай, что в это время суток ты уляжешься в нее один.
Но тут страшная мысль пронзила меня, и я схватила его за руку.
– Дорогой, ведь тебе не сегодня нужно уезжать? Скажи, не сегодня?
Тоже посерьезнев, он отрицательно покачал головой. Его ладони мягко заскользили по моим рукам, пробежали по шее, погладили лицо.
– Нет, не сегодня.
Его голос был одновременно мягок и хрипловат, губы вновь тянулись к моим, но я остановила его на секунду.
– Сколько дней в твоем распоряжении? – спросила я голосом, севшим от волнения.
– Шесть.
– Благодарю тебя за это, Господи! – прошептала я, ослабев от счастья.
Его рот приник к моему, и я почувствовала себя беззащитной под его огненными поцелуями.
– Так как насчет кровати? – вполголоса спросил он во время паузы, которая длилась доли секунды.
– Дэвид, ты просто невыносим, – улыбнулась я. – Ты превратил меня в беспомощную развалину, значит, тебе придется отнести меня туда на руках.
– Отнести вас? – усмехнулся он с напускной надменностью. – Едва войдя в этот дом, я сразу почувствовал слабость в коленях, и эта слабость не проходит с самого утра. Так что мне самому впору ползти на четвереньках. Нет уж, моя прекрасная леди, если вы решили идти, то пойдемте вместе на четвереньках, а если получится, так доковыляем на своих двоих.
– А может быть, изволите отобедать? – решила я ответить уколом на укол. – Время уже почти обеденное. К тому же вы только что прибыли из Ирландии и, должно быть, испытываете чертовский голод.
– Что верно, то верно – голоден, – он вновь принялся целовать меня в порыве ненасытной страсти, – только мне нужна другая пища. Перестань дразнить меня. Отвечай же, пойдешь или мне тащить тебя за твои прекрасные локоны?
– Ну и животное! – томно протянула я, вставая и пытаясь выпрямиться. – Ты совсем запугал меня. Приходится подчиниться. – С этими словами я протянула к нему руки. – Так мы в самом деле идем?
И, как в былые времена, мы пировали, не в силах насытиться, – к смятению всех домашних и собственному нескончаемому наслаждению.
Дэвид заметно изменился, став более сдержанным и уверенным в себе. В то же время в характере его появилась некая бесшабашность, не свойственная ему ранее легкомысленная веселость, как будто для него имел значение лишь сегодняшний день, а до последствий не было дела. В таком лихорадочном веселье и пролетели несколько дней, которые оказались для нас даже счастливее, чем те, что мы провели вместе в прошлом году. Я смеялась так, как не смеялась никогда в жизни, решительно не задумываясь о тех слезах, которые мне предстояло пролить в ближайшем будущем.
Бедный Эдгар, чьи реликвии до сих пор попадались там и сям, как и следовало ожидать, стал для Дэвида объектом насмешек. Впервые войдя в детскую, он отшатнулся в притворном ужасе при виде огромного портрета, мрачно висящего над колыбелью.
– О Боже, я попался! – шутливо вскричал Дэвид, хватаясь за шпагу.
Затем он велел повернуть портрет носом к стене и на обратной стороне холста нарисовал углем чрезвычайно злую карикатуру на Эдгара, употребив все свое незаурядное мастерство. Уж если Артуру суждено расти в постоянном присутствии отсутствующего Эдгара, рассудил он, то пусть ребенок видит подлинные качества этого человека. К своему стыду, я разрешила ему это сделать и, более того, от души позабавилась над его шалостью. Бедный, бедный Эдгар…
Дэвид быстро установил с Артуром сердечные отношения. Он улыбался сыну и быстро получал в ответ широкую улыбку – маленькую копию отцовской.
– Он умеет хоть что-нибудь? – спросил Дэвид, с сомнением разглядывая свое дитя в первый вечер.
– Умеет? Что ты имеешь в виду? Он делает все то же, что и любой другой ребенок в его возрасте.
– Умеет ли он ходить, говорить или еще что-нибудь в этом роде?
– Дорогой мой, ведь ему всего одиннадцать месяцев, – рассмеялась я. – Сейчас он занят лишь тем, что норовит укусить или проглотить любой предмет, который попадет ему в рот.
Дэвид на собственном горьком опыте убедился в правоте моих слов. Попытавшись выяснить, сколько зубов уже выросло у Артура, он полез ему в ротик пальцем, который был тут же почти откушен. Я вошла как раз в тот момент, когда мальчишка лопотал что-то свое, повизгивая от счастья, а Дэвид сжимал укушенный палец, изрыгая немыслимые проклятия.
Увидев, что это происшествие вызвало у меня смех, но никак не сочувствие, он философски произнес:
– Надеюсь, палец распухнет и отвалится, а я буду списан из армии по инвалидности. Боевой растет мальчишка – ничего не скажешь. Должно быть, пойдет по моим стопам.
Однажды вечером мы вместе поехали в «Ранело», где Дэвид быстро и решительно напился в стельку. За ним никогда не водилось особого пристрастия к спиртному. Мне этот случай показался забавным, но и немного встревожил: на память пришло то, каким образом я сама когда-то искала покоя и забвения. Мне удалось вовремя утащить его из питейного заведения, пока он не разнес там все в щепки, устроив грандиозный скандал. По дороге домой Дэвид заснул, положив голову мне на колени и оглашая заливистым храпом проплывавшие за окном экипажа окрестности. Нам с кучером пришлось тащить его до самой постели. А в четыре часа утра он проснулся просветленный, разбудил меня и сообщил, что накануне вечером повстречал одну прекрасную девушку по имени Элизабет. После этого чистосердечного признания мой милый вновь упал на подушку и проспал мертвым сном до полудня. Если бы я не любила его всем сердцем, то наверняка надавала бы ему пощечин. Естественно, проснувшись, он испытал все последствия приятного времяпрепровождения. Умирая с похмелья, он был так жалок и так нуждался в моей помощи, что мне было трудно решить, каким же я люблю его больше – пьяным до бесчувствия или трезвым, но с раскалывающейся головой.
Но как бы мы ни хотели остановить время, оно неумолимо продолжало свой бег. Шесть дней промчались как один, и мне теперь некуда было скрыться от неизбежности расставания. Над нами нависла черная туча, и весь дом готовился пережить вместе с нами надвигающееся тяжкое испытание.
В последний день Дэвид был очень нежен и вместе с тем серьезен.
– Любимая, – спросил он, ласково прижав меня к себе, – как ты поступишь со Спейхаузом?
Мне пришлось без утайки рассказать все, что было между мною и Эдгаром.
В конце концов я должна была признаться, что до сих пор не приняла никакого решения.
– Он предлагает тебе очень многое: брак, состояние, громкое имя. – Взяв меня за плечи, Дэвид отстранился и внимательно посмотрел мне в глаза. – И ты не чувствуешь к нему ни малейшей привязанности?
– Могу ли я испытывать к нему какие-то чувства, – произнесла я дрогнувшим голосом, – когда только ты занимаешь мои мысли, сердце, разум? Речь идет вовсе не о привязанности, а о том, как поступить наилучшим, самым разумным образом ради будущего Артура.
– Если ты не любишь его, – твердо сказал Дэвид, – то и не выходи за него замуж. Я знаю, что не имею права просить тебя об этом, мне нечего предложить тебе взамен и почти нет надежды на то, что мое положение когда-нибудь изменится. Но, пока ты не связана неразрывными узами с другим, у нас остается хотя бы право на любовь друг к другу, сохраняется надежда. Став женой Спейхауза, ты будешь потеряна для меня навсегда, а я не переживу этого. Если бы он мог сделать тебя счастливой, то, ничего не поделаешь, я бы смирился, но все дело в том, что он не принесет тебе счастья, и ты это знаешь. Насколько я могу судить по твоим словам, он интересуется главным образом Артуром. Вряд ли его отношение к ребенку изменится от того, выйдешь ты за него замуж или нет. У него нет возможности отобрать у тебя мальчика. Если такой вопрос когда-нибудь встанет или появятся малейшие признаки того, что он может повредить Артуру, мы просто расскажем ему всю правду.
– Ты должен понять, – постаралась я спокойно растолковать ему, – что если Спейхауз лишит меня поддержки, то мне, возможно, придется взяться за старое или во всяком случае искать какие-то другие средства к существованию.
Это было неправдой, но мне хотелось увидеть его реакцию. Пальцы Дэвида больно впились мне в плечо.
– Мое отношение к другим мужчинам в твоей жизни осталось прежним, Элизабет, но у меня нет иного выбора. Пока ты не связана, у меня есть надежда. Бог знает, когда это случится, но я обязательно вернусь и тогда поставлю на кон свою любовь, чтобы выиграть тебя у любого другого мужчины, потому что я люблю тебя больше, чем он, и нужна ты мне больше, чем ему.
Он вновь притянул меня к себе, и я покорно прильнула к его груди.
– Я не выйду замуж за Спейхауза, – тихо пообещала я, – если ты не хочешь этого.
Он со вздохом облегчения припал к моим губам.
– Не знаю, чем я заслужил у судьбы такое прекрасное создание, как ты, любимая моя. Простила ли ты меня за те страдания, которые я тебе причинил? Сам я никогда не прощу себе этого – Бог тому свидетель! Наступит время, и я попытаюсь заставить тебя забыть о пережитом. Клянусь тебе.
– Что ж, теперь мне есть, чего ждать от жизни, не так ли? – улыбнулась я сквозь слезы.
До его отъезда оставались считанные минуты, и оба мы почти лишились дара речи. Дэвид крепко сжал меня в объятиях и зарылся лицом в мои волосы.
– Я не буду писать тебе, – отрывисто произнес он наконец. – Рука моя неспособна передать бумаге то, что я чувствую при одной мысли о тебе. Письма доставляют больше мучений, чем радости, когда наконец приходят из такой дали, а тем более, когда не доходят. Но после возвращения я непременно разыщу тебя, где бы ты ни была. Жди меня, любимая. Обязательно жди.
Подарив мне прощальный поцелуй, исполненный боли, он уехал.
До сих пор не знаю, как мне удалось пережить следующие несколько дней. Наверное, только вера в странный дар, которым была наделена Марта, поддержала во мне силы.
– Правда ли, что он вернется? – спросила я ее, выплакав все слезы.
– Вернется, если вы постараетесь, – ответила она, как всегда, туманно. – Так должно быть вопреки смерти.
Больше я не вытянула из нее ни слова.
Наступило время ожиданий и тревожных раздумий о том, как же быть со Спейхаузом. Тревоги эти разрешились непредвиденным путем. Дэвид, наверное, как раз высаживался с корабля где-нибудь в Вест-Индии, когда до меня дошло известие о том, что в начале мая Эдгар заболел малярией и вскоре после этого скончался. Таким образом, его прекрасным пожеланиям не дано было свершиться и Спейхауз отходил к дальнему родственнику. Теперь было впору задуматься, что в скором времени произойдет со мной и действительно ли обеспечено будущее Артура, как мне казалось до недавней поры.
Я неспособна была скорбеть по Спейхаузу – настолько невыразительной была его личность. Этот человек и при жизни не вызывал у меня особых эмоций, а потому смерть его оставила меня равнодушной. Что же касается обмана, которым я затуманила ему голову, то в данном случае мое поведение казалось мне вполне оправданным. Будучи обманут, он получил счастья и радости больше, чем во всей своей прежней жизни. Наверное, судьба была благосклонна к нему, поскольку уберегла его от крушения надежд на брак со мной, а возможно, и от еще больших разочарований, связанных с Артуром или, хуже того, отцом Артура.
В конце концов, как ни печально это признавать, смерть Эдгара явилась для всех нас благом. Мне лишь оставалось от всей души надеяться, что малярия не слишком заразна, поскольку мой любимый находился сейчас в тех же гиблых местах, что и Спейхауз.
Адвокаты Спейхауза не замедлили явиться к нам, и с помощью Джереми, который присутствовал при сем в качестве переводчика с юридического жаргона, я выяснила, что за будущее моего сына можно не беспокоиться. Все личное состояние Эдгара переходило к Артуру и помещалось под опеку, которая должна была продолжаться до достижения им двадцатипятилетнего возраста. Опекунами назначались адвокаты, кузен Эдгара, который одновременно выступал в роли наследника родового поместья, и я. После умершего оставались еще три фермы в окрестностях Спейхауза и особняк Доуэр-хауз, который примыкал к поместью, но не считался родовым имуществом.
Ожидая скорого заключения брака со мной, Эдгар, конечно же, ни словом не упомянул в своем завещании обо мне. Адвокаты, однако, пришли к единодушному мнению, что я, будучи матерью и юридическим опекуном ребенка, должна получать ежегодно 1600 фунтов из доходов от имения на содержание сына и его жилища. Со временем из тех же доходов должны были оплачиваться издержки на его образование и врачебную помощь.
Адвокаты также сошлись во мнении о том, что, пока ребенок находится в младенческом возрасте, я могу жить, где пожелаю. Вместе с тем они настоятельно рекомендовали мне перевезти сына, как только он достигнет сознательного возраста, в Доуэр-хауз, чтобы воспитывать его в обстановке дома, хозяином которого ему со временем предстояло стать. Я не возражала против этого, однако, давая согласие перебраться в особняк, еще не могла предвидеть, какие причудливые повороты судьбы ожидают меня там.
Они ушли, оставив меня с ребенком, у которого, как предполагалось, больше не было отца. Я вошла в детскую, чтобы взглянуть, как чувствует себя молодой наследник. Лежа с довольным видом, он сосал кулачок, глядя на меня глазами Дэвида и не подозревая в своей невинности, какая ноша ложится на его крохотные плечики. С тяжелым сердцем я повернула к себе портрет Спейхауза, висевший до сих пор лицом к стене, как оставил его, уезжая, Дэвид. Мне вдруг стало ясно, что, как бы то ни было, Артуру придется признать отцом этого высокого бледного человека, который и после смерти во все глаза продолжал смотреть на него с полотна. Тому же, кто был его подлинным отцом, никогда не суждено будет открыто требовать от своего ребенка сыновних чувств. И сейчас, много лет спустя, я не вполне уверена, что приняла в тот день верное решение.
Но такой уж я была тогда – двадцатисемилетняя, не ведающая материальных забот, живущая в прекрасном доме с прекрасными слугами, мать богатого и красивого сына. Для полного счастья мне не хватало только Дэвида, но здесь оставалось лишь набраться терпения и ждать. И я начала искать способы хоть как-то скрасить это ожидание.
В ту осень разыгралась битва при Трафальгаре. Великий человек погиб, оставив любимую женщину на милость равнодушной нации.[28] Однако в результате сражения Англия осталась хозяйкой на море, и артиллеристам больше не приходилось тревожно вглядываться в морскую даль со своих батарей вдоль южного побережья страны: «Армия Англии», не в силах преодолеть узкую полоску воды, отступила от берегов, чтобы слить свою железную силу с другими войсками.
Над континентом вновь заговорили пушки, и Наполеон повел свои армии триумфальным маршем по столицам Европы. Упоенный победами завоеватель провозгласил: «Сверните карту Европы – в предстоящие десять лет она не понадобится». Призрак смерти стоял за его плечом, оскалившись в улыбке. Страдали народы, гибли люди. Наших мужчин убивали на всех широтах земного шара. А я убивала время, пытаясь заглушить мучительную тревогу в сердце за того единственного, кто значил для меня все. Я молила Бога, чтобы он вернул его мне живым.
После некоторых раздумий я решила принять давнее предложение Джереми и отправиться в путешествие. Мрачное величие Шотландии, нежные красоты Уэльса – вся английская история, изучению которой я посвятила столько времени в Маунт-Меноне, теперь разворачивалась перед моими глазами. Я готовилась к визитам в различные части страны столь же тщательно, как и королева Англии, которая носила то же имя, что и я.[29] Отправляясь на юг, я решила не заезжать в Кент и Суссекс, поскольку в этих графствах многие места будили во мне волнующие воспоминания, одновременно сладостные и горькие. Более привлекательным мне показался путь на юго-запад. Там я увидела поместье с воротами, на столбах которых был начертан тот же девиз, что и на кольце, бережно хранившемся в моей коробке с драгоценностями. Тогда мне захотелось, чтобы Дэвид был старшим в линии наследования, но потом я обрадовалась, что это не так, поскольку иначе он никогда не связал бы своей судьбы с девчонкой с Рыбной улицы. Я отправилась в Лайм-Реджис, где его отец практиковал право. Дэвид провел там детство, и я попыталась представить его маленьким мальчиком, но у меня ничего не получилось. Мне пришло в голову, что я не знаю даже, какого цвета у него были в детстве волосы, хотя, судя по его реакции на светлые волосики Артура, он был брюнетом с ранних лет.
Устав в конце концов от того, что мне не с кем было поделиться переполнявшими меня впечатлениями – Белль, как и многие другие коренные лондонцы, мало интересовалась Англией за пределами столицы, – я возвратилась домой, где нашла всех в добром здравии. Артур уже ходил, а вернее, неловко переваливался с ножки на ножку. Что же касается Джереми, то таким целеустремленным и дружелюбным я его уже давно не видела.
Не успела я вернуться, как он, наспех поздоровавшись, с ходу предложил:
– Мне хотелось бы, Элизабет, чтобы ты совершила еще одно путешествие – на сей раз со мной.
– Куда же это? – изумилась я, поскольку легче было вызвать землетрясение, чем вытащить Джереми из Лондона.
– В Вустершир, где ты еще не успела побывать, – ответил он.
– И зачем же это, интересно, тебе понадобилось в Вустершир, тем более в такое время года? – В мою душу закралось жуткое подозрение, поскольку было уже начало октября. – Надеюсь, речь не идет о каком-нибудь твоем новом «дельце»?
На сей раз он уклонился от ответа.
– Человек, которого я намереваюсь посетить, – сын одного из моих старинных друзей, еще со школьных лет. – Мысль о том, что Джереми когда-то был школьником, показалась мне настолько забавной, что я на несколько секунд упустила нить разговора. – Более трех лет назад Ричард потерял жену, оставшись с единственным ребенком. Он дал ей обещание не жениться в течение пяти лет или до тех пор, пока не найдет женщину, которая беззаветно полюбит их ребенка. Будучи человеком слова, он соблюдает свое обещание, однако я очень обеспокоен, видя, чего это ему стоит. Ричард – мужчина на зависть всем, но ему нужна женщина. Причем я говорю не о чисто физической потребности, хотя, Бог весть, может быть, и это тоже имеет немалое значение. В общем, это типичный хлопотун – лучшего слова мне просто не приходит на ум. Ему нужно постоянно с кем-то делиться, заботиться о ком-то и самому испытывать заботу со стороны близкого человека. А сейчас он живет в бедламе, где нет никого, кроме ребенка, слуг и чудаковатого священника, который, кажется, весьма неблагоприятно на него влияет. Он целыми днями торчит дома и много пьет. Если дело пойдет так и дальше, он попросту угробит себя. Но это слишком хороший человек, чтобы я мог просто наблюдать со стороны, не пытаясь чем-то помочь ему.
– До чего же ты умен, дорогой мой Джереми, – промурлыкала я. – Так что же меня ожидает? Похоже, мне суждено стать его экономкой, гладить его по хмельной головушке и прыгать в кровать по его первому знаку, так что ли? Что ж, спасибо тебе, – тут я уж не могла сдержаться, – но меня подобные предложения не интересуют!
– Ну и каковы же твои планы? – Джереми внезапно сменил направление разговора.
– Никаких планов у меня нет, – ответила я холодно. – Просто живу и жду.
– Не иначе, Прескотта. И сколько же, по-твоему, тебе его ждать? – Он говорил точно тем же холодным и суровым тоном, что и я.
– Столько, сколько понадобится, – парировала я.
– Если быть честным до конца, Элизабет, я ни капли тебе не верю. – Джереми бросил на меня быстрый взгляд из-под насупленных бровей. – Чтобы ты сидела в своей лондонской раковине Бог знает сколько лет подобно раку-отшельнику, ожидая, когда к тебе вернется Прескотт, если вернется вообще… Я не верю, что ты способна на это. Если Ричард – мужчина, которому позарез нужна женщина, то ты, черт возьми, – женщина, которая не может жить без мужчины.
– Благодарю тебя, но смею надеяться, что я сама прекрасно разберусь во всем. – Меня понемногу начала разбирать злость. – Мне уже надоело отдаваться каждому встречному Тому, Дику и Гарри лишь потому, что ему нужна баба, тем более по твоей рекомендации.
– Отдаваться! – иронично буркнул Джереми. – Да ты ни одному мужчине, за исключением Прескотта, не отдала ничего, не вытребовав себе взамен вчетверо больше. Кстати, и насчет Прескотта я очень сомневаюсь.
– Да как ты смеешь! – вскричала я в порыве ярости. – Разве можешь ты назвать хоть что-нибудь, что я получила от мужчины незаслуженно?
– Что ж, если ты до сих пор не знаешь, то позволь просветить тебя, – ехидно произнес Джереми. – У Картера ты научилась нежной страсти – нет уж, не отрицай этого! – и цивилизованному поведению. Сэр Генри наполнил твой ненасытный ум всяческими полезными познаниями, а Чартерис и Спейхауз, между прочим, обеспечили в финансовом отношении тебя и твоего ребенка. Возможно, ты думаешь, что отдала им слишком многое. Однако на деле ты взяла у них гораздо больше. Этот мир устроен так, что в нем нельзя бесконечно брать и купаться в счастье, не давая ничего взамен. Прескотт – тот не лучше тебя. Он отдает себя только тебе и никому больше. Думаю, он вообще никому ничего не дал в своей жизни. Когда вы остаетесь вдвоем, то изо всех сил пытаетесь отгородиться от внешнего мира – он, видите ли, вам не нужен. Однако тебе следует усвоить раз и навсегда: ты живешь в этом мире и не можешь от него спрятаться, в особенности когда рядом с тобой нет возлюбленного. Ты в целом неплохой человек, Элизабет, тебя нельзя назвать хапугой, но ты эгоистка и с возрастом становишься все черствее и эгоистичнее.
– Я согласен, – продолжал он, – что до сих пор тебе приходилось бороться за хлеб насущный, но теперь нет нужды вести такую жизнь – твоему положению позавидовала бы любая женщина в Англии. Если ты не научишься делиться с другими – по собственной воле, не оговаривая для себя никаких особых условий, – то упустишь время, а его у тебя осталось не так уж много. И тогда ты обречена быть несчастной.
– Итак, чтобы уберечься от жизненных несчастий, мне надлежит залезть в кровать к совершенно незнакомому человеку – исключительно в виде одолжения старому другу, только и всего? – огрызнулась я.
Джереми стоило немалых сил сдержаться. От напряжения он покраснел как рак.
– Ты все время уводишь разговор в сторону, твердя одно и то же. А мне и рта не даешь раскрыть, чтобы выслушать, что предлагаю я. Не будет никакого «дельца», никакого соглашения, никакого предложения. Я хочу познакомить тебя с Ричардом Денмэном – вот и все. Мы просто погостим в Солуорп-корте, причем задержимся там ровно на столько, на сколько тебе захочется. Ричард – чуткий, разумный, добрый человек, и если вы понравитесь друг другу, то не вижу причины, почему бы тебе не остаться в Солуорпе, окруженной заботой и вниманием, в которых ты испытываешь такую потребность. К тому же у твоего сына появится товарищ для игр. Он попадет просто в идеальные условия. Да и ты ничем не рискуешь.
– А тебе не приходило в голову, что у твоего Ричарда Денмэна может быть свой взгляд на вторжение в его дом отставной шлюхи ради того, чтобы убить время, пока с полей сражений не вернется ее любовник? – вновь вспылила я.
Джереми даже поперхнулся от ярости.
– Ты отправишься туда в качестве вдовы полковника Спейхауза – да-да, того самого, чье имя носит твой ребенок. В конце концов, в качестве леди, которой ты – видит Бог! – только кажешься. И с тобой там будут обращаться как с леди – до тех пор, пока тебе не вздумается показать себя с другой стороны. Если мы поедем туда и ты увидишь хотя бы малейший повод там задержаться, то в любой момент можно будет сказать, что лондонские туманы вредны для твоего здоровья и тебе нужен свежий деревенский воздух.
Выслушав эту тираду, я, несмотря на всю накопившуюся во мне злость, была вынуждена расхохотаться. Тогда мое здоровье было крепче, чем у лошади, а дымный воздух Лондона с самого рождения был для меня подлинным дуновением жизни.
– Господи, Джереми, что за вздор ты несешь! Стало быть, мне придется сказать, что и вся моя свита на грани смерти? Конечно, я неисправимая эгоистка, но даже мне кажется довольно жестоким отрывать Марту от привычной обстановки и хоронить заживо в какой-то Богом забытой деревне, о которой она, должно быть, и слыхом не слыхивала. Ведь у нее, знаешь ли, тоже есть семья, а Вустершир при всем желании не назовешь столь же удобным для жизни, как Суссекс.
Во взгляде Джереми читалось поистине ослиное упрямство.
– Я просто тронут твоей заботой о Марте. В таком случае почему бы нам не позвать ее и не спросить, что предпочитает она сама?
Реакция Марты была совсем не такой, как я ожидала. Выслушав с хмурым видом Джереми, который, расписав все достоинства предстоящего путешествия, спросил в конце концов о ее мнении на этот счет, она коротко ответила:
– Никаких возражений.
Потом взгляд ее темных глаз переместился на меня.
– Но как же твоя семья, Марта?! – запротестовала я. – Ведь тебе не так-то просто будет видеться с родными, если ты окажешься вместе с нами в этой глуши.
– Коли я им нужна, сами разыщут, – сурово произнесла Марта. – Здесь меня ничто не держит… К тому же, – добавила она веско, – Артуру будет с кем поиграть. Да и вообще, с какой стати нам бояться этих Денмэнов?
Тут я поняла, что два старых мерзавца уже все обговорили за моей спиной. Я имела дело с мощной коалицией.
– Хорошо же! – выкрикнула я напоследок, устав от споров. – Я поеду с тобой, Джереми, но запомни: не может быть и речи ни о каких обязательствах с моей стороны.
– А тебя никто и не просит брать на себя обязательства, – отрезал Джереми, поднявшись с кресла, чтобы отправиться восвояси. – Итак, я принимаюсь за приготовления. Как только завершу дела, дам тебе знать, когда выезжаем.
Он тяжелой поступью вышел из комнаты, явно довольный собой.
После его ухода я напустилась на Марту, призвав на помощь всю свою язвительность:
– А я и не знала, что ты так устала от Лондона. Стоило тебе только сказать мне, и мы уехали бы в Суссекс.
Во взгляде ее не было и тени беспокойства.
– Так будет лучше, – просто сказала она. – Вам же все равно ждать, так не все ли равно где? В конце концов не будет никакой разницы.
И Марта своей мягкой походкой выплыла за дверь.
Так среди ярких красок осени я вновь отправилась в путешествие – на сей раз в сопровождении целой свиты слуг, колясок, детей – совсем маленьких и старых, потому что в дороге Джереми был хуже ребенка. «В самом деле, какая разница, где ждать? – размышляла я, расположившись в тряском экипаже. – Все равно мне суждено ждать Дэвида, и если Ричард Денмэн скрасит мое ожидание, тем лучше. Но я буду, буду ждать!»
16
Ми прибыли в Солуорп-корт через пять дней после того, как выехали из Лондона. От вида буковых рощ, стоявших в осеннем великолепии, захватывало дыхание. Под их сенью прятался длинный приземистый дом в духе эпохи Тюдоров.[30] Это было строгое здание в черно-белых тонах. Свинцовые стекла – стекла продолговатых окон с основательными вертикальными стояками отражали полуденное солнце. Блики сияли, как миллион крохотных огоньков, зажженных в нашу честь. Такая картина приветствовала нас, когда мы подкатили к крыльцу, выехав наконец из старинного парка. Между деревьями мелькнула серая стена крепкой церкви в норманнском стиле. Выйдя из экипажа у мощной дубовой двери особняка, вдобавок обитой гвоздями, мы расслышали далекое приятное журчание ручья.
Дверь отворилась, и на пороге нас встретил сквайр Денмэн, человек лет тридцати восьми, среднего роста и плотного телосложения. Голову его венчала густая копна курчавых каштановых волос, в которых при свете солнца вспыхивали рыжие искорки. Красноватое, обветренное лицо говорило, что Ричард Денмэн не слишком любит сидеть взаперти. Полные, но вместе с тем твердые губы растянулись в веселой улыбке. Лицо его казалось квадратным. Это впечатление усиливали густые темно-рыжие брови, которые, вытянувшись в прямую линию, почти срослись на широкой переносице. Глаза, задорно глядевшие с красного лица, были светло-карими и отливали скорее не зеленью, а янтарем. От всего его облика веяло честностью и основательностью.
Хозяин радушно приветствовал нас и с предупредительностью, которая сразу же показалась мне весьма характерной для него, в первую очередь позаботился о том, чтобы обустроить Марту с ее подопечным в детском крыле дома, где проживал и наследник Денмэна. Пока он хлопотал в детской, я успела осмотреться.
За массивной входной дверью сразу же начинался обширный квадратный зал, пол которого был выстлан темной плиткой. Прямо из зала наверх вела основная лестница с низкими широкими ступеньками, которая на первой же площадке до середины высоты стены раздваивалась, уводя в противоположные крылья здания. Стены до середины были задрапированы прекраснейшей из всех тканей, какие мне приходилось видеть в своей жизни. В каждом углу красовалось тиснение в виде двойной розы – эмблемы Тюдоров. Выше на кремовой штукатурке были развешаны оружие и знамена Денмэнов, давно ушедших в мир иной. Все это впечатляло и вместе с тем располагало к спокойной, комфортабельной жизни. Обстановка, если не считать какого-нибудь старинного сундука или шкафа, была выдержана в солидном, пышном стиле первых Георгов. Вместе с тем многое указывало на то, что этому обширному жилищу не хватает заботливой женской руки: вещи валялись в беспорядке, на всем лежала печать неопрятности, нигде не было ни единого цветочка, ни одного хотя бы самого простого украшения. Мужчина не придал бы этому значения, однако от женского внимания подобные вещи не ускользают.
Джереми погрузился в кресло напротив огромного камина, в котором пылали дрова, а вернее, деревья средних размеров, и занялся большой порцией глинтвейна, которую принес ему слуга, появившийся словно из-под земли. Впрочем, можно было спиной почувствовать, что он исподтишка следит, как я брожу по залу, разминая ноги после пятидневного путешествия. Меня разбирало любопытство, о чем думает этот старый лис. Однако мы не обменялись ни единым словом, пока к нам вновь не вышел наш любезный и несколько беспокойный хозяин.
– Вас не слишком утомило путешествие, мадам? – вежливо осведомился Ричард Денмэн. – Если позволите, моя домоправительница покажет вам ваши комнаты, где вы сможете отдохнуть до ужина. Или, может быть, вы желали бы взглянуть на условия, в которые помещен ваш сын? Боюсь, я не слишком искушен в создании обстановки, нужной в подобных случаях, и если вас что-то не устраивает, то прошу, не стесняйтесь, измените все так, как сочтете нужным.
Я улыбнулась в ответ.
– Вы очень добры, господин Денмэн, но я вовсе не устала. Мне даже доставляет удовольствие побродить немножко, чтобы осмотреть ваш прелестный дом. Что же касается моего сына, то Марта лучше меня знает о его потребностях, а поскольку она не отличается излишней застенчивостью, то, должно быть, уже объявила обо всем, что ей нужно, если ей действительно что-то потребовалось.
Денмэн, видимо, успокоился, и лицо его озарила широкая улыбка.
– Может быть, вы и в самом деле осмотрите дом? – с готовностью предложил он. – Боюсь, на улице уже довольно темно, и вы вряд ли хорошо разглядите его снаружи. Но для меня будет большой честью показать вам внутреннее убранство.
– Что ж, было бы просто великолепно, – проворковала я, и мы отправились на осмотр. Могу поклясться, что в этот момент у нас за спиной раздалось приглушенное хихиканье Джереми.
Пока мы шли по анфиладе комнат, обшитых темными панелями, Ричард Денмэн рассказал мне кое-что из истории особняка. Некоторые части этого здания были очень старыми. Согласно преданию, именно здесь родился Уорик Делатель Королей.[31] Среди сокровищ Денмэна были даже доспехи, которые, говорят, принадлежали этой исторической личности. Все комнаты внизу отличались той же изысканной отделкой, что и в зале. Некоторые помещения поменьше были задрапированы до самого потолка, это наверняка сделало бы дом очень мрачным внутри, если бы каждую комнату не украшали огромные окна, как того требовали каноны архитектуры в духе Тюдоров.
Во многих комнатах на первом этаже, в том числе библиотеке и гостиной, пахло нежилым духом. Денмэн признался, что в последнее время туда никто не заглядывал, поскольку они с преподобным Джоном Принсом проводят время главным образом в зале, куда мы зашли сразу по приезде, кабинете и комнате с охотничьими ружьями.
– С тех пор как скончалась моя жена, – произнес он с грустной отрешенностью, – у меня мало поводов для развлечений, да и особой охоты развлекаться нет.
Я пробормотала слова соболезнования, дав одновременно понять, что все подробности постигшей его утраты уже известны мне от Джереми. Ему, кажется, стало легче, и к тому времени, когда мы добрались до комнаты с ружьями, он заметно повеселел. Судя по пропитавшим ее запахам ружейного масла, псины и табака, это было его любимым местом. Потом мы в очередной раз прошли через зал, где Джереми уже сладко похрапывал в уютном кресле, и поднялись вверх по лестнице с великолепными перилами.
Спальни отличались огромными размерами и какой-то мрачной торжественностью. В большинстве из них стояли старинные широкие кровати под балдахином, занимавшие основную часть помещения. Денмэн почему-то стеснялся их, что со стороны выглядело весьма забавно. Он робко ступал по краешку комнаты, опасаясь приближаться к кровати, будто она могла внезапно подскочить и укусить его. Наконец мы дошли до крыла дома, которое отвели детям. Артур, утомленный долгим путешествием, спал беспробудным сном. Его спальня находилась рядом с комнатой юного Денмэна.
Маленький Дик Денмэн тоже спал, но и во сне выглядел весьма солидно – уменьшенная копия человека, стоявшего рядом со мной. Я поделилась своим наблюдением с Ричардом, чем он, как мне показалось, был безмерно польщен, хотя в моих словах не было ни капли лести – просто констатация очевидного. Когда мы спускались вниз по лестнице, он торжественно сообщил мне, что вот уже примерно сто лет, как всем Денмэнам при крещении дают имя Ричард, но, чтобы не было путаницы, в жизни этим именем называют не всех подряд, а через одного. Каждый второй зовется уменьшительно – Дик. Вот и получается, что его самого зовут Ричардом, а его сына – Диком. Я пробормотала что-то о том, как умно это придумано, хотя про себя подумала, что при подобной системе легче свихнуться, чем разобраться, как кого правильно называть.
Подошло время ужина. Я облачилась в зеленое бархатное платье, надев в тон к нему ожерелье и серьги с изумрудами и бриллиантами, которые достались мне от сэра Генри. Мне почему-то подумалось, что в таком доме, как Солуорп-корт, одеваться следует торжественно и нарядно.
Снизойдя с небес – только так можно было назвать шествие вниз по великолепной лестнице, – я заметила еще одного человека в маленькой компании, сидевшей в зале. Этот человек был на полголовы выше Денмэна. Что касается крохотного Джереми, тот едва достигал груди незнакомца. Я приблизилась к собравшимся, человек обернулся. В меня вонзился взгляд двух черных сверкающих глаз, едва не заставивший меня отпрянуть. Глаза горели на чистом, смуглом лице с высокими и широкими скулами и хорошо очерченным ртом. В дрожащем, неверном свете свечей и отблесках пламени от камина, тогда, при первой встрече, он показался мне наполовину святым – наполовину дьяволом.
– Разрешите представить, мадам, – зазвучал приятный голос Ричарда Денмэна, – преподобный Джон Принс. Госпожа Эдгар Спейхауз.
Призрак поклонился. Сходство этого человека с привидением усиливалось тем, что вся его фигура от шеи до пят была скрыта черной сутаной, очень походившей на одеяние римского священника. У меня сразу возник вопрос, не относится ли и он к служителям римско-католической церкви, однако Джереми ни словом не обмолвился о том, что Денмэн был католиком, а потому я осталась в некотором недоумении.
Без лишних слов мы приступили к ужину. Я сидела за столом по правую руку от Денмэна, Джереми – на дальнем краю. Джон Принс оказался как раз напротив меня. Всю трапезу я провела в светской беседе с Джереми и Денмэном, однако то и дело ловила себя на том, что помимо своей воли внимательно смотрю на этого человека, изучая отчетливые, чистые черты его лица, длинные темно-каштановые волосы, плотно, как шапка, прилегающие к смуглому лбу. Его можно было принять за испанца или итальянца, однако позже я выяснила, что в жилах его течет очень древняя британская кровь, еще сохранившаяся в людях, обитающих на холмах Уэльса. Сам он говорил мало, но, когда его вызывали на разговор, было странно и приятно слышать его глубокий, музыкальный и вместе с тем резкий голос. И всякий раз его высказывания звучали решительно и веско.
Иногда наши взгляды пересекались, и глаза его жгли меня, как расплавленный свинец, заставляя внутренне содрогаться. Его странный облик с непреодолимой силой одинаково привлекал и отталкивал меня.
Я уж было собиралась выйти из-за стола, чтобы позволить джентльменам насладиться в своем мужском кругу портвейном и трубкой с добрым табаком, когда Денмэн поднял бокал со словами:
– Предлагаю тост за наших гостей. Позвольте мне выразить надежду, кстати, весьма своекорыстную, что их пребывание здесь будет долгим и приятным. И еще мне хотелось бы сказать, что я безмерно польщен честью находиться в присутствии столь прекрасной и любезной леди.
Эти слова сопровождались красноречивым взглядом, исполненным неподдельной теплоты. Я с улыбкой поблагодарила его за галантность, не смея в то же время взглянуть на Джереми и опасаясь, что мы оба не удержимся и прыснем со смеху.
В ту ночь я ложилась в постель, испытывая смятение чувств. Хотелось надеяться, что это состояние – всего лишь следствие утомительного путешествия, и все же у меня было предчувствие, что, прибыв в Солуорп-корт, я нашла нечто большее, чем искала.
На следующий день сквайр Денмэн, еще более румяный от утренней свежести, выразил горячее желание показать мне свое имение. Я вежливо согласилась, и мы отправились в путь. Как я уже говорила, дом был обращен фасадом к обширному парку, который тянулся до самой дороги, а вдоль нее расположилась роща, надежно защищавшая поместье от любопытных взоров. За домом начинались леса. С одной стороны был разбит небольшой сад в итальянском стиле и совсем маленький розарий.
Мы брели по лесу, пронизанному лучами осеннего солнца, направляясь к церкви. Мое первоначальное предположение подтвердилось: это была норманнская церковь, однако ее интерьер был сильно перестроен одним из предков Денмэна еще в эпоху двух Карлов.[32]
Церковь относилась к поместью, и хозяином в ней был, конечно же, Джон Принс. С моей стороны не потребовалось особых усилий, чтобы поподробнее узнать о Принсе. Повествование Денмэна было почти лиричным.
Блестяще окончив Оксфорд, Принс принял священнический сан в очень юном возрасте. Казалось, перед ним открывается заманчивая церковная карьера, однако мятежный дух вверг его в неприятности. Он без устали обличал равнодушие, взяточничество и продажность англиканской церкви. Более того, из его уст сыпались суровые упреки в адрес иерархов, которых церковные привилегии сделали слишком высокомерными. Будучи в душе приверженцем католической обрядности, он тем не менее выступал за смягчение гонений на церкви, проявляющие инакомыслие, да к тому же ставил их деятельность в пример англиканской церкви, утверждая, что именно с такой ревностной верой и нужно нести пастве слово Божие. Подобные взгляды снискали ему немало влиятельных врагов. Дело едва не дошло до лишения его сана. Вероятно, именно этим и закончилась бы церковная карьера Принса и даже личное благочестие не спасло бы его от подобной судьбы, если бы не заступничество отца Денмэна, который предложил молодому священнику поселиться в Солуорпе, хотя, прежде чем это стало возможным, потребовалось оказать немалое давление на епископа Вустерского.
Обосновавшись в Солуорпе, он оказался практически вне досягаемости для преследователей, однако, с другой стороны, трагически сузились его возможности для продолжения крестового похода против злоупотреблений церкви. Таким образом, в последние годы ему пришлось сосредоточиться на улучшении жизненных условий местной бедноты, а вернее, обездоленных всего Вустершира.
– Это человек с непомерными запросами, – добродушно смеялся Денмэн. – Он давно пустил бы меня по миру, если бы я ему это позволил. Но самое удивительное заключается в том, что его деятельность приносит реальные результаты. Успех некоторых его начинаний просто поразителен.
– Он, должно быть, пользуется всеобщей любовью, – заметила я.
– Вряд ли, – задумчиво протянул Денмэн. – Как это ни парадоксально, люди его недолюбливают. Здешние жители очень уважают его – это бесспорно, но, думаю, еще больше боятся. И он действительно вселяет сильное чувство страха, пока не узнаешь его поближе. Сам он настолько безупречен, что порой кажется, видит тебя насквозь со всеми твоими прегрешениями. Не думаю, что это очень способствует зарождению такого чувства, как любовь, – вздохнул мой собеседник. – Люди просто не понимают, какой это прекрасный человек. Однако если на свете и есть кто-то, способный спасти человеческую душу, то это именно он. Я могу с полным основанием утверждать это.
После длинной тирады Ричард Денмэн погрузился в молчание.
– Вчера вечером, когда мы подъехали к дому, мне послышался шум воды, – поспешно сказала я, чтобы не дать угаснуть разговору. – Есть тут где-нибудь поблизости ручей?
Его лицо мгновенно просияло.
– О Господи, до чего же я глуп! Не показал вам одну из главных наших достопримечательностей. Вы действительно слышали, как шумит вода на плотине. Здесь протекает речушка Солуорп – отсюда и название имения. На ней стоит водяная мельница, к которой ведет лестница. В той лестнице сорок девять ступенек. Есть романтическое поверье, что если сбежишь по ней рука об руку с человеком, которого по-настоящему любишь, и загадаешь на сорок девятой ступеньке желание, то проживешь всю оставшуюся жизнь без тревог и страданий.
– Очаровательно, – сказала я и безрассудно добавила: – А вы сами когда-нибудь пробовали?
Его лицо омрачилось.
– К сожалению, нет, – ответил он резко. – Языческий предрассудок – только и всего. Во всяком случае так утверждает Джон. А значит, будем относиться к этому лишь как к предрассудку. Впрочем, не желаете ли взглянуть на это место?
Да, я с удовольствием посмотрела бы на мельницу. Она оказалась и в самом деле очень живописной. К ней полукругом вели ступеньки из серых каменных плит, кончаясь внизу на полянке, поросшей зеленым мхом, как раз под большим водяным колесом. По обе стороны от запруды росли плакучие ивы, купавшие свои печальные листья в тихих водах речушки. Под их ветвями нашла приют царственная стая лебедей. В этом мире красоты и покоя Денмэн, казалось, воспрянул духом, вновь обретя то состояние, которое я нарушила по собственной глупости, и мы, беспечно болтая, вернулись в особняк – голодные, как охотники после целого дня, проведенного на ногах.
На следующий день Ричард Денмэн вызвался показать мне свои конюшни. Я начала отказываться, говоря, что и так отнимаю у него слишком много времени. Однако он отмел все мои возражения.
– Вы и представить себе не можете, до чего хорошо, когда рядом есть кто-то, кому можно что-то показать, с кем можно поговорить, – широко улыбнулся Денмэн. – Боюсь, правда, что я иногда утомляю вас своей болтовней. Если это случится вновь, то не стесняйтесь – одерните меня. А пока этого не произошло, уж не обессудьте – буду докучать вам своей компанией.
Улыбнувшись, я была вынуждена принять приглашение на новую прогулку, настолько обезоруживающими были доброта и искренность, звучавшие в каждом его слове.
Конюшни, как многое другое в поместье, отличались значительными размерами. Объяснялось это просто: Ричард Денмэн возглавлял местное охотничье общество, к тому же его хозяйство отчасти специализировалось на разведении породистых лошадей для охоты и для кавалерии. Конюшни, по всей видимости, составляли предмет его гордости, и мое искреннее восхищение при виде этого лошадиного царства вызвало у хозяина ответное чувство ликования.
– Вы ездите верхом? – с энтузиазмом спросил он, когда мы вместе рассматривали гнедую кобылу, которая выглядела особенно великолепно.
Я призналась, что никогда не училась верховой езде.
– В таком случае вы должны позволить мне научить вас, пока вы здесь. – Он просиял от этой мысли, но на его лицо тут же набежала тень беспокойства. – Ах, Боже мой, я же совсем забыл, что ваше здоровье, должно быть, не позволяет вам…
– Бога ради, да что этот Джереми наговорил вам обо мне? – расхохоталась я. – С моим здоровьем абсолютно все в порядке. Просто в последнее время из-за лондонского воздуха у меня возникло небольшое недомогание, связанное с бронхами, и мой доктор предположил, что мне пойдет на пользу переезд в деревню накануне зимы, когда над Лондоном нависают туманы. Только и всего. Мне действительно очень хотелось бы научиться ездить верхом.
Его лицо несколько прояснилось, но налет обеспокоенности остался.
– В таком случае с удовольствием буду давать вам уроки. Но вы только что сказали, что останетесь в деревне всего лишь на зиму. Означает ли это, что весной вас здесь уже не будет?
– Вряд ли я могу задерживаться здесь слишком долго, не так ли? – мягко произнесла я. – Я и так злоупотребила вашим гостеприимством, пользуясь покровительством Джереми и его дружбой с вами.
– О, нет-нет! – бурно запротестовал Денмэн. – Вы не должны так думать. То, что вы здесь, так прекрасно, – он несколько оправился от смущения, – что я намеревался уговорить вас остаться… остаться гораздо дольше, чем до весны. От Джереми я узнал, что в Лондоне вас ничто не связывает, ничто не держит. Если вы предпочтете, чтобы я и Джон не попадались вам постоянно на глаза, то мы можем отдать одно крыло дома полностью в ваше распоряжение. Знаете, если в доме будет хоть какая-то… – он, вероятно, хотел сказать «женщина», но вовремя подыскал слово получше, – направляющая сила, так сказать, женское влияние, то это пойдет на пользу Дику – и мне тоже.
При этих словах его лицо залилось краской румянца. Я же была тронута до глубины души.
– Вы очень добры, но я, очевидно, не смогу навязывать вам свое общество в качестве постоянной гостьи.
Если я задержусь здесь дольше, чем Джереми, то нам необходимо договориться о том, какую долю я буду вносить на содержание дома. В конце концов я привезла с собой целую армию челяди. Ведь из всей этой оравы слуг, которая совершила набег на ваши владения, только один принадлежит Джереми.
Он с ходу отмел мое деловое предложение.
– Об этом не может быть и речи – тут и спорить не о чем. Денмэны никогда не опускались до подобной мелочности. Но скажите, ради Бога, вы задержитесь здесь дольше, чем Джереми, если я попрошу… нет, буду молить вас об этом?
Перед моими глазами почему-то предстало странное, чем-то притягательное лицо Джона Принса.
– Признаюсь, вы жестоко искушаете меня, – ответила я. – Здесь так красиво, так непохоже на Лондон, – тут я не покривила душой, – но, поверьте, я должна настоять на сохранении моей финансовой независимости.
– Скажите одно лишь слово – «да», – взмолился Денмэн. – Для меня невыносимо слышать, что вы намерены вносить какой-то вклад в мои хозяйственные расходы. Но если вам это нужно для душевного спокойствия, то в таком случае поддержите уж лучше какой-нибудь социальный проект Джона.
Я улыбнулась.
– А вы уверены, что в самом деле хотите, чтобы в вашем доме на неопределенное время поселилась толпа незнакомцев?
– Абсолютно уверен! – тут же ответил он со своей всегдашней чистосердечностью. – А вам прямо сейчас нужно пойти в дом и выбрать комнаты, которые вы пожелаете занять.
– В этом нет такой уж большой необходимости, – проговорила я. – Вам нужна компания. Не скрою, она нужна и мне. Если обстоятельства не изменятся, то не вижу особой нужды менять нынешнее положение дел. Оба мы – взрослые люди, и если ситуация перестанет нас устраивать, мы должны будем честно сказать об этом друг другу. Однако, – добавила я после небольшой паузы, – не кажется ли вам, что отцу Принсу может прийтись не по душе мое присутствие в вашем доме?
– Джону? С какой стати? Моя дорогая, да он будет столь же счастлив, как и я! О, у меня просто нет слов, чтобы выразить те радость и облегчение, которые я сейчас чувствую!
И он бодро зашагал обратно к дому.
Таким образом я официально поселилась в Солуорп-корте. Хотя я и умоляла Денмэна не устраивать ради меня никаких специальных нововведений, по его настоянию одна из небольших комнат внизу была переоборудована в гостиную для моих личных нужд. В остальном все осталось, как прежде.
Я решила, что мне будет нужна лишь одна служанка, которая помогала бы Марте присматривать за малышом и делала кое-какие мелочи для меня. Соответственно вся моя остальная свита, за исключением кучера, должна была отправиться обратно в Лондон. Они пустились в путь через неделю после того, как все дела были улажены, вместе с Джереми, который, досконально проследив за развитием событий, мог со спокойной душой уезжать восвояси. Накануне он появился в зале, комкая в руке письмо, которое, несомненно, сам же себе и отправил. По его словам, в послании говорилось о необходимости срочно вернуться в Лондон по делу, не терпящему отлагательств. Старый лицемер приложил немало усилий к тому, чтобы выглядеть сраженным неприятной вестью, однако, несмотря на все старания, его лицо не выражало ничего, кроме самодовольства.
– Поскольку краткий визит вряд ли принесет ощутимую пользу твоим легким, – жизнерадостно произнес он, – я предлагаю тебе чуть-чуть здесь задержаться. Может быть, позже я и сам смогу выбраться сюда, чтобы насладиться этим чудным деревенским воздухом.
Затем Джереми с фальшивой улыбкой поклонился Денмэну.
Улучив момент, когда мы остались с ним наедине, я с улыбкой покачала головой.
– Опять твои козни, старый плут. Наверное, за это я и люблю тебя!
– Не знаю, о чем это ты, – проказливо улыбнулся он мне. – Будь умницей, Элизабет. Оставляю тебя в хороших руках, так что веди себя прилично. Не надеюсь увидеть тебя в Лондоне в предстоящие несколько месяцев.
– Ничего не поделаешь, к Новому году, должно быть, приеду, – произнесла я с напускной беспечностью.
– Что ты несешь? – едва не поперхнулся он.
– Все платья, которые я прихватила с собой, совсем не годятся для деревни, – продолжала я сладким голосом. – К тому же не собираешься ведь ты заставить меня пропустить все театральные премьеры, не так ли?
– Ах, вот оно что! – хмыкнул он с облегчением. – Что ж, буду рад видеть тебя в любое время, если только поводом для этого не будет какая-нибудь неприятность. Как приедешь, останавливайся у меня – не стоит изгонять постояльцев из дома на Уорик-террас. Ведь это будет всего лишь краткий визит.
Пустив в меня парфянскую стрелу,[33] он уехал.
Глядя ему вслед, я думала о том, что судьба порой играет с нами нелепые шутки. Я осталась здесь, как он того и желал, но по причине, которая не могла прийти ему в голову.
Началась моя оседлая жизнь в Солуорпе. Ричард Денмэн полностью соответствовал той характеристике, которую дал ему Джереми: добрый, чуткий и очень компанейский человек. Я ловила себя на том, что стала смеяться гораздо чаще, чем за несколько минувших лет, и встречала каждый новый день с радостью, которой не испытывала со времен Гастингса. Дик Денмэн оказался очаровательным карапузом. Будучи всего на полтора года старше Артура и унаследовав от отца добрую и терпеливую натуру, он с самого начала установил с младшим гостем чисто братские отношения. Марта была счастлива, Артур – тоже, а я… во всяком случае, не жаловалась.
Я не слишком вмешивалась в жизнь, которой жил старый дом. И все же он стал приобретать уютный, более обжитой вид, наполнился теплом, которое не в силах была побороть даже зимняя стужа. Ричард Денмэн просто расцвел. Если он и продолжал выпивать, то, очевидно, делал это в глубокой тайне, поскольку я ни разу не заметила в нем ни единого признака общения с бутылкой. Наш хозяин был дружелюбен и ласков, как щенок, но в то же время обращался со мной с неизменным почтением. Было от чего засомневаться в своих чарах. Впрочем, однажды, помогая мне спешиться после очередного урока верховой езды, он буквально на секунду крепко обхватил меня и заглянул мне прямо в глаза. Этот взгляд – горячий, призывный – был так знаком мне по опыту общения с другими мужчинами. Это длилось лишь какое-то мгновение. Он тут же опустил меня на землю, бормоча какие-то извинения, и быстро отвернулся, с преувеличенным вниманием занявшись лошадьми. «Уголья тлеют, но готовы разгореться», – решила я про себя. Подобный поступок удивил меня, но вовсе не вызвал раздражения. Впрочем, не вызвал и приятного волнения. Насколько мне по душе были чисто человеческие качества Ричарда, настолько же безразличен он был для меня как мужчина.
Вот если бы на его месте оказался Джон Принс, это было бы совсем другое дело. С первой нашей встречи он относился ко мне с явной настороженностью. Сблизиться с ним казалось непосильной задачей, и, вероятно, для подобной отстраненности у него были достаточно веские основания. Я сама удивлялась тому, насколько была им увлечена. Мне было достаточно одного его взгляда, чтобы почувствовать непреодолимое физическое влечение к этому загадочному человеку.
Мужское обаяние – в высшей степени странное явление. Мне встречались мужчины, уродливые, как гномы, однако при их виде сердце любой женщины начинало учащенно биться. Но приходилось видеть и мужчин с внешностью греческих богов, которые ради женской любви могли по капле отдать кровь, но не добились бы и того, чтобы женщина хоть бровью повела. Я не пытаюсь притвориться, что понимаю природу подобных вещей, однако это так.
Не знаю, был ли Джон Принс столь же притягателен для других женщин, но меня он просто околдовал. Это чувство не было похоже на то, что я испытывала к Крэну или Дэвиду, хотя, впрочем, о нас с Дэвидом можно говорить лишь как о чем-то исключительном – о едином, неразрывном существе, одинаково думающем, одинаково любящем. Нет, в случае с Джоном Принсом речь шла о какой-то животной тяге, заставлявшей меня тосковать по его хищному тонкому рту, который впился бы в мои губы, по его длинным узким рукам, которые коснулись бы моей плоти, по его смуглому телу, которое полностью распоряжалось бы моим. Иногда эта страсть настолько затмевала все остальные чувства, что я едва осмеливалась взглянуть на него, опасаясь, как бы он не прочитал мои мысли. Будучи со мной весьма вежливым и предупредительным, он вместе с тем на первых порах чурался меня, абсолютно не обращая внимания на мои дамские достоинства. Однако время не стояло на месте. Я вытащила на свет Божий весь багаж знаний, накопленный мною за долгие годы, и смиренно положила его к стопам своего кумира. Тогда его уважение ко мне заметно возросло. А когда он обнаружил, что кое в чем, например, в области точных наук, мои познания превосходят его, то полностью освободился от предубежденности и в конце концов стал со мной дружелюбен. Я преследовала его с терпением охотничьей собаки, взявшей след пугливой дичи. Однако не могу сказать, что была очень довольна собственными успехами к тому моменту, когда отправилась в Лондон, чтобы встретить там новый, 1807 год.
Я остановилась у Джереми, и первые несколько дней намеренно ничего не говорила о своей жизни в Солуорпе. В конце концов его терпение лопнуло, и однажды вечером, когда мы возвратились из театра, моего доброжелателя прорвало:
– Ну и как вы там поживаете с Ричардом?
– О, великолепно, – томно промурлыкала я. – Знаешь, Джереми, он полностью соответствует твоему описанию: такой хороший, добрый человек…
– Делал какие-нибудь предложения? – неуверенно хмыкнул Джереми.
– Предложения? – округлила я глаза.
– О Господи, Элизабет, – взмолился он, – да перестань же смотреть на меня невинными глазами шестнадцатилетней девочки. Ты отлично понимаешь, что я имею в виду.
– А-а, понимаю, – протянула я многозначительно. – Нет, Ричард во всех отношениях остается истинным джентльменом.
– Удивлена небось? – спросил он грубовато, задрав бровь.
Пришлось признать, что подобное обхождение – это что-то новенькое для меня.
– Твоя беда, Элизабет, в том, что ты всегда зналась только с военными, а у них особый образ жизни. Тебе попросту неизвестно, каков нормальный, порядочный англичанин. А именно таков Ричард – становой хребет нации, соль земли. Без таких людей не было бы самой Англии. Однако он и подобные ему не могут похвастать вычурностью и экстравагантностью. Никаких тебе драм, никаких изысканных одеяний – они всего лишь порядочны и честны, живут, поклоняясь тем же богам, которым молились их предки, боготворят женщин, продолжающих их род. Что, необычно все это, м-м?
Он был абсолютно прав. В Солуорпе не было алых тканей и позолоты, не было темно-зеленого бархата, не было металлического запаха золотых эполет, не было мундиров с сияющими пуговицами, бряцания шпаг и звона шпор. Там не было возбуждения жизни, спрессованной в секунды. Лишь теплый запах домотканого холста да табака наполнял старый дом – милый деревенский запах ничем не нарушаемого спокойствия. Внезапно я ясно представила моего Дэвида в таком же доме и едва не всхлипнула. Джереми умел задеть за живое, когда хотел, но я не подала виду, что его слова достигли цели.
– Меня такая жизнь вполне устраивает, – откликнулась я. – Иначе я была бы вынуждена покинуть это место.
– А с такими, как Ричард, – гнул свое Джереми, не спуская с меня острого взгляда, – беда в том, что они, понимаешь ли, слишком благородны. Просто дьявольски благородны. Ждешь-ждешь, что он тебе скажет, а он возьмет и предложит руку и сердце.
– Что было бы весьма прискорбно, – холодно сказала я, – поскольку означало бы невозможность моего дальнейшего пребывания в Солуорпе.
В глазах Джереми мелькнуло выражение отчаяния.
– Вижу, призрак Прескотта все еще преследует нас.
– Он вовсе не призрак! – взорвалась я, ощутив, как от слов Джереми у меня мурашки побежали по коже.
– Все, больше ни слова. Умолкаю, – сдался он со вздохом. – И все же иногда мне кажется, Элизабет, что ты одна из величайших дур на нашей грешной земле.
Я вернулась в Солуорп к радостному Ричарду и любезному Джону Принсу. Мне показалось, что настало время для нового шага. В разговоре с Принсом я выразила готовность вместе с Мартой заняться оказанием врачебной помощи беднякам, как мы делали это в Суссексе. В мельчайших подробностях мною были расписаны наши познания в области применения лечебных трав, а также успехи, которых нам порой удавалось добиться на ниве избавления крестьян от различных недугов. Поначалу на его лице отразилось сомнение, потом он рассмеялся своим особым отрывистым смехом, в котором почти не было веселья.
– Почему бы и нет? Вполне можете попытать счастья, однако не удивлюсь, если у вас окажется не слишком много пациентов. Знаете ли вы, что говорят о вас двоих деревенские жители?
Я покачала головой.
– Они думают, что вы обе – ведьмы. Так что пару сотен лет назад вас, вероятно, сожгли бы на костре.
– Что ж, в каком бы веке это ни произошло, вы бы наверняка выручили нас. Уверена в этом, – сказала я с улыбкой.
И вновь прозвучал смех, от которого шел озноб по коже.
– Это я-то? Они всего лишь подозревают, что вы ведьмы. Что же касается меня, то тут уж у них никаких сомнений нет. Они уверены, что я – колдун. И что мы все вместе околдовали нашего сквайра.
– Неужели? – поразилась я. – Довольно глупо с их стороны. Ведь должны же они понимать, как много вы делаете для них, как вы добры!
И все же по зрелом размышлении я, кажется, отчасти поняла причины крестьянского суеверия. И по облику, и по манерам Принс и Марта на удивление походили друг на друга. Меня часто забавляло, когда я видела, как тщательно они избегают друг друга. Что же касается меня самой, то действительно со времени моего приезда в Солуорп Ричард сильно изменился, а это могло дать пищу местным пересудам.
– Для этих людей дьявол более реален, чем сам Господь Бог, – хмуро произнес Принс. – Должно быть, как и для всех нас, – добавил он, бросив на меня свой странный сверкающий взгляд.
Однако, несмотря на все предрассудки деревенских жителей, мы с Мартой храбро взялись за дело, начав по собственным рецептам варить снадобья и предлагать помощь нуждающимся. Нам очень повезло: Марте удалось оказать успешную помощь во время трудных родов и спасти фермерскую дочку от, казалось бы, неминуемой гибели. Это было расценено как чудо. Я же с не меньшим блеском спасла от ампутации ногу местному батраку, в которую тот по неосторожности вогнал ржавый гвоздь. Этого успеха я добилась с помощью припарок. Таким образом, мы выиграли битву, и вся деревня потянулась к нам нескончаемым потоком. Как я и ожидала, это произвело на Джона неизгладимое впечатление. Он начал крутиться вокруг нас, предлагая помощь, в то время как мы варили наши зелья.
Одним теплым летним днем мы оказались вдвоем в избушке, которая была отведена нам с Мартой для приготовления лекарств. Было очень жарко, а потому он работал, закатав рукава. Видеть его смуглые жилистые предплечья, изящные кисти рук было для меня искушением, тяжелее которого трудно придумать. В перерыве между манипуляциями я украдкой, будто невзначай положила ладонь ему на локоть. Он отдернул руку как ужаленный. Я не восприняла это как предупреждение, совсем потеряв голову от жары и возбуждения. Чуть позже я, притворно оступившись, на долю секунды прильнула к нему своим горячим телом. Грубо схватив меня за плечи, он отшатнулся.
– Не надо! – произнес Принс необычным хриплым голосом.
– Чего не надо? – столь же резко спросила я, раздосадованная его бестолковостью.
– Не надо пытаться соблазнить меня своим телом, – не снижая тона, пояснил он. – Ничего у вас не получится. Я не слепой и тем более не ослеп за то время, что вы здесь находитесь. Так что, госпожа Спейхауз, объяснимся начистоту: я принадлежу Богу и у меня лишь одна невеста – Его Церковь. Ничто и никто больше для меня не существует. Еще не родилась та женщина, которая собьет меня с избранного пути, как бы красива она ни была и к каким бы уловкам ни прибегала. Если вам нужен мужчина, то идите лучше к бедному Ричарду, который готов целовать землю под вашими ногами. А меня будьте добры оставить в покое.
Побледнев от гнева и унижения, я выпалила:
– Да как вы смеете говорить мне такое! Что это вам взбрело в голову?
Его взгляд был тверд, темные глаза буквально буравили меня.
– Если я неправильно истолковал ваши намерения, госпожа Спейхауз, то покорно прошу простить меня. Однако не думаю, что заблуждаюсь, и хочу предупредить, что подобное между нами никогда больше не должно повториться.
После этого священник гордо удалился.
Впору было разреветься от досады, но я взяла себя в руки и твердо решила, что он дорого заплатит за свои слова. Мой рассудок отказывался верить, что такое могло быть сказано им всерьез, и я дни и ночи напролет обдумывала мстительные планы.
Как раз вскоре после этого бедного Ричарда угораздило впервые предложить мне выйти за него замуж. Более неудачного момента он выбрать не мог, а потому ему пришлось изрядно отведать скопившейся во мне желчи. Я вежливо, но вместе с тем убийственно-холодно отказала ему, добавив, что в сложившихся обстоятельствах мне лучше уехать в Лондон. Он немедленно впал в отчаяние и чуть не на коленях умолял меня остаться.
– Я могу выполнить вашу просьбу, – произнесла я все с той же холодностью, вместе с тем внутренне кипя от недавнего афронта, – но лишь в том случае, если вы обещаете никогда больше не поднимать этой злосчастной темы.
С каким-то меланхоличным достоинством, столь не вязавшимся с его жизнерадостным обликом, он сказал:
– Я с уважением буду относиться к личным причинам, которые, как вы утверждаете, не позволяют вам выйти замуж. Однако я так люблю, так нуждаюсь в вас, что не могу дать вам обещания, которого вы требуете. Смысл моей жизни отныне придает лишь надежда на то, что мои любовь и преданность со временем, возможно, заставят вас пересмотреть свое решение и стать моей женой.
Его слова смягчили меня, и я, должным образом изобразив неохоту и колебания, в конце концов позволила убедить себя остаться в Солуорпе.
Я вновь повела кампанию против Джона Принса, однако противник теперь был настороже и прорвать его оборону стало гораздо труднее. Впрочем, вряд ли можно говорить о том, что жизнь моя превратилась в непрерывное жестокое преследование несчастной жертвы. Воодушевленный моим присутствием в доме, Ричард придумывал все новые и новые развлечения. Гремели охотничьи балы, устраивались пикники и званые ужины, которые более чем удовлетворяли мою потребность в обществе.
Еще одним источником радости служили дети. Оба были в той прекрасной поре, когда младенец превращается в маленького неумолкающего болтуна. Один был белокурым, другой – рыжим, и оба так крепко привязались друг к другу, что я часами могла с удовольствием наблюдать за их играми. Дик, будучи постарше, почти всегда казался мне более бойким и интересным. Но иногда случалось, что Артур, не получив желаемого, надувался и направлялся жаловаться ко мне. В такие минуты его глаза сверкали от обиды, из голубых становясь серыми, и он начинал до такой степени походить на Дэвида, что у меня щемило сердце. Мне приходилось отворачиваться, чтобы взять себя в руки, памятуя о том, что Марта практически никогда не спускает с меня своего мрачного взора.
Итак, мои военные действия против Джона не имели особого успеха. На людях мы поддерживали весьма дружеские, даже сердечные отношения и много времени проводили вместе. Однажды, когда мы стояли на сорок девятой ступеньке лестницы у водяного колеса и кормили лебедей, он спросил меня:
– Верите ли вы в Бога?
Хороший вопрос! Верую ли я? Помню, еще совсем маленькой я верила, что Бог живет под куполом собора св. Павла и богатые ходят в храм по воскресеньям побеседовать с ним, а к нам, беднякам, он никакого отношения не имеет. Мать пыталась рассказывать нам кое-какие библейские истории про Иисуса, но то, что он, как и мы, оказался бедняком и парией, не произвело особого впечатления на мой жалкий умишко. Помнится, я подумала, что это какой-то совсем уж бедный Бог, если даже себе не может помочь как следует.
Один раз, когда мы только начали жить с Крэном, я попыталась выведать его мнение о том, что происходит с нами после смерти.
– Что за мрачные мысли приходят в эту хорошенькую головку! – рассмеялся он в ответ. – Ну, сгораем, как свечка: пшик – и нету нас! Вот почему, солнышко мое весеннее, так важно жить в свое удовольствие, пока живется. А все остальное не имеет значения.
Что же касается сэра Генри, то данный вопрос, впрочем, как и любой другой, потребовал от него глубоких и долгих раздумий. Поразмыслив, он пришел к выводу, что, хотя Вселенная зиждется на некоем основополагающем принципе, нет оснований верить в существование какого-то конкретного Бога или, скажем, Верховного Существа, которое в общем миропорядке придавало бы важность такой мелочи, каковой является человеческая жизнь. Увы, его собственная горькая судьба оказалась подтверждением этой глубокой мысли. Бедняжка!
Тот же самый вопрос, с которым обратился ко мне Джон, я задавала раньше Дэвиду во время наших прогулок по замку, залитому лунным светом. Он без колебаний ответил, что верует. Но на вопрос о том, что же вселяет в него веру, у Дэвида внятного ответа не нашлось.
Он просто сказал, что солдат, видя вокруг себя так много бессмысленных смертей и ужасов, просто вынужден верить в существование какой-то высшей силы, у которой есть причины устраивать подобное, иначе можно сойти с ума.
– Это вопрос веры, – дал он довольно нескладное пояснение. – Я не могу сказать тебе, почему верю в Бога. Просто верю – вот и все.
Был еще и Чартерис. Верил ли он? Если и верил, то наверняка в дьявола. Вообще-то мы с ним никогда не рассуждали на эту тему.
Эдгар, как ни парадоксально, был завзятым атеистом. Скрепя сердце он все же согласился пойти в церковь на крестины Артура, оправдывая это тем, что подобного шага ожидает от семьи общество.
Жизнь всех этих людей, столь разных по своим взглядам, тесно переплелась с моей. Каждый из них по-своему оказал на меня влияние, но верила ли я? Веровала ли в Бога? Джон повторил свой вопрос, пронзив меня своим острым взглядом.
– Да, думаю, что верю, – ответила я честно вопреки собственному желанию, зная, что ему пришелся бы по душе совсем другой ответ. – Не знаю наверняка, но бывали моменты, когда я чувствовала, что есть что-то вне меня, вне всего. Чувствовала, что есть некая Сила – неподвластная другим, недоступная пониманию.
– Так я и знал! – Резкий голос Джона смягчился до неузнаваемости. – Думаю, что вы, несмотря на весь свой незаурядный ум, всегда будете видеть Бога в мужском облике. Знаю, что это облик не Ричарда и не мой тоже. Так что не обманывайтесь сами и не пытайтесь обмануть других.
Эти слова потрясли меня, потому что достигли самых сокровенных глубин моей души.
– Между вами и мной непреодолимая пропасть, – продолжал он, – потому что я знаю, что Бог есть. И Дух Святой для меня гораздо реальнее, чем населяющие землю призраки во плоти. Так давайте же работать вместе – каждый на своей ниве, но пусть между нами больше никогда не будет никаких глупостей. Возможно, наступит трудная минута, когда один из нас почувствует потребность в другом. И тогда это будет потребность духа или ума, но не тела.
Закончив фразу, он внезапно повернулся и покинул меня, что вошло у него в привычку.
И опять, как уже не раз бывало, я осталась одна – в смятении и гневе. Все мои попытки завоевать сердце этого человека были обречены на провал. Эта истина предстала наконец передо мной со всей очевидностью, и я горько пожалела, что вообще приехала в Солуорп. Лишь страх одиночества, подстерегающего меня за стенами этого дома, не позволил мне бежать.
Мысли мои вновь обратились к Ричарду, и я попыталась беспристрастно оценить его. Как мужчина он действительно ничем особенно не привлекал меня, но, с другой стороны, это был по-настоящему хороший, добрый человек. К тому же я целых два года не видела Дэвида. Казалось, мною начало овладевать чувство, почти неведомое мне, когда я была помоложе. Томление иногда бывало столь сильным, что я словно в бреду видела себя в руках мужчины, неустанно целующего, ласкающего, любящего меня. И хотя у меня по-прежнему не было желания выйти замуж за Ричарда, я решила, дождавшись момента, когда он вновь заведет разговор на эту тему, соблазнить его стать моим любовником. Оставалось лишь молить Бога, чтобы Дэвид все понял, когда мы встретимся с ним вновь.
И вот я начала приводить свой план в исполнение: стала больше внимания уделять нарядам, чаще пользоваться духами и косметикой. Почти все время я старалась проводить в обществе Ричарда, тем более что он был внимательным и интересным собеседником и общение с ним было даже приятно.
Я пустила в ход все свое обаяние, и результаты не замедлили сказаться. Как-то раз вечером, в один из последних дней ноября, мы остались с Ричардом наедине. Джон в это время находился где-то в деревенской глуши, осуществляя свой очередной проект помощи бедным. Я сидела перед пылающим камином в большом зале, а Ричард, повернувшись к огню спиной, оживленно рассказывал мне о только что купленном жеребце. Умело изображая внимание, я слушала его и даже время от времени задавала умные вопросы, поскольку многое узнала о лошадях от него, а еще раньше – от Крэна. Однако на деле мысли мои витали где-то далеко, и я не сразу сообразила, что он умолк и внимательно смотрит на меня. Я подняла на него виноватый взгляд, подумав, что он, должно быть, дожидается ответа на вопрос, который я по рассеянности не расслышала. И в этот момент Ричард заговорил вновь, однако совершенно о другом:
– Пожалуйста, не сердитесь на меня, Элизабет, но у меня больше нет сил. Я вновь должен просить вас… Я хочу вас, я люблю вас так сильно… Может быть, вы все-таки сжалитесь и выйдете за меня замуж? – Подойдя ко мне, он встал на колени и в чувственном порыве сжал мои руки. – Ты представить себе не можешь, что такое для меня каждый день видеть тебя, разговаривать с тобой, просто быть рядом. Я так хочу, чтобы ты стала моей женой.
Я нежно коснулась его лица.
– Милый мой Ричард, должна признаться, что ты мне нравишься, я испытываю к тебе нечто большее, чем простую симпатию, но, поверь мне, есть действительно веские причины, по которым я не хочу вновь связывать себя брачными узами. И все же, – я опустила глаза, надеясь, что выгляжу достаточно застенчивой, – я меньше всего хотела бы, чтобы мое присутствие здесь превратилось для тебя в пытку. Если я могу сделать тебя счастливым, то с радостью сделаю это. Но только не проси меня выйти за тебя замуж.
Наклонившись, я умело поцеловала его в губы – нежно и обжигающе. Он же уставился на меня в полном недоумении.
– Но… но, – начал заикаться Ричард, – если это не память о почившем муже, то что же? Что мешает тебе выйти замуж? Не пойму…
– Не это связывает меня, – постаралась пояснить я как можно мягче. – И умоляю тебя, Ричард, не заставляй меня подчиниться твоей воле. Если моя любовь способна принести тебе счастье и спокойствие, то, поверь, это будет счастьем и для меня.
Я поцеловала его еще раз.
Он поднялся с колен и протянул руку, чтобы помочь подняться мне.
– И все же я не понимаю тебя, Элизабет. – В его честных глазах метались тревога и смятение. – Я мечтаю о тебе день и ночь, но не могу же я требовать от тебя такой жертвы. Что-то во всем этом не так.
Его слова звучали почти жалобно.
– Делай так, как сочтешь нужным, дорогой мой, – промурлыкала я, – а я готова сделать все, что ты только пожелаешь, – и затем для верности припугнула: – Если это не соответствует твоим желаниям, то, вероятно, мне лучше уехать. Так будет лучше для нас обоих.
Ричард крепко сжал меня в объятиях.
– Нет, Элизабет! Только не это.
Не в силах удержаться, он принялся жадно целовать меня жесткими губами. Я приоткрыла рот, но он, не поняв, все продолжал тыкаться в меня сжатыми губами, останавливаясь время от времени, чтобы еще сильнее стиснуть меня в своих медвежьих лапах. Я несколько растерялась, подумав про себя, что по части поцелуев гражданским очень далеко до военных.
Но поскольку дальше поцелуев дело не шло, я в конце концов уперлась ему в грудь, и он тут же отпустил меня.
– Наверное, мне пора идти, – пробормотала я, сделав шаг в сторону лестницы.
Ричард в отчаянии протянул ко мне руку.
– Могу ли я верить тому, что ты говорила до этого, Элизабет?
Я одарила его нежным взглядом.
– Ну, конечно, Ричард, я же люблю тебя.
И я пошла наверх, оставив его в зале. Прислонившись к стенке камина, он очарованно смотрел на языки пламени.
Улегшись в постель, я не спала, ожидая дальнейших событий. Прошло уже порядочно времени, когда дверь неслышно отворилась и на пороге появился Ричард. Как и положено добропорядочному семьянину, он был облачен в халат, ночную рубашку и колпак. Я прикрыла рот ладошкой, чтобы не прыснуть со смеху. Подойдя ближе, он склонился надо мной.
– Элизабет, – прозвучал в полумраке его хриплый от возбуждения шепот, и я протянула к нему руки.
Он с дикой страстью обхватил меня, ткнувшись лицом в мои волосы. Потом снял халат и забрался ко мне под одеяло. Жарко обняв меня, он вновь начал покрывать мое лицо поцелуями.
– Мне снять рубашку? – шепнула я ему. От удивления Ричард перестал целоваться.
– О, нет, что ты, дорогая, – всполошился он, – а то еще замерзнешь.
Я не верила своим ушам.
Его поцелуи стали чаще, руки ласкали шелк моей рубашки. Наконец он решился взять ее за край и поднять ровно настолько, чтобы стали видны мои бедра, потом осторожно оседлал меня. Почти сразу же вслед за этим последовала его первая реакция. Он сполз с меня, вновь перейдя к пресным поцелуям, так и не проявив ни малейшей фантазии. Тот же акт – иного слова я подобрать не могу – повторился несколько раз. Едва мне стоило начать двигаться в такт, он тут же прерывал свое занятие, наверное, опасаясь, что причиняет мне боль, и принимался за дело вновь не раньше, чем я становилась безразличной, как бревно. В конце концов он удовлетворился и уснул, обхватив меня руками. А я лежала, ошеломленная происшедшим, вовсе не чувствуя желания погрузиться в сон. Вот я и стала любовницей Ричарда, но не получила ни капли того, чего ожидала. Даже самые скромные мои надежды не оправдались. Я пыталась утешиться, мысленно говоря себе, что в подобных ситуациях так ведут себя все порядочные, цивилизованные люди и со временем все наладится. К тому же это тепло, эти руки, обнявшие меня, – разве все это не дает успокоения? С этой спасительной мыслью я и уснула в ту ночь.
Однако все сложилось далеко не так, как я надеялась. Наблюдая за Ричардом все последующие дни, когда он заливался жаворонком, шутил, выдумывал забавы, был душой компании, я с удивлением спрашивала себя, неужели это он, мой скучный и невнимательный любовник. Мы бывали вместе довольно редко – в соответствии со странным графиком, который он установил, обычно не чаще двух раз в неделю. И каждый раз с удручающей последовательностью повторялось все то же, что произошло в нашу первую ночь. Я рискнула взять инициативу в свои руки и проявляла чудеса изобретательности, побуждая его испробовать разные позы. Но Ричард был свято верен одной, и всякий раз, когда я пыталась экспериментировать, он вежливо, но твердо укладывал меня на спину и возобновлял процесс. Пыталась я вовлечь его и в любовную игру, научить пылким поцелуям, но он неизменно отстранялся от меня, становясь словно каменным. Все мои уловки вызывали у него явную неприязнь, и мне пришлось оставить их. Лучше уж хоть что-то, чем ничего, – такова была ситуация, в которую я попала. Но улучшение оказалось слишком незначительным.
На людях Ричард продолжал держаться со мной точно так же, как и до начала нашей близости. Даже когда мы оставались наедине, но вне святых стен спальни, он редко удостаивал меня особым вниманием. Дружеский поцелуй или чисто братские объятия – вот и все, на что я могла рассчитывать. Тем не менее, сдается мне, Джон Принс с присущей ему проницательностью понял, что отношения между мною и Ричардом приняли иной оттенок, а потому стал с нами более молчаливым и замкнутым. Поначалу я видела в этом признак ревности, однако позже с сожалением вынуждена была прийти к заключению: он был всего лишь убежден, что мы с Ричардом, погрязнув в грехе, губим свою бессмертную душу.
Под Новый год я, как обычно, совершила поездку в Лондон. Не желая отпускать меня одну, Ричард напросился ехать со мной, хотя, полагаю, ненавидел Лондон точно так же, как Джереми – деревню. Поэтому на сей раз у нас с Джереми было очень мало возможностей уединиться для разговора по душам. До нашего отъезда оставалась всего неделя, когда ему все же удалось улучить минутку, чтобы поговорить со мной начистоту. А поговорить ему, судя по всему, хотелось просто до смерти. После традиционного обмена колкостями, длившегося в течение нескольких минут, он наконец перешел к делу.
– Ну как, не довела еще Ричарда до кипения? Не решился он еще на предложение? Может, ты наконец нашла себе подходящего спутника жизни, а? Только не говори «нет», умоляю тебя, Элизабет.
– О да, – ответила я как ни в чем не бывало, – он сделал мне предложение, даже дважды.
– И ты не согласилась?
– Нет, – произнесла я жестко, – конечно, нет, но стала его любовницей, если тебе от этого легче.
Джереми застучал крохотным кулачком по столу.
– Боже праведный! Ты совсем рехнулась, Элизабет! Ты что, до сих пор не поумнела? Отказываешь честному, уважаемому человеку, который предлагает тебе руку и сердце. Да ты несколько лет назад на коленях ползала бы ради того, чтобы получить подобное предложение. А теперь становишься его любовницей в знак благосклонности. Ну почему, скажи ради Бога, почему?
Немного придя в себя от потрясения, он понизил голос на октаву.
– А все из-за Прескотта, это ясно как день. Но ты подумай хорошенько, Элизабет, ради всего святого, раскинь мозгами. Ведь тебе уже двадцать девять. Ты еще чертовски хороша собой, но далеко не молоденькая. Что тебе сулит будущее? Прескотта скорее всего уже нет в живых. Но даже если он и жив, если даже вернется, чего ты можешь ожидать от него? Пройдет неделя, быть может, месяц, а потом – до свидания: он или вернется к своей семье, или потащится еще в какую-нибудь чертову дыру на краю света. Что же это за счастье, черт побери? А ведь ты можешь стать обожаемой и уважаемой женой человека, за которого и трех Прескоттов отдать мало, если хочешь знать мое личное мнение.
Я молчала. Да и что я могла сказать? Как могла объяснить ему, что готова променять неделю жизни с Дэвидом на всю жизнь с Ричардом? Это не объяснить словами, это можно только чувствовать. Лишь в одном я была абсолютно уверена: что люблю только Дэвида и никого больше.
– Бесполезный разговор, Джереми, – только и смогла я произнести унылым тоном. – Я не променяю своей свободы ни на одного мужчину.
– Свобода! – громко хмыкнул Джереми. – Нет, вы только посмотрите на нее. Да у тебя свободы не больше, чем у раба, пока ты таскаешь на пальце это дурацкое обручальное кольцо, которое дал тебе Прескотт.
– Это не обручальное кольцо, а всего лишь колечко с девизом, – сказала я упрямо, хотя слова Джереми больно ранили меня. – Если бы было обручальное, то никакая сила на свете – ни океан, ни континент, ни человек – не разлучила бы нас.
– Ах, как трогательно! – продолжал ерничать Джереми. – Уже три года от него ни слуху ни духу. Стало быть, ты веришь, что ваши чувства взаимны. Он тоже любит и тоскует. Как же!
– А почему бы мне не верить в это? – вспылила я. – Мы не договаривались писать друг другу.
– Ну, если так, то это во всех отношениях замечательный человек, – фыркнул Джереми. – Могу лишь надеяться, что он скоро вернется и ты сама во всем убедишься – для собственного блага. Голос разума бессилен перед женским упрямством, и иных способов разубедить тебя не существует. А, впрочем, зачем стараться? Ведь жизнь – твоя, вот и разрушай ее собственными руками. Я же больше не скажу тебе ни слова.
– Ты прав, – откликнулась я, не повышая голоса, потому что не хотела с ним ссориться. – Жизнь – моя, и не знаю, хорошо это или плохо, но я должна жить собственным умом.
Однако слова Джереми глубоко засели в моей памяти, и не могу сказать, что я возвращалась в Солуорп-корт в безмятежном расположении духа.
17
Война наложила на Лондон тяжелый отпечаток. Повсюду были видны признаки нищеты и лишений. Улицы запестрели разноцветными мундирами всевозможных родов войск. Ползли слухи, что Англия наконец предпримет шаг, предложенный много лет назад Генри Шарденом, и собственными силами откроет второй театр боевых действий в Европе.
Слухи пока не подтверждались, но нервы лондонцев были напряжены от страха и ожидания. Я же, как обычно, видела даже в этом личный интерес, гадая, не вернут ли королевскую артиллерию домой ввиду изменившейся обстановки.
Приехав обратно в Вустершир, я словно попала в другой мир. Все разговоры здесь по-прежнему были об урожае, охоте и налогах. Лишь случайно мелькнувший мундир солдата или офицера Вустерского полка, приехавшего домой на побывку, служил напоминанием, что где-то продолжается война.
Вместе с Ричардом мы исправно посещали балы и иные увеселения в Вустере, от которого до Солуорпа было всего пять миль, или в небольшом курортном местечке Дройтвич. До него было еще ближе – две мили в противоположном направлении. Как и следовало ожидать, мое затянувшееся пребывание в Солуорпе дало пищу всевозможным пересудам, подчас довольно грязным. Подозреваю, что достойную лепту в это дело внесли несколько проживавших по соседству дам, которые сами имели виды на богатую добычу в лице Ричарда. Однако Ричард и, как ни странно, Джон Принс неизменно вставали на мою защиту, давая сплетникам резкий отпор, а потому желающие позлословить по моему поводу предпочитали шушукаться у себя дома, не вынося сплетен за порог. К тому же статус полковничьей вдовы придавал моей персоне немалый вес. В «графском» обществе Вустера у меня нашлось немало поклонников. Сам Ричард чувствовал себя не очень удобно и продолжал уговаривать меня выйти за него замуж, заводя об этом разговор в среднем один раз в месяц.
– Мне не нравится скрывать чувства к тебе, – жаловался он. – Я хочу показать тебя всему миру как свою жену, хочу, чтобы все видели, как сильно я тебя люблю, как горжусь тобой. Мне до чертиков надоело прятаться по темным углам да чуланам.
Но я оставалась непреклонной.
В начале мая я была занята приготовлениями ко дню рождения Артура, которому исполнялось четыре года, и на несколько дней поехала в Лондон за покупками. Поскольку в прошлый раз мы расстались с Джереми довольно холодно, на сей раз я решила навестить его лишь за день до отъезда.
Старик приветствовал меня не слишком дружелюбно, и первые его слова ножом вонзились в мое сердце.
– Ну, как там поживает Прескотт? – хмуро спросил он.
– О чем ты? Откуда мне знать? – застыла я в недоумении.
Он удивленно поднял брови.
– Ведь королевская артиллерия уж месяц как вернулась, а сегодня, кажется, вновь снимается с места. А я-то решил, что именно поэтому ты ко мне и пожаловала. Ну, думаю, опять влипла, вот и пришла просить о помощи.
Едва не лишившись чувств, я опустилась на стул.
– Я никогда не прощу тебе, если ты врешь, Джереми, – пролепетала я заплетающимся языком.
– С чего бы мне врать? – Он сердито зыркнул из-под насупленных бровей. – Тебе нетрудно будет проверить. Так, значит, ты не была с ним и даже не видела его?
Я тупо покачала головой.
– Не веришь мне – пойди узнай сама, – выразительно пожал он плечами.
За всю долгую историю наших отношений это было единственное зло, которое причинил мне Джереми. Я так никогда и не узнала, сделал ли он это невольно или намеренно. Джереми не солгал. То, что артиллерийский полк вернулся и в течение месяца находился на родине, было правдой. Я сама это выяснила. Однако мне тогда не удалось узнать, что Дэвида Прескотта не было среди возвратившихся.
Сэр Артур Уэлсли,[34] начиная новую кампанию в Португалии, отчаянно нуждался в опытных офицерах. Некоторых из них он призвал прямо на поля сражений. Среди тех, кто отправился в Португалию, был и Дэвид. Но я не знала этого. И для меня это стало катастрофой.
Обратный путь в Солуорп я вспоминаю как самое невеселое путешествие в моей жизни. «Я вернусь и найду тебя, где бы ты ни была», – звучали у меня в ушах его слова. Вот он и вернулся, но даже не подумал разыскать меня. Более того, не появился у наших общих друзей, не поинтересовался, как я живу без него, – это я тоже выяснила. Он не написал ни единой строчки, чтобы сообщить мне о своем приезде. Все это могло означать только одно: его любовь ко мне умерла, и то, что было между нами в ветхозаветные времена, стало для него невозвратным прошлым. Я лихорадочно пыталась найти хоть какое-то оправдание его поведению, но ничего не придумала. Ничего, кроме беспощадной правды: он или мертв, или разлюбил меня. Мне казалось, что я сама близка к смерти, но тут в ушах зазвучали едкие слова Джереми. Раненое самолюбие заставило меня расправить плечи. Я попыталась стащить с пальца и выбросить дурацкое колечко с надписью, но оно никак не снималось.
«С какой стати мне так страдать? – злилась я на саму себя. – Не будь я слепой дурой, давно бы уже догадалась, что меня неизбежно ожидает. В самом деле, у меня нет причин для горя, ведь я возвращаюсь в объятия человека, который пусть и немного скучноват, зато без памяти любит меня. И за мою любовь этот мужчина отдаст все. Он готов лелеять меня, как редкостный драгоценный цветок. Да ведь у меня есть все, о чем только может мечтать женщина, и даже больше».
Мне казалось, что я, как и многие другие в подобных обстоятельствах, совершила весьма распространенную глупость: прождала несколько лет человека, который и не думал возвращаться. С моей стороны было верхом безрассудства считать, что Дэвид не такой, как другие мужчины, а любовь наша совершенно не похожа на чувства остальных людей. Но уж отныне кончено – никаких глупостей. Внезапно я ощутила всю правоту слов Джереми и решила, что, возвратившись в Солуорп, непременно выйду замуж за Ричарда, если он того все еще хочет. Проживу остаток жизни в любви и спокойствии, нарожаю кучу рыжеволосых ребятишек. Рядом со мной будет человек, у которого вся жизнь впереди, а не позади. Не то, что у того – волосы седые, все тело в шрамах… Однако тут я вовремя остановилась: не надо думать о нем. Во всяком случае пока.
Парк Солуорпа встретил меня весенним благоуханием. Свежая зелень кустарника, цветущие примулы – казалось, все радуется моему приезду. А Ричард обрадовался так, словно я отсутствовала не три недели, а по меньшей мере три года.
Вечером после моего приезда мы остались наедине. Джон, который неустанно трудился во славу Господа, опять отсутствовал, совершая очередной из своих бесчисленных подвигов на этой ниве.
– Дорогая, – проникновенно произнес Ричард, когда мы вдвоем сидели за ужином, – если бы ты знала, каким пустым и унылым был этот дом без тебя все эти три недели. Я так боялся, как бы чего не случилось. Знаешь, когда тебя нет, я всегда боюсь, что ты не вернешься. Если бы ты только знала…
Он умолк на полуслове, глядя на огонь в камине. Отсветы пламени придавали его красному лицу кирпичный оттенок.
– Ричард, ты все еще хочешь жениться на мне? – спросила я тихо.
Он поднял на меня взгляд, полный изумления.
– Жениться на тебе? Боже праведный, разве тебе не известно, что это самое заветное мое желание? Ничего в жизни я не желал больше, чем жениться на тебе.
– Милый мой, причины, по которой я отказывала тебе, больше не существует, – сказала я, с удивлением почувствовав, как по необъяснимой причине бешено заколотилось мое сердце и сел голос. – И я выйду за тебя замуж. Надеюсь, что буду тебе хорошей женой, как и ты будешь мне хорошим мужем. Уж в тебе я абсолютно уверена.
– О Элизабет! – Его голос осекся от волнения. – Я не могу поверить в это. О дорогая! – Он начал целовать меня с таким жаром, которого я в нем раньше никогда не замечала. – Ты подарила мне величайшее счастье на свете. Когда же мы поженимся? В следующем месяце?
– Нет, – ответила я с улыбкой, которая получилась немного грустной, – наша свадьба состоится восемнадцатого октября.
– Однако, – попробовал он было возразить, – тогда нам придется ждать более пяти месяцев. Почему…
– Пожалуйста, – в моих словах зазвучала мольба, – пожалуйста, Ричард, уступи мне. Клянусь, это последняя поблажка, о которой я тебя прошу, но пусть это будет так.
– Конечно, любимая, пусть будет так, если ты того желаешь, – согласился он с внезапной горячностью. – Ты же знаешь, я сделаю все, абсолютно все, чтобы угодить тебе. Если хочешь, чтобы свадьба состоялась в октябре, пусть будет октябрь, хотя и не могу взять в толк, почему для тебя так важен именно этот месяц.
– Ты просто замечательный, – сказала я и горячо поцеловала его, потому что, говоря это, не кривила душой.
Чуть позже, почувствовав усталость от поездки и эмоциональный стресс, я решила пойти к себе.
– Ричард, я очень устала, – сказала я, встав из-за стола. – Думаю, сегодня ночью тебе лучше не приходить ко мне.
Он тоже поднялся и нежно сжал в ладонях мои руки.
– Я не приду к тебе, Элизабет, – торжественно пообещал он, – до восемнадцатого октября.
– Но, Ричард, – возразила я, подумав, что он меня не понял, – это же глупо. Я говорю лишь о том, что сегодня чувствую себя усталой и хочу отдохнуть до завтра…
– Это не глупость, – прервал он меня на полуслове и запечатлел на моих губах нежный поцелуй. – Меня всегда несколько смущали наши отношения, которые не были законными ни перед людьми, ни перед Богом. Но я так любил и продолжаю любить тебя, что не мог удержаться, тем более что у меня не было надежды назвать тебя когда-нибудь своей женой. Но теперь, когда я знаю, что после октября ты навеки станешь моей, я готов ждать, ждать терпеливо, потому что люблю тебя больше жизни.
Я не стала с ним спорить. Подобные доводы просто не укладывались у меня в голове, а потому я осталась в полной растерянности. Я слишком долго прожила в кругу грешников, чтобы понимать святых.
Уже на следующий день Ричард умчался в Вустер покупать мне по случаю помолвки кольцо с сапфирами и бриллиантами. Я вновь попыталась снять колечко с надписью, но, должно быть, у меня распухли пальцы: несмотря на все мои усилия, оно оставалось на месте словно приклеенное. Ричард всегда принимал его за обручальное, а потому не стал возражать, когда я на тот же палец надела и его подарок. Но оно все равно продолжало беспокоить меня.
Через несколько дней вернулся Джон Принс, и Ричард, не в силах сдержать ликования, конечно же, немедленно поделился с ним радостной вестью. Джон воспринял эту новость весьма спокойно и произнес все полагающиеся в подобной ситуации поздравления. Однако при первом же удобном случае он остановил меня в укромном уголке для разговора наедине, и я приготовилась к неприятной сцене. Моя пылкая страсть к нему остыла, но он до сих пор оказывал на меня странное воздействие, и я никогда не чувствовала себя свободно в его обществе. Он застал меня врасплох, когда я собирала букет весенних цветов. Его мрачная фигура казалась нелепой на фоне буйного цветения природы.
– Почему вы выходите замуж за Ричарда? – спросил он без обиняков, устремив на меня строгий взгляд своих прекрасных глаз.
– Потому что он хороший, добрый человек, а еще потому, что я его очень люблю, – ответила я ему в тон.
– Любите ли? – продолжал он допрос. Я холодно посмотрела на него.
– Мы с вами по-разному понимаем слово «любовь» и вряд ли сумеем договориться. Я намерена стать Ричарду хорошей и любящей женой. Вы сомневаетесь в том, что я способна сделать его счастливым?
– Нет, не сомневаюсь. – Он не сводил глаз с моего лица. – Но не вижу причины, по которой вы собираетесь сделать это.
– По той причине, – парировала я, – что здесь, в Солуорпе, я нашла все то, что искала. Потому, что хочу провести здесь остаток жизни, став для Ричарда именно такой женой, какая ему нужна. Хочу растить его детей, любить его, заботиться о нем.
Я говорила все это совершенно искренне, во всяком случае в тот момент.
– А вы сами будете счастливы, имея все это? – спросил он, все еще глядя на меня.
– Конечно. Почему бы и нет? – ответила я, и тут не покривив душой.
Казалось, он удовлетворен таким ответом.
– В таком случае надеюсь, что Господь даст вам силы выполнить задачу, которую вы возложили на себя, – торжественно произнес Джон Принс, – а я буду молиться за вас и Ричарда.
И ушел, как всегда, внезапно.
Я не без трепета думала, как сообщить о предстоящей свадьбе Марте, зная, что, несмотря на прежние ссоры с Дэвидом, она очень симпатизирует ему. Что же касается ее взаимоотношений с Ричардом, то они не выходили за рамки сухого общения слуги и хозяина. Обоих такой порядок, похоже, вполне устраивал. Я не знала, что Марта думает о Ричарде, и не говорила ей о нашей связи, хотя у меня было острое подозрение, что она давно обо всем догадалась. Я выбрала удобное время для признания, когда она купала Артура. В такие моменты она была не столь грозна, как обычно.
– Марта, – начала я с места в карьер, поскольку сильно нервничала, – я решила выйти замуж. Я выхожу за господина Денмэна.
Спокойно взглянув на меня, она кивнула.
– Мы поженимся в октябре, – продолжала я с каким-то отчаянием. – К этому сроку, думаю, у меня все устроится. – Чувство уязвленного самолюбия не позволило мне рассказать ей о том, что произошло в Лондоне. – Как ты думаешь, я ведь правильно поступаю, не так ли?
Она смотрела на меня, и на ее четко вырезанных красивых губах играла легкая усмешка.
– Вы поступите так, как вас вынудят обстоятельства. Чего же здесь неправильного?
Я рассердилась и на нее, и на себя. В самом деле, чего я от нее ожидала – разгневанных обвинений по поводу моей неверности Дэвиду, прокурорской речи в адрес Ричарда?
– Будешь ли ты счастлива здесь, Марта? Ведь ты останешься тут навсегда. Я хочу сказать, что я никогда не уеду из Солуорпа.
Ее губы вновь искривились в странной улыбке.
– Когда вы счастливы, то и я счастлива, – дала она немудреный ответ.
Вот и все утешение, которое я смогла получить от нее.
Иное дело Джереми. Получив известие о моих намерениях, он написал мне ответ, выдержанный в восторженных тонах. От избытка чувств письмо получилось довольно бессвязным. Он расчувствовался до того, что торжественно обещал приехать к нам на свадьбу. Учитывая, что со времени своего последнего посещения Солуорпа он не высовывал носу за пределы Лондона, я была весьма польщена таким обещанием.
Весна сменилась летом. Я появлялась в обществе уже в качестве суженой Ричарда. Мои сторонники праздновали победу, мои критики были посрамлены. Ричард был полон энергии, им овладела неуемная жажда деятельности. Он подумывал даже баллотироваться в парламент, поскольку ему не нравилось, как правительство ведет войну. Втайне от других он строго соблюдал свой странный обет не вступать со мной в интимные отношения, в то время как на людях стал со мною гораздо более нежен, и я, исполненная благодарности, часто думала, за какие же заслуги судьба послала мне этого чудесного человека.
Реальный мир напомнил о себе в августе. Уэлсли в Португалии начал серьезные боевые действия. Газеты были полны сводками с полей сражений. Восемнадцатого августа он впервые схватился с французами у местечка под названием Ролика и нанес им ощутимое поражение, но довольно дорогой ценой. Потери британских войск составили пятьсот человек. Сводки с театра военных действий не привлекли бы моего внимания, если бы в списке британских потерь не значился подполковник артиллерии его величества Дэвид Прескотт.
Увидев его имя, набранное жирным шрифтом в колонке, где перечислялись раненые, я едва не упала замертво. Мы сидели за завтраком, и Ричард, прочитав газету, протянул ее мне. Сам он продолжал оживленно обсуждать с Джоном военные новости, а я пыталась заставить себя сосредоточиться на буквах, плывших перед глазами. Внезапно мои мысли нарушил голос Ричарда:
– Элизабет, дорогая, что-нибудь случилось?
Я с трудом оторвала глаза от газеты, в которой сообщалось, что раненых должны привезти домой, в Тилбери. Насколько опасна его рана? Может быть, сейчас он умирает?
– Нет-нет, ничего, это из-за жары, – произнесла я слабым голосом. – Наверное, мне лучше пойти и прилечь.
Ричард немедленно засуетился. В то время как он бережно провожал меня наверх, я спиной чувствовала обжигающий взгляд Джона.
Лежа в постели, я строила безумные планы. Сейчас встану, возьму экипаж и помчусь прямиком в Тилбери. Прихвачу с собой Марту: она любую хворь вылечит. К тому же в Лондоне у меня есть несколько знакомых хороших хирургов – соберу их всех вместе и притащу к Дэвиду. Однако в конце концов рассудок взял верх. Нет, не поеду я в Тилбери. Не моя это забота, и нет у меня права беспокоиться о Дэвиде. Это право теперь принадлежит другим. Подполковник Прескотт больше не нуждается в моих услугах.
Уткнувшись лицом в подушку, я горько разрыдалась. К вечеру мне удалось взять себя в руки настолько, что я сумела рассеять все тревога Ричарда. И все же я была потрясена. Призрак, который мне, казалось бы, удалось похоронить, вновь шел за мной по пятам. Теперь следовало напрячь все силы, чтобы вновь упрятать его в подземелье.
Лето померкло и уступило место осени. Приближался октябрь, и весь Солуорп погрузился в радостную суету свадебных приготовлений. Ричард ходил павлином – гордый и счастливый. В последнюю неделю сентября Джон Принс начал торжественное оглашение имен вступающих в брак Элизабет Спейхауз, вдовы, и Ричарда Денмэна, вдовца, с целью выяснить, не знает ли кто препятствий к этому. Ни одного голоса против не раздалось в стенах маленькой серой церквушки. Протестовал лишь один тоненький голосок – в моем сердце.
Поскольку я считалась вдовой, мне надлежало идти под венец не в белом, а в серебряном платье. Свадебное платье было уже сшито. Это пышное одеяние из жесткой ткани висело в дубовом гардеробе моей комнаты. Нашим сыновьям предстояло выступить на свадьбе в роли пажей. Для них тоже был придуман особый наряд: белые шелковые рубашки с круглыми жесткими воротниками в сборку и бриджи из синего шелка. Оба бурно протестовали, когда вокруг них хлопотали нянюшки, заставляя снова и снова примерять неудобные обновки.
Среди всей этой суеты невозмутимой скалой возвышалась Марта, как будто все происходящее ни в коей мере ее не касалось. Однако вместо того, чтобы вызывать во мне раздражение, это почему-то, наоборот, успокаивало и даже давало какую-то надежду, хотя я не сознавалась в этом даже самой себе. Глядя на Марту, я не могла разобраться в своих чувствах.
За неделю до свадьбы я разыскивала ее по какому-то пустяковому делу и застала за странным занятием. Она спокойно и размеренно складывала в сундук мои вещи.
– Что это ты вздумала? – спросила я ее довольно грубо.
– Складываю кое-какие ваши летние платья – только и всего, – на редкость миролюбиво ответила она. – Они вам не понадобятся – уж зима на носу.
– Ясно, что не понадобятся, – выпалила я, – но у нас много других дел.
– У нас в запасе полно времени – на все дела хватит, – спокойно произнесла Марта.
И все же время от времени я замечала в ней необъяснимое беспокойство, хотя внешне она сохраняла полное безразличие к свадебным приготовлениям. Ее снедали какие-то сомнения, я все чаще ловила на себе ее озабоченный взгляд. «Не опасается ли она, что Ричард превратится со временем в чудовище, подобное Чаргерису? – думалось мне. – И вообще, из-за меня ли она беспокоится?»
Так или иначе, ее тревога передалась мне. До свадьбы оставалось три дня, когда однажды я почувствовала, что стены дома будто навалились на меня. Я решила прогуляться, чтобы, любуясь на яркие краски осени, развеять невеселые мысли. Надев теплую накидку из алого шинельного сукна, я побрела по траве, покрытой льдинками замерзшей росы, чтобы насладиться успокаивающим великолепием осенних буков. Бесцельно гуляя по парку, я предавалась размышлениям о том, что ожидает меня в будущем.
Через три дня мне предстоит стать хозяйкой всего этого великолепия. Я свяжу себя неразрывными узами с человеком, который нравится мне, которого я, несомненно, уважаю, почитаю, – но не люблю. Мои мысли поверхностно скользили по приметам последних дней: серебряное платье в гардеробе, глубокий голос Джона, произносящий наши имена, счастливое лицо Ричарда. Я настолько глубоко погрузилась в размышления, что почти не обратила внимания на карету, которая медленно тянулась в гору, направляясь к дому. «Должно быть, кто-нибудь из друзей Ричарда», – рассеянно решила я, все еще не в силах выйти из состояния задумчивости. Экипаж остановился, но я, не придав этому значения, продолжала свой путь по ломкой льдистой траве. Дверца открылась, и из нее кто-то вышел, заметила я краешком глаза, даже не думая останавливаться.
Мужчина сильно хромал, но шагал по-мальчишески широко. Остановившись как вкопанная, я вся задрожала от неожиданно нахлынувшей надежды. Мужская фигура приближалась, обретая в прозрачном утреннем воздухе четкие очертания. Это был Дэвид!
Его лицо заострилось и посерело от боли и усталости, но было озарено радостным светом, который затмевал тусклое осеннее солнце, светившее на нас с небес. Я сделала несколько неуверенных шагов, а потом побежала со всех ног в его раскрытые объятия – единственное место на земле, где я могла быть счастлива. В глазах все расплывалось, и фигура Дэвида казалась мне окруженной сиянием.
– Вот я и вернулся, любовь моя, – прозвучал знакомый голос, – и теперь не покину тебя. Поедешь ли ты со мной?
– Я поеду с тобой, – отозвался голос моего сердца, – хоть на край света, хоть дальше. Разве ты не знаешь этого, любимый мой?
Мы целовались, и осенний сад наполнился сладкими запахами весны. Будто вновь расцвели колокольчики и примулы, а воздух дрожал от веселого перезвона колоколов. Я вновь обрела свою любовь, а с ней и самое себя.
Я не вернулась в Солуорп – ни тогда, ни после. Я ничего не сказала Дэвиду о подвенечном платье в дубовом гардеробе, о том, как трижды звучал под церковными сводами, называя имена вступающих в брак, резкий голос человека, которого я могла бы полюбить. Я просто убежала, потому что ничего другого мне не оставалось. Мы остановились на ночь в небольшой гостинице в Дройтвиче, откуда я направила Марте послание, велев ей как можно скорее прибыть в Лондон с нашим ребенком. В записке я не стала объяснять, что произошло, сердцем чувствуя, что никаких объяснений ей не требуется. Думаю, Марта наперед знала, что со мной случится.
И вновь наш экипаж загрохотал по дороге. Я полулежала, уютно прижавшись к Дэвиду, не думая о том, что произойдет в следующую секунду. От его поцелуев огонь разливался по жилам, воскрешая почти забытое чувство сладостной муки. Наконец я догадалась спросить:
– Так куда же мы направляемся?
Он был занят тем, что гладил мои волосы, вероятно, тоже воскрешая забытое чувство, а потому ответ его прозвучал довольно рассеянно:
– В Лондон. Там можно жениться быстрее всего.
– Жениться? – Я отпрянула от него в изумлении. Он спокойно посмотрел на меня. Его глаза освободились от дымки, став ясно-голубыми.
– Да, год назад от чахотки скончалась моя жена. Кажется, она слегла вскоре после того, как я отправился в Вест-Индию, но мне ничего не сообщили. Я узнал обо всем, лишь когда ей стало по-настоящему плохо. Но было уже слишком поздно – я не мог вернуться.
Дэвид запнулся.
– Прости, – сказала я с деланным сочувствием.
В душе моей бурлила ревность к бедной женщине, даже мертвой, потому что именно ей достались годы его молодости – многие сладостные годы, которые могли бы быть моими.
– Да, – сказал он с тяжелым чувством, – это была хорошая женщина, и она заслуживала лучшего. Я не был ей хорошим мужем. С ней я лишь наполовину был мужчиной. Но все это в прошлом, а теперь, – Дэвид порывисто прижал меня к себе, – я вновь стал самим собой и таким останусь, пока ты рядом.
– Когда же мы поженимся? – спросила я, начиная опасаться возможной мести со стороны Ричарда.
– Я достал специальное разрешение, – веско ответил Дэвид. – Мы сможем заключить брак, как только приедем в Лондон.
– Не кажется ли тебе, что ты поступил слишком самонадеянно, рассчитывая на мое согласие, – произнесла я довольно едко.
– Это вовсе не самонадеянность, – ответил он с какой-то торжественностью, – это лишь надежда на то, что сбудется наконец мечта всей моей жизни. Ведь еще не поздно? Ответь, Элизабет.
– Нет, – ответила я кротко, радуясь в душе своему скверному нраву, заставившему меня назначить бракосочетание с Ричардом на столь позднюю дату, – совсем не поздно, любимый мой.
Через три дня мы прибыли в Лондон и в тот же день сочетались браком в церквушке на улице Мэрилибоун-Хай. Поскольку мне так и не удалось снять колечко с надписью, пришлось на тот же палец надеть еще одно – обручальное. Лишь два офицера – друзья Дэвида – присутствовали на свадьбе в качестве свидетелей. Прочих знакомых я пригласить или не сочла нужным, или не решилась. Джереми уже катил в Вустершир, чтобы успеть на мое бракосочетание с Ричардом, а Марта, насколько можно было судить, вела успешные арьергардные бои, вызволяя моего сына, мое имущество и саму себя из Солуорпа.
К счастью, в доме на Уорик-террас в этот момент не оказалось постояльцев. Именно там нам предстояло провести брачную ночь. Сказать, что она выдалась весьма необычной, означало бы не сказать ничего. Рана на ноге Дэвида оказалась ужасной. Когда я увидела ее, то с трудом поверила, что, разыскивая меня, он смог совершить столь изнурительное путешествие. Осторожно перебинтовав рану, я дала ему болеутоляющее. Потом он уснул, а я, лежа в его объятиях, впервые в жизни почувствовала, что такое подлинный мир и покой.
Итак, мы поженились. Мне было тридцать лет, Дэвиду – сорок восемь. Десять долгих лет прошло с тех пор, как мы впервые увидели и полюбили друг друга. Все это время наша любовь оставалась неизменной, но счастье давалось нам редко, да и то украдкой. Нам пришлось заплатить за него десятикратную цену печали, одиночества и слез. Теперь же наконец у нас появилось настоящее и будущее. Обретя друг друга, мы обрели наш мир, а больше нам ничего и не требовалось. Все остальное – дети, любовники, друзья – растворилось в море нашей взаимной любви. Конечно, это было крайне эгоистично, но в мире нет ничего более эгоистичного, чем обретенная наконец настоящая любовь. А нам, чтобы обрести ее, пришлось принести больше жертв, чем кому бы то ни было.
До этого никто как следует не лечил рану, доставлявшую Дэвиду невыносимые страдания. Мякоть его левого бедра была разорвана крупной картечью, сильно пострадали связки, едва не оказалась перебитой кость. Ногу, превратившуюся в кровавое месиво, в полевом лазарете уже было собрались ампутировать, однако Дэвид вовремя остановил лекарей и правильно сделал, поскольку после такой операции наверняка не выжил бы. Запущенная рана гноилась, но благодаря моему заботливому уходу и вмешательству лучшего лондонского хирурга начала понемногу заживать.
Пока Дэвид выздоравливал, мы беседовали с ним о трех тягостных годах, которые пролегли между нами. Я рассказала ему о Солуорпе и Ричарде, не забыв упомянуть даже о Джоне. Он молча слушал меня, и лишь один раз, когда я наконец поведала о событиях последних шести месяцев, его глаза стали темно-серыми от боли.
– Ты очень сердишься? Наверное, все оказалось гораздо хуже, чем ты думал? – нерешительно пролепетала я.
– Ах, жизнь моя, я вовсе не сержусь! Вернее, зол, но только на себя – за то, что вел себя как последний идиот. Получив известие о смерти жены, я хотел было написать тебе, но как раз в это время поступил приказ о нашей переброске на другой театр военных действий. Вот я и подумал, что не стоит прельщать тебя надеждами, которые вполне могут оказаться несбыточными, ведь никто не мог сказать, останусь ли я сам в живых. Шансы уцелеть, сражаясь на переднем крае, не слишком велики. Но мне следовало догадаться, что произойдет с тобой, когда наша артиллерия вернется из Вест-Индии, а ты не дождешься от меня даже короткой весточки. Слепец, я получил бы по заслугам, если бы, чуть-чуть опоздав, увидел, как ты выходишь из-под венца.
– Прошу тебя, не надо. Даже думать об этом не желаю, – простонала я, придя в ужас от мысли о том, что, задержись он хоть немного, несчастье стало бы неотвратимым.
– Нет, надо, Элизабет, – возразил он твердо. – Дорогая, ты должна немедленно написать Денмэну. Мы причинили ему величайшее горе и должны попытаться смягчить удар. Пусть мы не в силах ничем помочь ему, но я убежден, что правда, хотя бы частичная, ранит гораздо меньше, чем мысль о том, что ты просто злонамеренно сбежала.
– Напиши ему, – продолжал Дэвид, – что именно из-за меня ты отвечала отказом на его предложения и, только поверив в мою смерть – это будет частичной правдой, – почувствовала себя вольной выйти за него замуж. Когда же ты узнала, что я жив, то оказалась связанной обещанием, которое прежде дала мне, а потому не смогла обвенчаться с ним. Конечно, то, что мы поспешно скрылись, не сказав ни слова, – его губы тронула прелестная улыбка, полная сочувствия, – вряд ли поддается оправданию, но ты можешь объяснить это смятением чувств. Вероятно, он кипит желанием прикончить меня, и я не осуждаю его за это. По всей видимости, я бы испытывал точно такое же чувство, если бы события приняли иной оборот. Но так или иначе, он должен получить хоть какое-то объяснение твоего поступка.
– Но, Дэвид, – взмолилась я, с ужасом представив себе, как его преследует жаждущий крови Ричард, – что будет, если он попытается убить тебя?
Однако мой любимый лишь весело улыбнулся.
– Денмэн – истинный джентльмен, а джентльмен никогда не позволит себе выстрелить в шелудивого пса или хромую утку. Поскольку я, кажется, подхожу под оба определения, то мне нечего опасаться мести с его стороны.
Поддавшись просьбам, я написала письмо.
Позже мне стало известно, что пришло оно в самый подходящий момент. Узнав о моем бегстве, Ричард, обычно добрый и мягкий, пришел в неописуемый гнев. Лишь Джон Принс помешал ему тут же пуститься в погоню, которая наверняка окончилась бы для нас весьма плачевно. Джереми, прибывший на свадьбу, с которой сбежала невеста, присоединил свои увещевания к голосу Джона, хотя в глубине души, наверное, искренне желал нам погибели. Он приложил все силы, чтобы отговорить Ричарда от скорой и жестокой расправы над нами. Им вряд ли удалось смягчить Денмэна, но во всяком случае вдвоем они кое-как сумели удержать его от скоропалительных действий, наперебой давая свои объяснения случившемуся, смешивая их с тщательно дозированной долей правды. Мое письмо неожиданно подтвердило их доводы, в которые Джон и Джереми, похоже, и сами скоро перестали бы верить.
Осознав всю безысходность положения, Ричард неохотно отпустил Марту со всем имуществом, а сам остался наедине со своим горем. Что же касается Джона Принса, то он, должно быть, мысленно проклиная мое имя, взялся за привычное дело, вновь принявшись оберегать друга от чрезмерной тоски и пьянства. Я чувствовала себя виноватой, но в то же время не слишком переживала. Дэвиду ничто не грозило – это для меня было главным. Счастье мое было слишком велико, чтобы беспокоиться о ком-то еще.
Я исповедалась перед Дэвидом. Теперь наступил его черед. Как я и думала, весть о смерти Эдгара дошла до него вскоре после того, как он сам прибыл в Вест-Индию. Эта новость принесла ему безмерное облегчение. Проведя полгода в какой-то Богом забытой дыре, запомнившейся лишь жарой и одиночеством, он был переведен в Кингстон, на Ямайку, где его определили на постой к богатому плантатору. Жена плантатора оказалась избалованной дрянью, изнывающей от скуки. На Дэвида она оказала то же воздействие, что на меня Джон Принс. Дэвиду, однако, повезло больше, чем мне, и между ними завязался жаркий южный роман, который продолжался до тех пор, пока не последовал перевод на следующий остров. Прибыв на новое место, он узнал, что ему была тут же найдена замена в лице другого офицера.
Новый остров оказался местечком еще почище того, с которого началась его служба в Вест-Индии. Чтобы успешно сражаться со скукой и тяжелым климатом, все офицеры обзаводились там любовницами из туземного населения. Недолго думая, мой Дэвид примкнул к теплой компании. Ему досталась светлокожая мулаточка, которая помогла приятно скоротать время в ожидании очередного назначения. Вскоре он получил извещение о серьезной болезни жены, и у него пропала охота к амурным похождениям. Дэвид стал хлопотать об отправке домой, но безуспешно. Вслед за известием о кончине жены пришло донесение о том, что Уэлсли объявляет набор офицеров в Португалию. Он вызвался отправиться туда добровольцем и был произведен в чин подполковника. Новые знаки отличия стерли последние следы нашей с Эдгаром позорной сделки.
Дэвид отплыл прямиком в Португалию, где принял участие в кровавом, но победоносном штурме Ролики. Он был ранен, но, по счастью, в самом конце сражения. Его тут же вынесли с поля боя, иначе он неизбежно истек бы кровью. Затем ему пришлось выиграть еще одну битву – против лекарей, которые намеревались отрезать раненую ногу. Первым же кораблем его как безнадежного больного отправили в Англию. Здесь он попал в Гринвичский госпиталь, где провалялся несколько недель, будучи на грани смерти. С больничной койки ему удалось отправить весточку Белль, но, когда она в конце концов добралась туда, кризис уже миновал и дела Дэвида пошли на поправку. Белль поведала ему о том, что я живу в Солуорпе, однако она ничего не знала о моей предстоящей свадьбе, а потому не представляла точно, в каком качестве я нахожусь в доме Денмэна. Я намеренно ничего не говорила ей о запланированном бракосочетании, поскольку не хотела ее присутствия на торжестве, опасаясь, что она своей вульгарностью шокирует гостей. О том же, чтобы рассказать Белль о своих матримониальных планах, но не пригласить ее на свадьбу, не могло быть и речи: смертельная обида последовала бы незамедлительно.
И все же новости, рассказанные ею, привели Дэвида в беспокойство. Поначалу он хотел написать мне письмо, но тревога отчего-то усиливалась, и Дэвид решил поехать в Солуорп, чтобы самому разобраться во всем на месте. С помощью двух друзей он, улизнув из госпиталя, нанял экипаж, который и доставил его ко мне. Остальное я знала. Излив мне душу, Дэвид в изнеможении лег на подушки и вопросительно посмотрел на меня.
– Ты сердишься? – робко поинтересовался он, не спуская с меня обеспокоенных глаз.
– Сержусь? – Я едва не захлебнулась от гнева. – С чего бы это? Нужно быть круглым идиотом, чтобы ожидать от солдата верности и порядочности. Это известно любому взрослому человеку.
Лицо Дэвида сморщилось как от боли.
– Господи, да ты и в самом деле рассердилась не на шутку! Именно этого я и боялся. Дорогая, но ведь все эти женщины ничего не значат для меня, пойми же. Эти увлечения – чисто физического свойства. К тому же все давно уже в прошлом и не имеет к нам ни малейшего отношения. – Он умоляюще протянул ко мне руки. – Ну же, Элизабет.
Но я словно бы не заметила его жеста, и он бессильно уронил руки на одеяло.
– Я мог бы рассказать тебе о своих злоключениях такое, от чего ты рыдала бы в моих объятиях, – грустно произнес Дэвид, – и слез хватило бы не на один десяток лет. Да, я многое мог бы поведать тебе. Но мне казалось, что ты, как и я, предпочтешь услышать только правду, какой бы неприглядной она ни была. Мои чувства к тебе никогда не менялись и не изменятся впредь. Надеюсь, что и твои чувства остались теми же, а если это так, то между нами не может быть лжи. Наша любовь не нуждается в фантазиях.
Он бросил на меня неуверенный взгляд. С моих губ готовы были сорваться жестокие и несправедливые слова, но, слава Богу, я сумела сдержать их. «Боже праведный, – вовремя спохватилась я, – чего же я хочу – наказать его лишь за то, что он был до конца откровенен со мной, за то, что верит в силу нашей любви?»
Склонившись над кроватью, я поцеловала его.
– Я думаю, что ты низкий, подлый, безнравственный плут, – произнесла я сладким голосом, – и я без памяти люблю тебя.
Улыбнувшись, он нежно привлек меня к себе. Прошло несколько минут, а может быть, и час. Наконец, оторвавшись от него, я томно пробормотала:
– Ну и жизнь нас ожидает впереди – подумать страшно. Ты будешь рассказывать мне все о своих интимных делишках, я тебе – о своих. Никакой театр с этим не сравнится!
Его руки железным обручем вновь стиснули меня.
– Что было, то прошло, дорогая моя. Ты же знаешь: пока ты рядом, меня до конца жизни не потянет к другой. Но теперь уж если я замечу, что ты хотя бы глазки кому-то строишь, то обещаю переломать тебе все твои нежные косточки.
Это было произнесено с улыбкой, но я знала, что каждое слово сказано им всерьез, и была счастлива.
В последующие несколько дней мы избегали разговоров на щекотливые темы и, обмениваясь воспоминаниями о трех минувших годах, ограничивались лишь событиями вполне приличного свойства. Я рассказала ему обо всех моих путешествиях. Дэвид рассказывал о Вест-Индии, делая в качестве иллюстраций к повествованию карандашные наброски, что служило ему дополнительным развлечением, поскольку он все еще был прикован к постели. Они и сейчас висят в моем кабинете. Хоть я никогда и не видела тех мест, мне кажется, что рисунки Дэвида прекрасно передают тяжелую красоту тропических широт. Стоит мне только взглянуть на них, и дни его жизни в далеких краях как наяву проходят перед моими глазами.
Я начинала беспокоиться о Марте – уже более двух недель минуло с тех пор, как я уехала из Солуорпа, а от нее не было ни слуху ни духу. Однако мои тревоги оказались напрасными.
Вечером мы с Дэвидом решили отметить круглую дату – две недели нашей супружеской жизни – бутылкой шампанского, которая нашлась в винном погребе. Внезапно хлопнула входная дверь, приглушенно зазвучал чей-то голос, раздались тяжелые шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Я поспешила к Дэвиду, опасаясь, что к нам пожаловал Ричард, горящий жаждой мести. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Марта с посапывающим ребенком на руках. Она подошла к кровати и положила его рядом с отцом.
– Ваш сын, – объявила она сухо, пристально глядя на Дэвида. – Можете полюбоваться на него десять минут, только не вздумайте разбудить. Долго ехали – устал кроха. Вот отдохнет, проснется утром – тогда и рассмотрите его с головы до ног.
Дэвид послушно подобрал руки и уставился на спящего малыша. Мы же с Мартой смотрели друг на друга. Ее губы тронула усмешка.
– Много пришлось вытерпеть? – спросила я дрогнувшим голосом.
– Достаточно, – коротко ответила она, – досталось на орехи и им, и мне.
Какая-то искорка сверкнула и погасла в ее глазах.
– Как тебе удалось выбраться оттуда?
– Я приехала с Джереми Винтером, ваша карета с багажом идет следом. Уж от кого натерпелась, так это от него. Он один мне задал жару больше, чем все они вместе взятые, – выразительно фыркнула Марта.
– Он, должно быть, зол как черт? – боязливо осведомилась я.
– А вы как думали? – ответила она. – Он не из тех, кто согласен оставаться в дураках, особенно в таких делах. – Марта многозначительно повела глазами в сторону Дэвида.
– А Ричард?.. – произнесла я.
– Его вам нечего бояться, – прервала она меня на полуслове. – Преподобный Принс позаботился об этом.
Затем грозный взгляд Марты метнулся на Дэвида, который почти бессознательно потянулся, чтобы погладить Артура. Он отдернул руку, словно обжегшись.
– А я уж боялась, что вы опоздаете, – сказала она ему строго, – совсем заждались вас.
Дэвид ответил плутовской улыбкой.
– Прошу прощения, но вернулся я не целиком. Осталось-то от меня чуть больше половины. – С этими словами он показал на покалеченную ногу, скрытую одеялом.
– Не отрезали? – нахмурилась Марта. Он покачал головой.
– С утра посмотрю, что там у вас. Ничего, может, оно и к лучшему – подольше дома посидите, – вновь фыркнула она.
– Он останется навсегда, – сообщила я ей, тщетно стараясь, чтобы голос мой не выдал ликования. – Мы поженились, Марта.
– Неужто? – Ее черные глаза подобрели. – Ну, тогда у вас впереди много важных дел. Теперь вам надо научиться быть счастливыми.
Она ловко взяла на руки спящего Артура и пошла из комнаты. Остановившись на пороге, Марта обернулась. На ее губах расцвела редкая прекрасная улыбка.
– Теперь и я могу быть счастливой, – добавила она на прощание и неслышными шагами выплыла за дверь.
18
Дэвид бурно протестовал, не желая подпускать Марту к своей ноге. Я поначалу встала на его сторону, но наши совместные усилия потерпели крах. С таким же успехом можно было обращаться к каменной скале. С мрачным блеском в глазах Марта принялась за дело. Легко сломив отчаянное сопротивление Дэвида, она раздела его, как маленького ребенка, и, не обращая внимания на его смущенные возгласы, принялась внимательно осматривать рану. Затем, решительно отвергнув все методы лечения, которые применяли врач и я, Марта наложила на раненую ногу какое-то зелье собственного изготовления. В результате рана начала затягиваться вдвое быстрее.
Чем лучше чувствовал себя Дэвид, тем неугомоннее он себя вел.
– Элизабет, – пожаловался он как-то раз, – уже больше трех недель, как мы муж и жена. Не считаешь ли ты, что нам пора начать медовый месяц?
– Нет, – твердо отвечала я. – Твоя нога еще не зажила до конца. Чего ты хочешь – чтобы рана открылась снова?
– Гори все синим пламенем! – горячился он. – Будто я сам не знаю, что мне нужнее всего. Если я говорю, что хочу заниматься с тобой любовью, значит, черт возьми, это действительно так.
– И все равно нет, – произнесла я тверже, чем мне хотелось на самом деле.
– Ты нарушаешь супружеские обязанности, – настаивал он, стараясь не рассмеяться. – Не пойму, чего ты добиваешься? Чтобы я скончался от неразделенной страсти?
Первой рассмеялась я.
– Ну уж это тебе не грозит. Я чуть ли не целыми днями сижу рядом с тобой, пытаясь ублаготворить тебя то так, то эдак.
– Хватит с меня этих ублаготворений. Мне надоело чувствовать себя полумертвым турецким пашой, – заворчал он. – Да ну тебя вместе с твоими дурацкими фокусами!.. Я хочу быть в постели настоящим мужчиной.
– По мне уж лучше полумертвый турецкий паша, чем мертвый англичанин, – поддела я его.
– Ну, хорошо же, в таком случае держись у меня, – прорычал он с напускной свирепостью и, схватив меня за кисть, словно клещами, потащил в постель.
Он окреп настолько, что мне вряд ли удалось бы отбиться от него, даже если бы я захотела. Уложив меня на обе лопатки, Дэвид навалился сверху.
– Ну что, – продолжал он с прежним пылом, осыпая меня жгучими поцелуями, – будешь слушаться или мне следует применить силу?
Я и не думала сопротивляться, а, наоборот, полностью расслабилась. Свободной рукой я нежно гладила его по спине и на страстные поцелуи отвечала поцелуями легкими, как порхание бабочки.
– Любимый мой, – проворковала я, – неужели ты думаешь, что я сама не хочу этого точно так же, как и ты? Но сейчас ты только навредишь себе. Потерпи хотя бы еще недельку. Пожалуйста, милый, только не сейчас.
Дэвид тоже обмяк и от души рассмеялся.
– Черт побери, Элизабет, опять ты выпустила из меня пар! И как это у тебя только получается? Ладно, будь по-твоему. Я потерплю, но только не неделю, а три дня и ни секунды дольше.
И он поцеловал меня с такой страстью, что я едва не пожалела, что отговорила его от сумасбродного намерения.
Проявив поистине ослиное упрямство, на третий день он сумел настоять на своем. Я отлично знала, что рана на ноге доставляет ему нечеловеческие страдания, однако Дэвид скорее умер бы, чем признал бы это. Сдерживая собственный темперамент, я делала все, чтобы пощадить его ногу, но, несмотря на все мои старания, он едва мог подавить болезненные стоны, невольно вырывавшиеся у него при каждом резком движении. Приливы счастья были не столь часты, как раньше, но это были по-настоящему сладостные моменты, и мы наконец вдвоем забылись в облаке блаженства, вновь достигнув полного единства, разорвать которое способна только смерть.
Теперь, когда выздоровление Дэвида было не за горами, я решила, что пришла пора помириться с Джереми. Не то чтобы мне очень хотелось увидеться с ним, но в моей голове роились планы, для осуществления которых неизбежно потребовалась бы его помощь. Я направила ему послание, составленное примерно в том же духе, что и письмо, написанное мною ранее Ричарду. Он, однако, не соизволил ответить, а это означало, что его отношение ко мне вряд ли стало опять дружелюбным. Я рассказала о своих намерениях Дэвиду, и он немедленно вызвался идти со мной. Об этом, впрочем, не могло быть и речи: присутствие Дэвида подействовало бы на Джереми, как красная тряпка на быка. Поэтому я поспешно отговорила его, уверив, что он еще не совсем здоров, а я прекрасно справлюсь со всем сама. На всякий случай я отправилась к Джереми именно в тот момент, когда Марта проводила свои лечебные процедуры и он беспомощно лежал на кровати, не в силах перечить грозному лекарю.
Опасаясь, что Джереми, характер которого с возрастом менялся отнюдь не в лучшую сторону, откажется принять меня, я сказала слуге, открывшему мне дверь, что войду без доклада. Я застала его в кабинете. Как обычно, он сидел, погрузившись в ворох бумаг. Увидев меня, Джереми бешено сверкнул своими голубыми младенческими глазками.
– Что тебе здесь нужно? – рявкнул он.
– Я пришла просить у тебя прощения, Джереми, – сказала я виноватым голосом, действительно чувствуя за собой вину.
– Не вижу, зачем это тебе нужно, – сказал он с прежней жесткостью. – Ведь ты же получила свое, не так ли? Ты всегда добиваешься своего, не задумываясь над тем, во что это обходится другим. Так что я тебе теперь не нужен. У тебя есть твой драгоценный Прескотт. Вот пусть он и помогает тебе распутывать твои дела, а я ими сыт по горло.
Он явно начинал закипать.
– Ты всегда будешь нужен мне, Джереми, до самой моей смерти, – кротко молвила я. – Ты будешь нужен мне, как и раньше.
Кажется, эти слова несколько остудили его гнев, хотя в ответ он не произнес ни слова.
– Мне по-настоящему горько, что события приняли такой оборот, – продолжила я, – но ты ведь понимаешь, какие чувства я испытываю к Дэвиду. И ты должен понять, что у меня не было иного выбора. Наверное, Ричард очень расстроился?
– Расстроился! – взорвался успокоившийся было Джереми. – Да за кого, черт возьми, ты его принимаешь?! Входишь в жизнь порядочного человека, овладеваешь его душой и телом, собралась уже идти с ним к алтарю, и тут на тебе – спокойненько сбегаешь от него с каким-то полумертвым солдатом! Что же ему делать – радоваться? Говорю тебе: если бы не Джон Принс, – хотя лично я его терпеть не могу, – Ричард бы из вас обоих кишки выпустил и я бы его полностью оправдал. И какого черта я вместе с Принсом уговаривал его не делать этого? Понять не могу. Подумать только, разбила жизнь хорошего человека ради собственной блажи.
– Ты не прав и прекрасно знаешь это, – твердо возразила я. – Вспомни, мне вовсе не хотелось ехать в Солуорп. И все же я пыталась сделать Ричарда счастливым, как могла. Вспомни, что именно я противилась этой свадьбе, в то время как ты и все остальные пытались заставить меня согласиться на нее. Лишь уверовав – заметь, отчасти благодаря тебе – в то, что Дэвид потерян для меня навсегда, я в конце концов дала согласие. И то не ради собственного счастья, потому что без Дэвида счастье для меня невозможно. Я знаю, ты никогда не питал к нему симпатии, но тебе тем не менее отлично известно, что только этого мужчину я по-настоящему любила и буду любить всю жизнь. Ты не мог не понимать, что, если он вернется даже после того, как мы с Ричардом сыграем свадьбу, я все равно уйду к нему, а это, согласись, было бы намного хуже. Да, Ричард расстроен, и я его понимаю, но он по-прежнему свободный человек, и я отказываюсь верить в то, что разбила его жизнь. Не думаю, что для него имеет значение какая-то женщина сама по себе. Ведь он просто хлопотун – кажется, именно так ты когда-то изволил назвать его. И хочет он любить именно свою жену, а не определенную женщину. Уверена, что теперь, когда срок его дурацкой клятвы покойной супруге истекает, он без труда найдет себе новую суженую и будет всю жизнь счастлив с нею не меньше, чем был бы счастлив со мной. Быть может, как раз для него все сложилось отличнейшим образом. Я заставила его пережить нелегкие времена, но теперь он будет более трезво смотреть на вещи и выберет себе жену, гораздо более подходящую, чем я.
Джереми задумчиво уставился на свои маленькие ручки, сложенные на животе.
– Удивительный ты все-таки человек, Элизабет, просто удивительный! – Он поднял голову, и я испытала облегчение, заметив, как заискрились его глаза. – Ты с пеной у рта отрицаешь, что испортила Ричарду жизнь, аргументируя это тем, что, наоборот, оказала ему большую услугу, сбежав от него с другим. И все это сдобрено тонкими намеками на то, что в любом случае главный виновник случившегося – я, поскольку не смог понять тебя. Не знаю, найдется ли на свете хоть один мужчина, способный совладать с тобой. Да, я не люблю Прескотта, но искренне сочувствую ему, поскольку он, надев на шею такой хомут, обречен терпеть тебя до конца своей жизни. Наверное, ты права: Ричард еще не понимает, насколько легко он отделался. Ну и что же теперь? Какие аферы, какие заговоры против Прескотта зреют в твоей лукавой головке?
– Так ты прощаешь меня? – улыбнулась я ему.
– Наверное, придется. Ведь если я не прощу сейчас, ты не оставишь меня в покое. Зачем создавать себе сложности? Ну, что там теперь у нас на повестке дня – покупаем генеральский чин для Прескотта или просто обносим вас двоих высокой каменной стеной, чтобы вы могли надежно укрыться за ней от тревог внешнего мира?
– Перестань кривляться, Джереми. Сейчас мне нужен просто твой совет. Так что лучше помолчи и выслушай меня, а потом скажешь, что ты думаешь о моей идее.
Он поудобнее устроился в кресле, приготовившись слушать, но озорные огоньки по-прежнему мерцали в его зрачках.
Ранение Дэвида практически означало его отставку с действительной военной службы. Насколько мне было известно, теперь его не могли призвать в армию. Такое было возможно разве что в случае национальной катастрофы. Подобная ситуация вполне меня устраивала. С другой стороны, я вполне отдавала себе отчет в том, что, полностью выздоровев, он вряд ли согласится день-деньской сидеть возле моей юбки. Человек по натуре деятельный, он будет искать себе занятие. В Лондоне, с моей точки зрения, делать ему было нечего, но ведь было еще поместье в Спейхаузе. Артур был пока еще очень мал, а Доуэр-хауз и прилегающие земли плюс три фермы, которые в любом случае принадлежали ему, составляли значительное имение, нуждавшееся в хорошем присмотре. Насколько мне удалось выяснить, кузен Эдгара был старым повесой, который почти не вылезал из Лондона, лишь изредка наезжая в Спейхауз, когда у него становилось туго со средствами. Таким образом, я пришла к выводу, что ему не помешает управляющий имением, который заодно отстаивал бы и интересы Артура.
Моя идея заключалась в том, что мы должны поселиться в Доуэр-хаузе, откуда Дэвид управлял бы той частью владений, что принадлежит Артуру, а возможно, и имением Спейхауза, если, конечно, не будет возражений со стороны владельца. Я имела весьма туманное представление о том, как управлять всем этим, полагая, что главное здесь – следить, чтобы люди должным образом выполняли свои обязанности, а уж Дэвид командовать сумеет – тут сомневаться не приходится. Все эти соображения я подробно изложила Джереми.
Выслушав меня, он первым делом задал вопрос:
– А что сам Прескотт думает по этому поводу? Я смущенно потупилась.
– Видишь ли, я еще ничего не говорила ему. Мне было важно сперва узнать твое мнение.
На лице Джереми появилась сардоническая усмешка.
– Не устаю удивляться тебе, Элизабет, – сухо произнес он. – Хорошо, скажи, что именно тебе от меня надо.
– Ну, перво-наперво узнать у юристов, можем ли мы переехать в Спейхауз и как там обстоят дела с местом управляющего. Не знаю, осуществимо ли мое второе предложение, но они могли бы прекратить выплату мне денежного содержания, поскольку я теперь замужем, и предложить ту же сумму Дэвиду в качестве жалованья. При том условии, конечно, что гарантии выплат на образование и медицинское обслуживание Артура остались бы в неприкосновенности.
– После этого, – продолжала я, – ты мог бы сделать Дэвиду соответствующее предложение на том основании, что имение не управляется как следует, а потому есть резон беспокоиться за финансовое благополучие Артура в дальнейшем. Видишь ли, он не имеет ни малейшего представления о том, насколько богато имение, – заторопилась я, покраснев, поскольку Джереми насмешливо заухал, как филин, – поэтому было бы лучше, если бы он узнал об этом от тебя, а не от меня. А то еще заподозрит, что все это я специально для него устроила.
– А разве это не так? – хохотнул он в последний раз, воздев руки к потолку в притворном отчаянии и покачав головой. – Ох, бедняга, бедняга!.. Даже не подозревает, что ведут его, как быка на заклание. Пляшет под твою дудку, сам того не ведая.
– Ну пожалуйста, Джереми, – взмолилась я, – будь же со мною серьезен. Разве тебе не кажется, что это прекрасный, надежный план?
– Что и говорить, – хмыкнул он, даже не пытаясь скрыть охватившего его веселья, – план просто отличный! Вполне можно надеяться на успех твоего предприятия, и я возьмусь за его осуществление со всей прытью, на которую только способен маленький старый живчик вроде меня. А уж если затея сработает, то со вздохом огромного облегчения помашу вам на прощание, когда вы будете уезжать из Лондона. Вот уж никогда не подумал бы, что есть столь блестящая возможность отделаться от тебя, дорогуша. Наконец-то замаячила перспектива спокойной, счастливой старости!
И Джереми, окончательно придя в хорошее настроение, расхохотался от души.
Я была несколько уязвлена его легкомысленным поведением, но еще больше радовалась тому, что наши отношения вновь вошли в нормальную колею. Чмокнув его на прощание, я поспешила к Дэвиду.
Как оказалось, я не зря начала донимать Джереми своими хлопотами заранее. Через несколько дней Дэвид поднялся с кровати и начал ковылять по дому. Какое-то время казалось, что ему для счастья вполне хватает возни с сыном, который не давал отцу ни минуты покоя. Дэвид шелестел книгами в библиотеке, устраивал свои дела, запущенные за те три года, что он провел вдали от дома. Однако я не могла не заметить, что со временем он все чаще становился понурым и задумчивым, и мне не терпелось выяснить, в чем же причина такой перемены. В конце концов все прояснилось само собой.
Как-то раз я сидела в кабинете у камина с вышиванием на коленях, наслаждаясь домашним уютом, когда Дэвид вернулся из поездки на Уайтхолл. Войдя, он тяжело плюхнулся рядом и уставился в огонь, потом, оторвав взгляд от пламени, обнял меня одной рукой за плечи, а другой повернул мое лицо к себе.
– Знаешь, Элизабет, – тихо проговорил он, – меня начинает тяготить мысль о том, что ты сделала далеко не лучший выбор, выйдя за меня замуж. Полковник с половинным жалованьем – это даже хуже, чем капитан на действительной службе. Я обивал пороги на Уайтхолле в надежде подыскать хоть какую-нибудь службу, но там кишмя кишат ветераны – такие же калеки, как и я. В общем, надежды мало, – со вздохом подытожил Дэвид. – Не знаю, как и сказать тебе, но, боюсь, нам придется уехать. Жизнь здесь становится для меня просто невыносимой.
– Что ты, милый, – улыбнулась я, – вот увидишь, в конце концов что-нибудь подвернется. А если и не подвернется, то невелика беда. Ведь у тебя жена с приданым, богатенький сынок. Чего еще можно желать? Тебе незачем беспокоиться.
Едва вымолвив это, я уже знала, что совершила ошибку. Его глаза стали серыми, и он снял руку с моего плеча.
– Мне требуется гораздо больше, – твердо произнес Дэвид, – прежде всего – иметь собственный дом и быть в нем хозяином.
– Но, любимый, – мой голос ослаб, – какие могут быть в этом сомнения? Все, чем я владею, – и твое тоже. Ты мой муж и полностью распоряжаешься домом, деньгами и всем остальным. Вопроса о том, что мое, а что твое, попросту не существует.
– По-твоему, все, что мне остается, – это сидеть у камелька в домашних тапочках и наслаждаться комфортом, – буркнул он сердито, – да к тому же зная, каким путем все это нажито?
Должно быть, в моих глазах отразился ужас, потому что он прикусил язык, осознав, что нанес мне непростительное оскорбление. Но все же накопившееся в нем раздражение искало выхода, и его понесло дальше:
– Я твой муж, Элизабет, а не какой-нибудь приблудный кот, которого ты из жалости пустила в дом из-под дождя! И ты жестоко ошибаешься, если думаешь, что я всю оставшуюся жизнь только и буду, что бездельничать и ходить перед тобой на задних лапках. Если тебе именно этого хотелось, то знай: ничего у тебя не выйдет. Я не из породы приблудных котов!
Выкрикнув это, Дэвид яростно захромал прочь из комнаты.
Я сидела, ослепленная вспышкой его гнева. Его слова казались столь несправедливыми, столь жестокими… Слезы хлынули из моих глаз, но, поняв, что слезами делу не поможешь, я попыталась успокоиться и села за письмо, в котором просила Джереми сообщить мне обнадеживающие новости, если таковые имеются, поскольку для меня сейчас самое время узнать их. Отправив послание, я почувствовала себя немного лучше, но снова взяться за шитье уже не смогла. В ушах моих по-прежнему звучали беспощадные слова Дэвида, и руки бессильно опускались. Я позволила себе поплакать еще немножко, потому что мне было отчаянно жалко саму себя.
Дверь тихонько отворилась, и Дэвид вновь вошел ко мне. Он стоял рядом, виновато переминаясь с ноги на ногу, но я едва удостоила его взглядом: мне не хотелось, чтобы он видел слезы на моих глазах. Он мягко опустил свои ладони мне на плечи.
– Прости, дорогая, – произнес он, – я не хотел тебя так обидеть. Ты сердишься на меня, и я вполне тебя понимаю. Мне не следовало вымещать на тебе злобу за собственные изъяны. Пожалуйста, забудь все, что я тебе наговорил. Я не хотел, честное слово, не хотел. Прости же меня.
Дэвид бережно поднял меня с кресла, и я уже не могла спрятать от него свое лицо.
Увидев слезы на моих щеках, мой муж переменился в лице и крепко прижал меня к груди.
– Любимая, – с раскаянием прошептал он, прильнув своей щекой к моей, – мне стыдно. Какая же я скотина! Просто я люблю так сильно, что хочу дать тебе все на свете, а на деле, выходит, только и могу, что брать, брать, брать… Мне и без того тошно, что я такой неудачник, а тут еще и тебя обидел.
Высохшие было слезы вновь потекли по моим щекам.
– Ты даешь мне самое главное, самое необходимое – самого себя, – прорыдала я.
– Мелковат подарочек, да и тот я не умею преподнести тебе как следует, – пробормотал он, вконец расстроенный моими всхлипываниями.
– Но это все, что мне нужно, – продолжала я заливаться слезами, – и будет нужно всегда.
– Ах, Элизабет, да знаю я, знаю! – простонал он, осушая мои слезы поцелуями. – Прости меня, дорогая, я обещаю, что никогда больше не буду мучить тебя. Пожалуйста, не плачь. У меня просто сердце разрывается.
Я послушно вытерла слезы. Мы поцеловались и помирились. И все же я, стремясь сохранить наше счастье, всей душой надеялась, что Джереми не будет тянуть с ответом на мое письмо.
Вести от него действительно не заставили себя Долго ждать. Через два дня после нашего объяснения Дэвид пришел ко мне, растерянно вертя в руках какую-то записку.
– Винтер хочет, чтобы я приехал к нему сегодня днем, – проговорил он отрывисто. – Что-то насчет имущественных дел Артура. Что ж, весьма кстати. Я в последнее время много думаю о будущем Артура и сам хотел обсудить кое-что с Винтером.
Мысленно обменявшись с Джереми рукопожатием, я изобразила на лице удивление и живой интерес.
– Мне тоже ехать? – безмятежно осведомилась я.
– Нет, – Дэвид на всякий случай еще раз заглянул в записку, – он хочет видеть только меня. Так что тебе ехать не стоит.
Лишь после того, как он ушел, я с безотчетной тревогой вспомнила его слова насчет будущего Артура, но потом успокоила себя мыслью о том, что Дэвид вряд ли имел в виду что-то серьезное, поскольку в противном случае посоветовался бы со мной. Обретя душевное равновесие, я принялась ждать его возвращения, надеясь, что собеседники не будут слишком действовать друг другу на нервы.
Вернувшись домой, Дэвид выглядел, как путешественник, переживший извержение вулкана и несколько землетрясений. Несмотря на хромоту, он в несколько прыжков пересек комнату и вцепился в меня так, словно соревновался с голодным львом, тоже имевшим на меня виды.
– В чем дело, Дэвид?! – взвизгнула я, чуть не задохнувшись в его объятиях. – Случилось что-нибудь ужасное?
– Нет, совсем наоборот, – пробормотал он, пристально разглядывая меня, будто я в любую секунду могла испариться у него на глазах. – Винтер вызвал меня всего лишь затем, чтобы поговорить об одном деле, связанном с Артуром.
– Тогда, может быть, ты перестанешь душить меня и расскажешь обо всем по порядку? Господи, я сейчас в обморок упаду! – прохрипела я.
– Извини, – промямлил он, слегка ослабив хватку, но еще не придя в себя окончательно. – Похоже, управляющий поместьем Спейхауза, который заодно распоряжается имуществом Артура, оказался прожженным мошенником. Адвокаты, естественно, забили тревогу, вот и спрашивают меня, не желаю ли я взять управление всем этим достоянием на себя. Имение, говорят они, страшно запущено, а я все-таки твой муж и к тому же товарищ Спейхауза по оружию. Предлагают мне восемьсот фунтов в год и жилье. Есть там одно местечко, называется Доуэр-хауз. Кстати, принадлежит Артуру.
– И ты не хочешь принять это предложение? – пролепетала я, опасаясь, что все мои великолепные планы сейчас рассыплются, как карточный домик.
– Отчего же? Ясное дело, хочу. – Дэвид выдавил слабую улыбку. – Открываются прекрасные возможности. Позабочусь об интересах Артура, да и тебя неплохо обеспечу. О лучшем я и мечтать не мог.
– Так что же тебя беспокоит, любимый?
– Беспокоит? – Он удивленно посмотрел на меня, с неумелым притворством растянув губы в радостной улыбке. – С чего ты взяла? Все просто замечательно.
– Отчего же ты ведешь себя так странно?
– Неужто? – Дэвид вновь изобразил изумление. – Просто все так неожиданно. Приятный сюрприз, знаешь ли, немного выбил меня из колеи – только и всего… Ах, Элизабет, до чего же я тебя люблю! Я больше никогда не огорчу тебя. И как только он мог… – Запнувшись на полуслове, Дэвид принялся жадно целовать меня, словно наверстывая упущенное.
Оставив попытки добиться от него правды, я отвечала ему жаркими поцелуями. В любом случае мой план сработал, хотя Джереми и не следовало плести небылицы об управляющем-растратчике. Это слишком отдавало дешевой мелодрамой. Но при всем желании я никак не могла взять в толк, что же такое могло между ними произойти, отчего Дэвид вернулся после беседы словно сам не свой.
В ту ночь, занимаясь любовью, он обращался со мной так бережно, словно я была сделана из тончайшего фарфора. В момент блаженной расслабленности у него внезапно вырвалось:
– Этот человек – настоящее чудовище.
– Какой человек? – спросила я сонно.
– Джереми Винтер – какой же еще? Стоит мне подумать, что ты была в его власти все эти годы, и у меня мурашки по коже бегут. – Его в самом деле передернуло. – Просто ужас! Слава Богу, я вовремя вернулся. А то еще неизвестно, что с тобой приключилось бы… Слушай, Элизабет, этот негодяй долгое время притворялся твоим другом, но ты не верь ему. Он враг и, наверное, всегда был врагом. Но уж теперь-то тебе нечего бояться.
И он обнял меня так крепко, словно возле нашей постели стоял Джереми, готовый перерезать мне глотку.
«Что же такое Джереми затеял на сей раз?» – размышляла я в полудреме. В том, что именно он напугал Дэвида до полусмерти, сомневаться не приходилось.
И я решила, что с утра первым делом займусь выяснением подробностей загадочного происшествия. Между тем мой рыцарь, собравшийся защищать меня от воображаемых опасностей, уже спал глубоким сном.
На следующий день сразу же после завтрака я отправилась проведать чудовище, солгав Дэвиду, что еду в лавку Люси Барлоу. Встретив меня, Джереми сдавленно захихикал, став похожим на злобного гнома.
– Доброе утро, Элизабет. Надеюсь, прошлым вечером Прескотт вернулся к тебе все тем же нежным и любящим мужем.
– Отвечай сейчас же, что ты ему вчера наболтал! – вспылила я. – И что это за идиотская комедия с беглым каторжником в роли управляющего? Ты что, решил обратить все в прах?
Но его по-прежнему разбирал смех.
– Это было что-то необыкновенное, – пронзительно кудахтал Джереми. – Сядь-ка, милочка, сейчас все тебе расскажу, только постарайся не запустить в меня тяжелым предметом, пока я не закончу. Ей-Богу, ничего от себя не прибавлю. Если у тебя с чувством юмора по-прежнему все в порядке, то сейчас ты увидишь саму себя с довольно забавной стороны. Ох-ох, сто лет так не веселился.
И он залился дробным смешком.
– Кстати, о комедии. Она не имеет никакого отношения к тому, что меня так насмешило, но давай начнем с нее. Адвокаты Спейхауза подозревают, что ты или ведьма, или ясновидящая. Одним словом, в тот самый день, когда к ним поступил твой запрос об управлении имуществом Артура, они получили слезную жалобу от одного из тамошних фермеров-арендаторов. Проведя расследование, адвокаты выяснили, что управляющий Спейхауза действительно безбожно жульничал с тех пор, как умер Эдгар. А нынешний владелец или слишком ленив, или слишком глуп, чтобы видеть происходящее. Юристам пришлось пустить по следу управляющего гонцов с Боу-стрит,[35] но, я думаю, он уже улизнул из страны, оставив после себя невообразимый разгром. Что касается адвокатов, то для них чудесное пришествие Прескотта было просто манной небесной. Они до сих пор поверить не могут, что нашли выход из положения, – отсюда и ликование, и жалованье повыше того, на которое мы рассчитывали. Могу успокоить тебя, основная часть состояния Артура осталась в целости и сохранности, но не это сейчас главное, и хватит об этом. – Джереми потирал руки, предвкушая удовольствие. – Переходим к сути. Явившись вчера в мою скромную обитель, Прескотт был преисполнен решимости бороться за правое дело. Не успел я и рта раскрыть, чтобы поздороваться, как он с порога заявил, что давно собирался обсудить со мной одну важную вещь. Он, видите ли, решился наконец нанести визит адвокатам Спейхауза, чтобы заявить о правах на сына. Мол, Эдгар Спейхауз уже ушел в мир иной, а потому не пострадает, если секрет истинного отцовства будет раскрыт. Короче говоря, твой Прескотт считает, что время тайн прошло. Он, понимаете ли, отец Артура и чувствует ответственность за судьбу сына.
Я разинула рот в немом ужасе. Но Джереми сделал мне властный жест рукой, чтобы я не вздумала прерывать его, и продолжал:
– Я тут же согласился с ним, сказав, что, на мой взгляд, он поступает совершенно правильно, поскольку мне и самому не очень нравится вся эта неприглядная история. И еще я сказал, что адвокаты Спейхауза будут не менее счастливы, но он все же правильно сделал, что решил сперва посоветоваться со мной, потому что я способен сделать его иск еще более весомым.
«Иск?» – спросил он, явно озадаченный. «Конечно, иск, – ответил я. – Коль скоро Эдгар Спейхауз взял на себя отцовство, вам придется доказать, что именно вы, а не он являетесь отцом ребенка. А это не так уж просто сделать. Исход дела будет зависеть от того, родился ли Артур девятимесячным или семимесячным. При родах присутствовали трое. Спейхауз уже мертв. Марта и под пыткой ни слова не скажет. Значит, остается только одно: свидетельствовать против Элизабет».
«Против Элизабет?» – переспросил он. Честное слово, ни за что не подумал бы, что могу так огорошить человека.
«Ясное дело, – втолковываю я ему. – Если вы предъявите права на сына, то адвокаты в тот же момент возбудят против Элизабет дело по обвинению в крупном мошенничестве с целью завладения имуществом Спейхауза. Но тут опасаться практически нечего. Она наверняка сошлется на какие-нибудь смягчающие вину обстоятельства, так что отделается довольно легко: подумаешь, каких-нибудь три года в Ньюгейтской тюрьме, а там пусть снова гуляет на воле. Впрочем, они могут возбудить дело и против вас, поскольку вы и после рождения ребенка поддерживали с ней связь, а значит, предположительно знали, но скрывали истину. Но стоит вам изобличить на суде своих сообщников, как обвинения против вас будут сняты».
«Чтобы я свидетельствовал против Элизабет? – ужаснулся он. – Да вы, должно быть, с ума сошли!» Нет, не могу дальше. Ей-Богу, в жизни не видал такого испуга! – Джереми задыхался от хохота. – Но я-то и глазом не моргнул. – Он перевел дыхание, вытирая выступившие слезы. – «Конечно, против нее – против кого же еще? – говорю как ни в чем не бывало. – И я окажу вам всю необходимую помощь. Пора эту Элизабет хорошенько проучить, а то попирает закон Божий и людской, думая, что делает услугу своим родным и близким. Она же всю жизнь только этим и занималась, – поддаю я жару, – и будет заниматься, если мы ее не остановим. Конечно, ее заставят возместить все доходы, что она получила с этого имения. Но у нее денег хватит, может быть, даже что-то и останется. Ваше дело правое, и я целиком на вашей стороне».
Что потом началось! В жизни не видел такого бешенства. Не будь я таким маленьким и старым, не сидел бы сейчас перед тобой. Прескотт, наверное, раздавил бы меня на месте, как лягушку. «Как! – кричит. – И у вас хватает наглости предлагать мне упечь в тюрьму мою собственную жену – эту прекраснейшую женщину на свете?!» – «Но ведь это же вы хотите предъявить права отцовства, не так ли? – говорю я спокойно. – А другого способа для этого не существует. Так что примите мой совет: уговорите Элизабет чистосердечно во всем сознаться. Только вы на это способны – она никого больше не слушается, а ради вас скорее всего согласится».
Он посмотрел на меня с лютой ненавистью. «Подумать только, – говорит, – и такому чудовищу она доверяла. Да как вы, зная Элизабет, можете предлагать такое – чтобы она сама себя в суде оговорила?» – «Но ведь мы же с вами заодно, – разыгрываю я удивление. – Ведь мы оба отстаиваем истину, разве не так? Элизабет совершила неправильный поступок, значит, должна быть наказана».
Тут он как заорет на меня: «Никаких неправильных поступков она не совершала – ни сейчас, ни раньше!» – «Нет, совершала, – гну я свою линию, – и вы совершенно правильно собирались сообщить о них адвокатам Спейхауза».
В этот момент до него, наверное, дошло, насколько он близок был к тому, чтобы собственными руками засадить тебя за решетку. Замолк твой Прескотт и стал как шелковый. Удивляюсь, как он еще запомнил суть предложения адвокатов Спейхауза, настолько сильны были у него угрызения совести.
– Ах, Джереми! – воскликнула я, смеясь сквозь слезы. – Как ты мог быть с ним столь жесток? И что бы ты делал, если бы он по простоте душевной поддался на твой розыгрыш?
– Дорогуша, – добродушно отвечал он, промокая платочком глаза, – я не самый большой поклонник Прескотта, но уверен в одном: он скорее испепелит весь мир, чем позволит причинить тебе хоть малейший вред. И потом, ему просто необходимо было преподать хороший урок, чтобы он раз и навсегда усвоил: нельзя иметь одновременно тебя и кристально чистую совесть. Эти две вещи несовместимы. И еще одно немаловажно, – коротко хохотнул мой собеседник, – он был ознакомлен лишь с доводами обвинения. С другой стороны, аргументы зашиты, – а защищать тебя буду, конечно же, я, – столь безупречны, что, стоит тебе их выслушать, ты сама засомневаешься, действительно ли Прескотт отец твоего ребенка.
– Знаешь, Джереми, – мой смех стал беспомощным, – ты и в самом деле чудовище, причем неисправимое. Вряд ли я тебе когда-нибудь прощу этот спектакль.
– Простишь, – ухмыльнулся он, – тем более что твой рыцарь без страха и упрека, повинуясь твоей воле, вскоре умчит тебя в Спейхауз, подальше от ужасного и кровожадного дракона, которого видит во мне.
Нервы мои были на пределе, и я не знала, смеяться мне или плакать.
– Ну же, Элизабет, успокойся, – недовольно проворчал Джереми, – не порть мне настроение. А то я снова начну читать проповеди о добре и зле.
Я всхлипнула и улыбнулась.
– Ах, Джереми, как я смогу обходиться без тебя?
– Сможешь, – его лицо озарилось доброй улыбкой, – и будешь обходиться еще много лет. Я же говорил тебе: мечтаю о тихой и мирной старости.
Вот так и были завершены все формальности. Мой замысел сбывался. Вплоть до самого отъезда в Спейхауз весной 1809 года Дэвид лелеял меня, как нежный цветок. Могу поклясться, что всякий раз, глядя на меня, он видел на моем лице тень решетки Ньюгейта и внутренне содрогался при мысли о том, насколько близок был к совершению непоправимого. В эти моменты я так любила его, что была готова убить этого мерзкого Джереми. Но нет… Джереми я тоже любила.
Трудно писать об истинной любви, но еще труднее – об истинном счастье. Когда счастливы двое, в их блаженство умещается весь мир, однако со стороны счастливая жизнь кажется скучной и однообразной. Что ж, именно такой жизнью жили мы с Дэвидом. Год за годом, месяц за месяцем, день за днем достаю я наугад из сокровищницы своей памяти, и до сих пор светятся они, как бесценные бриллианты, неугасимым светом. Ни время, ни горе не в силах бросить на них тень. Даже всевластная смерть не может потушить этот свет.
Прежде чем мы покинули Лондон, я спросила Дэвида, хочет ли он продать дом на Уорик-террас. Ведь отныне нам предстояло более или менее постоянно жить в Оксфордшире, и содержать еще один дом в городе казалось мне дорогим удовольствием.
– Я не любитель городской жизни, – ответил он, – но знаю, что ты любишь город. Как ты считаешь: стоит нам продать этот дом?
Я отрицательно покачала головой.
– Но почему? – осторожно осведомился Дэвид, очевидно, все еще оставаясь под впечатлением мыслей о Ньюгейте.
У меня было много причин, по которым я хотела сохранить за собой дом на Уорик-террас, но ни одна из них скорее всего не показалась бы ему достаточно веской. А посему я назвала самую простую:
– Потому что это единственное, что безраздельно принадлежит мне. Я этот дом купила, обставила, содержала. Быть может, это звучит безрассудно, но мне не хотелось бы расставаться с ним навсегда.
– Вот и прекрасно, тогда мы не станем продавать его, – мягко согласился он.
– Мы можем сдать его кому-нибудь, – практично заметила я.
– О, безусловно, – опять поддержал меня любящий муж. – И ты сможешь приезжать сюда всякий раз, когда устанешь от меня и деревни. К тому же ты вряд ли выживешь, если пропустишь хотя бы одну театральную премьеру.
Он засмеялся, получив от меня шутливый шлепок.
Мы поселились в Доуэр-хаузе, который, на мой взгляд, был даже более привлекателен, чем особняк в Спейхаузе – безвкусная громадина начала георгианской эпохи. Доуэр-хауз появился в пятнадцатом веке. От этого времени в нем сохранились гигантский зал-прихожая и обширная главная спальня. Однако позже особняк бессистемно достраивался и перестраивался: появлялись новые этажи, какие-то странные углы. Так продолжалось до конца семнадцатого столетия. Как жилище особняк был не очень удобен – с этим невозможно было не согласиться. Однако, с другой стороны, дом, согретый жизнью людей на протяжении нескольких столетий, чем-то неуловимо привлекал к себе, и мы все полюбили его с первого взгляда.
Никогда не подумала бы, что наш переезд окажет столь огромное влияние на Дэвида. Он по рождению был сельским жителем, однако, поскольку я никогда не наблюдала его вне тесных рамок армейской жизни, то и предположить не могла, что тот же человек может столь живо интересоваться вопросами хозяйствования и землепользования, севом и уборкой урожая.
Прибыв в Спейхауз, мы застали дела в плачевном состоянии, увидев запутанные счета, недовольных фермеров-арендаторов и грубиянов-батраков. Все свидетельствовало о запустении, в чем виден был немалый вклад целого поколения сквайров, не желавших или не умевших заниматься хозяйством.
Кузен Спейхауз с радостью предоставил Дэвиду полную свободу действий. Сам же он видел в родовом поместье почти бесполезный осколок древности, который лишь тем был хорош, что позволял ему хотя бы изредка пополнять средства, щедро расходуемые на лондонские соблазны. Что же касается адвокатов, то они были рады, так как управление имением перешло наконец в надежные руки. Я же в качестве одного из опекунов наследия Эдгара видела свою задачу в том, чтобы сдерживать нового управляющего, рвение которого не знало границ.
У Дэвида была просто какая-то мания в отношении всевозможных механизмов, в которых он видел будущее сельского хозяйства. При всем желании я не могла понять, зачем покупать какую-то диковинную машину, когда за те же деньги можно на целый год нанять десять батраков. Однако он редко снисходил до споров со мной по вопросам, в которых считал себя докой.
Однажды, когда Дэвид вознамерился отдать чуть ли не целое состояние за какой-то необыкновенный железный плуг, я, решив проявить твердость, заявила, что не позволю бросать деньги на всякую блажь. В ответ он рявкнул на меня так, будто я была самым захудалым солдатом в его полку:
– Нет, позволишь! Деньги будут потрачены, нравится это тебе или нет.
– С какой это стати? – взбеленилась я.
– Потому что я твой муж, а ты моя жена. И ты должна мне повиноваться!
– Если это твой единственный довод, то вот что могу сказать тебе я: в Рэе мне было намного лучше, чем здесь, – выпалила я в ответ.
Дэвид мгновенно переменился в лице.
– Ты и в самом деле так думаешь, Элизабет?
Я внезапно увидела наше прошлое – колокольню церкви святой Марии, его, опустившего голову на руки, когда я сама прогнала наше счастье прочь. И я – точно так же, как он тогда, – закрыла лицо руками, чтобы отогнать это видение. Мои плечи почувствовали прикосновение его рук.
– Я бы не стал просить тебя, любимая, – произнес он тихо, – если бы не был уверен, что это по-настоящему нужное дело. Ты же знаешь.
Я, как всегда, уступила, но не потому, что он был прав.
Его замыслы не всегда бывали удачными. Провал некоторых из них обернулся немалыми потерями. Но в целом его успехи были столь впечатляющими, а мышление столь точным, что ему удалось заложить основу состояния, благодаря которому Артур, не имеющий тяги к подобным делам, стал одним из богатейших людей Оксфордшира, а может быть, и всей Англии.
Именно Дэвид по-настоящему открыл мне глаза на красоту окружающего мира. До этого я немало времени провела в Маунт-Меноне и Солуорпе, но ни сэр Генри, ни Ричард Денмэн не чувствовали всей прелести деревенской жизни столь глубоко, как Дэвид. Он ввел меня в мир тихих радостей английской деревни. Благодаря ему я увидела не только внешнюю оболочку прекрасного: цветущие деревья по весне, вспугнутого крольчонка на лугу, малиновку на ветке боярышника. Он показал мне тайный, глубинный ход природы – свидетельство вечно обновляющейся жизни. Он знал все: где появляются первые бутоны, где спрятано птичье гнездышко со свежей кладкой яиц, где белка хранит свои запасы, куда залезает на зиму барсук. Все это было похоже на путешествие в волшебный, недоступный мир, тропинку куда знал только Дэвид.
Мы так любили друг друга с самого начала, что я никогда не поверила бы, если бы кто-то сказал мне, что когда-нибудь я полюблю его еще больше. Однако это было именно так. Чем больше мы были вместе, тем сильнее становилась моя любовь. Сама природа, сама жизнь помогали мне в этом.
Через год после свадьбы, осенью 1809 года, у нас родилась дочь. Мы назвали ее Каролиной – просто потому, что это красивое имя нравилось нам обоим. Роды, которые опять принимала Марта, никого больше не подпустившая ко мне, прошли легко и быстро. Дэвид не успел даже поволноваться как следует. Приготовившись к долгому ожиданию, он сел разбираться с кипой просроченных счетов, но не успел закончить работу, как Марта вынесла ему нашего второго ребенка.
С самого рождения дочь до смешного походила на меня. Однако, слава Богу, это сходство оказалось чисто внешним. Своим мягким нравом Каролина пошла в отца, что и позволило ей стать со временем гораздо более привлекательной личностью, чем ее мать. Дэвид сразу же превратился в ее верного раба, и мне приходилось чуть ли не отвоевывать его внимание у собственного ребенка. При всяком удобном случае он немилосердно баловал ее, и, если бы не твердая рука Марты, крупные скандалы в нашем семействе стали бы неизбежны. В вопросах воспитания Марта пользовалась непререкаемым авторитетом, и, когда дело касалось детей, мы покорно склонялись перед ее железной волей. Наверное, поэтому маленькая Каролина благополучно выросла, практически не пострадав от чрезмерных поблажек отца и строгостей матери.
И все же именно Каролина послужила косвенной причиной одной неприятности, которая несколько омрачила нашу жизнь. В отличие от Артура я смогла кормить ее грудью, а потому внезапно для себя впервые в жизни почувствовала, что не расположена удовлетворять амурные притязания Дэвида. Он довольно миролюбиво воспринимал мои повторяющиеся отказы. Если бы я знала, что это в конце концов обернется против меня самой!
В то время у нас была горничная – существо с копной курчавых волос, ярким деревенским румянцем и парой плутовских глаз, которые не сулили ничего хорошего мужской половине сельского населения Оксфордшира. Уж я-то в этом разбиралась. Несколько раз я замечала, как она поглядывает на Дэвида, но не придала этому значения, поскольку наша горничная строила глазки любому встречному мужчине в возрасте до семидесяти лет. Но однажды, вернувшись из сада с корзиной только что срезанных цветов, я отчего-то заглянула в дальнюю комнатушку, где застала их слившимися в страстном поцелуе. Они были столь поглощены этим занятием, что и ухом не повели, пока я не швырнула свою корзину на пол. Побелев как полотно, Дэвид отдернул от нее руки, будто обжегся крапивой. Она была потрясена не меньше, но не отстранилась от него, а только захихикала.
– Пошла вон! – прошипела я с таким зловещим спокойствием, что ее словно ветром сдуло.
Мы с Дэвидом смотрели друг на друга, как кошка с собакой. Он осторожно откашлялся.
– Что ты собираешься делать, Элизабет? Не стоит отыгрываться на девчонке. Я виноват не меньше.
– Уже догадалась, – произнесла я ледяным тоном. – Но ты, надеюсь, не будешь настаивать на том, чтобы после всего случившегося я оставила ее в доме?
– Наверное, нет, – жалко промямлил он, – но…
– В таком случае пусть укладывает вещи, – жестко заключила я. – Не бойся, я подыщу ей работу, не менее увлекательную, чем здесь.
Перепуганный насмерть, Дэвид молчал. Лишь когда я уселась за стол, чтобы написать сопроводительную записку для дрянной девчонки, он, набравшись смелости, спросил:
– А как же я?
Я взглянула на него исподлобья.
– Тебя, пожалуй, так просто не спровадишь. Так что собирай-ка вещички и перебирайся в другую спальню. Поживешь пока один, а там посмотрим.
Он подавленно согласился. Недельку я подержала его в черном теле. Потом позволила ему пасть передо мной на колени и в конце концов милостиво даровала прощение. Это было на редкость приятное примирение.
Что же касается горничной, то я отправила ее к кузену Спейхаузу с посланием, в котором сообщала, что, на мой взгляд, сия девица станет ценным пополнением в его хозяйстве. Он немедленно уловил мой намек и был столь потрясен ее достоинствами, что прихватил с собою в Лондон. Но там она почему-то не прижилась и сбежала с каким-то солдатом. Возможно, наша горничная до сих пор занимается своим излюбленным ремеслом – на сей раз где-нибудь под сводами Вестминстерского моста, беря по шесть пенсов за один раз.
Если я и преподала Дэвиду урок, то для себя извлекла еще больший. Я поняла, что даже такое сильное чувство, как его любовь, нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. В конце концов все это даже позабавило меня. Раньше я была склонна боготворить Дэвида, а тут оказалось, что он далек от совершенства – как и любой другой смертный.
Однако мелкие неприятности не в силах были нарушить плавный ход нашей жизни. Мы продолжали безумно, страстно любить друг друга. Мы жили в замкнутом мире, где было место только для нас двоих и ни для кого больше. Наша любовь была крайне эгоистичной, но она и не могла быть иной. Просыпаясь утром, я почти никогда не находила его подле себя, но всякий раз сердце мое вздрагивало от безотчетной радости. Если мы расставались хотя бы на несколько минут, то, увидев друг друга вновь, не могли удержаться от счастливой улыбки, и сердца наши радостно бились.
Мирное течение дней наполняло душу таким безмятежным покоем, что иногда проявление глубокого чувства бывало для нас подлинным потрясением. Я хорошо запомнила одну из наших прогулок. Как-то раз мы отправились посмотреть на зеленых дятлов, гнездо которых Дэвид приметил в молодой рощице неподалеку от дома. Внезапно, словно из-под земли, перед нами выросли двое. Это были цыгане. Угрюмый вид двух отвратительных громил не предвещал ничего хорошего.
– Не найдется ли у вашей чести лишнего серебришка для двух голодающих? – заныл один из них особым тоном попрошайки.
– Я не прихватил с собой денег, – ответил Дэвид, настороженно глядя на подозрительную парочку. – Но если вам нужна работа, то ее найдется немало на лесопилке, и мы можем встретиться там попозже.
Их глаза загорелись дикой злобой. От страха я едва держалась на ногах: на поясе у цыган болтались ножи, а у Дэвида не было ничего, кроме тросточки из терновника, с которой он не расставался из-за хромоты.
– Тогда, может, леди пожертвует нам свои побрякушки, чтобы мы не померли с голоду в пути? – зловеще ухмыльнулся один из них, побольше, впившись глазами в золотую цепочку миниатюрного портрета Дэвида, который висел у меня на шее. Он сделал шаг, намереваясь протянуть ко мне руку.
Дэвид вышел вперед, загородив меня собой.
– Если ты посмеешь хоть пальцем ее тронуть, я убью вас обоих, – сказал он спокойно, но с такой холодной решимостью, что у меня застыла в жилах кровь. Цыгане в замешательстве замерли на месте. Они стояли еще пару минут, переговариваясь на своем непонятном наречии и поглаживая рукоятки ножей. Дэвид оставался спокойным и собранным, как зверь перед прыжком, готовый мертвой хваткой вцепиться в горло врагу. Наконец у цыган не выдержали нервы. Ругаясь вполголоса, они напролом, сквозь кусты, ринулись прочь. Еще не веря, что все обошлось, я в изнеможении прильнула к Дэвиду. Он успокаивающе обнял меня.
– Неужели ты угрожал им всерьез? – спросила я в ужасе.
Его глаза перестали быть серыми, вновь обретя обычный нежно-голубой цвет.
– Конечно, – ответил он без тени улыбки, – они погибли бы, едва прикоснувшись к тебе.
Мы почти не разлучались, потому что все, что нам нужно было для счастья, – это быть вместе. Сами мы очень редко выезжали куда-нибудь за пределы Спейхауза, но к нам постоянно наведывались гости. Иногда, получив кратковременный отпуск, к нам приезжал сын Дэвида Ричард. Он служил в том же полку, где некогда отец, и оказался в самом пекле войны в Испании.[36] Дэвид им очень гордился, и доставляло радость смотреть на них, когда они были вместе. Это был приятный парень, хотя внешностью не шел с отцом ни в какое сравнение. Он прекрасно ладил со своим сводным братом, об истинной степени своего родства с которым, конечно же, не догадывался. У Артура появилась свойственная всем мальчишкам склонность боготворить его как героя, и он постоянно ныл, надоедая нам просьбами разрешить ему «пойти к Ричарду в солдаты», как только достаточно подрастет. Это нравилось отцу, но я про себя решила, что ему никогда не быть солдатом: у меня и без него их хватало.
Дважды Дэвид наездами бывал в Суссексе, чтобы проведать внуков. Его дочь вышла там замуж за священника. Но в отношениях между ними не было особой любви. Отец и дочь практически не интересовались жизнью друг друга. Мне всегда бывало забавно видеть, как по возвращении из этих поездок он начинал усиленно хлопотать вокруг Каролины, как если бы стремился возместить недостаток привязанности к другой, старшей дочери.
Что же до меня, то каждое его возвращение было столь же сладостным, как и наша первая Встреча в Рэе. Восторг и экстаз той ночи нам суждено было пережить еще не раз.
Мне казалось, что мы наконец обрели рай и будем пребывать в нем вечно. Но, как обычно, я заблуждалась.
19
Семь лет пролетели как череда счастливых снов. А за пределами нашего заколдованного королевства продолжала свой длинный и утомительный путь война: Талавера, Торрес-Ведрас, Альбуэра, Сиудад-Родриго, Витторио, Сан-Себастьян – победы, пропитанные британской кровью. Но французы наконец начали слабеть, и Англия нашла своего генерала.[37]
Отчаявшись пересечь Пролив, непоколебимо удерживаемый английским флотом, Наполеон обратил свои взоры на другого великого врага, оставшегося непокоренным, – Россию. Он повел свою армию на восток, в заснеженные просторы, и оттуда она уже не вернулась. Его звезда клонилась к закату, империя рушилась, и опустошенные страны Европы сбивались под крыло своего могучего союзника – Англии.
Осенью 1813 года под Лейпцигом произошла битва народов, и хотя сто десять тысяч солдат полегло на поле брани, союзники одержали победу, а в результате броска Веллингтона из Испании Наполеон оказался в клещах, спастись из которых ему было не суждено. Весной 1814 года союзники уже были в Париже, Наполеон – в ссылке, а во Франции снова появился король. Война, столько лет калечившая мою жизнь, наконец закончилась. Однако тот рай, в котором жили мы с Дэвидом, все эти события почти не затрагивали. Для нас они означали разве что радостные сообщения в газетах, которые мы обсуждали за обеденным столом, да длинные письма от Ричарда, заставлявшие нас просиживать над картами в кабинете Дэвида, пытаясь догадаться, куда дальше двинется Веллингтон. Ролика, с которой началось долгое и победоносное шествие Веллингтона, вернула мне Дэвида, – это было все, что я знала и что меня заботило.
И в то же время как были мы глупы, считая, что этот рай – навеки! Неумолимые богини судьбы вновь принялись вершить свое дело, и в руках одной из них уже блеснули ножницы, готовясь перерезать нить, связывающую наши жизни.
Стояла холодная весна – весна 1815 года, а от новостей, которые поступали из Франции, знобило еще больше, поскольку Наполеон вернулся, а король бежал. Казалось, что у нас была только передышка, что война на самом деле не кончилась и не кончится никогда.
Я ощущала беспокойство, особенно из-за того, как Дэвид переживал за Ричарда, но наш маленький мирок был слишком далек от всего происходящего. Наполеону придет конец – в этом я не сомневалась, постепенно забудется страшная цена, которую придется заплатить за победу, и жизнь войдет в нормальное русло.
Жестокая правда обрушилась на меня в начале мая. Я сидела в зале возле камина, грея ноги у огня, поскольку было еще прохладно. Неслышно вошел Дэвид и сел рядом. В последнее время он был даже чересчур тихим, и я думала, как бы успокоить его, чтобы он не переживал за Ричарда так сильно. Вынув из кармана лист бумаги, он вложил его в мою ладонь.
– Прочти это, – сказал он, и в голосе его прозвучала какая-то странная нота. Развернув бумагу, я обнаружила, что это был официальный вызов подполковнику Прескотту прибыть в полк для выполнения задания за границей. Здесь же была и записка от друга Дэвида, в которой тот просил его прибыть как можно скорее, поскольку в полку катастрофически не хватало офицеров-артиллеристов. Кончалась записка почти торжественно: «На сей раз грядет большая проверка наших сил. Мы должны добить тирана раз и навсегда, иначе нам так и не суждено будет изведать мира».
Я читала и перечитывала это снова и снова, но рассудок мой отказывался верить глазам. Листок был уже весь измят и скомкан – так сильно дрожали мои руки.
– Ты, конечно же, не поедешь? – взглянула я на Дэвида.
– Я должен, – тихо ответил он, внимательно глядя на меня.
– Но это же невозможно! Ты болен, тебе много лет, ты в отставке! Ты им не нужен, ты им просто не можешь быть нужен! Тебя с ними больше ничто не связывает!
У меня начиналась истерика – я уже почти кричала.
– Я все еще солдат, Элизабет, – по-прежнему тихим голосом продолжал Дэвид, – поэтому я должен ехать. Им нужен и я, и то, что я умею, иначе они не позвали бы меня.
– Ты нужен им, а как же мы? – всхлипнула я. – Нам ты нужен гораздо больше. Ты нужен мне, ты нужен детям, ты нужен Спейхаузу! Неужели мы значим для тебя меньше, чем они?
– Вы для меня – это все, – ответил Дэвид, – но в данный момент они нуждаются во мне больше. Ты же прочитала письмо. Наполеон намеревается нанести свой последний удар, и мы должны собрать всю нашу мощь, чтобы остановить его. У него над нами двойное преимущество в артиллерии, а в большом сражении это может сыграть решающую роль, – со знанием дела добавил он.
– Но ты же поклялся, что никогда больше не покинешь меня! – Я уже плакала навзрыд.
Пытаясь успокоить меня, Дэвид положил руки мне на плечи.
– Ну будет, Элизабет, будет! Не надо так расстраиваться. Я ни за что не покинул бы тебя по собственной воле, но теперь я обязан это сделать. Мой отъезд не подлежит обсуждению, и ты должна быть готова к этому.
Однако я не могла так просто смириться с этой мыслью. В дни, последовавшие за этим, я бушевала, плакала, умоляла, заискивала, бранилась, угрожала, унижалась… Но проще было разговаривать с каменной стеной. Дэвид напоминал мне гранитный булыжник из его родной деревни. Возможно, Крэн уехал потому, что хотел, потому что звуки трубы, бой барабанов и гром пушек были той музыкой, которая околдовывала его и заставляла биться его большое мальчишеское сердце. Дэвид уезжал не потому, что хотел, а потому, что считал это своим долгом, и вся его любовь ко мне не могла поколебать этой решимости.
Даже Марта, увидев, как я расстроена, присоединила свой голос к моим протестам.
– Отправляться туда – безумие, и вы сами это понимаете, – мрачно сказала она, буравя его своими черными глазами.
– Безумие или нет, – спокойно возразил он, – но я должен это сделать.
Марте повезло не больше, чем мне. Исчерпав все свои доводы и устав бороться с его гранитной решимостью, я решила переменить тактику.
– Если ты едешь, – твердо заявила я, – значит, я поеду с тобой.
– Твое место здесь, Элизабет, – мягко возразил он.
– Твое тоже, – отрезала я, – и если ты не видишь нужды оставаться, то и я не собираюсь. Жены других офицеров путешествуют с мужьями, вот и я поеду с тобой.
– Об этом даже речи быть не может. – В голосе его звучал еле сдерживаемый гнев. – Ты никуда со мной не поедешь, и это мое последнее слово.
– Ты говоришь так, будто не хочешь видеть меня рядом с собой, – продолжала бунтовать я.
– Да, не хочу, – просто ответил он. Я была страшно задета, но он продолжил: – Армия на марше – не место для женщины. Никогда, а особенно сейчас. Я должен делать свое дело, и чем быстрее я его сделаю, тем быстрее все закончится и я вернусь домой. Если же я стану постоянно волноваться за тебя, то у меня все будет валиться из рук. Нет, Элизабет, ты гораздо нужнее здесь, поскольку в мое отсутствие тебе предстоит быть одновременно и отцом, и матерью, и всем остальным.
– Если ты не хочешь брать меня во Францию, позволь мне хотя бы проводить тебя до побережья, – взмолилась я.
Но Дэвид снова грустно покачал головой.
– Это лишено смысла, дорогая. Неужели ты думаешь, что сказать «прощай» в Дувре будет легче, чем здесь? Я хочу, чтобы в памяти моей вы сохранились вместе: ты, дети, этот дом – свидетель нашей счастливой жизни. Милая, в следующие несколько недель мне понадобится все мое мужество, помоги мне в этом, пожалуйста. Не делай так, чтобы мне было еще труднее.
И все же я не могла безоговорочно принять то, что он говорил, выполнить то, о чем он просил. Меня возмущала пассивная роль, которую отвел мне Дэвид, и моя собственная неспособность изменить его решение. Однажды утром я увидела его одетым в зеленую военную форму, под мышкой он держал шлем со смешным украшением в виде сосиски, которое обозначало принадлежность к артиллерии. Мне показалось, что сердце мое вот-вот остановится. Дэвид был грустным и одновременно каким-то торжественным, во всем его облике чувствовалась твердость, и даже хромота, казалось, куда-то исчезла.
В нашу последнюю ночь моя уязвленная гордость взяла верх над любовью, и, когда муж подошел ко мне, чтобы обнять, я оттолкнула его от себя.
– Зачем мне рисковать и рожать от тебя еще одного ребенка, если ты, возможно, никогда не вернешься!
Его лицо, освещенное огоньком свечи, стало жестким.
– Это наша последняя ночь, Элизабет, – сказал он, – но я не стану упрашивать тебя, если ты хочешь именно этого.
– О, мой дорогой, – с рыданиями упала я в его объятия, – я так сильно люблю тебя, ну почему ты уходишь!
Дэвид стал нежно целовать меня, ничего не ответив, поскольку ответа на этот вопрос быть не могло. Розовый туман окутал нас, и я еще раз познала счастье.
Когда на следующее утро мы прощались, моя гордость и обида из-за того, что меня не взяли с собой, не позволили мне заплакать, и теперь я рада этому.
– До свидания, жизнь моя, – хрипло произнес он. – Я буду писать тебе так часто, как только смогу. Храни детей до того момента, когда мы снова будем вместе.
– Ты вернешься? – спросила я, и на лице Дэвида появилась его удивительная улыбка.
– Даже если мне придется ползти сюда.
– До свидания, любовь моя, – прошептала я, и он вновь ушел от меня. Стояла последняя неделя мая.
В первую неделю июня Дэвид со своей батареей перебрался в Бельгию. Он писал мне практически каждый день, и сейчас, когда под моим пером появляются эти строки, его письма лежат рядом со мной – необычные для солдата. В них почти нет упоминаний о войне, все они – о Спейхаузе, о деревне, о детях, о его чувствах ко мне. Я пыталась отвечать ему в том же духе, но мои письма невозможно даже сравнить с одухотворенной прозой его посланий.
Слова Дэвида о том, что мое место – в Спейхаузе, полностью подтвердились к концу первой недели июня, когда и Артур, и Каролина слегли с тяжелейшей скарлатиной. Мы с Мартой не покладая рук ухаживали за двумя заболевшими детишками. Даже Марта, никогда не терявшая духа, теперь, перед лицом тяжелого недуга, выглядела взволнованной.
К вечеру 18 июня я, вконец измученная, с беспокойством увидела, что лицо Марты покрыто какими-то странными пятнами. В испуге я подумала, что она, возможно, и сама заболела той же болезнью, но потом с изумлением увидела, что моя верная спутница плачет. Я прокляла собственную глупость: ведь Марта была уже далеко не молоденькой, и тяжелый груз по уходу за больными детьми, который она взвалила на себя, оказался для нее непосильным. Я уложила ее в постель, но, поскольку и сама была слишком измучена, даже не подумала о том, насколько странно было видеть ее плачущей.
«Чем было продиктовано нежелание Дэвида взять меня с собой, – часто задумывалась я, – рассудком солдата, не хотевшего, чтобы его отвлекали от службы, или он действительно обладал неким даром предвидения, позволявшим ему заглядывать в будущее? Что руководило им: нежелание, чтобы я видела ужасы войны, или стремление оставить меня рядом с теми, кто действительно нуждался во мне гораздо больше?»
Как бы то ни было, он оказался прав, и потому я не появилась на великолепном балу у герцогини Ричмондской, который состоялся в Брюсселе вечером 17 июня, и не увидела собравшийся там цвет британской армии. Меня не было в Брюсселе и весь долгий день 18 июня, когда над полем Ватерлоо грохотали пушки и враги сошлись в последней смертельной схватке.[38] Я не была там ранним вечером, когда на правом фланге разгорелся жестокий бой и подполковник Дэвид Прескотт обнаженной шпагой направлял безжалостный огонь своей батареи на гордо марширующие ряды императорской гвардии. Я не видела, как рядом с ним упало ядро и он был разорван его осколками на мелкие части, умерев раньше, чем его тело прикоснулось к земле. Я не была там, когда подсчитывали убитых и скорбные списки павших стали поступать в город, в печали праздновавший победу. Моя жизнь не закончилась ночью 18 июня, поскольку я находилась дома в Спейхаузе, нянчась со своими больными и еще не зная о своей собственной смерти.
Плохие новости пришли ко мне так, как приходили и раньше. Утром 22 июня, спустившись в зал, я увидела в дверях знакомый силуэт. Это был Джереми. Обрадованная, я подбежала к нему.
– Что за землетрясение вытряхнуло тебя из Лондона? – вскричала я, но, увидев выражение его глаз, отшатнулась, словно от удара. Раньше мне казалось, что мне уже знакомы все чувства, которые могут выражать эти глаза, но сейчас я увидела в них что-то совершенно иное. Они смотрели на меня с жалостью.
– Нет, Джереми, нет!.. – объятая ужасом, прошептала я, чувствуя, как бешено забилось в груди сердце. – Только не Дэвид… Это не может быть Дэвид!
Не произнося ни слова, он медленно потупил голову, а я подлетела к нему и стала колотить кулаками в его грудь, крича:
– Ты лжешь, ты лжешь! Ты всегда ненавидел его, и поэтому сейчас ты лжешь мне!
Джереми стоял молча, даже не пытаясь остановить мою истерику. Сзади подошла Марта и, обхватив меня за талию, оттащила от него. Взглянув в ее темные глаза, в которых тоже было написано отчаяние, я не смогла больше выносить ошеломляющей правды, что раскаленной иглой вонзилась в мой мозг, и потеряла сознание.
Я пролежала без чувств два дня, но не умерла. Не смогла умереть. А придя в себя, я стала бороться за каждый дюйм темного и уютного бесчувствия, поскольку не хотела возвращаться к свету. Мне так хотелось присоединиться к Дэвиду, что Джереми пришлось дежурить возле моего изголовья. Как-то раз, потеряв терпение, он грубо схватил меня за руку и мрачно сказал:
– Элизабет, ты не можешь умереть. Как бы тебе этого ни хотелось, насколько бы велико ни было твое горе, ты не можешь сейчас умереть. Ты должна жить.
– Для чего? – тупо спросила я. – И что ты знаешь о горе? Разве можешь ты хотя бы приблизительно представить себе мое горе?
– Да, я действительно никогда не испытывал горя, каким ты охвачена сейчас, – сказал он уже мягче, – но ведь мне незнакомо и то огромное счастье, которое знала ты. Одно невозможно без другого, в жизни так попросту не бывает!
Я смотрела на Джереми невидящим взглядом и едва понимала, о чем он говорит.
– Ты должна выкарабкаться, – тормошил он меня, – ты нужна! Каролине стало хуже, она все время зовет тебя. Ну сделай же над собой усилие!
– Каролина… – пробормотала я. Каролина и Дэвид. Они только что вернулись с прогулки, он поймал ее, подбрасывает в воздух. «Каролина, если ты станешь еще больше похожа на маму, я перестану вас различать. Как я тогда узнаю, кого из вас больше люблю?» – «Меня, папа, меня», – темные волосы взлетают вверх и вниз, а глаза Дэвида, обращенные ко мне, искрятся веселым смехом. «Ну это мы еще посмотрим. Вдруг мама станет возражать?»
– Да, я должна идти к Каролине, – деревянным голосом пробормотала я и, не видя ничего перед собой, поднялась, чтобы начать свою жизнь после смерти.
Детям стало получше, но мне – нет. Я не могла умереть, и я не могла плакать. Я не плакала даже тогда, когда получила последнее письмо от Дэвида, написанное им накануне сражения. Оно было пронизано мягким светом той особой жизни, которую он вдыхал во все, к чему прикасался. Я не плакала и тогда, когда мне принесли его личные вещи: миниатюру с моим портретом, перстень с печаткой, шпагу. Я не плакала, когда мне рассказали о том, как он погиб, превратившись в бесформенную груду исковерканной плоти, что он умер, не страдая, и что голова его осталась незадетой. В каких-то потаенных уголках моей души жила мрачная радость, что все произошло именно так.
Марта почти насильно заставляла меня есть, и я покорно глотала пищу, не чувствуя ее вкуса. Я ела, спала, двигалась и выполняла повседневные дела механически, как автомат, я не разговаривала, если только ко мне не обращались по нескольку раз. Горе, затуманившее мою душу, мое сердце и мой разум, окружило меня глухой стеной, начисто изолировав от всего остального мира.
Списки погибших при Ватерлоо были длинными, и я нашла в них множество людей, которых знала, с которыми смеялась или которыми была увлечена. Нед Морисон погиб у Катр-Бра, Ричард Прескотт – возле своей пушки у Ле-Ге-Сент. Таким образом даже сама фамилия Дэвида была вычеркнута из списков потомства. Жизнь и я – мы как будто сговорились против него. Однако все остальные, пусть даже близкие мне имена не будили во мне никаких чувств и ничего для меня не означали. Они не могли сделать еще тяжелее то горе, что и без того превышало меру человеческих сил.
Торжествовала вся Европа, в честь великой победы при Ватерлоо не умолкали колокола. Континент был спасен, Наполеон и Франция – раздавлены. Теперь наконец воцарится мир на все времена, конец войнам, крови и смерти. Но мой мир был мертв, я утратила самое дорогое, и всеобщее ликование лишь усиливало мою скорбь.
Марта и Джереми изо всех сил старались извлечь меня из моей ужасной тюрьмы, сломать барьер, который отделил меня от них, но безрезультатно. Я двигалась по жизни подобно призраку, отпугивая собственных детей, заставляя их от страха замыкаться в себе. Джереми пытался вытащить меня в Лондон, думая, что там, вдали от дома, где все напоминает о прежней счастливой жизни, я вновь оживу и это поможет снять заклятье. Но ничто не влекло меня в Лондон, так же, как и в любое другое место на этом свете, и я не поехала.
Заклятье нечаянно снял Артур, спасши меня тем самым от окончательного безумия. Близилась зима, и было так холодно, что он уже не мог играть на дворе и поэтому скакал по залу – шумно, как это умеют только мальчишки. Прыгая, он случайно налетел на столик, где стояла белая фарфоровая ваза из Танбридж-Уэллса. Ваза упала на пол и разбилась. Уже не помню почему, но к этой вещи я была особенно привязана. Поднявшись, словно лунатик, я подошла к осколкам и уставилась на них невидящим взглядом.
– Она разбилась… совсем разбилась, – бормотала я. – И ее уже не склеить…
А потом я заплакала. Я плакала целых три дня. Отчаявшись успокоить свою хозяйку, Марта уложила меня в постель и стала пичкать лекарствами, но я продолжала плакать. Когда же я наконец остановилась, то обнаружила, что снова вернулась к жизни, а барьер, отделявший меня от окружающего мира, исчез. Странным было лишь одно: все, на что я смотрела, было серого цвета. С тех пор и до сегодняшнего дня я больше никогда не могла различать цвета.
Поднявшись с постели, я впервые за несколько месяцев посмотрела на себя в зеркало и… не узнала. Я исхудала так, словно была в последней стадии истощения, моя высохшая и поблекшая плоть туго обтягивала кости, волосы утратили цвет и были серыми, как шинельное сукно. Из зеркала на меня смотрела уже не Прекрасная Элизабет, а полуживая женщина средних лет. В сумраке Друри-лейн мне встречались экземпляры и получше, поэтому я радовалась, что Дэвид не видит меня такой.
Я была знакома со страданием уже давно, но его уроки впоследствии стерлись благодаря годам счастья. Теперь мне предстояло снова повторить их. Как было раньше? Я должна была растить своего сына и ждать. Но в ожидании была хотя бы надежда. Теперь надеяться не на что.
Впрочем, надежда оставалась и сейчас. Она заключалась в кольце, надетом на мой палец. «Как были мы вместе при жизни, так будем и после нее» – эти слова, выбитые на колечке, возможно, были не слишком поэтичны, но полностью отражали мои теперешние чувства. Теперь моя надежда лежала за гранью жизни, потому что только там я могла встретиться с Дэвидом.
Но и это было не так просто. Мне снова предстояло растить сына и ждать. «Храни детей до моего возвращения», – сказал он. Это было еще одной моей миссией помимо ожидания. Мне оставалось только молиться, чтобы ожидание не оказалось слишком долгим.
Уставший Джереми вернулся в Лондон, несомненно, мучаясь от мысли, что вместо отдыха на старости лет он вновь вынужден возиться со мной без всякой надежды на скорое избавление от этих хлопот.
Еще более уставшая Марта стала все чаще приводить ко мне детей, которых я перед этим основательно запугала. И постепенно они оттаяли: первым Артур, поскольку он был старше и лучше понимал, что происходит, а затем и Каролина, потому что ее нежному сердцу нужен был наперсник. Она уже начала забывать человека с серебряными волосами, который обожал ее больше всего на свете.
Я снова начала интересоваться собой. Дэвид всегда гордился тем, как я выгляжу и как одеваюсь, поэтому мне и теперь не хотелось позорить его. От той Элизабет, что появлялась на приемах сэра Генри в своем пурпурном бархатном платье, осталось совсем немного. Но за тем, что все-таки осталось, я стала ухаживать. Пусть теперь я носила только черный цвет, что в последние пятнадцать лет водопадом захлестнул всю Англию, но у меня еще оставалось много драгоценностей, и я украшала себя их блеском, пытаясь воскресить великолепие дней, которые когда-то знавала.
Мое возрождение началось еще до отъезда Джереми. Заметив это, он с кривой улыбкой сказал:
– Мне приятно видеть, что твой флаг вновь развевается, Элизабет, даже если он поднят только наполовину. Сообщи мне, когда ты будешь готова поднять его полностью. Мы с тобой сплетем такие заговоры, о которых миру еще не приходилось слышать.
– Нет, Джереми, моему флагу уже никогда не суждено подняться выше, чем сейчас, – покачала я головой.
– Знаю, – задумчиво ответил он, – но ведь надежда еще никогда никому не повредила, верно?
– Ты, наверное, мечтал о мирной и спокойной старости? – слабо улыбнулась я. В ответ на это он печально покачал головой.
– Я думаю, она все равно не пришлась бы мне по вкусу.
С отъездом Джереми меня охватило одиночество, в приходе которого я не сомневалась и которого очень боялась. Это не было одиночество тела, поскольку вместе с Дэвидом во мне умерли все желания. Это было одиночество разума. Мне не хватало человека, с которым я могла бы делиться событиями каждого минувшего дня. При всем моем уважении к Марте, она для этого не годилась, поскольку была молчуньей по своей природе, а ее рассудок всегда являлся для меня закрытой книгой. Я даже подумывала о поездке в Лондон, но детям, которые любили Спейхауз и нуждались в нем, там было нечего делать, поэтому я отказалась от этой мысли.
И вновь вмешались парки, прихотливо плетя нить моей жизни, но на этот раз к добру. Начинался 1816 год. Марты не было, она находилась на отдыхе, в котором так нуждалась, поехав навестить одного из своих сыновей и постоянно растущую стайку внуков. Поэтому в кабинет, где я в тот момент писала письма, вошла временно нанятая мною служанка и сообщила, что в зале меня ожидает посетитель.
Я оказалась так же не готова к встрече с ним, как и он со мной. В течение минуты или двух мы молча глазели друг на друга, безуспешно пытаясь собрать разбегавшиеся мысли. Передо мной стояла длинная, тощая и сутулая фигура с выцветшими волосами, прилипшими к костлявому черепу. Череп напоминало и его лицо, настолько туго оно было обтянуто кожей, измождено голодом и усталостью. Глаза смотрели на меня из глубоко запавших глазниц. Но даже не они, а именно его одежда помогла мне узнать его – черная заношенная сутана, сверху донизу перепачканная дорожной грязью.
– Джон… Джон Принс, – в изумлении пробормотала я.
Стоявшая передо мной фигура поклонилась и нерешительно сказала:
– А вы – та, что была хозяйкой Спейхауза, не так ли? И замолчав, глядя друг на друга, мы стали созерцать разрушения, которые произвели в каждом из нас прошедшие восемь лет.
– Садитесь, – поспешно сказала я, потому что мой гость, похоже, от слабости едва стоял на ногах. Как подкошенный, он рухнул на ближайший стул.
– Что вы здесь делаете? – спросила я, чувствуя дурноту от нахлынувших на меня тяжких воспоминаний.
– Я все-таки нашел вас, – ответил он своим странным – резким и в то же время мелодичным – голосом. – Я ищу… святилище, – хрипло засмеялся он.
– Откуда вы пришли и как попали сюда? – продолжала расспрашивать я, разглядев, как ужасно выглядит его одежда.
– Я пришел из Вустершира, – угрюмо ответил он, – и пришел пешком.
Взглянув на его серое лицо, я вежливо осведомилась:
– Когда вы ели в последний раз?
– Точно не помню, – потряс он головой, – но думаю, дня два назад.
– Прежде чем произнесете еще хоть одно слово, – решительно сказала я, – вы должны поесть.
Затем я позвонила в колокольчик и отдала распоряжения прислуге. Мы прошли в столовую. Несмотря на то что Принс, видимо, до предела изголодался, он стал есть так же сосредоточенно и неторопливо, как делал это прежде. Как всегда, его мысли были заняты другими вещами. Не произнося ни слова, я терпеливо ждала, пока он закончит.
Наконец он отодвинул тарелку и поднял на меня глаза.
– Вы хотите, чтобы я все рассказал? – осведомился он. Я утвердительно кивнула, и он начал свою историю.
После того как мы с Дэвидом сбежали, Принс занимался только тем, что пытался урезонить Ричарда. Когда первый приступ ярости у того прошел, он вновь стал предаваться своим старым привычкам – хандре и пьянству. Но не желая оставить Ричарда в покое и безвылазно находясь дома, Принс до такой степени докучал ему, что тот, хотя бы только из самозащиты, был вынужден снова выйти в свет. Там, как я и предсказывала Джереми, он скоро нашел новую кандидатуру на должность супруги – белокурую, пухлую и маленькую вдовушку. Я помнила ее очень смутно, но знала, что она уже давно подкарауливала Ричарда. В подходящий момент она появилась, и он снова превратился в счастливо женившегося мужчину.
Хотя Джон и радовался за Ричарда, его собственное положение отнюдь не изменилось к лучшему, поскольку новоиспеченная миссис Денмэн имела свою твердую точку зрения буквально на все и в особенности на то, что было связано с религией. Война между ней и Джоном вспыхнула практически с первого дня, и стоит ли говорить о том, чью сторону в этом поединке принял Ричард. Поначалу Джон искал убежище в местном приходе, но и там миссис Денмэн настигла его со своими дурацкими воззрениями. Ричард, по всей видимости, в свое время заметивший мое увлечение Джоном и так и не простивший ему этого, полностью поддержал свою новую жену и, когда Принс не пожелал сдаваться, перестал помогать ему в осуществлении благотворительных проектов, которые тот так долго лелеял. Постепенно Джон почувствовал, что его положение становится невыносимым, и наконец ушел из Солуорпа.
Об этом не было сказано ни слова, но мне пришла в голову мысль, что если вторая миссис Денмэн тоже испытала на себе силу его необычной притягательности, то, разочаровавшись в Ричарде как любовнике, она наверняка перенесла свое внимание на Джона Принса, да еще в более агрессивной форме, чем в свое время я. Возможно, я несправедлива по отношению к этой женщине, но, как бы то ни было, именно Джон Принс был вынужден покинуть свое убежище в Солуорпе.
Снаружи его ждал враждебный мир. Хотя у него и были кое-какие друзья и покровители, ссужавшие деньгами его начинания, но все духовенство вплоть до последней сутаны принимало его в штыки, и ему никак не удавалось найти новое пристанище. Он превратился в нищего бродячего священника, который странствовал между созданными им самим центрами. Но по мере того, как усиливались разруха и бедствия, вызванные войной, ему давали все меньше денег и все труднее было получить средства для этих центров. Один за другим они стали закрываться. Многие из его паствы хранили Джону верность до тех пор, пока, как я и предсказывала, могли хоть что-то получать от него. Когда же он не смог предложить им ничего, кроме духовной поддержки, растаяли как сон и они.
Нередко угрюмые и недоверчивые жители деревень, через которые он проходил, поколачивали его. Лицо Джона кривилось от боли, когда он рассказывал мне об этом, причем боль причиняли не сами брошенные в него камни, а именно тот факт, что они были брошены.
– Такое случалось и прежде, – успокаивающе сказала я, вспоминая раннюю историю христианства, – и так будет еще не раз, даже с такими прекрасными людьми, как вы.
– Я знаю, – ответил он, – но от этого боль не становится меньше.
Он был брошен на произвол судьбы, на попечение своего Бога, но даже после этого преследователи Джона не оставляли его в покое. Какое-то время он перебивался, отправляя службы и выступая в качестве репетитора в более или менее состоятельных семьях Вустершира, однако тот факт, что он являлся персоной нон грата среди своих коллег-священников, делал его пребывание в этих семьях напряженным и недолгим.
Под конец ворчание в адрес Джона Принса превратилось в негодующий рев. Он был обвинен в распространении ереси, и его враги добились наконец того, к чему так настойчиво стремились долгие годы – он был торжественно лишен сана. И именно тогда, когда Джон окончательно превратился в парию, он услышал о постигшей меня тяжелой утрате и решил идти ко мне. В моем мозгу сразу промелькнула мысль, что к этому наверняка приложил свою руку старый интриган Джереми. Тот факт, что Джон узнал о моем состоянии, на первый взгляд выглядел совершенно случайным, и, однако, он пришелся удивительно ко времени. Несомненно, Джереми побеспокоился о нас обоих.
– Но почему вы пришли? Что вам от меня нужно? – взволнованно спросила я.
– Не знаю, – просто ответил он. – Я чувствовал, что должен. Мой мир изгнал меня, а вы потеряли ваш. Мне показалось, что при том, как одиноки мы оба, нам удастся помочь друг другу.
В какой-то степени его слова являлись повторением моих собственных мыслей, но я все еще проявляла крайнюю осторожность.
– Вы, должно быть, понимаете, – медленно заговорила я, пытаясь поточнее выразиться и не обидеть никого из нас, – что я уже не та, какой была?
– Действительно, Элизабет? – Впервые он произнес мое имя. На его изможденном лице появилась улыбка. – Вряд ли вы так уж сильно изменились. Когда я впервые познакомился с вами в Солуорпе, вы хранили в своем сердце образ человека, который до сих пор остается там неизменным. Его не может изменить даже смерть. Тогда я был нужен вам не более, чем сейчас. Я был лишь устройством, которое, если угодно, можно назвать искушением. Но я никогда ничего не значил в вашей жизни и никогда не буду. Как я уже говорил, пропасть между нами слишком широка.
Я почувствовала некоторое облегчение и торопливо заговорила:
– Не вижу, что я могла бы сделать для вас, Джон. У меня нет ни связей, ни денег, чтобы помочь вам восстановить ваше положение.
– А я и не ожидал от вас этого. В конце концов, лишенный сана священник обладает весьма ограниченными возможностями. – Казалось, пища согрела Джона, и к нему стали возвращаться силы. – Сам не знаю, чего я ожидал, но вот пришел, как видите, как приблудный кот в надежде укрыться от дождя.
Я вздрогнула – его слова, словно эхо, повторили фразу, уже слышанную мною однажды: «Я твой муж, Элизабет, а не какой-нибудь приблудный кот, которого ты из жалости пустила в дом из-под дождя! Я не из породы приблудных котов!»
Да, Дэвид никогда не стал бы просить милостыню у порога чужого дома. Гордость и достоинство – вот что отличало его.
Глядя на Джона, я подумала, что в нем всегда чего-то не хватало. Может быть, яростный поход во имя Бога сделал его чем-то меньшим, нежели мужчина? А может, наоборот, именно мужская неполноценность и подвигнула его на этот яростный поход? Но вместе с тем и он, и Дэвид были очень хорошими людьми. Это не укладывалось у меня в голове.
Хотела ли я взять из-под дождя приблудного кота? Я подумала о череде одиноких дней, которые ожидали меня впереди. Джон мог бы стать той самой живой душой, с которой можно было перекинуться словом, просто побыть рядом. В моих глазах он действительно был приблудным котом, не более, но это все же лучше, чем ничего.
– У моего сына Артура уже есть репетитор, и вообще он скоро пойдет в школу.
Артур должен был отправиться в старую школу Эдгара в Винчестере.
– Но у меня есть еще дочь, Каролина, для которой я собиралась нанять гувернантку. Она еще очень маленькая, но если вы решите, что хотите и сможете ее учить, мы по крайней мере могли бы попробовать. Однако я не позволю, чтобы вы накачивали ее своими идеями.
В темных глазах Джона появилось облегчение.
– Это именно то, что мне нужно. В Спейхаузе я надеялся на защиту от жестокого мира, и теперь я с радостью стану рабом Каролины.
– А вот этого не советую, – сухо сказала я, – она и так уже чересчур избалована. Кстати, если вы почувствуете надобность, в Мэноре есть заброшенная семейная часовня. Уверена, что сквайр Спейхауз будет только рад, если вы станете использовать ее. К ней примыкают несколько комнат, предназначенных для священника. Я могу выделить вам кое-какую мебель, чтобы обставить их, пока из вашего жалованья вы не купите собственную.
– Это гораздо больше того, на что я рассчитывал, – пылко сказал Джон. – Что же касается денег, то они мне не нужны.
– Но это нелепо! – запротестовала я.
– Нет. Пища, крыша над головой и покой – вот все, что мне надо, – ответил он, радостно улыбаясь. – Остальное будет излишеством.
«И вправду, как кот», – подумала я и пожалела, что, погаснув, его огонь не оставил после себя даже золы.
Таким образом, с Мартой по правую руку и с Джоном Принсом по левую я стала растить детей и ждать того дня, когда ко мне вновь вернется надежда.
20
Потянулись серые утомительные годы. В 1820-м на острове Святой Елены умер одинокий человек. Я почувствовала его смерть, поскольку наши с Наполеоном жизни были неразрывно связаны и, в конце концов, между нами было много общего. При Ватерлоо он потерял свою империю, а я свой мир, и трудно сказать, какая из этих потерь оказалась страшнее. Я была сердита на него только за одно: ему удалось убежать от своей утраты гораздо быстрее, чем мне от моей.
Какими бы грустными ни были эти годы, я никак не могу сказать, что в это время в Спейхаузе не было ничего, кроме печали и скорби. По мере того как подрастали дети, дом оглашался их смехом и смехом их друзей – смехом, которым, к вящему моему удивлению, наслаждалась даже я. Они были такими чудесными ребятишками, а я – предательница! – иногда ловила себя на мысли, что не могу им чего-то дать. Будто огонь любви, который, подобно птице Феникс, постоянно возрождался между мною и их отцом, отгорел и уже не мог связать меня с ними. Неужели мы с Дэвидом выставили их вместе со всеми остальными из нашего магического круга? И может, они выросли не такими, как все, именно потому, что были лишены той любви, которую мы с Дэвидом делили между собой, мало что оставляя на их долю? Я бесцельно изводила себя этими мыслями, поскольку о лучших детях не могла мечтать ни одна мать.
Артур по мере взросления становился все больше похож на моего отца. Впрочем, если бы черты его лица были чуть более вытянуты, он вполне мог сойти и за Спейхауза. Это было поистине необычно: кукушонок, высиженный в гнезде ласточки, стал напоминать ее даже внешне! Однако у него были глаза и улыбка отца, и иногда, когда он улыбался, мне казалось, что в комнату вошел сам Дэвид. И сердце мое сжималось от невосполнимой утраты.
Сходство Артура со Спейхаузами не ограничивалось только внешностью. Может быть, потому, что после смерти Дэвида кузен Эдгара, этот старый повеса, неожиданно стал тратить много времени и сил на воспитание мальчика, поделившись с ним присущими Спейхаузам мягкостью и застенчивостью. Было очевидно, что Артур не рожден человеком дела, в нем не было практической жилки его отца, хотя он был очень умен и обладал серьезным складом ума. Он от природы был склонен к наукам и медицине, возможно, переняв эту тягу от Марты. Однако для него не имело смысла становиться доктором, поскольку рано или поздно на его плечи должна была лечь тяжелая мантия семейства Спейхаузов. Тем не менее он изучал – и, насколько мне известно, весьма успешно – курс наук в Оксфорде, который посещал в качестве коммонера.[39] Впрочем, он не чурался и развлечений.
Кузен Эдгара умер вскоре после того, как Артуру исполнилось шестнадцать, но никто из нас не захотел перебираться из Доуэр-хауза в Мэнор, родовое гнездо Спейхаузов. Так он и пустовал в течение нескольких лет, пока в 1828 году Артур не привез туда свою невесту.
Он сделал безупречный выбор, женившись на девушке из хорошей и состоятельной семьи в Беркшире. Ее вытянутые черты так напоминали Спейхаузов, что для бедного Эдгара не составило бы никакого труда признать в их детях своих родных внуков – до такой степени они были похожи на него. Их брак не был результатом отчаянной любви до гроба, но зато это позволяло молодым не играть друг у друга на нервах. Впрочем, они оба были слишком хорошо воспитаны, чтобы говорить об этом вслух.
Что же касается Каролины, то и без того избалованная Дэвидом, она вкусила еще большую свободу, оказавшись в руках Джона Принса. Он даже не подозревал, насколько близок был к истине во время нашего первого разговора в Доуэр-хаузе, когда заявил мне, что готов стать ее рабом. Все вышло именно так, и самые мои горячие обращения в его адрес не могли ничего изменить.
Еще в то время, когда Каролина была маленькой, они уже представляли собой странную пару, отличаясь друг от друга буквально во всем. Он, длинный, тощий, со смуглой кожей и светлыми волосами, она, маленькая и кругленькая, светлокожая и темноволосая. И тем не менее они проводили вместе практически все время: светлая голова склонялась к темным кудряшкам, она болтала, он слушал. Их общение доставляло удовольствие обоим, хотя вряд ли Каролина сумела многое почерпнуть из его уроков. Джон обладал недостатком, присущим, как мне кажется, многим выдающимся людям, – полной неспособностью донести свои блестящие мысли до рассудка других. Но даже будь Джон самым талантливым из учителей, я сомневаюсь, что ему удалось бы вложить много знаний в симпатичную, но совершенно пустую головку Каролины.
Она радовалась каждому дню и обожала забавы, но тем не менее росла чрезвычайно набожной. Это было вдвойне странно, поскольку Джон, выполняя данное мне обещание, никогда даже не заговаривал с ней о религии, разве что в самой общей форме. Возможно, она просто впитала в себя окружавшую его ауру. Как бы то ни было, Каролина, особенно будучи подростком, стала настолько религиозной, что я с грустью решила: ей суждено выйти замуж за священника. От отца она унаследовала некоторую артистичность, от меня – склонность к танцам, и, учитывая скромные познания в музыке, которые мне удалось вложить в нее, Каролина не уступала ни одной хорошо воспитанной девушке в окрестностях Оксфордшира.
И тем не менее своим замужеством она удивила нас всех. Ей удалось вскружить головы половине мужского населения графства, в том числе и молодежи из университета, с которой она познакомилась, когда там учился Артур. Поэтому я полагала, что ее жених окажется богатым – Каролина с детства питала слабость к роскоши, – молодым и таким же безмозглым, как она сама. Таких вокруг нее вертелось сколько угодно. Однако неожиданно для меня ее выбор пал на бесшабашного и румяного коротышку лет на двадцать старше ее, совершенно лысого, с живым подвижным лицом. Денег у него водилось немного, но природа щедро наградила его добротой и умом. Когда я одобрила выбор дочери, все вокруг пришли в ужас, но ей нравился именно этот человек, а я с удовольствием отдавала ему предпочтение перед священником, который раньше не выходил у меня из головы. Поэтому я охотно дала согласие на их брак.
Они были не менее счастливы, чем я, счастливы так, как никто не мог ожидать, и с завидной скоростью начали производить на свет детишек. Их старший сын Ричард стал моим любимым внуком. Я говорю об этом без колебаний, поскольку и внешностью, и характером он очень напоминает мне Дэвида. По мере того, как он растет, я своими глазами вижу, каким в детстве был Дэвид, и это приносит мне огромную радость.
Однако дети взрослели долго. К тому моменту, когда Каролина остепенилась и стала жить в собственном доме, прошло целых пятнадцать лет. За эти годы в нашей жизни произошли некоторые перемены. Когда Артур уехал учиться в школу, я решила, что он будет проводить в Спейхаузе только часть времени, а в остальное – жить на Уорик-террас. Теперь, лишившись своего сердца, Спейхауз перестал быть самым лучшим местом для нас, тем более что я изголодалась по бурлящей лондонской жизни с ее театрами, балами, магазинами, криками уличных торговцев и ночных сторожей. Мой отъезд был делом решенным.
Джон Принс отправился с нами, и, хотя он побаивался покидать свое убежище в Спейхаузе, он также нашел для себя в Лондоне кое-что интересное: например, коллекции сэра Ханса Слоана и изумительную библиотеку, только что созданную в Блумсбери.
Меня удивил, даже ошарашил эффект, произведенный им на Белль после их первой встречи. Она сразу же подпала под его странные чары и после этого таскалась вслед за ним как собачонка, трепетно прислушиваясь к критическим тирадам, по-прежнему срывавшимся с его уст. Вследствие такого пристального внимания к его персоне в Джоне, казалось, частично возродился его прежний дух, хотя и без былой тяги ко всеобщему ниспровержению. Я с радостью видела, что взаимное общение идет им обоим на пользу, и в голове моей начал созревать очередной план.
В последние годы Белль стала довольно набожной и, пытаясь заполнить чем-то вакуум своей жизни, перепробовала несколько вероисповеданий, некоторые из них были весьма необычными. Однако ее исканиями никто не руководил, поэтому она – одинокая и несчастная – продолжала пребывать в преисподней собственного изготовления. Что же касается Джона Принса, то он принес ей больше утешения и покоя, чем я даже могла ожидать.
Белль была богатой женщиной. С помощью ее денег Джон мог еще раз попробовать реализовать планы, которые когда-то были так дороги его сердцу. «Почему бы Белль не профинансировать его начинания? – думала я. – Пусть создаст реформированную ветвь англиканской церкви. Таких в последнее время появилось великое множество, и уж кому, как не Джону, возглавить одну из них».
Я поделилась своим планом с Джереми, думая, что уж мы-то с ним сможем прийти к правильному решению. Он слушал, по обыкновению глядя на меня своим хитрым взглядом, а когда я закончила говорить, ухмыльнулся так, что ему позавидовал бы любой сатир.
– Значит, теперь ты собралась протянуть руку помощи Всевышнему?
– Неужели ты не можешь быть серьезным, Джереми? – раздраженно сказала я. – Впервые в жизни я делаю что-то бескорыстно. Кроме того, мне кажется, что мой план очень хорош.
– План-то хорош, да только ничего из него не выйдет, а потому и времени на него тратить не стоит, – парировал Джереми.
– Почему же это он не выйдет? – возмутилась я. – По-моему, я разработала блестящую и логически обоснованную схему дальнейшей жизни для двух людей, которые сейчас бесцельно плывут по течению.
– Принс ни за что не покинет Спейхауз, – уверенно произнес Джереми.
– Я догадываюсь, о чем ты думаешь, но должна тебе сказать, что это совершенно не… – возмущенно начала я.
– Нет, – ухмыльнулся он, – я имел в виду совсем не это. Просто ты неверно судишь о Принсе. Я никогда не был от него в восторге, но не могу не признать: в молодости он действительно был блестящим человеком. Однако огонь, горевший в нем, потух, и разжечь его вновь не удастся ни тебе, ни кому-либо другому. Его дух сломлен, мир стал неинтересен ему. Ты сама убедишься, что ему нужно одно: мирно досидеть остаток дней в Спейхаузе, ожидая встречи с небесами.
– То же самое можно сказать и обо мне, – хмуро ответила я.
– Ты полагаешь? – Джереми все еще ухмылялся, глядя на меня. – По-моему, ты себя недооцениваешь, Элизабет.
– Значит, ты не хочешь мне помочь?
– Нет. Чтобы тратить время, у меня существует куча других дел. Я, конечно, понимаю, что, коли ты что-то решила, ты станешь добиваться своего, но предупреждаю: все твои попытки обречены на провал.
Разумеется, я стала добиваться своего. В любое удобное время я сводила Джона и Белль вместе и затевала разговор – это не требовало особого труда – о добрых делах и религии. Они часами говорили об этом, и я видела, как на Белль нисходит покой, смягчая ее измученные черты.
Однако, хотя мне и казалось, что я все делаю правильно, ничего конкретного из моих усилий пока не выходило. Как-то раз я работала в своем кабинете, а Джон стоял у окна и смотрел на текущие по нему струи ноябрьского дождя. Его поникшая фигура будила во мне горестные воспоминания, и мне хотелось побыть одной.
– Джон, – сказала я резче, чем следовало, – вам не кажется, что настала пора снова заняться каким-то более важным делом? Взгляните, какое широкое поле деятельности открывается для вас в Лондоне, ведь он буквально кишит пороками! Белль очень высоко ценит ваши идеи и с радостью даст денег на любой предложенный вами проект. Подумайте о душах, которые вы вдвоем могли бы спасти от вечного огня!
Джон мягко покачал головой и, подойдя к книжным полкам, стал водить пальцем по корешкам книг.
– Я не могу покинуть Спейхауз, – ответил он.
– Но почему? Что вас там удерживает?
– Хотя бы то, что там Каролина, – нерешительно ответил он, – и школа.
– Неужели из-за тупицы вроде Каролины и кучки деревенских придурков вы упустите возможность сделать что-то действительно важное? – горячо сказала я.
Джон поморщился, поскольку мысль о тупости Каролины всегда причиняла ему боль.
– Вы не понимаете, Элизабет, – мягко начал он. – Когда-то у меня действительно была миссия, но я не справился с ней. И теперь в наказание за это я обречен ждать того дня, когда Господь, решив, что я выстрадал достаточно, наконец призовет меня к себе.
– Но ведь это ужасно! – горячо воскликнула я. – Вы не можете сидеть сложа руки, вы обязаны попробовать еще раз!
И вновь он отрицательно покачал головой.
– Это бессмысленно, Элизабет. Мой огонь потух. Даже если бы я попытался, у меня все равно ничего не получилось бы. У меня не осталось больше сил. Вы – другое дело, вы – прирожденный борец. Вы боролись с жизнью, иногда даже против собственной воли, и вы до конца останетесь такой. А вот у меня все по-другому: когда я попробовал бороться и потерпел поражение, со мной все было кончено. Как бы то ни было, – подвел он итог, – теперь уже слишком поздно. Я уже указал Белль ту дорогу, которой ради спасения своей души ей следует идти. Для меня на этой дороге места нет.
Я была обезоружена и удивлена.
– Ради всего святого, о чем вы говорите?
– Я убедил ее войти в лоно католической церкви, – просто ответил Джон. – Наша церковь умирает, разлагаясь изнутри. Я не удивлюсь, если в течение следующей сотни лет она просто перестанет существовать в качестве духовной силы, разве что внутри нее произойдут какие-то революционные изменения. Что же касается католической церкви, то, несмотря на все, через что ей довелось пройти со времен Реформации, она сильна и продолжает расти. Именно она, в отличие от всех других церквей, может предоставить Белль необходимые ей покой и утешение.
– Не хотите же вы сказать, что она решила пойти в монашки? – сбивчиво выпалила я, потрясенная самой этой мыслью.
– Она будет жить в монастыре, – спокойно ответил он, – но, учитывая ее возраст и взгляды, о постриге речь не идет. Там она обретет покой и уверенность, в которых ей отказал мир. Она обретет счастье.
– Ну что ж, поздравляю, – насмешливо сказала я. – По крайней мере, вам удалось записать в свой актив хотя бы одну спасенную душу. Когда же вы начнете спасать мою?
– Что я могу сказать такое, что изменило бы ожидания, возлагаемые вами на небеса! – вспыхнул он. – И кто я такой, чтобы утверждать, что вы не правы!
Так со временем Белль оказалась в монастыре, где и умерла спустя десять лет, будучи окруженной святостью и твердо веря в милосердие Господне. Ее состояние, добытое столь болезненным и греховным путем, досталось церкви и было использовано на прославление Его имени. Джереми по достоинству оценил парадоксальность этой ситуации, но я была слишком рассержена из-за того, что он оказался прав относительно Джона, и не стала слушать его циничные философствования на эту тему.
Джон, как и хотел, прожил в Спейхаузе до конца своих дней. Однажды утром два года спустя мы нашли его мертвым в спальне. Я надеялась увидеть на его лице выражение счастья и торжества, подаренные ему небесами, к которым он так давно стремился, хотя бы в качестве знака утешения для тех, кто остался на этой земле. Но увы… Он был похож просто на уснувшего человека, не более того. Я молилась за то, чтобы ему не пришлось еще раз разочароваться.
Постепенно многое из того, что Джон отстаивал при жизни, наконец стало реальностью: рабство было отменено, правительство создало школы для бедняков, и было принято еще больше законов, призванных защитить неимущих. Великий билль о реформе 1832 года заставил усовершенствоваться церковную и светскую власти, несмотря на то яростное сопротивление, которое оказывал ему герцог Веллингтон. По мере того, как старел этот великий генерал, я все больше соглашалась с тем мнением, которое когда-то высказал по его поводу Крэн: он, возможно, хороший солдат, но до хорошего мужчины не дотягивает. Кроме того, этот человек слишком многое отнял у меня.
После свадьбы Каролины, которая оказалась даже пышнее и богаче, чем хотелось ей самой, и на которую собралась половина Оксфордшира, я в одиночестве вернулась в Доуэр-хауз. Я выполнила свою задачу и теперь могла готовиться к смерти.
Но тут я поняла, что умирать мне уже не хочется. Старый хитрец Джереми и на этот раз оказался прав: во мне снова пробудился вкус к жизни. И не потому, что долгие годы стерли в моем сердце образ Дэвида – перед ним было бессильно даже время, просто мне опять стал интересен окружающий мир, и оставить его теперь было не так легко.
Мне слишком сильно хотелось посмотреть, что будет дальше. Я хотела увидеть личико своего следующего внука. «А может быть, в лесу снова поселились зеленые дятлы?» – думала я, и мне хотелось сходить к ним и защитить их от хищников. Будет ли принят билль о реформе? Станет ли Моряк Билл[40] лучшим королем, чем его жирный и беспомощный братец Георг? Будут ли постановки нового сезона лучше, чем в предыдущем, учитывая, что театр находится в ужасающем состоянии и умирает на глазах? Вовремя ли появится комета, которую я жду уже два года? Я не только до сих пор сохранила интерес к астрономии, но и смогла передать его Артуру, в результате чего мы соорудили в Спейхаузе маленькую обсерваторию. С радостью или негодованием будет встречена последняя научная работа Артура? Ведь на его долю обычно выпадало достаточно и того, и другого. Моя жизнь продолжалась, и в ней постоянно появлялись новые интересы, новые лица, новые друзья.
Выяснилось, что умереть – это не так-то просто.
21
Но вот два года назад я поняла, что Господь внял наконец моим давним упованиям и что вскоре мне предстоит переступить роковую черту.
Поехав по делам в Лондон, я, как всегда, первым делом послала за Джереми.
Когда приветствия остались позади, он пристально всмотрелся в меня и спросил:
– Что стряслось, Элизабет? Ты очень плохо выглядишь.
Я была удивлена, поскольку не замечала в своей увядающей внешности каких-либо разительных перемен. В последнее время я и впрямь очень устала и часто ощущала тупую боль внутри, от которой меня нередко тошнило и не хотелось есть, но не придавала этому особого значения.
– Со мной все в порядке, – ответила я. – Просто я немного переутомилась, вот и все. Не всем же в отличие от тебя обладать такой нечеловеческой энергией. Кроме того, мне уже пятьдесят семь.
– Святой Боже! – воскликнул он. – Так-так, значит, выходит, что мне уже восемьдесят девять? Как же летит время!
Джереми уже сморщился как орех, но по-прежнему оставался резвым и жизнерадостным.
– Как бы то ни было, – чирикал он, – твой вид мне не нравится. Почему бы тебе не навестить врача, раз уж ты приехала в Лондон? Отличная возможность.
«Что ж, от меня и впрямь не убудет», – подумала я и пошла к врачу. Он оказался серьезным и несколько надменным молодым человеком, который чем-то напомнил мне Неда Морисона, правда, без присущего тому обаяния. Однако руки доктора, исследовавшие меня, были мягкими и осторожными. Я рассказала ему о своем самочувствии, и, закончив осмотр, он посмотрел на меня мрачно и внимательно.
– Есть ли у вас семья, мэм?
Я ответила утвердительно.
– В таком случае мне хотелось бы поговорить с вашим сыном.
Не сводя с него пристального взгляда, я произнесла:
– Все, что вы собираетесь сказать ему, я бы сначала хотела услышать сама.
– Мой прогноз крайне неутешителен, мэм, – с сомнением в голосе ответил он. – Вы уверены, что хотите услышать его от меня?
– А от кого же еще я могу его услышать?
– Ну что ж… – все еще колебался он. – По моему мнению, мэм, все симптомы указывают на то, что у вас злокачественная опухоль. Я полагаю, она возникла в матке, а теперь уже распространилась далеко за ее пределы.
– Вы хотите сказать, что я должна умереть? – спросила я, чувствуя, как в мое сердце вползает холод.
– Боюсь, что да, мэм, – покорно ответил он. – Мы бессильны и можем разве что немного облегчить боли.
– Сколько мне осталось жить? – спросила я одеревеневшими губами.
– Трудно сказать, – пожал он плечами. – Многое зависит от того, с какой скоростью растет опухоль, и от ресурсов вашего организма. Может быть, всего один год, а может, целых пять. В данном случае я осмелился бы предположить, что вам остается примерно года два, но я могу и ошибаться. Вам, бесспорно, следовало бы выслушать и мнение других врачей.
Поблагодарив доктора, я вернулась к Джереми, рассказала ему всю правду и спросила, что, по его мнению, мне следует делать. Некоторое время он молча сидел с лицом, искаженным болью, а потом, словно очнувшись, сказал:
– На твоем месте я сообщил бы об этом только Артуру. Он унаследовал от отца умение держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Другим я постарался бы ничего не говорить как можно дольше. Марта слишком стара, чтобы вынести такой удар, а Каролине незнакомо чувство сострадания. Что же касается всех остальных, то их это вообще не касается.
Помолчав еще немного, он осторожно спросил:
– Ты жалеешь, что это наконец пришло, дорогая? Паники, охватившей меня поначалу, уже не было, и, немного подумав, я поняла: ждать мне теперь осталось совсем недолго.
– Наверное, я боюсь, – медленно ответила я, – но не жалею. И ты меня тоже не жалей.
– О-о, мы с тобой еще тряхнем стариной! – воскликнул Джереми с деланной веселостью, но мы оба знали, что он лжет.
– Когда подойдет срок, тебе нужно будет кое-что сделать, – серьезно сказала я. – Ты приедешь ко мне, когда я пошлю за тобой? Ведь, возможно, сама я уже буду не в силах до тебя добраться, а у меня есть кое-какие бумаги, которые я могу доверить только тебе.
– Если это будет в человеческих силах, я приеду, – тихо ответил он.
Я вернулась в Спейхауз и, следуя совету Джереми, никому ничего не сказала, за исключением Артура. Он воспринял эту весть так же выдержанно, как это сделал бы его отец, и точно так же отказывался верить приговору до тех пор, пока еще трое врачей не подтвердили правильность первоначального диагноза. Хороший сын, он делал все, что было в его силах, пытаясь утешить меня. Видя, что от этого ему самому становится легче, я не препятствовала и не стала объяснять, что на самом деле не нуждаюсь в утешении.
Стараясь отвлечь меня от грустных мыслей, он даже предложил вместе совершить путешествие по Бельгии, о котором я мечтала уже давно. Было интересно увидеть великое поле битвы при Ватерлоо, но мне оно показалось обычной деревенской местностью, которая когда-то была ненадолго разбужена ото сна громом пушек.
Там ничего не было от Дэвида, хотя его тело и покоилось где-то неподалеку. Дэвид остался в полях и лесах Спейхауза, на Уорик-террас, возможно, даже в маленьком коттедже в Рэе. Но здесь, в этих чужеземных полях, его не было. Впрочем, думаю, Артур так и не понял, почему я не захотела взглянуть на могилу Дэвида.
Мы вернулись, и я делала все, чтобы Марта и остальные как можно дольше не замечали нараставшую во мне боль. Марта, которая была уже очень стара – даже старше Джереми, – за прошедшие годы усохла и телом, и умом, став больше походить на обычных людей. Временами она становилась сварливой, и я не завидовала слугам, которым приходилось испытывать на себе ее все еще железную руку.
Когда уже стало невозможно скрывать от нее правду, нам с Джереми пришлось убедиться, что мы ошибались в наших предположениях на ее счет. Мы были удивлены тем, как стойко встретила Марта страшную весть – так же стойко, как встречала она их всегда. Ее видимое безразличие задело Артура, и в несколько резкой форме он начал пенять ей за «безжалостное» отношение ко мне.
– А о чем тут жалеть! – прокаркала она в ответ. – Время сожалений давно прошло.
Как всегда, она понимала меня слишком хорошо.
С начала этого года терзающая меня боль заметно усилилась. Она появляется постепенно в нижней части тела, с левой стороны, и растет до тех пор, пока не превращается в огненный шар, раздирающий меня на куски. Наверное, то же самое почувствовал Дэвид в момент гибели. Но вследствие его праведности он испытал эту муку лишь на мгновение и тут же освободился от нее. Я же слишком много грешила в своей жизни и теперь должна была сполна расплатиться за это. Поэтому боль возвращается ко мне снова и снова, оставляя меня опустошенной, в страшном ожидании нового приступа.
В перерывах между этими страданиями я и попыталась подвести итог своей жизни. Обитатели Оксфордшира, считающие меня дважды овдовевшей женщиной гранитной добропорядочности, были бы более чем удивлены, если бы смогли ознакомиться с результатами моих подсчетов. Каков же итог? Шестнадцать лет вакуума, четырнадцать лет полужизни, семь лет, пять месяцев и одна неделя полного счастья, двадцать два года ожидания и оберегания детей. Странная бухгалтерия, но такой ее сделали мы с моей судьбой, так что на цифры эти мне пенять не приходится.
Теперь боль становится все более невыносимой и приходит все чаще, а светлые промежутки становятся все короче. Я знаю, что скоро боль вернется и будет расти до тех пор, пока мои чувства, мой рассудок, мое сердце не сгорят в ее последнем костре. И тогда я снова пойду по схваченным морозцем аллеям парка в Солуорпе и увижу багровую красоту осенних деревьев, а навстречу мне широкими мальчишескими шагами будет идти Дэвид. Я пойду к нему через заснеженные зимние поля. А потом вновь наступит весна.
Послесловие
Я обнаружил эту рукопись после смерти моей матери осенью 1837 года. Мать писала ее на протяжении последних нескольких месяцев, но никогда не посвящала меня в ее содержание. Поэтому, когда я прочитал все это, я был потрясен и решил, что мучительная и неизлечимая болезнь, унесшая мою мать, под конец дней помутила ее рассудок и сделала возможными те дикие галлюцинации, что содержатся в этом манускрипте.
Я всегда знал, что моя мать происходила из бедной, но порядочной семьи Колливер в графстве Кент, что она вышла замуж за моего отца Эдгара Спейхауза вскоре после смерти его первой жены и что их семейная жизнь длилась недолго, трагически закончившись гибелью моего отца, посланного служить в Вест-Индию. Затем, после долгого периода страданий, ода вновь вышла замуж за коллегу моего отца – подполковника Прескотта, которому в этом необычном документе посвящено так много страниц. Вообще-то об отчиме у меня остались очень смутные воспоминания – мне было всего одиннадцать лет, когда он нашел свою смерть на поле Ватерлоо, но, должен признаться, я не могу вспомнить ничего необычного об этом человеке. Тем более в моей памяти не осталось никаких свидетельств той великой страсти между ним и моей матерью, которую она так ярко живописует.
Продолжая разбирать ее бумаги в надежде найти доказательства того, что вся эта история полностью абсурдна, я с удивлением обнаружил среди старых семейных пустяков сохраненную ею пачку писем от моего отчима, написанных им во время кампании Ватерлоо, и их миниатюры. Затем я вспомнил, что незадолго до смерти матери ее приезжал проведать старый адвокат нашей семьи Джереми Винтер. Я подумал, что, возможно, она поручила его заботам семейный архив, и поехал в Лондон, чтобы увидеться со стариком, но это оказалось пустой тратой времени.
Одряхлевший Винтер, видимо, окончательно впал в маразм. Когда я рассказал ему о рукописи, оставленной матерью, он радостно закудахтал и сказал:
– Слава Богу, значит, она все же написала обо всем этом! Замечательной женщиной была ваша мать, поистине замечательной!
– Я предполагаю, сэр, что она дала вам на хранение бумаги нашей семьи, – сказал я, с трудом сдерживая нетерпение. – Теперь мне хотелось бы забрать их, поскольку благодаря данной рукописи я оказался в крайне двусмысленном положении.
– Отчего же, мой мальчик? – по-детски просюсюкал он.
– Оттого, что если я не смогу опровергнуть содержащиеся здесь голословные утверждения, то все мои права на Спейхауз окажутся полностью несостоятельными.
– Чепуха! – воскликнул старикашка, отвлекаясь от воспоминаний, в которые он погрузился. – Могу заверить вас, что вы являетесь единственным и абсолютно законным наследником Спейхауза. Я сам видел документы.
– В таком случае соблаговолите передать их мне, – не отступался я.
– О-о! – застонал он, всплеснув руками. – Произошла ужасная вещь, мой мальчик, просто ужасная! Однажды в моей конторе вспыхнул пожар – страшный пожар! Все сгорело дотла. Ужасно, ужасно… – И он задремал, что-то бормоча себе под нос.
Сознаюсь, я потерял терпение и стал трясти его за плечи.
– Вы хотите сказать, что все бумаги пропали? Старик приоткрыл слезящийся голубой глаз и посмотрел на меня.
– О нет, не все. Где-то что-то должно было остаться.
Порывшись вокруг себя, он вытащил наконец несколько обгоревших по краям листов. Это были свидетельство о моем крещении, метрика Каролины и разрозненные листки из писем отца, в которых, находясь в Вест-Индии, он излагал планы относительно моего образования.
– И это все? – в ужасе воскликнул я.
– А вам этого мало? – раздраженно пробурчал старикашка.
Поскольку он уже явно ничего не соображал, я оставил свои попытки хоть чего-то добиться от него, холодно попрощался и вышел. Уходя, я слышал его неясное бормотание: «Прекрасная Элизабет, Прекрасная Элизабет». Бедняга!.. Видимо, смерть моей матери явилась для него сильным потрясением.
Моя старая нянька Марта Маунт также ничем не могла мне помочь. После смерти моей матери она, подобно Джереми Винтеру, впала в маразм и в течение двух месяцев, покуда не умерла сама, не произнесла ни единого слова.
Меня успокаивает лишь тот факт, что, как бы мало свидетельств ни находилось в моем распоряжении, все они подтверждают мою правоту. В уцелевших остатках писем отца он обращается к моей матери как к своей единственной и любимой жене. Выписка о моем крещении, признание самого Винтера о том, что я являюсь единственным законным наследником, и то, что моя мать носила два обручальных кольца (сама она объясняет это совершенно нелепо) – все это свидетельствует в пользу того, что я целиком и полностью прав. Кроме того, чтобы убедиться в нелепости измышлений, содержащихся в рукописи, мне достаточно взглянуть на собственных детей: мой старший сын является буквально копией своего дедушки. Нет, это и впрямь ужасно – видеть, какие опустошения может произвести недуг в рассудке благородной и глубоко порядочной женщины!
О том, как лучше поступить с рукописью, я советовался и с Каролиной, своей сестрой по матери. Мы оба сошлись на том, что, хотя документ этот причиняет боль, особенно мне, из уважения к пожеланиям нашей матушки его нельзя уничтожать. Я полагаю, что со временем он пригодится врачам для того, чтобы проследить, какое воздействие оказывает болезнь на человеческий рассудок. Этот предмет всегда увлекал меня, и сейчас мне кажется, что я принял правильное решение.
Сие удостоверяю своей рукой и печатью. Дано 6 мая 1838 года. Артур Эдвард Спейхауз.