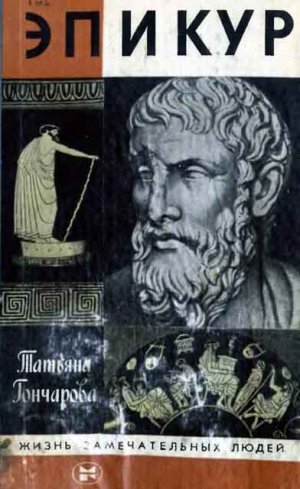
Часть I
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Мышление — великое достоинство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно.
Гераклит
Глава 1
СЫН КЛЕРУХА НЕОКЛА
Какая уж власть, какая слава может быть у побежденных.
Плутарх
Тит Лукреций Кар. О природе вещей
- Не различалось тогда ни созвездий великого мира,
- И ни морей, ни небес, ни земли, ни воздуха также,
- Как ничего из вещей, схожих с нашими, не было видно.
- Был только хаос один и какая-то дикая буря.
Шел 341 год до нашей эры. Стареющая Эллада, обескровившая себя почти что столетними войнами, раздираемая противоречиями между богатыми и бедными, оскудевшая пригодными для земледелия почвами и доблестными мужами, обнищавшая и в то же время познавшая сладостную отраву роскоши, достигшая в своих философских исканиях крайних пределов познания и — во всем разуверившаяся, все больше впадавшая в холодное и вынужденно-праздное равнодушие, эта Эллада с трудом собирала последние силы в тщетном сопротивлении наступавшим на нее с севера македонянам. Для греков они казались такими же варварами, как и персы. И действительно, хотя цари Македонии, уже подчинившие себе к этому времени Фессалию, Фивы и ряд областей Пелопоннеса, издавна тяготели к греческой культуре (будучи и сами выходцами из Аргоса), хотя царствующий ныне Филипп, сын Аминты, в юности прожил три года заложником в Фивах, получил там образование и пригласил впоследствии философа Аристотеля воспитывать своего сына Александра, несмотря на все это, в массе своей македоняне продолжали оставаться невежественными, несклонными к земледелию, грубыми и воинственными варварами, предпочитавшими земледелию охоту в своих горных лесах, а мирной жизни — военные походы.
Как и в стародавние времена, македонские цари (возводившие свою родословную к Гераклу и допущенные, как полноправные греки, к участию в Олимпийских играх) продолжали оставаться лишь «первыми среди равных» среди родовой знати, не зная неограниченной власти восточных монархов, и главное слово в важнейших делах государства принадлежало, как в старину, войсковому собранию, поскольку именно войско было той силой, на которой зиждилось могущество и богатство этой гористой и бедной страны. Стремительная конница, отчаянно смелые, уверенные в своей непобедимости гетайры («товарищи» царя, избалованные его подарками и милостями), пехотинцы-педзитайры с их длинными пиками — вот кто по праву решал дела государства, с одобрением встречая дерзкие планы подчинения Греции. Завидуя блеску и славе старинных греческих полисов, и особенно Афин, мечтая о богатой добыче, полные нерастраченной ярости, еще только рвущиеся к тому, чем эллины, а тем более люди востока уже успели пресытиться, македоняне давно уже готовили силы, собирали и обучали войско, и вот наконец их время пришло. Пришло потому, что навсегда отходило в прошлое могущество греческих городов-государств, переживших свою свободу — свободу для очень немногих, былое свое благополучие, взращенное на подневольном труде и угнетении сотен и тысяч обращенных в рабство варваров и соплеменников. Затянувшаяся чуть ли не на полвека Пелопоннесская война, потом Союзническая война, а также гражданские междоусобицы унесли столько бесстрашных, честных, преданных отечеству людей, многие из которых так и не стали отцами и дедами, что теперь, когда опасность угрожала самому существованию старинных городов, защищать их, в сущности, было уже некому. Это было печальным завершением целого ряда кровопролитных сражений, вероломных предательств и взаимных опустошений, последовавших за великой победой над персами в начале V века и приведших в конце концов к бесславному поражению целого народа. Вот как писал обо всем этом впоследствии Плутарх, подводя со спокойной и мудрой печалью итоги великой и поучительной истории эллинов: «О, скольких тяжких бед вы, эллины, виной! Ибо каким еще словом можно назвать эту зависть, эти объединенные и вооруженные приготовления греков для борьбы с греками же — все то, чем они сами отвратили уже склонившееся на их сторону счастье, обернув оружие и войну, ведущуюся от Греции, против самих себя…».
Стремление Филиппа подчинить себе греков было непреодолимым и всепоглощающим. Как некогда Дарий, сын Ксеркса, велел своему слуге напоминать ему каждое утро о ненавистных афинянах, так и сын Аминты ни во время вершения государственных дел (впрочем, подобно другим владыкам, он не особенно беспокоил себя заботами о подданных), ни проводя свой царский досуг в охоте, травле зверей и пьяных пирах, ни затевая очередную женитьбу, он ни на минуту не забывал о своей главной задаче — покорении Эллады. Царь испытывал сложные чувства по отношению к грекам и особенно афинянам, еще не утратившим окончательно былого величия в поражениях и бедах последнего времени: он не мог не признавать превосходства потомков Кекропа во всякого рода искусствах и потому не мог не питать к ним известного уважения, но зависть и одновременно презрение как к более слабым, старинное недоброжелательство варвара по отношению к так долго, давно и нарочито презиравшим все варварское грекам, — все это было сильнее. А поскольку афиняне, как и во все времена, когда Элладе угрожала опасность, оказались и сейчас во главе тех, кто считал себя в силах дать отпор устремлениям македонян, неприязнь Филиппа перешла в тяжелую ненависть, в затаенное до поры до времени желание расправиться с самонадеянными подданными Афины — Полиады.
Приступив к планомерному подчинению Греции, сын Аминты действовал осторожно и хитро, твердо уверенный в том, что «все крепости могут быть взяты, в которые только может вступить осел, нагруженный золотом». Прежде всего он устремился на приморские города Халкидики, состоящие в морском союзе с Афинами: покорение их открывало македонянам вожделенный выход к морю и было прямым вызовом ненавистным афинянам. Захватив в 357 году Амфиполь, Филипп овладел постепенно фракийским побережьем, заботясь в то же время о том, чтобы склонить на свою сторону побольше влиятельных людей, вождей политических партий в самой Греции. Не скупясь на подарки, а тем более на обещания, он убеждал греков в том, что старинные города только выиграют от союза с Македонией, которая сможет их поддержать и защитить. И действительно, и в Афинах, и в Спарте, и в Фивах, былое могущество которых давно уже было подточено междоусобными войнами и внутренними раздорами, нашлось немало сторонников добровольного подчинения Филиппу: богатые люди, владельцы обширных земельных участков, сотен рабов и процветающих мастерских, больше любого врага боялись собственных же неимущих сограждан и видели в македонском царе единственное спасение от разгула анархии. Что же касается простого народа, то силы его и былой героический дух к этому времени настолько ослабли, что многим из этих эллинов, чьи прадеды сокрушили волну восточного варварства, казалась уже почти безразличной судьба отечества.
Устав от соперничества политических группировок, не в силах бороться с нищетой, неустроенностью, нравственным оскудением и апатией, принимавшими к этому времени пугающие очертания, многие из просвещенных мужей того времени, такие, как известный афинский писатель Исократ, мечтали о возвращении «старых добрых времен», о примирении всех греков и видели в македонском царе ту сильную личность, которая еще может вернуть всем вещам их изначальное значение и спасти Элладу от окончательного разложения. В 334 году Исократ обратился к Филиппу с призывом стать во главе греков, готовых, как он уверял, вновь подняться на борьбу с персами за освобождение Эгейского моря и малоазийских городов. Прихода Филиппа в Элладу с нетерпением ждали и все противники демократии, надеясь с его помощью низвергнуть народовластие в своих городах и готовые, как говорил об этом афинский оратор Демосфен, один из последних защитников эллинской чести и свободы, «осквернить себя убийством сородичей и сограждан, лишь бы властвовать и выслуживаться перед Филиппом».
Филипп же, увеличив «свою власть более золотом, чем оружием», постепенно распространил свое влияние на Аркадию и Аргос, Мессену и Сикион, и только Афины, Коринф, Мегары и некоторые другие города, вступившие в союз с афинянами, стремились воспротивиться экспансии македонян, напоминая соплеменникам о страшной участи города Олинфа: презрев все божеские и человеческие установления, Филипп приказал разрушить захваченный им город, а жителей распродать как рабов. И долго потом еще рассказывали потрясенные очевидцы, как пели на чьих-то чужих пирах почтенные матери разоренных семей и дочери благородных отцов, бывшие горожанки Олинфа, а тех, что отказывались развлекать захмелевших гостей, хозяин подбадривал ремнем по обнаженной спине. Об этом и о многом другом, похожем и столь же страшном, не уставал рассказывать Демосфен, который, разъезжая по городам, убеждал греков объединить свои силы для решающего сражения с македонянами. Однако подарки и посулы Филиппа также делали свое дело, к тому же давало себя знать старинное соперничество между греческими городами, и поэтому знаменитые «филиппики» афинского оратора, его вдохновенные, преисполненные патриотизма речи, его страстные панегирики демократии, разоблачения коварной политики Филиппа не встретили той единодушной поддержки, на которую он, вероятно, рассчитывал. Эллада притихла, разъедаемая неисцелимыми противоречиями, тревогой и опасениями, в тяжелом предчувствии грядущего поражения, а Филипп со своими фалангами уже двигался бодрым маршем на юг, к Фермопилам, полный решимости навсегда положить конец независимости Афин и других городов, которые еще не расстались с надеждой сохранить свою свободу.
Но была и другая Греция, не только та, по чьей древней земле начинали свое победное продвижение македонские фаланги, — острова Эгейского и Ионического морей, на которых (и особенно на тех, что вот уже более ста лет подчинялись афинянам) несколько по-иному воспринимали известия о наступлении македонян. Богатые и самостоятельные в прошлом, славные некогда своими поэтами, ремесленниками и мореходами, торговавшие чуть ли не со своей Ойкуменой, эти острова были подчинены, ограблены и унижены афинянами, их бывшими союзниками по борьбе с персами, и поэтому не испытывали особой враждебности к Филиппу, видя в этом полуварварском царе если уж не освободителя, то, по крайней мере, мстителя, некий божественный перст, карающий теперь надменных и своекорыстных обидчиков за зло, причиненное ими своим же братьям по крови, языку и культуре.
Одним из таких островов был овеянный легендами Самос. Два века назад его тяжелые широкие корабли (их так и называли — «самены»), груженные разнообразным товаром, бороздили во всех направлениях срединное море, а поэты, влюбленные и беззаботные, такие, как бедный Ивик, воспевали всесильного бога Эрота с его черноогнистым взором в длинных ресницах… Однако могуществу и процветанию Самоса был положен конец, после того как почти сто лет назад афинский стратег Перикл осадой взял остров и в наказание за непокорность, за стремление отложиться от Афин, а также за приверженность к олигархическому образу правления часть жителей острова была изгнана. Их земли были поделены на участки — клеры и розданы переселенцам из Аттики, тем обедневшим гражданам, которых была уже не в состоянии прокормить скудная влагой и плодородными почвами земля Кекропа. С тех пор афинские власти теснили и теснили понемногу самосцев, обрекая их на вынужденное изгнание, на постепенное вымирание, — число же афинских клерухов возрастало.
Может быть, кто-то из этих клерухов поправил свои дела за счет полученного надела, может быть, кто-то из них даже разбогател, но думается, что большинство переселенцев из Аттики и на Самосе с трудом сводили концы с концами, проводя свои годы и дни в тяжелой земледельческой работе, окруженные затаенной враждебностью местного населения, тоскующие по блистательным Афинам, таким равнодушным к своим менее удачливым сыновьям. Так жил и клерух Неокл, родом из аттического селения Гаргетта. Некоторые из античных писателей склонны считать, что предки Неокла были знатными людьми, но, как утверждал поэт Еврипид, «злая бедность заглушит славу имени», а Неокл был настолько стеснен в средствах, что ему с трудом удавалось прокормить четырех своих сыновей, Эпикура, Хайридема, Неокла и Аристобула, обрабатывая свой надел и, кроме того, обучая письму и счету местных ребятишек. Старшим из этих сыновей был, по-видимому, Эпикур, родившийся 7-го числа месяца Гамелеона, в конце 342 — начале 341 года до н. э., будущий великий философ, известный античному миру под именем Спасителя людей. Впоследствии римлянин Марк Туллий Цицерон, один из наиболее ревностных ниспровергателей Эпикура, называл его «знаменитым гаргеттянином», а поэт Тит Лукреций Кар, вдохновеннейший из последователей Спасителя людей, изложивший его учение в своей бессмертной поэме «О природе вещей», считал родиной философа блистательные Афины, которые
Не очень крепкий здоровьем, из бедной семьи, Эпикур, как считают писавшие о его жизни, рано узнал нужду и страдания, и о нем в отличие от многих других просвещенных мужей и философов вряд ли можно сказать, что «он был воспитан в богатстве и вырос в холе». Но прекрасная природа Самоса, мягкий климат и пышная растительность, обаяние утонченной старинной культуры — все то, что рождало здесь в прошлом вдохновенных поэтов и отразилось в подобных древней поэзии мистических построениях философа Пифагора (сына самосского резчика по камню), — все это, безусловно, оказало глубокое воздействие на формирование духовного мира незаурядного сына клеруха Неокла, заложив основы его великой убежденности в том, что ни болезни, ни бедность, ни превратности истории, как бы катастрофически они ни оборачивались порой, не могут и не должны заслонить для человека непреходящей красоты мира, самоценности бытия.
Это было такое тяжелое время, когда сам солнечный свет, казалось, померк для афинян, заслоненный македонскими копьями, но для маленького мальчика, играющего на песке, укатанном за ночь морскими волнами, цепляющегося за подол матери, хлопочущей у очага, бегущего вслед за отцом вдоль сухой золотистой стены созревшего ячменя, все было пока безмятежно и спокойно в этом мире, где летние дни точно плавились в мареве дрожащего воздуха, а мелкие зимние дожди несли с собой желанную прохладу и отдых земле и людям. Летними ночами небо, подобно огромному куполу, накрывало собой остров и море вокруг, сияли-переливались в непостижимых глубинах мирового пространства мириады далеких светил. Космос вещал лишь немногим понятным языком о своих неразгаданных тайнах, и мысли сына Неокла, которому уже в раннем возрасте стал слышен этот зов, обращались, еще словно на ощупь, невольно и неосознанно, к загадочному круговороту сосуществующих и сменяющих друг друга миров в бесконечности вселенной. С наступлением ночи для него словно бы приоткрывались заветные двери в тот беспредельный, издревле манящий к себе человека мир, который считали своей истинной родиной и мудрейший из смертных Гераклит, и бессребреник Анаксагор по прозвищу Ум, и непримиримый к несообразностям жизни Платон, искавший в надземных высях то вечное царство нетлепных идей, которое бы оправдало и придало смысл всему, что творится здесь, на земле.
Подобно своим предшественникам на вечном пути познания, Эпикур рано ощутил себя (еще задолго до того, как осознал) частью, пусть даже незаметной и крохотной частицей, этого огромного мира, «не созданного никем из богов и никем из людей» (как учил Гераклит) и остающегося неразрешимой загадкой даже для наиболее совершенного из собственных созданий — человека. И, проникнувшись осознанием грандиозности мироздания, уверовав в то, что высшим предназначением разумного существа является осмысление жизни вообще и своего бытия в частности, сын Неокла с юных лет относился со спокойным безразличием, а позднее — с бессильным презрением к деяниям сильных мира того, деяниям бессмысленным и кровавым, которым было невозможно воспротивиться, но которые в конечном счете ничего не меняли в вечном круговороте все поглощающего времени.
Эпикуру было три года, когда после поражения союзного греческого войска при Херонее в Беотии летом 338 года, по словам Плутарха, казалось, «сама судьба выбрала этот миг в круговороте событий, чтобы положить конец свободе Эллады», старинные полисы навсегда утратили самостоятельность и дальнейшая история Греции определялась уже не ими, а великодержавными устремлениями сначала македонских монархов, а затем и всех прочих завоевателей. Если можно вообще назвать историей долгие, тусклые века постепенного угасания великого народа, достигшего в свою лучшую пору предельного совершенства в бессмертных созданиях своих художников, философов и поэтов. После сражения в Беотии, для которого греки, побуждаемые страстными речами Демосфена, собрали последние силы, страх и отчаяние овладели сердцами побежденных, а победитель — Филипп впал в столь бурное ликование, что прямо с попойки отправился на поле битвы и распевал там, расхаживая среди трупов и притоптывая в такт ногой, начальные слова Демосфенова законопроекта, целью которого было хоть как-то сдержать продвижение македонян: «Демосфен, сын Демосфена, пеаннец, предложил…»
К концу лета 338 года македонские войска вторглись в среднюю Грецию и подступили к границам Аттики. Вожди демократии призывали сограждан сплотиться для отпора захватчикам, а известный своим радикализмом Гиперид предложил, помимо общей мобилизации всех афинских граждан, даровать гражданские права метекам и даже раздать оружие рабам, занятым на рудниках и в поле. Однако это предложение было с возмущением отвергнуто богатыми рабовладельцами, противниками демократии, которым гегемония македонского царя казалась более предпочтительной, чем освобождение рабов, и которые, подобно Исократу, считали, что предоставленная самой себе Греция просто погибнет от бродяг, сикофантов-доносчиков и демагогов. Против Гиперида был возбужден судебный процесс, целый ряд обвинений был выдвинут и против Демосфена, который, мол, так ратовавший за сопротивление македонянам, сам в битве при Херонее «постыднейшим образом покинул свое место в строю и бежал, бросив оружие». Присутствие в городе защитников демократии и независимости становилось все более нежелательным для тех, которые, подобно Демаду, Эсхину, Фокиону и другим сторонникам «худого мира» с Филиппом, убеждали сограждан в том, что покровительство македонского царя имеет и свои преимущества, тем более что выбора у них все равно нет. Сам же Филипп, угрожая свободе Афин, не уставал повторять, что его единственной целью является объединение греков для похода против персов, этих исконных врагов как эллинов, так и македонян. При этом царь напоминал о все еще не изжитом позоре Анталкидова мира (387 г.), который снова отдал во власть восточных варваров ионическое побережье, перечеркнув тем самым великие свершения времен Саламина, Марафона и Платей, — и все это из-за нескончаемых смут и раздоров в самой Элладе.
Сторонники демократии в Афинах были глухи к пространной аргументации Филиппа (тем более что вряд ли кто всерьез мог поверить в первостепенность новой войны с персами, в то время как дела самих греческих полисов находились в самом неопределенном и печальном состоянии), и, хотя значительная часть афинских граждан явно предпочитала собственное благополучие общему делу свободы, противники гегемонии македонян отнюдь не считали свое дело окончательно проигранным и, исполняя те или иные общественные обязанности, прилагали все силы к тому, чтобы восстановить военную мощь, улучшить финансовое положение города. Один из таких, известный поборник демократии Ликург в бытность свою казначеем проявил столь строгую бережливость в расходовании государственных средств, что сумел построить много новых кораблей, привести в порядок верфи и арсенал. Демосфен, все еще не оставивший надежды вернуть своему с каждым годом все более опускающемуся народу его былое достоинство, тщетно убеждал сограждан отказаться от излишней пышности празднеств и употребить таким образом сэкономленные деньги на укрепление города. Напрасно уставшие от стольких войн и переворотов, от смелых планов и сокрушительных разочарований, от героев, освободителей и политических авантюристов, афиняне все больше привыкали жить одним днем, предпочитая роскошное празднество сегодня тому полному неведомых опасностей завтра, о котором не хотелось и думать. И хотя находились еще мужи, призванные по складу своего ума и характера быть продолжателями великих демократических традиций афинского демоса, сам этот демос, свободный народ-победитель, был уже не тот, превращаясь постепенно и неостановимо в охлос — праздную, неимущую, падкую до дармовых угощений и развлечений, лицемерную, паразитирующую на рабовладельческом государстве, льстивую чернь, у которой люди, подобные Демосфену или же Ликургу, все больше вызывали глухое озлобленное раздражение. Потому что те, словно бы отказываясь признать печальную реальность, не в силах смириться с поражением своего народа, продолжали звать его туда, куда ему было уже никогда не вернуться, о чем многим не хотелось и думать.
И поэтому афинские обыватели упорно поддерживали слухи о том, что Демосфен подкуплен персами. Иначе же зачем, избранный в комиссию по приведению в порядок оборонительных сооружений, он не только отдавал этому все свое время и силы, но даже приложил весьма значительную сумму из собственных средств, когда оказалось, что денег, отпущенных казной, не хватает, для многих афинян (и особенно для тех, у кого погоня за прибылью стала единственной святыней, а слово «родина» все больше утрачивало первоначальный смысл) имена таких героев и устроителей отечества, как Мильтиад, Кимон, Аристил или же Перикл, казались столь же отвлеченно-дидактическими, как знакомые каждому со школьной скамьи имена героев Троянской войны, не имеющие никакого отношения к их теперешней жизни. И в то время как последние защитники свободы и демократии делали все возможное, чтобы подготовиться к обороне, их противники, мечтающие об олигархии, вели тайные переговоры с македонским царем, подготавливая капитуляцию Афин.
К этому времени Филипп, не отказавшись от мысли придать добровольный и даже мирный характер своей гегемонии над Элладой, решил созвать общегреческий конгресс в Коринфе, чтобы окончательно решить вопрос о войне с персами. Конгресс состоялся в 337 году, в торжественной обстановке выставляемого напоказ дружелюбия, за которым отчетливо проглядывало отчаяние побежденных. Были провозглашены всеобщий мир, независимость греческих городов и свобода мореплавания. Было принято решение о совместных действиях против пиратов, а также о недопустимости конфискаций имущества, передела земли, отмены долгов и освобождения рабов, то есть относительно того жизненно важного для толстосумов изо всех греческих городов, ради чего они окончательно отреклись от демократических идеалов своих дедов и прадедов, от общего дела свободы Эллады. И в то же время, словно бы в насмешку взывая к бессмертной памяти героев Фермопил и Саламина, к праведной мести за разрушенные когда-то персами святыни, приверженцы Филиппа настаивали на немедленном начале новой войны с востоком. И хотя Македония формально не входила в этот новый общегреческий союз, во главе всех войск был поставлен Филипп. Вести об этих событиях, имевших столь большое значение для всей дальнейшей судьбы Греции, лишь с небольшим запозданием доходили до Самоса и не могли не волновать его жителей. Но если коренные самосцы втайне надеялись, что ослабление Афин может обернуться для них возвращением хотя бы какой-то доли утраченного, то переселенцы из Аттики были серьезно встревожены. Как афинские граждане, они тяжело переживали умаление отечества; будучи приверженцами демократии и получив от этой демократии свои самосские наделы, они ненавидели македонского царя, считая его грубым варваром и деспотом. Но больше всего они опасались того, что с падением влияния Афин им придется распроститься со своими клерами и вновь оказаться в числе тех бесприютных бедняков, которыми так тяготился в последние годы их блистательный город.
И поэтому, когда осенью 336 года Самоса достигло известие о внезапной смерти Филиппа, афинские клерухи заметно приободрились, хотя, возможно, и не решались столь открыто выражать свою радость по поводу гибели деспота, как это было в Афинах, где «началось всеобщее ликование» и афиняне «распевали победные гимны так, как будто они сами совершили сей доблестный подвиг». Наверное, друзья и соседи Неокла, так же как и обыватели по всей Греции, пересуживали потихоньку подробности смерти царя, убитого на свадьбе собственной дочери: может быть, это была месть отвергнутой Филиппом царицы Олимпиады, его первой жены и матери наследника престола, а может быть, к этому приложили руку персы. Вспоминая всем известные сплетни о неумеренности царя в питии и любовных удовольствиях, о его неотесанности и грубости, о неладах в его семье, все соглашались на том, что жизнь македонского варвара и не могла окончиться иначе, чем она — слава бессмертным богам! — окончилась: собаке — собачья смерть.
Как многим в Греции, и особенно в Афинах, самосским клерухам хотелось надеяться, что эллинам все же удастся восстановить былое благополучие. В народе поговаривали о том, что теперь вот, возможно, настало время вновь попытаться остановить продвижение македонян (в обстановке всеобщей недолгой радости это казалось вполне реальным), однако этим надеждам не суждено было сбыться: сын Филиппа Александр, человек столь выдающихся дарований, что он казался скорее богом, чем смертным, и сам уверовал со временем в свое божественное предназначение, этот великий Александр поставил последнюю точку в истории греческих полисов, после чего потянулась длинная серая полоса их бесславного угасания.
В это время Эпикур уже учился в школе своего отца, как считают античные авторы, и отличался незаурядными способностями. Позавтракав парой лепешек с маслинами и козьим сыром, он приходил пораньше в класс, чтобы помочь отцу протереть мокрой губкой скамьи и доску, приготовить все для занятий. Потом собирались другие мальчики, и Неокл учил их читать, считать и писать, рассказывал о тех землях, что лежат вокруг срединного моря, о народах, живущих на них, пел вместе с ними старинные гимны, аккомпанируя на лире. Он читал им поэмы Гомера, «Труды и дни» Гесиода, и дети повторяли за ним нетленные строки, заучивая их наизусть. Чеканные строфы «Илиады» и несколько тяжеловесные сентенции беотийского пахаря (теперь уже, по-видимому, безвозвратно устаревшие) звучали, повторяемые звонкими детскими голосами, точно так же, как в те далекие годы в маленькой школе деревни Гаргетта, когда он, Неокл, восьмилетним мальчишкой начинал свой жизненный путь.
При всей скромности своего положения (впрочем, у многих из его соотечественников не было теперь и этого — ни надела, ни места учителя) отец Эпикура был образованным человеком. В дни его молодости, несмотря на всю тяжесть поражения в многолетней войне со Спартой, сокрушившей былое могущество афинян, все-таки еще сохранялись надежды (как теперь выяснилось, совершенно безосновательные) на то, что положение государства, а следовательно, и каждого из граждан со временем переменится к лучшему. Еще сохранялась тяга к познанию, и молодые люди, такие, как Неокл, читали старинных поэтов, логографов, сочинителей более позднего времени — Геродота и Фукидида, были знакомы, хотя бы поверхностно, с воззрениями Анаксагора, Протагора и Горгия, со странной мудростью Сократа — со всем тем, к чему, вероятно, успел прикоснуться и Неокл, прежде чем, гонимый нуждой, он покинул Аттику и потом из-за нехватки средств лишь несколько раз побывал в Афинах.
Спустя много лет, проводя годы на Самосе в сменявших друг друга трудах и заботах, Неокл с удивлением вспоминал: неужели же это был он и все это было? Он вспоминал, как молодым сильным парнем ходил, бывало, пешком на праздники в Афины, смотреть театральные представления во время Дионисий и Леней, и, воодушевляясь, начинал пересказывать своим маленьким, отроду ничего подобного не видевшим ученикам Софоклова «Эдипа» или же «Елену» Еврепида, и в памяти неожиданно для пего самого всплывали вдруг целые строфы. Но потом воодушевление гасло и на душе становилось еще тяжелее и горше: Неокл давно понял и, как многие из его соплеменников, даже смирился с тем, что ни о каком улучшении жизни ни его самого, ни его сыновей не может быть и речи, с тем, что прошлого не возвратить и многое из того, что раньше считалось необходимым для свободного, образованного гражданина, теперь можно было навсегда позабыть. Афиняне издавна считали обязательным для своих сыновей умение петь и играть на каком-нибудь инструменте — для развития души, декламировать стихи древних поэтов, то есть все то, что пристало благородному времяпрепровождению обеспеченных людей, которым никогда не придется заботиться о хлебе насущном и заниматься тяжелым физическим трудом. И все это было в общем не нужно тем детям бедняков, не всегда даже достаточно сытым, которые приходили в школу Неокла.
Какое уж тут благородство души, взращенное на изучении древних поэм и высеченных на стенах Дельфийского храма изречений, когда само свободное будущее этих детей вызывало сомнения, когда вся жизнь эллинов подошла, казалось, к самому краю и определялась теперь не бессмертными богами и даже не равнодушной судьбой, а прихотями полуварварского царя. И думалось невольно: кому теперь это нужно — «Познай самого себя», «Преодолевай гнев», «Добрым быть нелегко» — вся эта порядком обветшавшая мудрость свободных и сытых людей, которая мало в чем могла помочь тем, кого, как несчастных жителей Олинфа, поджидал не сегодня завтра рабский удел и перед которыми со всей ужасающей простотой вырисовывалась лишь одна основная задача — выжить. Теперь молодежь нуждалась в какой-то иной, неизвестной Неоклу мудрости, и ему оставалось лишь добросовестно отрабатывать гроши, которые платили бедняки родители, делясь с ребятишками тем, что сам успел усвоить когда-то, да пускаясь порой в ненужное, горькое плавание по великому прошлому Греции, после которого до боли невыносимым казалось возвращение к реальности.
Между тем события в Греции разворачивались так, что Неокл имел все основания беспокоиться о будущем сыновей, особенно если самосцы в конце концов сгонят их с участков. Он видел, что ему вряд ли удастся послать сыновей на несколько лет в Афины пополнить образование, а надо бы, особенно Эпикура, незаурядные способности которого и тяга к знаниям (все то, что наполнило бы его раньше, как и всякого отца, гордостью и восхищением) при теперешней жизни просто пугали. Его старший сын на глазах становился взрослым, равнодушный к забавам и играм сверстников, с не по-детски серьезным взором и пытливым умом, все чаще устремлявшимся к небу, к бескрайнему и непостижимому космосу. Его мало интересовали поэзия и музыка и, довольно безразлично внимая восторженным воспоминаниям отца о пышных представлениях в театре Диониса (тем более что на Самосе театральные представления были к этому времени редкостью), Эпикур упорно расспрашивал его о том, о чем сам Неокл знал значительно меньше — о мудрости Гераклита, Анаксагора и Протагора, о том, какие же секреты мироздания открылись этим бессмертным мужам на долгом пути познания мира. Неокл старался припомнить все, что он знал об этих философах, убеждался, что знаний его слишком мало, чтобы насытить пытливый ум сына, и думал о том, что придется его все-таки отправить поучиться к какому-то философу, хотя бы ненадолго.
Как свидетельствуют античные писатели, Эпикуру уже с раннего возраста была суждена та двойственная жизнь, которой жили и некоторые другие философы древности: жизнь бедняка, озабоченного каждодневным добыванием средств к существованию, и мыслителя, жаждущего проникнуть в загадки Вселенной, и так жил он почти до сорока лет. Он беседовал с отцом о «Теогонии» Гесиода философскую символику которой разглядел еще в детстве, а потом помогал ему убирать помещение для занятий, обрабатывать их земельный участок. Как смеялись впоследствии недоброжелатели, «он при матери ходил по лачугам, читая заклинания, а при отце учил азбуке за ничтожную плату». И действительно, в определенные дни его мать Хайрестрата ходила по домам совершать очистительные жертвоприношения, изгонять духов, читать заклинания против всякого зла, она брала с собой старшего сына, и перед уже задающимся извечными вопросами юношей вставала удручающая картина невежества, темноты и бессмысленных суеверий — зрелище, способное заглушить самые светлые намерения и поставить под вопрос саму необходимость познания. Старухи, шепчущие присловья, плюющие через плечо, брызгающие водой, переставляющие в каком-то имеющем для них некий тайный смысл порядке потемневших от времени божков на алтарях, девицы, мечтающие о приворотном зелье для богатых содержателей и до крика пугающиеся сов, ворон и летучих мышей, стяжатели с желтыми лицами и толстыми пальцами (из тех, что переворачивают дома всю мебель, если вдруг потеряется грош) — все они, чередой проходящие перед сыном Хайрестраты (он стоял за матерью, держа мешочек со всеми ее атрибутами), вызывали в нем презрение и жалость. Эти люди казались достаточно противными и в то же время совершенно беззащитными перед сонмом темных сил, которые, видимо, окружали их в зыбкой и небезопасной реальности и которые им хотелось то ли умилостивить, то ли отогнать.
Может быть, думалось сыну Неокла, они были такими оттого, что слишком мало знали о мире, что жизнь их была ограничена тесными стенами домов (одни — побогаче, другие — победнее, не все ли равно), лавок, пропахших оливковым маслом и вяленой рыбой, пыльных и шумных мастерских. Казалось, что для этих людей, погрязших в каждодневных заботах и суетных мелочах, нет вообще ни вечносущего неба, ни мириад далеких светил, что они — существа совсем иной породы, чем те великие мужи, о бессмертных учениях которых он выспрашивал отца. Убогость и мелочность жизни людской (хотя, может быть, хотелось верить подростку, где-то в других местах и иных землях люди живут иначе) действовали удручающе, появлялось желание как-то помочь им, что-то объяснить, но потом они с матерью возвращались домой, и он забывал о виденном, целиком погружаясь в чтение мало кому интересных сочинений и размышления о том, что во все времена влекло к себе лишь немногих. Юноша Эпикур вновь перечитывал «Теогонию», в тщетной надежде уловить причинную связь между именами богов и богинь, обозначавших первоначала и этапы развития нашего мира и отделенных у Гесиода друг от друга лишь ничего не объясняющим «а потом». Из Хаоса возникли Эреб — мрак и Черная ночь, писал древний поэт; совокупившись, они породили светлый Эфир и Гемеру-день. Гея же родила звездное небо, высокие горы и море… Гесиод добросовестно пересказывал, вернее, перечислял все известное (откуда известное?) ему о сотворении мира, ничего не объясняя и, повидимому, ни в чем не сомневаясь, в глубокой уверенности, что есть такие вещи, до которых человек просто не должен доискиваться, дабы не переступить отведенного смертным предела познания. Но именно эти вещи не давали покоя юному сыну Неокла: Что есть наш мир? Откуда он? И зачем? И что есть люди? Для чего им разум и что такое разум, какова его природа? И наконец, возможны ли вообще ответы на все эти вопросы? И откуда же взялся тот Хаос, из которого, как утверждает Гесиод, все потом возникло? Что это было: зияющая пустота (мальчик не мог представить ее воображением, но ощущал всем своим существом ее всепроникающее присутствие, если только может присутствовать то, чего нет и что в то же время есть повсюду и во всем) или же это было скопление некоего первовещества, из которого образовалось потом сущее во Вселенной?
Сын Неокла выходил за порог: звездное небо над головой вещало лишь единицам из смертных понятную повесть, но он не слышал, или, по крайней мере, пока еще не слышал того бессмертного Логоса — сущности мира, который вещал о тайных Вселенной мудрецам и философам. Мальчик шел спать, а потом в один из последующих дней поставил в тупик (как писал об этом античный писатель Аполлодор в своем сочинении «О жизни Эпикура») своего школьного учителя вопросом о происхождении Гесиодова Хаоса, и бедный Неокл не смог, вероятно, ответить ничего вразумительного двенадцатилетнему сыну. Он не знал, радоваться ему или же огорчаться столь быстрому развитию первенца. Он вспоминал все, что слышал когда-то или же читал о жизни философов, о том, как поступали в тех или иных случаях их более обыкновенные отцы, но ничего подходящего на ум не не приходило. Вспоминалось, что каменотес Софрониса на вопрос, как ему следует воспитывать сына (им был бессмертный Сократ), получил такой вот ответ от прохожего халдея: «Не мешай ему быть таким, каков он есть». Сам Неокл, конечно же, ни в чем не собирался мешать своему одаренному сыну и даже решил окончательно наскрести как-нибудь денег, чтобы отправить его поучиться философии в какую-то из школ, но позади всех этих размышлений отчетливо маячил один, но самый главный вопрос: «Зачем?»
Зачем сыну тратить несколько лет, доискиваясь до мудрости, добираясь до истины, если единственное, а если и не единственное, то главное, чем ему предстоит заниматься потом всю жизнь, — это добывать пропитание себе и своим будущим детям, трудиться так или иначе за гроши, ведя скудную жизнь неимущего человека, для которого вся эта философия — ненужная и даже обидная роскошь?.. Неоклу так хотелось представить себе сына, возмужавшего и бородатого, в чистом отглаженном гиматии, представить себе, как он чинно прогуливается с образованными собеседниками, с друзьями-философами, а то и с учениками по тенистым дорожкам рощи Академа, но в голову почему-то лезли совсем иные картины: потемневшие от ссадин и грязи подростки, с разбитыми о дорожные камни ногами и следами бича на спине, как их гнали (ему приходилось слышать об этом от очевидцев) из Олинфа на невольничий рынок, а ведь тоже небось не жалели отцы на учение…
И все это могло стать их общей грядущей судьбой, если события в Греции и дальше будут развиваться таким образом, как после сражения при Херонее. Потому что, хотя даже сами македоняне, немного как будто бы растерявшиеся после смерти Филиппа, «считали, что Александру вовсе не следует вмешиваться в дела Греции и прибегать там к насилию», новоявленный царь принял решение стремительным маршем привести в повиновение все эллинские области и города, чтобы затем без помех, оставив на западе укрепленные тылы, приступить наконец к осуществлению своей давней мечты — к покорению востока. Для начала же грекам нужно было дать такой урок, чтобы навсегда отбить у них охоту к неповиновению, — и вот ученик Аристотеля (которого, по его собственным словам, «Илиада» и «Одиссея» сопровождали в походах «как напутствие») приказывает сровнять с землей Фивы, наказывая фиванцев за попытку отложиться. Древнейший во всей Элладе город, где согласно преданиям родился бог Дионис и где финикиец Кадм ввел впервые в употребление алфавит, где жили в седые мифические времена гомеровские цари и герои, этот город «был взят, разграблен и стерт с лица земли. Александр рассчитывал, что греки, потрясенные таким бедствием, впредь из страха будут сохранять спокойствие… Пощадив только жрецов, граждан, связанных с македонцами узами гостеприимства, потомков Пиндара, а также тех, кто голосовал против восстания, Александр продал всех остальных в рабство, а их оказалось более 30 тысяч. Убитых же было более 6 тысяч».
Следующими могли стать Афины, так как Александр, унаследовавший вместе с престолом отца и его презрительную ненависть к Демосфену, «объявил, что он хочет, чтобы Демосфен, который называл его мальчиком и подростком… увидел его мужчиной под стенами Афин». Он потребовал выдачи вожаков демократии, и прежде всего Демосфена, который, узнав об этом, сказал знаменательные слова: «Все мы знаем, как торговцы, выставляя на блюдечке образец, по нескольким зернышкам пшеницы продают ее целую партию, так и вы того не замечаете, что в нашем лице самих же себя выдаете всех до единого». Так оно впоследствии и вышло. Несмотря на то, что в Афинах опять возобладали сторонники подчинения македонянам, страх перед не знающим сомнений сыном Филиппа был так велик, что никто не решился отправиться к нему послами просить о милосердии. Такого эллины еще не видывали: при всем вошедшем в легенды обаянии Александра и как будто бы даже щедрости это был герой беспощадный и равнодушный, мысли которого устремлялись все к новым и новым свершениям, новым великим целям, скользя по поверхности мутного моря людского. В грандиозных его замыслах не было и не могло быть места сожалениям по поводу гибели не только что отдельных людей, но целых народов и государств. У него было свое представление о том, как должна быть устроена часть Ойкумены, предназначавшаяся ему самими богами, а мнение тех, чьи судьбы и жизни он был намерен перекроить на свой лад, в расчет не принималось. Что ему было за дело до гордости и славы афинян — создателей великой, неповторимой культуры; их время навсегда уходило, а молодой македонский царь, о котором в народе шептали, что это не кто иной, как сын самого Зевса, открывал новую страницу в истории…
А сын клеруха Неокла, также обретший бессмертие, хотя он и не совершил в своей жизни ни единого ратного подвига, продолжал ломать юную голову над загадками мира и бытия, равнодушный к деяниям сильных мира сего и даже к свершениям богоподобного Александра, поражавшего человечество удалью и бесстрашием. Возможно, что для Эпикура, ненавидевшего, о чем свидетельствуют его собственные высказывания, македонян, этих завоевателей и полуварваров, непобедимый герой в царской порфире был не более чем проявлением, наиболее ярким и ужасающим, неразумного и разрушительного начала нашего мира, одним из тех, для кого нем извечно великий Логос и которые не стоят поэтому ни единого слова, нн единого упоминания в философских сочинениях о закономерностях бытия. Для него, потомка древнейшего народа, чья культура уходит корнями в мифические микенские времена, народа, давшего стольких великих мыслителей и поэтов, ценность человеческой личности определялась иными качествами, и уже с юных лет сына Неокла влекли к себе — как примеры подлинно человеческой жизни, такой, какой она должна быть в своем наиболее совершенном осуществлении, — бессмертные образы тех героев мысли, вся жизнь которых была, по словам Платона, гигантской битвой за понятие бытия. По мере оскудения Эллады все меньше рождалось таких людей, но ведь они жили же когда-то, эти поистине нечеловеческой мощи ума и духа мужи. И чем мельче, неопределеннее становилась жизнь греков, тем больше эти неповторимые образы влекли к себе тех, кто еще стремился, надеялся, пытался сохранить былое достоинство и смелость мышления, влекли как незримое, но самое ценное из достояний их потерпевшего поражение народа и виделись, возможно, залогом, обещанием того, что это поражение еще может оказаться не окончательным.
Таких людей, интуиция которых, способность к созерцанию (как сами они называли этот способ познания) позволяла им проникать в загадки космоса и тайны бытия, людей, которые проводили свой век, «направив свой взор на все небо», было немало в давние времена и на Самосе. Здесь жили мудрец Питтак, утверждавший, что «добрым быть нелегко», «слушатель» его Ферекид Самосский, «первым написавший о природе и богах и слывший провидцем, флотоводец и воин Мелисс, сын Ифигена, учившийся у Парменида. Мелисс считал, что Вселенная бесконечна, неизменна, недвижима, едина, подобна себе самой, и утверждал, что познание сущности мира невозможно. Два века назад, когда остров был еще могуч и богат, здесь жил и славнейший из самосцев, наиболее загадочный из смертных, почитаемый всеми греками Пифагор. «Юный, но жаждущий знания, он покинул отечество ради посвящения во все таинства, как эллинские, так и варварские», побывал в Египте, на Крите, может быть, даже в Вавилоне и вернулся на родину образованнейшим человеком (это признавал даже Гераклит, ни в ком не желавший видеть ни мудрости, ни истинного ума). Приобщившись к таинствам египетских жрецов, он привез в Элладу учение о переселении душ, утверждал, что помнит о своих бывших воплощениях и может даже рассказать, кем он был раньше: например, рыбаком на острове Делос.
«Предававшийся исследованию больше всех прочих людей», Пифагор занимался астрономией, математикой, музыкой, видя в последней одну из форм выражения сущности мира. Божеством для него было число, которое он положил в основу своей системы мироздания, где были связаны между собой все проявления материи и духа — все то, что, по его мнению, может быть выражено в математических формулах. Как утверждают античные авторы, Пифагор оставил после себя несколько сочинений — «О природе», «О воспитании», «О государстве», однако ко времени Эпикура об учении его знали лишь понаслышке, в основном через посредство Платона и других философов (причем многое было домыслено ими), а самих сочинений уже никто не имел.
Не желая мириться с тиранией Поликрата, Пифагор удалился в Италию и основал там в городе Кротоне школу, а вернее, тайный союз своих последователей и единомышленников. Их было около трехсот человек, мужчин и женщин, и они приобщались будто бы к некоему особому знанию, вызывая подозрение и возмущение со стороны по старинке мыслящего народа. В основе учения пифагорейцев лежало убеждение в том, что в тысячелетнем круговращении жизни земной души проходят через тела различных людей, животных и даже растений, и смерть, таким образом, есть не что иное, как очередное перевоплощение. Они считали грехом убивать животных и есть их мясо, поскольку животные также имеют бессмертную душу. Вступая в союз, пифагорейцы пять дней проводили в молчании, внимая только речам своего почитаемого, как бога, учителя, но даже не видя его, пока не закончатся предварительные испытания. О Пифагоре ходили легенды, будто он вышел к людям, пробыв до этого двести семь лет в Аиде; он казался всеведущим, величественный и грозный, как Аполлон, взыскующий высших тайн бытия и лишь одними ими дорожащий. «Жизнь, — говорил он, — подобна игрищам, иные приходят на них состязаться, иные — торговать, а самые счастливые — смотреть: так и в жизни иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как философы — до одной только истины».
Пифагорейцы считались приверженцами олигархии (хотя, по существу, их учение явилось одной из первых попыток уравнять всех людей перед лицом вечной жизни), их вера казалась кощунством по отношению к привычным богам, и, как доносят до нас легенды, почти все члены союза погибли в огне во время одного из своих собраний в доме Милона в Кротоне где-то в 500 году до н. э. О смерти самого Пифагора не известно ничего достоверного, учение же его держалось еще несколько столетий. С Пифагора античные авторы начинали обычно свой перечень так называемых «разрозненных философов» (не принадлежавших к каким-то школам и не связанных или же почти не связанных ни с какой другой из современных им мировоззренческих систем), который они завершают Эпикуром.
При всем различии таинственных построений Пифагора и той системы взглядов, которая сделалась впоследствии известной под названием эпикуреизма, всех их: и Пифагора, помнящего о своих предшествующих жизнях, и Гераклита, жившего лишь затем, чтобы «постигать знание, которое правит всем через все», и «задорного бичевателя Гомеровых кривд» Ксенофена, и великолепного чудодея Эмпедокла, и, наконец, восхищавшегося ими в свои юные годы сына Неокла — всех их роднило, объединяло «главное мнение»: глубокое убеждение в материальности вечно сущей и вечно меняющейся Вселенной, которой правят вытекающие из этой самой материальности и доступные познанию законы. Их объединяло неистребимое желание проникнуть в эти законы, прокладывая человечеству путь к осуществлению конечной и, может быть, единственной его цели — стать материей, саму себя осмысляющей. Казалось бы, зачем нам, решившим проследить жизненный путь одного из последних материалистов античности, вспоминать об этих далеких его предшественниках? Но дело в том, что без сравнения с ними, жившими на самой заре европейской цивилизации и во многом определившими дальнейшее ее развитие, невозможно понять до конца ни смысл и сущность философии Эпикура, значение его горького равнодушия, завершающего многовековой дерзкий поиск эллинской мысли, ни саму его личность: не открывателя, не наставника, не строгого судии заблуждений и слабостей своих современников (какими претендовали быть Гераклит или же Платон), но — Спасителя людей, спасителя от нарастающей жестокости и бесчеловечности, от страха, беспомощности и отчаяния перед уже ясно вырисовывающимся финалом их поучительной и блистательной истории.
Слабела, хирела Эллада, все более мизерными становились дела и заботы греков (теперь уже не свободных людей, но бесправных и льстивых подданных сначала македонских царей и наместников, а потом презирающих их римлян). Менялись задачи философии, менялись и сами фигуры философов, все больше превращавшихся из создателей грандиозных космогонических систем или в проповедников разумного компромисса с сильными мира того, или же в отчаянно-грозных пророков грядущего катаклизма. И даже уже Эпикуру великие «мужи-философы» прошлого казались порой такими же мифическими, как Агамемнон или Паламед, так они были не похожи на окружавших его людей, людей, не слишком-то просвещенных, постоянно озабоченных добыванием жизненных средств, обуреваемых сомнениями и страхами, опустившихся, близких порой к отчаянию. И поэтому сыну клеруха Неокла хотелось знать все о великих мыслителях прошлого: ему хотелось надеяться, верить, что сила гордого и непреклонного духа этих факелоносцев в бесконечной эстафете познания, мощь их ума, навеки запечатленная в их сочинениях (поражавшая даже в тех немногих фрагментах, которые пощадило равнодушное время), что все это может стать опорой и ему, рожденному, как видно, для тех же самых задач, но уже в очень печальное время… Хотя, впрочем, чем больше он узнавал о жизни этих мудрецов, тем больше приходил к убеждению, что жизнь человеческая, жестокая, неустроенная и не слишком-то разумная, всегда оставалась одной и той же, и быть философом — означало разглядеть в этом хаосе никем не управляемого бытия высшую гармонию мира, поверить в нее и донести до людей.
Разве было более радостным или же спокойным то время, когда два с половиной столетия назад нищий старик Ксенофан пел на рынках и площадях за грошовую плату, а то и просто за сытный обед собственного сочинения поэмы на исторические и философские темы? После того как ионийские города подпали под власть персов, Ксенофан, учившийся у Анаксимандра, навсегда покинул родной Колофон и более шестидесяти лет странствовал с посохом в руках от египетского Навкратиса до скифской Ольвии, вспоминая в поэме «Основание Колофона» былое величие своих соотечественников. Причину поражения греков Колофона, Милета, Эфеса он видел в том, что они променяли суровую доблесть предков на тину восточной роскоши и сделались в силу этого неспособными к сопротивлению варварам. Какое-то время Ксенофан прожил в Сицилии, а под конец своей долгой жизни (он умер почти ста лет от роду) поселился в Италии, в недавно основанном городе Элее.
Из многолетних странствий он вынес убеждение в том, что жизнь на земле развивалась не так, как толкуют об этом мифы и наивные предания древних. Окаменелости растений, кости вымерших животных, которые довелось ему видеть, наводили на мысли о том, что земная поверхность имела когда-то совсем иной вид, что море и суша менялись местами, а люди лишь по истечении неизвестно сколь долгого времени превратились в разумные существа и создали культуру и общество. Обширность знаний Ксенофана (за что его порицал Гераклит) удивляла современников. «Он утверждал, что есть четыре основы сущего, что миры бесчисленны, но неизменны», что не боги (и тем более не олимпийцы, над которыми откровенно смеялся бродячий философ) сделали человека тем, что он есть, а он сам создал и себя самого, и все то, что он имеет теперь: «Боги не все открыли смертным от начала, но сами они, ища, находят постепенно лучшее».
Однако человек своего времени, Ксенофан не мог отказаться окончательно от идеи бога, считая, что миром правит некое «высшее существо», мировая душа, пронизывающая собой все сущее. Утрата отечества, нелегкая жизнь без родных и близких, разноречивые впечатления, свидетельствующие о бесконечной переменчивости всего сущего, — все это наводило на мысль о том, что достоверное знание о мире, по-видимому, невозможно: «Достоверного знания… о том, что я называю целым природы, никто никогда не имел и не будет иметь, и если бы даже кому-нибудь и случалось высказать истинное, он бы сам того не знал, ибо над всем царит мнение». И поэтому в отличие от своего учителя, ионийского натурфилософа Анаксимандра, стремившегося выявить первоэлементы всех вещей, Ксенофан избегал определенности выводов и, по словам Аристотеля, «ни о чем… не высказывался с отчетливой полнотой», не сомневаясь лишь в том, что здесь, у нас все родилось из земли и в нее же вернется. Многие изречения Ксенофана воспринимались его современниками как пророчества.
Но с еще большим, поистине трепетным благоговением воспринимались в течение ряда столетий изречения Гераклита, сына Блосона из Эфеса, прозванного Темным за сложность и запутанного слога. Он «с детства… заставлял дивиться себе: в молодости — утверждая, что он ничего не ведает, а взрослым, что он знает все», а его сочинение о мироздании (эта грандиозная, проникнутая провидческим пафосом книга о всеобщей космической борьбе) по праву считалось драгоценнейшим из достояний эллинской мысли. В ней Гераклит попытался пересказать людям то, о чем поведал ему самому вечный голос вселенского Логоса, который «недоступен пониманию людей ни раньше, чем они услышат его, ни тогда, когда он впервые коснется их слуха». Эту книгу первым принес в Элладу некий Кратет, утверждавший, что нужно быть делосским водолазом, чтобы не захлебнуться в ней. И действительно, архаически-торжествепная темнота ее стиля, сложность фраз (напоминавших язык трагедий Эсхила), в чем менее прозорливые и не столь одаренные толкователи усматривали не только небрежность, но даже временные «затмения сознания», — все это заставило немало потрудиться античных комментаторов.
Гераклит был из тех людей (которых, если присмотреться, не так уж мало во все времена, хотя в сумрачные периоды упадка того или иного общества их становится, конечно, меньше), для которых самым важным является вопрос: «А что же там, за пределами нашей земли, за гранью этого мира?», которых процессы, происходящие в космосе, интересуют гораздо больше, чем окружающая их жизнь и, уж конечно, больше, чем их собственное благополучие. Такие люди словно бы и рождаются только затем, чтобы открыть для разумных существ хотя бы какие-то из законов Вселенной, хотя бы приблизить не ведающих о красоте мироздания и озабоченных прежде всего преходящими проблемами собственного существования к так никогда до конца и не постижимой грандиозности вечного пространства и времени.
Уже с молодых лет поглощенный, очарованный дарованным ему откровением вечной текучести бытия, величественной и страшной картиной периодически вспыхивающего космоса, Гераклит уступил брату сан базилевса (царя-жреца) в их древнем Эфесе и в дальнейшем всецело посвятил себя осмыслению мира. Именно осмыслению, ибо единственным средством познания была для него интуиция, позволявшая ему проникать в скрытую гармонию извечных противоположностей мироздания и бытия, чтобы воссоздать ее потом в пророческой символике своей поэзии. Нетерпимый к людям, считая себя причастным к мировой судьбе и необходимости, презирая суету бытия и человеческие слабости, Гераклит удалился в горы и прожил там почти до конца своих дней, «кормясь быльем и травами».
Этот сумрачный гений не ставил своей задачей выявление закономерностей жизни людской, того бытия, которое было для него, причастного ко вселенскому разуму, не более чем «кучей сору»; он не стремился к пониманию взглядов своих современников, заранее уверенный в том, что все человеческие мысли не более чем детские забавы. И хотя он признавал какую-то ценность идей Фалеса, Адаксимена и Анаксимандра, он любил повторять, что дошел до всего сам, ибо «сколько много речей он ни слышал, ни одна не заключала в себе истины».
Уверенный в своей «вечной славе вопреки всему тленному», Гераклит создает гигантскую картину мироздания, которая есть и мировая война, и вечная гармония, и правда, и необходимость, и судьба — «дитя играющее». «Все возникает по противоположности и всей цельностью течет как река. Вселенная конечна, и мир един. Возникает он из огня и вновь исходит в огонь попеременно, оборот за оборотом в течение всей вечности», — писал эфесский мудрец, утверждая идею всеобщего и непрерывного становления, в котором не имеют значения отдельные вещи и явления, идею единства противоположностей. Открывший одним из первых великую истину, что внутренний мир человека так же безграничен, как и космос великий, внешний, что «пределов души не отыщешь, по какому пути ни иди, — так глубок ее Разум», сын Блосона отважно пустился в странствие к этим недосягаемым пределам, странствие, которое дается в удел лишь очень немногим и из которого можно и не возвратиться…. За высшую радость познания (даже не радость, нет слова, способного отразить совершенно точно это священное чувство приобщения к тайнам Вселенной) Гераклит заплатил одиночеством всей своей жизни, трагическим отчуждением от людей. Но и впоследствии эллины, гордясь великим своим соплеменником и поражаясь нечеловеческой мощи его ума, нисколько не удивлялись необычности его жизни, высокомерию и тяготению к одиночеству, ибо прекрасно понимали, и с каждым поколением все больше, что так и только так мог жить человек, причастный к тайнам Вселенной.
А на западе, на другом конце греческого мира, другой, не менее известный философ, и не только философ, а врач, жрец, оратор и политик Эмпедокл из сицилийского города Агригенда, в пурпурной одежде, препоясанный золотом, совершал чудеса на глазах у благоговейно замирающего народа, как рассказывал об этом его ученик, знаменитый софист Горгий. Об Эмпедокле ходила молва, что он исцеляет больных и даже оживляет умерших, и тысячи страждущих молили его об избавлении от немощи. Он и сам уверовал в то, что обладает божественной силой, утверждал, что может повелевать ветрами, зноем и ливнями: «Я для вас ныне бессмертный бог», — говорил этот в высшей степени необычный человек из древнейшего рода, отказавшийся, как и Гераклит, от царской короны и считавший своей жизненной целью изучение природы и помощь людям. И действительно, Эмпедокл не только облегчил страдания многих своих соотечественников, не только, как пишут об этом античные авторы, помогал нуждающимся и обездоленным, но даже избавил целый город Селиунт от свирепствовавшего там мора, осушив почву, а также улучшил климат в родном Агригенте, предложив пробить в скалах проход, открывший доступ северным ветрам. Пристрастие к роскошным одеждам и тщеславие, казавшиеся уже многим из его современников неуместными для столь великого мужа, сочетались в нем с огромным умом и разносторонними знаниями, что позволило Эмпедоклу создать в своей поэме «О природе вещей» величественную картину мироздания, всю словно бы пронизанную грозным дыханием космоса, загадочными голосами его непостижимых глубин. Развивая вслед за ионийскими натурфилософами, Фалесом, Анаксименом и Анаксимандром, учение о первовеществе, он выдвигал четыре неизменных элемента, из которых слагается все сущее: огонь, воздух, земля и вода, наделяя их именами богов и говоря о них как о неких живых, разумных существах. Извечная борьба противоположностей представала у Эмпедокла как противоборство Любви и Вражды, причем «рождения всего возникшего виновником и творцом является гибельная Вражда, виновником же конца мира возникших вещей, их изменения и возвращения в единстве — Любовь». Поскольку именно в результате окончательной победы Любви совокупность всего вещества во Вселенной, как представлял себе агригентский философ, сплавляется через определенные космические периоды в некое качественно однородное единство — в божественный Сфейрос, который есть одновременно и разрушение реального мира вещей, и осуществление высшей цели всего сущего, природы и Вселенной. Полное царство Любви — это периодически повторяющиеся мировые пожары, когда (об этом же учил и Гераклит) всесильный, вечный и наделенный разумом огонь все будет «разделять и связывать».
Миры сменяют друг друга в круговороте Вселенной, и только Любовь и Вражда остаются бессмертными: «ибо как раньше они были, так будут и после; да и никогда, думаю я, неизрекаемо великое время не лишится их обеих». При ограниченной силе Любви рождается у Эмпедокла все живое в природе, поэтому у него Афродита — это взаимное влечение противоположных начал, жизненная мощь, которую он воспевает с чувственным пафосом. Естествоиспытатель и врач, Эмпедокл в отличие от сумрачного созерцателя Гераклита любит земную жизнь во всем многообразии ее проявлений, верит в великие возможности разума, который, по его мнению, один только и придает упорядоченность и смысл хаосу первоначальной природы.
И в то же время, как и другие мыслители его времени, Эмпедокл, выдвигая грандиозные космогонические гипотезы, был как-то беспомощно наивен при объяснении развития жизни здесь, на земле. Так, в частности, он предполагал, что люди возникли прямо из земли, причем сначала появились отдельные части человеческих организмов и потом уже складывались в целое. При этом он был убежден, что существуют некие общие закономерности в развитии растений, животных и человека, что все физические и душевные состояния людей сводимы в конечном счете к общим процессам природы. Одним из первых Эмпедокл выдвинул предположение о том, что в течение длительного развития организмов выживают, приспосабливаясь к постоянно меняющимся условиям, наиболее сильные из них.
Знакомый, по-видимому, с учением Пифагора, он считал также, что все тела «образуются по некоторому числовому соотношению», верил в переселение душ, рисуя сумрачную скорбную картину тридцатитысячелетнего странствия душ через самые разнообразные тела и обличья, и утверждал, что помнит о собственном предсуществовании. Разносторонние способности Эмпедокла, его собственная убежденность в своих сверхъестественных возможностях и высшем предназначении — все это способствовало тому, что не только его необыкновенная жизнь, но и кончина были овеяны легендами. Согласно одной из них философ бросился в кратер Этны. Хотя в то же время есть сведения о том, что он умер шестидесяти лет от роду в одном из городов Пелопоннеса, покинув Сицилию по политическим соображениям.
Как не похожи были все эти древние мудрецы, вошедшие в предания, на жаждущего познания сына Неокла, которому судьба и история предназначили быть одним из последних больших философов Эллады! Эти бессмертные мужи, полные сил, уверенные в себе и своем необычном предназначении, убежденные в высшей гармонии мира и бытия, обуреваемые великими целями, наверное, не смогли бы даже представить себе того отчаяния, того страшного чувства поражения, неотвратимо приближающегося конца, которое все больше овладевало теперь их потомками, сковывая их творческие силы. Они были прекрасным и мощным, многообещающим началом той великой эстафеты познания, продолжить которую ощущал своим долгом, своим жизненным предназначением Эпикур. Без их дерзания был бы невозможен и его поиск, а без сравнения с их горделивой уверенностью останется непонятным горестное спокойствие Спасителя людей, его героическая попытка воспрепятствовать уж если не распаду греческого общества, то хотя бы распаду душ своих современников.
Многое в представлениях старинных философов казалось Эпикуру (о чем он упоминает в своих письмах и отдельных дошедших до нас замечаниях) наивным и даже вообще неверным, но и то, что он подверг впоследствии насмешливой критике, явилось необходимым фундаментом, на котором ему предстояло выстроить здание собственной системы. Однако уже тогда, когда сын Неокла в свои тринадцать-четырнадцать лет приступал к изучению философии, у него возникло смутное чувство, крепнущее со временем, что и он сам и его потерпевшие поражение соотечественники нуждаются в какой-то иной философии, более близкой к реальности жизни земной, чем доступные пониманию лишь немногих построения Гераклита или же Пифагора. Потому что сама жизнь вокруг уже давно и необратимо сделалась совершенно другой. И потому что сам он, не родовитый, в достаточной степени бедный, живущий, в сущности, за счет чужого, отнятого у кого-то клочка земли, с неясным будущим, ни в чем не похож на тех с детства причастных ко всяческим благам, презирающих мирские заботы сыновей благородных и богатых отцов, которые могли равнодушно отвергнуть и власть и богатство (того, чего у него никогда не было и быть не могло) ради единственного, что их привлекало, — осмысления мира.
Впрочем, размышления о закономерностях космоса и сущности бытия с каждым годом все больше казались (и прежде всего они казались такими новым хозяевам эллинского мира — македонянам и их приспешникам) бесполезным и безобидным развлечением, которым могли утешать себя все еще мудрствующие греки, между тем как истинные мужи, ведомые своим необыкновенным царем, вершили историю. После того как, «собравшись на Истме и постановив вместе с Александром идти войной на персов, греки провозгласили его своим вождем», сын Филиппа, называвший себя сыном Зевса, мог наконец выступить в тот поход, ради которого — в чем он был непоколебимо уверен — его и послали на землю бессмертные боги. Весной 334 года с тридцатью тысячами пеших воинов и четырьмя тысячами всадников Александр двинулся в Азию, оставив часть войска под командованием своего приближенного стратега Антипатра в Македонии.
Вскоре весь греческий мир узнал о блестящей победе над персами при Гранине, за которой последовали пять лет неповторимых походов и легендарных сражений, в которых великий Александр «не только ни разу не был побежден врагами, но даже оказывался сильнее пространства и времени; это поощряло его и без того пылкое честолюбие и увлекало на осуществление самых пылких замыслов». Битва при Иссе, гибель царя Дария под Гавгамелами, покорение варварских государств, невиданной пышности царские дворцы и несметные сокровища, захваченные воинами Александра: «Македоняне тогда впервые научились ценить золото, серебро, женщин, вкусили прелесть варварского образа жизни и, точно псы, почуявшие след, торопились разыскать и захватить все богатства персов». Однако снедаемый великими замыслами царь вел их дальше и дальше, через земли бактрийцев и парфян, в сказочную Индию, преодолевая «ненастья, зной, глубокие реки, недоступные птицам высоты скал, невиданные образы зверей, скудное питание…» Весь огромный мир раскрывался перед богоподобным царем, ложился у его ног, и, завороженный этим казавшимся чудесной сказкой зрелищем, сын Филиппа и Зевса не желал замечать ничего предвещавшего изменение хода событий.
Под проливным дождем и ураганным ветром, когда «на глазах Александра несколько воинов было убито и испепелено молнией», шла переправа через вздувшуюся, выходящую из берегов реку Гидасп, ноги солдат, изможденных тропической сыростью, болезнями и недоеданием, не держались на скользком дне, и для всех, кроме самого царя, с каждым днем становилось все очевиднее, что пришла пора возвращаться.
И вот, то ли повинуясь требованиям воинов, то ли из-за уже ощущаемой собственной усталости и беспокойства об оставленных позади завоеванных землях, Александр решает повернуть назад. К этому времени первоначальные мысли и цели, с которыми он начинал свой великий поход, так же как и он сам, стали несколько иными. Постепенно, как пишет об этом Плутарх, война превратилась для него в настоящую охоту на людей (так, перебив племя коссеев, царь назвал это «заупокойной жертвой в честь Гефестиона», своего друга), а сам Александр все больше уподоблялся тем самым восточным владыкам, господство которых он ниспроверг. Это вызывало все большее недовольство окружавших его македонян. Гетайры упрекали его в том, что, окружив себя знатными персами и прочими варварами, царь пренебрегает отеческими обычаями и уже относится к соотечественникам не как «первый среди равных», но как не терпящий ни малейших возражений восточный деспот. И действительно, покорив всю Переднюю Азию, взяв осадой Тир и захватив Египет, Александр обосновался в Вавилоне, окруженный роскошью и почестями, которые раньше воздавались лишь богам.
Покончив с походами, он с той же страстью отдавался теперь преобразованию и усовершенствованию своих владений, приказав очистить древнюю сеть оросительных каналов в Вавилоне и приступив к строительству нового города в Египте — Александрии. Словно желая загладить свою вину перед греками за разрушение Фив, он принимает решение заново отстроить храмы Эллады, предназначив на это десять тысяч талантов. Одновременно выносится постановление о том, что «власть тиранов должна быть повсюду уничтожена и все государства становятся свободными и независимыми». Однако, не считая сторонников союза с Македонией из среды богатых граждан Афин, Коринфа, Мегар и Платей, милости великого завоевателя встречали угрюмое равнодушие греков, хотя лишь очень и очень немногие осмеливались открыто выражать свою враждебность и желание восстановить былую свободу. Щедроты Александра вызывали затаенное раздражение у бывших свободных граждан и особенно у приверженцев того самого народовластия, благодаря которому, как писал бессмертный Эсхил, их славные прадеды остановили волну восточного варварства. Теперь же это варварство снова устремилось на них вместе с потоком награбленного в походах азиатского золота: восток все больше вторгался, просачивался, проникал в каждодневную жизнь греков — с его богами, представлениями, мелодиями, именами, вещами, обычаями и легендами, но в отличие от марафонских или же саламинских бойцов они были не в силах противостоять этому бескровному и неостановимому наступлению. И хотя, как говорил об этом один из античных писателей, в этом огромном, доселе невиданном царстве богоподобного Александра, «как в кубке любви, все элементы народной жизни перемешались между собой и народы пили вместе из этого кубка и забывали о старой вражде и собственном бессилии», многим из греков, и прежде всего афинянам, содержимое этого кубка казалось горше полыни.
Издревле гордящиеся своей культурой, научившиеся возноситься дерзкой мыслью к крайним пределам Вселенной, искушенные во всех философских учениях, афиняне с горьким бессилием воспринимали гегемонию македонян, недоумевая, как же это все-таки могло получиться, что их город, слывший еще недавно Оком Эллады, оказался теперь в столь жалком положении. И тем, кто не мог с этим смириться, оставалось лишь одно — уходить в призрачный и в то же время непреходящий мир отвлеченного умствования, философских абстракций и математических формул. Этот мир был неподвластен новым хозяевам Ойкумены, в большинстве своем даже не имевшим понятия о его существовании. Завоевателям не было дела до таких, как сын самосского клеруха Эпикур, с трепетным благоговением вступавший в эти годы в вечный град мудрецов и искателей истины, как не было дела и до них тринадцатилетнему мальчику, который начинает к этому времени свой поиск учителей, и первым из них оказывается живший тут же на Самосе платоник Памфил. Неизвестно, как долго «слушал платоника Памфила» Эпикур (возможно, еще слишком юный для того, чтобы оценить по достоинству грандиозную красоту Платонова мира идей), но можно с полной определенностью утверждать, что построения великого идеалиста не оказали сколько-нибудь заметного влияния на его собственное понимание мира, а может быть, даже способствовали укреплению отрицательного отношения Эпикура ко всему потустороннему и трансцендентному.
Сын знатного и богатого гражданина Аристокл, известный человечеству под именем философа Платона, который основал свою школу в роще героя Академа в Афинах, начинал путь осмысления мира учеником бессмертного Сократа, того самого, которому некий высший голос («даймон», живущий в его душе) подсказывал истинную цену всех вещей при постижении «науки жизни человеческой». Как рассказывал о себе сам Платон, он вступил в жизнь полный сил и желания служить обществу, но потом оглянулся вокруг — и у него потемнело в глазах. И было отчего потемнеть: после рокового для них поражения в Пелопоннесской войне (431–404) Афины оказались в столь тяжелом положении, что, казалось, вот-вот разразится какая-то катастрофа, хлынет новый потоп, предвещанный пророками, чтобы омыть от зла и безумия измученную землю. Себялюбие и жадность богатых рабовладельцев, зашедшая в тупик афинская демократия (демократия для избранных, зиждущаяся на угнетении себе подобных), готовая вот-вот излиться ненависть бедняков, возможность восстания рабов, с каждым годом все больше ввозимых в Афины; разложение семейных и родственных связей, непоправимо пошатнувшаяся нравственность, обесценивание всех былых моральных и духовных ценностей — все это настолько расходилось с представлениями молодого философа о том, какой должна быть на самом деле человеческая жизнь, что не могло быть им принято как раз и навсегда данная и единственная реальность.
Твердо веря, так же как и Сократ, что есть в мире вещи невидимые, постижимые лишь разумом, но тем не менее самые главные и непреходящие (такие, как правда, справедливость, добродетель, мудрость и красота), которые стоят над видимым миром явлений и определяют его, Платон впервые в греческой философии решает создать такую систему, которая бы охватывала все сущее и отражала взаимосвязь между доступным ощущениям миром преходящих вещей и — умозрительным, высшим миром идей. Учение Платона, в котором преломился весь предыдущий поиск философской мысли от Гераклита до Сократа, явилось горестным ответом на историческое поражение афинского народа (как, впрочем, и всех остальных эллинов), страстной попыткой спасти свой народ, восстановить безнадежно пошатнувшееся общество и государство.
В своих сочинениях (которые уже его современниками ценились настолько высоко, что «обладатели их давали желающим на прочтение лишь за деньги») великий философ, уважаемый даже царем Филиппом, давал новое объяснение мира и бытия: с одной стороны, оно перечеркивало многое из того, что было достигнуто греками на пути материалистического объяснения мира, но с другой — оно открывало неведомые до этого грани и плоскости жизни, давало новое понимание сущностного ее смысла, того смысла, который к этому времени был почти что утрачен для многих из тех, для кого мир ограничивался лишь внешним и видимым. Бытие (такое, каким оно представало в то время для большинства растерявшихся перед несообразностями жизни людей), казалось, вообще уже не имело цены, а тем более какой-то высшей цели, и Платон берет на себя сложнейшую и недостижимую задачу — обосновать безусловное существование этой высшей цели и свести к ней все неразумие, весь столь отвратительный ему хаос жизни людской.
Выделив и обособив Мир идей (категорий, абстракций, представлений, постигаемых лишь разумом, существующих вне человеческого восприятия), Платон противопоставил этот мир преходящей, обманчивой и несовершенной реальности как мир единственно вечный и самоценный. То, что нас окружает, учил великий философ (тот, несказанной красоты лебедь, что взмыл в подзвездные выси с колен Сократа в одном из его снов), не есть истинный мир, а только бледное отражение сверхопытного, лишь интуитивно постигаемого мира идей: «Все идеи вечны, умственны и чужды страдания… в природе занимают место образцов, а все остальное сходствует с ними, будучи их подобием». Платон видел два начала всего сущего: вещество и бог (бога он называл также умом и причиной): «Вещество бесфигурно и беспредельно, из него рождается все сложное», но это сложное — апейрон, мир разрозненных явлений, сам по себе как бы не существует и приобретает значение лишь тогда, когда Разум связывает его с вечным миром идей и превращает хаос вещества в космос — стройную систему мироздания. И этот мир идей (в котором идея блага стоит выше идеи бытия) не только более ценен, он более реален, чем чувственно воспринимаемый мир обманчивых явлений, несостоятельность которого, как считал Платон, выявляется посредством диалектики. Что же касается человека, то только душа, по мысли великого идеалиста, делает его причастным к высшему царству идей, будучи своего рода посредником между миром чувственным и умопостигаемым. Заключенная в теле, как в темнице, она может, однако, посредством совершенствования стать в конце концов достойной возвращения на свою небесную родину. Поэтому смысл и содержание человеческой жизни состоят в духовном совершенствовании, в следовании добродетели (главная из которых — рассудительность), а высшая цель познания не исправление и усовершенствование этого мира, но — преодоление его, не активная деятельность, но — пассивное созерцание.
Этой единственной цели — сделать души людские достойными возвращения в высший мир идей — призваны служить и все общественные установления: семья, образование, государство. Их главная цель состоит в том, чтобы способствовать преодолению эгоизма, сребролюбия, жадности, своеволия, дерзости — всего того, что несовместимо с добродетельной жизнью и еще больше отдаляет души от вечного мира идей. Во имя этого, считал Платон, создавая в своих писаниях утопический и в целом довольно жутковатый образ идеального государства, следует (если уж не всем людям, то принадлежащим к более высоким слоям общества) отказаться от частной собственности и от семьи: все должно быть общее — земля, вещи, дети. И тогда не останется места для противоречий, раздирающих общество, и особенно афинское, нуждавшееся, по мнению основателя Академии, в немедленном оздоровлении любыми средствами. Основой такого идеального государства, управляемого философами, Платон считал земледелие и натуральное хозяйство, граждане его должны вести самый скромный образ жизни, довольствуясь лишь необходимым. Отношения между людьми должны строиться на справедливости (и справедливость эта состоит в том, чтобы каждый занимал самой природой предназначенное ему место), поскольку справедливое это и есть разумное. То самое разумное, которое дается смертным от рождения, совершенствуется в процессе занятий науками и философией и помогает человеку в осуществлении его высшего предназначения: быть посредником между земным несовершенным миром и вечным царством идей.
Такая конечная цель человеческой жизни, как ее понимал разуверившийся в своих современниках Платон, всегда была чужда Эпикуру, а тем более в его юные годы, полные радости познания мира и смелых, пусть, может быть, и наивных надежд. Ибо жестокий и сложный, раздираемый извечными противоречиями мир, в который он еще только вступал, был, несмотря ни на что, так прекрасен — многоцветный, пронизанный солнечным светом, овеваемый солеными морскими ветрами, что по сравнению с ним казался бесплодной абстракцией, горькой фантазией разочарованного в жизни человека бледный мир Платоновых идей. И уже в эти юные годы у сына Неокла возникает желание опровергнуть все эти мистические построения, помочь людям утвердиться в единственно существующем мире земной реальности, помочь уцелеть и в то же время остаться людьми среди всех жестокостей и несообразностей жизни.
Тем более что события в Греции разворачивались так, что столь презираемый Платоном «мир разрозненных явлений» оказывался явно сильнее совершенного мира абстракций, и, осознав это, философы капитулировали вместе со всем остальным эллинством. Только немногие из них, такие, как Диоген из Синопы, окончательно презревшие суету бытия, сохраняли иллюзию свободы, другие же «философы приходили к царю и выражали свою радость». Ту радость, которую никогда и в ни каких случаях не выражал Эпикур (хотя впоследствии среди недоброжелателей находились и такие, что обвиняли и его в низкопоклонстве перед царедворцами). Кажется, он не испытывал ничего, кроме недоумения, если дело касалось царей и героев. И хотя от их подвигов, внушавших удивление и страх, слишком многое зависело в жизни людей, в том числе и в его собственной жизни, что значили эти великие деяния для Вселенной, где рождаются и рушатся миры в вечном круговороте материи? И поэтому Эпикур избегал занимать свои мысли столь низменными и к тому же от него совершенно не зависящими вещами. Ему было только жаль соседей, афинских клерухов, для которых возникла угроза лишиться своих наделов: по мере того как Александр стал все чаще заявлять о том, что надо бы восстановить былую самостоятельность островов, самосцы, ободренные такими речами, все более открыто выражали надежду вернуть свои земли, занятые переселенцами из Аттики.
Для большинства клерухов это значило лишиться всех средств к существованию.
К этому времени (около 328 г.) Неокл все же решает послать своего старшего сына учиться в малоазинский город Теос, где читали тогда лекции по философии Драксифан и Навсифан. Последний из них, по свидетельству античных писателей, был последователем Демокрита, и от него наконец Эпикур услышал то, что давно искал услышать как подтверждение собственным размышлениям и что придало окончательное направление его собственному поиску.
Не бледное обиталище теней, эфемерное царство неподлинности, но весь огромный наш мир, полный манящих людской род тайн и загадок, вся Вселенная в вечном круговороте материи предстала перед потрясенным юношей в «Великом диакосмосе» Демокрита из Абдер и в других его сочинениях, по сравнению с которыми казались еще более искусственными построения Платона. Ведь недаром же «Платон хотел сжечь все сочинения Демокрита, какие только мог собрать» и, «упоминая почти всех древних философов, Демокрита не упоминает нигде». Впоследствии римлянин Марк Туллий Цицерон так писал о Демокрите: «Муж, который был среди древних не только величайшим естествоиспытателем, но и никому не уступал в обширности круга исследований». И действительно, «почти неисчислимые сочинения» абдерского мудреца свидетельствуют о его незаурядных познаниях в самых различных областях — в математике, астрономии, технике, физике, медицине и филологии. Демокрит первым выдвинул гениальную догадку относительно неких мельчайших существ, «которые не воспринимаются нашим зрением и которые через посредство воздуха входят внутрь в наше тело через нос и рот, производят тяжелые болезни». А в его книге «О земледелии» содержится ряд практических советов по сельскому хозяйству, и в частности о том, что виноградники должны быть обращены на север. Таким вот обширным был круг интересов этого необычайно одаренного человека.
Посвятив себя всецело познанию мира, Демокрит провел молодые годы в путешествиях, ища мудрости в Персии, Вавилоне, Египте (на что ушли все оставленные ему отцом деньги), а вторую половину своей долгой жизни — в занятиях науками, за писанием сочинений в своем маленьком садике в Абдерах. Пока, как рассказывает легенда, решил сам положить предел своей жизни, может быть, утомившись наконец от почти что столетнего поиска истины. Восходя своим мощным разумом к крайним пределам Вселенной, проникая умственным взором в ее скрытые от обычных людей закономерности, он не мог относиться достаточно серьезно к делам и житейским заботам сограждан, поступки которых к тому же все больше казались ему совершенно несообразными с их истинными возможностями. То, что философ видел вокруг себя, не представлялось ему особенно достойным внимания, он на все отвечал непонятной согражданам улыбкой (улыбкой человека, которого не переставало удивлять невероятное сходство явлений, происходящих как в космосе, так и в человеческом муравейнике здесь, на Земле) и за это был прозван Смеющимся философом. И понадобилось время, чтобы жители города Абдеры поняли наконец, что необычность их странного земляка есть не что иное, как гениальность. Но до этого, как пишут античные авторы, Демокрит был предан суду «за то, что он истратил унаследованное от отца имущество», — истратил не на дело (впрочем, судьи оправдали философа после того, как он прочитал им свои сочинения «Великий диакосмос» и «О том, что после смерти»), а также подвергнут медицинскому обследованию, чтобы выяснить, в своем ли он уме. Для этого в Абдеры был приглашен сам Гиппократ, обыватели остались посрамлены, а между знаменитым врачом и возмущавшим своими странностями мыслителем завязалась вошедшая в анналы истории дружба.
Самого Демокрита, видимо, нимало не беспокоило мнение о нем ни соотечественников, ни кичащихся своей образованностью афинян. Как и другим гениальным людям, ему было дано осознание собственной значимости, и он мог с полным правом писать о себе: «Я зашел дальше всех моих современников, я расширил мои исследования далее, чем всякий другой, я видел больше стран и земель и слушал больше ученых людей; в слагании мнений, сопровождаемых доказательствами, никто не превзошел меня, даже египетские землемеры; так же, как имел все основания Фукидид считать свой исторический труд достоянием вечности, а Платон — называть своих последователей «богоподобпым потомством достославного отца».
В то время, как до Демокрита, по словам Аристотеля, «никто не высказал ничего, кроме самого поверхностного, о процессе роста и изменения», Демокрит стремился выявить тот главный закон, согласно которому все эти изменения происходят, и те первоэлементы, из которых состоит все сущее. Считается, что он был учеником милетянина Левкиппа, покинувшего отечество после захвата Малой Азии персами и окончившего свои дни в Абдерах. Этот малоизвестный философ (некоторые из античных авторов вообще сомневались в его существовании), немногочисленные писания которого растворились, по-видимому, в обширном наследии его гениального ученика, первым высказал мнение о том, что в основе всего существующего лежат мельчайшие неделимые первотела — атомы и что «ничто не происходит беспричинно; все вызывается причиной или необходимостью». Развивая дальше эту мысль в своих сочинениях, поражавших и много веков спустя вдохновенным, образным языком и каким-то провидческим пафосом, Демокрит создал гигантскую модель мироздания — вечного и бесконечного Космоса, начало которого «суть атомы и пустота»: «Миры бесконечны и подвержены возникновению и разрушению. Ничто не возникает из несуществующего и не разрушается в несуществующее. Атомы тоже бесконечны по величине и количеству, они вихрем несутся во Вселенной и этим порождают все сложное». Он утверждал, что и душа материальна и состоит из круглых, более, чем прочие, подвижных атомов. Вследствие изменения формы, сочетания и положения атомов возникает все существующее в природе, развитие которой определяет не какая-то божественная сила (и тем более не привычные олимпийские боги), но присущие самой природе закономерности.
При всей мощи своей интуиции, позволявшей ему проникать в глубины Вселенной, Демокрит (так же как и Эмпедокл) становился как-то наивно беспомощным, когда приступал к объяснению жизни здесь, на Земле, которая представлялась ему огромным, полым изнутри диском. Вот как, в частности, он объяснял зарождение различных живых организмов: когда в результате вихреобразного кружения и соединения атомов небо отделилось от земли, «грязеподобное и иловидное вещество, соединенное с влагой, осталось пребывать на том же месте вследствие своей тяжести»; образовавшиеся на поверхности земли гниющие образования отвердевали от солнца, но внутри их продолжалось развитие жизни и, «наконец, когда эти образования, носящие плод в чреве, вполне созрели и их оболочки прожглись насквозь и разорвались, тогда из них возникли разнообразные формы животных». Таким же, по мнению абдерского философа, было и чисто земное происхождение «микрокосмоса» (как он называл человека), этого «малого мира», который живет и развивается по тем же законам, что и космос великий, хотя глубинные взаимосвязи между этими двумя мирами, причины их подобия, по-видимому, навсегда останутся непостижимыми. Так же как останутся, наверное, без ответа и главные из главных вопросы: что есть наш мир? зачем он? и что есть разум? — «ибо истина скрыта в глубине».
Как бы ни складывались впоследствии отношения Эпикура с Навсифаном, его первым наставником в «науке демокритовской», бессмертный образ абдеритянина, «мыслью проникавшего во всю беспредельность Вселенной», навсегда заслонил всех иных философов, и особенно тех, что искали в бесплодных абстракциях, в мертвых конструкциях, выстроенных из логически правильнейших умозаключений, разгадку того великого, грозного и могущественного, прекрасного и самоценного, что окружает нас, частью чего мы являемся и что называется жизнью.
Скорее всего Эпикур был недолго слушателем теосского демокритовца, вряд ли отец мог несколько лет оплачивать его обучение (впоследствии недоброжелатели не раз язвили, что он, мол, учился на медные деньги). Кроме того, у него, с юных лет предпочитавшего самостоятельность мышления и гордившегося тем, что «он всем обязан лишь самому себе», не сложилось дружеских отношений с Навсифаном. Скорее всего их разногласия имели прежде всего мировоззренческий характер, что подчеркивал сам Эпикур в «Письме к митиленским философам», называя Навсифана «скверным человеком, занимавшимся такими вещами, посредством которых нельзя достичь мудрости». Однако противники Эпикура немало постарались для того, чтобы усугубить взаимное недоброжелательство, поскольку Навсифан тоже не очень-то жаловал бывшего ученика, может быть презирая за бедность, может быть возмущаясь его чрезмерной, на его взгляд, самонадеянностью. И как бы там ни было, пути их довольно скоро разошлись навсегда. Между тем Эпикуру исполнилось восемнадцать и, как афинский гражданин, он должен был отправиться в Афины для прохождения воинской службы — так называемой эфебии, первоначальный смысл которой все более утрачивался по мере того, как некогда богатый и могущественный город превращался в захолустную провинцию, а его молодому воинству оставалось на выбор — либо идти в наемники куда-то в другие земли, ко дворам богатых-владык и тиранов, либо смириться с положением вспомогательной силы при македонских хозяевах. Того свободного, цветущего отечества, которое клялись когда-то защищать до последней капли крови афинские эфебы, больше не было, и сама эфебия (так же как и многие другие общественные и государственные установления) все больше приобретала характер изжившей себя, но еще поддерживаемой какое-то время традиции.
Сын Неокла с удовольствием собирался в Афины, этот прекраснейший из городов. Как бы ни был он всю жизнь равнодушен к развлечениям и пестрой мишуре бытия, широкий, еще непознанный мир открывался теперь перед ним, жизнь, по сравнению с которой казалось еще более скромным прежнее его существование, с его удручающим однообразием. Может быть, казалось ему тогда, эта новая жизнь, в великом блестящем городе, знакомство с какими-то новыми, пока еще чужими, но, без сомнения, тоже блестящими и интересными людьми, дадут ему значительно больше, чем многократно перечитанные драгоценные свитки. Может быть, он надеялся узнать от афинских мудрецов нечто такое, что сразу же внесет порядок и ясность во все его дальнейшее существование, раз и навсегда определит его смысл. И понадобилось время, чтобы начинающий философ понял и осознал, что одинокие вечера над писаниями древних мыслителей, ночи, проводимые в размышлениях под звездным небом, преисполненные спокойствием и красотой прогулки по полям и холмам — это-то и есть его настоящая жизнь. И что среди многолюдства больших городов отыщется совсем немного таких, с кем захочется ему подружиться, просто даже поговорить.
Но пока он с удовольствием предвкушал желанную встречу с Афинами, этой обителью муз, давшей Элладе столько великих философов, озарившей умы и души людей тем живительным светом свободы и разума, отблески которого не угасали в течение долгих столетий.
Глава 2
ОКО ЭЛЛАДЫ
Горе тебе, Греция, что ты сама погубила столько людей, которые, если бы они еще жили, способны были бы, объединившись, победить всех варваров, вместе взятых.
Агиселай, царь Спарты
И вот Эпикур в Афинах, куда он прибыл столь же безвестный и никому не интересный, как в свое время бессмертный учитель его Демокрит. Подобно многим другим юношам, сын Неокла был преисполнен желания приобщиться к учености, которой все еще славился город Паллады, чтобы спустя много лет с разочарованием отвернуться от этой учености, противопоставив ей свою человеколюбивую мудрость. Наконец-то он был на родине, священной земле Аттики, вскормившей его предков, в этом прекраснейшем из городов, над которым, казалось, витали тени древних героев, прославленных стратегов и вдохновенных поэтов прошлого. Казалось, что над Агорой все еще слышались голоса Фемистокла и Аристида, Перикла и Никия, с трудом пробиваясь через те беспощадные и жестокие годы, что отделяли свободный и гордый полис от лицемерной македонской провинции.
Хотя владычество непобедимого Александра над значительной частью Ойкумены было неоспоримой реальностью, среди афинян находились такие, которые не утратили совершенно надежды на восстановление самостоятельности и только ждали подходящего случая, чтобы выступить против ненавистных македонян. Напрасно старый Фокион, тогда один из наиболее влиятельных афинских граждан, человек, известный своей порядочностью и справедливостью, убеждал мечтающих о независимости, что борьба с Македонией изначале обречена на поражение и что в создавшихся условиях остается единственное — научиться извлекать как можно больше выгоды из покровительства македонского царя. Но вопреки неумолимой логике истории, презирая тот здравый смысл, к которому взывал почтенный Фокион, память о славном прошлом была еще так жива, а горечь поражения так нестерпима, что противникам Македонии этот честный старец казался столь же ненавистным, как и наглый Демад, главный из тех, что заправляли теперь делами города, подпавшего под власть завоевателей.
И если напоминавший в чем-то патриархов седой старины Фокион старался наставить сограждан на путь, представлявшийся ему единственно спасительным и верным (так, он призывал их вновь обратиться к земледелию, считая, что только труд на земле может способствовать возрождению благосостояния и нравственности), то ни во что не верящий Демад почитал афинский народ не более как за бессмысленное стадо.
И вот наконец противникам Македонии представился случай показать Александру, что еще не все афиняне превратились в рабов. Как раз в это время, когда Эпикур начинал отбывать военную службу, город был взбудоражен весьма необычным событием, которое вызвало настоящую бурю, казалось бы, совершенно угасших гражданских страстей: в феврале 324 года в гавани Мунихий появился Гарпал, бежавший от Александра растратчик-казначей, с кораблями, наемниками (всего шесть тысяч) и какими-то невероятными сокровищами, о размере которых можно было только догадываться. Попросив убежища, казнокрад рассчитывал на имевшееся у него право афинского гражданства, но больше — на то зерно, которое пообещал раздать оголодавшим (год был неурожайный) беднякам, а также на те дорогие подарки, которые он делал, бывало, влиятельным людям в Афинах.
Сначала афиняне отказались впустить Гарпала, но потом ему все-таки разрешили остаться в городе, без наемников и кораблей, как молящему о защите. Что же касается украденных сокровищ, то значительная часть их была при Гарпале. Когда от царя прибыло требование выдать беглеца, в собрании разгорелись жаркие споры. Сторонники дружественных отношений с Александром считали, что Гарпала следует немедленно выдать. Настаивая на своем, они убеждали сограждан не давать царю повода для вторжения в Аттику, к чему его давно уже побуждали некоторые македоняне. Они говорили, что беглый казнокрад, известный вообще своей непорядочностью, нарушил свой долг и тем заслужил наказание. Однако другие, в том числе и Фокион, считали, что с этим делом стоит выждать и повременить. В конце концов решили взять молящего о защите под стражу до тех пор, пока царь не пришлет за ним. Отобрать у Гарпала сокровища было поручено Демосфену.
Оставалось лишь ждать прибытия посланных от царя, как вдруг в одно прекрасное утро стало известно, что Гарпал бежал. Возмущению афинян не было предела, так как теперь уже ничто не могло их спасти от гнева Александра. Обвинения обрушились прежде всего на Демосфена, поскольку Гарпал мог бежать только при явном его попустительстве. Противники знаменитого оратора с яростью обвиняли его в том, что он получил взятку от царского казначея, а именно «золотой персидский кубок изящной работы стоимостью в 20 талантов». Тут же была назначена следственная комиссия от ареопага, чтобы выяснить все обстоятельства бегства Гарпала, однако дело продвигалось медленно и затянулось чуть ли не на полгода. Между тем стало известно, что Гарпал убит на Крите своим другом, спартанцем Фидроном, бежавшим затем с его сокровищами и наемниками в Кирену. Схваченный на Родосе приближенный раб казначея, который вел его счета, признался во всем, что ему было известно относительно денег Гарпала. В Афины был послан список тех, кто получил крупные суммы от Гарпала, имени Демосфена среди них не оказалось.
И тем не менее, когда спустя полгода ареопаг окончил следствие и были произведены домашние обыски, среди обвиняемых по делу Гарпала (вместе с Демадом, зятем Фокиона Хариклом и Аристогином, наиболее бесчестным из тогдашних политиканов) перед судом предстал и Демосфен. Так велика была к нему ненависть противников демократии и столь удобным оказался повод навсегда избавиться от этого радетеля за то, чего, по существу, уже не было, — за свободу и честь греков, что Демосфен был приговорен к огромному штрафу, схвачен и брошен в тюрьму (в то время как презираемый всеми Аристогин был оправдан). Бежав из темницы с помощью друзей, Демосфен удалился в изгнание, и в Афинах надолго восторжествовали сторонники разумного мира с македонским царем, мира тяжелого и беспросветного, как сон уставшего насмерть раба.
Таким образом, Демосфен, один из последних подлинных граждан древнего полиса, страстный поборник свободы и демократии, был опозорен как взяточник, и обыватели могли теперь разглагольствовать о том, что и этот мнящий себя честнее прочих оказался такой же, как все, и у него разгорелись глаза при виде персидского золота. Теряющим с каждым годом былое достоинство людям было приятно и удобно считать, что и Демосфен оказался не выше и не лучше других: ведь теперь уже не было рядом почти никого, кто являл бы собой постоянный укор их собственной слабости, стяжательству, трусости, равнодушию к судьбам отечества и бессилию перед македонянами.
Едва лишь затих шум по делу Гарпала, как афиняне встали перед необходимостью выполнить и другие требования Александра — о воздаянии ему божеских почестей (в других подвластных царю землях уже почитали его как бога), а также о возвращении изгнанников, что для афинян означало, по существу, отказ от занятых ими когда-то территорий на островах и в зависимых от них областях. В свое время Демосфен очень ратовал за то, чтобы грекам всем вместе воспротивиться этому последнему требованию, что же касается божеских почестей для Александра, то здесь он советовал согражданам уступить, ибо никто из разумных людей не может принять всерьез такое обожествление.
И в том, что даже Демосфену этот вопрос представлялся столь незначительным, и было самое печальное. Афинянам уже было не во что верить: их старые олимпийские боги, прекраснотелые, грозные, порой легкомысленные, как сами люди, умерли или же навсегда удалились в какие-то иные пределы. Вечный Дионис, животворящий и всемогущий, стал теперь чем-то вроде румяного, подвыпившего гуляки, утратив в глазах уже ничего от жизни не ждущих людей свою грозную силу. Всеведущий Даймон подсказывал цену всех вещей нищему Сократу, но он был нем для других. Что же касается вселенского Логоса, вещавшего в азийских горах для бессмертного Гераклита, то он тем более был незнаем для массы людей, погруженных в заботы обыденной жизни. А жизнь становилась все более мелочной, и все эти мелочи постепенно свелись лишь к одному, самому главному — выжить и уцелеть. Теперь люди пытались верить во что угодно — в приметы, знамения, чудеса, но богов, их прежних богов, придававших жизни строгую ясность и смысл, у них больше не было. И поэтому на место их мог претендовать теперь каждый, кто всерьез возомнил себя божеством, а главное, имел достаточно воинов, чтобы заставить считать себя таковым и других.
Восемнадцатилетнему эфебу Эпикуру, сколь бы зрелым не по возрасту умом он ни был наделен, все эти перипетии афинской политической жизни (если усилия угодить всемогущему царю, не поступившись при этом последним, можно было назвать политикой) были малопонятны и чужды. Представляется возможным говорить о том, что сын Неокла всю жизнь предпочитал оставаться в стороне от политики и общественной жизни, утративших былое содержание и значение вместе с потерей греками их независимости. Однако то, что он видел в эти годы в Афинах, не могло не повлиять решающим образом на его мировоззрение и выбор жизненного пути, породив в нем все более крепнущее убеждение (убеждение горестное и безнадежное) в том, что время подлинной общественной деятельности, время больших свершений и гражданских подвигов навсегда миновало. А откровенное злобствование, недоброжелательство многих сограждан по отношению к Демосфену, поток клеветы, который обрушился на этого защитника демократии, тщетно пытавшегося не уронить окончательно старинную славу и честь афинян, все это еще раз подтвердило, насколько неблагодарно занятие политикой — то, о чем не раз писали философы. Бескорыстие, патриотизм, страстный пафос обличителя Филиппа только мешали афинянам, безнадежно опускающимся от нужды и зависимости, тем более что теперь даже самые искренние и энергичные усилия изменить положение дел к лучшему были, в сущности, бесполезны, потому что время свободного полиса навсегда миновало.
Потому что того афинского демоса — деятельного, гордого и предприимчивого народа, труды и свершения которого превратили два века назад их древний город в Око Эллады, уже не было. И в этом Эпикур мог с удивлением убедиться уже в свой первый приезд в Аттику. Теперь это были в основном обыватели, дорожащие лишь собственным благополучием, да охлос — неимущая и вынужденно праздная, полуголодная, завидующая, ненавидящая и раболепствующая толпа тех формально свободных людей, которых рабский труд, бесконечные войны и новая плутократия вытеснили постепенно из сельского хозяйства, из мастерских, из торговли и морского дела, а ищущие популярности демагоги приучили жить на подачки государства. Оторванные от труда, от освященного традициями прежнего уклада жизни, внуки и правнуки марафонских бойцов и победителей персов при Саламине все больше утрачивали былое достоинство, чувство стыда, справедливости и даже — что было самое страшное — само желание что-то делать и за что-то бороться. И нужна была огромная человеколюбивая мудрость, то сострадание к себе подобным, которые больше, чем кому бы то ни было, были присущи Эпикуру, чтобы увидеть в этой толпе (столь презираемой многими философами того печального времени), в этих обездоленных, неимущих, бессильных перед ходом истории людях, терзаемых сомнениями, страхами и безнадежностью, прежде всего братьев своих по судьбе, чтобы пожалеть их и задуматься о том, как же можно им помочь.
Вряд ли эфебия занимала все время Эпикура, который использовал это свое первое пребывание в Афинах для того, чтобы, как считают античные авторы, посетить занятия академика Ксенократа, а также послушать Аристотеля. Если два века назад молодые люди из всех демов Аттики, готовясь стать достойными защитниками отечества, овладевали во время эфебии основами воинского дела, жили в лагерях на границе, приучались сами добывать пропитание на горах и в полях, переносить усталость и голод, спать на земле, то теперь многое из этого казалось ненужным. И если, гордые честью служить афинскому народу, молодые эфебы клялись когда-то в храме Аглавры «не оставить после себя отечество свое умаленным, но более могущественным и более крепким», то теперь это были пустые слова: их отечество в силу неумолимого хода событий было настолько «умаленным», что защищать уже, в сущности, было почти что нечего. Напрасно Демосфен призывал в свое время сограждан возродить былую воинскую доблесть: никто уже не хотел брать на себя тяжесть ратного дела, что же касается долга и славы, то о первом предпочитали не говорить, а вторая, как кажется, никого уже не прельщала. Афиняне все больше предпочитали спокойно отсиживаться по домам, платя наемникам из государственной казны и оказываясь порой в зависимости от этой солдатни, когда денег для оплаты не хватало, а стратеги были не в силах ее сдержать. После рокового поражения при Херонее и походов Александра о самостоятельных военных начинаниях думать не приходилось, и если кто из афинских юношей еще овладевал с усердием воинской наукой, то только для того, чтобы отправиться наемником куда-то в другие земли. Что же касается мужей-философов, то, наверное, Диоген Синопский, храбро сражавшийся при Херонее, был последним из тех, у кого приверженность к мудрости не вступала в противоречие с воинской доблестью; того своего, что нужно было бы отстаивать до последней капли крови, больше не было и поэтому такие, как будущий философ Эпикур, которые не усматривали ничего общего между собственной жизнью и завоевательными планами македонских царей, навсегда исключили эту сферу человеческой деятельности из своего внимания и рассмотрения.
Будучи в эти годы в Афинах, Эпикур имел все возможности пополнить свое образование (а некоторые из обращавшихся к описанию его жизни вообще считают, что он прожил два года в Афинах только с целью послушать тамошних философов), а также познакомиться с жизнью этого прекраснейшего из городов. Тем более что судьба свела его с таким искрящимся радостью бытия человеком, как Менандр, — юношей «блестящего рода и блестящей жизни», будущим великим поэтом-комедиографом. Как считают античные авторы, Менандр был одним из близких товарищей Эпикура по эфебии и, тяготея в эти годы как к поэзии, так и к философии (он был слушателем Феофраста), мог приобщить к этим двум равновеликим сферам духовной культуры афинян симпатичного ему новобранца с Самоса.
Разноликие, сложные, не сразу и вдруг постигаемые предстали перед Эпикуром Афины, уже начинающие угасать и все еще прекрасные; драматический мир Демосфеновых речей и пестрая мозаика будущих комедий Менандра. После того как большая часть Ойкумены оказалась под властью великого Александра, в Греции наступило спокойствие, персидское золото хлынуло в оскудевающие города, в том числе и в Афины, и жизнь сразу стала сытнее и благополучнее. И уже не такой катастрофической казалась пропасть между обнищавшей толпой менее удачливых граждан и кучкой с каждым днем богатеющих богачей, которые в отличие от знатных и состоятельных людей прошлого отнюдь не считали свое добро достоянием полиса и лишь под большим нажимом раскошеливались на общественные нужды. И если раньше даже такие великие мужи, как Фемистокл или же Кимон, жили в скромных домишках, а доставшиеся им в бою персидское золото употребляли на постройку кораблей, сооружение общественных зданий и храмов, то теперь, на что с горечью сетовал, бывало, Демосфен, «наше государство довольствуется тем, что сооружает дороги, водопроводы, белит стены и делает еще разные пустяки… зато в частной жизни из таких людей, которые ведали каким-нибудь из общественных дел, одни соорудили себе частные дома, роскошнее общественных зданий, не говорю уже — великолепнее, чем у большинства людей, другие же занимаются сельским хозяйством, скупив себе столько земли, сколько никогда и во сне не мечтали иметь». Причину такого положения дел великий оратор видел в том, что раньше «народ был господином и хозяином над всем… а сейчас, наоборот, всеми благами распоряжаются эти люди (он имел в виду плутократов)… а народ оказался в положении слуги и какого-то придатка» и бывает доволен тем, что «эти люди» ему уделяют.
И действительно, тех, кто заправлял теперь городом, весьма мало интересовало мнение как отчаявшихся, махнувших на все рукой бедняков (которых еще Исократ предлагал всех скопом отправить в поход против персов), так и тех обывателей, располагающих кое-какими средствами к жизни, противные, смешные и жалкие образы которых навеки запечатлел Феофраст в своем сочинении «Характеры». Не стратеги и политики, умные и преданные родине люди, устроители отечества, еще и теперь глядящие куда-то вдаль невидящими глазами знаменитых скульптурных изображений, этих прекрасных мраморных портретов, поражающих суетливого, тревожащегося нашего современника своим величавым спокойствием, неповторимой гармонией ума и духа, не они определяли теперь судьбы Афин. Люди такого рода словно бы вымерли навсегда, их заменили с утра толпящиеся на перекрестках, площади и в портиках ничем не занятые и, наверное, уже не способные ни к какому серьезному делу болтуны, без устали хвастающие кто тем, как ходил он в поход с Александром и сколько привез драгоценных кубков, украшенных самоцветными камнями, а кто — ручной галкой с медным щитком на крыле. Гетеры (из тех, что «глотают с кораблями вместе корабельщиков»), параситы — на все готовые любители дармовых угощений, стяжатели и скупердяи всех мастей, циничные и наглые демагоги, всеми презираемые и сами презирающие всех и вся, — вот кто были теперь протагонистами драмы, которая разыгрывалась на древней сцене города Афины—Поллиады и приобретала все больше обличье пестрого и смешного до слез фарса.
— говорит о себе без ложной скромности Парасит в одной из комедий этого печального времени глубокого нравственного упадка и столь же глубокого отчаяния. И это, в сущности, мог сказать о себе почти каждый из афинян, у которых бедность, зависимое положение, неопределенное будущее (когда при любом неблагоприятном повороте событий многих из них могли просто вывести на невольничий рынок), уже заглушили в значительной степени чувство собственного достоинства и чести.
Новые хозяева города, не говоря уже о македонских царях, наместниках и полководцах, мнящих себя властителями Вселенной, были очень и очень чувствительны к лести. И поэтому, если раньше афиняне, считавшие всех равными перед отечеством, «не ставили… бронзовых изображений ни Фемистокла, начальствовавшего в морской битве при Саламине, ни Мильтиада, предводительствовавшего при Марафоне», то герои этого смутного и горестного для старинных греческих полисов времени жаждали и бронзы, и мрамора, и поэтического слова, словно бы желая заставить целый свет поверить в себя таких, какими они никогда не были и не могли быть. Теперь столь многие претендовали быть героями или полубогами, что все это превращалось понемногу в гигантский постыдный фарс, и афиняне, привлекаемые дармовыми угощениями и зрелищами, теряющие с каждым поколением представления о справедливости и чести, с легкомысленным бессилием играли и свою незавидную роль в этом фарсе, презирая и тех, кого дружно превозносили до небес, и, может быть, самих себя.
Такими предстали при близком рассмотрении перед молодым человеком, взыскующим тайн мироздания, его соотечественники, такими ему предстояло их принять, полюбить и попытаться спасти. Спасти от отчаяния, от нравственной деградации и невежества, приподнять и сделать достойными (хотя бы настолько, насколько это было возможно при общем их непоправимом состоянии поражения) тех древних корней великого культурного древа, поздними побегами которого им выпало быть. Можно только предполагать, насколько сложное и неоднозначное впечатление произвели Афины на эфеба Эпикура, как была далека эта во всей своей широте и противоречивости открывшаяся ему жизнь от того мира философских абстракций и вечных истин, который звал его к себе в писаниях древних мудрецов. И понадобились годы для того, чтобы выработать свое отношение к этой пугающей, приводящей в отчаяние, порой просто отталкивающей реальности и противостать ей теми средствами, которыми располагает философ, — убеждением, словом, примером всей своей отданной людям жизни.
Можно также предполагать, что юношеская дружба с Менандром вряд ли переросла впоследствии в те прочные отношения взаимопомощи и любви, которые связывали Эпикура на всем протяжении жизни с целым рядом родственных ему по духу людей. Слишком уж они были разные: жизнелюбец Менандр, превзошедший, по свидетельству современников, всех остальных поэтов в даровитости, окруженный успехом, вниманием женщин, богатый и обаятельный, и — сын Неокла, неизвестный и малоимущий, самоуверенный ученик бессмертных философов, который уже в молодые годы не мог не порицать многое из того, что влекло к себе несравненного Менандра. И если Менандр уже эфебом начал пробовать свои силы в искусстве театра, чтобы прославиться впоследствии на века целым рядом блестящих и занимательных комедий (за драматическим совершенством которых таилась все та же духовная пустота утративших самостоятельность и пытающихся обрести себя в своем личном мирке людей), то Эпикур всегда был в достаточной степени равнодушен к театру, считая его, подобно многим другим философам, не более чем зрелищем, пустым времяпрепровождением ничем серьезным не занятых людей.
И действительно, теперь уже мало кто помнил, как во время великих Дионисий взывали, бывало, Эсхил, Софокл или же Еврипид к умам и сердцам сограждан устами своих то величественных, как сами боги, то страстных и бунтующих против самой судьбы героев. Тогда театр был призван воспитывать высокую гражданственность, способствовать совместному постижению исконных, главных законов бытия, вызывая катарсис — очищение души через сопричастность к чужому страданию. И вдохновенные, одной лишь истине служащие поэты, которые казались порою даже не людьми, а некими живыми инструментами, божественными лирами, через которые сам Логос открывает смертным свои извечные законы, создавали неповторимые трагедии в том состоянии экстаза, священного безумия, без которого, как утверждали Демокрит и Платон, вообще не может быть истинного искусства. Теперь же это было только развлечение. Душа эллинского народа засыхала по мере того, как он все больше впадал в униженное, полурабское состояние, и Афинам уже было никогда не дать миру ни нового Софокла, ни Аристофана, так же как никогда уже было не повториться прославляющим красоту бытия и величие свободного человека песням Сапфо или Пиндара. И если раньше просцениум театра Диониса сотрясали те же гражданские страсти, что кипели в Совете и на Агоре, если раньше осмеянные демагоги, даже самые всесильные из них, возбуждали судебные процессы против никого не щадящих комедиографов, то теперь здесь разыгрывались беззубые и никого не трогающие, хотя и довольно занимательные сюжеты из жизни афинских обывателей.
И если раньше трагический герой сражался и погибал в борьбе с немилостью богов или с самой судьбой, отстаивая некие, «не человеком данные» законы чести, справедливости и правды, то теперь действующие лица были озабочены главным образом своими сердечными делами да дележом богатого наследства. Изящные, в целом довольно привлекательные молодые люди (лучше которых уже не стоило искать в Афинах) страдали по возлюбленным, уламывали сварливых отцов и дядюшек и даже совершали благородные поступки, ни слова не произнося о самом главном — об общем поражении всего греческого народа. Может быть, потому, что со временем сами греки уже перестали чувствовать, осознавать это поражение и, привыкнув жить в подчинении и полурабстве, уже не представляли себе, что можно жить как-то иначе. Навсегда отзвучали на древнем просцениуме театра Диониса те вечные вопросы, в ответе на которые видели смысл своего творчества, всей своей жизни Эсхил и Еврипид, потому что во всей Греции уже не нашлось бы человека, решившегося задать их. А те, кого, как будущего философа Эпикура, эти вопросы еще волновали, предпочитали давать свой ответ иным способом.
Гораздо больше влекла их к себе та «гигантская битва за понятие бытия», которую издавна вели между собой великие мыслители Эллады, превыше самой жизни ставившие познание мира, и от которой теперь оставались лишь последние отзвуки, растворяясь понемногу в равнодушном, схоластическом умствовании утративших былое значение философских школ. Хотя в роще легендарного Академа, где четверть века назад беседовал с учениками Платон, или в Ликее, где еще учил Аристотель, продолжали собираться те, «кто придерживались того или иного истолкования видимых явлений», и молодые люди по-прежнему тянулись сюда за мудростью, с каждым годом становилось все очевиднее, что объяснить происходящее в космосе, оказывается, намного легче, чем понять то, что творится вокруг, на Земле. И поэтому для тех, кто еще не утратил стремления познавать, казалось предпочтительным и более целесообразным углубиться в исследование каких-то более частных и доступных предметов и областей. Избегая ставить вопросы об общем, и академики, и последователи Аристотеля погружались теперь в занятия грамматикой, ботаникой и логикой, без конца комментировали труды основателей своих школ, по традиции полемизируя друг с другом и все более смыкаясь в основном — в бессилии понять наш мир и то, что им движет. То, что слушал в эти годы в Афинах Эпикур, с чем он по большей части не соглашался и подвергал придирчивому разбору в своих последующих сочинениях, явилось тем не менее той почвой, благодаря которой стали возможны его собственные труды и сама его философия. Приобщившись к учености и академиков и перипатетиков, оценив мироотречение киников и равнодушие к суете мирской скептиков, сын Неокла не стал в конце концов ничьим учеником, с юных лет почувствовав в себе силы и призвание самому стать учителем всех страдающих и неприемлющих то, что навязывала им неумолимая история.
В Академии тогда главенствовал Ксенократ. стремившийся сохранить среди эллинов славу Платоновой школы. Однако грандиозные идеи Платона оказались, по-видимому, не полностью доступны даже его не столь гениальным последователям, их построения все больше приобретали поверхностно-мистический характер и, уча о циклическом существовании миров, о переселении душ, они брали значительно больше у Пифагора, чем у Платона. И если вечный и совершенный мир Платоновых идей был порожден в значительной мере гневным поиском великого философа, его попыткой найти какой-то выход из плачевного состояния и афинского общества, то равнодушие его последователей, их стремление вообще отойти от неподвластной им реальности, постепенное сближение со скептиками — все это говорило о том, что и мужи-философы Эллады, еще полвека назад вынашивавшие планы идеального государства и создававшие законы для граждан, молча расписывались теперь в своем бессилии. И по мере того как менялось содержание и назначение философии, во главе прославленных школ становились люди, все меньше напоминавшие их великих основателей. О племяннике Платона Спевсиппе, возглавившем Академию после его смерти, Диоген Лаэртский пишет, что он был весьма далек от высокомерного величия своего гениального дяди: «склонный к гневу и падкий на удовольствия» Спевсипп «брал и с согласного, и с несогласного», в то время как сам Платон учил бесплатно.
После Спевсиппа во главе школы стал Ксенократ из Халкедона, один из немногих, близких Платону при жизни учеников, бывший с ним в Сицилии. Неразговорчивый и важный, постоянно погруженный в занятия и размышления, ежедневно «целый час уделявший молчанию», Ксенократ более, чем кто-либо другой, соответствовал представлению об истинном философе и пользовался уважением не только у соотечественников, но и у македонян. Однако при всех достоинствах этого академика и его в свое время «афиняне вывели на продажу за то, что он не мог уплатить подать с иногородних» (ведь он был из Халкедона), а выкупил его слушатель Аристотеля, Деметрий Фалерский, будущий правитель Афин.
Твердо придерживаясь заветов Платона (и особенно его космогонии, изложенной в «Тимее»), Ксенократ пытался развить дальше учение о мировой душе, используя при этом многие из положений пифагорейцев и обращаясь снова к древним представлениям об олимпийских божествах: мировая душа у него (она же сущность мира, его движущая сила) есть одновременно и высший Зевс, и самодвижущееся число, и посредник между высшим и низшим мирами. Следуя Пифагору, Ксенократ учил о вечном странствии душ, их многократных воплощениях, прежде чем они возвратятся в свое небесное отечество — в вечное лоно мировой души.
Что же касается жизни земной, счастья каждого человека, то для этого, как полагал Ксенократ, достаточно сочетания некоторых, весьма немногих телесных и материальных благ, однако же главное условие счастливой жизни и внутреннего мира — добродетель, правильное состояние души человека и направления всех его действий. Подобно всем философам и мудрецам от сотворения мира, и этот ученик Платона утверждал, что счастье внутри нас, но, так же как и его впадающие во все большее унижение соотечественники, не мог быть счастливым при виде того, как меняется безвозвратно весь их прежний мир и, вероятно, поэтому был всегда мрачен. И, как многие до него и после, схолиарх Академии призывал обрести покой в своем внутреннем мире прежде всего потому, что в мире внешнем все они были уже абсолютно бессильны. И даже если Эпикур, слушавший в свои молодые годы Ксенократа, тоже пришел впоследствии к выводу о необходимости для человека укрепиться прежде всего в своем внутреннем мире, то источник силы и твердости духа он в отличие от платоников видел в свободе от всякого рода веры и суеверий, в великих возможностях разума.
До нас не дошло вполне достоверных подтверждений того, что молодой Эпикур слушал и Аристотеля, однако и его сочинения свидетельствуют, по мнению исследователей, о заметном влиянии основателя Ликея, и дружба с Менандром, придерживавшимся учения перипатетиков, позволяют предполагать, что сын Неокла не упустил возможности посетить занятия великого Стагирита, прежде чем тот навсегда покинул Афины. В эти годы он еще вел занятия, прогуливаясь с учениками (поэтому их и называли «перипатетики» — прогуливающиеся) по тенистым аллеям Ликула, небольшой и довольно невзрачный на вид, страдающий болезнью желудка, но всегда хорошо и богато одетый, причесанный и с дорогими перстнями на узловатых старческих пальцах. Он вернулся в Афины из Македонии в 335 году, когда Александр собрался в поход на восток, навсегда разойдясь со своим царственным воспитанником. К этому времени Александр стал испытывать чуть ли не ненависть к учителю, с презрением высмеивая «эти Аристотелевы софизмы, это умение говорить об одном и том же и за и против» и подчеркнуто оказывая внимание Ксенократу, к которому Аристотель питал неприязнь как к преемнику Платона. Стагирит также давно уже изменил свое отношение к царю и даже как будто бы советовал Антипатру подослать ему яд, однако многие в Афинах продолжали видеть в философе наставника, мнящего себя богом завоевателя, и относились к нему с нескрываемым недоброжелательством.
Прибыв семнадцати лет в Афины, сын придворного врача Никомаха. Аристотель был когда-то одним из самых ревностных учеников Платона и находился при нем двадцать лет, единственный из слушателей основателя Академии, равный ему по силе ума и способности к теоретическим обобщениям. Однако потом он отошел от Платона, отвергнув основной его принцип устройства мироздания, и основал свою собственную школу в гимнасии Аполлона Ликейцского, оформив ее как религиозный союз, поскольку для открытия философской школы требовалось тогда специальное разрешение народа, которое давалось далеко не всегда. Отличаясь необыкновенной образованностью, широтой познаний и интересов, Аристотель был последним из греческих философов, выстроившим цельную систему мира и бытия, объединенную единым телеологическим принципом (принципом целенаправленности всего сущего) и вмещающую в себя все, от первоначал до политики. Эта система явилась величественным, грандиозным завершением многовекового поиска эллинской мысли, последней в истории античной мысли попыткой объяснить мир и все сущее в нем, исходя из него самого.
Как и его бессмертный учитель, Аристотель видел весь миропорядок закономерной цепью причин и следствий, объединенных неким главным принципом, которому подчинено все сущее: природа, человек, общество. Для него этим принципом было стремление каждого вида материи принять заложенную в нем форму, и этот принцип он прослеживал от космоса до государства. Жизнь Вселенной представлялась Стагириту как вечный процесс становления, при котором материя осуществляет заложенную в ней идею движения и силы, ту цель, что является смыслом каждой вещи и каждого существа. Первоначальный же импульс, приведший в движение мир, исходил, по его мнению, от творческого Разума, который есть и перводвигатель, и чистая форма, и высшая цель. И все это в отличие от Платона Аристотель считал реальной, доступной опыту действительностью, познаваемой посредством ощущения — для «являющихся впечатлений» и посредством разума — для «предметов нравственности». Утверждая материальность Вселенной, он учил, что материя неуничтожима, а движение вечно, что время — признак движения, а цель этого движения — превращение возможности в действительность, осуществление заложенной во всем какой-то своей цели.
Космос представлялся Стагириту огромным шаром, весь подлунный мир (тот, что лежит ниже высшего мира нескольких небесных сфер) — состоящим из четырех основных элементов, а высшее божество — Абсолютным разумом, который не в пространстве и времени, но в вечности и действует на мировой шар извне, касаясь его. Что же касается живых существ, в том числе и человека, то главное в них, согласно Аристотелю, — это душа (низшие и высшие формы которой имеет все живое), а тело — лишь ее второстепенная оболочка.
Подобно Платону, его гениальный ученик принадлежал к тем последним мыслителям Эллады, которые еще питали надежды на возрождение полисного общества и предлагали для этого свои проекты, хотя бы теоретические. Аристотель ушел из жизни раньше, чем иссякла окончательно вера в возможность свободного общества и государства, раньше, чем вся Греция превратилась в оскудевающее захолустье, и поэтому он еще стремился в своих сочинениях (и прежде всего в «Политике» и «Афинской политике») проследить закономерности развития общества и извлечь уроки из прошлого. Пытаясь выявить, какое же из общественных устройств является наиболее жизнеспособным, он сравнивал конституции разных греческих полисов (им самим и его учениками было подготовлено целых 168 такого рода исследований), рассматривал отдельные формы государств в их историческом развитии и выделил в конце концов три основные формы, в каждой из которых «правильной» соответствует «неправильная», как ее извращение, переход в противоположность: монархия и — деспотия (или тирания); аристократия и — олигархия; демократия и — охлократия (господство черни). В государстве в целом философ видел цель, к которой стремится естественное развитие человеческой жизни, а лучшей его формой считал умеренную демократию. В соответствии с этим Аристотель строил и свою этику — науку о жизни человеческой, главный принцип которой он видел во всеобщем благе, а высшую цель — в правильной деятельности, без которых невозможно личное счастье. Признавая необходимость некоторого количества внешних благ, Аристотель и его последователи — перипатетики считали высшими из благ те, что связаны с деятельностью разума и души. Они порицали чрезмерную тягу к обогащению и роскоши, видя единственную пользу от богатства в возможности нести расходы на пользу общества. Причем сам Аристотель не одобрял излишних трат на праздники и зрелища. Огромное значение для достижения подлинно счастливой жизни он придавал образованию и воспитанию, не раз повторяя, что между человеком образованным и необразованным такая же разница, как между живым и мертвым. Превыше же всего он ставил разум, утверждая, что наивысшее удовольствие — это чистое мышление (и поэтому у способного к мышлению никогда не будет недостатка в удовольствии), и именно человеческое счастье состоит в совершенной деятельности ума. Но при этом в отличие от многих последующих философов (и в том числе от Эпикура, который воспринял один из главных Аристотелевых принципов — свободу выбора для человека) основатель перипатетической школы утверждал, что человек может быть действительно счастлив только при общественной жизни. То есть при той самой жизни, которая уже на его глазах начинала сходить на нет и чего Стагирит, по-видимому, так до конца и не понял.
Среди учеников Аристотеля не нашлось никого, кто был бы достоин стать продолжателем его дела. Дикеарх, Феофраст, Деметрий Фалерский и другие, хотя и достигли заметных успехов в физике, астрономии, ботанике, истории и филологии, в основном занимались комментированием его многочисленных трудов, приведением в порядок завещанных им рукописей. Наибольшей известностью среди перипатетиков пользовался Феофраст, сын сукновала с острова Лесбос, написавший ряд сочинений по ботанике, истории и общим вопросам философии, но оставшийся в веках прежде всего как автор маленьких психологических очерков под названием «Характеры» — ценнейшего художественного описания нравов этого времени упадка гражданственности и почти общей несвободы.
И Аристотель с его учениками, и достопочтенный Ксенократ не могли не чувствовать, что та философия, ради приобщения к которой съезжались к ним раньше молодые люди со всех концов Эллады, становилась все более далекой и чуждой реальности. Нравственная философия, основанная на вере в жизнь, в возможности общества и каждого отдельного человека, оказывалась все более несоответствующей удручающей реальности. И люди нуждались теперь в такой «науке жизни человеческой», которая помогла бы им выстоять в пошатнувшемся мире, создать которую пытались когда-то софист Протагор, считавший человека «мерой всех вещей», и больная совесть афинян — Сократ. С каждым годом становилось все очевиднее, что теоретическое знание (то, что в трудах философов обычно вмещала в себя часть под названием «Физика») очень мало влияет на ход событий действительной жизни, и поэтому все чаще приверженные к философии начинали или вообще отказываться от исследования законов природы и космоса, или же рассматривать это исследование лишь как необходимую предпосылку для обоснования своей жизненной позиции. Такого рода была философия скептиков, а также киников, к которой склонялось все большее число не очень-то искушенных в астрономии, физике или логике людей, которым надо было просто на что-то опереться душой, как-то утвердиться, чтобы не потонуть окончательно в зыбком и неопределенном бытии.
И если вывод, к которому в конце своей долгой, наполненной трудами и думами жизни пришел Демокрит, о невозможности для человека объяснить до конца законы Вселенной был неизбежным следствием его обширных исследований (когда чем больше он углублялся в познание мира, тем дальше и шире раздвигались границы этого познания), то у тех, которые называли себя скептиками, отказ от познания был порожден прежде всего горьким бессилием что-либо изменить в своей собственной жизни. И поэтому (повторяя во многом отшельников-гимнософистов, которые так поразили греческих философов — спутников Александра в Индии) они предпочитали считать, что наш мир — это только иллюзия, что в нем все едино, и белое и черное, и что самое правильное для человека — это погрузиться в Нирвану, отойдя от всех дел, как злых, так и добрых.
И уже казались «Платоновы беседы пустым бредом», а «состязания на Дионисиях — большими иллюзионными представлениями для дураков», потому что настоящей жизни, жизни свободных, уверенных в своем завтрашнем дне людей, больше не было. Той самой жизни, хозяевами которой (энергичными, сильными, полными честолюбивых планов и грандиозных замыслов) были не ведавшие об атараксии и праздности предки всех тех современных Эпикуру мыслителей, которым уже не оставалось ничего иного, как только принять этот образ жизни как единственно возможный. Людьми все больше овладевало равнодушие, и не только что к законам мироздания или же к политической деятельности, но и пагубное безразличие к близким, к себе, к самой жизни. И теперь, когда судьба столь многих людей, оказавшихся на самом дне общества, вообще не интересовала государство и соотечественников, когда стало совершенно безразличным, существуешь ли ты как сытый обыватель с мелитской собачонкой на коленях или же как нищий, ночующий в портиках, теперь греки совсем по-другому смотрели на киников, которые еще четверть века назад вызывали брезгливое негодование у добропорядочных граждан.
Философия киников (если только можно было это считать философией в полном смысле слова) зародилась еще в прошлом веке среди бедняков, лишившихся средств к существованию и выбитых из привычной колеи, и явилась иллюзорной попыткой сохранить свободу и достоинство со стороны людей, которых все меньше и меньше считали за таковых. Это был тщетный бунт против отживших общественных установлений, стремление противопоставить свой отказ, свое нарочитое пренебрежение роскоши богачей и сытости обывателей, а свою собственную систему взглядов — лжи общепринятых условностей. Киникам казалось насквозь фальшивым и неприемлемым все — государство, законы, мораль, потому что все это служило лишь интересам имущих и было чуждо, даже враждебно людям труда и тем вконец обездоленным неудачникам, для которых не находилось даже работы. Киники презирали весь мир, потому что он отвергал их, и предпочитали добровольному рабству свободу всеобщего отказа.
Уже ученик Горгия и Сократа, афинянин Антисфен, («человек с гераклитовским складом ума»), проповедовал суровую умеренность жизни, порицая выгодные лишь богатым законы и утверждая, что «труд есть благо». Бедный и больной (он умер от чахотки), Антисфен учил, что жизнь есть деяние, что каждый свободен в выборе пути и имеет право на моральную автономию. Незаконнорожденный, в драном плащишке (впрочем, скорее назло, чем по бедности), основатель кинизма открыто выражал свое презрение к народному собранию, властям, официальной морали, к приобретательству и накопительству, считай единственно ценным достоянием добродетель — «это оружие, которое нельзя отнять» и «разум — самое прочное из укреплений, ибо его нельзя ни уничтожить, ни предать».
Неряшливого и неимущего, позволяющего себе с пренебрежением отзываться о грандиозных философских системах своих современников, не верящего ни в высшие закономерности, ни в возможность усовершенствования жизни людской, Антисфена прямо-таки не выносил Платон, не признававший права считаться философами за невежами, не понимающими смысл и пользу геометрии и музыки. И действительно, мир для киников (чуждых всякой трансцендентности) представлялся предельно простым и не слишком привлекательным. Равнодушные к физике и космогонии (что пользы людям от понимания того, что в космосе и в обществе действуют сходные закономерности?), киники признавали только этику. Идеалом им представлялась первобытная дикость, когда свободный от ложных и сковывающих установлений человек противостоял природе и был в то же время ее неотделимой частью. Веря в некую скрытую разумность природы, Антисфен и его последователи считали ее мерилом всего, утверждая, что истинно человеческая жизнь — это жизнь по природе и люди погубили себя, отойдя от нее.
Киники не делили весь белый свет (в отличие от многих греческих философов) на высших и неполноценных, на эллинов и варваров и, вкусив сполна нелегкой доли неимущих и бесправных, утверждали право на человеческое достоинство в каждом из смертных, будь то бедняк афинянин или же раб, тот самый варвар, к которым Аристотель призывал относиться «как к животным или растениям».
Считая наиболее надежным образом жизни суровую умеренность, Антисфен учил избегать погони за наслаждениями (что становилось понемногу основным для во всем разуверившейся афинской молодежи) и с презрением отзывался об Аристиппе из Кирены, поставившем наслаждение в центре своей философии, замечая, что «не к лицу истинному философу жить у тиранов и принимать участие в пресловутых сицилийских пирах. Он должен оставаться на родине и довольствоваться тем, что имеет». Сам Антисфен старался жить так, как учил: бедно, ни перед кем не заискивая (и даже нарочито показывая свое пренебрежение к демагогам и власть имущим), проводя свои дни в занятиях философией и оставив после себя десять томов сочинений. Последователи его, Диоген и Кратет, считали, что мало в Элладе было мыслителей и мудрецов, равных Антисфену в бесстрастии, самообладании и непоколебимости.
По мере того как становилось все очевиднее, что можно лишь изменить свое отношение к миру, но не переделать сам этот мир, что лучше уж отказаться от всего, что принято считать необходимым в жизни, чем потратить себя самого, достигая этого, философия киников обретала все большую привлекательность. Казалось, что стоит лишь осуществить ту самую «перечеканку монеты» (переоценку всех ценностей), к которой призывал Диоген из Синопы, как станет возможной личная свобода каждого, если даже все эллинство в целом утратило ее навсегда. От всего отказаться, всем пренебречь как несущественным и суетным — и тогда не останется повода для беспокойств и трудов, сделать так, как сделал сам Диоген.
Сын синопского менялы Гигесия, прозванный Псом за собачий образ жизни, отказался раз и навсегда участвовать в том бесконечном состязании, где «люди соревнуются в том, кто кого столкнет пинком в канаву», и предпочел жить как животные, которым не нужны ни деньги, ни вещи, ни врачи и лекарства. Одно время он был учеником Антисфена (хотя тот прогонял его от себя), но подлинного киника сделала из Диогена сама жизнь, та полная и неизлечимая нищета, которая, как любил повторять Диоген, сама обучает философии. Он жил и спал где попало — в портиках, на ступеньках храмов, в большой глиняной бочке при храме Матери богов, питался чем придется, всегда ходил босой, не имел никакого имущества и «сребролюбие называл средоточием всех пороков». Так же как и Антисфен, он сомневался в существовании богов и Аида (загробного мира), презирал демагогию «прислужников черни», а также философов вроде Платона, которые все еще надеялись изменить этот жестокий и непонятный мир посредством своих идеальных систем. Существует легенда, что Пес днем бродил с фонарем по улицам, отыскивая человека — человека такого, каким он должен быть и каким он, наверное, никогда не был.
Сын менялы Гигесия считал себя истинно свободным и действительно был таковым, даже будучи под конец своих дней проданным в рабство. Его пренебрежение ко всем благам и даже к самой жизни внушали уважение не только афинянам, среди которых он одно время жил, но даже царю Филиппу, который отпустил его, взятого в плен при Херонее. Диогену выказывал свою благосклонность великий Александр, а позднее македонский военачальник Кратер приглашал его к себе, но Пес от всего отказался, превыше всего ценя нищету и свободу, и прожил так до девяноста лет.
В ученики (хотя сам он себя философом никогда не считал) Диоген брал только тех, что отвергали условности, ничего не писал, а учил самим своим образом жизни и беседами, в которых, подобно Сократу, смеясь, вышучивая и ставя в тупик своих собеседников, развенчивал общепринятые представления. Физика его не интересовала, главным он считал «отучение от зла» — от тех норм, воззрений и ценностей, которые, пережив свое время, время свободных греческих полисов, казались теперь полностью ложными. Он учил жить так, как жили люди в далекой древности, в первозданной простоте, казавшейся ему идеальной. Свидетель стольких лет опустошительных войн, Пес считал, что Прометей совершил большую ошибку, дав людям огонь, и что суровая кара Зевса была справедливой. Отвергая традиционный идеал калокагатии, (внешне и внутренне прекрасного человека), Диоген объявлял с откровенным презрением, что красивое, здоровое тело, как, например, у атлетов, является признаком глупости и что бедность, некрасивость, нездоровье не имеют никакого значения при внутреннем совершенстве, нравственном и духовном богатстве человека. Главное, учил он вслед за Антисфеном и Сократом, — это преодоление неподлинности, лжи образа жизни и мыслей. Страстям и погоне за наслаждениями он противопоставлял здравый смысл и умеренность, внешнему благосостоянию — добродетели, главнейшей из которых Пес считал мужество. И в то время как стяжательство и жадность все больше заменяли собой благородство, былое презрение к роскоши (что пристало лишь варварам) и щедрость афинян, киники вслед за Сократом утверждали, что слишком уж много производится и продается такого, без чего можно жить.
У Диогена было много последователей. К его мужественной мудрости прибегали и те, кто, как почтенный афинянин Фокион, еще надеялись выправить свой народ, возродить его прежние качества, и прежде всего трудолюбие; и те, кто, как фиванский гражданин Кратет, оставивший отчий дом ради нищенской сумы бродячего киника, призывали отринуть все, «жевать бобы и не знать хлопот». Среди его последователей были философы Стильпон Мегарский и Онесикрит, ходивший в поход с Александром. Но еще больше было среди киников таких, которые, не имея особенного представления о философии Антисфена, Диогена (которого давно уже не было в Афинах) или же Кратета, просто жили себе как бродячие собаки, не желая смириться с уделом на все согласных, со дня на день перебивающихся обывателей и навсегда утратив возможность стать опять, как их отцы и деды, энергичными и полными достоинств гражданами свободного полиса. Киников можно было видеть повсюду: в ветхой и грязной одежде, ничем не занятые и неизвестно на что живущие, летом они ночевали в храмах, а зимой — в общественных банях, ели дешевые овощи, мелкую рыбешку, лишь бы чем-то заполнить желудок — эту «харибду жизни». Все в обществе — учение, эфебия, исполнение каких-то должностей — они считали лишь формой угнетения: везде только ложь и несправедливость, везде чегото требуют, куда-то тащат, секут, грозят… Казалось, киникоз не заботит даже собственная смерть и погребение, в то время как для их дедов это было самое важное — быть похороненным согласно старинным обычаям и почитаться потомками. Для этих людей, у которых оставалась лишь одна свобода — свобода бродячих собак, мир представлялся огромной бессмыслицей, а жизнь — случайным стечением обстоятельств. И эта жизнь, как считали они, не стоит того, чтобы и самому-то ее продолжать, а уж тем более рождать для этого детей. И поэтому киники не имели ни семьи, ни детей, они жили как бродячие псы и так же умирали.
Такими предстали перед Эпикуром философствующие Афины — та часть его соплеменников, которые, не довольствуясь приобретением всякого рода добра и пересчитыванием денег (у кого они были) или же бессодержательностью театральных представлений и стаканом дешевого пойла (у кого денег не было), все еще пытались выдвинуть какую-то концепцию жизни, создать свою собственную философию, чтобы утешать себя тем, что живет он согласно своим убеждениям, как автономная личность, в то время как в реальной действительности все с большей отчетливостью вырисовывался один-разъединственный закон: право сильного. И ни чистое умствование (та схоластика, в которую превратилась со временем «гигантская битва за понятие бытия»), ни сознательное пренебрежение познанием законов природы и общества, ни, тем более, отказ киников ради иллюзорной, лишь в их собственном воображении существующей свободы от всего того что, собственно, и отличает человека от бродячей собаки, — ничто из этого не могло удовлетворить молодого Эпикура, стремящегося выработать свое понимание бытия, найти наиболее верный ответ на извечный вопрос «Как же жить?» и донести этот ответ до людей.
Выросшему в тиши провинциального Самоса, воспитанному на бессмертных писаниях старинных философов, твердо верящих в высшую гармонию жизни, ему было трудно смириться с мыслью о том, что позиция скептиков или киников — это и есть единственно возможный ответ на ту агонию полисного мира, бессильными свидетелями которой им выпало быть. Хотя, создавая впоследствии свою этику, Эпикур преломил в ней многие из положений скептицизма и кинизма, так же как он использовал в своей физике и многое из учения Аристотеля. Молодой, пока еще не слишком-то разбирающийся в том, что творилось вокруг него, в Афинах, да и по всей Греции, подавленный тягостным зрелищем упадка гражданственности и нравственной деградации, Эпикур не мог не пережить тяжелого периода растерянности и внутренней борьбы. Но, как показывают и его сочинения, и вся его жизнь, он вышел из этих сомнений с твердой решимостью (отсюда его резкость в отношении неприемлемых учений и не вызывающих уважения мудрецов) обосновать и для себя самого, и для людей возможность остаться человеком, мыслящим и образованным, личностью, которая ценит все радости бытия и пользуется ими, не превращаясь при этом ни в прихлебателя при македонских хозяевах, ни в бродячего пса. Восприимчивый и любознательный, он усваивал, впитывал в себя все то знания, что могли предложить молодому человеку оскудевающие и все еще великолепные Афины, слушал и Ксенократа, и перипатетиков, много читал, приобретал, насколько позволяли ему средства, сочинения знаменитых философов, чтобы спустя много лет, все преломив своим ищущим разумом, выдвинуть собственное понимание бытия и назначения в нем человека.
В 323 году в Вавилоне скоропостижно скончался Александр, и смерть его, услышав о которой весь эллинский мир замер в тревожном предчувствии, никому не показалась удивительной: слишком уж много даровали бессмертные боги этому блистательнейшему из людей, и вынести такую долю, такую славу вряд ли было под силу даже сыну Филиппа и Зевса. Тело царя, готового в роскошнейшем из убранств отправиться в свой последний поход, еще лежало в одном из просторных залов вавилонского дворца, когда на срочно созванном собрании войска уже делилось его царство: Пердикка стал хилиархом Азии, Кратер — «попечителем македонского царства» и Антипатр — стратегом Европы. Азиаты скорбели о милостивом владыке, таком великодушном и щедром по сравнению с восточными деспотами, который освободил их от гнета персидских сатрапов (или, по крайней мере, уменьшил этот гнет), защитил от набегов окрестных варваров и разбойников, принес мир и сопутствующее ему благосостояние в старинные финикийские, сирийские и ионийско-греческие города. Судовладельцы, купцы, мореходы, ремесленники, дела которых заметно расширились и оживились в последние годы, и даже темные пахари, скудное существование которых было подобно жизни тягловой скотипы, сожалели о своем необыкновенном царе, имя которого (различные народы его произносили по-разному) было известно в самых далеких, глухих уголках древней, как сам этот мир, восточной земли.
И насколько печалились азиаты, для которых Александр остался на долгие годы непобедимым и великодушным героем из сказки, настолько же откровенно радовались люди Эллады. Эфеб Эпикур (для которого мнящий себя богом завоеватель никогда не казался ни царем, ни героем) был взволнованным свидетелем того, какое возбуждение охватило афинян, когда город узнал о смерти сына Филиппа. Своей радости не скрывали даже те, кто считался приверженцами македонян. Так, никого и ничто ни в грош не ставивший Демад (один из тех, что вершили теперь делами афинян) воскликнул, как доносят до нас античные авторы: «Это невозможно, если бы это было так, то вся Вселенная уже бы наполнилась трупным запахом». И уже многие открыто говорили о том, что пришло наконец время, когда следует попытаться вернуть былую свободу, и призывали немедленно подняться против македонян. «Теперь или никогда, — твердили афиняне, словно бы опьянев от столь благоприятного для них поворота событий», и только осторожный Фокион «удерживал граждан от преждевременного восстания, говоря, что не следует торопиться: «Если он мертв сегодня, афиняне, то останется мертвым и завтра и послезавтра». Однако, едва лишь народ убедился, что известие о смерти Александра неложно, гнев его обратился на приверженцев македонян, которые опасались теперь показываться на улицах, сказать лишнее слово. Демад был лишен права выступать с речами, а Аристотель, ненавидимый многими из-за своего ученика, был вынужден бежать из Афин.
Воспрянув духом, сторонники демократии послали триеру за Демосфеном, очень тосковавшим в изгнании и, когда, прибыв в Аттику, «из Пирея он направлялся в город, за ним шествовали представители власти и жрецы, а навстречу ему вышли с ликующими приветствиями все до единого граждане». Возвратившись, Демосфен стал прилагать усилия к тому, чтобы «сплачивать города на борьбу с македонянами, чтобы вышвырнуть их из Эллады». Он призывал сограждан быть достойными памяти своих предков, для которых свобода казалась ценнее самой жизни: «Да, действительно, тогдашние афиняне не искали ни оратора, ни стратега такого, по милости которого они стали бы рабами под видом благополучия, но они не хотели даже и жить, если бы при этом не была им обеспечена свобода». К войне против ненавистных македонян призывал и другой вожак демократии — известный своей непримиримостью Гиперид, а стратег Леосфен, бывший ранее начальником греческих наемников в Персии, стал собирать войско.
Движение против македонян поднялось к этому времени во многих греческих городах и землях: зашевелились малоазийские греки, аргосцы, элейцы, мессенцы, причем патриотическое возбуждение охватило даже зажиточную часть населения. Македония казалась циклопом, ослепленным со смертью Александра — светом ее очей; известия о волнениях в ионийских городах, об изгнании македонского гарнизона с Родоса — все это вселяло надежду на успех, и афиняне поручают Леосфену нанять еще восемь тысяч наемников в Азии (на 50 талантов из сокровищ Гарпала) и, не надеясь только на собственные силы, вступают в переговоры с этолянами. Когда эти приготовления были окончены, афиняне хотели немедленно выступить против Македонии, не дожидаясь, пока соберутся с силами другие греческие города. Напрасно Фокион продолжал удерживать сограждан, напоминая им о печальной участи Фив, а прибывшие из Македонии послы настоятельно советовали не нарушать союзного договора, уверяя, что афиняне найдут в Антипатре умного и великодушного повелителя. «Мы знаем, что он прекрасный повелитель, — ответил на это Гиперид, — но мы не нуждаемся ни в каком прекрасном повелителе». Многим тогда казалось, что победа над ненавистными македонянами может стать залогом возрождения былых демократических порядков, обновления всей греческой жизни, и никто из тех, кто призывал афинян к последней, решительной битве, не хотел, не желал признаться даже себе самому в том, что прошлого — свободных и славных Афин — уже не вернуть.
Потом все же решили заручиться поддержкой других городов, и афинские послы поехали во все стороны, призывая греков к войне: «Народ афинский желает выступить на защиту общей свободы эллинов и освободить обремененные гарнизонами города… народ афинский, подобно тому как прежде сбросил с себя в морской войне иго варваров, считая, что Греция составляет общее и единое отечество всех эллинов, считает своим долгом и теперь биться на суше и на море за общее благо Греции, жертвуя на эту борьбу свои деньги и кровь». Как будто и не было теперь феофрастовских обывателей, ползающих под столами за каждым упавшим медяком и хвастающих на перекрестках своими немыслимыми подвигами; как всегда это бывает в дни каких-то решительных перемен и больших надежд, впереди опять оказались наиболее честные и свободолюбивые, гордые духом и не боящиеся смерти, чтобы попытаться еще раз отстоять независимость и честь своего племени. И на какое-то время афинский демос стал опять тем великим народом, которому выпала славная доля защитника всей эллинской свободы, вот только время это было теперь удручающе не длинным.
На призыв афинян откликнулись фокейцы и локры; беотийцы, не забывшие разрушения Фив, выступить побоялись. Война была объявлена, и Леосфен с союзным войском и наемниками двинулись к Фермопилам, как два века назад легендарный царь Леонид со своими спартанцами. Не сохранилось каких-либо сведений о том, принимал ли участие в этой последней попытке афинян отстоять свою свободу и демократию эфеб Эпикур, но есть основания предполагать, что, будучи на военной службе, он вряд ли мог остаться в стороне от этой кампании. Бурные события этого времени, свидетелем, а возможно, что и участником которых довелось ему быть, трагический, заранее обреченный на неуспех подъем гражданственности и патриотизма и последовавший за поражением глубокий упадок мыслей, стремлений и чувств — все это стало той печальной реальностью, что определила и образ жизни, и взгляды будущего философа, той почвой, бесплодной и каменистой, на которой уже было не взойти даже самому отборному зерну и где способны произрастать лишь сухие, горькие травы безысходности.
Вначале, пока Антипатр, получивший Македонию и Грецию при дележе в Вавилоне, сосредоточивал силы, успех как будто бы способствовал грекам и они одержали победу над македонянами в сражении где-то в середине лета 323 года. Ободренные этим, на борьбу поднялись фессалийцы, долоны, акарнанцы, усилилось брожение на Пелопоннесе. Демосфен, Гиперид и Сфиттиид разъезжали из города в город, побуждая греков собрать все свои силы для решающей схватки с врагом. Коринфский союз, этот оплот македонского влияния в Греции, совершенно распался, полисы опять сплотились вокруг Афин, как в те далекие и прекрасные годы, когда город Паллады стал во главе всеэллинского братства в борьбе с восточными полчищами.
Тем временем Антипатр укрепился в крепости Ламии, надеясь продержаться за ее высокими стенами до прибытия своих основных сил. Союзное войско греков во главе с Леосфеном двинулось к Ламии, осадило ее и ежедневно предпринимало штурмовые атаки на крепость. В одной из таких атак Леосфен был сражен попавшим ему в голову камнем, и это было тяжелым ударом для греков, поскольку стратег Антифил, выбранный вместо Леосфена, не внушал союзникам особых надежд. Вскоре последовало поражение греков в морском сражении при Аморге, а при Эсхинадских островах была уничтожена большая часть афинского флота.
В мае или июне 322 года на помощь Антипатру прибыло мощное подкрепление, и последнее, решающее сражение этой бесполезной и отчаянной войны, получившей название Ламийской, состоялось в августе 322 года в Фессалии, на равнине Кранион, окруженной высокими горами. Сражение выиграли греки, однако никто не решился бы назвать это победой, поскольку македонское войско уничтожено не было, Ламия так и не была взята и можно было ожидать со дня на день нового подкрепления из Македонии. Да, никто не решился бы назвать победой этот маленький, ничего не решающий успех, ибо к этому времени становилось все очевиднее, что о былой свободе и славе не может быть и речи, даже если бы вдруг Фемистокл, Мильтиад или же Кимон вышли из небытия, чтобы повести своих потомков, бессильных перед неумолимым ходом истории, на ненавистных чужеземцев.
После ожесточенных споров в лагере греков было решено идти на поклон к Антипатру, и это было еще большим унижением, учитывая исход битвы. Антипатр согласился вступить в переговоры только с отдельными городами и лишь на своих условиях. Заключая мир, македонский правитель потребовал изменить демократическое устройство Афин: теперь политические права предоставлялись лишь людям, имеющим не менее двух тысяч драхм (таких оказалось около 9 тысяч), остальным было предложено покинуть родину. Частная собственность была признана неприкосновенной, а любые попытки изменить установленный таким образом порядок считались недопустимыми. Так был положен конец надеждам на отмену долгов и передел земель, осуществление которых неимущие и малоимущие афиняне связывали с низвержением господства македонян и их приверженцев. Столь стремительно образовавшийся общегреческий союз также быстро распался, афинское войско возвратилось в Аттику, а македоняне беспрепятственно прошли через Фермопилы и стали лагерем у Кадмеи.
В Афинах воцарилось отчаяние, проснувшееся на время мужество уступило место страху, недолгое опьянение несостоявшейся свободой — горькому отрезвлению. Все ждали приговора македонского правителя, и вместе со всеми его ждал молодой Эпикур — один из тех, кому явно не было места на родине, не богатому, не родовитому и не приемлющему покорного смирения перед захватчиками. Эфебия, ставшая действительным испытанием его мужества и силы духа, подходила к концу, отстаивать до последней капли крови отечественные святыни — с этим было покончено на долгие годы вперед, и сын Неокла имел полную возможность распоряжаться как ему вздумается своей почти никого не интересующей жизнью и никому особенно не нужными дарованиями. Он был свидетелем глубокого унижения сограждан, которым не оставалось ничего иного, как отправить на поклон к Антипатру все тех же Фокиопа и Демада (торжествующих теперь свою прозорливость и правоту), а также престарелого академика Ксенократа, чтобы заключить с Македонией мир, который, по словам этого самого Ксенократа, «для рабов был слишком мягок, а для свободных мужей слишком суров».
Гиперид, Демосфен и другие защитники демократии спешно покинули город, но это их не спасло, поскольку одним из главных условий заключения мира Антипатр поставил выдачу вождей демократии. Но так как ни один из них не пожелал явиться добровольно, «народ, по предложению Демада, приговорил их к смерти». Вот так Эпикур, молодой гражданин великого города Паллады, впервые во всей трагической очевидности познал тот основной и страшный в своей непреложности закон, по которому жили (и, повидимому, жили всегда) его соплеменники: уже в который в своей истории раз они с постыдной легкостью отрекались от тех, кого еще совсем недавно встречали ликующими криками и за кем еще вчера были готовы идти на смерть. Теперь оставалось лишь привести в исполнение вынесенный заочно приговор, и как это всегда бывает в таких случаях, исполнитель не заставил себя долго искать: некий Архий, бывший актер по прозвищу Ищейка, вызвался исполнить волю сограждан. Он нашел Гиперида и еще трех вожаков демократии в храме Эака на острове Эгина, приказал оторвать их от алтаря и привезти в ставку Антипатра. Там они были преданы пыткам и казнены в октябре 322 года, при этом у Гиперида, перед тем как он был умерщвлен, вырезали язык.
Что же касается Демосфена, то Архий, настигнув его на острове Калаврия в храме Посейдона, «сначала уговаривал его выйти из храма и сдаться Антипатру, потом угрожал — Демосфен отошел в глубь храма и принял яд, закусив кончик тростникового пера», которое он всегда имел при себе. Накануне ему будто бы был сон: «он с Архием состязается в исполнении трагической роли, и хотя успех на его стороне, хотя игрою своей он покорил весь театр, из-за бедности и скудности обстановки победа достается сопернику». И в этом сне знаменитого оратора, как вообще (в силу неких таинственных, скрытых от человека причин) это бывает в снах, приоткрывалась горькая истина трагической судьбы Демосфена: да, он действительно был величайшим из протагонистов рядом с ничтожеством Архием, но только играть ему выпало в печальное время, когда все великолепное сооружение — Афинское государство, этот блистательнейший из театров, какой знало когда-либо человечество, так обветшало и обеднело, что, казалось, вот-вот готово было рухнуть. И поэтому он не мог завершить свою роль иначе, чем проститься «с жизнью тогда же, когда угасла свобода… сограждан». Он был больше не нужен Афинам — и он ушел.
Теперь нужны были те, которым удавалось успешнее сторговаться с новыми хозяевами эллинского мира (не забывая при этом своих интересов), и поэтому сын Неокла, бессильный, как и большинство его соотечественников, свидетель трагического финала этого, одного из последних мощных всплесков афинской гражданственности, не мог уже в эти годы не прийти к печальному выводу о том, что время героев и патриотов, устроителей и защитников отечества, по-видимому, навсегда миновало. Героем он быть не мог, не то было время, царедворца из него не получилось бы ни при каких обстоятельствах — иначе он не был бы учеником и преемником бессмертных философов, и поэтому уже в это время Эпикур определяет для себя раз и навсегда свое место — в стороне от всякого торга, от приспособленчества и спекуляций, от всего того, что стало теперь содержанием политической жизни афинян. Неприятие, отстранение и непримиримость. Жизнь показала, что грекам не суждено было больше отстаивать честь и свободу на поле брани, значит, надо было искать какое-то иное оружие, какой-то другой способ сохранить свое эллинство, свое человеческое достоинство, но какой именно способ, сын Неокла пока ясно не представлял.
Все они стали как будто бы неживые, в тягостном, мертвенном затишье после кратковременной грозы. По всей Греции противники Македонии были частью изгнаны, частью казнены. Эллада замерла в унижении и страхе, и только этоляне еще продолжали оказывать сопротивление в своих труднодоступных горах. Победители больше не церемонились с потомками Кекропа, подавлявшими их когда-то своим величием и превосходством, считая, что «надо не только сделать крепким ошейник, но заставить отощать собаку». С независимостью было покончено надолго, может быть, даже навсегда, и одним из самых сильных и тягостных впечатлений, которое унес в своем сердце и памяти отслуживший эфебию Эпикур, собираясь на долгие годы покинуть поверженные Афины, было вступление в Аттику вражеского гарнизона.
Это было в сентябре 323 года, когда согласно старинным обычаям афинский народ справлял великие Элевсинии и торжественное шествие двигалось по древней дороге священной Элевсинской равнины, по той самой земле, из которой восстали когда-то, в этот же самый день предки афинян — эакиды, чтобы благословить их перед решающей битвой с персидскими варварами — перед Саламинским сражением. Афиняне шли, с последней надеждой взывая к бессмертным богам и доблестным пращурам, когда впереди, на равнине вдруг показалось македонское войско. Оно направлялось в Мунихий. Отчаяние овладело людьми Кекропа: значит, действительно все было кончено, если захватчики вступили на их древнюю землю именно в этот достопамятный день, а бессмертные духи Элевсина оставались беспомощны и безмолвны.
Македоняне обосновались в Мунихие, и в Аттике начали устанавливаться новые порядки: была изменена конституция, ограничено число полноправных граждан, упразднена оплата общественных должностей и раздача праздничных денег. Пришло время исполнить решение о переселении части неимущих и в силу этого беспокойных граждан во Фракию (мера, к которой прибегали и в прошлые времена, чтобы очистить город от бедных, недовольных и политически ненадежных), и несколько тысяч афинян, которым не было больше места на отчей земле, взошли на корабли. Кроме того, Афины лишались большей части своих прежних владений, в том числе и Самоса, относительно которого было решено, что «это государство, которое афиняне сорок лет назад заняли своими клерухами, должно быть восстановлено».
При сложившихся обстоятельствах даже те, кто еще не расстались окончательно с надеждой на восстановление свободы, все больше впадали в бессильное отчаяние при виде того, какой среди их соотечественников «оказался… урожай предателей, взяточников и богопротивных людей». Возвышенный патриотизм, благородство помыслов, бескорыстное мужество — все было уничтожено в пламени и кровавом насилии бесконечных междоусобных войн и гражданских распрей, затянувшихся больше, чем на столетие. Растерянные, униженные оставлял Эпикур Афины. Кончилась школа его юности — неповторимые уроки трагической гражданственности, преподанные Гиперидом и Демосфеном, печальные примеры обывательского равнодушия, бесплодные умствования платоников и аристотелевцев. Многие из них не погнушались пойти на поклон к македонским правителям и были даже удостоены особого их расположения, как, например, последователь перипатетиков Деметрий Фалерский, которого было решено назначить правителем Афин. Все это было так чуждо, так непохоже на тот образ истинного философа, который сложился у сына Неокла при чтении Анаксагора, Демокрита. В нем крепло желание воспрепятствовать всему этому, но как — он пока еще точно не знал. Да и до философии ли было ему, уделом которого (как и тех двенадцати тысяч, что должны были вскоре покинуть равнодушное к их бедам отечество) стала затянувшаяся на многие годы, тягостная и изнуряющая борьба за жизнь и с самой жизнью.
Глава 3
СТРАНСТВУЮЩИЙ УЧИТЕЛЬ
Над всем, что ускользает от взора очей,
господствует умственный взор.
Гиппократ
…разбегаются страхи души, расступаются стены
Мира — и вижу я ход вещей в бесконечном
пространстве.
Тит Лукреций Кар
Два года пребывания в Афинах, значившие для Эпикура, возможно, столько же, если не больше, чем пять предыдущих или же пять последующих лет, протекли слишком быстро. Отслужив эфебом, он числился теперь полноправным афинским гражданином, как его прадед, дед и отец, но для него, ничего не имеющего ни в самой Аттике, ни (как выяснилось вскоре) за ее пределами, это гражданство было пустым звуком. Давно миновало то время, когда афиняне, взрастив и воспитав своих юношей, цвет и надежду могучего и славного отечества, торжественно, перед лицом тысяч граждан, собравшихся в театре Диониса, поручали их Богине удачи. Теперь же их просто предоставляли на волю случая. Пора было покидать божественные Афины, и без него переполненные неимущими и праздношатающимися, но куда ему ехать, сын Неокла просто не знал, во всяком случае, не на Самос, потому что и на Самосе для него теперь тоже ничего но было.
Дело в том, что после того, как персидские сатрапы распустили по повелению Александра служивших у них греческих наемников и тем, изгнанным некогда по политическим причинам из родных мест, теперь некуда было возвращаться, Александр приказал всем греческим городам и прежде всего Афинам, позволить изгнанникам вернуться на их исконные земли. Указ об этом должен был быть оглашен перед началом 114-й олимпиады в июле 324 года, и около 20 тысяч изгнанников поспешили в Олимпию. И вот в присутствии огромного числа собравшихся со всех областей Эллады, островов и из Малой Азии стагирит Никанор, уполномоченный царя, приказал зачитать долгожданный указ. Согласно этому указу клерухи на зависимых островах должны были уступить свои земельные участки их прежним владельцам. Только афиняне и этоляне не скрывали своего возмущения, большинство же других городов не осмелились прекословить тому, кто правил из Вавилона чуть ли всей Ойкуменой, и тысячи изгнанников на стадионе в Олимпии, поседевшие, измотанные, в застарелых шрамах, эти ставшие ненужными наемники со слезами возносили хвалы справедливому сыну Филиппа, вновь мысленно переживая тяжелые годы без родины, вспоминая о прежних обидах и утратах.
Возвратившись в родные места, изгнанники стали требовать назад свои дома и поля, которые с тех пор были проданы и перепроданы, и поэтому всюду их возвращение сопровождалось судебными процессами. Что же касается Самоса, то афиняне никак не желали смириться с потерей этого прекрасного острова, который уже привыкли считать как бы искони своим. Они всячески оттягивали исполнение указа, однако спустя два года после смерти Александра, в 322 году вопрос этот был снова поставлен самым решительным образом: афинянам приказали впустить изгнанников и освободить земли от клерухов, что было полностью выполнено лишь в 302 году. Среди тех, кому предстояло покинуть Самос, был и отец Эпикура. Лишившись сразу всего — участка, дома, взращенных им плодовых деревьев, учительского места, он взошел со своими домочадцами и небогатым скарбом на корабль, державший курс к недалеким ионийским берегам. Он решил обосноваться в Колофоне, том самом «изобильном смолами Колофоне», который воспел когда-то Ксенофан. Туда же отправляется, окончив военную службу, и двадцатилетний Эпикур, плохо представляя себе, как и на что он будет существовать, и зная только одно, что рассчитывать ему не на кого и надо приспосабливаться самому ко всем превратностям с каждым годом усложняющейся жизни.
Сведения об этой поре его жизни скудны. Известно, что, пробыв какое-то время у отца в Колофоне, Эпикур поселяется в Митиленах, на острове Лесбос, устроившись учителем в школе (лучшее из того, что ему оставалось), чтобы затем в течение почти восемнадцати лет зарабатывать на хлеб насущный этим нелегким трудом. После Митилен он учительствовал в Лампсаке, а туманные сообщения античных авторов позволяют предполагать, что, гонимый нуждой, Эпикур побывал в эти годы (с 822 по 306 год) и в других малоазийских городах. Так, уже в самом начале своего пути он оказался лицом к лицу с жизнью, чтобы познать в полной мере всю ее горечь и сладость, чтобы постигнуть в конце концов, выстрадать и осознать ее самоценность.
Труд учителя (так же, как скульптора, актера, писателя, за исключением разве что врача) не считался у греков почетным и даже в таких гениальных художниках, как Фидий, современники видели только способных ремесленников. А оплачиваемый умственный труд рассматривался как еще более унизительный, своего рода добровольное рабство, и, как сообщают античные авторы, сам знаменитый писатель Эсхин заплакал от стыда за постыдную бедность, получив свой первый гонорар. Что же касается такого, не имеющего даже постоянного пристанища учителя, каким был сын Неокла, то и платили ему, вероятнее всего, какие-то гроши, над чем не раз смеялись впоследствии его недоброжелатели, честя его «учителишкой».
Много лет в разных школах сын Неокла обучал ребятишек грамоте, письму и счету, перечитывал с ними поэмы Гомера и Гесиода, как когда-то его отец в их самосской школе, рассказывал о былых временах, о дальних народах и землях, но все это не занимало и не могло занимать всецело его созданный для более высокого и трудного ум. Он долгие годы лелеял заветную мысль открыть когда-нибудь школу другую, настоящую философскую школу, такую, как Академия или Ликей, где он сам и его будущие ученики создадут и донесут до людей открывшуюся им, постигнутую ими подлинную картину мироздания и бытия. Школу, где все нуждающиеся в мудрости смогут услышать то, что им действительно необходимо для того, чтобы и уцелеть, и остаться людьми, людьми разумными, мыслящими и великодушными при том, что реальность вокруг все меньше располагала к великодушию и мудрости. Но для этого, как понимал сын Неокла, нужно что-то иное, чем изжившие себя старинные правила, чем этические постулаты философов прошлого, ибо, несмотря ни на что, этим бессмертным мужам не пришлось все-таки видеть такие времена, когда людей покидают даже те «слепые надежды», которые им даровал титан Прометей и без которых постепенно оказывается, что жить-то уже, собственно, не для чего. И тогда не остается ничего, кроме вот этого худого ли, бедного ли сегодняшнего дня, в который они, по крайней мере, живы. Но что же тогда нужно, какая главная истина, вокруг которой все остальное ляжет в стройную систему, — этого Эпикур еще не знал. Эту главную истину ему самому еще предстояло прочувствовать и доказать всей своей жизнью,
Одно только Эпикур осознал еще в годы своего философского ученичества, как и многие образованные, мыслящие люди этого печального времени, так это то, что философия, какой она была раньше, со всякого рода абстракциями, сложнейшими космогоническими построениями, размышлениями о времени и пространстве, бытии и небытии, соотношении единичного и всеобщего, с доступными пониманию лишь очень немногих постулатами Парменида, пугающими умозаключениями Горгия и парадоксами Зенона из Элей, — такая философия была уже, кажется, ненужной. Как становилось все очевиднее даже для наиболее убежденных приверженцев чистого знания, это знание почему-то не помогло установлению разумной, справедливой и правильной жизни на нашей земле. Постижение законов Вселенной, непревзойденные достижения эллинов в различных искусствах и ремеслах — все это, несомненно, свидетельствовало о том, что люди от поколения к поколению становятся все умней, искушеннее и приспособленней, однако — и именно это приводило в недоумение, порой просто ужасало — они не становились от этого ни добрее, ни лучше, ни счастливее. И напротив, что с горечью отмечал еще Софокл, рост образованности даже как будто бы подтачивал нравственные и духовные устои греческого общества, а осознание относительности всего сущего — это неизбежное следствие все расширяющегося знания о мире — расшатывало самые основы жизни, придавало все более неопределенные и зыбкие очертания бытию.
И в то же время народ, его соплеменники, все более и неостановимо превращавшиеся в население македонской провинции, как бы и вовсе не нуждались ни в какой такой «науке человеческой жизни». И если даже в лучшие времена «афиняне отличались неблагодарностью в отношении философов» и с нескрываемым подозрением относились к излишне образованным и мудрствующим, не без основания подозревая их в безбожии и даже изгоняя за это, то теперь, с нарастающим оскудением жизни и почти общей убежденностью в бесполезности абстрактного знания, ученость вызывала все чаще лишь насмешливое презрение. И тем не менее любознательность, стремление постигнуть неведомое, живость и смелость ума, позволявшие греческим мыслителям прошлого проникать в глубины пространства и времени, еще не исчезли совершенно, и поэтому даже в захолустных Митиленах Эпикур не остался без восприимчивых учеников, стремящихся к знаниям юношей. Некоторые из них стали и первыми последователями той философской системы, которая начала складываться у будущего Спасителя людей уже в годы учительства на Лесбосе. И молодой учитель, непритязательный, бедный, один из тех людей, у которых, по словам Демокрита, «дух все больше привыкал черпать наслаждение из самого себя» и который вел нескончаемый спор со своими предшественниками — великими философами прошлого, этот учитель не жалел ни умения, ни душевных сил, обучая мальчиков всему, что знал сам, и относясь к ним с такой же теплотой и пониманием, с какой он относился впоследствии к многочисленным ученикам на протяжении почти пятидесяти лет своей просветительской деятельности.
И по мере того как таяли последние надежды греков на восстановление утраченной свободы, по мере того как могущество и величие их народа навсегда отходило в прошлое и с каждым поколением теряло реальные очертания, превращаясь в похожие на старинные предания воспоминания, по мере того как новые хозяева Ойкумены все больше привыкали обходиться с ними как с людьми подневольными, у сына Неокла (с его насмешливым, все безжалостно анализирующим умом и гордым духом) крепло желание и самому остаться эллином, достойным славы своих свободных предков, и помочь остаться таким же близким ему людям. Ему казалось, что знание, и прежде всего знание явлений природы, устройства Вселенной, основных закономерностей жизни, может помочь людям освободиться от темного страха перед неизвестным, от суеверий и нелепых привычек, поможет им нравственно подняться, жить осмысленно, разумно, сохраняя свое человеческое первородство при всех превратностях бытия. Он надеялся, наконец, что эти знания помогут людям остаться внутренне свободными, даже если их выведут однажды на рабский рынок, как выводили бессмертного Платона.
Однако осуществление этой задачи, превратившейся постепенно в цель Эпикуровой жизни, казалось порой просто нереальным в той тягостной обстановке запустения, обнищания и безразличия, в которой начинал он свою просветительскую деятельность. Сейчас уже было трудно представить, сколь сильными и славными были Митилены два-три века назад, весь этот остров, давший миру Сапфо и Алкея и получивший название «поющего острова». После того как около ста лет назад афиняне жестоко расправились с митиленцами за попытку восстановить самостоятельность, Лесбос превратился понемногу в обнищавшее и обезлюдевшее захолустье; большинство его обитателей жили как придется, как выйдет, лишь бы прожить, а горстка богачей, разжившихся на поставках для македонской армии или же на спекуляциях земельными участками, не меняла общей картины оскудения. Как и по всей Греции, общественное неравенство нарастало. И если уже Платон с горечью писал о том, что «каждое из эллинских государств представляет собой множество государств, а не одно государство» и что, какое из них ни возьми, в нем найдешь два враждебных друг другу государства, одно — богатых, другое — бедных, и что «человек становится другому чем-то вроде волка», а Аристотель констатировал, что греческое общество теперь состоит только из господ и рабов, завидующих друг другу и презирающих друг друга, то здесь, на давно уже потерявших самостоятельность островах положение было еще более тягостным. Большинство их обитателей, не имеющих постоянных средств к существованию, отчаявшихся и озлобленных, ненавидело своих более удачливых соплеменников, пожалуй, даже больше, чем македонян. И, казалось, достаточно любого, даже самого незначительного предлога, чтобы вспыхнула та «война всех против всех», от которой предостерегал Платон.
Эти новые богачи (хозяева ремесленных мастерских, приисков, трапедзиты, ссужавшие деньги под большие проценты, перекупщики хлеба), проворачивающие свои дела по всей Греции и за ее пределами, не имели чувства родины. Они отнюдь не считали себя гражданами какого-то определенного города, если даже родились и выросли там, и тем более не рассматривали как соотечественников ту обнищавшую и на все готовую толпу, которую они просто боялись. И если когда-то богатые и знатные люди считали своим долгом заботиться о менее обеспеченных согражданах, а также рассматривали как почетную обязанность литургии (устройство зрелищ, проведение праздников и торжественных жертвоприношений), то теперь состоятельные и преуспевающие стремились под любыми предлогами уклониться от всего этого, готовые, как писал об этом Исократ, скорее бросить свое достояние в море, чем поделиться со столь презираемым ими сбродом. В отличие от Мильтиада или же Кимона (людей богатых, знатных и привезших с войны против персов огромную добычу), которые, подражая спартанцам, вели скромный образ жизни и чтили традиции, новые богачи любили жить в роскоши, соперничая в грубых прихотях с восточными сатрапами и откровенно презирая обветшавшие обычаи своих предков. И если мудрейшие из законодателей прошлого особенно выступали против внешнего выражения общественного неравенства, против выставляемой на показ и на зависть роскоши как против одной из самых страшных общественных язв, то теперь эти язвы разрослись настолько, что грозили распадом общества (которого, впрочем, в его старинном, полисном понимании уже не было).
Каждый теперь все больше предпочитал жить сам по себе, держаться подальше от политики и общественных дел (тем более что занятия политикой, как правило, плохо кончались), надеясь найти в частной жизни, в семье, в кругу близких и родных понимание и поддержку — все то, чего было больше не в состоянии дать им общество. И если столетием раньше греческие мужи проводили большую часть времени, свободного от ратных дел, в общественных местах — в Совете, Собрании или на Агоре, то теперь они полюбили сидеть дома, стараясь в нехитрых делах и заботах повседневного быта обрести какое-то новое счастье, маленькое и тихое. То счастье, которое было просто немыслимым, показалось бы измышлением слабоумных или же больных их снедаемым жаждой деятельности предкам, предприимчивым, общительным, уверенным в себе и в своем будущем.
История поворачивалась так, что большой, настоящей жизни свободных людей у эллинов больше не было и не могло быть, маленькие же дела, грошовые заботы, необходимость каждый день приспосабливаться, чтобы выжить и уцелеть, делали столь же ничтожными и их помыслы. Ибо, как писал об этом в свое время Демосфен, «нельзя… если занимаетесь мелкими и ничтожными делами, приобрести великий и юношески смелый образ мыслей, равно как и наоборот, если занимаетесь блестящими и прекрасными делами, нельзя иметь ничтожного и неизменного образа мыслей».
Ничего особенно прекрасного, а тем более блестящего давно уже не видели ни митиленцы, ни обитатели других греческих городов и островов, если не считать торжественно справляемых побед друг над другом диадохов Александра, продолжающих растаскивать по кускам земли, завоеванные их божественным предводителем. Но в этой затянувшейся на десятилетия ожесточенной игре большинству греков не выпало даже роли статистов: для тех, кто захватывал, отвоевывал, покупал, менял, дарил и по-дружески уступал их старинные города и селения, они были действительно всего лишь массой, безликой и расплывчатой, без мыслей, желаний и чувств. Над всеми греками довлело теперь, определяло всю их жизнь гнетущее чувство поражения. Ибо даже самому невежественному и немыслящему из них в глубине души было ясно, что это уже конец, что Эллады больше нет и не будет никогда. Страх нарастал в душах людей, и те из них, которые еще не утратили способности рассуждать, пытались найти, отыскать причины того, почему же их мир рушится прямо у них на глазах и почва уходит из-под ног. И если уже полвека назад Платон писал о грядущем потопе — «катаклисме», то сейчас предчувствие надвигающейся катастрофы стало всеобщим. Теперь уже мало кто помышлял о борьбе, все казалось бесполезным: миром правили какие-то темные силы, непонятные и неподвластные человеку, и речь шла уже не о том, чтобы что-то исправить, изменить и улучшить в их общей судьбе, но лишь только о том, чтобы как-то прожить, уцелеть, просуществовать каждому в отдельности.
И поэтому одни, если им позволяли средства, предпочитали всему остальному пьяное веселье, непритязательные сюжеты ни к чему не зовущих и ни к чему не обязывающих, таких же бессодержательных, как их собственная жизнь, комедий. Высокая поэзия прошлых времен, с ее гражданственным пафосом и верой в высшую нравственность, мировую гармонию и справедливость, все больше воспринималась как нечто чуждое и в значительной степени искусственное и не имеющее отношения к теперешней жизни, которая привела бы поистине в ужас Софокла или Эсхила. Другие искали прибежища в сумрачном мире восточной мистики, взывая к таинственным, может быть, более могущественным, чем их собственные, богам. Были и такие, которые, признав тщетным какое бы то ни было сопротивление, сами вычеркивали себя из обычной жизни, из какой-либо деятельности и, глубоко равнодушные ко всему на свете, становились бродягами и нищими, не нуждаясь ни в чем, кроме солнечного света. Как не нуждался ни в чем Диоген, поразивший «гордостью и величием души» самого Александра, или же высмеивающий весь белый свет Бион Борисфенский.
И вот этим-то людям, своим погибающим в бессилии и бесславии соплеменникам, решает помочь сын Неокла. Он приступает к главному делу своей жизни с твердой верой в целительную силу знания, проникаясь все большей убежденностью в том, что, как учил Демокрит, «не знающая пустого страха невозмутимая мудрость стоит всего прочего». При виде почти всеобщей растерянности у Эпикура крепнет решение помочь всем неуверенным и пребывающим в тревоге жить так, чтобы не потерять окончательно памяти о человеческом предназначении, о гордости быть существом разумным и мыслящим, научить людей жить даже тогда, когда, как казалось теперь очень многим, жить уже нечем. А может быть, вопреки очевидности в глубине души сына Неокла (и не его одного) таилась надежда на то, что рано или поздно, преодолев, пережив унижения и невзгоды, его древний великий народ вновь обретет себя в своих внуках и правнуках, вместе с вожделенной свободой и возродившейся силой… Невозможно, немыслимо было поверить, что эллины угасают, может быть, они просто чрезмерно устали, но это пройдет, надо только помочь им прожить эти печальные времена.
В отличие от Демокрита, Анаксагора или Платона, не знавших, что такое забота о хлебе насущном, позволявших себе роскошь с презрением отринуть суету повседневности ради того, чтобы без помех заниматься тем единственным, ради чего, по их мнению, и стоило жить, — философией, математикой, астрономией, изучением различных природных явлений, сын Неокла долгие годы был должен каждое утро являться в класс, обучая письму и счету детей бедняков и с нетерпением ожидая свободных от работы часов, которые он мог целиком отдать изучению философии. Он был полностью согласен с Демокритом в том, что «всякий вид работы приятнее, чем покой, когда достигается цель трудов или есть уверенность, что цель будет достигнута», но с годами его мысли все чаще невольно обращались к тому, что как было бы неплохо оставить утомительный учительский труд и сколько он мог бы сделать, написать о природе, Вселенной, человеческой жизни, если бы только был свободнее. К тому же уже в молодом возрасте у него появились, по-видимому, первые признаки той тяжелой болезни, которая превратила со временем его жизнь в нескончаемое страдание. Безусловно, хиосский философ Метродор был полностью прав, когда утверждал, что основа благополучия всякого человека — здоровое телосложение, но что делать, если такового нет, и Эпикур приучает себя жить, приспосабливаясь к своему мучительному недугу, стойко перенося мучительные приступы и радуясь перерывам между ними, стремясь сделать в эти перерывы как можно больше, пока болезнь не уложила его снова в постель.
И при этом он оставался общительным и внимательным к людям. Вскоре у него появляются друзья, некоторые из них останутся с ним рядом всю жизнь. Они часто сходились вместе, обедали, прогуливались, беседовали, радуясь друг другу и заботясь друг о друге. Для этих молодых людей их тесный кружок единомышленников заменял теперь все, что было у эллинов раньше, — свободное отечество, гражданские обязанности, политику, беседы у знаменитых философов, насыщенную деяниями жизнь. В общем никому теперь особенно не нужные, тем нужнее они были друг другу. Дружба заменила им утраченные общественные связи, распавшиеся установления, заботу государства. И уже в эти митиленские годы Эпикур привыкает делить с друзьями последнее. Он был беден, незнатен, безвестен, но рядом с ними обретал уверенность и покой, равный среди равных, с возмущением отвергая попытки какого бы то ни было предпочтения, возвеличения со стороны друзей. Этот Спаситель людей (как он сам себя мыслил и к чему себя готовил) был так же непритязателен и прост, как сама жизнь вокруг, когда приходится жить, чтобы выжить, и так же, как эта жизнь, бесконечно трагичен.
Источники ничего не сообщают о личной жизни Эпикура. Неизвестно, был ли он женат, имел ли детей, однако его собственные высказывания и отрывки из писем позволяют предполагать, что своей семьи у него не было. Возможно, как многие другие философы, он был в достаточной степени равнодушен к этой стороне человеческой жизни, слишком погруженный в размышления о мире и бытие, к тому же бедный и больной. Очень может быть, что в какой-то мере он разделял взгляды Демокрита, утверждавшего следующее: «Люди думают, что им необходимо производить себе детей как в силу требований природы, так и некоторого древнего установления… У человека уже образовался обычай ожидать и некоторой пользы от потомства. По моему мнению, не следует иметь детей. Ибо я вижу в обладании детьми много больших опасностей и много беспокойства, радостей же мало, и они притом незначительны и слабы». Однако та трогательная забота о детях друзей и близких, которую Эпикур проявлял на протяжении всей жизни, свидетельствует о том, что вряд ли он был безусловно согласен с абдерским мудрецом в этом, столь важном для каждого человека вопросе. И, может быть, отказаться от семьи, от потомства (ведь имели же сыновей и Анаксагор и Сократ) его побудили в значительной степени те глубинные, неразгаданные причины, которые заставляют даже животных отказаться от потомства, если у этого потомства нет будущего. Ибо, если Платон писал в свое время о том, что люди, «родив и воспитав детей… передают им — одни другим — жизнь, точно факел», то теперь наступали такие печальные времена, когда казалось, что эта извечная эстафета жизни вот-вот прервется и что факел уже донесен почти до конца.
Не придавая, по-видимому, особого значения чувству любви между мужчиной и женщиной, считая, что «благородный человек всего более занят мудростью и дружбой», что «мудрец не должен быть влюблен», что «любовь дана людям не от богов» и «ни жениться, ни заводить детей мудрец не будет», с возрастом Эпикур стал еще более отрицательно относиться к любовным отношениям как к некоей досадной помехе разумной и добродетельной жизни. Как сообщают античные авторы, он высказывался весьма определенно по этому поводу в своих сочинениях «Сомнения» и «О природе». И если столетием раньше мятежные и страстные герои Еврипида умирали от неразделенной любви, а тот же Платон писал об Эроте как об одном из самых великих богов, делающем человека не только счастливее, но и лучше, возвышеннее, то для философствующего сына Неокла этого бога, по-видимому, не было вообще. И, судя по дошедшим до нас отрывкам из писем Эпикура, по отдельным его высказываниям, если он когда и обращался к этой теме, то писал не о любви, но только лишь о «любовных наслаждениях». В связи с этим он писал одному из своих друзей или же учеников: «Я узнал о тебе, что у тебя довольно сильно вожделение плоти к любовным наслаждениям. Когда ты не нарушаешь законов, не колеблешь добрых обычаев, не огорчаешь никого из близких людей, не вредишь плоти, не расточаешь необходимого, удовлетворяй свои желания как хочешь. Однако невозможно не вступить в столкновение с каким-нибудь из указанных явлений: ведь любовные наслаждения никогда не приносят пользы, довольно того, если они не повредят». И в том, что для жаждущего мудрости сына Неокла все многообразие одной из самых возвышенных и великих страстей человеческих сводилось лишь к «любовным наслаждениям», в том, что в столь восхищавшем его мироздании не оставалось места для любви — этого прекраснейшего именно из человеческих качеств, для любви, в которой Эмпедокл видел главную движущую силу жизни, природы, всего мироздания, во всем этом сказывались, без сомнения, неосознанная глубинная усталость его народа, то умирание (вернее, отмирание) чувств, которое являет собой один из первых грозных признаков старости, бесплодной и холодной, того или иного человеческого племени.
У Эпикура не было ни родового поместья, ни денег, ни даже домика под старым платаном, как у Демокрита в Абдерах (тенистого садика, в котором, согласно преданиям, застал его Гиппократ, окруженного свитками и вскрытыми трупами животных). Он никогда не путешествовал по свету — «в Персию, к халдеям, на Красное море», в Египет или даже в Индию, как Демокрит, Пифагор и Платон. Может быть, у него не всегда было даже достаточно денег на хороший обед, и он выходил из этого положения, раз и навсегда убедив себя в том, что простая пища ничуть не хуже и даже во многих отношениях полезнее изысканных, но вредных для здоровья яств: «Я ликую от радости телесной, питаясь хлебом с водой, и плюю на дорогие удовольствия — не за них самих, но за неприятные последствия их». И даже потом, когда его положение заметно улучшилось, Эпикур, смеясь, утверждал, что кусок свежего сыра — это уже для него невиданная роскошь. Подобно Демокриту, он ни разу в жизни не усомнился в том, что «богатство, приобретенное дурными путями, носит на себе слишком заметное пятно» и «как из ран самая худшая болезнь есть рак, так и при обладании деньгами самое худшее — желание постоянно прибавлять к ним». Он был равнодушен к вещам, как и все его великие предшественники, — как Гераклит, отказавшийся от царского сана, как Анаксагор, раздавший родовое добро, как Демокрит, «пренебрегший унаследованным от отца имением и оставивший невозделанными поля».
Черпая поддержку в писаниях старинных философов, большинство которых всему предпочитало простой и умеренный образ жизни, сын Неокла приучает себя с молодых лет с достоинством переносить бедность, считая что не так уж он и беден, если у него есть кров над головой, постель, обед и главное — книги, его драгоценные свитки, а больше, в сущности, человеку ничего и не нужно. Впоследствии оказалось, что это и в самом деле так. Все необходимое для жизни у него было, а ради приобретения чего-то сверх того он не сделал бы и шагу. Видя, какими путями люди вокруг него идут к богатству, Эпикур раз и навсегда отвергает для себя этот путь — путь приспособленчества, лжи, воровства и угнетения себе подобных: «Свободная жизнь не может обрести много денег, потому что это нелегко сделать без раболепства перед толпой или правителями; но она имеет все в непрерывном изобилии. А если как-нибудь она и получит много денег, то легко может разделить их для приобретения расположения близких людей». И он действительно, как отмечают античные авторы, всегда был готов поделиться с друзьями всем, что имел. Но в то же время, соглашаясь с Демокритом в том, что «нужно заботиться только об умеренном приобретении материальных средств и главные усилия направить на действительно необходимое», Эпикур не был в то же время сторонником чрезмерного опрощения, пренебрежения условностями, считая, что главное во всем — это чувство меры: «Мудрец не будет болтать вздора даже пьяный… не станет тираном, не станет жить и киником или нищенствовать». В то время как фигура мудреца с нищенским посохом и сумой через плечо, во всем разуверившегося, поставившего себя вне рамок беднеющего и в то же время охваченного стяжательством общества, стала весьма характерной для этого печального времени.
Где-то в неповторимом прошлом остался облаченный в багряницу и препоясанный золотом Эмпедокл, сумрачным и всемогущим богом шествующий по Сицилии: теперь же из конца в конец греческой земли шел уродливый, хромой и горбатый Кратет, ничего уже не принимающий всерьез и проживший жизнь «шутя и смеясь, как на празднике». И если раньше многие из мудрецов сознательно отказывались от богатства и власти, то теперь почти все они были настолько бедны, что им не было нужды этого делать: по словам Диогена Синопского, «бедность сама пролагает путь к философии. То, в чем философия пытается убедить на словах, бедность вынуждает осуществлять на деле».
Так вот и сын бывшего клеруха Неокла с юных лет приучил себя довольствоваться малым, никому не завидуя, не строя приобретательских планов и глубочайшим образом презирая тех, относительно которых Аристотель заметил, что есть люди, словно бы состоящие из одного желудка. Корабли из митиленской гавани отплывали во все концы света, неизменно оставляя на берегу молодого учителя, который за всю жизнь так, повидимому, нигде и не побывал, кроме ионийских городов и Афин. И более того, представляется возможным говорить о том, что его и не манили особенно дальние края, описанные когда-то Геродотом, виденные Демокритом и Платоном. Как и Сократу, ему казалось вполне достаточным попытаться устроить более разумно и правильно жизнь на той части земли, которая его окружала, и только космос неудержимо манил его (как многих и до и после него) своими неразгаданными тайнами. Корабли растворялись в синеве за горизонтом, а сын Неокла шел себе куда глаза глядят — среди полей, виноградников, садов, взбирался по узким тропинкам на невысокие, заросшие жестколистной растительностью горы и оттуда опять видел море, такое же прекрасное и ласковое, как в те далекие-далекие годы, когда ахейские корабли приближались к Троаде.
Вечерний воздух был чист и прохладен, солнце касалось кромки воды, и мир был невыразимо прекрасен, прекрасен, несмотря на безденежье, болезни, несправедливости, несмотря на македонских военачальников, жадных ростовщиков, суеверных и косных обывателей. Этот единственный из миров принадлежал ему полностью — и Эпикур был счастлив. Впоследствии он советовал всем, стремящимся к мудрости, как можно больше бывать на лоне природы — «любить простор полей» и считал такие прогулки первым удовольствием мудреца. А вечером, при масляном свете лампы, он вновь вел длинные, нескончаемые диалоги со своими вневременными современниками, одержимыми, как и он сам, жаждой познания мира, записывал свои размышления на свежие, чистенькие свитки — и снова был счастлив. И если он убеждал впоследствии всех растерявшихся и разуверившихся в том, что счастье доступно для каждого и, в сущности, очень и очень просто, то он не лгал, не утешал заведомо несбыточным. Нет, он был действительно счастлив тем, что имел, а имел он весь мир, а что такое в сравнении с этим людское жалкое состояние, разный там скарб и рухлядь.
К тому же не только великие мужи — философы прошлого были его молчаливыми собеседниками. Друзья (и прежде всего Гермарх, тоже сын бедного отца и тоже взыскующий тайн бытия, известный впоследствии как автор не одного десятка книг) обсуждали вместе с сыном Неокла прочитанные сочинения, разбирали воззрения Эмпедокла, Анаксагора, Платона и Аристотеля, блуждая в стране нетленного знания и философских абстракций (где она, эта страна, в умах человеческих или же в неких занебесных пространствах никем не созданного мироздания?). Любовь и понимание друзей наполняли жизнь Эпикура теплотой и уверенностью в том, что можно все-таки жить и жить достойно и разумно даже при самых неблагоприятных поворотах истории, которая приобретала к этому времени все более и более жестокие и неподвластные грекам очертания.
Уже несколько лет, как Малая Азия, Греция и даже Египет превратились в арену ожесточенной борьбы за власть между диадохами — наследниками Александра, а тысячи тысяч обитателей этих земель — в безмолвных и бессильных зрителей этого блистательного и страшного спектакля. Как писал об этом впоследствии Плутарх, «утратив Александра, войско содрогалось, трепетало, воспаляясь Пердикками, Мелеаграми, Селевками, Антигонами, как горячими вихрями и волнениями, сталкивающимися и спорящими между собой: и наконец, увядая и разлагаясь, оно, как могильными червями, вскипело множеством ничтожных царей и готовых испустить последнее дыхание военачальников. И действительно, собравшись в последний раз вместе на тризне по своему великому царю, Пердикка, Антигон, Лисимах, Селевк и Птолемей (каждый из которых считал себя именно тем «сильнейшим», кому согласно преданию Александр завещал свой перстень и царство) разъехались по своим наделам, чтобы встречаться отныне главным образом на поле битвы.
Многолетняя кровавая борьба за власть, завершившаяся в конце концов полным уничтожением царского дома Аргеадов и подточившая могущество Македонии, началась и в Пелле. Еще в Вавилоне, в тронном зале, где лежало облаченное в пурпур тело Александра, после ожесточенных и долгих споров регентом государства был объявлен старый Пердикка, известный своей храбростью, суровостью нрава и преданностью царю. Поскольку вдова царя Роксана еще только ожидала ребенка и было неизвестно, будет ли это мальчик, на трон был посажен (главным образом стараниями его честолюбивой жены Эвридики) слабоумный Арридей, прижитый Филиппом от фессалийской танцовщицы: словно в насмешку на место величайшего из вождей «привели актера», «или, лучше сказать, на сцене Вселенной роль вождя досталась лицу без речей». Эта роль закончилась для злосчастного Арридея самым ужаснейшнм образом: бывшая царица Олимпиада, мать Александра, решительная, страстная, ожесточившаяся за долгие годы измен, коварств и предательств своего мужа, теперь снова вступила в борьбу и, оказавшись вместе со своими приверженцами на какое-то время у власти, безжалостно уничтожила вызывавшего всеобщие насмешки сына танцовщицы. Сначала она приказала замуровать Арридея и Эвридику в небольшом помещении и подавать им немного пищи через отверстие в стене, чтобы голодная смерть не положила слишком быстрый конец их страданиям, а потом поручила нескольким фракийцам пронзить царя стрелами. Эвридике же, вопившей во весь голос, что она-то и есть прямая наследница престола, не знающая милосердия вдова Филиппа (с которой согласно легенде однажды возлег сам Зевс) послала на выбор веревку, меч и яд, и та повесилась, прикрепив свой пояс к карнизу. Но вот проходит немного времени, погибает Пердикка, заколотый в собственном шатре, его сменяет возвратившийся из Азии Антипатр, тоже весьма преклонных лет, чтобы привести в порядок дела в самой Македонии и в подчиненной Элладе, дела, заметно пришедшие в расстройство из-за междоусобиц и смут последнего времени. Он должен был оставаться правителем до тех пор, пока не подрастет сын Роксаны, названный Александром IV. Однако Антипатр умирает в начале 319 года, и борьба за македонский престол возобновляется с новой силой, теперь уже между Полисперхонтом, тоже из рода Филиппа, мечтающим стать продолжателем дела Александра Великого, и Кассандром, сыном Антнпатра, испытывающим упорную ненависть в отношении всего, что было связано с именем бессмертного сына Олимпиады. В борьбе за власть и Полисперхонт и Кассандр стремились заручиться поддержкой не только в самой Македонии, но и в Греции, во многих городах которой находились теперь македонские гарнизоны, а насаженные олигархические правительства предотвращали народ от «опасного увлечения демократией, автономией и свободой», которые были теперь только пустой фразой. В свое время Полисперхонт, оказавшись на время у власти, поспешил тут же издать указ, возвращающий будто бы греческим городам самоуправление и свободу: «Мы дарует Вам мир, даем Вам и все прочие привилегии», «Самос же мы возвращаем афинянам, — отмечалось, в частности, в этом указе, — так как и наш отец Филипп оставил его в их руках». Хотя это было всего лишь декларацией, которая уже ничего не могла изменить в поражении Греции и имела своей целью прежде всего склонить греков и особенно афинян на сторону Полисперхонта, указ пробудил какие-то надежды на восстановление хотя бы доли былой самостоятельности. Выделенное же в нем положение о Самосе не могло не взволновать тех, кто, как и семья Эпикура, остался без средств к существованию после возвращения самосских наделов их прежним хозяевам. Теперь, казалось, появилась возможность вернуть часть утраченного, однако и этим слабым надеждам не суждено было сбыться: события в Македонии и Греции разворачивались так, что с ностальгическими мечтами о благополучии и свободе было лучше расстаться навсегда, и речь теперь могла идти лишь о том, правление какого из македонских претендентов на власть казалось предпочтительнее.
Афиняне тщетно ждали от Полисперхонта осуществления обещанных свобод, рассчитывая, что он хотя бы освободит афинские гавани. Напротив, македоняне заняли еще и Саламин. Тогда один из знатных граждан предложил в собрании вступить в переговоры с Кассандром, поскольку от него, по-видимому, будет больше толку. Это мнение восторжествовало, в 318 году к претенденту на македонский престол были отправлены послы и был заключен мирный договор, по которому афиняне сохраняли за собой свой город, земли, доходы и корабли, но становились при этом союзниками Кассандра, расположившего свои гарнизоны в Мунихие и Панакте. Лишенный поддержки греков, Полисперхонт был вынужден отказаться от честолюбивых планов продолжателя дела Александра, а сын Антипатра, слывший человеком образованным, не чуждым философии и почитателем Гомера, откровенно рвавшийся к царской порфире, начал столь беспощадную расправу с домом Филиппа, что его жестокость показалась чрезмерной даже в эти не знающие сострадания времена. Сначала он расправился с матерью ненавистного ему победителя Дария. Было созвано войсковое собрание, чтобы судить Олимпиаду за убийство Арридея и многих знатных македонян, и большинством голосов ей был вынесен смертный приговор. Однако из двухсот человек, посланных заколоть ее в собственном дворце, никто не осмелился поднять руку на родительницу. божественного Александра. Тогда Кассандр поручил исполнение приговора родственникам казненных ею недавно македонян, и горделивая царица, величественная, как седовласая богиня, погибла под градом камней, без слов и без слез, завернувшись в свое царское облачение. Но еще оставалась Роксана с ее юным сыном, которому Кассандр должен был вручить власть по его совершеннолетии.
Прекрасная бактрийская танцовщица, которой выпала судьба стать вдовой «повелителя Вселенной», жила со своим сыном в городе Амфиполе на положении чуть ли не заключенной, лишенная чьей-либо заботы и участия, в постоянном страхе за свою и сына жизнь. Царственный мальчик, само имя которого избегали произносить в Македонии, чтобы не вызвать недовольство Кассандра, с возрастом стал все больше напоминать своего великого отца — и внешностью, и первыми проявлениями незаурядного ума, хотя и не получал соответствующего его сану воспитания. Те, кому приходилось его видеть, все чаще поговаривали о том, что они узнают в чертах мальчика бессмертный образ его отца Александра, что надо бы перевезти его в столицу и посадить на царский престол, поскольку время для этого пришло. И тогда Кассандр, не допускавший даже мысли о том, чтобы отказаться от власти, посылает правителю Амфиполя приказ тайно умертвить царевича и его мать и зарыть их тела, чтобы никто не узнал о случившемся. Приказ был выполнен, и лишь постепенно мир узнал о страшной участи единственного сына Александра, этого несчастного ребенка, в жилах которого смешалась кровь нескольких народов. Ему не досталось ни крохи из растащенного по кускам наследия его победоносного отца, всей бессмертной славы Александра оказалось недостаточно, чтобы заслонить от удара кинжалом его наследника.
Гибель дома Филиппа, уничтожение самой династии Аргеадов, правившей в Македонии несколько столетий, по-разному воспринималось среди македонян и греков, а также на востоке. Те, кто еще не утратил веры в божественное возмездие, в неминуемость расплаты за совершенные несправедливости, за однажды пролитую кровь (сколько же раз писали об этом старинные поэты, уверенные в том, что «вина людская новую родит вину»), должны были с невольным чувством удовлетворения воспринимать известия и слухи о страшной участи семьи царя: как нечастные Атриды расплатились своими страшными бедами и в конце концов гибелью за троянские подвиги могущественного Агамемнона, так и теперь, в силу того же самого единственного и непреложного закона мировой справедливости, мать, жена и ребенок непобедимого полководца, вихрем промчавшегося по жизням и судьбам не считаемых и не замечаемых им людей, расплатились своей кровью и жизнью за эти великие свершения. Что же касается греков, и особенно афинян, то что им было за дело до гибели злосчастного Аргеадова семени? Все эти злодейства, о которых перешептывались по углам обыватели, совершались где-то на самом верху, где решались отныне судьбы всей Ойкумены, а внизу, где теперь они все оказались, тоже было предостаточно и злодеяний, и крови, и казавшейся непреодолимой жестокости, от которой люди все больше стремились бежать в призрачный мир умозрительных построений. В тот спасительный мир высшего умствования, открытый, увы, лишь немногим, в разумное спокойствие которого мечтал ввести своих, растерявшихся в лабиринтах бытия соплеменников неимущий учитель Эпикур, ни при каких обстоятельствах не пожелавший бы признать себя побежденным.
Обращаясь к философскому наследию Эпикура, обычно сразу же отмечают, что исследование закономерностей природы и устройства мироздания не было для него самоцелью и служило лишь необходимой предпосылкой его этики, учения о человеческом счастье, однако дошедшие до нас отрывки из XIV и XXVII книг его сочинений «О природе» позволяют говорить о том, что в молодости и сыну Неокла не был чужд священный восторг познания как такового, о котором так писал впоследствии его вдохновенный последователь, римский поэт Тит Лукреций Кар:
Этот трепетный ужас, священный восторг частицы перед целым, смертного перед бессмертным, конечного перед непреходящим овладевал Эпикуром по мере того, как он пробирался умственным взором к «огненным стенам мира», но не останавливал его. Напротив, сокровенные тайны мироздания влекли его неудержимо, и он, так же как и его великие предшественники, как тот же Демокрит, «предпочел бы найти одно причинное объяснение, нежели приобрести себе персидский престол». Как и для всех тех философов Греции, которым европейское человечество обязано в значительной мере своим поступательным движением в истории, для сына Неокла рано стали казаться самыми важными вопросы, на которые вечно стремится ответить человек: Что есть наш мир? Откуда он? Зачем он? Что движет им? И что есть люди, куда они идут? Эпикур искал подтверждения собственным мыслям в сочинениях своих предшественников (при том, что он не был совершенно лишен того самомнения человека, стремящегося к самостоятельности мышления, в силу которого Гераклит считал других мудрецов не более чем самоуверенными «многознайками»).
Сын Неокла спорил с ними, давно уже не существующими, создавая понемногу собственную картину мира, в чем-то основанную на выводах и умозаключениях Анаксагора, Демокрита, Протагора, но в чем-то принадлежащую лишь ему самому. Он читал и комментировал Анаксагора (в частности, в своем «Возражении Анаксагору»), которого, по свидетельству античных авторов, предпочитал всем остальным, «хотя и с ним он кое в чем не соглашался», особенные возражения вызывали у Эпикура идея бесконечной делимости и Анаксагорово представление о первоначалах. Подобно Платону и Аристотелю, Эпикур придавал большое значение логическим умозаключениям, считая, что таким путем можно получить новое знание о вещах даже при отсутствии данных непосредственного опыта. Этим он отличался от Демокрита, опиравшегося в своих философских построениях прежде всего на непосредственное исследование природы.
Отвергнув для себя раз и навсегда идеалистические концепции мира (казавшиеся ему уже с юных лет, еще со времени обучения у платоника Памфила в достаточной степени искусственными и неприемлемыми для действительного познания жизни), Эпикур обратился всецело к наследию тех, кто, как и он сам, стремились вывести законы природы из самой же природы и для которых окружающий нас мир, зримый, ощущаемый, движущийся, вечно меняющийся и в то же время непреходящий, был единственной реальностью. Долгие годы, более семнадцати лет, он изучает труды натурфилософов, и особенно Демокрита, проникавшего, как писал о нем впоследствии Марк Тулий Цицерон, «мыслью… во всю беспредельность Вселенной, так что для его мысли не было никакого предела». И если сын Неокла, как утверждают античные авторы, подвергал насмешливому сомнению некоторые из положений Абдерита и даже довольно бесцеремонно отрицал саму преемственность, то это, вероятнее всего, относится к более позднему периоду его жизни. К тому времени, когда Эпикур с горьким бессилием начал осознавать, что никому из смертных, в том числе и создателю «Великого диакосмоса», так и не удалось объяснить наш мир и что их дерзновенные попытки проникнуть в главную тайну Вселенной так и остались попытками. Возможно, что скептические высказывания Эпикура о других философах и их теоретических построениях, в чем его противники усматривали первый признак невежества и самомнения недоучки, также относятся к тому времени, когда он окончательно убеждается в том, что знание законов Вселенной не делает более правильной, осмысленной и человечной жизнь на этой земле, и поэтому не все ли равно, что там происходит, в бескрайних просторах непостижимого космоса?..
Идею материи как бесконечного множества невидимых глазу неделимых первотелец — атомов развивал еще философ Левкипп, о котором, как уже говорилось, даже в древности было так мало известно, что многие, в том числе и Эпикур, сомневались в самом его существовании. Как писали об этом философе, «Левкипп, бывший родом из Элен или из Милета, был знаком с учением Парменида, но не пошел по той дороге, как он и Ксенофан, а, насколько мне кажется, по противоположной. В то время, как последние ненавидели единство и неподвижность Вселенной и не признавали ее возникновения и даже запрещали спрашивать о несуществующем, то есть о пустоте, Левкипп предполагал бесконечное множество телец или атомов, находящихся в вечном движении и обладающих бесконечно разнообразными формами. Ибо в вещах он видел беспрерывное возникновение и бепрерывные изменения. Затем он считал существующее не более реальным, чем несуществующее (то есть пустое пространство); и в обоих он в равной степени усматривал причину всего случившегося». Предвосхитивший своими догадками открытия последующих времен, Левкипп представлял себе материю как неисчислимое множество однообразных, но отличающихся друг от друга первотелец, вечно движущихся в пустом пространстве. Атомы, по его мнению, «держатся друг за друга» и «пребывают вместе в течение определенного промежутка времени, до тех пор, пока какая-либо более сильная необходимость, явившись извне, не потрясет их соединения». «Рождение — это соединение атомов, смерть же — их распадение», — повторял вслед за своим учителем и Смеющийся философ.
Учение Демокрита об атомах (о том, что «начало Вселенной — атомы и пустоты», о том, что «атомы бесчисленны по разнообразию величин и но множеству, носятся… во Вселенной, кружась в вихре, и таким образом рождается все сложное, огонь, воздух, земля») стало аксиомой для Эпикура, основой его системы мироздания. Хотя и в атомистической теории Демокрита было, по его мнению, немало положений, весьма уязвимых с точки зрения логики. В грандиозных построениях Абдерита весь мир представал как модель огромного атома, а каждое из неисчислимого множества первотелец «могло оказаться таким же миром»: «Демокрит учил, — писал в связи с этим античный писатель Аэций, — что может быть атом размером с наш мир». Такое трудно было себе представить не только обычным смертным, многие из которых про себя были твердо убеждены, что все это только злостные выдумки богохульников и нечестивцев. Итак, материя — это бесконечное множество движущихся атомов, и в процессе этого движения образуется все существующее, но что же за сила ими движет и какова конечная цель движения, если такая цель вообще есть? На этот вопрос, который Эпикур задал уже много лет назад и себе самому, и своему не слишком-то искушенному в философии отцу, не смогли ответить ни Левкипп, ни его великий ученик. Аристотель писал об этом не без скрытой иронии: «Они говорят, что движение существует благодаря пустоте. Ибо движение в пространстве называют «природой». И действительно, сторонники атомистического устройства Вселенной считали, что в какой-то особой причине движения атомов нет никакой необходимости, что образование всего сущего — в том числе неба и земли — произошло по природе, само собой, без всякого воздействия извне, но вследствие некоторого случайного стечения обстоятельств. «Абдеритянин Демокрит, — писал в связи с этим Плутарх, — признавал Вселенную бесконечной по той причине, что она отнюдь не создана кем-либо… Безначальны причины того, что ныне совершается; искони, с бесконечного времени». И если Гераклит считал, что наделенный божественным разумом огонь — эта сущность мира — не имеет цели и, как «играющее дитя», строит на морском берегу сооружения из песка лишь только для того, чтобы самому же их разрушить, а Анаксагор учил, что некий вселенский Разум, правящий миром, дал первоначальный толчок движению атомов, то для Демокрита все это совершалось в силу некоего извечного закона, который он называл необходимостью». «Все существует согласно необходимости», «ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости», «мир неодушевлен и не управляется провидением, но, будучи образован из атомов, он управляется некоторой неразумной природой». И мир не был создан Творцом ли, всепреобразующим Разумом, но появился в результате деятельности сил, присущих самой природе; возможно, согласно той закономерности, которую Демокрит вывел из многолетних наблюдений природы и в силу которой подобное всегда соединяется в подобном, как «галка садится возле галки».
Исходя из известного, доступного чувствам, Демокрит строил логические умозаключения о неизвестном, убежденный в том, что миром правят доступные познанию законы, общие как для малого, так и для великого (о чем говорил и Анаксагор, выдвигая свой знаменитый тезис «все во всем»), и что невидимое, по всей вероятности, существует и движется, возникает и уничтожается таким образом, как и доступное наблюдению. Этот же принцип постижения законов природы принял и Эпикур, в течение почти восемнадцати лет изучавший созданные до него философские системы, обсуждая с пока еще немногочисленными единомышленниками — и прежде всего с Гермархом и молодым Колотом — все выдвигающиеся до них суждения о мире и бытии. Долгие годы он пытался добраться до той сокровенной истины, до той главной разгадки Вселенной, которая так и осталась закрытой для философов прошлого. Многое из бесед и размышлений митиленской поры вошло потом в сочинения как самого Эпикура, так и его друзей, каждый из которых также сказал свое слово в греческой философии.
С варварской беспощадностью стремились к уничтожению друг друга диадохи божественного Александра, каждый день можно было ожидать, что у греков будут отняты и те эфемерные, символические «свободы», которые у них еще оставались, а молодой митиленский учитель со своими друзьями, такими же бедными, не защищенными ни от каких превратностей бытия, самозабвенно обсуждал космогонические принципы Анаксагора и Аристотеля, как будто бы на всем белом свете не было ничего более важного и требующего немедленного разрешения. Да так оно и было. Ибо и сам сын Неокла, и его последователи принадлежали к тому типу людей (типу, столь характерному для эллинского народа), для которых стремление проникнуть в загадки Вселенной делало словно бы несущественными все те превратности истории, среди которых им выпало жить. Ведь и Гераклит, и Ксенофан, и Анаксагор, и Пифагор видели на своем длинном веку и войны, и государственные перевороты, и гражданские междоусобицы, теряли близких, родных, саму родину, и жизнь ни одного из них никто не решился бы назвать ни спокойной, ни полностью благополучной. Как и во все времена, кипела вокруг жестокая, смутная, неуправляемая жизнь, но, как и во все времена, всегда находились люди, способные выйти из ее круговорота, стать на берегу этой вечной реки неизвестно куда стремящегося бытия и посмотреть на все со стороны… И поэтому сына Неокла с друзьями мало интересовали последние новости о действиях Полисперхонта или же Кассандра, о противоборстве Птолемея и Селевка, о ценах на хлеб и земельные участки. Но зато их ум постоянно занимали такие несущественные для большинства окружающих вопросы, как устройство нашей Вселенной, множественность миров в бесконечном пространстве, возможность жизни, подобной нашей, в каком-то ином из этих миров. Они устремлялись вслед за Демокритом через непостижимо бескрайние пространства, заполненные множеством миров: различные по величине, одни — без лун и без солнца (как полагал Абдерит), другие — в сопровождении нескольких лун; одни — еще только зарождающиеся, другие — в процессе разрушения. И им хотелось верить, что существуют где-то миры, подобные нашему, о которых с убежденностью посвященного рассказывал когда-то Анаксагор: в этих далеких, затерянных во Вселенной оазисах жизни все происходит, вероятно, совсем как на земле, и там не только живут разумные существа вроде людей, но они также строят себе жилища, возделывают поля и вывозят продукты на рынок… Ибо, как писал в связи с этим Метродор Хиосский, последователь Демокрита, «единственный колос ржи среди безграничной равнины был бы не более удивительным, чем единственный космос посреди бесконечного пространства…».
Оставались бездонные глубины Вселенной, оставались неисчислимые миры в вечном круговороте материн, но все меньше оставалось в Элладе мудрецов, вся жизнь которых была непрерывное познание и для которых самым главным казался вопрос
И даже тем, что, как митиленский учитель Эпикур, еще не утратили вкуса к дерзновенному поиску мысли, приходилось все чаще с тоской и печалью ловить себя на мысли о том, что все это, в сущности, очень мало кому нужно…
Вокруг копошились в своей повседневности с каждым годом все больше мельчающие люди, придавленные нуждой и несвободой, для большинства их основным содержанием жизни стада забота о хлебе насущном, и среди них было бы тщетно искать новых Гармодия, Аристида или же Демосфена. Но, может быть, потому, что Эпикур сам рано познал горе и бедность, сам был почти что никем и ничем (плохо оплачиваемый учитель без родины и постоянного пристанища, разве что свободный), или же потому, что он был наделен тонкой, чувствительной душой, обостренным восприятием чужого страдания, он был бесконечно далек — и особенно в свои молодые годы — от презрения к малым мирам сего, от того равнодушия к их заботам и страданиям, которое было присуще в той или иной степени многим философам-аристократам, и прежде всего Гераклиту и Платону. И если эфесский мудрец видел вокруг себя лишь толпу, насыщающуюся «подобно скоту», то для Эпикура это были неповинные в своих несчастьях бедняки, которым зачастую просто было нечем накормить детей. И если Платон презирал своих современников и видел действительно разумные существа лишь в тех немногих, которых интересовали вещи скорее небесные, чем земные, то у сына Неокла тяжелое зрелище бедствий и нищеты вызывало все большее желание помочь.
За эти годы он перевидел столько разных людей, и греков, и азиатов, что постепенно утратил присущее афинянам чувство превосходства над варварами (даже если эти «варвары», например лидийцы или персы, были причастны к древнейшим культурным традициям востока), потому что теперь они все были равны или почти равны — то ли свободные, то ли рабы, равно не знающие, где раздобыть себе средства на пропитание, равно беспомощные перед неблагоприятными для них поворотами истории. И если Аристотель с высокомерием, о котором теперь было бы лучше позабыть навсегда, видел в рабах лишь говорящие орудия труда, то для Эпикура они были несчастными и обездоленными людьми, бессильными перед насилием и произволом. Раз и навсегда отвергнув разделяемую многими мыслителями Эллады мысль о том, что «господство сильнейших есть установленный богом порядок», что рабство оправдано самой природой, сотворившей людей неравными по способностям, и что, как утверждал все тот же Аристотель, оно отвечает интересам самих же рабов, неспособных управлять собой, Эпикур отказывается от постыдного деления людей на низших и высших, способных и неспособных и противопоставляет этому (один из первых в античном мире) идею человеческого братства.
Ему, предвосхитившему во многом гуманистические идеи последующих времен, было дано разглядеть в растерянных, обнищавших, опустившихся людях, то, чем они были когда-то, чем могли бы стать и чем им никогда не бывать, потому что уж так повернулась история. Он учил в своей школе детей, в жилах которых смешалась кровь многих народов, населяющих древние земли Ионии, и все они были для него одинаковы — эти дети, о будущем которых не хотелось и думать. Он учил их читать и писать, разбираться в поэмах Гомера и Гесиода и сознавал с каждым годом все больше, что учить-то их надо совершенно другому: как уцелеть, как выжить и вместе с тем остаться людьми.
Пути, на которых философы искали улучшения жизни, создания более разумного, справедливого и человечного общества, были давно уже пройдены, и сын Неокла считал бесполезным искать какие-то новые тропы на этих уже позаброшенных, заросших сорняками полях. Он не верил или же разуверился слишком рано (жизнь вокруг давала для этого достаточно оснований) в возможности улучшения окружавшей его реальности. Ему казались искусственно-смешными проекты идеального общества, подобные тем, которыми тешил себя некогда Платон, еще не утративший надежды на лучшую жизнь, если не здесь и не сейчас, то хотя бы где-то и когда-то. Но, подобно Сократу, Эпикур видел единственно возможное спасение и для себя самого, и для людей в том, чтобы опереться на собственные внутренние силы, на силы ума и души, на те вечные истины и ценности, которыми жив род людской, несмотря ни на что, и которые, по-видимому, дороже не только свободы, но и самой жизни.
И первым же вопросом, который вставал на этом пути, был вопрос о богах или о боге — самый главный вопрос для человека его времени, на который пытались ответить все философы Эллады, начиная с Гесиода. Это был вечный вопрос о том, что же все-таки движет нашим миром; и он имел значение даже для тех, кто утверждал атомистическое строение всего сущего, вечную взаимопревращаемость материи и пытался объяснить природу, исходя из нее самой. Большинство предшественников Эпикура, отвергая традиционную олимпийскую религию как устаревшую и наивную, отождествляли бога с разумом, с некой вселенской душой. Пытаясь разрешить этот вопрос, исходя из своих знаний о мире, о природе, а также посредством философских умозаключений, многие из них наделяли божественным разумом саму материю, считая, что бог присутствует во всем и через все правит миром. Гераклит считает божеством огонь, Ксенофан представлял себе бога как некий чистый дух, видящий, слышащий и мыслящий всем своим существом. Для Анаксагора это был мировой Разум, организующий первозданную стихию в космос и управляющий им. С точки зрения простого народа, все они были святотатцами и безбожниками, их изгоняли, принимая решительные постановления насчет всех ищущих каких-то новых богов.
Отойдя от наивных представлений своих предков о похожих на людей олимпийских божествах, распоряжающихся с высот Олимпа судьбами смертных, многие из греческих философов считали, что непостижимый и вечный Разум-бог, хотя и проявляется в каждом из земных существ, в целом чужд их обыденной жизни. Не в силах расстаться с самой идеей некой высшей, управляющей всем миром силы, даже Демокрит находил для богов место в величественной системе своего диакосмоса, хотя и колебался в своем взгляде на природу богов: «то, по словам Цицерона, он говорит, что бог есть ум в шарообразном огне», то представляет богами «некие громадные образы столь больших размеров, что они извне окружают весь мир», то почитает за божество наш рассудок и ум.
Останавливаясь на этой стороне учения Эпикура, некоторые из исследователей считают, что он сделал шаг назад по сравнению со своими предшественниками-атомистами, отойдя от идеи единого бога-разума и духа, поскольку его божества (о чем он писал в своем сочинении «О богах», известном в пересказе Цицерона), постижимые лишь умом и не имеющие никакого отношения к жизни людской, в целом напоминают антропоморфных богов Гомера. Бессмертные и блаженные, они живут себе, наслаждаясь вечным досугом, в каких-то иных пределах, нимало не заботясь о том, что творится здесь, на земле. В отличие от Анаксагора и Демокрита Эпикур уже не искал разумного, божественного начала в этом мире: жизнь вокруг все чаще представлялась ему нагромождением случайностей, совершенно лишенной какой-либо внутренней логики, некоего сокровенного смысла, оправдывающего ее несообразности и аномалии. Трудно было поверить в то, что столь неразумным миром может править какой-то божественный разум и все происходит согласно его предначертаниям. И поэтому, даже если какие-то боги и существуют, то природа их и отношение к смертным должны быть совершенно иными. Вполне может быть также, что признание Эпикуром богов как таковых было только уступкой общепринятым установлениям, поскольку вопрос этот, ничего не меняющий в его видении мира и человеческой жизни, никогда не казался ему настолько значительным, чтобы ради него стоило вступать в столкновение с обществом, с окружающими людьми.
Не приемля идею теологической направленности мира — его движения к какой-то высшей, не людьми заданной цели, Эпикур не был в то же время ни богоборцем, ни откровенным атеистом. Представляется возможным говорить о том, что он не мучился всю жизнь этим вопросом, как, например, поэт Еврипид, не отвергал начисто божественное начало, как Феодор Безбожник. Для него это было несущественным, и он советовал своим последователям и ученикам: «Мы, по крайней мере, будем приносить жертвы благочестиво и правильно там где подобает, и будем исполнять все правильно, по законам, нисколько не тревожа себя обычными мнениями относительно существ самых лучших и самых уважаемых…» И, допуская существование богов как неких высших сущностей, Эпикур представлял их себе также материальными, состоящими из атомов, хотя в отличие от людей совершенными и блаженными. В чем-то все-таки похожие на людей, эти боги являются им иногда во сне и даже наяву, но в целом они совершенно равнодушны к земным делам, пребывая в пространствах между мирами («междумириях» — интермундиях, как писал Эпикур в своих сочинениях): «Блаженное и бессмертное существо и само не имеет хлопот, и другим не причиняет их, так что оно не одержимо ни гневом, ни благоволением…».
Эпикур считал (о чем свидетельствует дошедшее до наших дней письмо к Менекею) «лживыми домыслами» расхожее убеждение в том, что «дурным людям боги посылают величайший вред, а хорошим — пользу», откровенно сомневался в том, что до них вообще доходят молитвы людей, иронически замечая, что «если бы бог внимал молитвам людей, то вскоре все люди погибли бы, постоянно моля много зла друг другу».
Богам нет дела до людей, и поэтому не следует ни бояться их, стремясь умилостивить щедрыми жертвоприношеннями, ни молить их о чем-либо; во всех своих бедах люди повинны сами, никто не ответственен, кроме них же самих, за ту жизнь, которой они живут; никто не в состоянии что-то улучшить или исправить, кроме них нее самих, и «глупо просить у богов то, что человек способен сам себе доставить». Эпикур совсем устраняет богов из жизни людей, у него они не соприкасаются вообще, существуя в различных сферах и плоскостях пространства (хотя он допускает, что людям иногда доводилось видеть эти высшие и блаженные существа). И в этом Эпикур действительно атеист, пожалуй, больше, чем кто-либо из греческих философов, ибо не только в его системе мироздания нет места божественному промыслу, предопределенности и некоему высшему Разуму, но нет никакого внеземного управляющего начала также и в истории людей, в каждодневном существовании каждого из них.
И в то же время те божества, о которых он говорит своим ученикам и пишет в письмах, явно наделены теми качествами, которые представлялись философу идеальными, наиболее желательными и для себя самого, и для людей вообще. И если грозные и прекрасные боги гомеровского Олимпа сражались, строили козни, боролись за власть, сходились с земными женщинами, помогали своим любимцам, судили, карали и награждали, то есть вели себя так же деятельно, неспокойно и уверенно, как и создававшие их своим мощным и красочным воображением люди героической эпохи, зари эллинской цивилизации, то у Эпикура блаженство высших сущностей состоит прежде всего в спокойствии, в отсутствии хлопот, в безмятежном, нескончаемом досуге и удовольствии их божественного бытия. Это верно подметил Цицерон, презрительно осуждавший и бездеятельных эпикуровских богов, и самого Гаргеттянина с позиций человека, убежденного в том, что все на свете существует для исполнения некоего высшего предназначения и не способного понять ни ту жизнь, которой жил Эпикур, ни сущность его учения, как не может понять богатый и совершенно свободный человек, государственный деятель и консул республики, безнадежного спокойствия неимущего учителя, бессильного свидетеля исторического поражения своего великого народа: «Почему Эпикур называет бога непрерывно блаженным и вечным? Ведь если устранить вечность, то Юпитер нисколько не счастливее Эпикура, потому что и тот и другой наслаждаются высшим благом, то есть удовольствием».
И если многие из философов, как предшественники Эпикура, так и его современники, учили, что для человека самое главное жить по законам богов или бога, следовать его косвенному ли, явному ли повелению (как следовал велениям своего Даймона Сократ или же голосу вселенского Логоса Гераклит), то Эпикур навсегда разъединяет богов и людей, с тем чтобы возложить на самих людей всю меру ответственности за их жизнь, чтобы научить их решать свои земные дела, исходя из разума, справедливости и доброты. Освободившийся от всякой предопределенности, от опеки, кары и милости высших существ, человек остается у него один на один с бездонностью Вселенной, перед этим жестоким, во многом необъяснимым и все-таки бесконечно прекрасным миром, перед своей полной случайностей жизнью, для которой — неизвестно от кого и зачем — люди получили столько прекрасных даров…
И не было ничего удивительного в том, что Эпикур навсегда отвергает всякий и всяческий промысел божий в жизни людской, потому что никаким высшим и блаженным уже явно не было места под умолкнувшими небесами, где заурядные военачальники, наместники и сатрапы то и дело причисляли себя к сонму богов, а их наложницам воздавались почести как богиням любви и красоты. Какое же дело было бессмертным до той бесконечно льющейся крови, насилия, лжи и жестокости, которые, как казалось теперь очень многим, навсегда воцарились на этой земле? Диадохи все делили и никак не могли поделить азийские и африканские земли; простой же народ, безымянные и безликие, равно бесправные персы, киликийцы, сирийцы, ионийские греки и египтяне равнодушно внимали известиям о новых победах, поражениях и сменах власти, ни на что не надеясь и ничего не ожидая для себя. В 315 году Кассандр, Птолемей, Лисимах и Селевк, позабыв на время взаимные недовольства и былые обиды, начали совместные действия против Антигона Одноглазого, забравшего, по их мнению, слишком уж большую власть на востоке и не скрывавшего алчных намерений подчинить себе, вместе со своим сыном Деметрием Полиоркетом, и часть тех земель, которые по праву считали своими другие «наследники». Исход этой войны решила битва при Газе (312 г.), прекрасно описанная историком Диодором Сицилийским, когда на каменистой равнине Киликии сошлись войска Птолемея, Селевка и Деметрия Полиоркета. Избалованный удачами, считавший себя любимцем судьбы, обаятельный сын Одноглазого (к тому же сын любимый и послушный, как подчеркивают античные авторы) сделал в этом сражении ставку на своих великолепных слонов, привезенных из Индии. Однако их натиск был остановлен возведенными Птолемеем заграждениями, и животные все до одного были схвачены противником. Птолемей и Селевк захватили также множество пленников, часть которых расселили в Египте для усиления тамошних греко-македонских гарнизонов.
После того как с претензиями Антигона (оставшегося, впрочем, господином на море) было на время покончено, Селевк и Птолемей приступили к устройству и упорядочению дел на своих землях, по существу, в своих царствах. Продолжая, отчасти сознательно, отчасти в силу объективного хода вещей и требований времени, многие из начинаний Александра, они всячески поощряли македонян, греков и других переселенцев из Европы, желающих обосноваться на подвластных им землях, содействовали строительству новых городов, объединению в одних стенах разбросанных ранее селений. Проявляя «отеческую заботу» о подданных (ведь теперь это была, по существу, их собственность, тот живой человеческий фундамент, на котором зиждились благополучие, мощь и богатство не только самих новоиспеченных монархов, но и их будущих детей), диадохи предпринимали меры по упорядочению налогов, развитию ремесел, восстановлению сельского хозяйства, пострадавшего во время последних войн. Они охотно приглашали в свои города художников и скульпторов, поэтов и ученых, врачей и учителей, справедливо полагая, что время старинных полисов Греции безвозвратно ушло и у их с любовью отстраиваемых и украшаемых столиц есть все основания для того, чтобы в весьма недалеком будущем не только сравняться с Афинами или же с Коринфом, но в чем-то даже превзойти их.
Жизнь понемногу входила в привычные берега: одни работали, другие богатели, но в целом все стало значительно спокойнее и определеннее. С надеждами на восстановление демократических порядков (порядков, уже почти позабытых) в старинных греческих городах на Ионийском побережье было покончено навсегда, и если обитатели, ибо граждан давно уже тоже не было, Милета, Эфеса или же Лампсака, и так позабывшие во многом о своем эллинстве, не превратились еще в бессловесных, отупевших от тяжкого труда и вековечной несвободы египетских муравьев-феллахов, то и у них с каждым годом, с каждым поколением оставалось все меньше общего с теми гордыми и свободолюбивыми соплеменниками, что покрыли себя вечной славой у Марафона, Саламина и Платей.
Впрочем, об этой славе уже мало кто вспоминал и в самой Греции. До Митилен, как и до других ионических городов, доходили с запада смутные слухи: каждый из сильных мира того, стремясь к влиянию в Элладе, продолжал говорить о свободе для греческих городов, понимая под этим — кто восстановление хотя бы подобия демократии, кто — всевластие олигархии, и каждое новое воззвание или же указ македонских властителей сопровождались ожесточенными вспышками гражданских междоусобиц, доносами, судебными процессами и казнями. Как в свое время после указа Полисперхонта о восстановлении демократических порядков народ обрушился на ненавистных олигархов, угнетателей и богатеев, стремясь пополнить оскудевшую казну конфискованным золотом, и сотни изгнанных раньше приверженцев демократии не замедлили вознаградить себя скорой и безжалостной местью за перенесенные страдания; как несколько позднее вновь восстановленное афинское собрание с гневными криками выносило смертные приговоры своим вчерашним притеснителям, и во всех греческих городах было казнено множество приверженцев Антипатра и Кассандра (в их числе оказался и престарелый Фокпон, пытавшийся «научить свой народ жить безопасной, замкнутой жизнью»), так и теперь, после воцарения Кассандра, воспрянувшая духом олигархия безжалостно наводила свои порядки, уничтожая всех, даже заподозренных в симпатиях к демократии.
И если на востоке жизнь как будто бы понемногу налаживалась, то в старинных городах Эллады положение казалось в общем безнадежным: были подточены самые основы хозяйственной, общественной и культурной жизни, население, пребывающее в нищете, невежестве и страхе, постепенно вырождалось, и даже те лучшие из греков, которые еще не утратили окончательно качеств, издревле присущих эллинскому племени, даже они уже ни на что не надеялись.
И, как во все времена, в силу некой, возможно, что непостижимой для людей закономерности, каждый продолжал пребывать на круге своем, и круги эти, из концентрических соединений которых слагается бытие, никогда или же почти никогда не пересекались: герои, такие, как блистательный Деметрий Полиоркет, удивляли мир своей удалью и великолепным равнодушием к превратностям судьбы и законам богов; другие же, как митиленский учитель Эпикур, продолжали прокладывать путь к той истинно человеческой жизни, как они ее себе представляли, к жизни без страха, насилия, лжи и корысти, к которой издревле стремится людской род, на которую он вечно надеется.
В эти годы Эпикур приступает к работе над своим основным сочинением «О природе», где рисует картины мироздания, определяет закономерности жизни и природы, во многом опираясь на Демокрита, хотя сам же порой отрекается от своего ученичества. В своем сочинении «О философии» Метродор из Лампсака, наиболее известный из эпикурейцев, писал о том, что «Эпикур не достиг бы таких успехов в мудрости, если бы ему не предшествовал Демокрит». Однако уже при жизни Эпикура, а тем более впоследствии противники эпикуреизма с пренебрежением настаивали на том, что сам основатель этого учения не сказал ничего нового, кроме того, что он заимствовал у Абдерита, понося при этом, но своему обыкновению, великого предшественника. Одно время было даже распространено поддельное письмо, сочиненное, по мнению исследователей, перипатетиками, в котором Эпикур весьма нелестно отзывается о Демокрите. Однако отрывки из сочинений и писем Эпикура, а также воспоминания его друзей говорят о другом. Одни из преданнейших учеников его, Леонтий, отмечает в своем письме к Лнкофрону: «Демокрит был в почете у Эпикура, ибо он первый коснулся истинного знания, и всю свою науку Эпикур называл демокритовской».
Представляется возможным говорить о том, что Эпикур обращался к трудам Демокрита всю жизнь. В одной из дошедших до нас записок он просит кого-то из своих друзей: «Когда будешь писать письмо, приложи что-нибудь из Демокрита». Однако постоянные упреки со стороны недоброжелателей в том, что он не создал ничего самостоятельного, не могли, по-видимому, в конечном счете не повлиять на его отношение к великому предшественнику, «этому великому мужу» (как называет он Абдерита в сочинении «О природе») и обусловили появление тех ноток раздражения, насмешливого сомнения, которые все-таки звучат кое-где в Эпикуровых писаниях, когда речь заходит о Смеющемся философе. И потом, если он и отвергал целый ряд тезисов Демокрита, о чем будет сказано далее (не называя его при этом по имени, а прибегая к заимствованному у Аристотеля снисходительному выражению «кое-кто из так называемых естествоиспытателей»), и даже написал целое сочинение «Сводка возражений против естествоиспытателей», то это говорит прежде всего о том, что собственная мысль Эпикура в чем-то продвинулась дальше, чем приникающий через пространство и время ум Демокрита, и поэтому некоторые из его положений могли показаться сыну Неокла наивными и неприемлемыми. Они жили в разное время, были людьми различного типа, жизнь их была так не похожа, и поэтому Эпикуру многое из того, о чем писал Абдерит, виделось несколько иначе. И все это, однако, не мешало сыну Неокла видеть в Смеющемся философе одного из тех немногих людей, которым удалось приблизиться к вожделенной, но, может быть, до конца так и непостижимой истине.
Как и большинство людей мыслящих, Эпикур был очень и очень непростым человеком, его мощный ниспровергающий ум не уживался с преклонением ни перед какими авторитетами. С гордостью считая себя самоучкой (каким считал себя и Гераклит), он потому и находил, что вечно сомневался, сомневался в правоте даже тех, у кого учился, и его отношение к Демокриту — это долгий, неуступчивый диалог в целую жизнь. Он учился у Абдерита — и в то же время спорил с ним: его приводила в восхищение широта и многогранность его знании, мощь интеллекта, но не могло не раздражать то любование миром, отличавшее Демокрита от большинства современников Эпикура, то восхищение жизнью, которое не скоро и не просто открылось ему самому, навсегда отогнав страх перед смутным и непонятным бытием.
Уже современники, сравнивая взгляды Эпикура и Демокрита, любили подчеркивать их различное отношение к самому процессу познания, отмечая, что, если Абдерита приводило в благоговейный восторг само обнаружение закономерностей в природе и особенно поражавшее его сходство между жизнью природы в целом и человеческой жизнью; между великим космосом и «микрокосмосом» («то, что происходит в «малом мире», происходит и в большом»), то для Эпикура изучение природы признавалось нужным лишь в тон степени, в какой оно освобождает людей от ложных представлений, от страха перед неизвестным. И если, преисполненный восхищения перед открывшейся ему Вселенной, Демокрит «говорил так художественно, что хотя содержанием его сочинений были вопросы естествознания, но по форме это были произведения ораторского искусства», то Эпикур, напротив, писал сухо, сжато и довольно бесцветно. Чуждый того поэтического видения мира, которое рождало почти что гомеровские сравнения у его бессмертного предшественника, он сознательно избегал каких бы то ни было поэтических украшений языка, стремясь только к тому, чтобы донести до слушающего или же читающего суть своей мысли. И если Демокрит словно бы приглашал восхититься вместе с ним красотой мироздания, его высшей гармонией, то сын Неокла стремился прежде всего просветить, научить, помочь разобраться. И тем не менее, чуждый философского пафоса Демокрита, Эпикур в целом ряде вопросов пошел значительно дальше, выдвинув несколько интуитивных догадок, правильность которых была доказана наукой спустя более чем две тысячи лет.
Если Демокрит учил, что движение атомов полностью детерминировано, что некая сквозная причинность есть главный закон мироздания и этой необходимости подчиняется все как в космосе великом, так и в малом, то Эпикур страстно восставал прежде всего против этой необходимости. Он писал в связи с этим своему ученику Менекею: «В самом деле, лучше было бы следовать мифу о богах, чем быть рабом судьбы естествоиспытателей; миф дает намек на надежду умилостивить богов посредством почитания их, а судьба заключает в себе неумолимую необходимость». Начиная создавать свою физику, Эпикур после долгих лет размышлений, сравнений и логических умозаключений приходит к выводу о том, что необходимо отвергнуть идею сквозной необходимости (иначе вообще невозможно объяснить возникновение мира), и противопоставляет ей случайность, в силу которой происходит отклонение атомов от их прямолинейного движения в бесконечность, затем — образование их соединений, скоплений и, наконец, гигантских скоплений — миров.
Эта допущенная Эпикуром случайность позволяет ему надеяться не только на понимание космогонических процессов, но также и относительно жизни людской — позволяет надеяться на свободу выбора для человека. Считая, что учение о слепой необходимости противоречит всему развитию жизни, всей практике людей, Эпикур писал в своем сочинении «О природе»: «Те, которые дали впервые удовлетворительное объяснение природной закономерности… хотя во многом были великими людьми, тем не менее незаметно для себя в ряде случаев рассуждали поверхностно, считая всемогущей слепую необходимость. Учение, проповедующее такие взгляды, потерпело крах; у этого великого мужа теория приходит в столкновение с практикой: если бы он в своей практической деятельности не забывал о своей теории, то он постоянно сам приводил бы себя в замешательство: в тех случаях, когда теория брала верх над практикой, он попадал бы в самые безвыходные положения, а где она не брала бы верх, он оказался бы полон внутренних противоречий, так как его поступки противоречили бы его взглядам». Равным образом, отстаивая главный тезис — о свободе воли, о свободе выбора, Эпикур считал ошибочным учение Демокрита о том, что человеческое общество возникло путем выживания наиболее жизнеспособных общественных форм, и выдвигал теорию общественного договора, «свободного соглашения» взаимно заинтересованных людей.
И, наконец, самое главное различие между ними, бессмертным Абдеритом, достигшим своим умом до крайних пределов познания, и его, стремящихся во всем к самостоятельности последователем: если первый все-таки потерялся, по-видимому, в конце-концов в бесконечных пространствах исследуемого им мироздания (что было общей судьбой многих мыслителей, пытавшихся проникнуть умом за пределы неведомого и недосягаемого), если он пришел в конце-концов к выводу о том, что «мы не знаем, знаем ли мы что-нибудь или ничего не знаем; и вообще мы не знаем, существует ли что-нибудь или нет ничего», то Эпикур предпочитал всю жизнь доверять возможностям человеческого разума. И если Абдерит писал в своем сочинении «Об идеях» о том, что «человек должен узнать, что он далек от подлинной действительности», то бестрепетно ниспровергающий авторитеты продолжатель его дела был, как представляется возможным утверждать, безусловно уверен в том, что да, оно существует, оно познаваемо, оно объяснимо, в конце-концов, оно просто, это сущее, все, что нас окружает — мир, жизнь, человек…
И, приближаясь к своему тридцатилетию, полный больших планов, идей, замыслов, великих надежд — надежд на то, что сможет облегчить людям жизнь, сможет чем-то помочь им, сын Неокла не чувствовал ни своей бедности, ни слабости здоровья, ни подчиненности их общего положения. Преисполненный священного восторга перед раскрывающимся для него космосом, со всеми его тайнами и закономерностями, беседуя, споря долгими вечерами и со своими вневременными современниками, и со своими, столь дорогими, навеки оставшимися с ним друзьями, он был счастлив тем единственно подлинным счастьем, которое даровано человеку как мыслящему существу, пустившемуся в заповеданный лишь немногим путь, которому нет конца…
Глава 4
ШКОЛА В ЛАМПСАКЕ
Изучение природы создает людей не хвастливых и велеречивых и не выставляющих напоказ образование, предмет соперничества в глазах толпы, но людей смелых, довольных своим, гордящихся своими личными благами, а не благами, которые даны им обстоятельствами.
Эпикур
Тит Лукреций Кар
- Первоначала вещей, таким образом, всякого рода
- Неисчислимы и все, очевидно, способны восполнить.
- Вот почему никогда нельзя смертоносным движеньем
- Жизни навек одолеть и ее истребить совершенно.
Многовековая история эпикурейской школы известна главным образом по сохранившимся отрывочным сведениям ее наиболее крупных представителей, и сведения эти во многих случаях противоречивы. Так, и относительно времени зарождения самой школы античные авторы сообщают по-разному: одни считают, что Эпикур начал учить своей философии уже в Колофоне, другие же пишут о том, что он «тридцати двух лет от роду основал свою школу сперва в Митилене и Лампсаке, где она просуществовала пять лет». Возможно, именно здесь, в этом старинном малоазийском городке, где более ста лет назад окончил свои дни великий философ но прозвищу Ум, «перешедший пределы познания» Анаксагор (как было начертано на его могиле), сын Неокла начинает понастоящему, всерьез, мысля это делом всей жизни, учить близких но духу людей своей «науке жизни человеческой», учить — и в то же время искать ее вместе со своими друзьями — последователями. Отсюда, из Лампсака, родом были и его первые, самые верные ученики.
Это прежде всего Гермарх, сын Агеморта, «происходивший из бедной семьи и сначала занимавшийся риторикой». Обратившись к философии, он достиг в ней значительных успехов, написав несколько сочинений, из которых наиболее известными и ценимыми современниками были двадцать две книги «Писем к Эмпедоклу», а также сочинения «О науках», «Против Платона» и «Против Аристотеля». С Эпикуром его связывало глубокое взаимопонимание, общность интересов и теплое чувство духовного родства, которое они пронесли через всю жизнь, и именно Гермарх был тем, кого Спаситель людей назвал своим преемником и продолжателем, завершая жизненный путь. Третьим (после самого Эпикура и Гермарха) в «знаменитой четверице вождей эпикуреизма» был Метродор из Лампсака, известный своими трудами по философии, от которых до нашего времени дошли лишь названия да весьма немногочисленные фрагменты. Он был также автором нескольких сочинений, в которых воссоздал личность и особенности мировоззрения самого Эпикура: «Об Эпикуровой помощи», «О болезненности Эпикура», «О благородстве происхождения», «О великодушии». Есть основания полагать, что Метродор был наиболее одаренным из первых эпикурейцев. На двенадцать лет моложе своего учителя. Метродор познакомился с ним в Лампсаке и затем уже больше не разлучался, видя в сыне Неокла (так же как Гермарх и большинство других эпикурейцев) самого близкого и родного себе человека. По свидетельству современников, Метродор был «превосходным во всех отношениях человеком», отличался кристальной честностью, бескорыстием и бесстрашием, о чем писал и Эпикур в своей книге «Метродор». Авторитет Метродора среди эпикурейцев уступал лишь авторитету самого основателя школы, а его сочинения (такие, как «Против софистов», «Об ощущениях», «Об изменении», «О богатстве», «О пути к мудрости») легли в основу философской системы эпикуреизма.
Четвертым из них был Полиэн, сын Атенодора, о котором известно, что он был «человеком порядочным и добрым», и от которого до нас не дошло даже названий его сочинений (враги Эпикуровой школы признавали его даже одним из самых выдающихся математиков того времени). По-видимому, в эти же годы Эпикур навсегда сдружился с Леонтеем и его женой Фемистой, фрагменты из писем к которым дошли до нашего времени. Среди более молодых его последователей, для которых сын Неокла стал настоящим наставником жизни, духовным отцом и братом, следует назвать Идоменея, Апеллеса, Колота; последнего он особенно любил, и юноша отвечал учителю восторженным обожанием. Словно обретшие вдруг живительный источник среди убивавшего их духовного равнодушия, отчаяния, почти что смирения со своей полурабской судьбой, эти молодые люди навсегда припали душой и разумом к неимущему школьному учителю, ведущему их в своих беседах через пространство и время. Они видели в нем некое высшее существо, совершенно необыкновенного человека, который, по словам Метродора, «восшел, благодаря размышлениям о природе, до бесконечности и вечности» и узрел «то, что есть и что будет, и то, что минуло».
Сам Эпикур (хотя писал о том, что «почитание мудреца есть великое благо для почитающих») всегда восставал против каких бы то ни было знаков почитания, видя в своих сверстниках-друзьях и молодых учениках тесную семью единомышленников, ту опору, которую не могло им больше дать утратившее жизнеспособность полезное общество. И уже в этот период «раннего сада» проявилось то основное качество Эпикура, благодаря которому впоследствии число его учеников «исчислялось чуть ли не целыми городами» — уважение к своим слушателям, к людям вообще, какое бы место в обществе они ни занимали: «Мы ценим свой характер как свою собственность, хорош ли он и уважается ли людьми или нет; так должно ценить и характер других, если они к нам расположены».
Представляется возможным говорить о том, что в эти годы в Лампсаке все они, молодые, полные сил и нерастраченных надежд, общительные и любознательные, были еще далеки от того последнего (последнего как для состояния каждого отдельного человека, так и для общества в целом) состояния мысли и духа, когда единственно правильным способом жизни кажется тот, о котором с глубокой и безнадежной горечью скажет спустя много лет их дерзнувший спасать род людской учитель: «Живи скрываясь». Тех, кто собирался в эти годы на беседы к сыну Неокла, связывала любовь к философии, то не сравнимое ни с чем удовольствие, которое получает разумное и мыслящее существо от познания закономерностей мира, даже если это не влечет за собой никакой непосредственной выгоды. Ведь, по словам Эпикура, «во всех занятиях плод с трудом приходит по окончании их, а в философии рядом с познанием бежит удовольствие: не после учения бывает наслаждение, а одновременно бывает изучение и наслаждение».
Собиравшихся в «раннем саду» (как называли античные авторы этот начальный период в развитии Эпикуровой школы) объединял священный восторг перед тайнами Вселенной, перед грандиозными явлениями космоса, многие из которых постижимы лишь разумом и по сравнению с которыми кажутся такими ничтожными, не стоящими ни размышлений, ни каких-либо чувств неразумные действия смертных. Привлекала также возможность овладеть сообща и «наукой жизни людской», то есть, как представляли себе это друзья и сторонники Эпикура, выработать в себе такое отношение к неспокойной, постоянно меняющейся, опасной реальности, которое позволило бы им не уронить себя, не потерять при всех превратностях бытия. Жить так, считали эпикурейцы, — это прежде всего следовать необходимым требованиям природы, одновременно обуздывая собственные суетные и в конечном счете пагубные страсти: «Итак, кто следует природе, а не вздорным мыслям, тот довольствуется своим во всем: ибо по отношению к тому, что достаточно природе, всякое владение есть богатство, а по отношению к безграничным стремлениям и огромное богатство есть не богатство, а бедность».
Так, уже при самом зарождении Эпикуровой школы наметился тот основной путь, следуя которому эпикурейцы надеялись прожить разумно и без страданий отпущенный им век: умеренность во всем, удовольствие в самом малом, в самом необходимом. (Хотя впоследствии многие, считавшие себя приверженцами эпикуреизма, но совершенно по-иному жившие и мыслившие, полностью извратили первоначальный смысл этого учения). В этот печальный век, когда, с одной стороны, греки все больше впадали в бедность и ничтожество, а с другой — неостановимо росла жадность к вещам, деньгам, когда наиболее правильным образом жизни стало считаться накопительство, а наиболее распространенным пороком сделалась жадность (во всех ее омерзительно-жалких вариантах, навеки запечатленных в «Характерах» Феофраста), Эпикур провозглашает вместе со своими, столь же мало обеспокоенными приобретательскими интересами последователями, что лучше ничего «не бояться, лежа на соломе, чем быть в тревоге, имея золотое ложе и дорогой стол». И они действительно жили так, свободные от страхов и «безграничных желаний», ибо им была доступна высшая роскошь — совместные путешествия в вечный и бесконечный мир познания, в те заоблачные выси, по сравнению с которыми столь преходящи и мизерны все земные богатства.
Вероятнее всего (о чем свидетельствуют дошедшие до нас названия их сочинепий — «Против Анаксагора». «Против Платона», «Против Аристотеля»), Эпикур и его последователи начинали создание собственной философской системы с придирчивого разбора предшествующих учений, заимствуя из них то, что отвечало их собственным представлениям о миропорядке, и безжалостно развенчивая (без чего вообще невозможно появление нового учения) то, что им казалось противоречащим законам природы. Так, они подвергали критике идеалистические построения Платона, отдельные стороны Анаксагоровой теории о гомеомериях, идею относительности всего сущего у Демокрита, который, «сказав, что каждая из вещей не более такая, чем иная… привел в расстройство жизнь». Особенно их привлекали, по-видимому, грандиозные космогонические гипотезы Эмпедокла, в которых (при всей их порой какой-то детской наивности) с гениальной отчетливостью и простотой отразились основные законы Вселенной. Его можно было опровергать, уличать в недостаточном понимании тех или иных явлений, но не восхищаться им было нельзя.
В этих беседах о первооснове всего сущего, о том, каково было начало Вселенной и существует ли некая высшая сила, давшая первый толчок нашему миру, приведшая все в движение; о душе и о боге, о затмениях солнца и происхождения жизни на земле, в совместных размышлениях о закономерностях космоса и бытия складывались основные положения физики эпикурейцев, имевшей с самого начала безусловное материалистическое содержание. И хотя, особенно впоследствии, они видели в натурфилософии прежде всего предпосылку к этике, призванную освободить людей от слепого страха перед неведомым и обосновать свободу воли, свободу выбора, Эпикур и его последователи внесли в материалистическое объяснение мира немало нового и ценного.
Свое учение о природе (о такого рода учениях Платон писал в свое время, что от них «молодые люди впадают в безбожие… и вследствие этого происходят революции») Эпикур излагал в своих многочисленных сочинениях, беседах с друзьями и письмах; из всего этого до нашего времени дошла лишь ничтожная часть. По свидетельству Диогена Лаэртского, «писателем был Эпикур изобильнейшим и множеством книг своих превзошел всех: они составляют около 300 свитков. В них нет ни единой выписки со стороны, а всюду голос самого Эпикура» — и это весьма отличало его работы от трудов современных ему платоников и перипатетиков, занимавшихся в основном бесконечным комментированием великих основоположников своих школ. Лучшими из сочинений Эпикура считались: «Об атомах и пустоте», «Краткие возражения против физиков», «Сомнения», «О предпочтении и избегании», «О конечной цели», «О богах», «О благости», «Об образе жизни», «О любви», «Метродор», «Главные мысли». Его основной труд — «О природе» состоял из 37 книг и, как говорил сам Эпикур, даже не всем из его учеников оказалось под силу полностью изучить эту книгу.
Философия, считал он, заключает в себе две части — физику и этику, не признавая в отличие от большинства греческих философов логику и теорию познания, учение о критериях истины, самостоятельными частями философии и отводя им вспомогательную роль. Равным образом он не придавал особого значения и диалектике как «науке излишней», утверждая, что главным источником познания мира является чувственное восприятие и что чувства, за редким исключением, не обманывают человека. И в то же время представляется возможным говорить о том, что, не занимаясь в отличие от Демокрита естественными науками, Эпикур формировал свое представление о мире главным образом посредством умозаключений, разумом добираясь до первопричин вещей и явлений. Об этом свидетельствует характерный для него способ «доказательства от противного», а также многочисленные, постоянно повторяющиеся «оговорки» при изложении натурфилософии: «А если бы не было того, что мы называем пустотой… то тела не имели бы, где им быть и через что двигаться» или же — атомы неделимы и неизменяемы, «если не должно все уничтожаться в несуществующее, а что-то должно оставаться сильным при разложении соединений». Доводы его, относящиеся как к физике, так и к этике, изложены простым и ясным языком: «Все предметы он называл своими именами, что грамматик Аристофан считает предосудительной особенностью его слога. Ясность у него была такова, что и в сочинении своем «О риторике» он не считает нужным требовать ничего, кроме ясности».
В своем учении (где он пишет и о том, что доступно чувственному восприятию, и о «сокровенном») Эпикур полностью обращает людей к реальному миру, со всей его красотой и изобилием, к этому зримому и доступному познанию миру, с его чередой сменяющих друг друга явлений и вещей, с вечными процессами становления, разрушения, взаимопревращения. Полностью отвергая вымышленный мир идеальных форм, воспринимаемых будто бы только разумом, он рисует в своих сочинениях простую и ясную, может быть, местами несколько наивную (с точки зрения современного человека) картину вечно и независимо ни от чего существующего мироздания, вполне полагаясь на достоверность человеческих чувств: «…что тела существуют, об этом свидетельствует само ощущение у всех людей, на основании которого необходимо судить мышлением о сокровенном». Вот как писал он обо всем этом в дошедшем до нашего времени письме к своему ученику Геродоту: «Следует теперь рассматривать сокровенное (недоступное чувствам) — прежде всего то, что ничто не происходит из несуществующего. Если бы это было так, то все происходило бы из всего, нисколько не нуждаясь в семенах. И наоборот, если бы исчезающее погибало, переходя в несуществующее, то все вещи были бы уже погибшими, так как не было бы того, во что они разрешались бы. Далее, Вселенная всегда была такой, какова она теперь, и всегда будет такой, потому что нет ничего, во что она изменится: ведь, помимо Вселенной, нет ничего, что могло бы войти в нее и произвести изменение».
В отличие от Демокрита, различавшего атомы по форме, порядку и положению в соединениях и полагавшего, что число форм атомов бесконечно, Эпикур считал, что атомы различаются между собой и по весу. Демокрит допускал, что существуют «атомы с угловатыми, крючкообразными, якореобразными, трезубыми и изогнутыми выступами, которые… сцепившись друг с другом крючками и выступами, образуют твердое тело или плотную, не рассыпающуюся рубашку космоса». Эпикур же признавал только ограниченное, хотя и невообразимо большое число атомных форм и «говорил, — писал в связи с этим античный писатель Азций, — что не может существовать ни крючкообразных, ни трезубцеобразных, ни закрученных атомов: все эти формы весьма хрупки, а атомы не подвержены внешнему возбуждению и неразрушимы». Равным образом он выступал и против демокритовского тезиса о бесконечной делимости атомов: «Должно отвергнуть возможность деления на меньшие части до бесконечности, чтобы нам не сделать все существующее лишенным всякой силы и чтобы не быть принужденным в наших понятиях о сложных телах остаться без реальности, распыляя ее в ничто». Он считал, что должна существовать некая наименьшая величина, которую уже нельзя разделить и которая служит как бы единицей измерения. Некоторые из античных писателей упрекают Эпикура в том, что он «отступает от Демокрита» по целому ряду вопросов. Однако представляется возможным говорить о том, что он не просто «отступает» от своего великого предшественника, но в чем-то идет дальше его, выдвигая гениальные догадки и предположения, правильность которых подтвердило время. Таково, в частности, предположение Эпикура о наличии частей внутри атомов, которые «так тесно связаны, что между ними не может пробиться никакая пустота».
Для того чтобы атомы могли двигаться и вступать между собой в соединения, учил Эпикур вслед за Левкиппом и Демокритом, необходимо пустое пространство. Вопрос о возможности существования пустоты — некой целой природы, обладающей определенными свойствами, недоступной восприятию чувств и постигаемой лишь посредством размышления, был одним из самых спорных вопросов греческой натурфилософии. И если Демокрит писал о том, что «Вселенная разделяется пустотой», ибо без пустоты не могло бы быть пространственного движения, то Аристотель, например, категорически возражал против самого понятия пустоты. Для Эпикура пустота — непременное условие существования всех вещей, непременное условие развития всего в мироздании: «А если бы не было того, что мы называем пустотой, то тела не имели бы, где им быть и через что двигаться», «природа Вселенной — это тела и пустота».
В этой вечной и бесконечной пустоте движутся невообразимо бесчисленные атомы — «непрерывно в течение вечности», и причина их движения, как полагал Эпикур (не допускавший никакого внешнего толчка как первопричины движения), «заключается в их тяжести, в стремлении атомов вниз». Атомы движутся с равной скоростью, когда они несутся через пустоту, если им ничто не противодействует. «Эпикур предполагал три вида движения атомов: 1 — по прямой, падение под действием собственного веса, 2 — отклонение от этой прямой и 3 — движение во все стороны, связанные с взаимным отталкиванием атомов. Демокрит видел причину столкновения атомов (а следовательно, и образования соединений) в том, что при падении более тяжелые атомы наталкиваются и ударяют более легкие, Эпикур же усматривал эту причину в самопроизвольном отклонении атомов, и это было основным отличием его учения об атомах от атомистической теории Абдерита. Он пришел к этому выводу, пытаясь в течение многих лет размышлений и изучения трудов натурфилософов, отыскать источник движения и изменения материи в самой материи, а также противопоставить сквозной необходимости Демокрита (вызывавшей его особенное несогласие) другой закон существования Вселенной — всеобщий закон самопроизвольного отклонения первочастиц, в результате чего и стало возможным возникновение всего сущего.
«Эпикур придумал, — писал об этом впоследствии Цицерон, связывая это положение Эпикуровой физики с его этикой, — как избежать сквозной необходимости: он утверждает, будто атом, несущийся по прямой линии вниз вследствие своего веса и тяжести, немного отклоняется от прямой. Только при допущении отклонения атомов можно, по его словам, спасти свободу воли». И далее: «Эту теорию Эпикур ввел из боязни, что если атому будет придано движение, в силу тяжести, естественной и обусловленной необходимостью, то на нашу долю не останется никакой свободы, так как и движение души будет обусловлено движением атомов». На неразрывную связь атомистического учения Эпикура с его проповедью свободы воли человека, возможности выбора в жизни, указывали и его последователи, например эпикуреец Диоген из Эноаиды; «Если же кто-нибудь воспользуется учением Демокрита и станет утверждать, что у атомов нет никакого свободного движения и что движение происходит вследствие столкновения атомов друг с другом, почему и получается впечатление, что все движется по необходимости, то мы скажем ему: разве ты не знаешь, кто бы ты ни был, что атомам присуще и некоторое свободное движение, которое не открыл Демокрит, но обнаружил Эпикур, именно — отклонение, как он это доказал, исходя из явлений? Но что важнее всего: если верить в предустановленность, то теряет смысл всякое увещание и порицание, и не следует наказывать даже преступных людей».
Следуя дальше по пути (начатому еще ионийскими натурфилософами) осмысления, познания «беспредельного», из которого возникли все вещи и в которое они уходят при своем разрушении, Эпикур воссоздавал перед своими учениками величественную и грозную картину вечного чередования, возникновения и гибели на лоне беспредельного, что «объемлет и всем правит». Исходя из того, что вещи, разрушаясь и уничтожаясь, должны неизбежно превращаться в те же атомы, он писал, задолго предвосхищая открытие закона сохранения материи: «Ничто не происходит из несуществующего: если бы это было так, то все возникало бы из всего… и если бы исчезающее разрушалось в несуществующем, все давно бы уже погибло, ибо то, что получается от разрушения, не существовало бы». Обращаясь к вопросу о природе и сущности времени (также вызывавшем самые разноречивые мнения греческих философов), он определял его как меру движения материи, неразрывно связанную с пространством, видел его бесконечным, как прямая линия:
Шли годы. Сын Неокла уже перешагнул через свое тридцатилетие, но жизнь его в общем почти ни в чем не менялась: все так же собирались по утрам в школу окрестные мальчишки (скольких он выучил за это время счету и грамоте), все так же ждали его к вечеру любимые и любящие друзья (за эти годы к ним прибавились новые — Клеон, Анаксарх, отрывок из письма которого к Эпикуру дошел до нас в пересказе Плутарха, Апеллес и Ктесипп), горя нетерпением поделиться с учителем новыми мыслями, соображениями, возникшими при изучении очередных философских трудов, услышать его столь ценимое ими мнение о чем-то из того, до чего вообще не было дела большинству окружающих людей. Диадохи напористо и яростно продолжали перекраивать наследие великого царя, состоятельные и не терпящие бездеятельности люди умножали свое добро, упорядочивая и благоустраивая понемногу входящую в новое русло жизнь, а такие, как школьный учитель Эпикур и его не ищущие славы и богатства последователи, пробирались умственным взором через пространство и время, любуясь грандиознейшим из зрелищ — вечносущей Вселенной.
Они спорили о том, кто же в конце концов прав: элеаты, считающие, что чувственный мир находится в состоянии вечной текучести, так что полное и определенное разграничение и различение явлений невозможно, или же милетские натурфилософы, утверждавшие вечное становление мира. И что есть мировой процесс: траектория, устремленная к неведомой цели, или же круговое вращение всего сущего, вечно возвращающегося к исходной точке, как считали, например, вавилоняне. В своем учении о так называемом мировом годе они утверждали, что этот год, за время которого вся Вселенная обращается вокруг своей оси, соотносится с обыкновенным, земным годом как секунда с двойным часом и длится примерно семь тысяч лет. И тогда «звезды опять займут свое прежнее положение и снова повторятся все события». И размышления обо всем этом представлялись собиравшимся на Эпикуровы беседы значительно более важным, чем неудачные начинания Полисперхонта или же чрезмерные амбиции Антигона Одноглазого, которому, как поговаривали, Передняя Азия кажется уже слишком тесной и который, видимо, не прочь присоединить к своим владениям и Грецию.
Так что же такое наша Вселенная, это вечное сияние бесконечных просторов космоса над головой, издавна манящих к себе человека, с тех самых пор, как он стал осознавать себя и задаваться вопросами о мире, а может быть, и раньше? Вслед за своими предшественниками — материалистами Эпикур видел Вселенную как неисчислимое количество тел в бесконечном и вечном пространстве: «Вселенная есть тела и пространство», «по количеству тел и по величине Вселенная безгранична», «какова Вселенная теперь, такова она вечно была и вечно будет, потому что изменяться ей не во что, ибо, кроме Вселенной, нет ничего, что могло бы войти в нее, внося изменения». Он видел Вселенную, в которой не признавал ни верха, ни низа, как вечно идущий процесс становления и разрушения, бесконечной смены явлений, вещей и миров и, как писал об этом Плутарх, любил повторять, что ничего нового во Вселенной не происходит, кроме уже возникшего бесконечного времени». В этих бескрайних просторах находящейся в вечном развитии и изменении Вселенной существует неисчислимое количество миров, образованных в результате соединения атомов и отделенных друг от друга огромными пустынными пространствами. Один из них — наш мир, который Демокрит представлял шарообразным и покрытым своего рода «хитоном» или же «кожицей» из крючковидных атомов. Сам Эпикур писал об этом следующее: «Мир есть некая небесная окружность, объемлющая светила, землю и все явления», представляющая собой «отрезок от беспредельного и заканчивающееся в пределе… когда этот предел разрушается, то разрушается и все заключающиеся в нем; предел мира или совершает круговое движение, или неподвижен и имеет или круглую форму, или форму треугольника, или какое-нибудь другое очертание». Так же как милетские философы допускали существование многих и даже бесчисленных космосов, обожествляя бесконечность, так же как Левкипп и Демокрит писали о том, что «существует в бесконечной пустыне бесконечное множество миров», так и Эпикур рассказывал своим ученикам о бесконечном количестве миров, столь же бесконечном, как и сама Вселенная, убежденный в повторяемости сходных форм во Вселенной. «Можно принять, — писал он одному из своих учеников, — что таких миров бесконечное множество, и что такой мир может возникнуть также и в междумирии… так как некоторые нужные семена текут от одного мира или междумирия… и производят понемногу прибавления, образования и перестановки на другое место».
В своих сочинениях о космосе Эпикур создавал грандиозную картину лишь разумом постижимого рождения мира: сначала это был «ливень», поток атомов, с одинаковой скоростью падающих по вертикали в пустоте, — та первоначальная материя, из которой произошли все тела во Вселенной. В силу отклонения (пусть даже бесконечно малого) атомов происходило их столкновение, сцепление в вихревом движении, образование все более крупных и крупных соединений. Таким образом, как писал об этом впоследствии Лукреций, из Хаоса неисчислимых частиц, «пройдя все сочетания и всякие роды движенья», «из столкновений материи вышли небо, земля и глубокое море, а также вращенье солнца и месяца». Целое, или космос, в силу своей бесконечности не может погибнуть, но каждый из миров конечен, поддаваясь постепенно разрушающему воздействию извне. Так и наш возникший некогда мир ветшает, обреченный в конечном счете через неизвестно сколь долгое время на распад и гибель:
И, как во все времена, все та же вечная, сокровенная мысль пронизывала людей, поднимавших свой взор к вечносущему небу: «А может быть, мы не одни в этих бескрайних просторах, может быть, кто-то подобный смотрит на нас сейчас из другой части нашего мира и думает то же самое? Неужели же разум только единожды и только в нашем обличье принял телесную форму? А если они все-таки есть, другие, похожие на нас, то как они живут? И удалось ли им сделать свое существование осмысленным, правильным и справедливым, или же их столь далекий от нашего мир раздирается такими же противоречиями, губительными и ложными страстями, гибнет от тех же непоправимых ошибок, которые, может быть, вовсе и не ошибки, а так, обычное течение жизни?» Демокрит учил о множественности миров, он предполагал, что «между мирами нет решительно никакого различия… равным образом люди повторяются совершенно одинаковые бесчисленное число раз».
Другим философам, и прежде всего Платону, сама эта мысль казалась недопустимой, поскольку она нарушала, даже ниспровергала стройную систему измысленного ими мироздания — слишком много оказывалось бы тогда этих неподлинных миров, бледных отражений единственного реального мира идей: «Принятие бесконечного числа миров есть мнение подлинно безграничного невежества». Что же касается Эпикура и его друзей, то, подходя ко всему во Вселенной с припципом подобия, повторяемости, аналогичности всего сущего, они считали, что наш мир всего лишь один из бесчисленных миров Вселенной и есть все основания предполагать, что «во всех мирах есть живые существа, растения в другие предметы, которые мы видим в этом мире».
В обсуждении всех этих столь мало значащих для большинства реально мыслящих людей вопросов, которые никогда и никому не разрешить до конца и от раздумий над которыми ничего не меняется в жизни размышляющих, проходили месяцы и годы, и тем, кто окружал сына Неокла, нравилось чувствовать себя подлинными философами, мудрецами, отрекающимися от соблазнов бытия. Хотя, впрочем, отрекаться им было особенно не от чего, так как жизнь не предлагала им ничего особенно заманчивого ни сейчас, ни потом. И им оставалось лишь попытаться всерьез стать выше каждодневной ничтожности, подняться над бедностью, личными горестями и утратами, над болезнями и убожеством быта, подняться над их общим, теперь уже непреходящим унижением потерпевших поражение, как оставалось теперь это и только это большинству философов во всех городах и весях Эллады, не считая двух-трех, променявших, как перипатетик Деметрий Фалерский, независимость и скромность философа на сомнительные роскошь и власть пособника завоевателей.
Можно было (и сейчас и потом, в последующие века Несвободы) проводить сколь угодно большое количество доводов в пользу того, что грекам необходимо смириться со своим поражением, признать, что они ослабели, обветшали, что их время уходит и поэтому, чтобы вообще уцелеть, сохраниться как народ, им следует приспособиться к новому положению вещей, подладиться к новым хозяевам близлежащей части Ойкумены и научиться извлекать из всего этого хоть какую-то выгоду, чтобы не пропасть окончательно. Можно было убедить себя и других в том, что твердая власть македонских царей обеспечит Элладе мир и хотя бы какое-то благополучие, хотя бы сытость, что она спасет от развивающейся внутри греческого общества анархии, и что поэтому надо поддерживать эту новую историческую силу (о чем говорили еще Эсхил и Исократ), и что поэтому правы и достойны всяческого уважения те стойкие люди, которые умеют и в этих условиях служить своему народу, служить, конечно, несколько иначе, чем в невозвратимые времена Фемистокла и Перикла. Можно было приводить и многие другие доводы, но в действительности это были лишь пустые, легковесные, как опавшие пожухшие листья, слова, под которыми во всей своей непоправимости и отчаянной безысходности проступала все та же единственная истина: все кончено, все кончено для них навсегда, все утрачено на веки веков вместе с достоинством и независимостью. И что им эта пресловутая сытость, сытость раба при не слишком жестоком и не особенно жадном господине, что им этот порядок в обществе — построенный на несвободе и страхе порядок не связанного больше никакой внутренней целью (которой и только ею одной существует каждое жизнеспособное общество) скопления людей, объединяемых главным образом местом жительства?
Все было кончено для них как для свободных граждан, хозяев своей собственной судьбы, большая, настоящая жизнь, которой жили их деды и прадеды, навсегда осталась как бы временем чудес для будущих поколений и при воспоминании о которой многим теперь не хотелось жить вообще. Конечно, впоследствии, через два-три поколения зависимого существования, эта память ослабеет, притупится невыносимая боль поражения и греки станут несколько иными — теми легкомысленными, лживыми, вороватыми, лицемерными и нагловато-трусливыми обывателями, остерегаться которых призывал Марка Туллия Цицерона его рассудительный брат Квинт. Но пока, пока они еще не стали такими, хотя уже и перестали быть прежними. Пока — это было самое мучительное время, время постепенного, вынужденного, трагического отказа от всего того, что делало некогда столь славным имя эллинов и особенно афинян, отказа от самих себя, невыносимое для мыслящих и не утративших достоинства людей, время горестного упадка целого народа и бессильных отчаянных попыток что-то этому упадку противопоставить.
Эпикур и его сторонники были именно теми, которые еще не утратили надежду что-то противопоставить, и поэтому такие сторонники новой власти, как Деметрий Фалерский, вызывали у них лишь безграничное презрение. Приезжающие из Афин со вкусом рассказывали о том, как живет теперь этот бывший слушатель Аристотеля и ученик Феофраста, на столе которого еще несколько лет назад можно было видеть «только маслины в уксусу и сыр с островов». Теперь же, когда он был поставлен Кассандром во главе нового афинского правительства олигархов, обыватели не уставали судачить о невиданной роскоши его жизни (поистине в своих прихотях этот философ превзошел финикийцев и богачей Кипра), о его обедах, на которые каждый раз приглашалось множество гостей и всякого рода прихлебателей, о его бесконечных любовных увлечениях. Те, кто удостоился побывать в жилище нового афинского правителя, рассказывали о дорогих коврах, устилающих благоухающий нардом зал, о прекрасных картинах и статуях, о невиданных изысканных кушаньях, которые не уставал изобретать искусный повар-раб. (Про этого повара также рассказывали, что он за два года приобрел три поместья, продавая остатки с господского стола.) Обладая довольно привлекательной наружностью, Деметрий красил волосы в золотистый цвет, натирался драгоценными маслами, одевался изысканно и всегда улыбался, желая нравиться всем и каждому, за что был прозван какой-то гетерой Милоглазым и Светлячком.
Хотя эта его новая роскошная жизнь оставляла Деметрию не слишком много времени для занятий философией, он все же не забросил ее совершенно и охотно покровительствовал всем тем мыслящим и одаренным, которые этого покровительства искали. Так, в числе его друзей числился и приобретающий все большую известность поэт Менандр. Стремясь стяжать славу нового устроителя Афин, он большую часть денежной помощи, предоставляемой македонским и египетским владыками, расходовал на приведение в порядок общественных зданий и храмов, а также на устройство пышных празднеств, великолепие которых помогало афинскому народу (а вернее, тому, что было когда-то свободолюбивым и гордым демосом, сокрушившим могущество персидских царей), отгонять ненужные мысли о несвободе и бесславии. Казалось, что за десять лет его правления (318–307) к Афинам вернулось былое благосостояние и мощь: опять бороздили во всех направлениях срединное море торговые корабли, соперничая с купцами из Византии и Александрии, мастерские оружейников, художников и скульпторов были завалены дорогими заказами (так, однажды по повелению Деметрия было в течение тридцати дней воздвигнуто 360 его статуй), произведения афинских художников пользовались большим спросом также и при дворах новых властителей Сирии и Египта, не жалевших средств на украшение своих столиц. В Афины спешили со всех сторон — и везли с собой немалые денежки — желелающие полюбоваться на прославленные храмы, приобщиться к образованности Академии и Ликея, послушать Феофраста (вокруг которого собиралось к этому времени до тысячи учеников) или же Стильпона Мегарского, посмотреть комедии Филемона и Менандра, принять участие в древних священных празднествах. Казалось, что вот они и зажили снова прежней жизнью, преуспевающие и многолюдные Афины, в которых чужеземцев было к этому времени чуть ли не треть населения, а рабов — едва ли не в двадцать раз больше, чем свободных. Многие же из тех, чьи прадеды своим потом и кровью укрепили в предшествующие времена мощь и славу Аттики, начинали теперь новую жизнь в отдаленных колониях и полуварварских землях, выселенные, вывезенные, вытесненные с родины за бедность и беспокойный нрав, за недовольство своей собственной судьбой и бесславием отечества.
Но хотя, казалось бы, восстановленное благополучие города было оплачено очень и очень недешево (ибо для большинства афинян было очевидно, что Фалерский «лишил отечество последней его славы», полностью предав его македонянам и управляя «обломками государственного корабля» по указке Кассандра), в обществе как будто бы восстановилось относительное согласие: богатые, чьи права защищало олигархическое правительство и для которых установившийся мир сулил дальнейшие возможности для еще большего обогащения, были довольны, не имели особых поводов для недовольства и неимущие, которые теперь были все-таки сыты и о которых доброжелательный правитель тоже как будто бы заботился. Он даже попытался сделать менее заметным внешнее выражение общественного неравенства и ограничить роскошь (о необходимости этих мер Фалерский писал и в своих сочинениях о политике), для чего учредил надсмотрщиков, которые должны были наблюдать за проведением свадеб и других семейных праздников, следить, чтобы число гостей не превышало установленной им нормы, а поваров, по словам современников, сделал соглядатаями при богатых гражданах. Таким образом, те, кто имел достаточно средств для роскошного образа жизни (себя философствующий правитель, безусловно, считал исключением из правил), должны были остерегаться выставлять напоказ свое богатство, а те, кто его не имел, не получали лишнего повода для зависти, раздражения и недовольства. И поэтому, хотя затаившиеся до поры сторонники демократии (среди которых наиболее заметным к этому времени становится Демохар, племянник Демосфена) считали создавшееся положение позорным для Афин и втайне вынашивали планы сопротивления, большинство горожан хранили спокойствие.
Да и кому было особенно возмущаться: ведь теперь в большинстве своем это были именно горожане, а не граждане; мало кто принимал теперь всерьез политику и вообще общественную деятельность, если это только не влекло за собой никакой непосредственной выгоды; ораторская трибуна, с которой когда-то решались судьбы отечества, превратилась, по словам продажных и ничего не чтящих демагогов, вроде Стратокла или Дромоклида, в «золотую жатву». В центре общественного внимания находились теперь не стратеги, ораторы или же законодатели, а модные гетеры, вроде знаменитой Гликеры, расположения которой на глазах у всех Афин добивались поэты Филемон и Менандр (стремясь, впрочем, не столько к любви самой прелестницы, сколько к победе над соперником). Вместо речей теперь были сплетни, вместо общественно полезной деятельности — бурная видимость под маской деловитости, фразы, остроты, насмешки и суета. Перестав быть свободными гражданами, афиняне все больше привыкали к навязанной им историей роли льстецов и царедворцев, превращаясь в значительной своей части в подобие народа-парасита, лестью и низкопоклонством выслуживающего подачки с господского стола. Постепенно позор перестал восприниматься как позор (потому что то, что недостойно свободного, вполне допустимо для почти что раба), ничего больше не принималось всерьез, и самым страшным врагом казалась скука, конечно, для тех, у кого было много ничем жизненно важным не занятого времени. И поэтому просвещенный и не особенно зловредный приказчик Кассандра, этот бывший перипатетик с крашеными кудрями, казался вполне приемлемым на том самом месте главы афинского правительства, на котором полтора столетия назад вызывали те или иные возражения и нарекания такие обретшие бессмертие мужи, как Фемистокл или же Перикл.
Приезжавшие из Аттики злословили относительно пристрастия Фалерского к нарядам, женщинам и хорошеньким мальчикам, но в то же время хвалили за мудрую прозорливость, позволившую ему стать выше бесплодной риторики насчет свободы и демократии, которые были теперь не более чем пустым звуком, за умение извлекать наибольшие выгоды для родного города при создавшемся положении дел. Свобода — это величайшее из слов, главнейшее из понятий — никогда не утрачивала для них своего изначального смысла, извечного содержания: свобода жить и мыслить, передвигаться и говорить, чувствовать себя хозяином своей собственной судьбы, человеком, личностью, способной оказать поддержку другому существу, нуждающемуся в помощи. Но так как в жизни внешней границы их свободы все больше сужались, так как действительность вокруг все больше превращалась в мертвящее для побежденных царство всеобщей несвободы, все сильнее становилось их стремление сохранить эту свободу в своем внутреннем мире и остаться в этом светлом, разумном и дружественном мире такими же гордыми, независимыми и великими, какими были их деды и прадеды в мире внешнем. Представляется возможным говорить о том, что для Эпикура вообще не стоял вопрос о том, чтобы, придав новое, соответствующее печальным обстоятельствам греческой жизни значение слову «свобода» (как пытались это сделать некоторые другие философы), попытаться как-то утвердить себя в прагматической реальности — нет, этой стороны бытия для него не существовало. Перечеркнув раз и навсегда мир дельцов, царедворцев, военных и демагогов, эпикурейцы признавали как единственно ценный и подлинный мир мыслящей человеческой личности, свой у каждого и в то же время общий, мир, который определяется законами природы и разума и остается в общих чертах тем же (во всяком случае, должен оставаться) при всех поворотах неподвластной человеку истории.
Представляется возможным также говорить о том, что уже в это время, в Лампсаке, Эпикур и его последователи не только вырабатывали в совместных беседах и обсуждениях основные положения своей философской системы, но и занимались просветительской деятельностью, стремясь донести свои знания до окружающих людей. Главное, как считал сам Эпикур, — это рассеять ложные страхи, довлеющие над людьми, страхи перед неведомым, перед богами и смертью, а для этого прежде всего необходимо изучение законов природы: «Если бы нас нисколько не беспокоили подозрения относительно небесных явлений и подозрения о смерти, что она имеет к нам какое-то отношение, а также непонимание границ страдания и страстей, то мы не имели бы надобности в изучении природы. Исходя из этого, Эпикур подходит и к объяснению метеорологических явлений во второй части своей «Физики»: «…будем правильно определять причины (небесных явлений), откуда явились смятение и страх, и, определяя причины небесных явлений и остальных, спорадически случающихся факторов, мы устраним все, что крайне страшит отдельных людей». (Это слово «страх», не привлекающее к себе внимания в трудах предшествующих греческих философов, проходит лейтмотивом через все писания Эпикура. И, видимо, прежде всего потому, что страх — непереборимый, парализующий ум и силы перед неизвестностью, непредсказуемостью, внезапностью то и дело обрушивающихся на греков несчастий, этот страх становится к этому времени главным из чувств и перед ним отступают — невозможно, что навсегда, — былые любознательность, дерзость и предприимчивость эллинов, и особенно афинян. Все это были качества свободных людей, что же касается потерпевших поражение, то для них гораздо более естествен страх). Поскольку такие явления природы, как движения светил, восход и закат, затмения луны и солнца, гром и молния, были тесно связаны в представлении большинства людей с проявлением божественной силы, и «главное смятение в человеческой душе происходит от того, что люди считают небесные тела блаженными и бессмертными», Эпикур придавал особенное значение рационалистическому истолкованию этих явлений: «Так как небесные тела суть собранный в массу огонь, то не следует думать, что они обладают блаженством и по своему желанию принимают на себя эти движения». Вслед за своими предшественниками — материалистами он видел причину различных движений и изменений небесных тел в природе тех атомных скоплений, из которых они образованы. Создавая свое учение о природе, которое впоследствии Плутарх охарактеризовал как полностью безбожное, Эпикур и его последователи утверждали, что при рассмотрении всех явлений надо исходить прежде всего из чувственного восприятия, а не из предположений о возможности существования сверхчувственного: «исследовать природу не должно на основании пустых, не доказанных предположений, но должно исследовать ее так, как вызывают к этому видимые явления», следует «относиться с вниманием к чувствам внутренним и внешним, которые у нас имеются».
А раз главная цель этих исследований состоит в том, «чтобы жить нам без тревоги», Эпикур не настаивает на том, чтобы давалось одно-единственное объяснение того или иного явления природы. И в той части своей физики, где речь идет о небесных телах, он стремится прежде всего не к тому, чтобы вскрыть действительные причины их происхождения или движения, но единственно к тому, чтобы дать такое рационалистическое объяснение, которое было бы понятно всем людям и помогло бы рассеять их заблуждения. Поэтому он сознательно допускает множественность причинных объяснений: «…здесь не нужно прибегать к невозможным натяжкам, не нужно все подгонять под одно и то же объяснение… Нет, небесные явления не таковы: они допускают много причин своего возникновения и много суждений о своей сущности, которые все соответствуют ощущениям». (И это, безусловно, шаг назад по сравнению с предшествующими греческими натурфилософами, которые стремились прежде всего доискаться до подлинных причин всего происходящего.) Так, Эпикур допускает несколько объяснений в разделе о движении светил, считая, что это происходит «или вследствие вращения небесного свода», или вследствие заключенного внутри самих светил и ищущего себе выхода эфира, который и увлекает светила в своем движении, или вследствие воздействия внешнего по отношению к ним воздушного потока; или же, наконец, потому, что «огонь, из которого состоят сами светила, находит себе время от времени новую пищу».
Подчеркивая вслед за Демокритом, что «тщательно исследовать причины наиболее, важных фактов есть задача изучения природы», Эпикур в то же время в ряде сложных случаев не затрудняет себя действительно глубокими размышлениями о природе того или иного явления, а удовлетворяется перечислением всех известных ему объяснений, лишь бы они исключали идею сверхъестественного. «Если мы, — писал он в связи с этим, — для того или иного явления природы приведем ряд возможных объяснений, то не следует думать, что мы производили исследование с недостаточной тщательностью, для нас все эти объяснения равноценны, поскольку они ведут к жизни счастливой и свободной от страхов». И в этом его главное отличие от Демокрита: если Смеющийся философ всю жизнь был снедаем священным желанием проникнуть в тайны Вселенной, доискаться до истинных причин всего сущего, то Эпикуру сами эти тайны стали со временем почти что безразличны.
И тем не менее он всегда уделял большое внимание материалистическому объяснению мироздания и бытия, чтобы выстроить потом на этом прочном фундаменте столь долговременное здание своей этики.
Пренебрегая почти полностью сложившимися мнениями, какие бы авторитеты, вроде Аристотеля, их ни высказывали (за что другие современные ему философы, не дерзавшие поставить под сомнение определяющие положения Платона или Аристотеля, честили сына Неокла нахальным самоучкой или недоучкой), Эпикур исходил при объяснении всех явлений природы прежде всего из того, что ему подсказывали собственные восприятие и разум, признавая верным лишь один метод — «надлежащим образом следовать видимым явлениям и из них брать указания для объяснения невидимых». Руководствуясь этим, он пытался рационалистически объяснить затмения солнца и луны — явления, приводящие людей в особое смятение, считая, что это «может происходить как вследствие угасания… так и вследствие заслонения их какими-нибудь другими телами, — Землею или каким-нибудь невидимым телом», а также выдвигал предположения о том, что луна светит светом, заимствованным от солнца, а кометы «возникают… потому, что в некоторых местах в некоторые промежутки времени в небесных высях сгущается огонь по причине скопления материи».
Таким же образом, стремясь давать всему «свободные от мифологических объяснений «истолкования», Эпикур подходил и к рассмотрению таких природных явлений, как снег, дождь, гром, облачность, ветер, лед, туман, допуская возможность различного рода причин для их возникновения и протекания. Так, он писал о том, что «гром может происходить и вследствие кручения ветра в пустотах туч, как бывает в наших сосудах, или вследствие гудения огня, наполненного ветром внутри туч, или вследствие разрыва туч и их разделения». А «радуга, — по его мнению, — образуется вследствие того, что солнце освещает водообразный воздух, который может производить эти особенные цвета». Иронически относясь ко всякого рода приметам, Эпикур отвергал какое бы то ни было мистическое их истолкование, утверждая, что все приметы, в том числе и предсказания погоды по поведению некоторых животных, «основаны на случайном совпадении обстоятельств»: «Ведь животные не могут оказывать никакого принуждения на то, чтобы окончилась зима, и не сидит никакая божественная природа, которая бы следила за выходом этих животных и потом приводила бы в исполнение эти приметы».
Можно с уверенностью предполагать, что не всем в Лампсаке пришлись по нраву такие толкования, не оставляющие места привычным представлениям и суевериям. Возможно, даже (иначе бы противники Эпикура не обвиняли его столь яростно и непримиримо в безбожии, а он сам не заявлял бы столь откровенно и высокомерие о своем полном пренебрежении мнением толпы) материалистическое истолкование земных и небесных явлений вызывало возмущение невежественных и подозрительных обывателей (каких немало во все времена и у всех народов), столь же мало склонных прислушиваться к философствующим, как и сто пятьдесят лет назад, когда за святотатственные суждения и отрицание бессмертных олимпийцев был изгнан Анаксагор, осужден Протагор и умерщвлен Сократ. И возможно, что просветительские устремления Эпикура уже тогда наталкивались на сопротивление определенной части окружающих, а их кружок (тем более что они никогда не скрывали ни своего подлинного демократизма, ни антимакедонских настроений) начинал вызывать недоброжелательные слухи и сплетни.
Все это заставляло эпикурейцев еще больше ценить друг друга, дорожить существующим между ними взаимопониманием. Как и впоследствии в Афинах, калитка «раннего сада» в Лампсаке (даже если это всего лишь образное выражение, потому что до нас не дошло достоверных сведений о том, собирался ли первый кружок Эпикура в саду или же где-то в ином месте) была гостеприимно распахнута для всех жаждущих мудрости и особенно для обделенных земными богатствами, удачей и счастьем. «Не следует, — писал по этому поводу сам Садослов, — испытывать ни тех, кто быстро готов на дружбу, ни тех, кто нерешителен, ради дружбы следует и рискнуть». И, как показало время, риск оказался не так уж велик: лишь некоторые, единицы из тех, кого сын Неокла приобщил к своему знанию о мире и бытии, отплатили ему неблагодарностью. Ученики не просто любили его, они поистине боготворили его (как молодой Колот, о чем рассказывает Плутарх), многие из них, кажется, не раздумывая, отдали бы за него жизнь, потому что болезненный, неимущий, но отнюдь не кроткий нравом, свободолюбивый, наделенный несгибаемым духом учитель был для них тем единственным человеком, который еще верил в возможность прожить разумно, достойно и спокойно в этом зыбком, ненадежном, словно бы разваливающемся для них, для греков, на куски мире, приобретавшем для побежденных с каждым годом и каждым днем все более античеловеческие очертания.
От Эпикура, как некогда от Сократа, словно бы исходила некая целительная сила, помогавшая людям выжить и выстоять даже тогда, когда сам воздух был, казалось, пронизан отнимающим желание жить сознанием поражения. Его непоколебимая твердость, вера в конечную разумность мира и бытия, убежденность в самоценности жизни передавались как некая панацея и его ученикам, многие из которых потом уже просто не могли существовать без этой поддержки, вдали от учителя. Сам Эпикур не раз подчеркивал, что «всякая дружба желанна ради себя самой, а начало она берет от пользы», но о какой же пользе шла речь? Не о деньгах, какой-то корысти, выгоде за счет другого, в ущерб другому, не о пособничестве в добывании теплых местечек, не об обогащающих сделках и дележе добытых ценой утраты достоинства и независимости кусков. Нет, они были полезны друг другу тем, что помогали друг другу выжить и сохранить себя как мыслящих, свободных духом людей, разделяя между собой высшее из наслаждений — приобщение к вечности и бесконечности. И, наверное, каждый из этой первой «четверицы» эпикурейцев мог бы сказать о себе то же самое, что написал Эпикур: «Когда мудрец подвергается пытке, он страдает не больше, чем когда видит, что друг подвергается пытке. Но если друг сделает ему зло, то вся его жизнь вследствие недоверия придет в расстройство и перевернется».
Так шли годы, наполненные трудами, размышлениями, беседами о тех самых вопросах, которые — и особенно в периоды общественного упадка — кажутся не только что второстепенными, ненужными, но и вообще несуществующими, но которые от этого не перестают оставаться самыми главными для людей, если они хотят оставаться людьми: что есть добро и что есть зло, что есть истина и постижима ли она, что такое любовь, доброта, справедливость и что такое, наконец, человеческое счастье? И если раньше их деды и прадеды точно знали, что счастье — это служение родине, исполнение своего гражданского долга, что счастье — это здоровые, благополучные дети (как учил об этом Солон), достойные граждане своего процветающего отечества, и почтенная старость близ отчих святынь, то теперь почти ничего этого уже не было: не было процветающего отечества, не было долга, не было старинных богов, не всегда даже были дети (зачем же плодить подневольных, может быть, даже завтрашних рабов?). И поэтому еще надеющиеся на счастье могли выбирать только между материальным благополучием, то бишь умением делать деньги и эти деньги копить, и обретением гармонии в своем внутреннем мире, той самой гармонии, которая во все времена казалась деловым и оборотистым людям лишь самоутешительным измышлением всех слабых и нежизнеспособных. Эпикур и его друзья избрали гармонию, то самое счастье — свободу духа и умение радоваться жизни, которому берется научить своих последователей сын Неокла, как человек, глубочайшим образом убежденный, что сам он живет в истине. Он берется за это трудное дело с твердой верой в жизнеутверждающую силу человеческого разума и духа, в то печальное время, когда казалось порой, что людей, стремящихся остаться самими собой и находящих для этого силы, уже почти не осталось.
Он берется дать людям нравственную опору и научить их разумно и правильно распоряжаться собственной жизнью, руководствоваться во всем извечными, непреложными законами справедливости, доброты в человечности, не полагаясь ни на милость богов, ни на всевластье Судьбы (а в сущности, Случая), которая становилась понемногу единственным божеством для тех, кто утратил веру в логические закономерности бытия. Казалось, что вместе с утраченной свободой и навсегда ушедшими в прошлое героями, вместе с до отвращения измельчавшими делами от эллинов навечно отвернулись их прежние боги, на помощь и справедливость которых полагались их славные прадеды. Подвергнутые сомнению в философских трактатах, осмеянные самонадеянными поэтами, вроде Еврипида, олимпийцы также навсегда отступили в прошлое и теперь взирали оттуда насмешливо и недоступно на то, как постепенно гибнут, тщетно пытаясь укрепиться духом возле каких-то новых святынь, отвергнувшие, нет, просто пережившие их люди. Казалось, что вера в некий высший закон, питавший неповторимую мудрость Эсхила и Софокла, сгорела в пламени братоубийственных войн последнего столетия; сами бессмертные показали свое полное бессилие перед бесчисленными святотатствами, безнаказанными нарушениями всех считавшихся ранее непреложными установлений, как человеческих, так и божеских. Повидимому, они ничего не могли поделать даже с тем, что некоторые, отнюдь не самые совершенные из смертных, претендовали теперь на их место в святилищах и душах людей. Или же они сделались равнодушными к этому, как спартанцы, заявившие в свое время: «Так как Александр желает быть богом, то да будет он богом». Или же — и это казалось теперь всего вероятнее — их просто не было никогда, этих гордых и грозных олимпийских богов.
Теперь вместе с новыми храмами и алтарями то здесь, то там появлялись привлекательные изображения нового божества — Случая, который улыбался — в виде молодой и красивой женщины — своим многочисленным почитателям, улыбался многообещающе и обманчиво. Это был возведенный на пьедестал тот самый случай, во всевластии которого сомневались уверенные в закономерности всего сущего философы: «Случай щедр на дары, но ненадежен, природе же достаточно ее собственных сил», — писал в связи с этим Демокрит, а Аристотель утверждал, что на пути достижения высшего блага человека подстерегают различные случайности, однако они не в силах повлиять на внутренний мир, на состояние души и разума мудрого человека. И того, кому повезло как будто бы больше, чем другим, надо считать не счастливым, — учил Стагирит, — а всего лишь удачливым. Счастливым же, «хорошим и благополучным» следует, по его мнению, признать человека, который умеет с достоинством, не теряя себя, переносить игру случая и при любых обстоятельствах «остается самим собой». И именно это качество человека определяет его характер, в конечном итоге весь его жизненный путь.
Что же касается философов послеалександрова времени, то многие из них все больше склонялись к мысли о случайности нашего мира вообще и всего того, что в нем происходит. Так, философствующий правитель Деметрий Фалерский написал даже сочинение «О случае», где в числе прочих примеров всевластия случая рассматривал походы и свершения великого Александра, в которых, по его мнению, было больше неожиданного и непредсказуемого, чем, казалось бы, логичного и закономерного. В отличие от придерживающихся подобного мнения Эпикур, следуя во многом Аристотелю, основную силу, направляющую весь жизненный путь человека и способную противостоять слепой случайности, видел в разуме: «Случай редко мешает мудрецу; самые большие и самые важные дела устроил разум, и во все время его жизни он устраивает их и будет устраивать». И в своих сочинениях, и в письмах он не раз останавливался на этом, восставая против какого бы то ни было фатализма, потому что как «всеобщая необходимость» Демокрита, так и расхожие представления о всевластии случая (эти, казалось бы, противоположные друг другу мнения, что отмечал и сам Эпикур) не оставляли места для отстаиваемой им свободы мыслей и действий человека: «Необходимость есть бедствие, но нет никакой необходимости жить с необходимостью»; «что же касается случая, то мудрец не признает его ни богом… ни причиной всего… мудрец полагает, что лучше с разумом быть несчастным, чем без разума быть счастливым».
Уверенные в свои молодые годы в собственных возможностях, в силе духа и разума человека, которые позволят стать выше слепого произвола случайностей и сохранить себя как существо свободное и мыслящее, Эпикур и его последователи утверждали возможность свободы действий в рамках тех непреложных закономерностей мироздания и бытия, которые открылись философам и мудрецам на долгом пути познания мира. Они считали, что главная сила, направляющая события всей нашей жизни, находится в нас самих: «Одни события происходят в силу необходимости, а иные зависят от нас, так как необходимость не подлежит ответственности, а случай непостоянен… но то, что зависит от нас, не подчинено никакому господину».
Так, в постоянных трудах, занятиях и беседах о тех вечных вопросах, которые, повидимому, так до конца и не разрешить никому из смертных, сын Неокла подходил к своему тридцатипятилетию. К этому времени у него окончательно созревает решение переехать в Афины и открыть там настоящую философскую школу, чтобы наконец отдаться полностью и без помех главному делу всей своей жизни — спасению людей, врачеванию их потрясенных превратностями и несообразностями бытия душ. Он решает навсегда поселиться рядом с афинянами — своим народом, людьми древнего кекропова корня, у которых так много славного, доблестного и несравненного позади и которых еще, возможно, ждет столь же достойное будущее, стоит лишь пройти этим тягостным временам поражения и бесславия. Не приемлющий никаких новых порядков, никакого как будто бы благополучия и как будто бы спокойствия при македонских хозяевах, с возмущением и гневом отвергающий идею «разумного подчинения» более сильному, внук и сын свободных афинских граждан, сам бесконечно свободный, наделенный несгибаемым духом и мощным разумом человек, Эпикур считает своим долгом поддержать свой народ в тяжелую для него пору, укрепить его жизнестойкость, веру в неповторимую ценность каждой человеческой жизни, в возможность для смертных разумного счастья на этой, единожды нам данной земле.
Может быть, он подумывал о переезде в Афины и раньше, но ему претила сама мысль хоть в чем-то уподобиться таким, как бывший перипатетик Фалерский, если он обоснуется и, может быть, даже откроет философскую школу в городе, живущем по указке македонского царя (в сущности, самозванца, убийцы вдовы и наследника того, кто завоевал для них всех эти огромные земли). Из Эпикура никогда бы не вышло придворного философа, тем более что участь многих известных ему ученых мужей, рискнувших приблизиться на более короткое расстояние к самодержцам, оказывалась в конце концов достойной всяческого сожаления. Потому что в конце концов неизбежно оказывалось, что снисходительность просвещенных монархов в отношении философствующих оборачивается холодным, вычеркивающим из жизни пренебрежением, если те вдруг и вправду возомнят себя свободными. Так, называвший себя богом великий воспитанник Аристотеля не жалел золотых талантов для Пиррона и Ксенократа (который их, кстати, не принял) и мог во хмелю забросать цветами подножие памятника не такого уж знаменитого философа, как Феодект из Фаселиды, не раздумывая, вешал индийских мудрецов-гимнософистов, «которые порицали царей, перешедших на его сторону», и умертвил известного «безупречной, чистой, чуждой искательства» жизнью Каллисфена, который «упорно, как подобает философу, боролся против обычая падать ниц перед царем и один осмеливался открыто говорить о том, что вызывало тайное возмущение» даже среди окружения Александра. И поэтому сын Неокла, за всю свою жизнь никого не посчитавший за своего господина, жил надеждой на восстановление демократии, которая, хотя — что становилось все более очевидно — тоже давно не соответствовала своему первоначальному предназначению, все же была предпочтительнее власти самодержца.
Его решению переехать в Афины способствовало и то немаловажное обстоятельство, что к этому времени происходят, по-видимому, какие-то благоприятные изменения и в материальном положении Эпикура, относительно которых мы можем только догадываться. Так, судя по сохранившимся фрагментам из писем, речь идет о какой-то пенсии (может быть, он получил наследство?), которую он и просит высылать кого-то из своих корреспондентов регулярно и без задержек. Но главное было в том, что после десяти лет «просвещенной тирании» Фалерского опять появилась надежда на восстановление демократии, а вместе с ней, как казалось, как хотелось верить афинянам, не желающим смириться с положением верноподданных, и надежда на возвращение хотя бы доли утраченной самостоятельности. И хотя речь, в сущности, шла лишь о том, чтобы сменить одного господина на другого, сторонникам демократии в Афинах союз с Антигоной Одноглазым (который был очень не прочь распространить свое влияние на Элладу и поэтому, так же как в свое время Полисперхонт, пообещал свободу греческим городам) представлялся более предпочтительным, чем подчинение Кассандру. Тем более, что сам Антигон слыл человеком образованным и в достаточной степени терпимым, а его сын, блистательный Деметрий Полиоркет, кажется, особенно любил афинян и прямо-таки рвался выступить в благородной роли их освободителя.
Весной 307 года он вышел в море из Эфеса во главе эскадры в 250 кораблей и многочисленного войска, с осадными машинами и множеством всяких припасов и направился к берегам Аттики. С волнением и тревогой наблюдали афиняне, собравшиеся на крепостных стенах, за приближением этой великолепной эскадры, не зная, к чему им готовиться. Корабль, на котором находился Деметрий, проник в самую гавань, и сверкающий драгоценным вооружением сын Антигона, прекрасный и уверенный в себе, как юный бог, сошедший в стародавние времена с высот Олимпа, чтобы помочь дорогим его сердцу смертным, предстал перед Афинами. Он приказал глашатаю возвестить, что отец его, доблестный Антигон, посылает эти корабли и это войско, чтобы прогнать македонян и возвратить афинянам их прежние законы и установления. Однако лишь через несколько месяцев после того, как солдаты и матросы Деметрия овладели гаванью Пирея, после того, как удалился в Фивы сдавшийся на милость победителя правитель Фалерский и, наконец, после того, как сдался македонский гарнизон Мунихия во главе с фрурархом Дионисием, сын Антигона победителем и освободителем въехал в древний город Паллады.
При бурном ликовании народа, собравшегося в экклесие (казалось, что вот они и вернулись, славные времена полисной демократии), блистательный Полиоркет взошел на трибуну, сам, возможно, веря тогда в то пьянящее, победное время, в возможность вернуть невозвратимое: возродить древнюю славу, могущество и благородство потомков Тезея при его восхищенном покровительстве, под защитой его солдат. В своей страстной и искренней речи будущий царь говорил о том, что отныне город свободен, что он постарается восстановить его прежнее могущество, что он попросит у своего отца Антигона лесу для постройки ста триер — и это станет началом возрождения морской мощи Афин. Он предложил афинянам в подарок 150 тысяч мер хлеба и в заключение призвал по заслугам наказать всех противников демократии и приверженцев Кассандра. Благодарные афиняне превзошли самих себя в воздавании почестей обаятельному герою (тем более что ничего другого им не оставалось), по всему городу были опрокинуты статуи Деметрия Фалерского, а металлические переплавлены, начались судебные процессы против сторонников Кассандра и олигархии, хотя многих из них к тому времени уже не было в городе. Одни из них были приговорены к смертной казни, некоторые (и в их числе поэт Менандр, друживший с Фалерским) были оправданы и получили разрешение остаться на родине. Таким образом, демократию можно было считать восстановленной, и хотя относительно свободы полной уверенности не было, все не желающие жить в подчинении у македонян могли снова собраться в Афинах.
Конечно, было бы наивно полагать, что Эпикур всерьез воспринял это очередное восстановление свободы и народовластия в Афинах: как человек образованный, много читавший и думавший, он не мог не понимать, что люди Эллады вступают в один из самых печальных периодов своей истории, он не мог не видеть тех новых сил, тех молодых воинственных и хищных народов, считавшихся еще варварскими племен, которые со всех сторон обступают их древнюю землю, их прекрасные, осененные кронами мощных платанов, изукрашенные мрамором города, зарясь на еще до конца не прожитые и не разграбленные диковинки. Интуиция не могла не подсказывать сыну Неокла, что время полисной Эллады, время маленьких, неповторимых в своем совершенстве храмов, архаичной статики немного выветрившихся богов и героев на фронтонах храмов, время свободных земледельцев, с патриархальной любовью обхаживавших каждое оливковое деревце и каждую виноградную лозу, время величественных трагедий и легендарной самоотверженности стратегов и правителей, что это время ушло навсегда. Как ушли навсегда мифические времена троянских героев, времена поющих и торгующих со всей Ойкуменой эгейских островов, времена златовратых Микен и полузабытого Пилоса. И поэтому он не питал особых иллюзий относительно обещанных Полиоркетом свобод, а тем более относительно самого победителя. Однако по сравнению с предшествующими годами обстановка в Афинах представлялась все же более благоприятной для того, чтобы осуществить уже принятое решение и начать новый этап своей целиком посвященной служению людям жизни.
Вместе с Эпикуром решили переехать в Афины Метродор, Полиэн и Гермарх, самые преданные и убежденные из его последователей, истинные братья по духу. Они покидали Ионию с твердой уверенностью в том, что всем вместе им удастся прожить самим, а также научить а других жить так, как писал об этом впоследствии Эпикур своему ученику Менекею, убеждая его предпочесть всему прочему «бессмертные блага» свободы духа и разума: «Ты никогда, ни наяву, ни во сне не придешь в смятение, а будешь жить как бог среди людей. Да, совершенно не похож на смертное существо человек, живущий среди бессмертных благ».
Часть II
САД
Мир, в котором живет Эпикур, — это мир, уже обреченный на уничтожение, мир, живущий в тревоге.
А. Боннар
Глава 1
БУДЕМ ЖИТЬ И ФИЛОСОФСТВОВАТЬ
Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией.
Эпикур
Нам никогда не восхвалить достаточно философию, повинуясь которой человек может в любом возрасте жить без тягот.
Марк Туллий Цицерон
Весной 306 года до н. э. Эпикур прибывает в Афины. Он сходит в Пирее с корабля на древнюю землю Аттики, высокий тридцатишестилетний мужчина, с короткой волнистой бородкой и твердым насмешливым взглядом глубоко посаженных глаз. Он возвращался на родину прадедов с тем, чтобы никогда ее больше не покидать, чтобы разделить с нею все беды, тяготы и унижения смутного, переломного времени. С ним были его верные друзья — Гермарх, Метродор и Полиэн, а также, вероятно, и братья Неокл, Хайридем и Аристобул, которые (как рассказывает об этом эпикуреец Филодем в сочинении «Перечень философов») уже в Ионии начали заниматься философией «по его убеждению». Они возвращаются в Аттику полные решимости и надежды: решимости донести до скудеющих в бесславии соплеменников свою «науку жизни человеческой» и надежды на то, что занятия философией, постижение мудрости помогут им преодолеть жестокие несообразности бытия, помогут им стать выше положения навсегда побежденных, позволят им остаться свободными духом и разумом даже тогда, когда весь их народ не ждало уже впереди ничего, кроме долгих тусклых веков несвободы и постепенного угасания. Им не хотелось думать о том, что такого рода свобода и независимость только иллюзия, что подлинная свобода духа неотделима от свободы общественной, политической, такой, какой обладали их вершившие эллинскими делами деды и прадеды, и, кроме того, события разворачивались так, что у них просто не было выбора.
За восемьдесят мин Эпикур покупает дом и сад, небольшой тенистый сад — платаны, смоковницы, вечнозеленый подстриженный кустарник вдоль дорожки, где и решает открыть свою философскую школу. Отныне в течение ряда десятилетий здесь будут собираться все жаждущие мудрости и успокоения, все те, кто еще не утратил веры в возможность хотя бы личной разумной и правильной, истинно человеческой жизни, несмотря на ее все более очевидную неразумность и бесчеловечность. На воротах сада было написано: «Гость, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие — высшее благо», и это сразу же дало повод для недоброжелательных толков соседей, отнюдь не философски мыслящих и не очень-то стремящихся к пониманию Эпикуровой мудрости обывателей, послужило пищей для тех обвинений, которые выдвигались против «философов из садов» и несколько столетий спустя. В этом доме и этом саду прошла в трудах, размышлениях и беседах жизнь Садослова (как называли его нередко впоследствии), жизнь, которую считали необыкновенно счастливой те, для кого единственно возможное в этом мире счастье виделось в умиротворении, в приятии мира как такового, в такой желанной и лишь единицам из тысяч доступной гармонии разума и души.
Что же можно поведать занимательного о жизненном пути мудреца, внешне таком однообразном и не богатом яркими событиями? Это не то что повествовать о преисполненной великих свершений и подвигов жизни старинных героев или полководцев (таких, как царь Леонид или же Мильтиад) или пересказывать пережившие века анекдоты, пикантные подробности из скандальной истории прекрасного авантюриста Алкивиада, а также не менее удачливого и обаятельного Деметрия Полноркета. Этот блистательный сын Антигона Одноглазого был почти что ровесником Эпикура, они целый ряд лет жили рядом в Афинах, всемогущий властитель и скромный учитель для многих сомнительной мудрости, и насколько бурной и красочной была у всех на виду проходящая жизнь Полиоркета, настолько спокойной и в общем однообразной была жизнь Эпикура.
Напрасно было бы искать в жизни философа (а тем более философа этого печального и безнадежного для греков времени) борения сильных страстей, страданий неразделенной любви, ревности, зависти или же ненависти, то есть всех тех неподвластных воле и разуму чувств, которые так часто сокрушают человека и приводят его к гибели, которые так неповторимо и образно воссоздавали в своих бессмертных творениях старинные поэты. Ведь многие из этих поэтов родились и пели в начальную пору эллинского мира, пору светлую, полную смелых надежд, нерастраченных сил, желаний и чувств. Этот весенний мир греческой поэзии, пронизанный солнечным светом и дыханием вечносущего моря, был как те синие от цветущей медуницы луга, по которым будет вечно идти из бесконечности в бесконечность очарованная Сапфо. Наш же счастливый и одновременно до боли в сердце, до бесконечного отчаяния несчастный философ жил в тусклом (да, именно тусклом, хотя оставались и солнце, и небо, и море), постепенно угасающем мире полисной Эллады; в мире, подобном семидесятилетнему мужу, так славно пожившему, так много сделавшему, повидавшему, всему познавшему цену. Равнодушно глядит он на мир, ничем уже не прельщаясь, позади остались любовь, надежды, разочарования, он спокоен, он абсолютно спокоен и ничего не желает больше, кроме одинокой постели за теплой, сухой стеной и забвения… И даже если навстречу уходящему в прошлое миру нашего философа уже шел, вырисовывался из будущего новый мир, может быть, даже более интересный, может быть, даже более правильный и разумный, что ему было за дело до этого нового мира, которого он не увидит? И потом этот грядущий мир, каким бы прекрасным и многообещающим он ни был, все равно уже будет каким-то иным, в то время как его собственный мир, неповторимый, невосполнимый, распадался прямо у него на глазах…
Жизнь Садослова протекала по тому самому руслу, по которому тихо струятся из вечности в вечность светлые жизни бессребреников и мудрецов, всецело поглощенных стремлением «понятия бытия». И чем сложнее, величественнее, труднопостижимей был их внутренний мир, тем скуднее событиями мир внешний. И чем дальше, вплоть до «огненных стен мира» достигал их пытливый и мощный разум, тем беднее и монотоннее было их бренное телесное бытие. Они сами в большинстве своем избегали суеты и многолюдства, довольствуясь самым необходимым, чтобы не дать замутить каждодневным заботам бесценное счастье своей жизни — счастье познания. Почти все они жили примерно одинаково: просто ели и много работали, были равнодушны к вещам и деньгам, проводя долгие годы в писании и чтении, беседах с учениками и спорах с другими философами; тех самых спорах свободных душой и разумом людей, людей, ничего не боящихся и никому не подотчетных, в процессе которых рождалась вожделенная истина. Истово, словно служа неведомому, самому главному богу, они годами работали над своими сочинениями о мироздании, природе, человеческом бытии, работали не ради денег или же дешевой популярности, не ради того, чтобы угодить богатым и сильным, которые в ослеплении власти воображали себя господами всего существующего, но лишь для тою, чтобы уяснить для себя и других законы Вселенной и нашей Земли. И поэтому-то бессмертны их труды, ценнейшее из достояний человеческой мысли.
Век этих мужей-философов, обычно достаточно долгий, словно само провидение заботилось о том, чтобы они успели досказать, донести до людей свое знание, протекал в беспрестанных занятиях и угасал постепенно, без резких, мучительных переломов; и они засыпали навек, склонив голову на свитки и рукописи. Как умер Горгий из Леонтин, как ушел из жизни Платон. И поэтому рассказывать о них, о таких, каким был и Эпикур, — это повествовать об истории их бессмертных идей, о сомнениях духа, дерзаниях смелого разума, о поиске истины длиной в целую жизнь. Таким будет наш рассказ и об афинской жизни сына Неокла, ничем, по существу, не отличавшейся от его прежней жизни, разве что он перестал учить грамоте малышей и наставлял теперь взрослых. Обосновавшись в Афинах, он приступает наконец всецело к осуществлению своей главной задачи — врачеванию душ человеческих, избавлению их от бессмысленных страданий и страхов.
Свобода — вот что мыслил Эпикур конечной целью овладения философией; свобода как единственное из условий жизни существа разумного и мыслящего, как единственное из условий для творчества человека, постигающего мир и тем самым овладевающего им. Драгоценная свобода, которой навсегда лишились его современники в мире внешнем, но которую, как надеялся, как учил сын Неокла, еще можно сохранить в мире внутреннем, а вместе с ней и естественнейшее из ощущений каждого живого существа — чувство радости бытия. «Пусты слова того философа, которыми не врачуется никакое страдание человека. Как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезни из тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни души» — так начинал Эпикур свое обучение, обещая собиравшимся в его саду научить их жить так, как им хочется, помочь им сделаться свободными и радостными, несмотря ни на что. Он обещал им, что, приобщившись к истинной мудрости, каждый из них может сказать потом о себе: «Меня не преследуют больше никакие желания, я достиг наивысшего блаженства». О, это пресловутое блаженство отречения, горькое счастье отказа от всего, что делает столь полнокровной и многокрасочной жизнь человека, но что достигается чаще всего такими трудами, оплачивается такими потерями духа и чувств, что лучше уж сразу от всего отказаться… Блаженство как неучастие, как полное отсутствие страха перед чем бы то ни было, даже перед самой смертью, блаженство как абсолютная неуязвимость для внешнего мира, становящегося все более враждебным и опасным, — вот что такое блаженство эпикурейцев. Блаженство, наконец, как сама возможность приобщения к мудрости: «Кто говорит, что еще не наступило или не пришло время для занятий философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья еще нет или уже нет времени».
Вход в сад был свободен для всех: молодых и старых, мужчин и женщин, богатых и бедных, свободных и рабов, неважно — грамотных ли, неважно — достаточно ли смышленых. Не ставя перед собой доступную лишь для очень немногих (а может быть, и вообще недоступную для смертных) задачу постижения истин конечных и высших, Эпикур в отличие от Пифагора, Платона или же Аристотеля, стремившихся прежде всего к обсуждению в кругу столь же просвещенных и подготовленных к этому людей главных проблем мироздания и бытия, считал своей главной целью помощь сирым и малым мира сего, поддержку тем, кто растерялся перед неумолимыми несообразностями жизни. И поэтому с самого начала его мудрость показалась довольно сомнительной (а впоследствии и вредоносной) людям денежным и предприимчивым, предпочитающим блага внешние, покупаемые, продаваемые и перепродаваемые, «высшему блаженству» добровольного самоотречения и готовых ради этих самых благ к любому соглашательству, даже к предательству своего народа. Поэтому Садослов на долгие годы становится учителем неимущих и нестяжателей, наставником несчастливых и неуверенных, превыше всего ценящих свободу духа, но еще не достигших ее. И всех их он с уверенностью обещает спасти, и не только спасти, по поставить выше самых высоких, тридцатишестилетний приезжий философ, непоколебимо убежденный в целительной силе знания и дружеской поддержки: «В самом деле, кто по твоему мнению, выше человека, о богах мыслящего благочестиво, к смерти относящегося всегда неустрашимо, путем размышлений постигшего конечную цель природы, понимающего, что высшее благо легко исполнимо и достижимо, а высшее зло связано с кратковременным страданием, смеющегося над судьбой, которую некоторые вводят как владычицу всего?»
Так уговаривал сын Неокла самого себя и других, убеждал, что можно, что следует сохранять человеческое достоинство и свободу при любых обстоятельствах, при любых поворотах истории — а что же ему еще оставалось, одному из последних гордых разумом и смелых духом сынов славного, но уже подходящему к завершению своего неповторимого пути кекропова племени? Впрочем, что бы ни полагали о себе он и его сподвижники, все они не значили ровным счетом ничего для тех, кто теперь действительно заправлял делами и вершил судьбой всего греческого мира. Их незаметная жизнь и для многих сомнительная мудрость не стоила никакого внимания в сравнении с величием и блеском истинных героев того времени, таких, как бесподобный Деметрий Полиоркет, вновь осчастлививший своим прибытием Афины после очередного свершения исторической значимости.
Сын Антигона возвращался из кипрских вод, одержав сокрушительную победу над Птолеемем (которому, как видно, в последнее время стало мало Египта и его корабли все кружились то тут, то там у эгейских островов), и афиняне с ликованием приветствовали героя, стараясь не думать о том, что из тридцати аттических триер, отплывших с ним к Кипру, осталось лишь десять. И действительно, это не шло ни в какое сравнение с потерями Птолемея (было потоплено более восьмидесяти кораблей и захвачено в плен восемь тысяч солдат) и особенно с той огромной добычей, которую привез Полиоркет и которой он, столь расточительный и щедрый, без сомнения, поделится с любимым афинским народом. Любимец богини Удачи вступал в город в сопровождении приветственно ревущей толпы, рядом с ним была его любимица Ламия, по праву слывшая первой из афинских гетер (хотя где-то героя тщетно ждали две законных его жены, благородная Фила, дочь Антипатра, и прекрасная Эвридика, вдова тирана Офелы Киренского). Голова Деметрия была повязана царской диадемой, и афинский народ дружно кричал: «Слава царю Деметрию!» Так кричал, ликуя от раболепства, тот самый народ, от имени которого еще несколько лет назад вожаки демократии гордо заявляли о том, что афиняне не нуждаются ни в каком повелителе. Он приветствовал до хрипоты своего нового царя, словно соскучившись за пять последних столетий по отеческой власти самодержца.
Голубоглазый тридцатидвухлетний красавец Полиоркет был во всем антиподом Философа из Сада и являл собой наиболее яркое воплощение того самого, враждебного и неподвластного им внешнего мира, который старались не замечать, поскольку не в их силах было его изменить, Эпикур и его последователи. Щедро одаренный от природы, особенно в военной технике, бесстрашный, уверенный в своем прирожденном превосходстве над прочими смертными, невероятно удачливый, Деметрий во многом напоминал блестящего афинянина Алкивиада, вот так же удивлявшего сто лет назад белый свет своей бесшабашной удалью, везучестью и безразличием ко всему на свете, кроме собственной особы. В отличие от сына Неокла с его «наукой жизни человеческой» сын Антигона не имел ни желания, ни времени на осмысление чего бы то ни было. Вообще как будто бы ни о чем серьезно не задумываясь, он жил широко, своенравно, сумбурно, полагаясь больше на благосклонность судьбы, чем на расчет и предусмотрительность. И жизнь представлялась ему, вероятно, подобной неспокойному, всегда таящему в своих глубинах нечто неведомое и драгоценное морю, а любимым его удовольствием было мчаться в бурю, стоя на палубе своего корабля, подставив лицо навстречу волнам и штормовому ветру.
Преклонявшийся перед непобедимым Александром, Деметрий мечтал сравняться с ним в подвигах, старался во всем ему подражать и даже голову держал слегка «склонной» вправо, как на знаменитой статуе Македонского, созданной Лисиппом. Однако в отличие от великого сына Филиппа ничто не занимало надолго ум Полиоркета, и у него не было, в сущности, никакой единой идеи и цели, хотя сначала его как будто бы привлекала мысль о возрождении Эллады. Но и эта благая мысль несколько затерялась со временем среди сменявших друг друга успехов и неудач его сумбурной политики, напоминавшей скорее некую азартную игру, чем продуманные и целенаправленные действия государственного мужа. И, пребывая почти постоянно в состоянии эйфории, блистательный сын Антигона Одноглазого до конца своих дней оставался тем же самым, не внемлющим ничьим советам, ни голосу рассудка, ни велению обстоятельств. Не впадая в особое уныние, переносил перемены судьбы, словно и вправду играл всю жизнь в какую-то большую, забавную, хотя временами и рискованную игру, не задевавшую, впрочем, его истинной сущности. Поэтому, перешагивая через временные неудачи, он вновь и вновь находил в себе силы для побед.
И вот теперь, после победы над Птолемеем, Деметрий настоящим царем, нет, даже не царем, а живым богом вознесся над Афинами. Благодарные афиняне, лицемерные, насмешливые, все больше проникавшиеся пагубным безразличием ко всему на свете, кроме выгод сегодняшнего дня, не знали уж, как и угодить, как польстить, как услужить очаровательному герою, больше всего боясь его раздражить. Казалось бы, все почести, которые только могут быть возданы смертному, уже были ему возданы год назад после победы над Кассандром. Тогда, по предложению выступавшего теперь от имени народа Стратокла, рядом со статуями тираноборцев Гармодия и Аристогитона были воздвигнуты золотые колесницы в четверку коней с изображением Деметрия и Антигона. Не успокоившись на этом, словно стремясь раствориться в самоуничижении (но при этом с неизменной пользой для себя), Стратокл придумывал все новые и новые почести. Казалось, что в каждом углу города была слышна непрекращавшаяся, пустая и наглая болтовня этого ничтожнейшего из демагогов; он так и сыпал и сыпал словами, и невозможно уже было понять, принимает ли он хоть что-нибудь всерьез, и казалось, что он откровенно смеется и над с каждым годом все более опускающимися согражданами, и даже над теми, кого предлагает увековечить.
Итак, в честь Спасителей (спасителей от Кассандра и Деметрия Фалерского, с которым, кстати сказать, Стратокл тоже прекрасно ладил) были учреждены ежегодные игры со всенародным шествием и жертвоприношениями. Был воздвигнут алтарь в честь Нисходящего, как раньше именовали только Зевса, на том самом месте, где Деметрий, сойдя с колесницы, впервые вступил на землю Аттики. Его лик был выткан на священном пеплосе богини Афины, а брак новоявленного царя, такого изящного, улыбчивого и обаятельного, с красавицей Эвридикой из древнего рода Мильтиадов (вдовой Офелы Киренского) воспринимался теперь как своего рода символ многообещающего сочетания героического прошлого Афин с реальным могуществом настоящего. Афиняне были согласны на все, они были согласны называть месяц Мунихий Димитрионом, а древний праздник Дионисий — Димитриями. У самого Полиоркета добровольное, наперебой, раболепство столь восхищавших его издали афинян начинало понемногу вызывать удивленное презрение, и все это, вместе взятое, все больше напоминало пестрый, шумный и страшный в своей бесконечности и бессмысленности фарс, который стал оборотной стороной исторической драмы греческого народа. Тот самый фарс, которого даже не могли себе представить, увидеть в кошмарном сновидении Аристид или же Перикл, в котором раз и навсегда отказывались участвовать «философы из Сада», бессильными и горестными свидетелями которого они были и который (а иначе зачем бы нам останавливаться на всем этом?) объясняет и их общественные позиции, и то почти всеобъемлющее отстранение, которое становится со временем основным содержанием их философии, даже уже не философии, а своего рода самовоспитания.
В эти годы Афины снова зажили шумной, как будто бы даже блестящей, неподлинной жизнью (подлинностью оставалось лишь их поражение), в центре которой красовалась импозантная фигура героя-царя. В пурпурной одежде, в оттороченных золотом башмаках, с двойной диадемой на голове, Деметрий охотно появлялся перед народом во время шествий и театральных представлений. Знаменитые певцы, такие, как Гермипп, состязались в исполнении хвалебных пеанов в честь новоявленного божества, позабыв и про грозного Аполлона Локсия, и про животворящего Диониса — куда им было до теперешних богов, с их все сокрушающими фалангами и крепкостенными кораблями! В одном из таких гимнов, дошедших до наших дней, так прямо и говорится: олимпийцы далеко, до них не достать, не дозваться, а всемогущий Деметрий здесь, рядом, доброжелательный и щедрый. Дни заканчивались пирами, переходящими в оргии (допускались на которые, конечно, лишь избранные), и посреди пьяного разгула, опрокинутых чаш, увядающих венков, костей, полуобнаженных флейтисток переливались в масляном свете ламп небесные светила, Солнце и звезды, земной шар и планеты, золотом вытканные на хламиде нового Повелителя Вселенной, едва ли не всерьез возомнившего себя таковым. Считая себя вторым Александром, Деметрий, не колеблясь, удовлетворял любую свою прихоть; его бесконечные любовные увлечения, весь его образ жизни давали обильную пищу для пересудов и толков. Когда-то он мечтал быть увенчанным в Афинах, теперь же этих венков, всякого рода почестей было слишком много, чтобы воспринимать их всерьез.
Веселился Деметрий, веселились афиняне, радуясь зрелищам и дармовым угощениям — своей толике кипрской добычи. Дешевое, зыбкое, в сущности, до бесконечности горькое веселье лишь по названию свободных людей, у которых нет будущего… Дрянное вино, в котором топится все — честь, достоинство, память о прошлом, отчаяние настоящего, спасительное вино, это вечное лекарство от жизни. Да еще философия (а может быть, самовнушение, самоубеждение, без которого невозможно прожить) — это лекарство для более сильных, как писал об этом впоследствии Цицерон, в целительную силу которого еще продолжали верить многие, — и поэтому в Сад спешили все новые слушатели, привлеченные молвой о необычном учении.
Так в Афинах появилась еще одна философская школа, хотя, может быть, она и не считалась таковой официально. Подобно многим просвещенным владыкам, Полиоркет снисходительно относился к философствующим, и с его милостивого согласия было отменено то категорическое постановление против философов, которое было принято после изгнания Деметрия Фалерского. Тогда, пылая гневом против Кассандрова ставленника, этого Феофрастова выкормыша, афинский народ принял постановление (поддержанное как вожаком демократов Демохаром, племянником Демосфена, так и лизоблюдом Стратоклом) о том, что никто не имеет права открывать философскую школу без разрешения Совета и народа и что нарушение этого запрета карается смертью. Противники философии — а их оказалось удивительно много, так же много, как и сто лет назад, когда изгнали Протагора и казнили Сократа, — припомнили теперь, что Аристотель воспитал Македонского, этого удушителя эллинской свободы, а Феофраст всегда показывал себя убежденным приверженцем Кассандра, апологетом македонского господства в Греции, и этому, конечно же, обучал своих многочисленных учеников. Припомнили, и сколько противников народовластия выпестовал своими непонятными речами полоумный Сократ, и сколько будущих тиранов (или, по крайней мере, стремящихся к тирании) вышло из Академии Платона. Многие с гневом обвиняли философов в том, что они, в большинстве своем даже не афиняне родом, откровенно считают демократию устаревшей и поэтому вредоносной формой правления и видят в македонской монархии единственное спасение от деградации греческого общества.
После принятия постановления Феофраст и еще несколько философов были вынуждены покинуть Афины. Однако уже год спустя оставшиеся в городе философы, и в частности перипатетик Филон, выступили с требованием отменить «противозаконное предложение» против исконных наставников народа в мудрости и нравственности, постановление было отменено и опальные феофрастовцы возвратились в Афины. Однако это отнюдь не означало, что недоброжелательность подозрения в отношении аристотелевцев и платоников уменьшились (так Демохар всеми силами пытался отстоять выше указанное постановление), и для этого имелись серьезные причины. Дело в том, что никогда не отличавшиеся особым демократизмом и академики и перипатетики занимали в последние десятилетия позиции, явно противоречащие бесплодным и яростным устремлениям последних защитников рабовладельческой полисной демократии. Почтенные схолиархи, многие из которых, впрочем, охотно взимали дань «и с согласного, и с несогласного», были откровенно равнодушны к тому, какую нравственную пользу несет проповедуемое ими учение, и «держались отчужденно от народа». Их не прельщала роль врачевателей душ человеческих, роль наставников своего с каждым годом все более скудеющего народа, в духовные силы которого, моральные качества и даже само его будущее они, как представляется, не очень-то верили. Для многих из них с афинянами прежних времен, гордым и деятельным кекроповым племенем, было покончено навсегда, и те из ученых мужей, которые еще не утратили тягу к познанию, к научному поиску, предпочитали всему остальному уединенные занятия любимым предметом — математикой, логикой, ботаникой или же грамматикой.
И поэтому собеседования в Саду недавно прибывшего молодого философа, убежденно и страстно звавшего своих слушателей к счастью, искренне сострадавшего всем растерявшимся и несчастливым, сразу же привлекли внимание тех, в сердцах которых еще не было изжито окончательно и непоправимо стремление к добру, справедливости, разумной и правильной жизни.
И при жизни Эпикура, и потом находилось немало таких, которые упрекали его в отстраненности от общественных дел, в апологии личного счастья, гармонии разума и души как основной цели жизни каждого человека. Это все так, но при этом упрекавшие забывали или же не вполне понимали, что настоящей общественной жизни у афинян, да и вообще у греков тогда уже не было. Потому что общественная и политическая деятельность в подлинном смысле этого слова может быть только в свободном, нравственно здоровом и жизнеспособном обществе, где каждый свободный, полноправный и уверенный в будущем гражданин воспринимает всех других соотечественников как братьев, когда он гордится своим отечеством как общим их домом и жизнь готов положить за него. В обществе же, в котором начинал свою великую просветительскую деятельность Эпикур, обществе, уже только формально независимом, раздираемом внутренними противоречиями и объятом скрытой тревогой, в обществе, где давно уже шла пагубная «война всех против всех», в том обществе политика превращалась понемногу в ничего, по существу, не решающий, оскорбительный для большинства и весьма выгодный для немногих фарс. И общественная деятельность, которой занимались теперь главным образом собственной выгоды ради, казалась чем-то вроде игры с заранее заданными условиями (вроде как «да-нет не говорить, черного-белого не покупать»), игры, в которую сыну Неокла играть совсем не хотелось, да он и не смог бы, даже если бы и захотел.
И поэтому все свои усилия, всю мощь разума и несгибаемого, гордого духа Эпикур направляет на выполнение той задачи, которая представлялась ему наиболее важной и, что самое главное, осуществимой, — на то, чтобы помочь своим современникам (и прежде всего тем, кто в силу неблагоприятного поворота истории оказался внизу) сохранить свое человеческое достоинство, сберечь понимание самоценности жизни и радости бытия. Он надеялся, что ему удастся помочь остаться свободными людьми тем, которых все меньше считали за таковых новые хозяева греческого мира, тем, на которых смотрели теперь только как на подданных или же возможных подданных и которые — и это было самое страшное — все больше привыкали считать себя таковыми. Все писавшие когда-либо об Эпикуре считают, что самому ему удалось достигнуть желанной гармонии разума и души, удалось «даже и во сне оставаться самим собой» и что он был действительно счастлив — счастлив тем, что имеет (а имел он весь мир), хотя жизнь вокруг располагала к этому как никогда мало. Считается, что примером всей своей жизни Садослов доказал, что человек может быть спокоен и счастлив в любой обстановке, если только сумеет поставить себя как бы вне ее, но трудно сказать с уверенностью, было ли это счастье. Можно сказать лишь одно: наш решивший во что бы то ни стало спасать род людской философ не видел пути и возможности для счастья иного рода в своем пошатнувшемся мире, хотя, возможно, и допускал, что в какие-то иные времена, прошлые или же будущие, понятие счастья имело другое наполнение и смысл…
До нас не дошло достоверных сведений о том, брал ли Эпикур какую-то плату со своих слушателей, следуя собственному тезису о том, что «обеднев, мудрец будет и деньги наживать, но только своей мудростью». Или же он довольствовался пенсией, о которой настойчиво напоминает кому-то в одном из дошедших до нас фрагментов: «Пенсию, которую… назначил… я требую, чтобы ее одну мне посылали, хотя бы были среди гиперборейцев. Именно только сто двадцать драхм в год от каждого из обоих я желаю получать». (Что это была за пенсия, остается, как уже говорилось ранее, только предполагать.) Но даже если Садослов и взимал какую-то плату со своих бесконечно благодарных ему за мудрость учеников или принимал какие-то подношения (о чем также можно судить по сохранившимся запискам), то он и сам всегда был готов поделиться последним, накормить голодного и обогреть не имеющего крова. И в любом случае он приобрел этот сад и собирал в нем учеников прежде всего для того, чтобы осуществить свою главную задачу — совместное приобщение к истине. Он видел свое призвание в том, чтобы помочь людям выжить, и больше всего боялся дешевой популярности «искусного софиста»: мудрец, писал он, «заведет и школу, но не так, чтобы водить за собой толпу, будет выступать с чтениями и перед народом, но только когда его попросят».
Наступал вечер, в саду собирались слушатели (сколько их, самых разных, перебывало здесь за долгие сорок лет просветительской деятельности Эпикура!), и убежденный в познаваемости всего сущего философ снова и снова излагал им свое материалистическое представление о мире — эту необходимейшую, по его мнению, основу для разумного счастья: «Самое главное смятение в человеческих душах возникает оттого… что люди всегда ждут и боятся вечных ужасов, как они описываются в баснях, и пугаются даже посмертного бесчувствия, словно оно для них зло… между тем безмятежность состоит в том, чтобы от всего этого отрешиться и только прочно помнить о самом главном и общем».
Неустанно повторяя в своих беседах, сочинениях и письмах тезис о том, что «ничто не происходит из несуществующего и не переходит в несуществующее», что «Вселенная всегда была такой, какова она теперь и всегда будет такой», Эпикур, так же как в Митиленах и Лампсаке, излагал основы материалистической физики, атомистической теории. Он учил о том, что «миры и всякое ограниченное сложное тело… образовались из бесконечности, причем все эти предметы, и большие и меньшие, выделились из особых скоплений материи» и что «все опять разлагается, одно — быстрее, другое — медленнее». Он рассказывал собравшимся в саду о бесчисленных мирах, затерявшихся в просторах Вселенной. Они поднимали глаза к ночному огромному небу, откуда бессмертный Аргус взирал на их все еще такую прекрасную эллинскую землю, и, следуя мысленным взором за своим вдохновенным наставником, словно бы видели эти миры, возможно, во многом подобные нашему, «ибо никто не может доказать, что в таком-то мире могли быть заключены и могли быть не заключены такие-то семена, из которых составляются живые существа, растения и все остальные предметы, которые мы видим в этом мире».
Он рассказывал ученикам и о нашей Земле, о том, как под действием солнца и влаги зародилась когда-то на ней жизнь, о прекрасном младенчестве планеты, когда, как писал об этом впоследствии Тит Лукреций Кар, «травой всевозможной и зеленью свежей всюду покрыла земля изобильно холмы и равнины», когда «крупней были твари… и больше их порождалось Землей молодой». Однако мощная эта, жизнеобильная юность земли уже миновала, — считал Эпикур, — да и не только наша планета стареет, не только земля, «утомившись с годами», становится неплодородной, но и весь мир наш заметно ветшает и клонится к распаду, который неизбежно наступит по истечении определенного, неизвестно сколь долгого времени. Все преходяще и конечно во Вселенной, формы вечно сменяют друг друга, потом повторяются снова, и в конечном итоге оказывается, что во Вселенной не происходит ничего нового, кроме «раз и навсегда возникшего безграничного времени…». Самому Эпикуру эта великая, главная истина помогла стать как бы выше мучительных аномалий и несообразностей жизни, он надеялся, что осознание преходящести всего сущего облегчит и душевные муки его учеников.
Что же делать, если им выпало жить в такую тяжелую пору, когда о судьбах отечества не хотелось и думать и было не в их возможностях изменить что-либо к лучшему?.. Их собственный мир — неповторимый мир полисных Афин — распадался у них на глазах, но что значило его очевидное крушение в сравнении с вечными процессами распада и становления во Вселенной? Значит, их время прошло, наступала пора смены форм, неизбежная и неостановимая, смены одних народов другими, сколько таких народов исчезло с лица земли или же превратилось в другие, позабылись даже названия… От скольких могущественных некогда государств остались всего лишь воспоминания?.. И если их мир навсегда уходил, то им, тем, которые не мыслили другой жизни, не представляли себя в качестве чьих-то подданных, а тем более рабов, оставалось лишь одно — уйти вместе с ним. Но уйти достойно, не спеша, без панической, ничего не меняющей суеты, как подобает свободным навеки веков людям, пережившим славу своих предков и тем не менее достойных ее.
Свобода — вот что было главной, в сущности, единственной целью Эпикуровых бесед, обретение свободы хотя бы внутренней, если уж нет свободы внешней; свобода правильно мыслить и жить разумно и радостно. Обоснованию возможности личной свободы каждого человека служила вся физика Эпикура, его учение о пребывающих где-то в междумириях богах, его насмешливое отрицание демокритовской сквозной необходимости, «с которой нельзя требовать отчета» и «которая еще хуже верований в богов». Глубоко убежденный в том, что «сами обстоятельства научили и принудили человеческую природу делать много разного рода вещей и что разум впоследствии совершенствовал то, что было вручено природой», Эпикур не оставлял при объяснении развития и совершенствования человеческого общества места ни для мифических титанов-благодетелей, Прометея и Эпитемея, даровавших несчастным смертным огонь и приобщивших их ко всякого рода ремеслам и навыкам, ни для промысла некоего вселенского Разума. Эпикурово учение о мироздании при всей наивности отдельных его толкований и определений — это прежде всего непримиримый, страстный развернутый ответ на идеалистические построения Платона и его последователей, на их перечеркивающие самоценность всего земного теории. Это ответ человека от мира сего, каким бы жестоким и страшным он порой ни казался, человека, убежденного в единственной реальности нашего бытия и отвергающего с презрением вечное царство высших идей как лживое утешение для слабых духом и недостаточно просвещенных.
Ставя тезис о возможности личной свободы во главу всей своей системы, Эпикур призывал учеников отринуть во имя этой драгоценной свободы как несущественное, лишнее, ничтожное, многое из того, что принято считать необходимым, и прежде всего заботы о материальном благополучии; призывал стать выше печальной и скудной повседневности, сделаться сильнее обстоятельств, грозящих подточить независимость духа и мысли: «Эти рассуждения будут полезны и многим другим, особенно тем, которые лишь недавно стали вкушать истинное учение о природе, и для тех, которые погружены слишком глубоко в занятия каким-нибудь обыденным делом». Свои взгляды Садослов излагал не только в беседах и многочисленных сочинениях, но и в письмах к ученикам и друзьям, живущим в других городах и землях, и эти письма (из которых до нашего времени полных дошло всего четыре, а также довольно многочисленные фрагменты) тоже были значимой частью его широкой просветительской деятельности, благодаря которой слава о нем пережила века.
Вот что пишет Эпикур в известном письме к Пифоклу: «Принес мне Клеон письмо от тебя… Ты просишь прислать тебе краткое, небольшого размера рассуждение о небесных явлениях, чтобы легко помнить его, потому что то, что написано нами в других сочинениях, трудно запомнить. Хотя, как ты говоришь, ты постоянно их носишь с собою. Мы с удовольствием приняли твою просьбу… поэтому, окончив все остальные наши писания, мы исполним твое желание…» Эти письма и рассуждения сформировали целое поколение материалистически мыслящих людей, что вызывало нескрываемое недовольство тех (а их было достаточно во все времена), которые все дела на нашей земле объясняли промыслом божьим, снимая тем самым в значительной мере ответственность с самих людей за их многочисленные ошибки и преступления. Но даже такие глубоко несогласные с Эпикуровым учением мыслители, как Плутарх, признавали нравственную состоятельность этого учения с его главным тезисом — отрицание личного преуспеяния, обогащения, овладения властью над себе подобными как цели жизни: «Одни считают, что в основе всего суть атомы и пустота? Мнение, конечно, ошибочное, однако ни страданий, ни волнений, ни горестей оно за собой не влечет. Другой полагает, что величайшее благо в богатстве? Вот это заблуждение ядом разъедает душу, выводит человека из равновесия, не дает ему спокойно спать, подстрекает и разжигает, толкает в пропасть, бросает в петлю, лишает мужества»…
И действительно, прежде всего против этого, столь красочно описанного Плутархом зла предостерегал своих слушателей Садослов. Он стремился научить их довольствоваться малым и тем самым сохранить себя от раболепства, без которого, как он считал, невозможно достигнуть преуспеяния, а также сделать неуязвимыми перед превратностями жизни. Вместе со своими последователями он старается выработать такие понятия о разумной, правильной и в то же время радостной жизни, которые бы соответствовали печальной реальности их времени и были бы действительно полезны для людей. Ибо, если раньше, в далекие, кажущиеся теперь почти что мифическими времена Солона или же Эсхила, понимание правильной жизни было как будто бы определено раз и навсегда (в изречениях на стенах Дельфийского храма, в старинных поэмах и передаваемых из поколения в поколение гражданских традициях), то теперь это все почти что утратило первоначальный смысл и значение. И если раньше считалось не подлежащим сомнению, что человек должен жить так, как положено, и положено не им самим, но свыше, от века, по неизвестно кем заданному закону добра и справедливости (о чем не раз напоминал согражданам свято верящий в непреложные закономерности жизни бессмертный Софокл), то теперь очень мало кто верил в этот высший закон, полагаясь больше на собственную предприимчивость и полное равнодушие к себе подобным.
Жизнь вокруг принимала все чаще такие жестокие и необъяснимые очертания, насилие, лицемерие и зло казались многим настолько непреодолимыми, что говорить о некой высшей справедливости становилось все труднее. И тем, кто еще дорожил человеческим своим первородством, приходилось искать законы и правила для жизни не вовне, не в коллективной морали и мудрости гражданского общества, которого, в сущности, уже не было, но в тех нравственных устоях, в тех исконных понятиях зла и добра, которым, как им хотелось верить, наделен от природы каждый человек и которые следует совершенствовать посредством просвещения и самовоспитания. Этот поиск непреложных законов морали и нравственности начал уже Сократ, верящий в истинное, здоровое зерно в каждой человеческой душе, по этому же пути пошел и Эпикур, призывавший своих последователей навести порядок прежде всего в своем внутреннем мире. Он советовал им постараться устранить хотя бы тот источник страданий и неприятностей, который кроется в особенностях их собственного характера, в их привычках и убеждениях, если уж представляется совершенно невозможным повлиять на причины внешние: «не будем наши неприятности сваливать на обстоятельства».
Как при жизни, так и впоследствии Эпикуру ставили в упрек прежде всего индивидуализм его этики, то, что он учит людей жить правильно и хорошо прежде всего для себя самих. Но, как уже говорилось ранее, это обвинение представляется несколько поверхностным и упрощенным, если вспомнить, что в то время, когда он начал учить философии в Афинах, интересы народа и государства далеко не совпадали, и впоследствии этот процесс нарастал. Не было больше афинского общества, заботящегося о каждом своем члене, не было сильного и процветающего государства, способного учитывать и блюсти интересы всех граждан, и поэтому каждый должен был рассчитывать прежде всего на себя самого да на поддержку узкого круга близких людей. Кроме того, обвиняющие Эпикура в индивидуализме не учитывают того, что, призывая — в обстановке нарастающего имущественного неравенства и дегуманизации — к отстранению от всякого зла, к неучастию в насилии и неправедном дележе чужого добра, Садослов учил, как быть полезным людям хотя бы тем, что ты не делаешь им зла. Вся греческая жизнь поворачивалась так, что об активном добре, о гражданской борьбе за справедливость и человечность не приходилось и думать (печальная участь Демосфена, достойнейшего из афинян этого тягостного времени, служила тому примером), и поэтому единственное, что мог сделать честный, порядочный, сострадающий своему народу человек, — это не участвовать в угнетении, предательстве, насилии и обмане.
И еще: у многих, обращавшихся к этике Эпикура, закономерно возникал недоуменный вопрос: как можно было всерьез говорить о радости, об удовольствии как цели жизни, если дела вокруг обстояли настолько плохо? И это тоже очень трудно, почти что невозможно понять людям, помыслами своими устремленным в будущее, верящим в это будущее и нередко жертвующим ради него настоящим. Что же касается Эпикура и его сподвижников, то представляется возможным говорить о том, что для них этого будущего — как будущего их народа, их города, всего их полисного мира — не существовало. Люди глубокого ума, знакомые с законами развития человеческого общества, они не верили в какой-то новый расцвет Эллады, с глубокой горечью прощания осознавая, что какие бы новые поколения ни пришли им на смену в вечной эстафете жизни и цивилизации на нашей планете, какой бы новый, быть может, значительно более прекрасный и совершенный мир они ни создали, это будет уже другой формы общество, другие люди, другие представления и ценности…
Уходила свобода, уходили достоинство и процветание, но ведь еще оставалась их древняя прекрасная земля, по-прежнему зеленели на ней оливковые рощи и виноградники, по утрам животворящее солнце золотило мрамор Акрополя и блестящие спины дельфинов разрезали соленую гладь вечносущего моря. По вечерней прохладе торопились в Сад дорогие друзья, любознательные ученики, умные, просвещенные, тонкой души люди, кружились грузные серые бабочки над ночными цветами, и из непостижимой дали других миров глядели на них, рассуждающих о тайнах космоса и законах бытия, такие же разумные существа. И в душах собиравшихся в Саду опять воцарялось и крепло великое чувство, бесценное осознание того, что все-таки мир наш неповторимо, бесконечно прекрасен и жить на этой земле — счастье.
И получалось (хотя это трудно понять людям, живущим в другие, более благополучные и правильные времена), что можно радоваться жизни, даже если все вокруг было совершенно не так, как хотелось бы, как должно было бы быть. Что можно поставить себя как бы вне окружающих несообразностей, если тебе не дано их исправить. И если ты сам и твои близкие здоровы и невредимы, если тебе удалось достигнуть хотя бы некоторого «благосостояния тела» (то есть если ты имеешь хотя бы кров и обед) и если в душе твоей наконец воцарился вожделенный покой, ты можешь быть доволен и счастлив, даже если отечество твое клонится к закату и кругом распоряжаются чужеземцы. Потому что ни ты, ни кто-либо другой, будь то даже бессмертный бог или всемогущий герой, уже не в силах что-либо исправить, что-то изменить, повернуть вспять никому не подвластное течение времени; потому что для полисной Греции и для тех ее сыновей, которые просто не представляли себе другого способа жить, оставалось только одно — спокойно, с достоинством, не раболепствуя и не подличая, оставить навсегда просцениум истории, на котором уже разворачивали великолепное и красочное действо другие протагонисты. Это было именно так, иначе было бы невозможно, непонятно и ненужно спасительное учение Садослова, спасительное для тех, кого не прельщали предбудущие существования, какие-то иные, неземные миры и которым хотелось по-человечески, радостно и достойно, прожить отпущенный смертным недолгий век на нашей, единожды нам данной земле…
Считается, что на формирование этики Эпикура большое влияние оказало учение Аристиппа из Кирены, и это не раз подчеркивали противники эпикуреизма: «А ученик Сократа Аристипп основал так называемую киренскую школу, от которой Эпикур взял основу для изложения своих конечных выводов». Действительно, Аристипп, живший столетие назад (он умер в 365 году до н. э.), положил понятие радости или удовольствия в основу своего учения, которое приобретало все большую популярность по мере того, как изживали себя представления о некоем высшем предназначении человеческой жизни, о важных делах и свершениях как ее содержании, по мере того, как становилось все более очевидным, что конечные результаты деятельности людей чаще всего оказываются прямо противоположными первоначальным их замыслам.
Прилежный ученик Сократа, Аристипп вынес совершенно иные уроки из многолетнего общения с бессмертным правдоискателем и бессребреником, чем, скажем, мечтающий об усовершенствовании рода людского Платон: он вынес убеждение в бесполезности нравственной проповеди и невозможности достучаться до глухих, закоснелых в невежестве и самомнении обывательских душ. Ему казалось совершенно бессмысленным тратить время и силы на тех, которые безжалостно и злорадно умертвили его учителя, ничего для себя лично не желавшего и сострадавшего всему роду людскому. Аристипп не верил в возможность идеального общества, такого, каким оно представало в сочинениях Платона, а тем более в возможность осуществления хотя какой-то части этих теоретических построений при снисходительной поддержке просвещенного монарха или тирана. Умеющий «применяться ко всякому месту, времени или человеку, играть свою роль в соответствии со всею обстановкой», способный с одинаковой легкостью «и принять и пренебречь», Аристипп имел успех при дворе сицилийского тирана Дионисия (того самого тирана, которого идеалист Платон хотел сделать орудием осуществления своих преобразовательных начинаний и который в конце концов едва не уничтожил надоевшего ему своими призывами к совершенству философа). Суровый киник Диоген называл Аристиппа «царским псом», но, думается, без достаточных к тому оснований: в том-то и дело, что «ничего не принимающий всерьез», любивший роскошь, но совершенно равнодушно расстававшийся с ней, так же как и с деньгами, Аристипп никогда не был ничьим слугой и ничьим подданным.
Никого не признавая выше себя, жизнелюбивый киренаик смотрел сверху вниз на тех, чьими милостями пользовался, словно играя в какую-то забавную, но совершенно его ни к чему не обязывающую игру, которую можно прервать сразу и вдруг, если только вздумается. И были правы те, которые говорили ему: «Тебе одному дано ходить одинаково, как в мантии, так и в лохмотьях», потому что любивший пожить хорошо ученик Сократа знал про себя совершенно определенно и твердо, что все на свете суета и ложь, все видимость, все в конце концов проходит и ты остаешься в своей первозданной наготе и скудости, наедине с пространством и временем. От своего бессмертного наставника в мудрости Аристипп усвоил самую главную истину: сила, управляющая нами, наш закон, наша главная власть, наша судьба, наконец, в нас самих, человек сам определяет свою жизнь и особенно человек, осознающий бытие, причастный к философии. И поэтому на вопрос, чем философы превосходят остальных людей, он отвечал с уверенностью: «Если все законы уничтожатся, мы одни будем жить по-прежнему».
Об учении киренаиков, последователей Аристиппа, дошедшем до нас главным образом в пересказе античных авторов, известно, что для них «телесное наслаждение… является конечной целью», что наслаждение понималось ими как активное состояние, как результат действия, движения; что они считали «телесные наслаждения много выше душевных», а телесные страдания — много тяжелее. Подобно большинству философов, киренаики также хотели научить людей, как быть счастливыми, как прожить радостно отпущенный им век, но понимали эту радость, это счастье уж очень приземленно, пожалуй, даже примитивно: «Конечное благо есть частное наслаждение, а счастье — совокупность частных наслаждений, включающая также наслаждение прошлым и будущим». За это их справедливо осуждали многие, взыскующие высшего смысла жизни и верящие в более важное предназначение рода людского, которым претили, казались совершенно неприемлемыми такие вот тезисы киренаиков: «наслаждение является благом, даже если оно порождается безобразнейшими вещами» — и которые считали такого рода гедонизм просто опасным для общества.
Однако те, которые, подобно Плутарху, утверждали, что «киренаики пьют из одного ковша с Эпикуром», упрощали действительную взаимосвязь между этими, как будто бы похожими, но в то же время существенно различающимися в самом главном учениями. Об этом свидетельствует и та затянувшаяся на долгие годы полемика эпикурейцев с киренаиками, отзвуки которой дошли до наших дней. Об этом совершенно недвусмысленно пишет и сам Эпикур: «Итак, когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствие распутников и не удовольствие, заключающееся в чувственном наслаждении, как думают некоторые… неправильно понимающие, но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не наслаждения мальчишками и женщинами, не наслаждения рыбою и всеми прочими яствами, которые доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее лживые мнения, от которых душу объемлет величайшее смятение».
Несклонные отождествлять эпикуреизм с учением киренаиков отмечают также и другие, более второстепенные различия в их понимании радости и наслаждения. Так, киренаики не признавали вообще удовольствие воспоминаний, веря только в наслаждение этого дня, в радость действительную, а не умозрительную: «Наслаждение не осуществляется воспоминанием о благе или ожиданием, как думал Эпикур, ибо душевное движение ослабевает от времени». А Эпикур, в свою очередь, не признавал чисто телесное, только сиюминутное наслаждение последователей Аристиппа: «Конечно, тело волнуется только настоящим, а душу волнует и прошедшее, и настоящее, и будущее: таким образом, и наслаждение души является более значительным». Полемизируя с киренаиками, Эпикур постоянно подчеркивал, что для него удовольствие — это прежде всего отсутствие страданий, что это отнюдь не самоцель, а лишь необходимое условие счастливой жизни.
Так же как и бессмертный учитель его Демокрит, и сын Неокла испытывал бесконечное презрение к тем «свиноподобным людям», которые, наподобие червей, валяющихся в грязи и навозе, купаются в потоках удовольствия и пожирают ничтожные и безумные предметы роскоши. Для него всегда оставалось не подлежащей сомнению истиной, что «любовь к деньгам, приобретенным нечестным путем, нечестива; к деньгам, приобретенным честным путем, позорна; грязная же скаредность непристойна даже при честности». Радость для него — это не обладание чем-то вещественным, но покой, умиротворение, не нарушаемое ни физическими, ни душевными страданиями. Так, останавливаясь на понимании слова «радость» в письме к своему ученику Менекею, Эпикур подчеркивает, что все сводится только к тому, «чтобы не болеть телом и не смущаться душой». Это правильное представление об удовольствии как безмятежности души, отсутствии страданий Садослов считал самым важным при определении всего строя жизни, образа мыслей, в конечном счете судьбы каждого человека: «С него начинаем мы всякий выбор и избегание: к нему возвращаемся мы, судя внутренним чувством, как мерилом, о всяком благе». И с этим были совершенно не согласны любящие пожить широко и шумно, не придающие никакого значения душевным страданиям киренаики: «Удаление страдания, как говорится у Эпикура, не представляется… наслаждением… ведь отсутствие страдания есть как бы состояние спящего».
И в то же время, утверждая, что «конечная цель есть душевное благосостояние», Эпикур всегда понимал — и с каждым десятилетием все больше, — что необходимой и естественной основой «душевного благосостояния» является благополучие телесное, что никто не может быть действительно спокоен и счастлив, как бы он это себе ни внушал, в голоде, угнетении, нищете. Для него была поистине священной здоровая, разумная радость жизни во всех ее проявлениях, и он всегда стоял на том, что надо сначала накормить, обогреть, приветить, а потом уже обучать философии, проповедуя умеренность. Но также твердо он стоял на том, что телесные потребности должны быть разумными, не выходящими из рамок необходимого для поддержания жизни: «Плоть воспринимает пределы удовольствия как безграничные… Разум же, достигнув понимания крайнего блага плоти и его предела и рассеяв страх относительно вечности, доставляет нам совершенную жизнь, и мы уже нисколько не нуждаемся в безграничном времени. «Понимание удовольствия у Эпикура настолько емко, настолько внутренне диалектично, содержит в себе столько, казалось бы, взаимоисключающих моментов, он настолько твердо определил для себя раз и навсегда, что лучше вообще обойтись без удовольствия (и прежде всего телесного), чем поступиться ради него своими главными принципами, что он может выдвинуть следующий тезис: «Мы считаем, что многие страдания лучше удовольствия» — тезис, полностью перечеркивающий всякое представление о нем как о вульгарном гедонисте.
На основании того немногого, дошедшего до нас, что свидетельствует о внутренней жизни Садослова, мы можем догадываться о тех надеждах и разочарованиях, о тех горьких страданиях его созданной для добра души, которые суждено ему было пережить, прежде чем, бессильный что-либо изменить в не устраивающем его мире, сын Неокла достиг наконец тихой гавани своей пресловутой атараксии — последнего прибежища для тех, кому некуда плыть дальше… И понадобились, несомненно, долгие годы мучительного борения духа, уязвленной человеческой гордости, может быть, даже спасительного самовнушения, прежде чем он пришел к выводу, что «конечная цель… — это состояние, при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, не смущается ни страхом, ни суеверием, ни иной какой-нибудь страстью». Сколь многое нужно было отринуть (и прежде всего еще до конца не изжитые, кровоточащие представления об общественной справедливости, нужности каждого своему блюдущему общий интерес отечеству в гражданском долге каждого), сколь о многом надо было позабыть навсегда (и прежде всего об их общей свободе и благополучии) для того, чтобы сделаться в конце концов совершенно спокойным, бессильным и философствующим свидетелем печального угасания своего славного отечества!
Каждый, кто не утратил способности мыслить и чувствовать их общую беду, пытался дать свой ответ — и философской концепцией, и самим своим образом жизни — на то состояние подчинения, в котором оказались афиняне и вообще люди Эллады, не имеющие, в сущности, даже реальных надежд на восстановление свободы и независимости. Но, вне зависимости от этого ответа, в душах все более укоренялось мертвящее чувство безысходности, вычеркнутости из настоящей, подлинной жизни, из истории, и это чувство было главной причиной того страдания, от которого стремится уберечь своих последователей Эпикур. Это главное страдание — от утраченных навеки свободы и человеческого достоинства — привилегии свободных и обеспеченных — разветвлялось, точно зловещее ядовитое дерево, на целые заросли более мелких, но не менее мучительных душевных страданий, — и в атараксии, безразличии к этим страданиям, видит Садослов то главное удовольствие, которое он называет «началом и концом, альфой и омегой счастливой жизни».
Впрочем, было бы ошибочным преувеличением утверждать, что это общее страдание ощущалось так же остро всеми соотечественниками и современниками Эпикура, хотя ощущение их исторического поражения, пусть даже смутное, невысказанное, не вполне осознаваемое, лежало в основе всего их способа быть, определяло их жизненные позиции. Как и во все времена, большинство людей жили, подчиняясь прежде всего неумолимому течению обстоятельств, не особенно анализируя эти обстоятельства и еще меньше самих себя. В большинстве своем они просто приспосабливались к не зависящему от них ходу вещей, приучались жить, чтобы выжить, не особенно прислушиваясь к советам философов. Не очень жаловали ученых мужей, и особенно таких, как Эпикур, и те немногие, не утратившие еще гражданской активности афиняне, которые все еще надеялись на восстановление былого полисного строя, могущества и процветания города, тем более что освободитель Деметрий выказывал себя как будто бы сторонником демократии. Как и во все времена, значительная часть простого народа относилась весьма недоверчиво к заумным, на их взгляд, и, главное, опасным, вредоносным учениям тех, которые утверждали, что им ведомы закономерности мироздания и бытия. Большинство вообще не нуждалось в какой-либо истине, предпочитая жить в спасительных сумерках незнания и в то же время в твердой, инстинктивной уверенности в том, что жизнь все равно продолжается, а это в конце концов, самое главное.
Ничем особенно не занятые обыватели, вынужденно праздные бедняки, не знающие зачастую, чем будут обедать вечером; модные щеголи с коротко подстриженными на египетский манер волосами и лаконскими посохами в нежных, как у женщин, руках; торговцы всякой мелочью, болтливые старцы, без устали хвастающие былыми подвигами, — все они толпились на перекрестках, сидели на полукруглых скамьях, греясь на солнце, с утра пораньше шатались в торговых рядах, приценивались, пробовали сласти и фрукты и уходили, ничего не купив. После полудня спасались в прохладе портиков, с увлечением обсуждая дела полководцев и царей, за неимением достойных упоминания дел собственных. Казалось, что вместе со свободой афиняне утратили и почти все былые качества (а вернее, растеряли их вместе с сотнями своих наиболее доблестных сынов в затянувшихся на столетие войнах), навсегда отбросили как ненужную серьезность поведения и помыслов. Агора, где вершились когда-то судьбы отечества, превратилась в забитый роскошными товарами и всяческими яствами рынок, а потомки тех, кто определял здесь некогда с ораторской трибуны ход эллинской истории, превратились в самозабвенных болтунов, о которых с горьким бесстрастием так повествовал Феофраст: «Бывало, у иных даже похищали плащи, когда они собирали вокруг себя толпу зевак в банях. Других же, когда под портиком они одерживали немало побед, заочно осуждали в суде. Третьи в словесных штурмах брали даже города и пропускали свой обед».
И если раньше людей кекропова племени сокрушали, если верить старинным поэтам, сильные страсти: страдания неразделенной любви, ревность, жажда отмщения, стремление к первенству, то теперь главной страстью сделалась жадность, если только можно назвать этим грозным словом столь низкое чувство. Все больше появлялось — и прежде всего среди людей обеспеченных и даже богатых — тех отвратительных, поистине патологических скупердяев, в отношении которых Аристотель с презрением констатировал, что они в состоянии разрезать пополам даже зернышко тмина, и различные типы которых вывел в своих «Характерах» Феофраст: «Если слуга разобьет горшок или миску, то крохобор взыскивает с него стоимость, вычитая из харчей… Никому он не позволит ни съесть фиги из его сада, ни пройти через его поле, ни поднять опадышей маслины или финика… Когда приходится угощать своих земляков, он подает им мелко накрошенные куски мяса». И обычным становилось, что те, которые прямо-таки набивали свои дома восточными коврами, драгоценными вазами, скупали жемчуг и камни, тщательно учитывали после обеда половинки недоеденных редек…
Утратив свободу и чувство гражданственности, привыкнув к вынужденной праздности и всякого рода подачкам (сначала — государства, а потом — македонских Царей и военачальников), афинский демос превращался все больше в охлос — нахальное и довольно бесчестное скопище презирающих друг друга и завидующих богачам обывателей, в сборище суетливых щеголей и молодящихся болтунов, в ту самую «пустую, жадную и ничтожную толпу», о которой с вполне оправданным возмущением высказывались философы. Против опасности поощряемого демагогами паразитизма, против чрезмерного пристрастия ко всякого рода зрелищам, празднествам и угощениям на казенный счет предостерегали афинян и Аристотель, возмущавшийся тем, что государственные «деньги уходят как в дырявую бочку», и Демосфен, справедливо обвинявший сограждан в стремлении только брать от общества, ничего не давая взамен: «Вы же думаете, что надо как-то так, ничего не делая, получать деньги на празднества». Но если раньше стремились получать как можно больше от казны, то теперь, когда она совсем опустела, приходилось рассчитывать главным образом на подачки новых властителей и, добросовестно расплачиваясь за угощения и зрелища, в надежде на новые, еще более изобильные и пышные, афиняне становились все больше «льстецами из льстецов».
Пагубное равнодушие ко всему на свете, кроме их собственного благополучия (жалкого благополучия живущих на подачки), какая-то преступная беспечность в отношении всего того, что когда-то казалось жизненно важным, все более овладевали потерпевшим поражение народом, инстинктивно ощущающим, что подлинного самостоятельного будущего у него больше нет. И последние из граждан и патриотов имели все основания для того, чтобы вслед за Демосфеном напоминать своим, впадающим все в большее ничтожество соотечественникам о том, что предки их «имели основание гордиться собой», а они, ныне живущие, «такую возможность утратили». Но никаким речам, никаким призывам и упрекам уже было не сделать афинский народ тем, чем когда-то он был, вернуть ему независимость, достоинство и силу. Потому что это был уже даже, в сущности, не народ, а всего лишь население, население сначала македонской, а потом римской провинции.
Античные авторы оставили нам ряд внушающих отвращение и ужас портретов демагогов этого печального, последнего для афинского полиса времени, и в числе их — Стратокл, заправлявший, как уже говорилось, в эти годы делами города. Корыстолюбивый, невежественный и недалекий, нагло присвоивший себе право — при отсутствии настоящих вождей и патриотов — выступать от имени народа, он пользовался этим правом с неизменной для себя выгодой более сорока лет. Современники пишут о нем как о легкомысленном и ничтожном болтуне, непревзойденном в лести и низкопоклонстве, откровенно презиравшем и морочившем сограждан. Так, в пересказе Плутарха до нас дошел следующий анекдот об этом очередном слуге афинского народа: когда однажды гетера Филакион, жившая в доме Стратокла, принесла с рынка бараньи мозги и шеи, любивший пошутить политикан воскликнул: «Э, да ты купила такие вещи, которыми мы — люди политики — играем, как мячами». И он действительно играл, играл чуть ли не полвека, ничего не принимая всерьез, блюдя только собственную выгоду и твердо придерживаясь одного-единственного принципа — держать нос по ветру: и если сегодня были в почете борцы за демократию, Стратокл с энтузиазмом предлагал почтить память оратора Ликурга, оказавшего в свое время сопротивление Александру, окажись в почете олигархия — он с тем же пылом ратовал бы за постановление в честь Фокиона. Сейчас же Стратокл больше всего заботился о том, чтобы угодить великолепному Деметрию, чтобы не упустить ни крохи из проплывавших мимо царских милостей. И пусть умники, вроде новоявленного философа из Сада, отказывали таким, как Стратокл, в праве считаться существами разумными и мыслящими, что же из этого: те были хозяевами в мире воображаемом, эти же — в настоящем.
В Афинах все знали цену Стратоклу, как знал его истинную цену и сам Полиоркет, порядочные люди глубоко презирали ловкача-демагога, и тем не менее он находился у власти целых сорок лет, все добровольно подчинялись ему — и в этом-то было самое страшное. Самое страшное было в том, что большинству афинян уже сделалось безразлично, кто заправляет теперь делами города — подлинные ли патриоты, пекущиеся об отечестве и согражданах (каких уже почти не было, перебитых и уничтоженных за долгие десятилетия войн и внутренних смут), или же лицемеры, становящиеся с каждым десятилетием все более дешевыми и бездарными политические актеры, в сущности, изменники, обладающие, впрочем, самым ценным в создавшемся положении качеством — умением ладить с новыми хозяевами эллинского мира. Самое страшное было в том, что большинство афинян и особенно образованных и разбирающихся немного в закономерностях общественного развития уже ничего не ждали от будущего и не надеялись на восстановление прошлого — свободы и действительного народовластия. Хотя еще находились в городе мужи, не утратившие подобных надежд и все более открыто призывавшие сограждан еще раз попытаться восстановить достоинство и независимость. Наиболее заметными из них были в это время Олимпиодор, поэт Фидиппид и особенно Демохар, стремившийся быть продолжателем линии своего дяди Демосфена, «человек твердого характера, одаренный значительным талантом и воодушевленный горячей любовью к отечеству».
Обладая гордым духом, достойным его доблестных предков, чувством долга перед родиной и ответственностью перед своим все более впадавшим в политическую апатию народом, Демохар становится во главе тех немногих, что ратовали за действительную, а не с милостивого соизволения освободителей демократию и призывали освободиться не только от притязаний Кассандра (что казалось уже достигнутым), но и от великодушного господства Полиоркета. Верный принципам старинного полисного народовластия, чуждый корысти и лицемерия, Демохар отошел от всякой общественной деятельности при тирании Фалерского (единственное, что он мог сделать) и не раз открыто высказывался против олигархии. С той же прямотой он предостерегал теперь сограждан от благостных упований на широковещательный демократизм молодого царя, считая его честолюбивые претензии на «освобождение» греков и восстановление их былой славы не менее опасными, чем откровенный монархизм Кассандра. Однако призывы эти падали втуне, потому что жизнь вокруг, к сожалению, поворачивалась так, что быть изменником оказывалось и безопаснее и выгоднее, чем патриотом. Потому что десятилетия предшествующих смут, печальный опыт неудавшихся попыток вернуть былое афинского народа (впрочем, никто не представлял себе достаточно отчетливо, какое же былое, какое прошлое хотелось бы им вернуть) научили афинян тому, что всякий раз в результате восстания или переворота власть в государстве оказывалась почему-то в руках тирана или же иноземного царя. Причины этой фатальной диалектики, скрытые механизмы общественного перерождения оставались неясными для большинства народа, пережившего лучшую, деятельную пору своей истории, однако явная безрезультатность всех усилий изменить что-либо к лучшему в их общем печальном положении делала людей все более равнодушными даже к собственной судьбе, лишая их воли к сопротивлению. И поэтому Демохар и его сторонники, вынашивающие планы полного освобождения от чужеземцев, должны были приложить немало усилий, чтобы подвигнуть соотечественников на новое восстание, на новую попытку восстановления независимости, попытку, исторически бесперспективную.
Эта бесперспективность казалась аксиомой для большинства философов того времени (и за это их презирали, ненавидели и стремились изгнать из города такие, как Демохар), в том числе и Эпикуру, который при всей его ненависти к македонянам надеется помочь своему народу, во всяком случае, лучшей его части другим образом — посредством просвещения, укрепления его разума и духа. Он надеется спасти соотечественников от постепенного превращения в «толпу, насыщающуюся, подобно скоту», спасти от губительного для их душ поворота истории и, в конце концов, от самих себя. Он берется за сложнейшую задачу — сохранить человека, свободного и мыслящего, живущего в соответствии с собственным разумением, в тех, кому неумолимое время готовило печальную участь почти что рабов. Он берется за разрешение задачи не менее величественной и трудно достижимой, чем та, которую ставили перед собой последователи Демосфена, и в свои тридцать шесть — сорок лет еще твердо надеется на ее осуществление. Сам сумевший подняться над несообразностями бытия и ловушками истории благодаря силе разума и звания, Садослов надеется поднять таким образом и других, хотя бы тех, которые захотят ему поверить, приобщиться к его философии, а таких становилось с каждым годом все больше.
Итак, для того чтобы жить разумно, правильно и радостно, — учил Эпикур собиравшихся в Саду, — следует прежде всего определить подлинную цель жизни, чтобы свести затем к ее достижению все свои действия: «Следует иметь в виду действительную цель жизни и всю достоверность непосредственного восприятия, к которой мы сводим наши мнения, в противном случае все будет полно сомнения и беспорядка». Для самого Эпикура этой главной, единственной целью виделась, как уже говорилось, свобода, та высшая свобода, которая доступна лишь истинно разумным, знакомым с закономерностями мироздания и бытия людям, и мудрец для Садослова — это человек, умеющий сочетать в своей жизни, в своих мнениях и действиях индивидуальную свободу с теми непреложными необходимостями, по которым развивается все сущее. Жить так, как хочется, и в то же время — как положено, как следует, не нарушая ни законов нравственности, ни общепринятых установлений, — вот чему стремится научить своих последователей Эпикур. А для этого, как он считает, надо прежде всего разобраться в том, чего же хочется, навести порядок в собственных желаниях и устремлениях — не ложные ли они, не вздорные, не надуманные, с тем чтобы «направить всякий выбор и избегание к здоровью тела и безмятежности души».
Извечно противоречивая и щедрая на парадоксы жизнь складывалась так, что рядом с нищетой, безнадежностью, нарастающим общественным неравенством процветала праздная роскошь, добытая чаще всего отнюдь не праведными путями, варварски-пышный образ жизни, вызывавший бессильную зависть, тщетное стремление подражать, те самые «вздорные желания», которые были когда-то просто немыслимы в Спарте и осуждались в Афинах. Вещи, а вернее сказать, вещицы, изысканные, редкие и дорогие, золото, заморские ткани и лакомства становятся вожделенным предметом устремлений людей, лишенных настоящей общественной жизни, оскудевающих духом, для обывателей, свободные и доблестные деды которых презирали всяческое барахло и побрякушки как жалкую утеху варваров и рабов. И поэтому главное, как учил Садослов, — не дать заполонить себя изнутри этому презренному варварству — тяготению к деньгам и вещам, при котором невозможно остаться свободным человеком, поэтому «всем желаниям следует предъявлять такой вопрос: что со мной будет, если исполнится то, чего я ищу вследствие желания, и если не исполнится».
Убежденный в том, что человеку для нормальной жизни нужно совсем немного, что сама природа «сделала необходимое легкодоступным, а труднодобываемое — не необходимым», что «сам человек, следуя вздорным мыслям, делает себе жизнь дурной», Эпикур советовал своим ученикам прежде всего разобраться в снедающих их устремлениях, чтобы отличать естественные, жизненно необходимые желания от надуманных, появляющихся из-за недостаточной сопротивляемости человека развращающему влиянию окружающей обстановки.
Большинство наших желаний «происходит вследствие пустого мнения, дурного умонастроения человека», — утверждал Эпикур, и поэтому каждый должен обратить силы своего разума и души не на осуществление этих, по существу, ничего не меняющих в жизни желаний, но на их обуздание, преодоление. Надо уметь преодолеть в себе, изжить тягу к накопительству, стать выше тех, кто «всю жизнь готовят себе средства к жизни», забывая об истинном ее назначении и смысле; надо научиться жить прежде всего внутренней жизнью, превыше всего ценя «высшее удовольствие разума» — и тогда будут достигнуты подлинная свобода и, следовательно, счастье. Главное — это быть хозяином своих желаний, укротителем собственных страстей (тем более что при ближайшем рассмотрении предмет страстного вожделения оказывается нисколько не предпочтительнее другого, а «когда предмет страсти труднодостижим», стремление к нему постепенно само собой рассеивается), и тогда отпадут многие из сложностей и забот, которые обычно отягощают и омрачают существование людей. Потому что те, кому мало надо в жизни, в смысле ее внешних, телесных благ, те не будут гнаться за богатством и не променяют свободы на добровольное рабство, на подчинение и угодничество, без которых невозможно «добыть много денег». В чем-чем, а в этом был непоколебимо уверен Садослов, любивший сравнивать жадность к приобретению богатств с неразумной и темной жадностью дикого зверя. Кто довольствуется малым, — наставлял он своих последователей, — тот сам устраняется от позорного состояния, о котором с бесконечным презрением говорил в свое время Диоген. «Кто знает пределы жизни, тот знает, что легко добыть то, что устраняет страдания, происходящие от недостатка, и что делает всю жизнь совершенной; поэтому он нисколько не нуждается в действиях, заключающих в себе борьбу, соперничество». Умеющий владеть своими желаниями может так же легко прожить, не вступая в конфликт с общепринятыми установлениями, с законом, сам создавая, таким образом, определенную безопасность своей жизни от внешнего вмешательства.
Ни за чем не гонитесь, довольствуйтесь своим, приучайте себя ограничиваться малым и доступным, — учил Садослов слушателей. Конечно, это была уступка существующему положению вещей, конечно, это был отказ от борьбы, но ведь не только от борьбы, а и от всего утвердившегося стиля существования. Эпикур учил отказаться от этого стиля, потому что ни он сам, ни кто-либо другой уже были не в силах его изменить. Потому что никто больше не верил в то, что богатый поделится с бедным, что в бесчестном проснется вдруг совесть, в стяжателе — милосердие, и единственное, что можно было этому противопоставить, что действительно можно было сделать, — так это стать самому выше этого, в стороне и вовне. И единственное, что было в их силах и возможностях, — это доказать на собственном примере, что можно быть бедным, очень умеренным в потребностях, скромным в желаниях, совершенно не участвующим в унизительном дележе господских подачек — и в то же время спокойным, исполненным достоинства и даже счастливым. Счастливым своей независимостью, самообладанием, своей неуязвимостью для мира, каким бы несовершенным, фальшивым или враждебным он ни оборачивался…
Потому что свобода внешняя — политическая, общественная, гражданская — приобретала с каждым десятилетием, с каждым годом все более риторическое звучание. Потому что теперь у них был свой царь, великолепный, божественный Деметрий Полиоркет, которому они добровольно (или почти что добровольно, ибо ничего другого им теперь не оставалось), предложили себя в подданные. (Впрочем, что следует отметить, некоторые античные авторы считают, что афиняне называли Деметрия царем, имея в виду его права на македонский престол, но отнюдь не считая его своим, греческим царем.) Однако вне зависимости от этого Деметрий стал фактически хозяином значительной части Греции после своих новых побед над Кассандром в их многолетней тяжбе за владычество в Элладе. Он опять оказался Освободителем, Спасителем греков, и прежде всего афинян, и мог вести себя настоящим монархом, не встречая ни малейшего противодействия.
Все началось с похода Полиоркета на Родос, который ие только окончился очевидным неуспехом, но повлек за собой ряд серьезных изменений в положении дел в Греции. Деметрий с отцом давно вынашивали планы подчинения этого острова, для чего был целый ряд причин, и вот весной 305 года, едва лишь открылась навигация, Деметрий с большим флотом и множеством воинов отплыл на восток из гавани Пирея. Он осадил Родос, предпринимая регулярные атаки с суши и моря, но хорошо укрепленные родосцы не спешили сдаваться, и дело затянулось надолго. Деметрий привез с собой разные осадные машины (изобретением и усовершенствованием которых он особенно увлекался) и начал обширные осадные работы вокруг города. Спешить было некуда, помощи непокорным родосцам ждать было тоже вроде бы неоткуда, и сын Антигона с увлечением играл в эту не грозящую ему никакой опасностью войну.
Однако скоро стало известно, что, воспользовавшись отсутствием Деметрия, Кассандр решил опять попробовать распространить свое влияние на Грецию, большие македонские силы выступили на суше и на море, и уже к началу следующего года ими были заняты крепости Панакт и Фила, охранявшие подступы в Аттику. Узнав об этом, Деметрий спешно снял осаду и, заключив с так и не покорившимися родосцами, в сущности, унизительный для него мир, поторопился назад, чтобы не потерять и Афины. Неудачная осада Родоса положила конец притязаниям Антигона и Деметрия на полновластное господство на море, в сущности, это было переломным моментом в осуществлении их дерзновенных замыслов, их несостоявшихся мечтаний — создать свое собственное царство, почти такое же большое, как Александрово. Однако Деметрий, как всегда неустрашимый, энергичный, по-прежнему уверенный в своей счастливой судьбе, не замечал пока тревожных признаков неблагоприятного для него изменения обстоятельств, поворота событий или же не хотел придавать им значения, надеясь все отыграть в борьбе с Кассандрой в Элладе.
Между тем положение усложнялось, македоняне подступили к Афинам и, не уповая на поддержку Деметрия (а также подумывая о том, что, может быть, обстоятельства обернутся так, что покровительство Полиоркета вообще окажется ненужным), афинские патриоты под руководством Демохара начали спешно готовиться к обороне города, приводя в порядок укрепления и стены, заготавливая оружие и припасы. Однако вскоре стало очевидно, что при явно превосходящих численностью и мощью силах Кассандра, Афинам вряд ли удастся защититься самим, и тогда послали к Деметрию с просьбой поторопиться. Поздней осенью 204 года флот Деметрия из трехсот кораблей подошел к берегам Авлиды. Возвестив, что он прибыл для окончательного освобождения Греции, Полиоркет начал быстрые и успешные действия тылу Кассандра, занятого осадой Афин. Вскоре Полиоркет занял Халкидику. Тогда Кассандр покидает Аттику и, оставив гарнизоны в Филе и Панакте, двигается к Фермопилам. Подоспевший Деметрий, следуя за ним по пятам, провозглашает свободу во всех греческих городах на своем пути, призывая их сплотиться для дальнейшей борьбы с македонянами.
К концу 304 года македонские войска были изгнаны из большей части Греции (в том числе и гарнизоны Филы и Панакта), и во всех городах восторженно приветствовали молодого царя-освободителя. Так закончился еще один этап в многолетней войне за Элладу двух чужеземных царей (война, продолжавшаяся с переменным успехом до самой смерти Кассандра в 298 году), которым были, в сущности, одинаково чужды подлинные интересы угасающих греческих полисов, хотя один из них и провозглашал своей главной целью их возрождение. Эта война, в которой Афины переходили из рук в руки, еще раз показала, насколько ослабли греки, насколько они оскудели силой и духом — настолько, что им оставалось рассчитывать лишь на помощь и покровительство того или иного героя или же царя, прельстившегося славой восстановителя Эллады. (Как будто бы можно было восстановить, обновить и подкрасить, точно обветшавший фасад старинного здания, свободные, демократические, кичащиеся своей древней культурой города внутри широко разлившегося моря безгласных подданных новых эллинистических монархов.)
Решив воевать с Кассандрой до победного конца (каковым, возможно, мыслился захват македонского престола), Деметрий после небольшой передышки возобновил военные действия весной 303 года. К этому его побуждал и отец Антигон, лелеявший план создания нового Панэллинского союза под собственной эгидой, главной задачей которого должно было стать все то же возрождение прежней эллинской жизни и прежде всего полисно-демократических установлений. Приступив к осуществлению своего плана — сначала изгнать войска Кассандра из Пелопоннеса, а затем уже устремиться на Македонию для нанесения решающего удара, Деметрий освободил города Аргос, Эпидавр и Трезен, потом с помощью местных патриотов был уничтожен македонский гарнизон в Коринфе. И повсюду, куда бы ни прибывал победителем и освободителем молодой удачливый царь, провозглашались свобода и демократия, правда, при одном условии — верности и преданности Деметрию.
Весной 302 года в Коринфе собрался общегреческий съезд-синедрион, на котором было объявлено о создании нового союза городов, гегемоном которого избрали Деметрия, еще один эфемерный союз, просуществовавший всего около года, тщетная попытка возродить изжившие себя политические формы, а вернее, стремление набирающей силу монархической власти использовать эти формы в своих интересах. Если каждый из греческих городов не мог больше сам защищать себя, если каждый из них, глубоко и непоправимо загнивший, разваливался изнутри, то какого обновления, каких сил, какого жизнеутверждающего импульса можно было ожидать от конгломерата осколков агонизирующей полисной системы?! Наступало время новых монархий, таких, как монархии Селевка или же Птолемея, и восстановление полисной демократии в Греции под эгидой фактически не имеющего царства, но подспудно стремящегося его обрести властелина было лишь будоражащим воображение фарсом…
Избавив второй раз афинян от вторжения Кассандра, Деметрий, казалось, навсегда воцарился в городе Паллады. Он расположился вместе со своей свитой на Акрополе, в самом Парфеноне, утверждая полушутя-полусерьезно, что его пригласила сама Афина, его старшая сестра. Храм богини-девственницы напоминал теперь скорее какой-то развеселый притон, где толпились гетеры, флейтистки, льстецы-прихлебатели, откуда по вечерам далеко разносилась музыка, пьяные крики и песни. Сюда приходили к царю чужеземные послы, и здесь, между опрокинутых чаш и измятых венков, вершились теперь судьбы Эллады. Как писал об этом впоследствии Плутарх, чувство стыда не позволяет ему рассказывать о том, что творилось в священном для каждого эллина храме Афины. И древние боги терпели все это; а если уж они не карали святотатца, что за дело было до этого людям: афиняне утратили веру не только в могущество, но само существование олимпийцев и просто не знали теперь, каким же богам им молиться, во что же им верить. Наверное, Деметрий был посильнее, чем равнодушные к делам рода людского олимпийцы (если только вообще они не были выдумкой, плодом досужего вымысла древних поэтов), и Стратокл выносит предложение о том, что отныне все, что бы ни сделал, ни пожелал и ни повелел царь Деметрий, должно считаться священным и правым в глазах богов и людей. (Тем более что еще год назад царь был посвящен, по его требованию, в Элевсинские таинства — дело совершенно небывалое и запрещенное издревле, но теперь в кратчайшие сроки осуществленное стараниями все того же Стратокла.)
Единственным, кто осмелился открыто возражать против Стратоклова предложения и принятого в соответствии с ним указа, был Демохар, считавший, что самоунижение сограждан переходит всякую меру. Он один осмеливался вслух говорить о том, что Деметрий все с большим неудовольствием взирает на низкопоклонство афинян и те чрезмерные почести, которые они ему воздают, что афиняне заходят в своем раболепстве гораздо дальше, чем желает того сам Освободитель. Он напомнил согражданам, что обо всем этом сказал Полиоркет: «Ни один афинянин не имеет больше величия и благородства души». За все это против Демохара был возбужден в конце концов судебный процесс, и он вынужден был удалиться в изгнание, чем были довольны очень многие, в том числе и сам царь. Итак, Демохар покинул Афины (как покидали город все те, кто, начиная с Аристида по прозвищу Справедливый, предпочитали правду оправдательной лжи и подлинное благо отечества сиюминутным выгодам), а благодарные афиняне продолжали воскурять фимиам и подносить бесчисленные венки божественному Освободителю, воссылая к нему мольбы с воздетыми руками и дружно прославляя его в лицемерных пеанах как «единого и истинного бога, сына Посейдона и Афродиты».
И новоявленный бог продолжал себе бесчинствовать на Акрополе на глазах у изумленных и бессильных или же вообще разучившихся изумляться чему бы то ни было афинян. Как писал о его времяпрепровождении Плутарх, трудно было бы даже перечислить «все следующие один за другим, как в конском табуне, бракосочетания с непрестанно толпящимися женщинами, развращение мальчиков, пляски с бубнами среди скопцов, целодневные игры в кости, флейты, оглашающие театры, обеды, для которых не хватало ночи, и завтраки, для которых не хватало дня…». У царя было две, потом три законные жены, не говоря уже о бесчисленных кратковременных связях, но главной при нем по праву считалась гетера Ламия. Несколько старше Деметрия, очаровательная, умная, насмешливая, обученная музыке и пению, ничего в этой жизни не принимающая всерьез и ничего потому не опасающаяся, Ламия была из тех знаменитых афинских гетер, в честь которых, бывало, называли своих любимых наложниц персидские цари и с которыми не гнушались вступать в брак военачальники Александра. Вероятно, в сравнении с этой яркой афинянкой, столь же незаурядной, как и сам Деметрий, и столь же равнодушной ко всему на свете, кроме собственной особы, в чем-то проигрывали и снедаемая честолюбивыми устремлениями Фила, мать будущего македонского царя, болезненно переживающая недостойное легкомыслие Деметрия, и прекрасная Эвридика, обычная знатная женщина. Впрочем, Ламия весьма беззастенчиво пользовалась своим влиянием на царя и так же, как и он, презирала раболепствующих сооотечественников. Так, античные историки рассказывают в связи с этим следующее: однажды, когда по требованию Деметрия афиняне собрали для него 250 талантов, он с небрежностью в присутствии посланных от города отдал золото Ламии, сказав при этом: «Купи себе на это румян». Теперь уже Освободитель совершенно не церемонился со столь обожаемыми раньше афинянами и нарочито, при каждом подходящем случае выказывал им свое презрение. Ламия вымогала и тратила по собственному усмотрению огромные суммы — и все это только забавляло Деметрия. Дело дошло до того, что в Фивах и некоторых других городах были воздвигнуты храмы в честь Ламии—Афродиты.
Все это усугубляло то катастрофическое для каждого общества состояние вседозволенности, относительности нравственных представлений и необязательности считавшихся когда-то незыблемыми запретов, в котором постепенно оказались афиняне по мере печального превращения из народа в народонаселение, не связанное больше никакой общей идеей и целью. Все стало теперь дозволенным, даже то, что еще полтора столетия назад считалось постыдным, немыслимым для свободного человека, эллина-гражданина, и казалось присущим только воспитанным в извечном раболепии восточным варварам. И уже многие, пребывающие в той самой духовной нищете, от которой, как говорил Менандр, не сможет избавить ни один «благодетельный друг», «не поможет никто — ни живой, ни мертвый», были очень и очень не прочь подражать развеселому царю. И подражали по мере возможности, если позволяли средства. У кого же этих средств не хватало, пускались на всякие сомнительного свойства дела, ничего не стесняясь, ничем не брезгуя и забывая ради денег и стыд, и человеческое достоинство.
Об этой опасности — превратиться в тех, кому, по словам Солона, «для снискания богатств никакой предел не указан», эллинов предупреждал уже Демокрит, больше всего на свете презиравший «свиноподобных: «…у людей хорошее расположение духа возникает от умеренности в наслаждении и гармонической жизни… должно направлять свои помыслы на возможное и довольствоваться тем, что есть, не думая о тех, кому люди завидуют и удивляются, и не обращать на них внимания. Напротив, обращать внимание должно на тех, кто ведет бедственную жизнь, и должно ярко представлять себе те бедствия, которые они претерпевают, для того чтобы твое нынешнее положение и состояние казались тебе значительными и достойными зависти и чтобы более не приходилось твоей душе страдать из-за желания иметь большее». Однако теперь, когда все больше людей предпочитали смотреть не вниз, но наверх, на самый верх, где, ничего не боясь и никого не стесняясь, непринужденно расположилось развратное новоявленное божество, Демокритовы, а тем более Солоновы увещевания казались не более чем архаической глупостью. Становилось все труднее противостоять этому победному шествию роскошного, всех и вся растлевающего рабства, добровольного рабства нестойких, алчных и низменных душ. Духовная нищета, равнодушие к страданиям ближних и мнению окружающих были точно черная пропасть, глухая непроглядная ночь, в которой тонули безответно и страшно мольбы о помощи и призывы к человечности. Все больше становилось людей, каждый сам по себе и во имя себя, окруженный завистниками, недоброжелателями, врагами. Афиняне переставали — и с каждым поколением все больше — видеть друг в друге соплеменников, братьев, они перестали друг друга уважать (наверное, потому, что уважать уже, собственно, было незачем) и, что было еще страшнее, разучились любить друг друга.
И вот эту-то любовь к себе подобным, к человеку как таковому, а тем более к человеку, нуждающемуся в поддержке, пытался воскресить в современниках или хотя бы в тех, кто собирался в его Саду Эпикур. «Люди обижают друг друга из ненависти, или из зависти, или из презрения, — с горечью писал он в одном из своих сочинений, призывая своих последователей прежде всего победить в себе эти низкие страшные чувства, ведущие к распаду людского сообщества. — Но мудрец, с помощью разума становится выше этого. Раз достигнув мудрости, он уже не сможет впасть в противоположное состояние, даже притворно». Сам Садослов старался следовать этому правилу, открыв свою школу для всех, жаждущих мудрости и взаимопонимания, — для мужчин и для женщин, для свободных и рабов. Но, как это бывает всегда, во все времена и у всех народов, подлинная любовь оказалась в конце концов возможной только с некоторыми, близкими ему по духу людьми, хотя, к счастью, их оказалось не так уж и мало.
О том, с какой теплотой, с какой трепетной любовью относился Эпикур к своим друзьям, свидетельствуют даже те фрагменты из писем Садослова, которые сохранило для нас равнодушное время: «Буду сидеть в ожидании богоравного твоего прибытия», — пишет он Пифоклу; «Если вы ко мне не придете, я могу сам клубком катиться, куда бы ни звали меня вы с Фемистой», — пишет он своим старым лампсакским друзьям, Леонтею и Фемисте. А вот начало его письма к гетере Леонтии: «О целитель владыка Аполлон! Милая Леонушка, какой шумной радостью наполнило меня твое письмецо, когда я читал его!», к той самой Леонтии, относительно дружбы с которой злословили недоброжелатели эпикурейцев на протяжении чуть ли не нескольких столетий. Еще бы: он приобщал к философии гетер, вот имена некоторых из них — Мамарион, Гедейя, Нисидион. Обыватели давали этому свое, привычное толкование, распуская слухи о том, что «философы из Сада» просто-напросто сожительствуют с посещавшими их собеседования гетерами. Что ж, какая-то доля истины в этих сплетнях, по-видимому, была: так, является очень устойчивой версия о том, что любимейший из Эпикуровых друзей Метродор то ли находился с красавицей Леонтией в свободной связи, то ли был женат на ней и имел детей. И если вспомнить о том, что и Метродор и другие ученики Садослова были тогда еще молодыми мужчинами, полными нерастраченных сил и надежд на счастье, мы не найдем оснований для слишком суровых обвинений. И если даже кого-то из учеников и учениц Эпикура связывали не только дружба, но и любовь, это нисколько не умаляет значения того странного для людей того времени новшества, что и афинские женщины (хотя и в прошлом в Греции были женщины, известные образованностью и тяготением к мудрости) нуждались теперь в философии, в объяснении становящегося все более колеблющимся и чуждым бытия.
Да, они дружили, они помогали друг другу, пребывая непоколебимой «уверенности относительно помощи» товарищей, они ценили и любили друг друга, вызывая нарастающее раздражение тех феофрастовских обывателей, для которых на всем белом свете был только один предмет неиссякаемого вожделения — деньги. И хотя главным в этой дружбе было то, что и свело-то их вместе, — занятия философией, в свои молодые годы они с удовольствием предавались и другому времяпрепровождению: ходили вместе в театр (относясь к нему, впрочем, с той мерой серьезности, которую афинский театр в это время заслуживал), на состязания поэтов и певцов, полагая не без самоуверенности, что «мудрец один способен судить о поэзии и музыке». Они собирались за общим столом в традиционные праздники, ибо еще Демокрит говорил, что жизнь без праздников похожа на длинный путь без отдыха на постоялых дворах, отмечали дни рождения друг друга и поминки по усопшим. «Дружба обходит с пляской Вселенную, объявляя нам, чтобы мы пробуждались к прославлению счастливой жизни», — пишет уверенно и радостно сорокалетний Философ из Сада, еще не утративший веры в свои собственные силы, а также надежды на победу благого, разумного, истинно человеческого начала в судьбах и душах людей. Надежды на то, что им все-таки удастся прожить свой век и смеясь, и философствуя, и занимаясь хозяйством, удастся прожить в стороне от зла и насилия, отгородившись, замкнувшись в своем собственном мире, преодолев «неразумную веру и необоснованные мнения», ибо мудрец «как пищу выбирает вовсе не более обильную, но самую приятную, так и временем он наслаждается не самым долгим, но самым приятным».
Глава 2
УМЕРЕННОЕ БОГАТСТВО ЖИЗНИ
Мы рождаемся один раз, а дважды родиться нельзя, но мы должны уже целую вечность не быть. Ты же, не будучи властен над завтрашним днем, откладываешь радость, а жизнь гибнет в откладывании, и каждый из нас умирает, не имея досуга.
Эпикур
Человек может приятно жить лишь тогда, когда живет разумно, умеренно, мужественно и справедливо.
Эпикур
Вот уже пять или шесть лет, как Философ из Сада наставлял в своей мудрости тех, кто еще не утратил надежды прожить, не теряя достоинства, разумно и радостно, без зла и страданий отпущенный каждому срок, ценя те драгоценные дары мироздания и бытия, омрачить, уничтожить которые были не в состоянии ни бедность, ни несправедливость, ни македонские военачальники. Сам бесконечно свободный от каких бы то ни было страхов и сомнений, презирающий благополучие, зиждущееся на добровольном подчинении и оправдываемом здравым смыслом приспособленчестве, Эпикур стремился сделать такими и других, приобщив их к своему пониманию мира и человеческой жизни. Его беседы, молва о которых уже перешагнула пределы Аттики, вызывали все большее раздражение у схолиархов других афинских школ, не без основания опасавшихся утратить часть своих учеников. Однако, заметно оскудев к этому времени творческой мыслью, и академики, и перипатетики были не в силах противопоставить что-то достаточно веское и убедительное проповедуемому в Саду учению об атомах и наслаждении бытием как цели жизни. Да они и не ставили перед собой такой задачи, в достаточной степени равнодушные к другого рода «мнениям», заметно утратив тот священный пыл, который делал страстной «битвой за понятие бытия» жизнь великих основоположников их школ.
Однако сама эта битва (которая, по всей вероятности, будет длиться вечно, пока жив человек и жив в нем ищущий разум) продолжалась, хотя очень многие даже не подозревали об этом. И главным противником эпикурейцев в этом бескровном, невидимом и самом важном сражении выступил финикиец Зенон, также начавший где-то в эти годы учить в Пестром портике (Стоэ пойкиле) своей философии, по многим положениям прямо противоположной взглядам Эпикура. Это был достойный противник для Садослова, непримиримый и убежденный, не уступавший ему ни силой разума, ни стойкостью духа. И спор их (презрительно-спокойный, с одной стороны, и возмущенно-страстный — с другой), непримиримый диалог эпикурейцев и стоиков, как стали называть со временем собиравшихся в Пестром портике, затянулся на долгие столетия. В сущности, это был все тот же самый неразрешимый спор Платона с Демокритом, вечный спор между теми, кто ищет какого-то потустороннего, неземного, все объясняющего смысла в человеческой жизни, и тем, кто признает лишь ее самоценность как таковую.
Сведения относительно личности Зенона и обстоятельств его появления в Афинах (так же как, впрочем, и сведения о жизни большинства греческих философов) в достаточной степени смутны, противоречивы и несут на себе заметный отпечаток расхожих легенд того далекого времени. Так, рассказывают, что отец Зенона (Мнасей или же Демей), богатый финикийский торговец из города Кития на Кипре, послал его с грузом пурпура в Аттику. По дороге Зенон потерпел кораблекрушение и, убоявшись отцовского гнева, а также прельстившись возможностью поучиться философии, решил обосноваться в Афинах. Влечение же к философии он почувствовал будто бы еще мальчиком, когда отец привез ему из Аттики несколько книг. (Согласно другой версии, Зенон все-таки доставил свой товар в Пирей, благополучно распродал его и затем уже приступил к изучению философии. Как будто бы даже он стал ссужать эти деньги под проценты корабельщикам и тем обеспечил себе постоянный источник средств к существованию.) Произошло же все это, по мнению одних античных авторов, за пять лет до того, как Зенон начал сам учить в Пестром портике, а по мнению других — гораздо раньше. Столь же неопределенны и сведения о времени открытия его школы: где-то между 308 и 300 годами.
Сначала Зенон учился у киника Кратета, жившего одно время в Афинах, потом перешел в Академию, где слушал Ксенократа и Полемона, восприняв от них основы Платонова учения о мироздании и бытии и построив на этом впоследствии свою собственную философию. Слушал он также как будто бы и Стильпона Мегарского, который, будучи в Афинах, «так привлекал к себе внимание, что люди сбегались из мастерских поглядеть на него». К тому времени, когда Зенон стал сам собирать слушателей в Пестром портике, чтобы приобщить их к «истинному знанию о божественном и человеческом», это был, по свидетельству современников, худой, высокий, нескладный, по-восточному смуглый человек лет тридцати пяти, на вид слабосильный, немного кривошеий, но уже известный афинянам своей обстоятельностью, твердостью характера и взглядов.
Его беседы в Пестром портике привлекали не меньшее число слушателей, чем Эпикуровы «сходки» в Саду, поскольку с каждым годом становилось все очевиднее, что сознательное и добровольное подчинение Необходимости (и в данной ситуации — необходимости жить под господством македонян) является столь же и даже более неоспоримой реальностью, чем та свобода мысли и духа, к которой призывал Садослов. Реальностью было поражение, реальностью было подчинение, реальностью были Полиоркет и Кассандр, и не было никакой вероятности, что все это в обозримом будущем изменится и обратится в более благоприятную для греков сторону. И поэтому те, кто не желал, не умел, не мог поступиться своей внутренней свободой во имя чего бы то ни было, спешили на «сходки» в Саду, вызывавшие возмущение стоиков, а те, кто решил для себя, что разносторонняя деятельность и внешнее самоутверждение возможны при любых поворотах истории, собирались в Пестром портике, чтобы услышать, как мудрый Зенон обосновывает все это логически правильно и убедительно.
Считая, как и многие другие философы этого печального для эллинов времени, в сущности, «бесполезным весь общий круг знаний», Зенон видел основную задачу своей деятельности, всего своего учения в том, чтобы дать людям философскую основу для разумной и правильной жизни — такой, как он ее себе представлял. И в этом он ни в чем не отличался от Эпикура. И так же, как Эпикур, он считал, что для этого необходимо прежде всего объяснить мир, познать законы и силы, им движущие, определить соотносительность материи и формы, тела и духа, то есть все то, что составляет задачу и содержание физики. «Философия, — писал он, — подобна «плодоносному полю, ограда вокруг которого — логика, урожай — этика, а земля и деревья — физика». Свои представления о мире и бытии Зенон изложил в многочисленных, тщательно разработанных сочинениях, от которых до нас дошли лишь фрагменты да названия: «О жизни, согласной с природой», «О порыве или человеческой природе», «О страстях», «Об обязанностях», «О законе», «Об эллинском воспитании», «Государство», «О зрении», «Этика», «Воспоминания о Кратете» и другие.
Доискиваясь, какова сущность мира, отталкиваясь от представлений Платона и Гераклита (которого стоики вообще почитали за бога), Зенон учил, что космос один, ограничен, имеет сферическую форму, окружен беспредельным пустым пространством и «все части мира имеют стремление к центру мира…» Он мыслил мир как совокупность тел и пронизывающей их огненной пневмы, как единый, огромный живой организм, имеющий начало и конец, находящийся в беспрерывном движении и развитии. В основе всего Зенон полагал вещество («вещество есть то, из чего возникает все» и «это вещество поддается изменению»); главной из стихий и вообще первоосновой всего стоики считали огонь, из которого все произошло и в который по прошествии множества тысячелетии все возвратится. Периоды диакосмезиса, когда первоначальная субстанция раскрывается в многообразии вещей и существ, чередуются с периодами, когда все различия уничтожаются в единстве божественного первоогня очередного мирового пожара. Следуя Гераклиту, они наделяли этот «творческий огонь» божественной силой, отождествляя его с вселенским Логосом — разумной сущностью мира. Из него, учили стоики, возникают все элементы и в него же в конце концов возвращаются в процессе разряжения. Все сущее в мире они делили на телесное и бестелесное: тела, ограниченные в пространстве и способные к бесконечной делимости, и — Нечто, которое «может быть телесно и бестелесно, например пространство, способное быть заполненным чем-то телесным». Бестелесно и время, которое, по мысли стоиков, есть протяжение движения вообще, протяжение мирового движения, а также слова, мысли, представления. Уподобляя космос живому существу, Зенон и его последователи выделяли в нем два начала — пассивное и активное: «Страдательное начало есть бескачественная сущность, то есть вещество, а деятельное — разум, в ней содержащийся».
В отличие от эпикурейцев стоикам казалось неприемлемым представление о бесконечной множественности миров, для них мир был только один, таким вот образом устроенный: «Расположение мира, — по словам Диогена Лаэртского, — они принимают такое. Земля находится посередине соответственно средоточию; следом за нею — вода, шарообразно облегающая землю, как свое средоточие, так что земля находится в воде, следом за водою — воздух, тоже шарообразно расположенный. Небесных кругов имеется пять». Все телесное они считали состоящим из четырех основных элементов: высших — огонь и воздух, и низших — земля и вода, взаимосвязь между ними осуществляется согласно гераклитовскому «пути вниз»: из первоогня постепенно образуется воздух, затем вода и, наконец, земля.
Развитие жизни на земле виделось Зеноном как непрерывная цепь причинно обусловленных явлений. Этой сквозной причинности, носитель которой некая огненная пневма (геймармене), она же судьба, подчиняется все, даже, казалось бы, произвольные действия живых существ: «Судьба определяет возникновение всего на свете. Судьба есть причинная цепь всего сущего или же разум, по которому движется мир». Таким образом, в отличие от Эпикура, непримиримо и страстно восстававшего даже против демокритовской необходимости, Зенон был убежден, что в мире ничего не происходит просто так, в силу слепой случайности, но все объединено некоей единой конечной целью. Движущим началом нашего разумного, одухотворенного, подобного огромному живому организму мира Зенон и его последователи считали пронизывающий все сущее Разум-бог, ту Мировую душу, частица которой есть в каждом из смертных. Как писал об этом впоследствии стоик Хрисипп, «мир устрояется умом и проведением».
Так для чего же, в конце концов, создан этот единственный, вечный и божественный мир? Для человека, — утверждал основатель школы в Пестром портике. — Человек разумный и мыслящий — вот конечное звено в цепи мировой причинности, главная и, вероятно, единственная цель каждого очередного периода обновления мира. Мир создан для людей, он как бы одно общее жилище всех разумных существ, и человек должен сознательно соответствовать своему предназначению. Вся его жизнь должна быть направлена на то, чтобы блюсти заключенную в нем бессмертную частицу Мировой души, ту искру божию, которая-то и делает его человеком в отличие от неразумных животных. «Душа — это дыхание, врожденное в нас, поэтому она телесна и остается жить после смерти; однако же она подвержена разрушению, и неразрушима только душа целого, частицами которой является душа живых существ». Главное, — учил Зенон, — это хранить и развивать в себе ту часть вселенского Разума (Логоса), которая проявляется к концу седьмого года жизни человека, одновременно со способностью речи и мышления. Наш Логос, — считали стоики, — по сущности своей одинаков с той силой божественного разума, которая действует во всем космосе и формирует соответственно своим мыслям материю. Поэтому-то наш Логос обладает способностью воспроизводить в себе мысли Вселенского разума.
И хотя Зенон и его последователи утверждали, что каждый отдельный человек, во всем своеобразии и неповторимости своей индивидуальности, осуществляет отдельное проявление божественного духа и представляет собой невосполнимое звено в единой космической цепи, этот человек представал в их учении не как свободный носитель собственного разума и воли, вступающий в противоборство со слепыми стихиями и случайностями бытия, но — только как исполнитель сознательный или же не подозревающий об этом, заранее заданной ему провидением роли. И какой бы почетной и ответственной ни рисовалась эта роль — быть частицей и воплощением Вселенского разума, человек все равно неизбежно оказывался лишь временной оболочкой, недолговечным орудием Логоса-бога. Это главное положение Зенона о совершенном, но самому себе неподвластном человеке как конечной цели мироздания всегда вызывало насмешки со стороны эпикурейцев, киников и скептиков, очень и очень сомневающихся как в законченном, все объясняющем и все увязывающем в единое целое совершенстве Зеноновой системы, так и в самом праве человека считаться венцом творения, несмотря на очевидное несовершенство, бесконечные ошибки и преступления рода людского. Так, некий римский эпикуреец Веллей возражал по этому поводу следующее: «Если боги создали мир для людей, то надо спросить — для каких? Если для мудрых, то весь этот громадный труд был предпринят для очень немногих, а если для глупых, то делать это было ни к чему…»
То, чему учил в Пестром портике финикиец, было глубочайшим образом чуждо Эпикуру и его друзьям, для них казалось поистине удивительно, что это примиренческое учение, взращенное на платоновском идеализме, эта скорее даже религия, чем философская система, оказалась в достаточной степени притягательным для людей. В сущности, это было пугающее учение, пугающее не только непреложностью Вселенского разума — Творческого огня, все разрушающего в неотвратимости мировых пожаров, но прежде всего заложенной в зеноновском учении идеей изначальной и извечной несвободы каждого живого существа, идеей, признать и полюбить которую призывали стоики каждого мудрого. Это было тем главным, что особенно возмущало Эпикура с его апологией свободы как единственной ценности, как объективно существующей закономерности, не будь которой было бы, как считал он, невозможным само существование нашего мира.
И если эпикурейцам казались порой просто смехотворными представления стоиков о космосе и бытии, то в том, что касается свободы в более узком, общественном или же индивидуальном значении, понимание между ними было просто невозможным. Потому что Эпикур, не веря больше в возможность свободы политической, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем, призывал своих последователей отстаивать хотя бы личную, индивидуальную свободу и прежде всего противостоять всеми доступными средствами духовному, психологическому подчинению завоевателям, исподволь надвигающемуся на весь эллинский мир рабству. В то время как Зенон, с его учением о всемирной общине разумных существ, равных перед Вселенским разумом-богом и непреложными законами мироздания, полагал, по-видимому, совершенно несущественными различия между своими и чужими, греками и македонянами, завоевателями и завоеванными. Тем более что ему, не эллину по происхождению, должно быть, казалось действительно несущественным и незначительным то, что было главной причиной душевных страданий, глубокой горечи афинян, — их поражение. Ему, обращенному мыслями в будущее, умеющему, по-видимому, разглядеть все то положительное, что несли с собой для захиревшего эллинского мира македонское господство и царская власть (прекращение смут, прочные торговые связи, хозяйственный обмен, дальнейшее развитие ремесел и искусств), ему было никогда не понять безысходного отчаяния тех, для кого настоящая жизнь, их прежняя, свободная, великая, навсегда оставшаяся в восхищенных воспоминаниях будущих людских поколений жизнь, безвозвратно окончилась.
Зенону и его последователям-стоикам, считавшим разумной необходимостью подчинение и македонским царям, и впоследствии Риму, было не понять непреклонного, гордого неприятия всего этого такими, как Эпикур и собиравшиеся в его Саду, предпочитавшими постепенно уйти в небытие вместе со своим отжившим положенный ему срок миром и не приемлющими саму идею разумного повиновения тому, что было им в корне враждебно и чуждо. И поэтому философствующие из Пестрого портика, откровенно искавшие расположения сильных мира того, сам Зенон, друживший с будущим царем Антигоном, сыном Деметрия Полиоркета, вызывали у Эпикура не только презрение — как заблуждающиеся относительно законов мироздания, но и непримиримый гнев как приспособленцы, в сущности, предатели. Потому что, хотя при Деметрии Полиоркете, опять бесчинствующем на Акрополе, афинский народ все больше напоминал огромную дворню, в городе еще было немало таких, душу которых переполняли отвращение и гнев при виде разрыгрывающейся у всех на глазах оргии вседозволенности, с одной стороны, и раболепства — с другой. И первыми среди таких были «философы из Сада», которые, хотя и не надеялись уже, что весь этот страшный фарс можно как-то пресечь, разрушить, перечеркнуть, положили для себя раз и навсегда никогда и ни за что в нем не участвовать.
Это было очень тяжелое для греков, и особенно для афинян, очень сложное время, когда они (еще столетие назад бывшие хозяевами на своей собственной земле и являвшие собой, казалось, недосягаемый пример совершенства и силы для многих окрестных народов) пока еще не превратились окончательно в бесправную массу чьих-то подданных, почти что рабов, но уже не имели надежды остановить неблагоприятный для них ход истории. И тем не менее многие из них не оставили мысли об освобождении, и каждая новая временная неудача их новых властителей, каждое малейшее послабление Македонии казались им удобным поводом для восстановления утраченной самостоятельности (как будто бы вместе с самостоятельностью могли вернуться их былая мощь и сила), и каждый раз эти попытки оказывались тщетными. Так и в эти годы, в то время как одни лицемерили и льстили Деметрию, другие только и ждали, когда же наконец представится подходящий случай от него избавиться. После победы над Кассандром позиции Полиоркета в Элладе казались непоколебимыми, однако довольно скоро после этого судьба как будто бы предоставила афинянам подходящий случай. Наскучив к лету 300 года всякого рода чествованиями и оргиями в обществе Ламии, доблестный сын Антигона решил приступить к осуществлению своего главного, разработанного вместе с отцом, плана-похода против Македонии. Решено было, что, в то время как Антигон будет охранять их владения на востоке, сам Деметрий вторгнется со своими войсками в Македонию из Греции. После победы над Кассандром предполагалось приступить к решительной схватке с Птолемеем и, может быть, даже подчинить Египет, и тогда их владения достигнут желанных размеров Александрова царства. И вот с весьма значительным союзным войском, собравшимся на острове Эвбея (около 50 тысяч человек), и большим флотом, заручившись поддержкой морских разбойников и по обещав им хорошую долю в будущей добыче, Деметрии начинает эту войну.
Узнав обо всех этих приготовлениях, Кассандр срочно отправил к Антигону послов с предложением мира, однако тот выдвинул совершенно неприемлемые для македонского правителя условия — отказаться от Греции. Тогда Кассандр посылает за помощью к Селевку. И так как для всех диадохов притязания Антигона и его неспокойного сына давно уже казались чрезмерными, а их постоянное стремление нарушать сложившееся положение вещей, вовлекать остальных властителей в совершенно ненужные им столкновения и войны вызывало все большее раздражение, решено было положить этому конец. Лисимах, Птолемей и Селевк заключают союз против Антигона, чтобы немедленно начать решительное наступление на него на востоке. В связи с этим, хотя военные действия в Греции уже развернулись и Кассандр стоял у самых Фермопил, Деметрий получает от отца приказ как можно скорее прибыть со своей армией и Азию. Поспешно заключив с Кассандром договор, по которому тому оставалась Македония и часть Фессалии, Деметрий со значительной частью своего войска садится на корабли и отплывает в Эфес. Сразу же после его отплытия, как будто бы и не было никакого договора, Кассандр снова занял Фермопилы, разместил гарнизон в Фивах и затем послал помощь своим союзникам в Азию.
Летом 301 года в Афины пришло известие о сокрушительном поражении Антигона и Деметрия в битве на равнине Ипса. Четыреста слонов, привезенные Селевком из Бактрии и Индии, вызвали настоящую панику в рядах пехотинцев Антигона. Роковую роль сыграла в этот раз и обычная самоуверенность Деметрия, который, полагаясь на всегдашнее свое везение, далеко удалился от поля боля, преследуя неприятельскую конницу, и оставил тем самым отца без нужной поддержки. Антигон погиб в битве (ему было в это время более восьмидесяти дет) и был погребен с царскими почестями своими победителями, бывшими соратниками бессмертного Александра. А сын его, собрав остатки разгромленной армии, бежал в Эфес. Среди павших или взятых в плен при Ипсе было большое число аттических граждан.
В Афинах поражение Деметрия было воспринято как знак самого провидения, и хотя более осторожные и реалистически мыслящие предостерегали сограждан от опасного увлечения несбыточным и предлагали, пока не поздно, идти на поклон к Кассандру, Демохар призвал отложиться от македонян и объявить город свободным. Были изгнаны или бежали сами многие из приверженцев Кассандра и олигархического образа правления; началось также преследование наиболее ревностных сторонников Полиоркета, поговаривали даже о восстановлении разного рода раздач и платежей за исполнение общественных должностей, как будто бы для этого действительно имелись какие-то возможности и средства. Никаких реальных оснований для этого не было, а была только вечная притягательная сила идеалов народовластия.
Между тем Деметрий, рассчитывая на поддержку столь обожавших его совсем еще недавно афинян, поспешил к берегам Аттики. Однако, едва он приблизился к Афинам, навстречу ему был выслан корабль с постановлением народа: не принимать в город никого из царей в связи с трудностями настоящего положения. Афинские послы просили Деметрия почтить своим присутствием какой-то другой город и сообщили, что супруга его Деидамия (третья по счету) уже перевезена со всеми почестями в Мегару. Возмущение потерпевшего поражение царя не знало предела, однако он взял себя в руки и ограничился только напоминанием о своих прежних заслугах перед Афинами, а также заявлением о том, что отныне он предоставляет неблагодарный город его собственной участи. Вне себя от гнева, Деметрий покинул Пирей, возможно, только теперь, впервые в жизни, почувствовал себя изгнанником и беглецом. У него не было союзников, не было, в сущности, и друзей, но у него еще оставался довольно значительный флот, оставались подвластные ему Сидон, Тир и Кипр, его гарнизоны стояли в Пелопоннесе, но главное — с ним оставалась всегда спасавшая его вера в свою счастливую звезду. Решив не возвращаться на восток, где ему нечего было больше делать, Деметрий поплыл к Истму. Как оказалось, он мог еще рассчитывать на более теплый прием в Коринфе и Мегарах, где два года назад с его помощью была восстановлена демократия и где еще оставались его отряды, в других же городах то здесь, то там изгонялись его гарнизоны, вместо них размещались войска Кассандра и устанавливалась или олигархия, или же тирания. Тогда Деметрий двинулся со своим флотом на север, во Фракию, зная, что царь Лисимах, не имеющий собственного флота, находится еще в Малой Азии и не сможет защитить своих владений. Там он беспрепятственно грабил богатые приморские города Геллеспонта и Пропонтиды, и в надежде на большую добычу к нему стали снова стекаться наемники, так что войско его увеличивалось и счастье, казалось, опять поворачивалось к не знающему сомнений сыну Антигона.
При виде таких успехов для победителей при Ипсе становилось все очевиднее, что сбрасывать Деметрия со счетов рановато. И хотя остальные диадохи не питали особого уважения к неуравновешенному, самонадеянному и непостоянному Полиоркету и очень сомневались в возможности прочного союза с ним, они решили пойти на мировую, при том непременном условии, что Деметрий не будет вмешиваться в дела на востоке и предоставит им в случае необходимости свой флот. Возобновленная дружба увенчалась двумя династическими браками: Деметрий обручился с Птолемаидой, дочерью Птолемея, а Селевк просит руки его дочери Стратоники. До нас дошло описание встречи царей в Россе, где Деметрий принял будущего зятя на своем роскошном тринадцатипалубном корабле и после свадебного пира очаровательная юная Стратоника уехала в Антиохию. Затем Деметрий решает навести мосты к Кассандру и посылает в Македонию с этой целью свою всеми уважаемую супругу Филу, готовый как будто бы ради мира отказаться даже от Греции. И в Элладе на какое-то время опять устанавливается выжидающее затишье, но только не в Афинах, где сторонники демократии во главе с Демохаром стали решительно готовиться к тому, чтобы претворить наконец в действительность свои планы восстановления независимости и демократии.
Сколько этих смелых начинаний видел на своем веку Эпикур, бессильным и все более отстраненным свидетелем крушений скольких надежд пришлось ему стать… Порой казалось просто необъяснимым, что движет такими людьми, как Демохар, когда они призывают афинян к борьбе за былую самостоятельность. О какой самостоятельности, свободе и славе могла идти речь, если вся близлежащая часть Ойкумены была уже поделенным на куски, на отдельные владения царством несвободы, если сами они — с каждым годом все более оскудевающие духовно и физически, — потомки победителей при Саламине и Платеях — уже были по большей своей части несвободными духовно, добровольно предаваясь раболепству? (Впрочем, добровольно только по видимости, поскольку за всем этим стояла необходимость пожестче демокритовской.)
Представляется возможным говорить о том, что Эпикур, страстно ненавидевший македонян и вообще завоевателей, уже не верил или же верил очень мало в возможности и силы выродившейся рабовладельческой демократии. Ему были отвратительны все эти Кассандры и Полиоркеты, народовластие оставалось для него, как все еще для многих афинян, наилучшей формой государственного устройства, однако он уже не находил в печальной афинской реальности того времени ничего, что походило бы на унаследованные от славного прошлого демократические идеалы. Эпикур был из тех, что отчетливо осознавали с горечью и тщательно заглушаемой тоской, что прошлого уже не вернуть (да если бы это и было возможно, трудно было бы сказать, какое же именно прошлое желательно возвратить), и поэтому он и его последователи предпочитали обратиться всецело к тем вопросам устройства мироздания и жизни здесь, на земле, которые не зависят от течения времени и превратностей развития общества. И одним из таких главных вопросов, на который отвечал так или иначе каждый из эллинских мыслителей, был вопрос о том, познаваем ли мир, а если познаваем, то как, каким образом осуществляется этот процесс, истинны или же ложны показания человеческих чувств и дают ли они достоверное представление об окружающем?
Может быть и даже несомненно, что тяготение к этому и подобного рода вопросам было обусловлено в определенной степени стремлением избежать углубления в проблемы хотя и более жизненно важные, но неподвластные философствующим, вопросы вызывающе неразрешимые, но так поступали многие и до и после Эпикура, и винить их за это не приходится…
Обращаясь к этому главнейшему для мыслящего человека вопросу — о познаваемости мира, одни из греческих философов, предшественников Эпикура, приходили в конечном счете к выводу о том, что мир непознаваем. Другие же (Гераклит, Платон) допускали для человека возможность приблизиться к истине, но только посредством умозаключений или же интуиции, поскольку показания наших чувств представлялись им слишком несовершенными. Демокрит писал, что есть два рода познания: познание, основанное на чувственном восприятии, на ощущениях (его он называл «темным», непригодным для обнаружения истины), и познание, осуществляемое посредством разума, — это истинное, «светлое» познание, которое одно только и может дать достоверное знание о внешнем мире. Что же касается Эпикура, то он предпринял в своей канонике (той части философии, которая призвана определить критерии истины и правила познания) попытку выявить и объяснить диалектическое единство этих двух равноправных видов познания.
Свои взгляды на природу познания Эпикур изложил во многих работах (таких, как «Об осязании», «О зрении», «Об образах», «О воображении»), наиболее значительной из которых считалось сочинение «О критерии или канон». В основе всей его каноники лежало главное убеждение в достоверности человеческих чувств и восприятий: «Если ты считаешь, — писал он в связи с этим, — недостоверным все чувственные восприятия, то у тебя не останется ничего, на что можно было бы делать ссылку при суждении о тех из них, которые, по твоим словам, лживы». Утверждая познаваемость мира, Эпикур выдвигал три основных критерия истинного познания: ощущение, понятие и аффект (то есть сильное, определяющее наши настроения и суждения чувство): «Все суждения, делаемые нами о значимости вещей, а также людей, имеют отправной точкой испытываемое нами чувство (удовольствия или неудовольствия)». Сам процесс познания он представлял следующим образом: непосредственное восприятие окружающего мира, затем — понятие, общее представление о том или ином явлении, вещи, предмете (такое представление он называл «пролепсис») и, наконец, формирующееся на основе всего этого чувство: «Только тогда, когда нечто привходит к нам от внешних предметов, мы видим их формы и мыслим о них».
Понятие «пролепсис», до него в греческой философии не встречавшееся, Эпикур вводит как необходимое промежуточное звено между непосредственным ощущением и чувством. Пролепсис — это, по сути своей, воспоминание о некогда полученном ощущении, с одной стороны, оно порождено внешним миром, а с другой — однажды сформировавшись, воспоминание это как бы обретает самостоятельность и начинает жить собственной жизнью. «И всякое представление, которое мы получаем, — писал Эпикур в письме к своему ученику Геродоту, — представление о форме или о существенных свойствах, это есть форма предмета, возникшая вследствие последовательного повторения образа или впечатление, оставленное образом». Таким образом, Эпикуровы пролепсисы — это прежде всего воспоминания, твердые, сложившиеся представления о том, что приходит к человеку извне, хотя, по утверждению Цицерона, у эпикурейцев был тезис и о неких врожденных представлениях, в частности, о зачаточных представлениях стыда и правды, присущих всем от рождения.
Считая главным способом познания мира чувственный (при том, что он постоянно подчеркивал, что «в образовании мыслей оказывает содействие и рассудок»), Эпикур отнюдь не отрицал, что есть в мире вещи, познаваемые лишь посредством рассудка, умозаключений (например, атомы и пустота), однако же умозаключений, основанных на накопленных данных непосредственного опыта. При этом наиболее целесообразным ему представлялся метод аналогий — сопоставления, сравнения видимого и невидимого, чтобы на основании первого судить о втором.
Одной из наиболее интересных теорий, относящихся к Эпикуровой канонике, является теория образов, восходящая, вероятнее всего, своим происхождением к Левкиппу и Демокриту. Вот что писал по этому поводу Александр Афродисийский, комментатор Аристотеля: «Он сам (Демокрит) и до него Левкипп, а позднее Эпикур со своими учениками считают, что некие истекающие образы, подобные по виду тем предметам, от которых они исходят (это и есть видимое), попадают в глаза видящих, и таким образом происходит видение». А вот какое понимание этих образов дает сам Эпикур: «…существуют очертания (отпечатки, оттиски), подобные по виду плотным телам, но по тонкости далеко отстоящие от предметов, доступных чувственному восприятию… они имеют также быстроту непревосходимую, потому что всякий путь для них — подходящий… возникновение образов происходит с быстротой мысли». Не раз возвращаясь и в письмах к этой теории образов, Эпикур подчеркивал, что время движения образов быстрее рассудочного времени, что «оно теснейшим образом связано со сменой дня и ночи и их частями, также с возбуждениями души нее состояниями покоя, с явлениями движения и покоя». Истечением такого рода образов он объяснял зрение, слух, вкус и другие чувства: «Течение (атомов) с поверхности тел — непрерывно, но его нельзя заметить посредством уменьшения предмета, вследствие противоположного пополнения телами того, что потеряно».
Таким образом, как учил Эпикур, все сущее испускает из себя некие образы, состоящие из пустоты и крайне тонкой оболочки, а человеческие органы воспринимают их. Но тогда сразу же возникает вопрос о достоверности ощущений, также по-разному трактуемый греческими мыслителями: может ли человек полагаться на свои чувства и способны ли они дать верное представление о мире? Эпикур, вообще склонный больше доверять чувствам, чем разуму, и связывать именно с мышлением возникновение всякого рода ошибок, отвечал на этот вопрос утвердительно: «А ложь и ошибка всегда лежит в прибавлениях, делаемых мыслью (к чувственному восприятию) относительно того, что ожидает подтверждения или опровержения, но что потом не подтверждается». Он считал, что большинство заблуждений возникает тогда, когда «мы в суждении относим представление не к той действительности, с которой оно на самом деле в восприятии связано»; этим же объясняется, по его мнению, и появление различных фантастических образов (например, образа кентавра), произвольно создаваемых человеческим воображением из разнородных образов, истекающих от совершенно различных предметов и существ.
Однако такое объяснение всех и всяческих представлений только воздействием внешней среды неизбежно приводило Эпикура к необходимости признать истинными, отражающими какую-то реальность, также и сны, галлюцинации, видения сумасшедших, поскольку, по логике вещей, если что-то такое представляется, значит, есть нечто испускающее соответствующие образы: «галлюцинации… истины, в силу того, что они производят впечатление, чего не может сделать несуществующее», «что касается представлений сумасшедших, равно и сновидений, то также и они истины, ибо они обладают действующей силой: несуществующее, напротив, таковой не имеет». Исходя из теории образов, Эпикур допускает также, что на основе повторяющегося чувственного восприятия, выявив закономерности того или иного явления, можно предвидеть и будущее: следует «точно запечатлевать чувственные впечатления, так же как и сопутствующие им образы мышления и сопровождающие их аффекты, с тем чтобы иметь основу для предвидения будущего и неизвестного».
Во многом это представление об истекающих от каждого предмета образах разделяли и стоики, которые критерием истины также объявляли «постигающее представление», то есть представление, возникающее от существующего. Человек, считал Зенон и его последователи, рождается на свет с умом, подобным чистой, без единой записи таблице, и мало-помалу эта таблица заполняется посредством чувственного восприятия записями многих однородных восприятий. Так же как и Эпикур, они довольно осторожно подходили к оценке роли разума, считая, что человеческий разум далеко не совершенен и может заблуждаться, избегать же заблуждения мыслящему человеку помогает диалектика.
Ограниченность, несовершенство эмпирического знания того времени делают очевидно наивными многие из Эпикуровых материалистических толкований, и в частности в вопросах познания, в большинстве случаев он скорее ставит вопросы, чем отвечает на них. Но ведь он, если вспомнить, никогда и не преследовал цели досконального выяснения природы всего сущего и происходящего в нашем мире, главным для него было выявить несостоятельность идеалистических представлений, развеять людские заблуждения и страхи. И в нашу задачу здесь также не входит выяснение того, что именно из его физики и каноники подтвердилось последующим развитием науки, а что было опровергнуто. Как писал в связи с этим много столетий спустя другой европейский философ, Дидро, здание философской системы, возведенное Эпикуром, может когда-нибудь рухнуть, но фигура его создателя останется нетронутой посреди обломков. И здесь нас интересует прежде всего фигура, бессмертный образ мужественного человека, утверждавшего возможность свободы, независимости мышления и духа, среди торжествующей несвободы, поглощающей постепенно, но неостановимо последние островки великой демократической Эллады.
Потому что, как бы ни обвиняли Эпикура и многие из его современников, и последующие критики в стремлении остаться в стороне от истории, беспристрастная и трезвая оценка определяющих событий афинской, да и общегреческой жизни того времени свидетельствует о праве Садослова на такую позицию: подлинная независимость и демократия Афин остались в прошлом, и отчаянные, бесплодные, лихорадочные попытки вернуть это прошлое неизменно оборачивались лишь новыми и новыми жертвами, мучительными, подтачивающими волю к жизни разочарованиями.
Вот и теперь, в начале нового столетия (299–297 гг. до н. э.), в отвергших Деметрия Афинах устанавливается какая-то видимость демократии, во главе которой оказываются Демохар и приобретший вскоре печальную известность некто Лахар, сведения о котором чрезвычайно скудны и противоречивы. Провозгласив свободу города, они стали даже предпринимать шаги для создания нового союза под своей эгидой, рассчитывая на поддержку Этолии, Элатеи, Беотии и городов Эвбеи. При этом Лахар, придерживавшийся, по-видимому, более умеренных позиций, предлагал заручиться на всякий случай и покровительством Македонии, тем более что Кассандр опять угрожал вторжением в Аттику. Демохар же и его сторонники, словно утратив всякую способность видеть вещь в их истинном свете, были полностью во власти несбыточных иллюзий относительно возможности восстановления былой мощи и славы Афин, когда стало известно, что Полиоркет, не забывший оскорбления и неблагодарности афинян, двигается со своим флотом в направлении Пирея. Так началась новая война, названная в одном из народных постановлений того времени Четырехлетней, о которой до нас дошли лишь самые приблизительные сведения.
По мере приближения Деметрия смятение овладевало афинянами. Перед лицом этой новой опасности стало особенно очевидно, насколько несостоятельна и слаба окончательно выродившаяся рабовладельческая демократия, которой — при всех ее претензиях на самостоятельность — не на что было больше рассчитывать, кроме как на поддержку и помощь кого-то из новых царей, Кассандра, Лисимаха или же Птолемея. Сохранилась надпись от 299 года о том, что некий Филиппид предложил наградить золотым венком Посидиппа, согласившегося отправиться с посольством к Кассандру, главная же роль в этом начинании принадлежала Лахару. Сам Филиппид вел переговоры с Лисимахом и даже убедил его освободить более трехсот афинян, взятых в плен при Ипсе. Побывал у Лисимаха и сам Демохар, одновременно отправив послов к Птолемею. Договор с Кассандром объединил в конце концов сторонников полисной независимости с приверженцами македонского царя, и Демохар готовился отразить нападение Деметрия рука об руку с Лахаром. Огромный флот Полиоркета приближался к Аттике, в Мегарах и Коринфе стояли наготове его гарнизоны, обещанные же Птолемеем корабли могли еще прибыть не скоро, и рассчитывать можно было лишь на помощь Кассандра.
Казалось, спасения ждать было неоткуда, как вдруг (неожиданно для самих афинян, в глубине своих потерявшихся душ осознающих, что на милость богов им рассчитывать нечего) их древние боги все же вспомнили о них: разыгралась ужасная буря, и много деметриевых кораблей затонуло у самого берега Аттики. Предприняв несколько безуспешных попыток высадиться и послав за подкреплением на Кипр, Деметрий двинулся к Пелопоннесу и там после ожесточенной борьбы взял Мессену и другие отложившиеся от него города. Афиняне, понимая, что со дня на день Деметрий может вернуться в Аттику, продолжали крепить оборону и ждать помощи из Македонии. Однако в 297 году Кассандр умер от какой-то мучительной болезни, на македонском престоле оказался ничем особенно не выдающийся восемнадцатилетний Филипп, на милость которого и должны были теперь полагаться афиняне.
Через толщу времени до нас дошли лишь не слишком выразительные отголоски той ожесточенной борьбы (борьбы бесплодной и тщетной, поскольку исход ее уже был предрешен историей), которая развернулась в это время в Афинах вокруг основного, самого главного на протяжении последних пятидесяти лет вопроса: попытаться ли и дальше отстаивать свою независимость или же удовольствоваться смиренной участью подданных македонских монархов? Ибо даже относительно позиции Демохара, этого наиболее последовательного поборника самостоятельности и демократии, имеются противоречивые, взаимоисключающие версии: так, античные авторы рассказывают, что он будто бы был в составе того посольства, которое отправилось на поклон в Македонию, но в то же время он будто бы самым страшным образом надерзил весьма милостиво принявшему их молодому царю. Кажется, что в итоге всего этого Демохар был вынужден удалиться в изгнание. Филипп все-таки послал какое-то войско для защиты Афин, а в самих Афинах власть захватил Лахар, которого античные авторы характеризуют как отвратительнейшего из тиранов, нечестивого по отношению к богам и жестокого к людям. Объявив войну с Деметрием до победного конца и опираясь на поддержку Македонии, Лахар прежде всего заставил издать закон о том, что всякий говорящий о мире или соглашении с Полиоркетом будет приговорен к смерти. С любыми иллюзиями о демократии и свободе было покончено, малейшее недовольство тут же пресекалось самым жестоким образом. По словам современников, Лахар правил как злодей и в то же время постоянно дрожал от страха перед изменой и покушениями.
Так новой отвратительной тиранией, жестоким произволом какого-то темного, алчного, ничем не выдающегося человека, которого слепой случай и смутное, переломное время вознесли на вершину власти, окончилась еще одна тщетная попытка восстановить независимость агонизирующего полиса. В достаточной степени лихорадочная деятельность Демохара (которого какая-то часть сограждан как будто бы и поддерживала, но, как бывало и раньше, тут же словно бы забыла о нем, подавленная страхом перед тираном) еще раз показала всю несостоятельность надежд на возвращение славного прошлого. Все было бесполезно, афиняне были обречены — обречены на несколько веков вперед оставаться лишь бессильным и страдающим объектом захватнической политики новых народов и новых империй, без устали делящих в перекраивающих античную Ойкумену. Тяжелое, лишающее воли к жизни чувство поражения, давно уже сформировавшееся в душах афинян, стало теперь почти самодовлеющим, и те, кто еще хотел жить просто как люди, как население Аттики, обыватели, македонские подданные, должны были навсегда перестать сознавать себя свободными гражданами вечного города Паллады.
Казалось, все беды, все унижения, которые только могут выпасть на долю свободного народа, уже были изведаны афинянами, но воистину бездонен ящик Пандоры. В 296 году войска Деметрия вторглись в Аттику. Захватив Элевсин и Рамн, он послал доверенных в Пирей с просьбой приготовить оружие для тысячи человек. Ненависть к Лахару сделалась к этому времени столь велика, что жители Пирея склонились на сторону Деметрия. Сделавшись господином гавани, он прервал всякую связь Афин с морем, не пропуская сюда ни один корабль с продовольствием, и в городе, давно уже живущем за счет привозного хлеба, начался голод. Отдельные эпизоды из сумрачной, казалось, дошедшей до последней черты тогдашней афинской жизни сохранились в сочинениях античных писателей. Так, они рассказывают о том, что даже мера соли стоила тогда сорок драхм, что горожане ели траву, корни и насекомых, а один из них едва не был убит своим сыном из-за дохлой крысы. Рассказывают, что сам Лахар снял в это время золотой убор с Фидиевой Паллады и золотые щиты с архитрава Парфенона, продал все это и все-таки должен был довольствоваться за обедом горсткой каких-то жалких ягод.
Последней надеждой афинян была ожидаемая со дня на день помощь от Птолемея, и вот наконец они увидели с Акрополя появившийся около Эгины египетский флот в сто пятьдесят кораблей. Однако, увидев явно превосходящие силы Полиоркета, получившего к этому времени подкрепление из Пелопоннеса и Кипра, корабли Птолемея повернули назад, предоставив афинян их собственной участи. Лахар бежал из города, переодевшись в крестьянское платье и вымазав сажей лицо, с коробом навоза за плечами. Как только это стало известно, изнемогавшие от тягот затянувшейся осады афиняне отправили послов к Деметрию, униженно моля о пощаде. С игрой в независимость на этот раз было покончено.
Войско Деметрия вступило в голодный, поблекший, затаившийся в ожидании город. Царь приказал всём собраться в театре, окружил сцену солдатами и обратился к народу с длинной, по видимости спокойной речью, в которой, избегая угроз и гневных выражений, напомнил о том, сколько хорошего он сделал в свое время афинянам и как они отплатили ему за это. Однако, закончил Деметрий, его любовь к Афинам так велика, что он прощает их и на этот раз, он прибыл, чтобы избавить народ Паллады от новой тирании, и считает более достойным победителя прощать, а не карать. В заключение он объявил, что позволяет гражданам избрать по своему усмотрению новых должностных лиц, а также дарит им привезенный на кораблях хлеб. Растерявшиеся от столь неожиданных милостей, афиняне и плакали и рукоплескали. И вот уже опять записные ораторы соревновались друг с другом в похвалах великодушному царю, но всех их превзошел Дромоклид: он предложил Деметрию принять в дар от афинского народа Мунихий и Пирей, две главные гавани Аттики. И так все возвратилось на круги своя, как будто бы и не было этих четырех лет бесплодной, чуть было их всех не погубившей борьбы, не было Демохара, Олимпиодора, Лахара, не было даже отчаянных, горьких надежд на свободу. Они дешево отделались, их даже не наказали, их простили, как прощает порой своих взбунтовавшихся слуг великодушный, хорошо обезопасивший себя господин, но это было, в сущности, еще большим унижением, чем наказание.
Неизбывное горе, бессильная ненависть, не имеющий ясной цели гнев (потому что чем дальше шло время, тем становилось труднее решить, на кого же надо гневаться больше, на чужеземцев или же на собственных граждан) выжигали дотла души тех, кто еще не смирился со своей теперешней участью. Все жизнеспособное, благородное, ценное уничтожалось, сгорало в этом невидимом пламени, и на его месте воцарялась навеки холодная, бесплодная, зияющая смертью пустота. И если столетием раньше мятущийся поэт Еврипид с горечью спрашивал себя и других, что же такое случилось с их великим народом, куда же подевались честные, трудолюбивые, доблестные люди, и почему взлелеянная, так дорого оплаченная в многолетней борьбе с аристократией свобода оказалась в конечном счете чем-то вроде ящика Пандоры, то сорокашестилетний, наделенный способностью пробираться к «огненным стенам мира» философ уже ни о чем не спрашивал. Не все ли было теперь равно, кто виноват, если положения дел, по-видимому, уже не исправить… Эпикур не взывал к прошлому и, как представляется, не пытался разобраться в настоящем, раз и навсегда отвернув свое сердце и ум от жестокой и в конечном счете бессмысленной борьбы за преобладание. Ему было только жаль людей, беспомощных в своем уничижении, и единственное, чем он мог им помочь, так это посоветовать, как, по его мнению, следует жить в этом непоправимо и страшно меняющемся мире да разделить с голодающими друзьями последний мешочек бобов, как он сделал во время Деметриевой осады.
Да и кто мог теперь разобраться в становящейся с каждым годом и каждым днем все более странной, как бы двойственной жизни афинян: с одной стороны, побуждаемые несбыточными мечтами о независимости и демократии, они собирали последние силы для борьбы с македонянами, а с другой — почти все они в глубине души понимали, что весь прежний их мир рушится прямо на глазах, все расползается по швам, и чем все это окончится, не хотелось и думать. И поэтому безразличие ко всему на свете, кроме выгоды сегодняшнего дня, кроме собственного самосохранения, становится постепенно определяющим отношением к жизни, а в отношениях между людьми воцаряется та «бессовестность», о которой со спокойным и презрительным удивлением писал Феофраст. Уважение граждан друг к другу утрачивалось, по мере того как они превращались все больше во что-то более близкое рабам, чем свободным, никто уже не дорожил ничьим мнением, и каждый считал для себя возможным делать все, что ему заблагорассудится и что еще позволяли все более сужающиеся рамки их общей несвободы. И еще более странным может показаться то, что именно в этой печальной обстановке общественного и нравственного упадка находилось немало таких, которые продолжали взывать (и взывать все более громко и страстно, по мере того как нарастала деградация) к справедливости, совести, честности и прочим добродетелям, которых оставалось все меньше в скудеющей эллинской реальности. Они уже не были свободными в прежнем, подлинном понимании этого слова, и поэтому на глазах друг друга при взаимном презрительном удивлении утрачивали моральные качества свободных людей, но они еще не были рабами и поэтому болезненно переживали собственное неостановимое падение и пытались его как-то приостановить.
Как жить, чему следовать в отношениях между людьми, считать ли извечными и непреложными хоть какие-то нравственные принципы или же лучше все это раз и навсегда отринуть и позабыть?.. И, может быть, самое правильное — это жить так, как призывают киники, «жевать бобы и не знать хлопот», отбросив как несуществующие все прописные истины и не оправдавшие себя добродетели? И не предъявлять к своим соплеменникам слишком высоких требований, относиться к ним так, как киник Кратет, прощающий побежденным их несостоятельность и понимающий, что неоправданно и тщетно искать высокой нравственности у голодающих. «У бедных своя мораль, — утверждал этот горбатый философ, — мораль более подлинная и естественная, потому что самые отвратительные пороки, и самый страшный из них — жадность, рождает собственность, деньги. Это так просто и между тем так трудно — поделиться с ближним, поддержать неимущего и накормить голодающего», — смеялся Кратет. В сребролюбии, скаредности он видел причину многих общественных бед, жадность представлялась ему чем-то вроде душевной болезни, некой язвой, разъедающей психику изнутри и превращающей человека в нелюдя. И в способности человека преодолеть в себе этот страшный недуг Кратет видел единственный путь к душевному спокойствию, к нравственному очищению, единственное средство обрести философский взгляд на вещи и стать наконец действительно человеком: «сумеешь легко развязать кошелек и, запустив туда руки, щедро давать другим, а не так, как теперь, терзаясь, медля и дрожа, как будто у тебя руки отнимаются. Ты будешь так же поступать, когда у тебя кошелек полон, а если он опустошится, не станешь горевать… не имея гроша за душой, не будешь желать ничего большего, но станешь жить, довольствуясь тем, что есть, не стремясь к тому, чего нет, вполне довольный действительностью…» Так просто и между тем поистине непреодолимо, недостижимо для большинства смертных, у которых засаленный кошелек, не всегда даже туго набитый, вытеснял понемногу и любовь, и долг, и семью, и отечество, и самую душу…
Все же прочее, всякие там благородство, совестливость, высокий образ мыслей Кратет и все другие киники считали не стоящей упоминания чепухой, досужей выдумкой не знающих подлинной жизни людей. Бесконечно далекий от того, чтобы взывать к идеалам, навсегда оставшимся в прошлом, к тем ценностям, в которые он не верил вообще, он советовал людям жить проще, как можно проще и любил повторять, что только тогда станешь истинным философом, когда «поймешь, что нет никакой разницы между вождем войск и погонщиком ослов». Сам прожив жизнь «шутя и смеясь, как на празднике» (о, этот горький смех бессилия и безнадежности, хуже которого нет, наверное, ничего), фиванский мудрец старался как мог подбодрить, порадовать людей, сострадая им всей душой и не в силах им действительно помочь, и люди видели это, понимали и любили бескорыстного киника.
Действительно, киники словно бы смеялись над всем белым светом и прежде всего над собой и при этом пользовались уважением не только простого люда, но и сильных мира того. Потому что, бесприютные и неимущие, все променявшие на нищенский посох и свободу, они действительно ни от кого не зависели или зависели в бесконечно меньшей степени, чем большинство окружавших их людей. Ничем не дорожа и ни в чем особенно не нуждаясь, они могли позволить себе роскошь ценить человека не за то, что он имеет, не за золото, вещи, земельные угодья и количество рабов, а за то, что он представляет сам по себе, за ум, душу, доброту, за его отношение к людям и прежде всего к обездоленным и сирым. Испытывая непреодолимое отвращение к тем формам общественного бытия, в условиях которого им выпало жить, не желая участвовать в нарастающей лжи, жестокости и насилии человека над человеком, они отрицали саму пользу развития, культуры, цивилизации, утверждая, что по мере этого развития извращается, изживается все хорошее, цельное, здоровое, что было изначально присуще роду людскому. Главное же зло, как и Кратет, они видели в собственности. Все зло в вещах, — проповедовал его ученик и последователь Метрокл, — ибо они «покупаются или ценой денег… или ценой времени и забот». Страсть к приобретательству как худшее из зол высмеивал в своих диатрибах бывший раб Менипп из Гадар, а Моним Сиракузский, не имевший привычки стеснять себя в выражениях, «говорил, что богатство — это блевотина».
И вообще для киников (в большинстве своем людей из низов, не получивших особенного образования, в достаточной степени чуждых утонченной культуре, традиционному образу жизни обеспеченных эллинов прошлого) жизнь представлялась тяжелой, простой, некрасивой, не слишком-то ценной. Общественные установления, цивилизация, государство отождествлялись для них с угнетением, неравенством и унижением, бесконечным, многообразным, умерщвляющим унижением простого человека, бессильного перед этим непреодолимым злом. Они видели мир глазами людей, не верящих больше ни в собственное, ни в историческое будущее. Все казалось им бесполезным, бесцельным и лишним, они жили, лишь бы прожить, сами не зная для чего. И если Сократ (первым начавший ту «перечеканку монеты», которую считали своей главной целью Диоген и его последователи) убеждал когда-то Антисфена, что лучше и безопаснее быть участником хора, чем протагонистом-актером на первых ролях (поскольку «все они погибают от мечей, страдают сверх всякой меры и на глазах у всех участвуют в ужасающих трапезах»), то теперь киники отказывались петь и в хоре. Они отказывались работать, заниматься общественной деятельностью, служить в армии, не приобретали собственности, не женились, не заводили детей, чтобы не быть бессильными свидетелями и их страданий.
Те очень немногие из них, которые имели склонность к сочинительству (и прежде всего Менипп), придумывали забавные письма от имени богов, ни во что не веря и не боясь никаких несуществующих высших сил; сочиняли всякие невероятные истории, все выворачивая наизнанку, чтобы сделалась еще яснее и несомненнее вопиющая неподлинность человеческой жизни. Но вообще они воздерживались от каких-либо писаний, предпочитая обучать своей философии прежде всего примером собственной жизни, следуя в этом заветам Диогена: «Я считаю важным приносить человеческому роду пользу больше других людей не только тем, что у меня есть, но и самой своей личностью».
Особенно важным казалось киникам называть все вещи своими именами, что они и делали с неукоснительной последовательностью, словно бы нарочито зля обывателей, стремящихся сохранить хотя бы внешнюю благопристойность. Впрочем, может быть, и не нарочито, поскольку киникам было действительно глубоко безразлично мнение окружающих; просто эти оборванные философы отчаяния и нищеты по-своему понимали правду жизни и пользу ее отражения в словах и делах, стремясь во всем оставаться предельно правдивыми и больше всего ненавидя лицемерие. Впоследствии, упрекая киников в том, что они «наносят ущерб стыдливости», Марк Туллий Цицерон так подытоживал общее на этот счет мнение: «Они порицают и высмеивают нас за то, что мы, говоря о непозорных вещах, употребляем постыдные слова, а позорные вещи называем их именами. Разбойничать, обманывать, прелюбодействовать, по существу, позорно, но об этом говорят… прилагать старания насчет детей, по существу, прекрасно в нравственном отношении, но по своему названию непристойно. Эти же философы рассматривают и многое другое по этому вопросу, нанося ущерб стыдливости». Той «стыдливости», которая становится излишней роскошью в обществе, где уже все презирают друг друга как несвободных и где высокие слова обесцениваются убожеством реальности.
Киники не видели будущего (может быть, потому, что у того слоя людей, который они представляли, этого будущего действительно не было), не верили ни в какое дальнейшее совершенствование жизни. Они ненавидели общество, принижающее и отвергающее их, и считали единственно счастливой жизнь «по природе» — жизнь первобытной орды, где, как им казалось, все были равны и где имели значение прежде всего естественные достоинства людей. Только там, в «золотом веке Кроноса», торжествовало, как любили они подчеркивать, подлинное право — естественное право, даже жизнь диких зверей казалась им лучше и правильнее жестокой, неправедной и самоубийственной жизни их современников. А может быть, просто им нравилось верить, что на тех, других срезах времени, в диком стаде или же в первобытной орде, была возможной та самая свобода, которую они ставили превыше всего, ценили дороже всяких благ и добродетелей. Та вожделенная и недосягаемая человеческая свобода, которая обернулась для них свободой бродячей собаки, потому что никакой иной и не могло быть в том раздираемом тревогой мире, в котором им выпало жить.
Это был один ответ на кровь и насилие столетие длящихся войн, на нищету оторвавшегося от исконного труда на земле и превращавшегося в чернь народа, на указы македонских военачальников и оргии на Акрополе. Это был бессильный, но категорический ответ внутренне свободных людей, людей, возможно, созданных для лучшей доли, но не обретших ее и не имеющих больше надежд когда-либо обрести. Это был ответ гордых — при том, что они стали всего-навсего бродячими собаками — людей, поставивших бедность выше богатства, природный ум выше ложной образованности и убогость, некрасивость, неустроенность — выше зиждущегося на неправедности великолепия.
Но это о тех, которые больше не верили в способности людей выработать более правильные и разумные способы существования, а что же оставалось другим, которые продолжали считать, что все в мире стремится к какой-то неведомой, но главной, все объясняющей и оправдышающей цели?.. Трудно объяснить, обосновать достаточно убедительно, почему человек выбирает для себя ту или иную философскую систему, чем в конечном счете определяется его концепция жизни, его понимание мироустройства и бытия. Вероятнее всего, что выбор этот определяется прежде всего складом ума и души, особенностями мировосприятия и мышления, поскольку из одной и той же среды, из людей примерно того же образования, положения и состояния одни предпочитали отказ и уход, уход хотя бы в собственную иллюзорную независимость, другие же продолжали сохранять твердую, почти фанатичную веру в разумную целесообразность бытия и высшее предназначение человека. И такие шли учиться к Зенону, непоколебимо стоявшему на том, что поведение каждого из смертных, вся его жизнь должны определяться понятием долга, который есть добровольное и безусловное подчинение некоему неписаному Закону — главному закону мироздания.
Восприняв многое от кинизма, и прежде всего равнодушие к благам внешним, Зенон и его последователи и то же время вкладывали несколько иное понимание и проповедуемую ими «согласованную с природой жизнь», подразумевая под этим не крайнее опрощение, идеализируемую киниками «жизнь по природе», но именно следование по мере возможности тому самому Мировому закону, о котором говорил уже Гераклит. Ибо высшая цель разума, как учил бессмертный эфесец, постичь этот закон (он же Мировой разум), а склониться перед ним есть высшее правило поведения: «Мудро только одно — признавать разум, правящий всем во всем». Не своеволие и своенравие, принимаемое некоторыми за пресловутую свободу, не самомнение (которое стоики, вслед за Гераклитом, считали одним из самых страшных недугов, постигающих человека), но единственно подлинная свобода подчинения всеобщему. Всю свою жизнь, учили стоики, надо построить в соответствии с этим подчинением, и быть хорошим надо не собственной пользы и выгоды ради, но прежде всего для того, чтобы соответствовать этому главному закону. С категорическим презрением отказывая в мудрости тем, которые, подобно «философам из Сада», воображали, что человек может жить так, как хочется, стоики утверждали, что каждый из смертных должен жить не для себя, но для людей, ибо, как писал об этом впоследствии Цицерон, «люди рождены ради людей, дабы они могли быть полезны друг другу», и надо стремиться прежде всего к тому, чтобы «служить общим интересам, обмениваясь услугами, давая и получая, и знаниями своими, трудом и способностями накрепко связывать человеческое общество».
Служить же обществу, людям, всему человечеству (ибо для стоиков мир представлялся одной огромной общиной) может только человек добродетельный, которому присущи справедливость, проницательность, мужество и рассудительность, а также связанные с этими качествами и непосредственно вытекающие из них воздержание, величие, благородство души, упорство, решительность и добрая воля. Все эти добродетели, без обладания которыми не может быть разумной и правильной жизни, взаимно обусловлены, учил Зенон, «и кто имеет одну из них, тот имеет их все». Особенное значение он придавал справедливости, без которой вообще невозможно жить, и мужеству, потому что жизнь человека — одно беспрерывное испытание, выдержать которое далеко не каждому под силу, та доблесть, которая необходима человеку не для того, чтобы добиться посредством нее каких-то побед и благ для себя лично, но для того, чтобы сражаться за справедливость. Следуя Сократу, убежденному в том, что нет ничего хуже для человека, чем ложное мнение, Зенон призывал своих последователей избегать лжи, которая все переворачивает в жизни смертного и отнимает у нее самый смысл. Не о себе надо думать, убеждал философ из Пестрого портика, но о той пользе, которую ты приносишь, не к благополучию телесному и материальному надо стремиться, но к нравственной красоте, которая одна только и есть благо.
Признавая, что не каждый наделен добродетелями от природы, Зенон считал, что «добродетели можно научиться», обрести ее посредством самовоспитания и прежде всего овладения знаниями о мире, пониманием основных закономерностей бытия, поскольку пороки человеческие происходят, по его мнению, от невежества, «незнания вещей». Главное, убеждал он своих слушателей, — это не делать зла, ибо нет кары страшнее осознания причиненного зла и нет судии строже, чем муки нечистой совести. Призывая к жизни предельно простой, во всех отношениях непритязательной, скромной, он указывал как на пример такой, подлинно добродетельной жизни на жизнь Сократа, Антисфена и Диогена, этих бессребреников и правдолюбцев, ничего для себя лично не хотевших и не искавших, замечая, что «кинизм есть кратчайший путь к добродетели». Сам равнодушный к благам внешним, Зенон советовал своим последователям раз и навсегда отказаться от приобретательства, от тяготения к деньгам и вещам, от стремления первенствовать в чем бы то ни было, ибо «мудрецам принадлежит все на свете, ибо закон дал им всесовершенное обладание». Следуя заветам Платона, он напоминал им о том, что философы, занятью поиском истины, должны презирать и действительно не ставить ни во что все то, чего усиленно добивается большинство людей, из-за чего происходит борьба и соперничество, напоминал о том, что только действительно мудрым людям ничего не нужно и поэтому только они действительно справедливы.
Вопрошавшим о счастье он отвечал, что счастье — это сама добродетель, нравственное совершенство, ибо ведущие добродетельную жизнь располагают самым главным и единственным условием для счастья — безмятежностью духа, спокойной совестью. Что же касается «благ тела» (таких, как здоровье, красота, богатство, сила, знатность происхождения), то они ничего не решают в жизни человека, не имеют никакого отношения к счастью, и поэтому следует относиться к ним с полным равнодушием, даже к самой жизни и смерти нужно относиться так, как относится хорошо понимающий и сознающий, что и это тоже временное и в конечном счете не главное. Главное же — это блюсти заключенную в нас душу, эту частицу вселенского Логоса высшего разума и бога. А если уж говорить о чем-то желаемом и действительно цепном в нашей жизни, так это только о том, чтобы «иметь достойную родину, достойного друга и видеть, что они счастливы». Как сообщают античные авторы, основатель стоицизма был непримирим в отношении недостатков близких к нему людей и тех, в ком не усматривал обязательных для человека добродетелей, честил «врагами, ненавистниками, рабами и чужаками друг другу». Не признавая (в отличие, скажем, от перипатетиков) чего-то среднего между добродетелью и пороком, Зенон требовал от своих учеников строжайшего следования проповедуемому им нравственному идеалу, призывая их жить в простоте, бедности и по правде, однако далеко не всем стоикам это оказывалось под силу.
Жить, совершая все, что должно, — вот что стало главной заповедью стоицизма, альфой и омегой их философии, прямо противоположной — при целом ряде сходных постулатов — Эпикурову учению, целью которого было как раз обратное — доказать, обосновать и подтвердить собственным примером возможность для человека жить по собственному разумению и не для какой-то высшей цели, а просто для себя, для этой единожды нам данной жизни. И если сын Неокла (и в этом он человек навсегда уходящего времени, один из последних подлинно свободных граждан независимого демократического полиса, уступал Зенону в исторической дальновидности) не представлял себе, по-видимому, какой-то другой формы общественного бытия, кроме той, которая разрушалась, распадалась у него на глазах, основатель стоицизма мыслил гораздо шире. Не оглядываясь на полисное прошлое, навсегда для него изжитое, он верил в возможности упорядочения человеческой жизни, и в частности общегреческой жизни, и в трактате «Государство» рисовал свой образ идеального общества, в чем-то напоминавшего платоновское.
Видя весь мир наш чем-то вроде огромного «государства, объемлющего богов и людей, Зенон не считал существенными различия между отдельными народами и государствами и нисколько не скорбел (тем более что он не был ни афинянином, ни эллином по крови) при виде горестей и бед агонизирующей афинской демократии. Эта форма правления вообще казалась ему наименее совершенной, а «наилучшим государственным правлением» он считал «смешанное из народной власти, царской власти и власти лучших людей». Поэтому он благосклонно взирал на то, как бывшие афинские граждане превращались понемногу, как и все остальные греки, в подданных македонских монархов и удостаивал своей философской опеки и дружбы будущего царя Антигона, веря больше в возможности единовластия, чем в будущее народовластия. В отличие от собиравшихся в Саду, для которых свободный, но небольшой, в определенной степени замкнутый полис навсегда остался идеалом государства, стопки видели будущее человечества в большом, может быть, даже на всю планету, разумно устроенном государстве, зиждущемся на самоограничении, добродетелях и неукоснительном исполнении общественного долга каждым из граждан.
Идя во многом по следам Платона, философ из Пестрого портика считал, что перед служением всему человечеству должны отступить заботы о своих городах, соплеменниках и семьях, даже любовь к своим близким и детям. Главный закон такого идеального общества — это ставить общее благо выше блага отдельного человека, и поэтому в будущем «космополисе» (этой уменьшенной копии государства-вселенной, управляемого Разумом-богом) все будут равны и все будет общее. Как пишут в связи с этим античные авторы, «в том же «Государстве» он утверждает общность жен… запрещает строить в городах храмы, суды и училища и о деньгах пишет так: «Денег не следует заводить ни для обмена, ни для поездок в чужие края». Некоторые считают, что Зенон считал целесообразным для того в идеальном государстве общность детей и жен, чтобы окончательно исчезли причины соперничества, зависти и вражды между отдельными гражданами. Во имя этого будущего «космополиса» и должен, по мнению основателя стоицизма, работать, трудиться, действовать каждый разумный и сознательный человек, оправдывая свое высшее, не им самим заданное предназначение. И как в свое время Платон надеялся на поддержку «просвещенной тирании» при осуществлении своих планов оздоровления греческого общества, так и теперь Зенон питал, по-видимому, определенные иллюзии относительно некоего образованного и причастного к философии монарха (может быть, он хотел видеть такого в Антигоне Гонате), который бы относился как к «славной службе» к своей царской власти и под эгидой которого воспрянул бы захиревший эллинский мир.
И все это казалось полнейшей ерундой, пустыми, беспочвенными, лживыми иллюзиями «философам из Сада», не приемлющим никакого другого устройства жизни, кроме как тот, который им завещали их деды и прадеды — свободные, гордые, независимые люди, строившие прекрасные храмы, театры, учившие своих детей по поэмам Гомера, любившие и деньги, и сражения, и дальние странствия по неведомым землям, и вообще всю эту нашу земную жизнь, такую заманчивую и опасную. Им не представлялась разумной и правильной примитивная, дикая жизнь первоначальных людей, тот «золотой век», к которому звали киники (как будто бы можно поворотить вспять никому не подвластное время!), им казалось безжизненной схемой учение об обществе стоиков, и схемой опасной, поскольку в основе ее лежало стирание, уничтожение человеческой личности, свободы воли и выбора, которая одна только и делает человека тем, чем он призван быть, — самым высшим звеном в развитии жизни здесь, на земле, а может быть, и во всей Вселенной. Эпикур и его последователи не верили в спокойное благополучие при просвещенных монархах, не принимали как такового общественного долга потерпевших поражение, и поэтому продолжали настаивать на том, что главная цель человеческой жизни — личное счастье, наслаждение радостью бытия.
И им хотелось верить, что эти извечные человеческие добродетели (те же самые, на которые уповал и Зенон) — благоразумие, мужество, умеренность и справедливость — помогут им остаться свободными и в то же время прожить умиротворенно и счастливо отпущенный им срок. За которым нет ничего, абсолютно ничего, ни какой высшей воли и никакого божественного предусмотрения. Добродетель в конечном счете оказывалась искусством жить, а мудрость — умением уцелеть, выжить, не причиняя другим несправедливости и зла. Сын Неокла был уверен, что достигнуть этого можно при любых обстоятельствах, и призывал своих последователей совершенствоваться в добродетели, «совершенно выбрасывая дурные привычки, все равно как скверных людей, долгое кремя приносивших нам большой вред». Главное, как учил он собиравшихся в Саду, — это никогда не терять здравый смысл «того благоразумия», которое он считал «дороже даже философии», ибо «от благоразумия произошли все остальные добродетели: оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно».
Помня о том, что возможности человеческой жизни весьма ограничены, он советовал своим последователям, людям вообще не ставить перед собой слишком много задач. И если Демокрит в значительно более благоприятные для греков времена полагал, что человеку не следует рассчитывать на счастье, какое-то необыкновенное блаженство и хорошо, если удастся достигнуть хотя бы благополучия, той сдержанности, которую он сравнивал с гладкой поверхностью спокойного моря, то сын Неокла предъявлял к жизни еще более скромные требования. Главное — это спокойная совесть, ибо «справедливый в высшей степени свободен от тревоги, а несправедливый полон очень сильной тревоги», главное — это отстранение от зла, которое прежде всего разрушает личность и навсегда закрывает пути к счастью для совершившего зло.
Этика Эпикура — это проповедь умеренности и самоограничения (хотя в отличие от стоиков прежде всего ради собственной пользы), и это прекрасно понимали подлинные его последователи, те, кто дал себе труд разобраться в сущности Эпикурова учения, страстно отвергавшие, подобно цицероновскому Торквату, расхожие обвинения Эпикура в самом примитивном гедонизме: «О прекрасный, открытый, простой и прямой путь к счастливой жизни! В самом деле, для человека, конечно, не может быть ничего лучше отсутствия всякого страдания с душевною тяготою и наслаждения величайшим удовольствием души и тела… Тот Эпикур, которого вы все считаете слишком преданным удовольствиям, вопиет, где Природа «вопит» и даже «лает», что не может быть счастливой жизни без мудрости, добродетели и справедливости».
В той жизни, которая теперь наступала для греков, когда одни, предаваясь неправедно нажитой роскоши, ставили статуи из золота знаменитым гетерам, а другие зачастую не знали, чем будут сегодня обедать, когда все более жестокой реальностью становилась та «общая нужда, которая тяжелее нужды отдельного человека», когда бедность казалась чем-то вроде постыдной болезни, а человек все больше ценился лишь по количеству имеющегося у него золота и всякого добра, в это тяжелое, последнее для свободных людей, бывших граждан время Эпикур выступает с вдохновенной проповедью умеренности и простоты, убеждая своих последователей, и особенно молодых, в том, что «от зверских занятий количество имущества накапливается кучей, но жизнь образуется несчастная». Он советует им не только не гнаться за богатством, поступаясь ради него и честью и совестью, но и вовсе не думать об этом и не завидовать богатым, ибо «многие, получив богатство, находят в нем не избавление от зол, но перемену на большие». Сам он был убежден в том, что «не уничтожает душевной тревоги и не рождает значительной радости ни обладание огромным богатством, ни почет и уважение со стороны толпы».
Довольствоваться своим — вот что казалось нашему философу единственно благоразумным и реально достижимым, поскольку после стольких попыток добиться равенства между гражданами, сделать менее всесильным богатство и менее унизительной бедность уже не приходилось рассчитывать на то, что имущие поделятся с неимущими, или же на то, что неимущие сами заставят их поделиться. Жизнь вокруг складывалась так, что готовиться надо было скорее к худшему, чем к лучшему, и это прежде всего советовал иметь в виду Садослов: «Довольство своим мы считаем великим благом не затем, чтобы всегда довольствоваться немногим, но затем, чтобы, если у нас не будет многого, довольствоваться немногим. В «довольстве своем», в сознательно поддерживаемой бедности, скромности жизни (при том, что он был против крайностей опрощения, свойственной кинизму) Эпикур видел залог стойкости в годину бедствий, считая, что «если они (люди) держат это в уме, они побеждают несчастья от недостатка в бедности».
И поэтому, учил он своих последователей, если даже ты сравнительно не беден и имеешь какие-то более или менее надежные средства к существованию, будет более правильным и разумным сознательно ограничивать себя в потребностях, не стремясь к дорогому, редкому, вкусному, такому, как не у всех, но придерживаться во всем самого простого и доступного: «Мы стремимся к ограничению желаний не для того, чтобы всегда употреблять пищу дешевую и простую, но чтобы не бояться относительно этого, то есть если придется употреблять такую пищу». Не боится бедности тот, кто сознательно беден, который считает такой образ жизни наиболее правильным и безопасным, — утверждал Садослов, противопоставляя свое понимание подлинной бедности и подлинного богатства развращающей роскоши варваров (а варварами для него были и ненавистные македоняне), расточительству новых богачей. Ведь не считали же себя бедными и оттого несчастными их деды и прадеды, свободные афинские граждане, которые соревновались между собой не в яствах и напитках, не в дорогих покрывалах и золотых украшениях, но в доблести и любви к родине: «Бедность, измеряемая целью природы, есть великое богатство, а неограниченное богатство есть великая бедность».
И мудрость, достигаемая посредством самовоспитания, самосовершенствования, овладения правильной философской системой, состоит в том, чтобы, как учил еще Демокрит, соразмерять свои желания с возможностями и уметь выделить в своей жизни самое главное и необходимое, а не хвататься то за одно, то за другое в погоне за приобретениями, ощущениями, впечатлениями и тут же бросая в тщетной погоне за призраком счастья, которое, как настойчиво повторял сын Неокла собиравшимся в его Саду, не во вне, но внутри нас.
Во многом это совпадало с тем, что внушал своим ученикам и финикиец Зенон, однако исходные посылки и конечная цель Эпикуровой этики были совершенно иными: если стоики требовали от человека быть добродетельным прежде всего ради высшего его предназначения, ради бессмертной души — частицы вселенского Логоса, то Эпикур убеждал своих последователей вести правильный и добродетельный образ жизни ради них же самих, ради собственного спокойствия и самоудовлетворения, которое одно только и есть основа счастливой жизни: «А я зову тебя, — пишет он своему ученику Анаксарху, явно намекая на потусторонние построения стоиков, — к непрерывным удовольствиям, а не к добродетелям, плоды которых — надежды пустые, тщетные и полные тревоги». Именно ради того, чтобы прожить отггущенный каждому срок достойно и вместе с тем радостно, он советует ученикам самим сознательно формировать свою личность — человека свободного и мыслящего, чуждого добровольного рабства — низменных качеств «свиноподобных людей». Будем осторожны и благоразумны в своем выборе и избегании, — призывает он собиравшихся в Саду, — чтобы достигнуть в конце концов безмятежности души — единственно доступного смертным счастья. Счастья людей, для которых навсегда миновала пора общественной, политической жизни (а только такой и должен, и хочет, и стремится жить человек как «существо общественное», по определению Аристотеля). Счастья людей, которые так много знали, так хорошо все понимали, но мнением которых уже никто не интересовался. Единственно возможное счастье людей, в мыслях своих научившихся достигать «огненной ограды мира», а в реальности становящейся для них все более чуждой и враждебной, — всего лишь подданных македонского царя, не заслуживающих ничего, кроме как унижающего, парализующего, вычеркивающего из жизни пренебрежения.
Да, теперь они были всего лишь подданными или же будущими подданными, хотя к этому времени блистательный их царь, Деметрий Полиоркет, покинул Афины ради достигнутого им наконец настоящего царства и настоящего престола в Македонии. В 294 году, когда, казалось, удача совсем уже отвернулась от него, когда он потерял часть своих владений в Греции, когда Лисимах захватил Эфес, а Селевк подчинявшиеся Деметрию Киликию и Финикию, Полиоркету удалось овладеть македонской короной. Отчаянным броском, заметно растерявшийся от скопления неудач, позорно прогнанный спартанцами из Лаконии, он кинулся в Македонию, где шла в это время ожесточенная борьба за власть, и оказался победителем в этой борьбе, предательски убив молодого царя Александра. Воцарение Деметрия, известного незлобным правом, щедростью и обаянием, не вызвало какого-либо противодействия у македонян, у населения, уставшего от стольких лет гражданских смут, тем более что в его сыне, добродетельном Антигоне Гонате, выученике философов, многим хотелось видеть того властелина, который окажется, наконец, в состоянии поправить пошатнувшиеся дела Македонии и укрепить престол.
Что же касается афинян, то они пристально следили за тем, как разворачиваются события на севере, только и выжидая удобного случая, чтобы отложиться от Деметрия. И это было самое непонятное: после стольких неудачных попыток освободиться от власти македонян, после стольких унижений и бедствий последнего времени все равно находились люди, граждане, мужи, которые стремились к свободе и надеялись на восстановление хотя бы какой-то доли утраченного благополучия. Уже сразу же после того, как Деметрий обосновался в Пелле, они стали втайне договариваться о том, чтобы отложиться от царя и прежде всего прогнать оставленный им гарнизон в Пирее. Заговорщикам, во главе которых стояли Гиппарх и Мнизидим, как будто бы удалось склонить на свою сторону одного из начальников гарнизона, карийца Гиерокла, который должен был ночью отворить им ворота крепости и впустить их внутрь. Однако Гиерокл выдал их, и, когда глубокой ночью четыреста двадцать заговорщиков явились к стенам Пирея, их встретили две тысячи македонских солдат. Большая часть явившихся была перебита, а остальные были выданы Деметрию, так же как и те, что выступали в народном собрании за неповиновение царю. После этого Полиоркет окончательно отвернулся от неблагодарной и неверной афинской демократии, разрешил возвратиться в город приверженцам Деметрия Фалерского и прочим противникам народовластия, а также поместил свои гарнизоны не только в Пирее, но и в самих Афинах. И опять в Афинах на несколько лет воцарилось мертвящее спокойствие безнадежности.
Решив окончательно привести греков в повиновение и обезопасить себя на будущее от так возмущавшего его вероломства с их стороны, Деметрий обратился прежде всего против беотийцев, которых подстрекал против царя нашедший прибежище в их стране Лахар. В 292 году, подведя к стенам Фив свои знаменитые осадные машины, Деметрий приступил было к осаде города, однако измученные бесконечными войнами, вторжениями и поражениями последних пятидесяти лет беотийцы предпочли сдаться. Войдя в город, царь велел для начала казнить десять граждан из тех, что подстрекали народ к неповиновению, затем назначил тех, кто, по его мнению, был достоин управлять страной, а наблюдать над всеми оставил своего друга, ученого мужа Иеронима из Кардии, написавшего историю диадохов. Затем Деметрий приводит в повиновение этолян (289) и начинает готовиться к походу на восток, решив вернуть утраченное и в Азии. Узнав об этом, Селевк, Лисимах и Птолемей, поспешно подтвердив союзнические обязательства, также, со своей стороны, начинают готовиться к встрече своего беспокойного свойственника.
Однако к тому времени блистательный Полиоркет наскучил судьбе: в 287 году он серьезно заболел; воспользовавшись этим, в Македонию вторглись Лисимах и эпирский царь Пирр, на сестре которого Деидамии был женат третьим браком Деметрий. Одно время между ними сложилось нечто вроде союза, Полиоркет уже даже собирался доверить Пирру управление Грецией, но Деидамия умерла в 297 году, и вскоре они, претендующие оба на македонский престол, превратились в откровенных соперников. И вот теперь Пирр, о мужестве, простоте и бесстрашии которого давно уже шла молва и в Греции, и за ее пределами, был провозглашен царем Македонии. С этого времени окончательно закатилась звезда Полиоркета, он бежал из Пеллы, потерял один за другим все греческие города, на верность которых, как казалось ему, он мог рассчитывать, пока не оказался на положении почетного пленника у своего зятя Селевка. Но до этого он еще раз сразился с афинянами, которые когда-то обожествляли его, не переставая втайне ненавидеть.
Дело в том, что едва в Афинах стало известно о болезни и свержении Деметрия, как сторонники самостоятельности и народовластия снова (как это бывало после смерти Филиппа и Александра) попытались воспользоваться обстоятельствами и вернуть свободу. Теперь во главе восставших стал Олимпиодор, сподвижник Демохара, он призвал демос к оружию и повел его на македонских солдат. И опять на короткое время свершилось, казалось бы, невозможное: толпа чем попало вооруженных людей, среди которых было немало стариков и подростков, разбила чужеземное войско. Когда вскоре на помощь македонянам прибыло подкрепление из Коринфа, Олимпиодор повел народ и против него, призвав к свободе также жителей Элевсина. И афиняне, став на время опять афинскими гражданами, деятельными и бесстрашными, разбили и этого врага. Таковы были жизненная сила и свободолюбие этого великого народа, что даже в наиболее сумрачные для него времена — а в сущности, времена постепенного угасания — он находил в себе вдруг новое мужество, новую решимость к борьбе, и тогда феофрастовские обыватели отступали на задний план, а впереди опять оказывались способные на подвиги.
Однако Деметрий был полон стремления во что бы то ни стало поставить на место непокорных афинян, расправиться с ними за все их прежние предательства, тем более что другого выхода, равно как и пристанища, у него все равно не было. И вот Деметрий с сыном Антигоном и войском более чем в 10 тысяч человек вступил в пределы Аттики. В страхе афиняне рассылали во все стороны мольбы о помощи, даже царю Боспора Спартоку. Подойдя к городу, Деметрий начал все приготовления к его осаде, но по каким-то причинам вдруг отказался от своих планов и, погрузив на корабли и солдат, и знаменитые осадные машины, отплыл от аттических берегов. Существует предание, что к этому царя склонил академик Кратет, посланный афинянами для переговоров, но, как представляется, должны были быть какие-то значительно более веские причины, чтобы заставить Полиоркета отказаться от подчинения Афин. Вскоре в Афины прибыл царь Пирр, к которому также посылали за помощью, граждане встретили его с ликованием, опасаясь возвращения Деметрия.
Но Деметрий не вернулся больше в Афины. По соглашению между ним и Пирром, которое держалось втайне даже от афинян, он навсегда отказывался от македонского престола, за что Пирр признавал его повелителем Фессалии, а также некоторых других, еще сохранившихся у него греческих городов, включая крепости Мунихий и Пирей. Афины же — уже в который раз за последние полвека — объявлялись свободными и независимыми.
И вот в независимых Афинах опять наступили спокойные времена. Все дальше, в невозвратимое прошлое уходила прежняя афинская жизнь, бурная, блестящая, самонадеянная, такая жестокая к более слабым и неспособным оказать сопротивление. Еще столетием раньше афиняне сами судили, кого карать, кого миловать, и народное собрание решало судьбы и жизни окрестных народов, обрекая на казни и выселение чуть ли не целые острова, посмевшие воспротивиться воле и интересам Афин. Когда-то один из самых яростных защитников права афинян распоряжаться делами чуть ли не всего эллинского мира, «наглейший из граждан» Клеон призывал сограждан не церемониться с непокорными союзниками, теперь наступила очередь их самих — и с ними тоже не церемонились. Теперь пришел и их черед увидеть жизнь с другой, противоположной стороны и вполне познать горечь судьба потерпевших поражение.
И с этим уже было ничего не поделать, и оставалось только или признать происходящее за неизбежную необходимость и примириться с нею, научиться жить внутри ее, в рамках ее, как учили стоики, или же противопоставить этой горькой, подтачивающей волю к действию необходимости автономную свободу собственной личности, как пытался это сделать Садослов. Противодействие, сопротивление имеет самые разные формы, и обстоятельства могут складываться так, что бунт против этих обстоятельств может выглядеть как неучастие, как проповедь личного самоудовлетворения, жизни только для себя и только по собственному разумению, к которой призывал Эпикур. И поэтому он так яростно, непримиримо, язвительно нападает на Демокритову «сквозную необходимость», ни за что не желая согласиться с тем, что все, что бы ни происходило здесь, на земле, в жизни каждого из смертных, уже заложено заранее в непостижимых закономерностях Вселенной. Он не мог согласиться с тем, что, как писал Демокрит, «начала происходящего… существуя искони, с абсолютно бесконечного времени содержали уже в себе, в силу необходимости, все без исключения: бывшее до нас, происходящее теперь и будущее», он не мог примириться с ролью бессильного объекта неведомых космических сил, бросая бесстрашный, подлинно человеческий вызов идее предопределенности, стремясь доказать — и философскими умозаключениями, и всей своей жизнью — возможность свободы выбора, свободы воли и разума.
Ради этой свободы, ради сохранения своего внутреннего мира — мира столь же бесконечного и сложного, как и космос внешний, великий, того собственного мира, в который никогда не проникнуть, не покорить, не подчинить никому из царей и героев, сын Неокла убеждал своих учеников и последователей отказаться сразу же от самой мысли как-то властвовать над себе подобными, подчинять их своим интересам, использовать в своих целях. И чем тягостнее, неопределеннее, тусклее становилась их общая жизнь, тем с большей проникновенностью он учил быть справедливыми, человечными, стойкими, как в отношении пагубных соблазнов неправедной роскоши, благополучия, зиждущегося на раболепии, лжи и предательстве, так и в отношении тех бед и несчастий, которые уготовила людям жестокая и в то же время столь щедрая на неожиданные дары и радости жизнь. Глубоко убежденный, также как и Демокрит, в том, что «бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия при царях, насколько свобода лучше рабства», Эпикур призывал разделить со своим потерпевшим поражение народом эту бедность, если уж ничего другого больше не оставалось, тем более что нищета телесная — это еще не самое страшное.
Глава 3
ГОРЬКАЯ МУДРОСТЬ ХЛЕБА НАСУЩНОГО
Едва начав жить, мы умираем, поэтому ничего нет бесполезнее, чем погоня за славою.
Феофраст
Начало и корень всякого блага — удовольствие чрева; даже мудрость и прочая культура имеют отношение к нему.
Эпикур
После того как бесславно окончилась и эта, одна из последних, попытка афинян восстановить становящуюся с каждым годом все более призрачной свободу и с людьми, подобными Демохару и Олимпиодору, по-видимому, было покончено навсегда, ужасающая тишина воцарилась в Афинах. Похоронная тишина окончательного крушения горделивых надежд при суетливом гуле обеспокоенного извечными житейскими заботами люда, основная задача которого становилась с каждым поколением все определеннее и проще — выжить и уцелеть. Теперь, когда даже македонских царей не особенно прельщала становящаяся все более сомнительной роль восстановителей древней славы Эллады, не только что с этой славой, но даже просто с благополучием было покончено очень и очень надолго, и жизнь, настоящая жизнь, со всякого рода деятельностью все больше перемещалась на восток, где новые, основанные диадохами государства готовились сказать свое слово в истории.
В сущности, граждан как таковых теперь не было вообще, ни в Афинах, ни в Фивах, ни тем более в древних ионийских городах. Теперь были только подданные и цари. Начинавшие свой путь обыкновенными воинами, соратниками молодого царя, вознесенные затем над человеческим морем благоприятным для них поворотом событий, и Птолемей, и Лисимах, и Селевк, став называться царями, «начали держать себя со своими подданными более гордо и деспотично, сообразуясь с достигнутым ими наконец саном, подобно тому, как актеры на сцене с переменой костюма меняют походку, голос и манеры». Не довольствуясь царскими почестями, эти бывшие гетайры возомнили себя, по всей вероятности, всерьез существами какой-то особой породы и стали считать себя не ниже богов. Так, Деметрий охотно принял прозвание Громовержца, преподнесенное ему в свое время лицемерными афинянами, а Лисимах дошел у себя во Фракии «до такого высокомерия и дерзости, что сказал: «Теперь византийцы пришли ко мне, когда я копьем касаюсь неба». Что же касается Птолемея, то в честь него был учрежден даже новый культ в Александрии.
Не отставали от доблестных диадохов и их не менее уверенные в своем особом предназначении дети: «Отцы еще при жизни провозгласили их царями, они одерживали победы в бесслезных битвах, они проводили жизнь в праздности и театральных зрелищах», но при этом также приказывали величать себя Благодетелями, Спасителями, Великими победителями. Безразличные к мыслям, чувствам и чаяниям человеческой массы, из которой они выделились навсегда, они считали для себя совершенно необязательными издревле принятые между людьми установления и в своем неостановимом, поистине маниакальном стремлении к власти перешагивали, не придавая им ни малейшего значения, через любые нормы морали и нравственности. Как перешагнул через удивление, нескрываемое возмущение современников Птолемей, женившийся третьим браком на собственной сорокалетней сестре Арсиное, вдове Лисимаха. Или Селевк, уступивший сыну (о чем в древности была сложена весьма романтическая легенда) свою молодую жену Стратонику, прекрасную дочь Деметрия Полиоркета. Или же как перешагнул через «устаревшие» представления о верности долгу гостеприимства зловещий Птолемей Керавн (что значит Перун), сын Птолемея I, предательски убивший этого самого Селевка, своего покровителя.
Среди этих новых героев, не соревнующихся между собой ради славы отечества и народного блага, как когда-то спартанские цари и бессмертные афинские стратеги, но словно бы одержимых плеонаксией — ненасытной жаждой власти, уничтожающих друг друга в борьбе за престолы и земли, выгодно выделялся своим благородством, сдержанностью в делах личных и политических Антигон Гонат, сын Полиоркета. Унаследовавший от своей матери Филы, дочери Антипатра, женщины образованной и честолюбивой, благородство души и высоту помыслов, молодой Антигон был во многом почти что противоположностью своему бесшабашному отцу, он в достаточной степени серьезно относился к своему назначению монарха и стал со временем одним из наиболее достойных правителей эллинистического времени, что единодушно отмечают все историки. Может быть, не последнюю роль в этом сыграло его знакомство с Зеноном, которого будущий царь услышал как-то проповедующим в Пестром портике, знакомство, переросшее в многолетние дружеские отношения. Наверное, в почтенном основоположнике стоицизма, превыше всего ставящем долг и добродетель, юный Антигон нашел наконец то, чего не могло ему дать окружение отца, но что настойчиво побуждали отыскать лучшие качества его натуры. Дружил он также со знаменитым тогда поэтом философического склада Аратом из города Солы, не раз называя его впоследствии своим учителем. Воспринятый от этих ученых мужей взгляд на вещи позволил сыну Полиоркета стать во многом выше детей других диадохов, известность которых имела главным образом сомнительно-анекдотический характер, но и он был всего-навсего царь, безразличный к исторической драме Эллады и даже Афин, где он прожил свои молодые годы. И афиняне независимо от того, кем и чем считали они себя сами, были для него только подданными.
Эти подданные могли, если им так хотелось и они были к этому способны, приспосабливаться так или иначе к сложившимся обстоятельствам или же замкнуться в своем внутреннем мире, по возможности ограничивая свою деятельность в мире внешнем, это теперь никого не интересовало. Они могли, внешне смиренные и лицемерные, втайне презирать и ненавидеть своих победителей и господ — их теперь никто не боялся. Они могли все еще гордиться принадлежностью к древней, неповторимой культуре, могли утешать себя воспоминаниями о славном прошлом — все это превращалось постепенно в предания. Все прежнее умерло, каждый был предоставлен себе самому и на волю случая, и поэтому весьма характерным для этого времени становится тип человека, в достаточной степени образованного, даже философствующего, гордящегося своим эллинством — и в то же время как будто бы совершенно без родины; человека, в совершенстве овладевшего искусством «ставить паруса по ветру» — и в то же время никому не кланяющегося; безразличного как будто бы ко всему на свете — и в то же время сострадающего сирым и малым мира сего. Человека, беспощадно анализирующего несообразности жизни, смеющегося и над своей собственной неустроенностью, и над общим бессилием рода людского прожить как-то действительно по-человечески короткий свой век, смеющегося потому, что для плача уже не было слез. Такого рода людей было, по-видимому, немало в те печальные времена угасания полисной Эллады, и одним из них был Бион Борисфенский, известный тогда по всей Греции, то ли философ, то ли поэт, то ли ритор, разносторонне одаренный человек, считавший свободу, и особенно свободу суждений и мыслей, главной ценностью и главным достоинством человека.
Про Биона рассказывали, что отцом его был торговец рыбой, а мать была гетера. Отец был продан за контрабанду в рабство вместе с семьей, и таким образом уже ребенком Бион испытал на себе всю беспощадность мира, который впоследствии, уже взрослым, свободным и философом, Борисфенит задумал преодолеть, сделавшись как бы выше, как бы вне этого мира. В целом ему повезло: какой-то ритор купил смышленого подростка, приобщил его к своему ремеслу и даже как будто бы оставил свое состояние. (Если только это не традиционная версия, довольно распространенная у античных философов, поскольку похожую историю рассказывают и о знаменитом софисте Протагоре.) Подобно другим молодым людям, жаждущим знаний, Бион оказался в Афинах, это было в правление Деметрия Фалерского. Учился у Феофраста, слушал Феодора Безбожника и других известных тогда философов, но почти все из того, что он слышал, показалось ему или заведомо лживым, или, по крайней мере, совершенно ненужным. Рано узнав жизнь с изнанки, с самого дна, Бион не усматривал ни малейшего прока ни в идеалистических построениях платоников, ни в учености перипатетиков, давно уже превратившейся в ученость ради самой учености. Подобно Антисфену и Диогену Синопскому, он отверг с отвращением всю эту ученость и, не веря ни в высший мир, ни в разумную целесообразность Вселенной, предпочел в конечном итоге всему посох и плащ бродячего киника.
Однако в отличие, скажем, от бессребреника Кратета, прекрасно усвоив ту главную истину, что «богатство есть движущая сила каждого дела», Бион любил пожить хорошо, и эти посох и плащ имели у него чисто символическое значение. Пышно одетый, самоуверенный и ироничный, научившийся извлекать немалую выгоду из своего красноречия и остроумия, он разъезжал по греческим городам, выступая с речами, завлекательными лекциями и мастерскими пародиями на знаменитых поэтов, не щадя при этом даже Гомера. Это был, в сущности, не киник, а скорее блестящий софист, подобный Протагору или Горгию, и его так и называли «искусным софистом». Своей главной задачей Биоп считал «говорить правду» (в речах ли, письмах, стихотворениях), не стесняясь при этом грубых, простонародных, даже бранных выражений, всегда готовый высмеять кого угодно, хоть каких могущественных и богатых, никого не боясь и, пожалуй что, никого не уважая. В этом он напоминал Сократа, но если бессмертный сын афинского каменотеса Софрониска всю свою необыкновенную жизнь положил на то, чтобы достучаться до совести и здравого смысла сограждан, движимый в конечном счете верой в человека, в возможность более правильного существования, то Бион словно бы играл в правдолюбие (а не правдоискательство), уже никого и ничто не надеясь исправить.
И если Протагор думал помочь согражданам своей «наукой жизни человеческой» (хоть при этом и брал за эту науку немалые деньги), то Борисфенит, который, по мнению современников, «больше всего любил сам себя», с нескрываемым удовольствием констатировал недостатки, ошибки и промахи современников и особенно глупость, скаредность и сребролюбие обывателей, вызывавшие у него потоки язвительного сарказма: «Он говорил, что скупцы так много заботятся о богатстве, словно оно их собственное, но так мало им пользуются, словно оно чужое». Ничего не принимая всерьез, даже саму философию, которую он, по его собственным словам, «первым нарядил в пестрое платье гетеры», Бион считал, что на самом деле человеку следует бояться только болезней да неизбежной старости (этого «пристанища для всех бедствий, потому что все несчастья скопляются к этому возрасту»), потому что прекрасно видел и осознавал, что в том, в сущности, очень страшном мире, в котором ему выпало жить, каждый может рассчитывать только на себя.
Но хотя блестящие сатиры и пародии Борисфенита расходились по всему греческому миру в многочисленных списках и копиях, «хотя у него было много слушателей, никто не считал себя его учеником». Да и сам Борисфенит не брал на себя великую и трудную миссию наставника душ человеческих, главным в его речах и сочинениях (а, по свидетельству античных авторов, он оставил после себя «много сочинений о достопамятных вещах») было все-таки, по-видимому, самовыражение, изложение своего нередко противоположного всем существующим представлениям взгляда на вещи. Он не верил в отличие от Зенона в некое высшее предназначение рода людского, в его вечное будущее (по крайней мере, до следующего мировою пожара). И личное благополучие в отличие от Эпикура он предпочитал трудному делу спасения ближних. И при всем этом блистательный киник не вызывал недоброжелательства ни у народа, поверженных своих соотечественников, ни у власть и силу имущих. Одно время он даже жил в Пелле, при дворе Антигона Гоната, где затмил всех прочих философов и приобрел немало врагов из-за язвительного своего языка. Однако, устав под конец и от монарших милостей, и от восторгов им же высмеиваемой толпы, и от собственного актерства, от роскошных одежд и изобильных пиров, ничего, как оказалось, не нажив и не приобретя, Бион нашел свое последнее пристанище где-то в жалкой лачуге Халкидики. Сотрапезник македонского царя, неимущим и немощным стариком он вернулся туда, откуда вышел когда-то, — в трудный мир рыбаков, ремесленников, уличных торговцев и гетер, мир невежественный, никому не интересный, живущий одним днем. Здесь никому не было дела до его прежней роскоши и славы, он был теперь только жалкий, заброшенный старик. И единственным верным товарищем и собеседником Борисфенита оставалась теперь Бедность, та самая Бедность, о которой писал он когда-то в одной из своих диатриб, словно предвидя собственное будущее. Самонадеянный и молодой, он мнил себя выше жизни и как бы вне ее, со стороны анализируя людское неразумное существование, и вот теперь Жизнь, всесильная и неумолимая в своей изначальной жестокости, усмехалась над «искусным софистом» презрительно и самодовольно… Хотя есть легенда о том, что сострадательный Антигон, узнав о бедственном положении своего «друга», послал Биону двух рабов, чтобы те облегчили своими трудами и заботами последние дни ни во что не верящего киника, уже готового, как он сам говорил, «уйти от жизни без недовольства», как покидают наскучившее зрелище.
Есть все основания говорить о том, что Эпикур был знаком с сочинениями Биона, не раз обращался к некоторым из его положений и даже встречался с ним во время его последнего посещения Афин, после отъезда из Пеллы. Их роднило, объединяло глубочайшее убеждение в том, что самое главное для человека, если он действительно человек и хочет таковым оставаться, — это свобода, независимость мысли, духа и слова. Но если учитель из Сада верил в возможность хотя бы внутреннего сопротивления одинаково мыслящих людей независящим от них обстоятельствам, неподвластному им ходу истории, то «искусный софист» считал достижимым реально лишь индивидуальное благо, да и то на каком-то (у кого длиннее, у кого короче) отрезке времени. Поэтому-то в Эпикуре все больше людей видели наставника, Спасителя, а Биону только дивились как блестящему актеру. И главное, что отличало их друг от друга и делало невозможными ни подлинное взаимопонимание, ни длительную дружбу: если любивший пожить, не желавший даже загадывать о будущем (даже своем собственном, не говоря уже о будущем пропадающих в бесславии греков) киник считал, что независимость духа и мысли отнюдь не вступает в противоречие с пресловутым умением «ставить парус по ветру» и отнюдь не пренебрегал щедротами македонских владык, то Эпикур видел в этом предательство.
Даже те скудные фрагменты сочинений и отдельные его высказывания, которые дошли до наших дней, свидетельствуют о страстной, непримиримой ненависти сына, внука и правнука свободных афинских граждан к оккупантам. «О, если бы впоследствии свергнуть самых злейших врагов наших — македонян», — писал он своему бывшему рабу Мису, выражая те самые чувства, которые побуждали афинский народ при всем его моральном и духовном оскудении вновь и вновь браться за оружие в тщетном сопротивлении надвигавшейся на них отовсюду несвободе. Сравнивая Эпикура с Демокритом, который ставил превыше всего благо государства и считал, что «следовало бы убивать врага государства во всяком государственном строе», многие упрекали сына Неокла в недостаточном чувстве гражданственности, в нарочитом аполитизме. Те же, кто относился к Садослову с симпатией, пытались его оправдать, выдвигая следующего рода аргументацию: «Что касается… его любви к отечеству, то нет слов, чтобы в достаточной степени охарактеризовать его с этой стороны. И если он не занимался государственными делами, то только вследствие чрезмерной скромности. Хотя Греция тогда переживала самые тяжелые времена, он постоянно жил там, и только два или три раза ездил к друзьям в Ионию».
В действительности же дело было не в скромности (тем более что Эпикуру было в полной мере присуще осознание своей значимости и величины как личности), но в том, что тех «государственник дел», которыми следовало бы заниматься, самого того государства, которому нужно было верой и правдой служить, больше не было. И Эпикур, призывающий «высвободиться из уз обыденных дел и общественной деятельности», понимал это лучше, чем кто бы то ни было. Демократический полис изживал себя на его глазах, народное собрание, совет, ареопаг — все это сделалось к этому времени не более чем декорацией. Общественная деятельность свелась постепенно (о чем с горечью писал еще Демосфен) к побелке домов, починке дорог да разбирательству бесконечных кляуз доносящих друг на друга сограждан — до такого рода общественной деятельности сын Неокла опуститься не мог. И если когда-то Протагор или Платон пытались вмешаться в большую, настоящую политику, создавая своды законов или выдвигая проекты идеального государства, то теперь занятие политикой означало прежде всего приведение всей жизни афинян (как и всех прочих греков) в соответствие с указами и повелениями македонских монархов. И, как правило, единственной целью занимавшихся подобной политикой было то «стремление к первенству», которое как «неразумное» порицал еще Демокрит, и извлечение всяческого рода выгод из этого первенства, из власти над согражданами, достигнутой посредством предательства и раболепства. Поэтому-то, и прежде всего поэтому, Эпикур считал недостойным свободного и честного человека участие в современной ему афинской политике, которая не имела уже никакого отношения к подлинной жизни потерпевшего поражение народа. Один из наиболее сильных и беспристрастных умов своего времени, сын Неокла не мог не видеть, не понимать, что любые реформы уже бесполезны, что история эллинов принимает слишком неблагоприятный оборот, чтобы можно было на что-то надеяться и строить какие-то планы справедливого и равноправного общества на развалинах агонизирующего полиса.
Убежденный приверженец демократического строя, того народовластия, благодаря которому афинянам прошлых столетий удалось добиться непревзойденных успехов в различных сферах человеческой деятельности, он не мыслил себе другой формы правления для Афин, но после гибели Демосфена и бесславного поражения Демохара, после постыдного политиканства Демада и Стратокла, он, по-видимому, больше не верил в возможности современной ему рабовладельческой демократии. Демократии состоятельных и раболепствующих, заинтересованных в покровительстве македонских монархов и больше всего опасавшихся столь презираемого ими охлоса — той неимущей, нравственно опустившейся толпы, которая при всем своем лицемерии и приниженности могла стать поистине страшной в крайнем, неостановимом отчаянии. И поэтому Эпикур предпочитал — и призывал к этому своих последователей — совершенное отстранение от политики, утверждая, что мудрому человеку не стоит ни заседать в собрании, ни выступать в суде. Тем более что, даже участвуй он во всех этих делах с пылом и рвением, достойным Гиперида, ничего не изменилось бы к лучшему.
И если Демокрит с его страстным гражданским пафосом, с безусловной верой в общественные законы как нечто незыблемое и самое главное учил, что «интересы государства должно ставить выше всего прочего, и должно заботиться, чтобы оно хорошо управлялось», то Эпикур все это видел несколько иначе. Главным для каждого человека он считал не государственные, а внутренние, нравственные законы, которые одни только верно указывают на то, что есть добро, что зло, что истина, что ложь, и которые сильнее всех писаных установлений. Что же касается законов государственных, то он советовал их соблюдать главным образом в интересах собственной безопасности. Со временем, по мере того как нарастала становящаяся все более опасной анархия, бессильным свидетелем которой ему выпало быть в последние годы жизни, он начинает все больше ценить сдерживающую силу законов, которые «изданы ради мудрых, — не для того, чтобы они не делали зла, а для того, чтобы им не делали зла».
Эпикуру было не понять глубокой гражданственности Абдерита, свободного и полного достоинства гражданина здорового, жизнеспособного и благоденствующего города, который (при всем том, что он любил посмеяться над непомерными амбициями сограждан) был твердо уверен в том, что «хорошо управляемое государство есть величайший оплот: все в нем все заключается и, когда оно сохраняется, все цело, а погибает оно, с ним вместе и все гибнет». Этого сыну Неокла было, по-видимому, уже не принять, потому что его государство, свободный демократический полис, хирел у него на глазах; и этот общественный распад, мучительное угасание великих Афин внушали такую тревогу и страх, от которых не могла заслонить никакая философия. И поэтому главным лозунгом эпикурейцев становится — не участвуй в политике, и поэтому он наставляет своих учеников, растерявшихся при виде тягостного зрелища перерождения всех былых общественных установлений: «Кто лучше всего справляется со своей боязнью перед внешними обстоятельствами, тот делает то, что может, дружественным себе, а чего не может, делает по крайней мере не враждебным; а со всем тем, с чем он не может даже и этого сделать, он прекращает общение и удаляет из своей жизни все, в отношении чего это полезно сделать».
Это «прекращение общения», по мере возможности полное отстранение от всего неприемлемого, враждебного, наконец, просто возмущающего, раздражающего, но что совершенно невозможно ни исправить, ни пресечь, ни приостановить, становится постепенно основным из условий, которые Эпикур и его последователи считали необходимыми для достижения полного душевного спокойствия. Мир вокруг становился все более опасным, наступательно-уничтожающим, значит надо было создать вокруг своей личности как можно более крепкий заслон невозмутимости, непроницаемости для неразумия, жестокости и зла, в противном случае можно было рано или поздно потерять самого себя. Обращаясь к этой стороне Эпикурова учения, многие уже в древности считали, что положение об атараксии отстраненности сформировалось у него в значительной степени под влиянием Пиррона из Эллады, родоначальника философии скептицизма.
Действительно, Эпикур был хорошо знаком с мировоззрением Пиррона, о котором узнал впервые еще в годы своего обучения у Навсифана, и не раз «дивился» и впоследствии, слушая о необычном образе жизни этого уважаемого всеми мудреца. Про Пиррона античные авторы рассказывают, что вначале он был живописцем, потом жизнь свела его с философом Анаксархом (о котором Плутарх писал, что он «с самого начала пошел в философии особым путем и был известен своим презрительным отношением к общепринятым взглядам»), и Пиррон сделался столь ревностным приверженцем последнего, что отправился вместе с ним на восток за великим Александром. Там, в Индии, он впервые увидел отшельников-мудрецов (греки назвали их «кающимися»), которые, полностью удалившись от людей, посвятили себя созерцательному поиску истины в уединенных местах. Эти «кающиеся» — «мужи, искушенные в некоей суровой, пренебрегающей одеждами мудрости», «не нуждающиеся и в суме, ибо они не откладывают пищу, а получают ее всегда готовую и свежую от самой земли», произвели на Пиррона, так же как и на других греков, неизгладимое впечатление.
Их поразила полная отстраненность этих отшельников от обычной людской жизни, невозмутимость их духа и ясность ума. И все это им понравилось, поскольку именно такое отношение к жизни начинало казаться наиболее правильным и целесообразным тем, которые, подобно молодому Пиррону, видели — и с каждым годом все ясней и отчетливей, — что никакое знание о мире не делает жизнь человеческую более осмысленной и добродетельной, менее жестокой и кровавой. Да и само это знание, по существу, весьма и весьма относительно, поскольку разные философы и ученые выдвигают отнюдь не одинаковые истолкования Вселенной и бытия и каждое из их объяснений может быть оспорено. А то, чему стал свидетелем Пиррон во время восточного похода, могло еще больше развить в нем такого рода мировоззрение, к которому он был, по-видимому, склонен и по своей натуре.
Возвратившись в Элладу, Пиррон, следуя примеру индийских мудрецов, стал вести более чем скромное существование «ни к чему не стремящегося, ко всему равнодушного и ничего не избегающего человека, так что его друзьям приходилось его даже предостерегать от той или иной опасности». Отнюдь не считая себя философом и не стремясь иметь учеников, Пиррон «ничего не называл ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым и вообще полагал, что истинного ничего не существует» и что люди в своих делах и суждениях «руководствуются лишь законом и обычаем». Пиррон имел немало последователей, которых стали называть скептиками, ибо «цель свою… полагали в опровержении догматов всех школ», считая истину недостижимой и всякое знание условным. В ответ на обвинение в том, что они, мол, отрицают саму жизнь, пирроновцы возражали следующим образом: «Мы ведь не отрицаем, что видим, а только не знаем, как мы видим. Мы признаем видимости, но не признаем, что они таковы и есть, каковы кажутся».
Исходя из того, что каждому суждению о чем-либо можно противопоставить столь же сильный противоположный аргумент, скептики предпочитали вообще воздерживаться от суждений. Так, сам Пиррон ничего никогда не писал, и взгляды его известны лишь по сочинениям его ученика Тимона. Самое главное для человека, считали пирроновцы, — это не давать ничему никаких оценок, ибо все относительно: прекрасное и отвратительное, доброе и злое, справедливое и несправедливое. И это было так понятно, когда прямо на глазах обесценивались все прошлые ценности, рушились старые устои, когда сегодня считалось совершенно ненужным то, что представлялось просто необходимым вчера и не было нужды восстанавливать разрушенные Фивы: «Зачем? Придет, пожалуй, новый Александр и снова разрушит их». В обстановке неуверенности и тревоги, все больше охватывающей греков по мере утраты независимости, скептики учили современников жить так, чтобы быть готовыми «ко всякому повороту судьбы». Счастье — только в душевном покое, и поэтому следует избегать всего лишнего и следовать только велениям естества — не голодать, не жаждать, не страдать от голода или болезней, а всего остального, что люди привыкли считать необходимым, избегать как пустого и лишнего. Ничего не хотеть сверх того, что необходимо для поддержания жизни, — вот каков был этический идеал, та атараксия (горестный идеал потерпевших поражение!), к которой призывали пирроновцы, заставляя порой феофрастовских обывателей сомневаться в их здравом уме. Все казалось обманом, не стоящей ни мыслей, ни чувств шелухой в этом мире хозяев и рабов, завоевателей и побежденных, в жестоком и неправедном мире, который, видимо, было совершенно невозможно изменить и в котором лишь оставалось жить как мышь, которая «не нуждается в подстилке, не боится темноты и не ищет никаких наслаждений…».
Как сообщают античные авторы, Пиррон при всех своих странностях (при том, что он собственноручно купал свинью и помогал престарелой сестре торговать курами на базаре) пользовался величайшим почетом среди соотечественников как мудрец, сумевший достигнуть подлинного равнодушия к эфемерным мирским страданиям и радостям. (И это очень интересный момент: весьма далекие от совершенства, все больше погрязающие в скудости и подчинении, греки продолжали ценить в своих мудрецах то, что утратили сами, потому, вероятно, что даже все, казалось бы, растеряв и утратив, человек до последней минуты сохраняет в себе понимание истинных ценностей, даже если давно уже не следует им в своем мизерном существовании.)
Уважал и ценил Пиррона и Эпикур, хотя, что касается самой философии скептиков, он никогда бы не смог согласиться с ее основным положением — о невозможности проникновения в сущность вещей, о невозможности определения законов, согласно которым все движется и живет в этом мире. Конечно, к выводу, близкому главному тезису скептиков, пришел в конце своей долгой жизни и Демокрит (недаром пирроновцы в чем-то считали его своим предшественником). Но если у Демокрита вывод о невозможности для человека до конца объяснить законы Вселенной был следствием его обширнейших исследований (когда чем больше углубляешься в познание мира, тем шире и дальше раздвигаются границы этого познания), то у пирроновцев, утверждавших, что весь мир — это только иллюзия, в основе всего лежал отказ от познания, и одной из причин этого было, конечно же, все то же осознание полнейшего бессилия изменить что-либо в лучшую сторону и в своей собственной жизни, и в жизни греческого народа.
Философия, подобная скептицизму, не прививается в жизнеспособном, здоровом обществе, где обычно даже философы полны стремления улучшить жизнь современников, способствовать совершенствованию нравов, просвещению народа. И только тогда, когда почти всеми овладевает, настойчиво и неостановимо, печальное осознание конца, когда и народ и мудрецы утрачивают чувство будущего, становится возможным, все более притягательным мировоззрение, подобное пирроновскому. Именно тогда наступают самые нехорошие в истории каждого общества времена, когда всем становится все равно, все безразлично, будь то судьба отечества и даже своя собственная судьба. Времена, когда начинают восприниматься как естественные и совершенно нормальные тезисы, подобные одному из известных тезисов Феодора Безбожника: «Весьма разумно, то… что человек взыскующий не выйдет жертвовать собой за отечество, ибо он не откажется от разумения ради пользы неразумных: отечество ему — весь мир». Феодора Безбожника можно понять: для него, так же как для многих пирроновцев, киников да и эпикурейцев, отечества в прежнем понимании этого слова действительно уже не было — оставалась только территория, местность, где они проживали (да и то чаще всего временно), но они ведь и сами способствовали этому своим отказом, своим отстранением, и даже раньше, чем это отечество сделалось окончательно и необратимо пустым названием, ничего не значащим и ни к чему не обязывающим словом.
Можно говорить о том, что Пирроново учение оказало заметное воздействие на формирование этики Эпикура, на его понимание счастья как атараксии, как отстранения, как умения стать выше и вне воздействия внешнего мира. Но можно — и это будет вернее — вспомнить о том, что и скептицизм и эпикуреизм явились отражением в сознании мыслящих, высокоразвитых и все прекрасно понимающих людей такого бытия, которое уже не предполагало иного счастья, кроме полного ухода во внутренний мир, в частную жизнь, кроме отстранения и безразличия ко всем метаморфозам становящейся все более чуждой реальности. О, это печальное счастье бездействия, несовместимое с подлинным призванием человека на этой земле, призванием, которое есть прежде всего деяние и творчество, о, это горькое счастье вынужденного отстранения, полного отказа от того, с чем невозможно смириться и что невозможно исправить…
Может быть, в силу открытого Гераклитом закона извечной борьбы противоречий тема счастья приобретает особое звучание в наиболее скудные и неопределенные времена, когда, казалось бы, только бы выжить, ан нет, людям хочется быть и счастливыми. И они вопрошают о счастье (что же это такое, людское счастье, в чем оно состоит и возможно ли оно?), рассуждают о нем, как рассуждали собиравшиеся в Эпикуровом саду, верят в него той неистребимой верой в возможность удовлетворения жизнью, которая, точно священный огонь, согревала, наверное, с самых изначальных времен человеческие сердца, питала их души, давала надежды и силы все пережить, преодолеть и сохраниться в своих делах и потомках. И не будем спрашивать строго с Садослова и его учеников, если им так хотелось невозможного — прожить счастливо и радостно, в здоровий тела и безмятежности души, даже тогда, когда вся их общая жизнь на глазах превращалась в свою противоположность.
Для не знающих сомнений героев Гомера счастьем (хотя, но всей вероятности, они даже не ставили вопроса об этом, не имея ни времени, ни надобности в пристальном рассмотрении своих чувств и мироощущения) были борьба, постоянное утверждение своей силы и власти. Для греков времен Марафона и Саламина подлинным счастьем было благо отечества; бесценное счастье познания и любимого труда было уделом Демокрита. Счастье же Эпикура — не желать того, чего невозможно достигнуть, не думать о том, что не в нашей власти, довольствоваться своим и смирять ненужные желания, прожить с наибольшей безопасностью среди зыбкого, неверного, коварного мира, среди людей, все большая часть которых превращалась в нелюдей, и при этом сохранить ясность разума и безмятежность души. Бессильное и безнадежное счастье потерпевших поражение, единственный выход для тех, кому благородство души, достоинство и свобода (хотя бы внутренняя) казались дороже и предпочтительнее изобильного стола и дорогого тряпья, обременяющего имущества, движимого и недвижимого, и власти, достигнутой путем недостойного раболепства. Именно такой была пресловутая атараксия Эпикура, провозглашенная им как если не самая главная, то как одна из главнейших этических ценностей, как единственное из условий удовлетворения жизнью.
В «самоудовлетворенности» (как называл это великое чувство софист Гиппий) видели главную цель человеческой жизни все философы, наверное, от сотворения мира, понимая, однако, совершенно по-разному ее содержание и причины. Платон видел основной источник удовлетворения в содеянном, а Аристотель утверждал, что подлинно человеческое счастье состоит в наибольшем осуществлении всех заложенных в человеке возможностей. Демокрит писал о том, что основа «душевного благосостояния» — успешная деятельность на избранном поприще и что образующийся вследствие этого «душевный мир есть самая счастливая жизнь». Но разве же Эпикур видел счастье в бездействии, которое он презирал как своего рода смерть при жизни? Просто он по-иному, не так, как его многочисленные критики и антагонисты, и прежде всего стоики, понимал само содержание и назначение деяния в создавшейся исторической обстановке. Любая работа на «благо общества» представлялась ему бесполезной, лишенной какого-либо смысла, поскольку и афинского общества в прежнем его понимании уже не было, и понимание «блага» становилось все более неопределенным, и он ограничил себя узкими рамками просветительской деятельности. Разве можно говорить всерьез о том, что Эпикур видел цель жизни в блаженном ничегонеделании, подобном вечному досугу его богов в междумириях, он, написавший более трехсот сочинений на самые различные темы и долгие годы учивший, наставлявший, поддерживавший морально и духовно своих молодых и не молодых современников? Он трудился всю жизнь, но трудился действительно для собственного удовольствия, повинуясь лишь велениям сердца и разума, наслаждаясь и занятиями философией, и общением с учениками как великой радостью и решительно отметая от себя все, что вызывало у него отвращение, все, чего он просто не мог бы делать, даже если бы решил, даже если бы ему приказали.
Именно в этом сугубо личностном, индивидуальном понимании труда и всякой полезной деятельности упрекали его стоики, глубоко убежденные в том, что «мы родимся не только для себя», что главным для каждого смертного является выполнение предначертанного ему круга обязанностей, понимая жизнь как отказ от личного во имя общего и постоянно напоминая о том, что «конечная цель — это жить, совершая все, что должно». Каждый человек, по их мнению, находится в начале своего пути, как Геркулес на распутье в известной притче, рассказанной якобы софистом Продиком: удалившись в юности в пустыню, Геркулес оказался на развилке двух дорог, ведущих одна к наслаждению, другая — к доблести. После долгих раздумий он решил идти по дороге доблести, презрев наслаждения, и стал прославленным героем, непревзойденным в своих подвигах. Именно такой выбор, считали стоики, и является единственно правильным для каждого разумного человека, у которого должно быть одно лишь желание — стать в конце концов самым лучшим, самым первым из всех по своим нравственным качествам, по доблести и справедливости, ибо, как завещал людям Платон, чем большим величием духа обладает человек, тем сильнее он хочет быть первым из всех.
Видя счастье разумного человека в «согласованной жизни» (понимая под этим согласованность мыслей, желаний и устремлений с главным природным законом, с тем вечным вселенским Логосом, который «правит всем через всё»), подходя к самой жизни как к исполнению высшего долга, и прежде всего перед своей бессмертной душой, последователи Зенона «обличали как ложное… мнение некоторых, будто первое побуждение живых существ — стремление к наслаждению». Сами они это первое побуждение видели в стремлении к самосохранению («ибо природа изначально дорога сама себе») и считали, что достигнуть этого можно, воздерживаясь «от всего, что запрещено общим законом, а закон этот — верный разум, всепроникающий и тождественный с Зевсом, направителем и распределителем всего сущего. Это и есть добродетель и ровно текущая жизнь счастливого человека».
И для этого прежде всего, учили стоики, надо освободиться от всякого рода страстей, обрести беспристрастность — главное свойство бога. «Страсть (по словам Зенона) есть неразумное и несогласное с природой движение души или же избыточное побуждение», главные из страстей — скорбь, страх, желание и наслаждение. Все они не имеют отношения к разуму, противоречат, мешают ему, и поэтому первое, что должен сделать стремящийся к мудрости, — это смирить, уничтожить свои страсти. Вот что писал обо всем этом впоследствии Марк Туллий Цицерон, превыше всего ставивший чувство долга и ревностное исполнение многочисленных обязанностей свободного, разумного, владеющего собой и всей своей жизнью человека: «Надо быть свободным… как от страсти и страха, так и от огорчений, наслаждения для души и гнева, чтобы достичь душевного спокойствия и безмятежности, приносящих нам как стойкость, так и чувство собственного достоинства». И в этом-то владении собой, в сознательном и радостном исполнении своего предназначения — особого в этом мире предназначения мыслящего и причастного к бессмертию существа — Зенон и его последователи видели единственно возможную для человека свободу. Жить в согласии «с божеством каждого» и «волей всеобщего распределителя» — вот что должен осознать разумный человек как непреложную необходимость, как вечный закон бытия (сколько бы раз оно ни повторялось заново в бесконечном процессе разрушения и возрождения мира), и тогда человек действительно свободен: «он один свободен, тогда как другие люди — рабы, ибо свобода есть возможность самостоятельного действия, а рабство — его лишение», «он не только свободен, но он и царь, ибо царствование есть неподотчетная власть, а она существует лишь для мудрых».
Таким образом, и сын финикийского судовладельца, обосновавшийся со своими учениками в Пестром портике, также ставил своей целью помочь современникам стать подлинно свободными в положении все более отчетливо вырисовывающейся всеобщей несвободы большинства населения новых царств и грядущих империй. Однако в отличие от Эпикура, понимавшего свободу прежде всего как право каждой личности распоряжаться собственной жизнью, как неподотчетность ни богам, ни сильным мира сего, Зенон видел единственно возможную свободу в том, чтобы возвыситься бессмертной душой над путами земного ее существования и даже полюбить эти путы, разглядев за ними высшую гармонию вселенского бытия. И если для Эпикура, еще не забывшего и не изжившего славы и гордости предков, была совершенно неприемлемой, ненужной никакая потусторонняя свобода при отсутствии независимости внешней, реальной при добровольном подчинении завоевателям (какими бы рационалистическими доводами или космическими построениями это ни оправдывалось), то для финикийца Зенона, связанного глубинными духовно-психологическими узами с древнейшей восточной культурой, культурой совсем иного типа, чем эллинская, вопрос о личной, индивидуальной свободе, может быть, и не стоял так трагически остро. Рушились и вновь создавались государства, менялись формы правления и способы общественной жизни, одни народы уступали другим право быть первыми, богатыми и сильными, но ведь сама-то жизнь продолжалась — и это, в конце концов, было самое главное. И, значит, надо было жить и жить так, чтобы по-прежнему, несмотря ни на что, соответствовать своему предназначению разумного существа, высшего творения Вселенной. Значит, надо было найти философское обоснование тому новому способу жизни, который диктовала история, — и в этом Зенон был по-своему прав, и его мудрость вполне подходила для тех, кто, как уже говорилось, мог и хотел оставаться деятельным, серьезным и общественно ответственным при создавшемся положении вещей.
И все это совершенно не подходило для собиравшихся в Саду: они не хотели, не умели, не могли жить, приспосабливаясь к внушавшим им ужас и отвращение обстоятельствам, для них неучастие во всем этом, отстранение от всего этого (и неизбежно связанные с ними бедность, общественное бесправие и незащищенность от произвола тех, кто приспособился) казались предпочтительнее любого соглашательства. Эпикур и его друзья не верили в бессмертную душу, в новые воплощения в каких-то иных мирах, может быть, даже лучших, чем этот, эти «пустые вымыслы» могли утешать кого угодно, но только не «философов из Сада». И поэтому, раз с их прежней, свободной и деятельной жизнью было покончено навсегда (или, по крайней мере, очень и очень надолго), они не искали обоснований для существующего. И если человек, согласно Зенону, должен быть столь же деятелен, как божество, то и человек у Эпикура хочет быть таким же блаженно-безмятежным, как пребышающие где-то в междумириях, непричастные заботам и страданиям высшие сущности. И если Зенон претендует на то, чтобы научить род людской жить и дальше, вплоть до следующего мирового пожара, то Эпикур (этот, в сущности, трагичнейший из философов, при всем его вошедшем в легенды «довольстве собой и своим») стремится помочь своим современникам и соотечественникам, как спокойно дожить свой уже уходящий срок, как достойно уйти в небытие вместе со славой и доблестью своего великого народа, потому что для сына Неокла вообще не было будущего без свободы. И поэтому стоицизм становится философией государственных мужей и реформаторов, тех, кто еще надеется и пытается как-то упорядочить человеческое существование, как-то приблизить род людской к предполагаемо заложенному в нем божественному совершенству, а эпикуреизм превращается в символ веры для тех, для кого в этом мире существуют как подлинные только две ценности — свобода личности и радость так ненадолго нам данного, такого хрупкого, прекрасного и больше никогда не повторимого бытия.
И действительно, собиравшиеся в Эпикуровом Саду могли только посмеяться, слыша о том, как Зенон проповедует служение обществу и исполнение круга обязанностей. Какому обществу призывал он служить — ведь все они были теперь не больше чем челядь в глазах своих новых господ? О каких таких обязанностях он толковал — о починке дорог, разбирательстве жалоб, побелке домов и наблюдении за порядком на рынке? Но богатые сами содержали в порядке свои прекрасные поместья, а беднякам не все ли равно, какого цвета их домишки и хороши ли дороги, куда им, собственно, ездить… Разбирать бесконечные доносы и жалобы — так теперь уже было трудно понять, кто виноватый, кто правый, и чаще всего и обвиняемый, и доносящий были одинаково лживы, низки и бессовестны. Общественной жизни в прежнем смысле этого слова в Афинах больше не было, никакой истории, никаких запоминающихся событий, они просто жили, перебивались понемногу, о них вспоминали только тогда, когда они подвергались очередному нападению или же завоеванию. Наверное, поэтому античные историки сообщают об этом периоде столь мало и смутно. Жизнь, настоящая, созидающая, интересная историкам, переместилась на восток, в новые царства, и вслед за нею из Греции потянулись понемногу те, кто еще ощущал в себе силы для каких-то свершений и, может быть, даже подвигов. А для афинян все быстро теперь превращалось в воспоминания, и даже блестящий их царь, Деметрий Полиоркет, казался теперь частицей их прежней жизни — жизни, а не прозябания, которая словно бы остановилась однажды в своем поступательном движении и теперь медленно и бесплодно двигалась только по кругу, по кругу, по кругу…
Слава Деметрия закатилась и казалась теперь какой-то нереальной, все устроенные им и недостроенные (по забывчивости, пренебрежению, царственной лености) домики разрозненными песчинками опустились на дно всепоглощающего времени. Вытесненный отовсюду — и из Азии, и из Греции, навсегда распрощавшись с надеждой на власть в Македонии, он оказался в конце концов у своего зятя Селевка в Апамее, то ли как сомнительный гость, то ли как с почтением охраняемый пленник. Не выдержав позора бесконечных авантюр и бесславного краха своего непостоянного мужа (женой которого при трех-четырех других женах она продолжала себя считать), покончила с собой благородная Фила, дочь знаменитого Александрова полководца, сестра и мать македонских царей. Другим его женам, в том числе и молодой Птолемаиде, оставившей ради Деметрия на какое-то время родную Александрию, не было дела до бедственного положения легкомысленного «морского царя». Деметрий не был больше протагонистом на сцене истории, и теперь лавры, любовь и поклонение предназначались другим.
И Деметрий сам это понял. Он послал передать из Апамеи своему сыну Антигону Гонату и оставленным им в Греции гетайрам, чтобы отныне те считали его мертвым. Проведя три года в пьянстве и игре в кости, он скончался в бесславии, в сущности, в заточении, всего-навсего на пятьдесят четвертом году своей бурной, отраженной в различного рода легендах и анекдотах жизни. И тогда оказалось, что блестящий и обаятельный царь, удачливый герой не нажил в конце концов ничего, на что можно было бы опереться при перемене судьбы, не выстроил никакого убежища внутри своей неспокойной души, где он мог бы укрыться в тот тягостный час, когда мир внешний, обманчивый и непостоянный навсегда вычеркнул его и отверг. Вся его необыкновенная даже для того времени жизнь была неостановимым движением вперед, к какой-то, вероятно, ему самому не особенно ясной цели, когда же его стремлениям был положен внезапный и резкий конец, стало ясно, что вся его бурная деятельность была скорее всего того самого рода, о которой так вот писал Демокрит: у большинства людей спокойствие есть оцепенение, а деятельность — безумие. Словно не было ни побед, ни удач, ни кровавых сражений, ни золота, ни бесчисленных женщин и оргий на Акрополе, и Деметрий ушел из жизни, никому совершенно не нужный и даже мешающий, и всех его блестящих деяний не хватило, чтобы сравняться в бессмертии с неимущим философом из Сада.
Итак, жизнь перемещалась понемногу на восток, в то время как оскудевшей Элладой все больше овладевало то самое спокойствие, которое сродни оцепенению. С утратой политической свободы, упадком общественных установлений пошатнулась и древняя культура Эллады, усилилось то «угасание всех искусств и ремесел», которые предвидел еще Сократ, хотя в целом, конечно, уровень этих искусств и ремесел оставался еще достаточно высоким по сравнению с окрестными варварскими племенами. Художники, скульпторы, всякого рода мастера стали понемногу покидать оскудевшую Аттику, переселяясь в поисках больших, хорошо оплачиваемых работ в города Передней Азии и Египта, особенно — в Александрию, где Птолемей I Сотер и его сын, Птолемей II Филадельф, отличались царственной благосклонностью к одаренным служителям муз.
Сам тяготевший к наукам и решивший уже в пожилом возрасте написать большой исторический труд о походах Александра, Птолемей I стал учредителем так называемого Мусейона — Дома муз в Александрии, где решено было собрать ученых мужей со всего эллинского мира, чтобы у них была возможность спокойно, не обременяя себя житейскими заботами, заниматься своими науками, вести философские споры, наставлять учеников и способствовать дальнейшему развитию знания под благосклонным покровительством щедрого монарха. Значение Мусейона (с его огромной библиотекой, известной впоследствии под названием Александрийской) трудно переоценить: здесь работали, каждый в свое время, математик Эвклид, механик Архимед, астрономы Конон, Гиппарх и Аристарх Самосский (державшийся того мнения, что в центре нашей планетарной системы находится Солнце), географ Эратосфен. И при всем этом Мусейон был так же не похож на Академию и Ликей в начале их становления, как были не похожи состоящие на царских хлебах ученые (сколь бы одаренными и известными они ни были) на свободных, нередко весьма родовитых и состоятельных «мужей-философов», снедаемых жаждой познания конечного смысла мироздания и бытия, для которых их философские школы были прежде всего союзами, священными братствами единомышленников. И Птолемей II (лишенный, по-видимому, того пиетета по отношению к ученым, который был все же присущ его отцу, прикоснувшемуся в молодости к древней культуре афинян) не раз давал это понять состоящим на жалованье мудрецам. Как сообщают античные авторы, он сам назначал, какого рода исследованиями надлежит заниматься в его Мусейоне, и мог безо всяких церемоний прогнать взашей того или иного впавшего в немилость философа или поэта. Может быть, многие из них и не заслуживали лучшего, более уважительного отношения, сами лишенные каких-либо нравственных принципов: ведь рассказывают же, например, что известный в свое время медик Герофилл «занимался даже вивисекциями, производимыми на преступниках».
Не обделяли куском образованных и одаренных и другие монархи недавно созданных царств, тем сомнительным куском, тем зиждущимся на добровольном подчинении, не слишком-то надежном благоволении, от которого, как когда-то Сократ, с бесконечным презрением отказывался Эпикур. «Довольствуясь своим» и уча этому других, он до конца разделил со своим потерпевшим поражение народом его бедность, его унижение, бессилие и горе, предпочитая жить одним днем, «жить скрываясь» — верноподданническому благополучию в чужих столицах. Это обстоятельство (то, что Садослов даже в самые тяжелые времена — блокады, голода и варварского нашествия, — не покинул Афины) подчеркивают все обращавшиеся к описанию его жизни, считая, что за все эти сорок лет он только два или три раза выезжал из Аттики, чтобы повидаться с друзьями в Ионии. Об одной из таких поездок упоминается в дошедшей до нас записке к какому-то ребенку — трогательном маленьком послании, пронизанном столь характерной для Эпикура теплотой: «Мы прибыли в Лампсак в добром здоровье. Я, Пифокл, Эримарх и Ктесипп, и нашли там в добром здоровье Фемисту и остальных друзей. Как хорошо, что ты здоров и твоя мама и что ты, как и прежде, слушаешься папу и Матрона (раба, провожавшего ребенка в школу). Будь уверен, причина, почему я и все остальные любим тебя, та, что ты их во всем слушаешься». И, вероятнее всего, эти поездки пришлись на наиболее благоприятные времена, когда можно было совершить путешествие с относительной безопасностью и потом так же спокойно возвратиться в Афины, будучи уверенным, что там за это время не случилось ничего неожиданного и худшего. Можно представить, с каким нетерпением и радостью ждали сына Неокла с его верными сподвижниками (Пифоклом, Эримархом, Ктесиппом) не только Леонтей, Фемиста и другие друзья его молодости, но и все просвещенные, жаждущие Эпикуровой мудрости горожане Лампсака. И опять, как четверть века назад, не хватало длинных, сухих, тысячезвездных азийских вечеров для задушевных бесед, для обсуждения вечных вопросов мироздания и бытия, интерес к которым продолжала питать какая-то, наверное, самим обсуждавшим непонятная надежда — надежда на то, что все это и мир, и наша жизнь, имеют в конечном итоге некий великий и все оправдывающий смысл. Пролетало время, слишком быстрое для всех, даже если афинские философы гостили и месяц и другой, подходила пора прощаться — и они расставались, оставляя друг друга с словно бы восстановленными силами, с твердым желанием противопоставить всем несообразностям мира свою волю и разум, с укрепившимися надеждами на то, что им удастся это сделать.
В Афинах все оставалось по-прежнему: и если некоторые из наиболее удачливых или же наименее щепетильных граждан не знали уж, чего им отведать, чем ублажить привередливое свое чрево, то большинство, голытьба, все больше приучались не брезговать ничем.
Опять стали собираться по вечерам на «сходки в Саду» последователи Эпикура, и опять обыватели исходили в глупых и грязных сплетнях относительно этих сходок, распуская к тому же слухи о политической неблагонадежности (то есть о враждебности в отношении македонян и их приспешников) эпикурейцев. И все измышления недоброжелателей о якобы происходящих в Саду оргиях и всякого рода излишествах этих «свиней из стада Эпикурова» перечеркивает коротенькая записочка Садослова (а может быть, фрагмент из записки) к кому-то из своих друзей, где он просит прислать ему свежего «горшечного сыру», чтобы «пороскошествовать».
К этому времени сын Неокла сделался, по-видимому, тем «знаменитым гаргеттянином», который, по словам Цицерона, «взволновал не только Грецию и Италию, но даже весь варварский мир». Как учение, так и жизнь Садослова, сам его необычный, уже обрастающий легендами образ все больше привлекали тех, кто еще надеялся, стремился обрести умиротворение и, может быть, даже счастье не в потустороннем мире, не в предбудущих жизнях, но здесь, на нашей, такой неустроенной и такой неповторимо прекрасной земле. Как пишут античные авторы, «его ученики были прикованы к нему словно песнями сирен», и нашлось, кажется, всего только два человека, которые покинули Эпикура: одним из них был некий Метродор Стратоникейский, который как будто бы «тяготился безмерной добротой своего наставника», и второй — Тимократ, которому природное легкомыслие помешало сохранить хорошие отношения с наставником в мудрости и который впоследствии в своих сочинениях «О юности Эпикура» и «Увеселения» весьма неприязненно отзывался о покинутой им школе.
Со всех сторон греческого мира собирались в Сад жаждущие знаний и, послушав Спасителя людей, как все чаще теперь называли сына Неокла, становились его ревностными приверженцами. По-видимому, ему был присущ особый дар говорить просто, доступно и убедительно, и при кажущейся безыскусности своих речей Эпикур, о чем писал его последователь Филодем в сочинении «О риторике», уже в молодости пользовался славой неплохого оратора: «Странно… что возраст нисколько не мешал тебе быть выдающимся в искусстве риторики, что, как кажется, требует много практики и навыка». Но ведь сила Эпикуровых речей, так же как и самой философии, была не в навыке, не в приобретенной посредством многолетних занятий учености, но совершенно в ином: сын Неокла не рассуждал красно и цветисто по поводу того или иного предмета, подобно блестящим софистам прошлого, он учил, делился всем выстраданным в многолетнем поиске опытом, всей своей горькой и откровенной мудростью — мудростью последнего дня.
Его бесконечно серьезное отношение к делу всей своей жизни — врачеванию душ человеческих (так отличавшее Эпикура от многих, живших тут же рядом, в Афинах, учителей мудрости, с купеческим равнодушием взимавших дань «и с согласного, и с несогласного»), его упорное стремление рассеять лживые и путающие людей представления вызывало все большее недоброжелательство, злобные нападки других, и прежде всего идеалистически мыслящих философов. Им казались недостойными истинной науки примитивные, с их точки зрения, безусловно ложные сочинения этого «учителишки», сам его низменный, прямо-таки площадной, по их мнению, язык: «Всю эту и подобную ей мерзость он заимствовал, можно думать, из лексикона публичных домов низшего разряда, или собраний и сходок женщин на празднике Фесмофорий, или из самой гущи еврейских синагог и собирающихся здесь нищих; все его слова какие-то стертые и пресмыкающиеся».
По большей части все это нисколько не трогало, даже, возможно, забавляло Эпикура (вполне терпимо полагавшего, что «один мудрец другого не умнее»), он относился к мнению злобствующих соперников с тем же спокойным презрением, что и к исходящим в немыслимых сплетням обывателям: «Я никогда не стремился нравиться толпе. Что им нравилось, тому я не научился; а что знал я, то было далеко от их чувства». Однако в тех случаях, когда презрения не хватало, отнюдь не кроткий нравом сын Неокла весьма бесцеремонно осаживал и «софистов», и «горланов» («тяжко стонущих», как он пишет о своих врагах в одном из дошедших до нас фрагментов). Впрочем, и раньше, не особенно склонный тратить время на убеждение идейных противников, на философскую полемику с ними, с годами он, по-видимому, вообще оставил бесплодное это занятие, научившись не замечать, не слышать чуждых ему людей и тем больше дорожить его понимавшими.
Наверное, Садослов и в самом деле научился не замечать того, что не мог «сделать себе дружественным», научился стать выше бессмыслиц и пошлостей окружавшей жизни, а также и как бы вне ее жестокости, неправедности, зла, иначе было бы совершенно невозможно то пресловутое счастье, которому искренне дивились и его современники, и обращавшиеся к его жизни много веков спустя. Наверное, он смог заставить себя успокоиться, если уж не от усилий его, не от волнений ровным счетом ничего не зависит; а может быть, сумел убедить себя, что все это, что он видит вокруг, только период, тяжелый, печальный, но в конце концов преходящий, и впереди его народ ожидают все-таки более благополучные времена. А может быть — и это вероятнее всего — один из самых мудрых и прозорливых людей своего времени, истинный гражданин уходящего в прошлое афинского полиса, Эпикур понимал, что им остается теперь лишь удалиться со сцены истории, удалиться с достоинством и даже с некоторой веселостью, как советует киник Бион Борисфенский, потому что спектакль их уже окончен и другие протагонисты рвутся сыграть свою роль на этом древнейшем из театров.
И поэтому Садослов жил — и советовал так жить другим — спокойно, со вкусом (насколько позволяли обстоятельства, а также все сильнее донимавшая его болезнь), жил так, как ему нравилось, — писал свои труды, читал, беседовал с учениками, любовался красотой вечносущего моря и старых оливковых деревьев, благословляя каждый прожитый день, каждый кусок свежего хлеба и каждый восход нового дня, который они еще могли называть своим. Кажется, он очень любил детей и при всем своем демокритовском сомнении в целесообразности для мудреца иметь собственное потомство не мог, вероятно, в глубине души не позавидовать тем из своих товарищей, и прежде всего Метродору, которым приверженность к философии не помешала изведать радости отцовства. И поэтому Эпикур всю жизнь проявлял постоянную заботу о детях Метродора и Полиэна, особенно когда те остались сиротами, и о многих других знакомых и близких ему юношах, имена которых известны по сохранившимся фрагментам из писем Эпикура. «Первое дело для счастья — наблюдение над юностью и охранение ее от всего оскверняющего ее пагубными страстями», — писал он в связи с этим, придавая огромное значение воспитанию молодого поколения — последней надежды его народа. «Как я говорил тебе при твоем отъезде, — пишет он в другом письме какому-то из своих друзей, — заботься и об его брате Аполлодоре. Он — не дурной мальчик, но причиняет мне тревогу, если делает что-нибудь, чего не хочет». При этом Эпикур настойчиво советовал своим близким направлять все усилия не на то, чтобы скопить для детей побольше добра и тем более давать им уже в юношеском возрасте деньги, но на то, чтобы дать им хорошее воспитание и образование: «Как дорогое ответное деяние, он будет иметь данное мною ему образование», — говорит он об одном из тех юношей, для которых явился учителем и наставником. А вот что пишет Эпикур своему другу Идоменею, которому он доверил воспитание юноши Пифокла, чем-то особенно дорогого ему, упоминание о котором не раз встречается в сохранившемся эпистолярном наследии (вернее, в дошедших до нас фрагментах этих писем): «Если хочешь сделать Пифокла богатым, не прибавляй ему денег, а убавляй страсть к деньгам».
При этом (чего нельзя не отметить) Эпикур был откровенным противником схоластической, догматической образованности, которая препятствует свободному развитию мышления, и не раз советовал ученикам: «Образования всякого, милейший, беги на всех парусах», или же — «Счастлив ты, Апеллес, что ты устремился к философии, свободный от всякого образования». Потому что вся жизнь вокруг оборачивалась так, что все более необходимым становилось не овладение как можно более широким кругом знаний, но умение выжить в становящихся все более неблагоприятными для бывших свободных граждан обстоятельствах. Этому-то и учил прежде всего сын Неокла собиравшихся к нему в Сад юношей (учил искренне, страстно желая помочь им, спасти их, жалея как собственных, не дарованных ему жизнью сыновей), учил, как прожить без зла и несправедливости, с наименьшими страданиями и нехитрыми, доступными каждому радостями свой век, в продолжительности которого не был теперь уверен никто. Именно для этого, как подчеркивал Эпикур, и следует заниматься философией — чтобы обрести опору для жизни: «Не следует делать вид, что занимаешься философией, но следует на самом деле заниматься ею: ведь нам нужно не казаться здоровыми, а быть поистине здоровыми». Главное — это выработать самостоятельность мышления, твердый и верный взгляд на вещи, и для этого следует, не боясь поражения, вступать в философские споры даже с признанными мудрецами, помня, что побежденный в споре «выигрывает… в том отношении, что он умножает знания».
«Страдание» и «Счастье» — вот две главные темы Эпикуровых наставлений. Он стремится научить своих последователей не бояться несчастий, боли, бедности, болезней, не бояться жизни вообще, какой бы она ни обернулась, сохранить благородство помыслов даже при «перемене к худшему» и тем самым достигнуть счастья — единственно возможного для человека счастья умиротворения души. Сам всю жизнь боровшийся со своим мучительным недугом, он убеждал не бояться страданий, от которых обычно «смиряются низкие души», советовал презирать любую боль, как физическую, так и душевную, считая, что мудрец должен сохранять спокойствие духа даже при пытке. «Всякое телесное страдание достойно презрения, — пишет Эпикур, — страдания, заключающие в себе интенсивную боль, продолжаются короткое время, а долговременное страдание в теле причиняет боль слабую». При этом «наличие некоторых телесных страданий полезно для охранения себя от страданий, подобных им», а самые сильные страдания уничтожают сознание и жизнь, так что человек их уже не ощущает. Что же касается страданий душевных, то одни из них, по мнению Эпикура, надуманны — «бесполезное страдание от вздорных мыслей», а присущее почти каждому человеку мучительное сожаление о несовершившемся, несостоявшемся в его жизни должно врачевать осознанием ценности тех благ, которые имеешь. Об этом писал в свое время и Демокрит, этому же учили древние, полумифические мудрецы: «Благороден тот, кто не печалится о том, чего он не имеет, но радуется тому, что имеет», «Несчастен тот, кто не в силах снести несчастье» и «Только больная душа может влечься к невозможному и быть глухой к чужой беде».
Сын Неокла не уставал внушать своим юным слушателям, что главное для человека это уметь довольствоваться своим, ничему и никому не завидуя, ибо «хорошие люди не заслуживают зависти, а дурные, чем счастливее бывают, тем более вредят себе». Он учил их презирать богатство (чаще всего неправедно нажитое), напоминая, что «кому малого недостаточно, тому ничего не достаточно», и видя в стяжательстве опасную болезнь души: «Нередко можно найти человека, бедного по отношению к конечной цели природы и богатого вздорными мыслями. Ведь ни один безумец не довольствуется тем, что имеет, а скорее говорит о том, чего не имеет. Таким образом, как больные лихорадкой вследствие дурного свойства этой болезни постоянно чувствуют жажду и желают самых вредных вещей, так и люди, у которых душа в дурном состоянии, постоянно бывают бедны всем и по своей алчности впадают в многообразные страсти». Он давал юношам советы относительно того, как держать себя с теми или иными людьми, чтобы не показаться назойливым или докучным, чтобы не обидеть кого по беспечности или невнимательности, чтобы не наживать врагов, а если таковые имеются (а они имеются у каждого), советовал не обострять отношений без особой необходимости: «Если попросит враг, не отвращайся от его просьбы; но только принимай меры предосторожности для себя: ведь он ничем не отличается от собаки». Всматриваясь сейчас, много столетий спустя, в эти его поучения и советы, не можешь опять и опять не задавать себе один и тот же, самый главный в данном случае вопрос: о каком же таком счастье толкует этот человек, находящийся и ощущающий себя словно бы в постоянной осаде, вынужденный всю жизнь крепить оборону и пришедший в конце концов к поистине страшному выводу «мир следует обманывать», — выводу, по существу, перечеркивающему весь пресловутый гедонизм эпикурейцев?..
Излагая подробно свое представление о правильной жизни (и это прежде всего — жизни безопасной, защищенной), Эпикур особенно советует ученикам укреплять отношения в семье, считая, что нет ничего прекраснее, чем «когда близкие родственники живут в согласии», а также превыше всего дорожить дружбой. В дружбе видит он вернейшее из прибежищ человека и тем более в те горькие и неопределенные времена, когда выгода заменяет любовь, равнодушие вытесняет милосердие, а количество лицемеров и предателей заставляет содрогнуться даже самые стойкие души. Любовь к ближним, детям, друзьям была для Садослова — и эту главную истину он стремился донести до своих последователей — главной ценностью и, может быть, даже самим смыслом человеческой жизни: любовь к человеку, уважение к его личности, сострадание и забота, которых становилось вокруг все меньше и меньше, по мере того как все они, вместе взятые, опускались понемногу до положения людей низшего качества в глазах новых сильных мира того и, в силу таким образом складывающихся обстоятельств, привыкали и сами не ценить, не уважать и не дорожить друг другом.
Обучая молодежь своей на первый взгляд нехитрой и в то же время далеко не всем доступной мудрости, Эпикур подчеркивал как первейшее из качеств разумного человека — умение владеть собой при любых обстоятельствах, способность держаться как бы на расстоянии от всего происходящего вокруг, будучи твердо уверенным в том, что на свете вообще очень мало такого, ради чего стоило бы всерьез волноваться, страдать, тратить невосполнимые сокровища ума и сердца: мудрец «сумеет противостоять судьбе и никогда не покинет друга. О своем добром имени он будет заботиться ровно столько, сколько нужно, чтобы избежать презрения. Зрелища будут ему даже приятнее, чем другим. Он и статуи будет ставить по обету, а если поставят статую ему самому, отнесется к этому спокойно». Как уже говорилось, во все времена находилось немало таких, которые считали Эпикурово учение развращающим, опасным для молодежи, поскольку он, мол, ставил удовольствие выше долга, а приятную жизнь — жизнь прежде всего для себя (причем под этим недоброжелатели понимали жизнь распутную, пристрастие ко всякого рода излишествам), противопоставлял бесконечному ряду обременяющих обязанностей. Упрекавшие словно бы не замечали или же (и это представляется более верным) не хотели замечать, что приятное для Эпикура было нерасторжимо связано с разумным, что удовольствие, которое он апологетизировал, было при ближайшем рассмотрении всего лишь скромной необходимостью. Что же касается долга перед приказывающими и власть имеющими, то такого рода долга просто не существовало для этого, одного из самых последних подлинно свободных афинских граждан, а народу своему он послужил всей своей жизнью.
И когда Эпикур учит своих последователей жить приятно, он учит их жить так, чтобы не почувствовать вдруг однажды непреодолимого, убивающего, перечеркивающего саму целесообразность жизни отвращения к людям и к себе самому: «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно. А у кого этого нет, тот не живет разумно, нравственно и справедливо; а у кого нет последнего, тому нельзя жить приятно». И те, кто представлял себе впоследствии собрания эпикурейцев как нечто напоминающее оргии и даже пытался воспроизводить их (как, например, спустя два-три столетия в Риме), просто плохо понимали, в какое скудное, печальное, опасное время проповедовалась эта приятная, она же разумная и справедливая жизнь, когда порой кусок ячменной лепешки, горстка маслин и черных бобов казались лакомством из лакомств. Когда несколько корней с заброшенных, заросших сорняками огородов да терпкие дикие плоды становились порой (как это было во время Деметриевой осады, поразившей вскоре после этого Афины чумы или же варварского нашествия) единственным пропитанием для людей, оказавшихся у последней черты бедности и отчаяния, искавших спасения в горах и потаенных пещерах от вторгшихся с севера кельтов.
Эпикуру выпало быть очевидцем и этого нового, невиданного для эллинов бедствия, по сравнению с которым могли показаться вполне терпимыми прежние невзгоды, после которого Греция была отброшена еще дальше от былого своего благополучия и ее поредевшему, одичавшему населению оставалось либо уповать на свое высшее, божественное предназначение, утверждаемое стоиками и им подобными, либо просто радоваться тому, что тебя миновала палица варвара, что вода еще не иссякла в источниках и крепка земля под ногами.
В самом начале 279 года поползли слухи о том, что с севера к полуострову приближается варварская орда, сокрушающая все на своем пути и что македонское войско уже потерпело поражение при попытке остановить ее. Это были кельты, покинувшие придунайские земли и хлынувшие неостановимым потоком через южные склоны Гема в северную Грецию. Стремясь обосноваться на новых местах, кельты давно уже с жадностью посматривали на богатые южные земли, распаленные рассказами о старинных городах, отделанных золотом храмах, о всяких невиданных ими роскошных вещах и красивых женщинах Греции, Пелопоннеса и Италии. Однако, пока Македония была в силе, они не решались двинуться ни на ее земли, ни в Грецию, а теснили понемногу на восток иллирийцев да совершали время от времени опустошительные набеги на земли, лежащие за Апеннинами.
Теперь же, когда македоняне заметно изнурили себя великими завоеваниями и внутренними распрями, настало время и для варваров. Собравшиеся для похода варвары разделились на три части и приступили к осуществлению давно вынашиваемых замыслов. Отряд под предводительством Больгия подошел к границам Македонии.
Царствовавший там тогда Птолемей Керавн, не допуская и мысли о возможности превосходства неотесанных варваров, с презрением отверг все требования Больгия и даже отказался от помощи, предложенной царем дарданов. Он принял решение самому дать бой кельтам, и это сражение оказалось для Керавна последним: его слон был ранен стрелой, царь попал в плен и был обезглавлен. Не встречая больше препятствий, кельты вторглись в страну, сея опустошение и смерть. Через какое-то время с огромной добычей они возвратились в свои пределы, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым походам к вожделенным греческим городам.
Этот новый, еще более опустошительный поход они начали через год, весной 278 года. Казалось, точно дикое варварское море, долго сдерживаемое силой и мощью греческих городов, вышло из берегов, грозя затопить, поглотить окончательно то, что еще оставалось от старинной Эллады. В этот раз во главе кельтов стоял Бренн, слухи о храбрости и неукротимости которого повергали в ужас македонян и греков. Наголову разбив двинувшегося было ему навстречу македонского стратега Сосфена, все грабя и разоряя на пути, Бренн прошел через всю Фессалию и подошел к Фермопилам. Одновременно другой варварский отряд переправился через Геллеспонт: их призвал царь Вифинии Никомед I помочь в борьбе с соседним царем Антиохом.
Греция с ужасом вслушивалась в приближение варваров. На время были опять позабыты старые счеты и распри, всех примирило гнетущее чувство страха и понимание того, что это уже даже не македонское господство — это стремительно надвигается на них всех сама смерть. Было решено собрать все возможные силы и выступить навстречу врагу, и только пелопоннесцы отказались сражаться, считая, что эта новая опасность им не грозит: кораблей у кельтов нет, а дорогу по суше им преградят мощные укрепления Истма. Предоставленные своей собственной участи, афиняне и жители других старинных городов должны были срочно готовиться к ужасавшей их встрече с непонятно говорящими и непонятно мыслящими, дикими, кровожадными полчищами, которые всегда обретались где-то на самом краю Ойкумены, жалкие и презираемые, а теперь вдруг оказались совсем рядом, угрожающие и неостановимые. Страх обуял афинян. И это был действительно страшный страх, совсем не тот, что сопутствовал приближению персов два века назад, и даже не тот, с которым пятьдесят лет назад они встречали македонское войско на равнине Элевсина. Тот страх звал к действиям, решительным и смелым, подстегивал волю, делал более ясным разум и стойкой душу и рождал в конце концов единственно верные спасительные решения. И если тогда даже чувство поражения перед македонянами таило на самом своем горьком дне какую-то надежду, то теперь это был темный, почти животный страх, какой испытывали, вероятно, самые первые люди при приближении диких зверей, какой внушало внезапное появление Пана. Это было цепенящее чувство обреченности, тайного и жуткого предвосхищения когда-то и кем-то предначертанной и теперь вот свершающейся гибели. Смерть приближалась к ним — а у них уже почти не было сил от нее заслониться, беспомощных и выродившихся, самих себя уничтоживших в бесконечных братоубийственных распрях…
И все же афиняне сумели выставить против варваров пятьсот всадников и тысячу пехотинцев, а также послали все имевшиеся у них триеры, чтобы атаковать противника с моря. Примерно по стольку же гоплитов и всадников выставили и другие города, но в целом это было так мало в сравнении с кельтскими полчищами. Когда все эти последние защитники Эллады, сами, наверное, не верящие в свою способность что-либо и кого-либо защитить, собрались у Фермопил, стало известно, что варвары уже совсем рядом, на подступах к реке Сперхей. Тогда решили разрушить мосты через эту реку, однако это не остановило появившихся вскоре кельтов: часть перебралась вброд несколько ниже, там, где река текла по лесам и болотам, а часть — через новые мосты, которые Бренн приказал выстроить местным жителям.
И все-таки через Фермопилы, это священное для каждого эллина место, варвары не прорвались, в жарком, ожесточенном, отчаянном бою греки удержали проход в Аттику, и кельты отступили.
Тогда, чтобы отвлечь этолян, наиболее сильную часть союзного греческого войска, Бренн послал сорок тысяч кельтов в Этолию. То, что творилось на захваченных ими землях, грекам не доводилось слышать и в самых мрачных преданиях, античные авторы утверждают, что варвары даже пили кровь раненых пленников. Пылали древние города и веси Эллады, в муках и нечестии гибло ее население, тщетно взывая к отвернувшимся от них божествам. И все же эти старые боги были, наверное, живы и способны оградить уж если не непостоянных и неправедных смертных, то хотя бы свои собственные исконные владения. И они явили еще раз свою грозную силу, когда алчущие золота варвары ринулись к Дельфийскому храму, а служители Аполлона тщетно молили о защите, предвидя ужасный и близкий конец свой. Моленья их были услышаны: внезапно затряслась земля, поднялся ураган, и затем, среди лета, пошел сильный снег. Рассказывали, что пламя с неба обрушилось на головы подступивших к святилищу варваров, а с вершин Парнаса катились на них огромные глыбы. Так Локсий еще раз явил свое могущество, защищая свои сокровища и верных служителей. Здесь же, в Дельфах, был смертельно ранен сам Бренн, и варвары поспешили покинуть священный участок. Однако прошел еще целый год до того, как кельты ушли на север, оставив Грецию опустошенной, обезлюдевшей и почерневшей от пожарищ. И всем было ясно, что это только начало, что теперь, когда Эллада все больше превращалась в свое жалкое подобие, можно было ожидать вторжения любых неведомых, воинственных и страшных народов с любой стороны света и уповать лишь на то, что кто-то в конце концов все же остается в живых…
Античные авторы не оставили подробного и красочного описания этих трагических для Греции событий, до нашего времени дошли только самые общие сведения. Но нетрудно себе представить, что испытывали афиняне, зная, что с каждым днем и каждым часом кельты приближаются к Аттике. Чем защищаться, на что полагаться, оставалось совершенно неизвестным, и многим приходила в голову мысль, что самое лучшее — это, пожалуй, покинуть городские пределы и искать спасения в горах и лесах, потаенных пещерах и норах, как их отдаленные предки на самой заре общественной жизни. Однако бессмертная Дева-Афина все-таки защитила на этот раз свой оскудевший народ: ни один северный варвар так и не смог проникнуть в ее ограду, и афинян миновала страшная участь других греческих городов. Но, так же, как и для других городов, для афинян нашествие Бренна явилось еще одной, новой ступенью вниз на горьком пути бесславия и нищеты. Можно было только догадываться, как живется состоятельным людям за крепкими стенами их богатых поместий (эти поместья были как острова в широко разлившемся море нищеты и страдания, и даже бесчинства варваров оказались для их владельцев не столь катастрофическими, как для других прочих), простой же народец пропадал. Положение многих людей было настолько тяжелым, что порой рабский удел представлялся им предпочтительнее свободы. У большинства населения Аттики не было даже надежды на какое-то улучшение в будущем, и им оставалось теперь лишь «приспособиться к нужде», о чем все чаще говорил и писал стареющий Садослов.
Когда-то, собираясь открыть людям путь к счастью, он думал остаться самим собой, остаться гордым и мужественным в крепости своего разума и несгибаемого духа, но жизнь — жестокая, смутная, скудная, которая давно уже катилась куда-то, неизвестно куда, сама по себе, никому и ничему не подвластная, — эта жизнь просачивалась незаметно и неостановимо за воздвигнутые сыном Неокла укрепления и проглядывала победоносно и страшно в его мыслях, речах и писаниях. В тяжелые, полуголодные годы, потянувшиеся после тирании Лахара, после чумы, после осады, когда люди оказались в состоянии убивать друг друга из-за куска дохлятины, из-за пригоршни полусгнивших плодов, стало особенно очевидно, что все может утратить смысл и отступить перед угрозой голодной смерти. Когда стало предельно ясно, что красота, культура, добродетель, всякого рода моральные и духовные ценности — это только благоуханные цветы на ветвях могучего, животворящего древа, корни которого уходят в кормилицу-землю. Когда стало видно, как трудно, почти что невозможно для голодающих, все помыслы и действия которых направлены на то, чтобы выжить, как трудно для этих, теряющих человеческое подобие людей остаться мудрыми, красивыми, добродетельными и благородными. Когда стало особенно понятно, что не стоит требовать честности и справедливости от тех, кому уже нечего терять и не на что надеяться, и которые могли, не раздумывая, подписаться под таким вот, а также ему подобными изречениями Эпикура, вызывавшими безудержный гнев его уповающих на божий промысел противников: «Красоту, добродетель и тому подобное следует ценить, если они доставляют удовольствие; если же не доставляют, то надо с ними распрощаться».
Наверное, именно в эти сумрачные времена (тем более сумрачные, что священного огня бесконечно свободной души сына Неокла уже начинало не хватать для того, чтобы отгонять и рассеивать все плотнее обступавшие его серые тени безнадежности) Эпикур окончательно приходит к тому простому, непреложному и ужасающему в своей простоте выводу, что самое главное для каждого человеческого существа — это «не голодать, не жаждать, не зябнуть», не стоять с протянутой рукой у храмовой ограды, не подбирать отбросов на рынке, не бросать на верную гибель собственных детей, потому что уже нечем заткнуть их голодные рты, не валяться в канаве, подобно бродячей собаке, с потухшими, как у покойника, глазами. И кому удалось избежать всего этого, «тот даже с Зевсом может поспорить о счастье».
И если от всего отказавшийся ради познания истины Гераклит утверждал с презрением, что «если бы счастье заключалось в телесных удовольствиях, мы бы назвали счастливыми и быков, когда они находят горох для еды», а высокоумный Платон вообще избегал этой низкой темы как недостойной внимания философа, то это, вероятнее всего, потому, что им не выпало дожить до такого оскудения отечества и увидеть, как много современников их и соотечественников утрачивают свое человеческое первородство среди самой тяжелой и беспросветной нищеты. Для Эпикура же лицезрение нарастающей бедности заслонило все высокие истины, окончательно обесценило всякого рода теоретические абстракции, потому что ему было просто жалко людей, загнанных в тупики неподвластного им бытия. И он говорит, повторяет, подчеркивает трагическую в своей простоте, печальную истину — итог размышлении и опыта всей своей жизни: «Устойчивое благосостояние тела и твердая надежда относительно его доставляет величайшую, вполне уверенную радость». Он выставляет как окончательный контраргумент идеалистическим утешениям стоиков эту правдивую, горькую мудрость, по поводу которой так много иронизировал впоследствии его великий противник, сенатор и землевладелец Марк Туллий Цицерон, возможно, ни разу в жизни не легший спать на пустой желудок. Так Эпикур поднимает «знамя хлеба насущного», окончательно встав на сторону обездоленных и голодающих, научившись смотреть на вещи их отвыкшими от сострадания глазами. Он не может разделить со всеми бедняками свои бобы и оливки, не может согреть и приветить их всех, но он может сказать от их общего имени, провозгласить на весь белый свет, что «начало и корень всякого блага — удовольствие чрева; даже мудрость и прочая культура имеют отношение к нему». Эта главная правда человеческой жизни открылась ему на склоне прожитых лет во всей своей непреложной простоте (это о ней Эпикур писал в одном из своих наиболее известных сочинений «О цели жизни»), и ее не дано было заменить никакой спасительной лжи потусторонних построений.
И хотя к концу 278 года варвары покинули пределы Эллады, жизнь как будто бы снова вошла в свои привычные берега, и воспрянувшим духом людям снова могло показаться, что не все еще потеряно, эта главная Эпикурова мудрость, эта горькая истина неимущих стала на долгие годы, на целые века альфой и омегой мировоззрения большей части греческого народа. Постепенно к ней привыкли, как привыкли к тому, что все больше свободнорожденных граждан превращаются в бродяг, что с каждым годом становится все меньше коренных горожан и увеличивается число пришлых, как привыкли постепенно молиться чужим богам, обожествлять пришлых властителей и слушаться иноземных военачальников. Как привыкли со временем к поражению и позору подневольного состояния, уже даже не воспринимая это как позор, как привыкли приспосабливаться и приноравливаться к независящим от них обстоятельствам, чтобы спустя несколько столетий превратиться в большинстве своем в навсегда позабывших о славе и благородстве обывателей, в тех самых жалких лицемеров и мелких мошенников, от которых предостерегал Марка Туллия Цицерона опытный брат Квинт…
Вскоре кельты были разгромлены и в Азии, где они грабили старинные богатые города на берегу Пропонтиды, и обложили данью Византии. Их разбил Антигон Гонат (тогда уже македонский царь) в сражении при Лисимахии (277 г.), которое получило название «битвы слонов», так как исход ее предопределили именно эти могучие животные, всегда производившие сильное впечатление на северных варваров. Захваченных в плен кельтов расселили на пустующих землях центральной Анатолии, где они стали называться галатами, а их страна Галатией. Восприняв со временем многое от древней культуры малоазийских городов, они сохранили при этом свою воинственность и храбрость и поэтому пользовались большим спросом в качестве наемников. Кельты же, вернувшиеся в свои прежние пределы, осели во внутренних землях Фракии. Благородный Антигон, по справедливости считавшийся теперь освободителем всех греков и македонян от варваров, пышными празднествами и торжествами отметил свою победу, воскрешавшую в памяти стариков блистательные подвиги его отца, Деметрия Полиоркета. Теперь казалось уже совсем неудобным противиться его гегемонии в им же спасенной Элладе, проявляя тем самым черную неблагодарность. И тем не менее избавление от варварской опасности противоположным образом подействовало на все еще не желающих смириться афинян, среди которых еще находились такие, которые поговаривали о возможности восстановления независимости и демократии и втайне готовились к еще одному, заранее обреченному на поражение выступлению против македонян.
И опять собирались стремящиеся к мудрости, надеющиеся на счастье — кто в Сад к Эпикуру, кто в Пестрый портик к Зенону, надеясь приучить себя равнодушно взирать на все неожиданности неподвластного им бытия, надеясь постигнуть такую науку, которая бы помогла им спокойно прожить хотя бы часть отпущенного бессмертными срока и не покинуть в непреодолимом отвращении раньше времени этот жестокий и непонятный белый свет.
Глава 4
ЖИВИ СКРЫВАЯСЬ
Вечность — ребенок, забавляющийся игрой в шахматы.
Гераклит
Всякий уходит из жизни так, будто он только что родился.
Эпикур
Жизнь сына Неокла подходила к концу, он чувствовал это. В сущности, у него были все основания считать себя тем самым «старцем, прожившим жизнь хорошо», о котором он писал, бывало, своим ученикам: «Юноша в цвете сил, меняя мысли, носится сильным течением случая; а старец причалил в старость словно в пристань, замкнув в надежных воспоминаниях благодарности блага, на которые прежде трудно было надеяться». И тем не менее все чаще охватывала его глубокая, безнадежная усталость, то холодное равнодушие ко многим, казавшимся ему ранее столь важными вещам, которое не дано было ни победить, ни превозмочь… В отличие от большинства смертных, проводящих свой краткий век как придется, как выйдет, ему все-таки удалось осуществить свое предназначение и выполнить долг — вечный долг перед великими предками, свободными и гордыми людьми, чей мужественный дух он старался, как мог, поддержать в ослабевших, пошатнувшихся душах их почти подневольных потомков. Сын Неокла не был выведен на продажу как раб, у него был любимый Сад и верные ученики, согласно мыслящие люди. У него были какие-то средства для жизни, был обед каждый день и медная ванна с теплой водой — единственное спасение при все чаще случавшихся мучительных приступах. У него был огромный мир, вся Вселенная, к «огненным стенам» которой он привык устремляться умом через пространство и время.
Можно было считать, что у него было все для того, чтобы быть совершенно счастливым (в чем убеждал он своих друзей и себя самого вот уже почти сорок лет), но в глубине своей постепенно иссякающей души Садослов не мог заглушить, задавить, усыпить прорастающего сомнения: да счастье ли это? И можно ли быть действительно счастливым, сознавая, что «вся земля живет страдая» и что ни ты, ни кто-либо другой не в силах уменьшить это страдание? И можно ли быть радостным, являясь бессильным свидетелем позора, бедности и унижения своего народа, очевидцем печального конца его славной истории?.. Что мог он сделать, чем мог он помочь потерявшим уверенность в будущем людям, если сам он, в сущности, не был уверен в этом будущем, в том, что славные времена снова наступят когда-нибудь для афинян, для всех греков, иначе бы он не цеплялся с таким упорством за день сегодняшний — эту единственно неоспоримую реальность?..
Сын Неокла старел, и ему казалось, что и город его, блистальные Афины, тоже стареет вместе с ним, превращаясь понемногу в жалкое обиталище никому не нужных старух и худосочных ребятишек. После бедствий последних лет уже, казалось, ничто не могло спасти вконец подточенный полис. Не было денег, не было хлеба и не было никаких определенных надежд иметь это все в будущем. Государства, собственно, уже не существовало, и каждый из граждан (а вернее, обитателей) был доставлен самому себе и на волю случая. Те, у кого имелся хоть какой-то участок земли, хоть какая-то живность, какая-то лавка, немного деньжат или несколько рабов, еще могли на что-то рассчитывать, но что оставалось делать другим, было просто неизвестно. И этому их не мог научить никакой мудрец, никакой философ.
Навсегда (или, по крайней мере, очень и очень надолго) миновали те времена, когда свободные пахари Аттики своими руками бросали зерно в унаследованные от дедов поля, подрезали виноградные лозы, окапывали оливы и собирали благословенные, священные их плоды в большие корзины. И не знали, как аристофановский Тригей, большего счастья, чем работать от зари до зари на родимой землице, орошая праведным потом каждый колос и каждую лозу. Теперь же правнуки этих земледельцев мыкали горе и нужду в тесных, грязных лачужках обветшавшего города, где «число нуждающихся превосходило число лиц, имеющих какой-либо достаток». Кому-то из этих нуждающихся удавалось наняться на временную работу в огромных поместьях новых богачей, где рабы с отвращением засевали чужую им землю и под бичами надсмотрщиков собирали не принадлежащий им урожай. Но порой рабских рук не хватало, и тогда на сбор винограда или оливок нанимали свободных, из тех, кого «бедность заставляет… выполнять много рабских и недостойных обязанностей». И их понукали теперь так же, как и рабов, а заработанные гроши не искупали унижения не знающей сострадания нищеты.
Уже давно большая часть афинян была озабочена прежде всего тем, «как бы раздобыть себе дневное пропитание», а теперь особенно, когда отменили плату за место в суде и другие общественные должности, когда все труднее становилось устроиться статистом в театр и оставалось на выбор: либо просить милостыню (но и подавать ее было теперь почти что некому), либо покинуть родину и попытаться начать жизнь сначала где-то в других землях, Египте, Сирии или же Византии… Теперь даже наемники были не очень-то нужны, скорее имело смысл стать морским разбойником: вольные люди (из тех, что давно уже все потеряли и утратили) бороздили моря во всех направлениях, поджидая купеческие корабли, чтобы делить потом взятую с боя добычу где-нибудь в глухих бухтах Эвбеи, Херсонеса и Фракии.
Происходили странные вещи: в Аттике, как и по всей Греции, с каждым годом становилось все больше чужих людей — разноплеменных, иноязыких, невесть откуда попавших в Элладу рабов, а самим эллинам, по крайней мере, многим из них, в ней как будто бы уже не было места. Рабство — это страшнейшее из зол, подточившее устои античного мира, вытеснило и уничтожило свободного труженика, полисного гражданина, и вместе с ним сам тот тип человеческой личности, благодаря которому эллины поднялись в свои лучшие времена к самым вершинам искусства и философского мышления. Этот страшный процесс, началом которого с гневным недоумением возмущался Аристофан, об опасности которого предостерегали Сократ и Платон, теперь близился к своему завершению: толпы ненужных людей (которые, как говорил о таких в свое время Платон, «ни торговцы, ни воины, ни что-нибудь еще, но только бедняки») переполняли приходящие в упадок старинные города, чтобы немного уменьшиться в не таком уж далеком будущем, когда греки Эллады стали попросту вымирать.
Но рабство подтачивало не только хозяйственные устои всей прежней эллинской жизни, оно разъедало и души: новые богачи, владельцы десятков и сотен рабов, приучались все больше видеть таких же рабов и в каждом из неимущих своих соплеменников, относясь к ним с высокомерным презрением, не придавая ни малейшего значения ни узам крови, ни традициям общественной жизни. А навсегда выбитые из прежней жизни бедняки тоже усваивали понемногу рабский образ мыслей и способ действий, ибо чувство достоинства, благородство поступков и помыслов весьма редко уживаются с голодным желудком. Да и кого вообще могли теперь интересовать думы, деяния и нравственность афинян, если большая часть их была никому не нужна и оскудевший город просто не знал, как от них избавиться? Они были не нужны, не нужны ни плохие, ни хорошие, ни серьезные, ни легкомысленные, ни гуляки, ни трудолюбивые, они были теперь не нужны никому даже самые распрекрасные, если у них не было денег. Навсегда миновали те времена, когда они с полным правом могли считать себя братьями и сынами славного своего полиса — теперь они были пасынки, и им не для чего было себя соблюдать, к чему-то себя готовить. Вытесненные из нормальной, созидающей, единственно правильной человеческой жизни, греки все больше теряли себя самое, но и это — и в этом-то было самое страшное — никого больше не интересовало.
Полиса как государства, как той общественной и политической формы, которая в течение многих столетий определяла содержание жизни афинян, больше не существовало, и на его славных обломках оставалось довольствоваться лишь блеском воспоминаний. Легкомысленное безразличие ко всему, что не связано с собственным существованием, с их сегодняшним днем, становится понемногу общим настроем людей, не чувствующих больше никаких долгов и обязательств ни по отношению к отечеству, от которого осталось только название, ни по отношению к презираемым, подозреваемым и по большей своей части действительно не вызывающим ни малейшего уважения соплеменникам. Поверхностное остроумие, ни к чему не обязывающая игра словами ради самой этой игры навсегда вытесняют из жизни афинян страстные споры о судьбах отечества, мучительные размышления о главных вопросах бытия. Не о чем было спорить и беспредметными сделались размышления, все уже было решено беспощадным течением времени, и бесславным потомкам победителей персов, в большинстве своем все понимавшим, всю безвыходность своего положения, оставалось лишь суетиться, мельчить, смеясь и поплевывая, ничему не придавая значения, лишь бы прожить. Или же вообще отвернуться от жизни, как индийские отшельники — гимнософисты, поразившие своей отрешенностью воинов Александра.
Все это не могло не наводить на печальные размышления о закономерностях развития общества, размышления, к которым и раньше обращались философы Эллады, но которые теперь, в эпоху упадка, приобретали особенно пессимистические очертания. До нас дошло очень немного из собственных сочинений Эпикура, что относилось бы к этой теме, однако взгляды его на развитие общества, историю цивилизации были подробно изложены Титом Лукрецием Каром (хотя, безусловно, преломленные через его восприятие, восприятие человека иного времени и общества). Сам никогда не бывавший в дальних варварских землях, не видавший ни северных берегов Эвксинского Понта, ни непаханных степей Борисфена, где пасутся описанные Геродотом дикие табуны, ни, тем более, туманных и сумрачных Оловянных островов, Эпикур немало читал и слышал от очевидцев о жизни первобытных народов. Да и вообще известный ему мир вмещал почти все формы и стадии развития общества, давая обильную пищу для размышлений и выводов. Вслед за Ксенофаном, Эмпедоклом и Демокритом он представлял себе развитие цивилизации как закономерный, согласный с общими законами природы процесс, утверждая, что «сама нужда служила людям учительницей во всем, наставляя их соответствующим образом в познавании каждой вещи. Так, нужда научила всему богато одаренное от природы живое существо, обладающее годными на все руками, разумом и сметливостью души».
Эпикур разворачивал перед своими слушателями пеструю, вмещающую в себя столько форм и оттенков и вместе с тем простую по своим главным законам картину «движения жизни вперед» — поступательного развития общества, при котором нет никакой необходимости для вмешательства богов, высших существ или же героев-благодетелей, подобных Прометею, и которое объясняется прежде всего совершенствующимся умением человека удовлетворять свои возрастающие потребности или, как писал Эпикур в одном из писем, «обузданием человеком… своих желаний путем их удовлетворения».
Он рассказывал собиравшимся в Саду о тех давних временах «цветущей юности мира», когда земля и без обработки давала достаточно «грубых кормов для жалких людей». Точно стада животных, без языка и огня, не зная семейных связей, бродили эти люди по первозданным просторам и спали, как звери, в пещерах, пребывая в вечных опасностях и страхе. Потом они овладели огнем — в силу случайных обстоятельств, — научились строить дома и делать одежду, оружие, всякую утварь, одомашнили животных. Потом появляется частная собственность, развивается земледелие, возникают города, цари, право и суд. Далеко уйдя от первобытной своей дикости, смягчившись сердцами и научившись ценить красоту, люди овладевают различными искусствами, поэзией и музыкой: «так появились певцы, воспевавшие века деянья, а незадолго пред этим изобретены были буквы», «живопись, песни, стихи, ваяние искусных статуй — все это людям нужда указала и разум пытливый».
К этому же времени Эпикур относил и появление государства в основе своей взаимного договора между людьми, к которому они постепенно пришли ради собственной пользы: «опротивела жизнь при насилии вечном». Приверженцу разума, интеллекта как основы основ человеческой жизни, Эпикуру казались смешными, наивными те идиллические картины «золотого» первобытного века, которые так нравились киникам и стоикам, искавшим именно там, в диком прошлом рода людского простоту, справедливость и согласие. Он же не находил никакой справедливости, никакого согласия и мира в том темном царстве взаимопожирания, животного страха и самого грубого насилия, из которого люди вышли лишь через бесчисленное число поколений благодаря труду, овладению дарами природы и обузданию своей собственной сущности. Видя жизнь только как «движение вперед», Эпикур ничего не искал и не видел в «золотом веке Кроноса», потому что он не видел там самого главного — свободы…
Развивалась культура, цивилизация — и вместе с ней ненасытная жадность к богатству, стремление к власти, войны, ожесточение нравов, насилие, несправедливость, чтобы в конце концов все это, вместе взятое, вновь привело людей к одичанию, бедности и вырождению. И, как и многим другим мыслителям, Эпикуру хотелось понять, как же эти подъемы и спады в развитии человеческого общества сочетаются с главным «движением вперед», в силу каких причин одни формы общества сменяют другие, чтобы затем, через какое-то время опять возвратились первоначальные? И чем объяснить, что даже лучшие из установлений переходят со временем в свою противоположность, что даже сильнейшие из народов впадают в силу каких-то страшных в своей непреложности законов в ничтожество и нищету, становятся бессильной добычей других, обреченных на те же самые закономерности народов?.. И, оглядываясь вокруг, прослеживая в мыслях весь путь, пройденный его собственным племенем, эллинами, достигшими самых высот культуры и государственного устройства, Эпикур не мог не задаваться вопросом, который задавали себе и до, и после него столь многие мужи-философы: так зачем же все это было? Зачем нужно было это «движение жизни вперед», если люди не стали от этого лучше, добрее, счастливее, а их жизнь — разумнее и правильнее?
И хотя дикие люди, случалось, поедали друг друга, «не губила зато под знаменами тысяч народа битва за день один». Так в чем же оно, это самое совершенствование жизни, может быть, в совершенствовании прежде всего орудий уничтожения? И чем первобытная дикость ужаснее их теперешнего состояния — тревожной, томительной, тусклой участи достигших цивилизации людей, искушенных во всяких искусствах и ремеслах, образованных, все познавших и все постепенно теряющих, которые — то один, то другой — спешат сами оборвать свою жизнь, в то время как их темные, грубые предки дрались за эту самую жизнь до последнего, ожесточенно и страшно, как дикие звери?.. И даже в том, что касается разума, наблюдая достойную сожаления жизнь своих современников, сын Неокла не мог разглядеть в ней того самого разумного начала, на которое он всегда уповал и надеялся, не говоря уже о какой-то целесообразности. Какая такая цель (о которой толкуют стоики) может быть у этого хаоса, где один пожирает другого и над всем царит случай? Но если какая-то цель, какой-то смысл и был во всем этом, то, видимо, только тот, что люди, хотя бы некоторые из них, по-прежнему в большинстве своем бедные, по-прежнему беззащитные перед стихиями природы и превратностями бытия, терзаемые страхами, с сомнительным будущим, чтобы эти жалкие люди оказались все-таки способными осмыслить, постигнуть разумом и весь наш беспредельный мир, и себя самих.
И вглядываясь с печальным бессилием в тот грозящий полным распадом хаос, в который превращалась все больше вся прежняя жизнь афинян, Эпикур не мог не вспомнить древних преданий о том, что жизнь на земле, в том числе и общественная жизнь, уже повторялась несколько раз, доходя до какого-то своего апогея и потом уничтожаясь в катаклизмах, когда «рушились все города в мировых потрясениях». Древние предания, которые считали достоверными многие мыслители Эллады и которые у сына Неокла всегда вызывали какие-то сомнения, смутно вещали о страшных землетрясениях, когда разверзалась земля, поглощая все живое, о мировых пожарах, о потопе, когда «вода прибывать начала, и, скопившись, много она городов залила, говорят, многолюдных». В юности это казалось лишь страшными сказками, досужими вымыслами старых поэтов. Но теперь, когда катастрофически рушилась прямо у них на глазах вся их прежняя жизнь и никто ничего не мог с этим поделать, по-новому воспринимались эти то ли воспоминания, то ли пророчества, прочитанные якобы Солоном в старинных свитках египетских мудрецов. По-новому воспринимался тезис о том, что и наш мир ветшает, а человеческий род движется неотвратимо к очередной катастрофе — и тогда тем более следует жить, наслаждаясь каждым мгновением еще существующей жизни. Что проку думать о том, чего ты не в силах отменить, предотвратить, избежать, надо с подлинно человеческим мужеством — учил Садослов своих следователей — осознать все течение жизни, ее непреложные закономерности и при этом не усомниться в самоценности этой жизни…
Как никто другой из греческих философов, Эпикур стремился указать людям путь, наиболее, на его взгляд, разумный и спасительный в их тогдашних обстоятельствах. Главное, как он считал, — это самому не делать зла, не быть несправедливым, соблюдать издревле заключенный между людьми неписаный договор о том, чтобы «не вредить друг другу и не терпеть вреда», иначе станет вообще невозможной никакая общественная жизнь. Это «не вредить друг другу» проходит как главная мысль, как увещевание, как почти что мольба через все описания Эпикура, отражая всю его боль, все горькое недоумение при виде того, как люди (сами люди, а не какие-то завистливые божества, злобные гиганты, чудовища или циклопы) обижают, угнетают, унижают и в конце концов, уничтожают друг друга в непрекращающейся, какой-то поистине фатальной борьбе за мнимые ценности, в том безумном соревновании, конец которому положит, по-видимому, лишь катастрофа. Ему так хочется верить, что если каждый сознательно и последовательно начнет избегать делать зло, причинять хоть какую-то несправедливость окружающим (будь то сосед, родственник или раб), то зло и несправедливость в общественных отношениях постепенно исчезнут сами собой. Вновь и вновь настаивая на том, что все нравственные и общественные установления появились когда-то в результате взаимного договора между людьми (а не в силу мировой справедливости Гераклита), что законы человеческого общежития не следует нарушать ради взаимной же пользы, сын Неокла словно призывал своих все больше впадавших в ожесточение и бесплодный анархизм соотечественников попытаться договориться опять. Однако призывы к взаимопониманию, к взаимопомощи, к взаимодоверию разумных существ, в возможность которых продолжал до конца своих дней верить Садослов, доходили далеко не до всех, и зерна-слова глухо падали на каменистую почву иссушенных унижением и бедностью душ, не давая желанных всходов.
И все равно сын Неокла продолжал учить, наставлять, объяснять, делиться своими сокровенными думами, выношенными откровениями с изнемогшими в сомнениях людьми, и по-прежнему спешили по вечерней прохладе в его Сад молодые и немолодые ученики, те, что хотели не просто прожить кое-как, как придется, как выйдет, как удастся, но и осмыслить свою жизнь. И по-прежнему грузно кружились над ночными цветами серые бабочки, и черные тени ложились между священными колоннами Акрополя, а над Афинами, над всей погибающей в бесславии Элладой зажигались мириады бесчисленных светил, таких же непостижимо далеких и ярких, как в дни его детства на Самосе, когда вечные вопросы бытия еще только начинали различаться для него в миллионоголосом хоре бытия. Все было попрежнему, и только их жизнь, и самого Эпикура, и его любимых друзей, уходила постепенно все дальше и дальше, в непостижимые страны раз и навсегда возникшего времени, туда, куда не удалось проникнуть даже мысленным взором никому из философов…
Первым ушел Полиэн, поредела знаменитая «четверица», друзья собирались в один из дней месяца Метагейтниона, чтобы почтить его память, а Эпикур и Гермарх заменили его сиротам отца. Потом ушел Метродор, умнейший из эпикурейцев, обаятельный и благородный, и опять друзьям оставалось лишь вспоминать о нем в день его смерти, на скромных поминках (немного вина, сыр, сушеные фиги и яблоки), говорить о нем так, словно их общий любимец был все еще с ними, просто отлучился ненадолго, может быть, поехал навестить лампсакских друзей… Они уходили один за другим, разделившие вместе со своим учителем горестную судьбу потерпевшего поражение эллинского народа, после них оставались их книги, их мысли, их мучительные размышления о смысле человеческой жизни, их стремление помочь всем нуждающимся в поддержке. И это была их доля, их кровная часть в общем, самом главном и самом трудном деле всего рода людского — сделать жизнь на земле как можно более правильной, разумной и радостной, истинно человеческой, а иначе разве бы мы сейчас вспоминали о них?..
Не в силах изменить к лучшему тот несправедливый и жестокий мир, в котором им выпало жить, живя как бы в постоянной осаде и пользуясь славой людей небезопасных. Эпикур и его друзья тем не менее не покинули Афины, предпочитая более чем скромное существование никому не подотчетных людей сытной безопасности (тоже, впрочем, весьма и весьма относительной) при дворах новоявленных владык, которой прельстились многие небезызвестные мудрецы того времени. Так, считавшие себя истинно свободными Кратет и его Гиппархия вели философские споры с Феодором Безбожником при дворе Лисимаха во Фракии, и эти диспуты приятно разнообразили царский досуг, но как же они были далеки от вошедших в историю человеческой мысли Платоновых бесед, где предельно серьезно относящиеся к своему предназначению люди пытались решить коренные вопросы бытия. При македонском дворе в Пелле проживали где-то в эти годы Персей, ученик Зенона, и последователь Пиррона одноглазый Тимон из Флиунта, проповедовавший непознаваемость мира, а себя самого называвший «странным гостем на этой земле». Этот бывший маляр терпеть но мог стоиков, и особенно Зенона, за стремление всех наставлять на истинный путь (как будто кому-нибудь доподлинно известно, какой же из путей самый истинный), поскольку сам он считал главной задачей для каждого человека освобождение от всех и всяческих догм. Есть основания предполагать, что одно время в Пелле находились престарелый историк Иероним из Кардии, уже на склоне лет написавший труд о диадохах Александра, а также Арат из Сол.
Конечно, писать дидактические сочинения вроде Аратовой поэмы «Небесные явления» и философствовать было теперь значительно удобнее при дворах просвещенных или хотя бы тяготеющих к просвещению монархов, чем в обнищавших греческих городах, чем в хиреющих с каждым годом Афинах, где даже во главе знаменитых школ оказывались понемногу такие мудрецы, которые, как Аркиселай из Элиды, «не писали книг вовсе». И не писали они книг, возможно, потому, что им нечего было больше добавить к величественным построениям Платона или же Аристотеля, к их объяснениям нашего мира, которые ни в чем не смогли хоть немного изменить этот мир. Не писали и потому, что, хотя философские школы этого времени не страдали от недостатка слушателей и учеников (ибо во всей Греции не нашлось бы, наверное, человека, рискнувшего утверждать: «Мне хорошо, и я не нуждаюсь в утешениях философов»), сама философия все больше превращалась из средства познания мира в своего рода лекарство от этого мира, в средство забвения и, в сущности, самообмана бессильных перед жестокой и неподвластной им реальностью людей. Все сводилось теперь к тому, как прожить, не замечая несообразностей и зыбкости бытия, фатальной неправильности жизни, и большинство философствующих не только что не предлагали, как исправить эту неправильность, но и вообще предпочитали не касаться этой темы.
А если кто из ученых мужей этого печального времени и оставил после себя десятки сочинений (большая часть которых затерялась в толще веков), то тоже, вероятнее всего, потому, что в этих трудах они могли создавать свой собственный мир, где они чувствовали себя господами и владыками, мир, куда более интересный и ценный, чем устрашавшая их действительность. А вовсе не потому, что надеялись повлиять таким образом на течение жизни, способствовать ее совершенствованию, преодолению тех аномалий, которые при ближайшем рассмотрении оказываются закономерностями. Так вот и Эпикур с каждым годом все больше времени проводил в работе над многочисленными своими сочинениями (над теми тремястами книгами, которые упоминают античные авторы), в которых изложил свое понимание самых различных явлений природы и жизни человека. Некоторые из названий его книг приводит в своем жизнеописании греческих философов Диоген Лаэртский: «О судьбе», «Предвидения», «О представлениях», «О справедливости и других добродетелях» и многие другие, не говоря уже о главном труде Эпикура в тридцати семи частях — «О природе». Это обилие трудов (их было больше, чем у Демокрита, Аристотеля или Ксенократа) вызывало прямо-таки ненависть его противников-стоиков, так что последователь Зенона Хрисипп даже как будто бы дал клятву написать своего рода опровержение на каждое из сочинений Садослова и как будто бы выполнил это обещание… «Надо стараться сделать последнюю часть пути лучше первой, пока мы находимся в дороге, а когда дойдем до конца, надо с легким сердцем радоваться», — писал сын Неокла, приближаясь понемногу к этому концу и стремясь привести в порядок свои дела, вернее, дело, единственное дело всей своей жизни — созданную им картину мира и бытия во всем их многообразии. В своих книгах, письмах, изречениях он опять и опять обращается к вечным вопросам взаимосвязи между микрокосмосом-человеком и космосом великим — Вселенной, и главному из этих вопросов: что такое душа человеческая, как она связана с мирозданием и, наконец, «вместе ли с нами она погибает, расторгнута смертью, или же к Орку во тьму и к пустынным озерам нисходит, или в животных иных воплощается вышнею волей». К тому вопросу, ответить на который, как считал Сократ, однозначно невозможно, но от ответа на который зависит, в конечном счете, вся направленность жизни того или иного человека, весь ее смысл.
Как много великих мыслителей хотели убедить себя и в конце концов убеждали в том, что душа человеческая — это то, что связывает недолговечное и столь несовершенное земное существо с вечностью и бесконечностью Вселенной, что это, в сущности, часть этой Вселенной, заключенная в каждом из нас… Это главное убеждение придавало величественную строгость их философским построениям, порождало взыскательную требовательность к каждому из смертных, питало уверенность в собственной причастности к сокровенным тайнам бытия, но не было ли это только прекрасным и спасительным самообманом и не больше?.. Прекрасным потому, что направляло помыслы людей к вещам нетленным, к законам непреложным, к ценностям непреходящим. Спасительным же потому, что вера в бессмертие души, в ее вечную или, по крайней мере, бесконечно долгую жизнь помогала спокойно или, по крайней мере, значительно спокойнее сносить горечь несообразностей жизни, потому что эта вера делала как бы эпизодической земную жизнь и уничтожала смерть как таковую.
Пифагор хотел верить, подобно египетским жрецам или отшельникам Индии, в «колесо рождений» — в то, что душа, пройдя через все земные, воздушные и водные твари, вновь обретает человеческий облик через три тысячи лет. Если верить преданиям, он любил рассказывать о преджизненном существовании своей собственной души, о своих прежних воплощениях и не позволял бить собаку, в визге которой ему чудился голос его покойного друга. Идеи многократного перевоплощения души придерживался и Эмпедокл, для которого (так же как для многих других философов Греции) душа была одно и то же, что и ум. Для Платона душа, заключенная в теле, как в темнице, была своего рода посредником между миром чувственным и миром умопостигаемым, также переходила все в новые и новые тела, чтобы в конце концов, по достижении совершенства, снова вернуться на небесную родину, в вечное лоно Мировой души.
Эти древние идеи (эти надежды человека хоть на какое-то бессмертие) развивали и зеноновцы. В их рассуждениях вера в переселение душ соединялась с учением Гераклита о мировых пожарах. Становление человеческих душ представлялось им длительным, может быть, даже многотысячелетним развитием животных душ (поскольку, подобно многим старинным мудрецам, они полагали, что души есть не только у разумных существ, но у животных, растений и даже у камней). Отделившись от тела после его смерти, эти разумные души не погибают, учили стоики, а существуют затем неопределенно длительный срок в близких к земле пределах пространства. Однако они все же не вечны, поскольку вместе со всем остальным возвращаются в первоначальную огненную субстанцию при периодически возникающих мировых пожарах. Но когда после очередного пожара явится новый мир и все повторится сначала, весь ранее пройденный путь, все его явления и формы, тогда возникнут к новому существованию и души, те же самые, что и до пожара, но ничего не помнящие о своих прежних жизнях. В создаваемой стоиками грандиозной картине поистине не оставалось места для бренных тел человеческих, которые казались уже не более нужными, чем шелуха от зерна, чем сброшенная шкурка змеи или сгнившая скорлупа каштана, и что вообще значила их жизнь, эфемерная жизнь поденков-мотыльков, перед грядущим хаосом вселенского пожара?..
Подобного рода учения (все эти нелепые «россказни») всегда вызывали непримиримое, гневное раздражение у Эпикура: «Самостоятельным нельзя мыслить что-нибудь иное бестелесное, кроме пустоты, а пустота не может не действовать, не испытывать действия… поэтому говорящие, что душа бестелесна, говорят вздор». Утверждая вслед за Демокритом материальную субстанцию, атомистическое строение души, Эпикур (по свидетельству Аэция) утверждал, что «душа есть смесь из четырех элементов: огненного, воздушного, ветряного и четвертого, безымянного, возбуждающего чувство». Главнейший из этих элементов, по его мнению, четвертый, он сообщает телам способность чувствовать, это как бы «душа для целой души», что «над целым господствует телом». Для него душа — это часть человеческого существа, столь же материальная, как и его тело, они неразрывно связаны и не могут существовать одно без другого: «И действительно, невозможно представить, чтобы она чувствовала, если не находится в… организме». Как нечто бестелесное, самостоятельное, душа неспособна ни чувствовать, ни действовать, ни испытывать воздействие, все движения души обусловлены тем или иным состоянием тела: «Когда кричит плоть, кричит душа. Голос плоти — ни голодать, ни жаждать, ни зябнуть. Душе трудно помешать этому и опасно не внимать природе». Вместе со смертью тела кончается и жизнь души, она рассеивается по мере разложения организма.
Отвергая совершенно идею бессмертия души, ее взаимосвязи с некой вселенской душой, Эпикур считал также не более чем «нелепыми сказками» представление о переселении души, о каких-то предшествующих воплощениях. Хотя, если основываться на поэтическом пересказе Лукреция, опровержение Эпикуром идеи метапсихоза, опровержение прежде всего с позиций житейского здравого смысла, в целом имело тот же довольно наивный характер, что и сами построения этого рода:
Настаивая на том, что вера в бессмертие души только мешает человеку правильно построить свою жизнь (как будто бы можно исправить в предшествующих жизнях все то неразумное, злое, неправедное и несправедливое, что совершил в этой жизни), мешает вполне насладиться радостью только единожды данного бытия, Эпикур считал к тому же совершенно необоснованными сами притязания людей на вечную жизнь, в то время как все в этом мире имеет свой срок, свое начало и свои конец. Глубоко убежденный в этом сам, Садослов советовал своим ученикам, своим многочисленным последователям не утешать себя выдумками о каких-то предбудущих существованиях, но постараться прожить разумно и радостно отпущенный им срок, которого, как он полагал, вполне достаточно, чтобы «пройти весь круг доступных для человека наслаждений». А «когда придет смерть, мы, насыщенные, встали бы из-за стола жизни, чтобы уступить место другим».
Обозревая мысленно взором всю неизвестно сколь длинную цепь человеческих поколений, тех, что жили и до него и будут жить после, Эпикур с презрением отвергал идею личного бессмертия как утешительного измышления людей слабодушных и недостаточно просвещенных. С ранних лет ощутивший себя преходящей, крошечной и вместе с тем единственной в своем роде частицей никем не созданного мироздания, он видел бессмертие в продолжении рода людского, в вечном существовании разума, может быть, в каких-то иных формах и иных мирах, если даже, как утверждают стоики, этот наш мир близок к своему разрушению. Он видел бессмертие в неуничтожимости материи как таковой, что же касается личного бессмертия, то оно представлялось ему вовсе ненужным, ибо даже самый великий из жизнелюбцев не может по истечении разумно длительного срока не пресытиться жизнью и не устать от нее.
Все это — отрицание бессмертия души, божественного промысла, высшего предназначения рода людского — вызывало все большее раздражение, все более ожесточенные нападки со стороны стоиков, с их убеждением в том, что истинно добродетельная жизнь и наслаждение несовместимы, о чем писал Зенон в письме своему ученику Антигону Гонату: «Кто обращается к философии, отступаясь от хваленого наслаждения, в котором иные юноши размягчают свои души, — в том заведомо жива не только врожденная, но и добровольная наклонность к благородству. А когда врожденное благородство в должной мере окрепнет от упражнения и нелицеприятного поучения, то ему уже не трудно прийти к овладению совершенной добродетелью». Те, кто тяготел — в силу ли природных свойств или же в силу полученного в семье воспитания — к спасительной лжи, вечной утешительной лжи о бессмертии души и некой высшей цели человеческого бытия, предпочитали потусторонние построения философа из Кития мужественной правде о единственности, конечности и потому самоценности нашей жизни земной. Тем более, что растущая слава философа из Пёстрого портика, то внимание и уважение, которым он пользовался и со стороны сильных мира того, служили как бы еще одним подтверждением правильности, истинности ригористической мудрости стоиков. Тем более что и сам Зенон старался жить таким образом, который советовал как и наиболее верный, безразличный к вещам и удовольствиям, проводя свои дни в трудах, простоте и умеренности и ставя превыше всего исполнение долга. Так, пользуясь многолетним вниманием Антигона, он неохотно и редко принимал его подарки, не придавая им никакого значения и не проявляя при этом особой благодарности. Чистота Зеноновой жизни внушала уважение окружающим, многие считали весьма полезным для молодежи его учение, и хотя он не был афинянином по происхождению, народ предложил увенчать финикийца золотым венком «за добродетель и здравомыслие».
И в то же время философ из Пестрого портика оказался не в силах преодолеть природные наклонности тех своих учеников, которые, не будучи озабочены одной только высшей целенаправленностью человеческой жизни, были не прочь провести время на пиру или в каком-то ином удовольствии. Так, о старейшем из Зеноновых учеников Персее, бывшем рабе и впоследствии воспитателе сына царя Антигона, античные авторы рассказывают, что он был очень и очень неравнодушен к вещам и деньгам, любил веселые застолья и даже написал «Диалоги о пирушках». Значительно большим утешением для основателя стоицизма был другой его ученик, Клеанф, сын Фания из города Асса. В молодости Клеанф был как будто бы кулачным бойцом, но, услышав случайно Зенона в Пестром портике, сделался одним из самых усердных его последователей. Не имея никаких средств к существованию, он по ночам таскал воду для поливки огородов (за что был прозван Водоносом), с тем чтобы днем иметь возможность заниматься философией. Рассказывают, что Клеанф был так беден, что не имел денег на бумагу и записывал рассуждения безоговорочно обожаемого им учителя на черепках. Одно время у него не было даже рубахи, но когда афиняне, сжалившись над его нищетой и умилившись его рвением к философии, решили выделить Водоносу немного денег из городской казны, Водонос не принял этих денег. Тем более что и Зенон посоветовал ему не брать их, считая, что именно бедность создает истинных философов.
Не получив должного образования и к тому же не особенно одаренный от природы, Клеанф записывал и заучивал наизусть все, что говорил Зенон, несмотря на то, что сам учитель не одобрял такого способа овладения философией, не уставая повторять, что «не надо обременять память звуками и словами, а надо стараться расположить свой ум к извлечению пользы и не думать, будто это какое-то уже сваренное и поданное угощение». Клеанф с трудом постигал Зеноновы премудрости, однако усвоенное запоминал накрепко, и соученики, поначалу смеявшиеся над его тугодумием, впоследствии с удивлением отмечали, что Водонос «похож на дощечки с твердым воском — писать на них трудно, но написанное держится долго». Может быть, этого упорства оказалось все же недостаточно, чтобы сравняться в мудрости с основателем Стои, но вполне достаточно, чтобы возглавить после него школу.
В отличие от усердного тугодума Клеанфа другой из наиболее известных учеников Зенона Аристон из Хиоса отличался довольно незаурядными способностями, но зато не очень-то утруждал себя занятиями, вообще отвергая физику и логику как необязательные и милостиво оставляя право считаться философией за одной лишь этикой. В чем-то напоминая старинных софистов, Аристон любил выступать перед народом, обычно это происходило в гимнасии Киносарге, привлекая внимание своими не лишенными остроумия рассуждениями и замысловатыми софизмами. И, так же как и софисты, Аристон держался того мнения, что истина — понятие относительное и что «мудрец должен быть подобен хорошему актеру, который может надеть маску как Агамемнона, так и Ферсита, и обоих сыграть достойным образом». Походивший больше на киника, чем на стоика, Аристон впоследствии оставил Зенона, не принимая, по-видимому, особенно всерьез трансцендентные его построения. Еще об одном последователе Зенона Антипатре известно, что он посвятил не один год полемике с академиком Карнеадом, нападавшим на Стою, и написал «целые книги, полные возражений ему, чем заслужил кличку Крикописец».
При всем том, что и среди стоиков были, как видно, люди разного склада ума и разных характеров, в целом они считали себя людьми возвышенными, причастными к некоему высшему знанию, к доступной лишь немногим мудрости и откровенно презирали «свиней из стада Эпикурова», которым, мол, не ведомы ни божеские законы, ни понимание истинного предназначения человека в этом мире. Многие из них подвергали ожесточенным нападкам Эпикурово истолкование Вселенной, материалистическое объяснение явлений природы и общественной жизни, учение об атомах и пустоте, но больше всего — беспредельно возмущавшее стоиков положение о свободе человеческой воли и апология радости жизни. Поскольку, на чем настаивали последователи Зенона, «природа породила нас не с тем, чтобы мы казались созданными для развлечений и шуток, но для суровых и, так сказать, более важных и более значительных стремлений». Обещая людям вечную (или, по крайней мере, бесконечно долгую) жизнь в последующих воплощениях их душ, конечное блаженство в лоне Мировой души, блаженство, по сравнению с которым меркнут все земные радости и к которому одному только и следует себя готовить, стоики с бесконечным негодованием ополчались на безбожников-эпикурейцев (безбожников в самом главном — в отрицании высшего, неземного назначения и смысла человеческой жизни). Как люди, верящие в то, «что есть нечто от природы прекрасное и достославное, чего надо добиваться ради него самого и чему все лучшие люди должны следовать, отвергнув и презрев наслаждение», зеноновцы порицали эпикурейцев за их «бездуховность», «низменность побуждений», за проповедь наслаждения жизнью, того самого наслаждения, которое еще Платон называл «приманкой бедствий».
Так вели они свой нескончаемый спор, эпикурейцы и стоики: те, кто призывал людей к счастью земному, верил в возможность жить по собственной воле — и те, кто вообще сомневался в необходимости свободы и отрицал возможность выбора для человека (из чего выбирать, если все уже предначертано заранее, не здесь и не нами). Те, которые прославляли жизнь как радость, как наслаждение каждым ее быстротечным мгновением, потому что другой жизни нет и не может быть, — и те, для которых земное существование было в конечном счете лишь подготовкой к действительной цели бытия. Зенон и его последователи любили обвинять эпикурейцев в отсутствии мужества, но разве это не высшее мужество — быть твердо уверенными в том, что эта короткая земная жизнь (причем жизнь тяжелая, несвободная, нередко опасная и унизительная) абсолютно одна, что за ней нас не ждет какое-то лучшее будущее, что нет никакого бессмертия души, никакого продолжения в занебесных пространствах — и тем не менее так любить, так ценить эту жизнь, каждый ее быстротечный день…
Обычно кичащиеся своим спокойствием (какое подобает мудрецам, постигшим высшие закономерности Вселенной), своей терпимостью к людским заблуждениям, которые они, как философы, призваны исправлять и рассеивать, зеноновцы прямо-таки не выносили Эпикура. Он казался им ужасающим антиподом собственного их учителя, такого серьезного, немногословного, всеми уважаемого, наставляющего в мудрости самого македонского царя. В их глазах Эпикур всегда оставался всего лишь самонадеянным недоучкой, не создавшим в философии ничего мало-мальски значительного, ничего своего, «стачав» свое так называемое учение из «лоскутков», надерганных отчасти у Эмпедокла, отчасти у киренаиков, но больше всего — у Демокрита, этого опаснейшего из лжемудрецов, «который полагал, что люди произросли из земли, наподобие червяков; без всякого творца и без всякого разумного основания».
Люди глубочайшим образом религиозные, стоики искали подтверждения своим основным положениям у тех же самых старинных философов, к которым обращались и эпикурейцы, но трактовали их идеи совершенно иначе и утверждали при этом, что «Эпикур усвоил себе из греческой философии неверное и не понял истинного». Казалось, ничто на свете не могло примирить этих одинаково преданных мудрости и одинаково достойных людей, какими были стоики и эпикурейцы, ставившие перед собой одну и ту же задачу — спасти духовно и нравственно своих современников, помочь им пережить все превратности истории, все аномалии бытия, но решавшие эту задачу диаметрально противоположными способами. И поэтому взывавшие к некой высшей целесообразности всего сущего (целесообразности, которую не всем дано постигнуть, но в которую все должны поверить) зеноновцы стремились при всяком удобном случае ставить на место всяких там «вводящих в науку пустоты и какие-то не имеющие частей неделимые и допускающих самопротиворечивое положение, что тело не движется и не пребывает на месте».
При этом собиравшиеся в Пестром портике не всегда выражались столь наукообразно. Как доносят до нас античные авторы, чаще всего они не стеснялись в выражениях, понося независимого духом Садослова и его безбожную братию, приписывая им всяческие пороки и мерзости. Эпикура обвиняли в чревоугодии, в том, что он тратит на еду по мине в день (он, которому многолетний мучительный недуг вообще позволял есть лишь очень немногое), в том, что он, лицемерно порицающий в своих сочинениях любовные наслаждения, пишет в то же самое время сомнительного содержания письма гетерам, и особенно Леонтии (называя ее при этом «Леонушка»). Той самой, ставшей притчей во языцех Леонтии, в которую был влюблен, а по другим сведениям был даже женат Метродор, с которой будто бы жил и один из братьев Эпикура, занимавшийся, по уверениям злопыхателей, сводничеством. Противники сына Неокла сомневались даже в его афинском гражданстве и горестно сожалели о том, что проповедника столь нечестивого, безбожного и развращающего учения нельзя просто-напросто вышвырнуть из города, как вышвыривали такого рода умников в старые добрые времена.
Было бы неверно утверждать, что (при том, что число последователей Эпикура неуклонно росло) стоики были одиноки в своей неприязни к Садослову. И если в самих Афинах, казалось бы, давно во всем разуверившихся, еще находились люди, способные поверить в высшую целесообразность человеческого бытия, в необходимость деяния и непреложность долга как главных законов жизни, то еще больше таким образом думающих было среди окрестных, еще только начинающих свой исторический путь народов, наступательная энергия которых, стремление к экспансии делали пока совершенно неприемлемым, непонятным и странным учение об атараксии. Так, Марк Туллий Цицерон рассказывает в связи с этим следующее: некий римлянин, будучи послом в стране Пирра, с удивлением узнал о том, что «в Афинах есть человек, объявивший себя мудрым и утверждающий, что все наши действия надо оценивать с точки зрения наслаждения». И будто бы, услышав про это, не верящий ушам своим потомок Ромула, для которого вся жизнь была деяние и долг, борьба и каждодневная опасность, высказал пожелание, чтобы такого рода мудростью поскорее овладели самниты и прочие противники Рима, «так как их легче будет победить, когда они предадутся наслаждению». Потому что бравому римлянину (так же как и самому Цицерону, презиравшему тех, которые «предложенными ими границами добра и зла уничтожают всякое понятие об обязанностях») было не понять спокойного, как будто бы даже умиротворенного, улыбчивого отчаяния тех, которые навсегда или, по крайней мере, очень надолго, на целые века, утратили свободу, саму возможность больших, настоящих, достойных свободного человека деяний и которым не оставалось уже в этом мире ничего, кроме всеотрицающего безразличия.
Что же касается тех соотечественников Садослова, которым его учение также казалось лицемерной лжемудростью, призванной оправдать, обосновать невоздержанность, порочность и бездеятельность ни к чему серьезному не способных людей, то если в начале своей просветительской деятельности он, вполне возможно, пытался им объяснить исходные посылки своих взглядов, принципы своей этики, то впоследствии, в зрелые годы стал отвечать на всякого рода нападки бесцеремонным пренебрежением, также нимало не заботясь о выборе слов. Ему ли, к которому все чаще перебегали слушатели других школ, которого любящие, преданные ученики почитали за существо высшее, ему ли было беспокоиться о защите своего имени, о доброй славе Сада? Что ему было до мнения обывателей, одни из которых распускали пустые сплетни об оргиях в Саду, а другие, напротив, насмехались над скудостью жизни эпикурейцев, непритязательностью их требований: «Съел кусок, выпил глоток, лег на доски — вот вам и весь Эпикур». Но особенное возмущение недоброжелателей вызывало то, что этот ничего, в сущности, не имеющий, не родовитый, не пользующийся поддержкой царей или каких-то других сильных мира того старик действительно возомнил себя Спасителем людей и требует якобы от своих приверженцев чуть ли не божеских почестей. Какая-то доля истины в этих обвинениях, наверное, была, потому что и сообщения античных авторов, и дошедшие до нас фрагменты из трудов самого Эпикура говорят о том, что (при всем демократизме его школы, открытой для всех стремящихся к знанию) в старости сын Неокла не был чужд определенного самовозвеличения и получал несомненное удовольствие от поклонения окружающих. Что же, простим ему эту слабость, вполне понятное желание больного, слабого телом, лишенного сыновней заботы, всю жизнь стремившегося облегчать чужие страдания человека постоянно ощущать себя любимым и нужным. Давший столь много своим ученикам и друзьям, научивший или, по крайней мере, пытавшийся научить их жить достойно и правильно даже тогда, когда жить, казалось бы, вообще невозможно, Эпикур был вправе рассчитывать на какую-то плату — и этой платой была непоколебимая вера окружавших его людей в необыкновенность, некое высшее предназначение сына Неокла.
Да и в самом деле, разве не были в высшей степени необыкновенными людьми эти бессмертные мужи-философы, с их поистине нечеловеческой мощью ума и даром интуиции: Гераклит, угрюмым отшельником угадавший в своих азийских горах основной закон бытия — извечную борьбу противоречий; благородный Анаксагор, по прозвищу Ум, учивший о мельчайших семенах всего сущего; непревзойденный в веках Демокрит, проникавший мысленным взором во всю беспредельность Вселенной, и, наконец, Эпикур, «восходящий разумом к огненным стенам мира»?.. Таких людей во все времена было очень и очень немного, и им самим было дано понимать собственную необыкновенность, свою гениальность, особенно видимую сейчас, спустя многие столетия, когда то и дело подтверждаются данными науки их предвидения и догадки.
И при всем том эта их необыкновенность, хотя она была очевидна и для их современников, никогда не послужила ни одному из великих философов защитой от злобного недоброжелательства. Их могли приглашать к своему двору чужеземные монархи, но часто прямо-таки не выносили живущие рядом, традиционно и прагматически мыслящие обыватели. Те самые положительные люди, занятые прежде всего устройством собственных дел, абсолютно земными проблемами купли и продажи, приобретения и накопления, подчинения новых земель и порабощения себе подобных, которые голосовали в свое время за изгнание Анаксагора, которые предали суду Протагора и умертвили Сократа. Те самые реалистически относящиеся к жизни граждане, которым казался безумцем над всем смеющийся Демокрит и которые теперь все искали какого-то тайного и постыдного смысла в вечерних собраниях в Саду Эпикура. И если и раньше людям незаурядным приходилось порой очень сложно в великолепных Афинах, то теперь многим из них все больше казалось, что живут они не на родине, среди земляков, а в каком-то вражеском стане.
Слово «страх», то и дело встречающееся в дошедших до нас фрагментах из писаний Эпикура, стало к этому времени, по-видимому, основным состоянием, определяющим чувством большей части афинян. Отношения между гражданами (теперь это было всего лишь устаревшее, просто пока еще не отмененное и ничем другим не замененное слово, за которым, по существу, ничего не стояло) принимали нередко прямо-таки разбойничий характер: друг на друга доносили, друг друга обманывали и обворовывали, предавали и оговаривали, унижали и оскорбляли никого не любящие и не уважающие люди, сами всем скопом униженные, обнищавшие, опустившиеся и озлобившиеся от безысходности того положения, в котором они все оказались. Какое уж там гражданское братство, когда порой македоняне, а тем более какие-то там дальние враги, вроде молоссов, казались куда менее опасными и коварными, чем собственные соседи. Казалось, что для большинства греков незыблемым остался один-разъединственный принцип — выжить и уцелеть, такие же понятия, как честь, справедливость, великодушие, доблесть — качества, присущие людям свободным и имеющим будущее, а не тем, кого не сегодня завтра мог ждать рабский удел, — представлялись теперь измышлениями древних поэтов, просто-напросто не знавших, почем лиха фунт. В этих ужасных войнах последнего столетия, в восстаниях против македонян, в гражданских братоубийственных распрях постепенно был выбит весь цвет афинского народа, были необратимо подточены не только его моральные устои, но сами жизненные силы, и хорошим человеком мог считаться уже тот, который хотя бы не вредил другим. Теперь, когда каждый подозревался в нечестности, бессовестности и неблагонадежности, не для чего было особенно блюсти свою совесть, беречь достоинство, в которые никто не верил. Все они были теперь только подданными Македонии, а впереди, в спешащем навстречу времени уже вырисовывалась и другая, еще более грозная тень — непобедимого Рима.
Потом, спустя несколько столетий, афиняне привыкнут к своей несвободе, научатся жить с нею (и, может быть, даже навсегда позабудут о том, что такое свобода), приучатся к раболепству и лицемерию как способу быть, даже их страхи приобретут какое-то иное содержание, но теперь, в эти горькие годы Эпикуровой старости, это был общий (или почти что общий) страх перед жизнью, перед постоянными неожиданностями истории, страх людей, прежний мир которых распадался у них на глазах и которые, ослепленные отчаянием и безнадежностью, сами добивали друг друга трусливыми и бесконечными предательствами. Обеспечить себе безопасность от окружающих, уберечься от собственных соседей — вот что становится удручающим лейтмотивом Эпикуровых поучений, тревожным фоном его писем (причем он пишет именно «соседи», а не сограждане, изъяв из употребления уже ничего не значащее слово): «Кто имеет возможность доставить себе полную безопасность от соседей, те живут… самым приятным образом».
Все труднее удавалось сыну Неокла сохранять философскую отрешенность, проповедуемое всю жизнь наслаждение бытием как таковым. И, всегда предельно честный, бесконечно серьезно воспринимающий свое предназначение просветителя и наставника для тех, кто еще был достоин наставлений и нуждался в них, Эпикур учит теперь своих последователей тому, что диктует печальная необходимость — как «добыть себе безопасность в отношении ближних»: «Хотя безопасность от людей достигается до некоторой степени благодаря некоторой силе, удаляющей беспокойных людей, и благосостоянию, самой настоящей безопасность бывает благодаря тихой жизни и удалению от толпы».
Итак, этот последний или же один из самых последних учеников ничего и никого не боявшегося Демокрита, поставивший перед собой в пору смелой надеждами юности великую задачу освобождения людей от всех и всяческих страхов, сам на склоне лет все больше склонялся к тому, что единственно возможная для человека свобода — это никого не затрагивающая свобода незаметного, ничем себя не обнаруживающего существования в каком-то жизненном убежище. И, следовательно, найти, обеспечить себе такое убежище — это, по существу, основная, единственно важная задача каждого смертного. Все же остальное — возможность жизненного выбора, волеизъявление личности — повидимому, лишь только иллюзии… И теперь старый философ, так и не сумевший найти свободы какого-то иного рода, начинает трактовать с точки зрения вышеназванной главной задачи все деяния и побуждения людей, считая, что «некоторые хотят сделаться славными и быть на виду у людей, думая, что таким способом приобретут безопасность от людей», и добавляя, что по большей части эти их надежды оказываются напрасными. Потомок свободных аттических землепашцев, превыше всего гордившийся ранее тем, что ему было дано возноситься разумом к «огненным стенам мира», утверждавший великое счастье быть личностью, разумной и мыслящей, Эпикур выдвигает теперь тезис, от которого перестал бы улыбаться сам Смеющийся философ — «живи скрываясь». Скрываясь — оставайся свободным, скрываясь — оставайся независимым духом и разумом, скрываясь — оставайся счастливым, счастливым немыслимым, невероятным, парадоксальным счастьем побежденного. Будь счастлив тем, что лицо твое еще не отмечено рабским клеймом, что ты не умер от голода во время осады, не свалился в уличную грязь с разможженной кельтской дубинкой головой, будь счастлив тем, что в саду по-прежнему благоухают ночные цветы, а в ларце у стены покоятся драгоценные свитки, писания старинных философов.
Больше, чем когда бы то ни было, сын Неокла осознавал в эти оставшиеся ему годы свое собственное бессилие, как и бессилие мужей-философов вообще, изменить что-либо к лучшему в окружавшей его реальности. Больше, чем когда бы то ни было, он был преисполнен горькой уверенности в том, что человеку дано лишь выработать только свое, то или иное отношение к миру, изменить же сам мир, видимо, смертным вообще не под силу. И, значит, остается атараксия — бесконечное безразличие ко всему внешнему и бесконечное же углубление в свой внутренний, в значительной степени самим же собой созданный мир, тот самый мир души, который, как учил Гераклит, беспределен и блуждать по которому можно целую вечность…
Престарелого философа почти не интересовали дела агонизирующего полиса, время которого навсегда уходило — с этим было уже ничего не поделать. Свидетель нескольких попыток вернуть невозвратимое, попыток тщетных, кровавых и опустошающих, сознающий полную бесполезность этих попыток, единственное, что он еще мог, так это оставить в своих сочинениях память о мощи духа и разума своего необыкновенного народа, плотью от плоти которого он был. В его силах было лишь попытаться сберечь, сохранить до лучших времен те семена великой эллинской культуры, которые, пережив все морозы и засухи долгих веков безвременья, непременно должны были снова взойти когда-нибудь в новых умах и новых душах. Как греку, афинянину, сыну Неокла, казалось, не оставалось уже ничего, кроме отчаяния, но как мыслитель, достойнейший из продолжателей великого, вечного дела мужей-философов, он верил, знал, что из обломков, мельчайших остатков рухнувших миров рождаются с течением времени миры новые и, может быть, более совершенные. Так и на древнем фундаменте их обветшавшего здания, первые камни которого были заложены еще в незапамятные, дотроянские времена, расцветет когда-нибудь новое общество, и новые люди, быть может, попытаются еще раз сделать более разумной и радостной человеческую жизнь. И вот тогда-то, возможно, снова явятся миру, выступят из темноты долгих столетий запечатленные в витиеватых греческих буквах его любовь, сострадание к роду людскому, его стремление хоть чем-то помочь людям, стремление, может быть, так и не достигшее вполне своей цели при его жизни:
Все реже оставляя хотя бы на краткое время свои дом и сад, все больше ограничивая круг общения лишь близкими по духу людьми, Эпикур проводит свои последние годы в напряженной работе мысли и духа. Он словно все-таки надеется доискаться до той самой главной истины, которая, в сущности, так и не открылась ни одному из философов и мудрецов, которая как будто бы даже уже и не интересовала пережившего священный трепет познания старика, и в то же время только ради нее одной и стоило, по-видимому, мыслить. Он перечитывал Анаксагора, Демокрита, Аристотеля и многое, очень многое видел совершенно иначе, чем в такие далекие теперь годы своего философского ученичества, в годы страстных бесед со своими лампсакскими друзьями. Казалось по-прежнему заманчивым приблизиться хоть немного к тайнам мироздания и представлялось совершенно ненужным, бесплодным размышлять о том, что ждет его самого за тем последним порогом, к которому он приближался. В отличие от Сократа, надеявшегося насладиться в мире ином беседами с мудрецами времен минувших, в отличие от Платона, с его верой в причастность к вечно сущей вселенской душе, Эпикур твердо знал, что за этой последней чертой его ничего уже не ждет, что там ничего больше нет. И поэтому не особенно думал об этом, давно уже готовый мужественно покинуть тот «неукрепленный город», который представляет собой недолговечное существование каждого из смертных.
Что же, так уж устроен мир, так развивается в нем жизнь: все рождается, расцветает, дает в срок плоды и затем увядает, продолжившись в семени. И человек не исключение в этом общем порядке вещей, он также подвластен законам природы, и поэтому смерть следует встретить с разумным спокойствием мыслящего существа, постигшего начала Вселенной. Надо только понять самое главное: смерть — это уже несуществование, нас уже нет, когда она вступает в свои права, и поэтому к нам таким, какими мы были при жизни, она уже не имеет никакого отношения. Этому Эпикур всегда учил своих последователей (в чем-то повторяя софиста Продика Кеосского), предостерегая их от бессмысленных, хотя и заманчивых, заблуждений относительно бессмертия: «Приучай себя к мысли, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Ведь все хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущения. Поэтому правильное знание того, что смерть не имеет к нам никакого отношения, делает смертность жизни усладительной, — не потому, чтобы оно прибавляло к ней безграничное количество времени, но потому, что оно отнимает жажду бессмертия. И действительно, нет ничего страшного в жизни тому, кто всем сердцем постиг, что и в нежизни нет ничего страшного».
«Ведь если что не тревожит присутствия, — убеждал сын Неокла своих учеников, — то напрасно печалиться, когда оно только еще ожидается». Да и о чем печалиться, когда многое из того, что было задумано, сделано, когда кончаются силы, слабеют чувства и угасают желания, когда ты чувствуешь сам и с каждым годом все больше, что превращаешься в немощную развалину, в жалкое подобие тебя прежнего, недостойное тебя? Конечно, даже прожив свой срок, так жаль расставаться с нашим прекрасным, залитым солнцем миром, но что же делать, если мир так устроен. Разве испытываем мы боль при мысли, что не жили столетием или же тысячелетием раньше? Так почему же мы горюем о том, что не будем существовать через сто или тысячу лет? Так учил, убеждал своих учеников до конца верный себе сын Неокла, твердо приняв раз и навсегда свой кратковременный, трудный, единственно возможный человеческий удел, с презрением отвергнув вековечные сказки о жизни иной, сколь бы спасительными они ни казались.
Считая пустым вымыслом саму идею возмездия или же вознаграждения после смерти, Эпикур тем не менее подверг добросовестному рассмотрению воззрения Гераклита, Пифагора и Платона, стараясь понять, почему же эти великие мужи-философы были так твердо убеждены, что «людей ждет после смерти то, чего они не ожидают и не предполагают». Но так же, как и Демокрит, он так и не смог отыскать для этого никакого объяснения, которое бы сообразовывалось как с законами природы, так и с законами логики. Что же они видели такое, чего ему так и не удалось разглядеть, сколько он ни всматривался? И даже если они были в чем-то правы, Пифагор и Эмпедокл, и то, из чего он сам состоит, — это определенное количество атомов, горстка первоначальной субстанции — не может исчезнуть бесследно в океане Вселенной, ибо материя неуничтожима; и если даже в какое-то из неисчислимо далеких, грядущих времен все эти атомы снова соединятся во что-то аналогичное, то ведь все равно это будет уже не он, а что-то или кто-то совершенно иной…
Может быть, эти люди — Платой, Гераклит, Пифагор, пусть даже самые мудрые и вдохновенные, всех превзошедшие мощью ума и величием духа, просто не были счастливы в этой жизни земной, в этой нашей одной-разъединственной жизни, не сумев насладиться ею во всех ее противоречиях и постичь ее скрытую гармонию? Насладиться вполне и сознательно, к чему всю жизнь призывал сам Эпикур, не без высокомерия отказывающийся от какого бы то ни было инобытия; насладиться тем коротким отрезком времени, между небытием в прошлом и небытием в будущем, между той неизвестностью, откуда приходят, и той, куда навсегда удаляются. Может быть, самоценность жизни так и осталась сокрытой и для угрюмого Гераклита, презиравшего мирскую толкотню, и для отчаявшегося Платона, и для нищих орфиков, грезящих о потустороннем блаженстве, и, наконец, для тех голых, совершенно не от мира сего мудрецов, кающихся отшельников, которые так поразили солдат Александра в Индии?..
Как бы там ни было, сын Неокла собирался покинуть этот мир, единственный, жестокий и непонятный, абсолютно свободным человеком, свободным от какого бы то ни было управляющего начала извне, не испытывающим ни малейшего страха ни перед Судьбой, ни перед Мировой справедливостью, ни перед самой смертью, ибо «самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем».
Эпикур умер в 271 году до нашей эры в возрасте семидесяти двух лет. Перед этим, в течение четырнадцати дней его мучили тяжелейшие приступы рвоты, из почек шли камни, «страдания при мочеиспускании и кровавый понос». И хотя сын Неокла писал в свое время о том, что «совсем ничтожен тот, у кого есть много основательных причин для ухода из жизни», есть все основания предполагать, что он сам положил конец невыносимым страданиям своих последних дней. Недаром он обращался в эти годы к горькой и мужественной мудрости Биона Борисфенского, считавшего, что самое главное для человека — прожить отпущенный век, никогда не теряя достоинства, и так же достойно покинуть этот мир, когда иссякли все силы и обесценились все ценности: «Если страдания сносны, будем сносить их, если нет — равнодушно выйдем из жизни, которая нам больше не по душе, как покидают театр». Тот обветшавший и порядком обезлюдевший театр, в который превратилась к этому времени Эллада, где полинявшие, выцветшие декорации не радовали взора, и бездарные, равнодушные к своему делу актеры кое-как проговаривали ничего не значащие и никого не трогающие слова. А такие же равнодушные зрители безразлично дожевывали дешевые пирожки и лениво думали о том, что все кругом одно и то же, все надоело до смерти, что завтра будет в точности такое же, как сегодня, а сегодня до тошнотворности похоже на вчера…
О добровольном уходе Эпикура из жизни пишет в своей поэме и Тит Лукрецкий Кар:
Об этом же, как нам представляется, свидетельствует и его письмо к Гермарху, где Эпикур сам определяет день написания этого письма как свой «последний» и в то же время «счастливый» день, счастливый, по-видимому, потому, что в этот день он решает осуществить уже принятое решение: «Гермарху от Эпикура привет. Когда писал тебе это, я переживал счастливый день, который вместе и мой последний день: меня терзали такие муки мочевого пузыря и телесные страдания, что ничего, кажется, нельзя было прибавить к их силе. Но страданиям тела противопоставил я радость духа, исходившую от воспоминаний о моих рассуждениях и моей философской системе». Приняв решение, Эпикур, до последней минуты не перестававший заботиться о близких ему людях, делает последние распоряжения, «что бы никто из наших товарищей по философии, оказывая нам услуги в делах, обнаруживая всяческое доброжелательство и состарившись со мной в занятиях философией, не остался после этого нуждающимся по моей вине». Сад и все к нему принадлежащее он оставляет Гермарху, дабы его товарищи по школе «проводили там время, как подобает философам». Гермарху же он завещает свои книги, а также просит его «иметь попечение о детях Метродора» и сыне Полиэна в течение четырех или пяти лет, чтобы они могли заниматься философией и жить в его, Гермарха, доме. Эпикур отпускает на волю рабов Миса, Никия, Ликона и рабыню Федрию. Он оставляет средства на совершение принятых жертвоприношений по своим покойным родителям и братьям (поручив распоряжаться ими своим товарищам Аминомаху и Тимократу), а также средства для того, чтобы ученики созданной им школы могли отмечать ежегодно день его рождения, десятый день месяца Гамелеона, и день памяти о Метродоре. Он думает при этом отнюдь не о посмертном возвеличивании своей собственной особы, но прежде всего о том, чтобы эпикурейцы, как бы ни складывались дела и обстоятельства в Афинах (на улучшение которых уже было бы наивно надеяться), имели еще один повод собраться всем вместе, здесь, в его Саду (где и после его смерти будут, должны все так же благоухать ночные цветы и летать серые грузные бабочки), чтобы не утратить осознания великого своего братства по духу, по мысли, по вечному поиску истинно человеческой жизни, чтобы как можно дольше оставаться «достославным потомством» своего ничего не боявшегося и ни перед чем не склонившего головы отца.
Как рассказывает в своих письмах Гермарх, измученный жесточайшими болями, Эпикур «лег в медную ванну с горячей водой», попросил неразбавленного вина, выпил, пожелал друзьям не забывать его учений и так скончался. Горячая вода и вино отняли остаток сил у измученного продолжительными страданиями и многолетней диетой тела и помогли навсегда успокоиться, умиротворенно остановится все еще бунтующему против надвигающейся вечной темноты сердцу. В мягком свете предвечернего солнца нежились старинные храмы Акрополя, но с востока, со стороны Эгейского моря на город, на прекрасные, непревзойденные в веках Афины, на древнюю землю Аттики, на всю многострадальную Элладу надвигалась тысячезвездная южная ночь, и мириады далеких светил в непостижимых пространствах Вселенной переливались все так же загадочно и маняще, как и шестьдесят лет назад, когда сын самосского клеруха Неокла впервые задал себе вопрос: «А что же он все-таки есть, этот весь наш огромный мир?» А теперь он уходил в небытие (вернее, в бессмертие), такой же, свободный и ничем никому не обязанный, такой же бесстрашный и честный, каким прожил всю жизнь. Честный потому, что с презрением истинно мыслящего человека с самого начала и до самого конца он отвергал заманчивую ложь о бессмертии души, о высшей и потому непреложной предопределенности всего сущего. Бесстрашный потому, что с подлинно человеческой доблестью он принял вечный вызов природы — испытание смертью, противопоставив страху перед ней апологию жизни как таковой, апологию радости, короткого, трудного, единожды данного счастия бытия каждого человека. Не умирать духовно каждый свой день, считая жизнь лишь предисловием к чему-то, может быть, гораздо более лучшему, но жить ради этого сегодняшнего дня, ради солнечного света, соленого дыхания моря, золотистых, налитых солнцем плодов. Жить ради заботы о ближних, задушевной беседы с друзьями, ради любви к своим детям, ради всей грандиозной красоты вечносущего мира, созерцать которую нам дано только единожды в целую вечность и другого раза не будет.
Он уходил совершенно свободным человеком, хотя весь мир состоял к этому времени, в сущности, только из рабов и хозяев. Уходил потому, что он сам так решил (как решили в свое время Эмпедокл, Фемистокл, Демокрит, как решил это Сократ). Он уходил потому, что он сделал все или почти что все из того, для чего был рожден, и не хотел, не допускал даже мысли о том, что когда-нибудь немощь и бессилие заставят его поступиться хотя бы крошечной долей той свободы, той независимости духа, помыслов и деяний, которая одна только и есть подлинно человеческая жизнь: «Я предупредил тебя, судьба, и принял меры против твоих тайных угроз. Я не сдамся ни тебе, ни чему-либо другому. Но когда явится необходимость расстаться с жизнью, то смело отрешись от нее и от всех, кто по своей пустоте скован ею; мы выйдем из жизни с прекрасными словами на устах и возгласим: «Хорошо мы пожили!»
ЭПИЛОГ
Сооруженное им здание может когда-нибудь разрушиться, но фигура самого творца останется нетронутой посреди развалин.
Дидро
«Немногие люди и немногие доктрины, — пишет о философской системе Эпикура швейцарский эллинист А. Боннар, — вызывали как у современников, так и в последующие времена больше страстности и больше противоположных суждений, чем Эпикур и его учение». И действительно, для тех, кто верил или же стремился поверить в бессмертие души, в божественный промысел, в высшую предопределенность человеческого существования, эпикуреизм сделался символом самого грубого материализма — материализма чрева, он казался апологией самой низменной жизни, чуждой всего возвышенного, неземного. Для тех же, кто верил в возможность выбора для человека, в свободу его ума и воли, Эпикур стал на долгие времена наставником и другом, вневременным современником, образцом бесстрашия и жизнестойкости.
Его философская школа просуществовала более восьмисот лет (с конца IV века до н. э. и до начала VI века н. э.), она оставалась известной даже тогда, когда почти все другие, современные ей греческие школы распались, и выдвинула целый ряд незаурядных мыслителей. Эпикуреизм продолжал привлекать людей смелой проповедью познаваемости мира, утверждением материальности всего сущего, отрицанием фатальной предопределенности, уверенностью в субъективных возможностях человека. Наиболее известными из ближайших последователей Эпикура, успешно развивавшими в своих многочисленных сочинениях его основные положения, античные авторы считают, кроме Гермарха и Идоменея, Полистрата, ставшего схолиархом Сада после Гермарха (до нас дошло его сочинение «О неразумном пренебрежении», направленное против пирроновцев и киников), а также Аминомаха и Тимократа. К более позднему периоду относятся Дионисий, Басилид, Аполлодор по прозвищу Садовый тиран, Зенон Сидонский и Деметрий Лаконский, после которых также остались десятки философских работ. Особенно значительно философское наследие Филодема из Гадар, ряд его работ по самым различным вопросам натурфилософии, логики, искусства, этики, религии («О святости», «О богах», «О добродетели и противоположных им пороках», «О поэзии», «О музыке») сохранился до наших дней, и в значительной степени по ним мы имеем возможность судить о тех или иных сторонах Эпикурова учения. Филодем был одним из первых эпикурейцев-греков, перенесших свою просветительскую деятельность в Италию: он основал школу близ Неаполя где-то в первой половине I века до н. э. и был, как полагают, учителем Лукреция.
Не будет преувеличением утверждать, что вся идейно-мировоззренческая борьба последующих четырех-пяти столетий разворачивалась в основном как борьба между стоиками и эпикурейцами, хотя трактовка этих учений, безусловно, претерпела со временем определенные изменения и, широко распространившись, приобрела более упрощенный характер. С середины II века до н. э. эпикуреизм начинает проникать и в Рим, однако на весьма сомнительных правах по сравнению со стоицизмом, который более соответствовал мировоззренческому складу, традиционной морали и общественно-политическим интересам римлян и сделался со временем чуть ли не официальной идеологией. И в то время как к стоицизму тяготели многие известные политики, государственные деятели и впоследствии даже императоры, эпикуреизм стал идейным знаменем целого поколения творческой молодежи первой половины I века н. э. (к которому, в частности, принадлежал великий лирик античности Гай Валерий Катулл), стремившейся к освобождению личности от сковывающих установлений стародедовской морали и официальной идеологии, не приемлющей стоической концепции жизни как всего лишь подготовки к не нами заданной высшей цели и прославлявшей завещанную Эпикуром людям радость бытия. Многим молодым людям того времени казалась такой заманчивой возможность прожить жизнь так, как хочется, как хотелось бы — разумно и одновременно приятно, вне страхов и тревог, и каждый из них согласился бы с Торкватом (собеседником Цицерона в его знаменитом диалоге «О пределах добра и зла»), в таких вот словах восхищавшимся Эпикуром: «А ведь это, по-моему, был единственный, который освободил умы людей от величайших заблуждений и преподал все правила, ведущие к разумной и счастливой жизни».
Страстным последователем и поклонником Эпикура был, как уже не раз говорилось ранее, поэт Тит Лукреций Кар, переложивший учение Спасителя людей в прекрасные строфы своей бессмертной поэмы «О природе вещей». Это был вдохновеннейший из апологетов материализма, он казался современникам человеком несколько странным и, пожалуй, не от мира сего, когда он повествовал о тайнах Вселенной с тем же «неким восторгом и священным ужасом», что и глубоко почитаемые им греческие мудрецы. Для Лукреция сын самосского клеруха Неокла был ни более, ни менее чем бог: «Богом он был, мой доблестный Меммий, поистине богом», — писал он, обращаясь к своему покровителю, римскому патрицию Гаю Меммию, тоже как будто бы стороннику эпикуреизма, в доме которого поэт выступал с чтением отрывков из своей поэмы:
Очень может быть, и весьма вероятно, что на чтении этом присутствовал и Марк Туллий Цицерон. У великого оратора было сложное, противоречивое отношение к бессмертному основателю Сада: с одной стороны, мало было и до и после него опровергателей эпикуреизма более сильных и более непримиримых (даром что он учился одно время у греческого эпикурейца Федра, известного своими атеистическими воззрениями и утверждавшего атомистическое строение Вселенной). А с другой стороны, Цицерон всегда отдавал должное чистоте помыслов и поступков Эпикура, соглашаясь с тем, что тому были присущи «строгая умеренность и самообладание, мужество, самое широкое дружелюбие, любовь к родителям, нежная заботливость по отношению к друзьям, гуманное обращение с рабами, полное согласие жизни с теми нравственными идеалами радостного и невозмутимого мира душевного, который он себе поставил». Но это относительно личности самого Спасителя людей, что же касается его философии, то в Эпикуровой физике Марк Туллий видел лишь весьма ухудшенный пересказ блестящих построений Демокрита: «В естественных науках… он совершенно чужой человек. Он повторяет слова Демокрита, лишь очень немногое изменяя, но, по моему мнению, каждое его исправление есть ухудшение». Для великого римского мыслителя остался, по-видимому, так и непостигнутым глубокий смысл этих, на его взгляд, совершенно несущественных изменений в атомистической теории Демокрита, в то время как именно они легли в основу всей философской концепции Эпикура — его главного тезиса о возможности свободы воли и выбора для человека. Да и сам этот тезис был в представлении высокоумного последователя стоицизма не более чем самонадеянной ложью, хвастливым самообманом не слишком образованных людей, далеких от понимания истинных законов мироздания.
Еще более резкие возражения вызывала у Цицерона, так же как и у других опровергателей эпикуреизма, вульгарно-гедонистское толкование этики Эпикура, все шире распространявшееся среди самых различных слоев населения Рима. В этой вреднейшей, на взгляд Цицерона, лжемудрости виделось прежде всего стремление обосновать и оправдать антиобщественный образ жизни людей, по природе своей не способных, не годных ни на что настоящее, действительно полезное для государства. Целый ряд высказываний Цицерона, такие его сочинения, как «О природе богов», «Об обязанностях», «Против эпикурейцев», представляют собой страстное, убежденное опровержение индивидуалистической этики Эпикура, в которой Марк Туллий усматривал большую опасность как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом. И все это не мешало ему ходатайствовать перед Меммием за некоего Патрона, бывшего, кажется, в то время главой Эпикуровой школы, убеждая Меммия уступить философу земельный участок с остатками дома Эпикура, который его последователи хотели бы сохранить как священную реликвию, а также не помешало ему отредактировать какие-то из произведений Лукреция.
Во многом Цицерону вторит Плутарх, греческий писатель, живший столетием позже и также глубочайшим образом убежденный, что главное в жизни каждого смертного — это совершать «то, что должно». И в его в достаточной степени презрительном толковании Эпикур предстает как честолюбивый, самоуверенный, завистливый самоучка, который «плохо разбирался в вопросах естествознания», дословно списал у Демокрита большинство его высказываний о мироздании и в то же время имел наглость чернить своего великого предшественника. Сам живший прежде всего «как должно», принявший (даже если не сразу и не полностью) необходимость как непреложный закон бытия, смирившийся с «разумной необходимостью» подчинения Риму и научившийся сохранять человеческое достоинство, вести спокойную, созидательную жизнь; и в рамках этой необходимости, великий моралист и жизнеописатель не мог, по-видимому, воспринимать без раздражения дерзкий бунт Эпикура — вечный бунт свободного духом человека против сковывающих его ум представлений, против всех и всяческих владык, земных и небесных.
И так уж сложилось с самого начала и на века, что эпикуреизм стал мудростью для тех, кто надеялся сохранить свободу ума и духа даже тогда, когда вокруг давно уже почти все стали рабами — рабами страха, судьбы, денег, собственного безволия, низких и мелких чувств, подданными императоров. К эпикуреизму тяготели Вергилий, Овидий и Гораций, с грустной иронией писавший в одной из своих бессмертных од об этой «мудрости немудрых», «мудрости безумных» — безумных потому, что они надеялись остаться свободными и радостными в том царстве несвободы, в которое превращался неостановимо весь их мир. И если одни, как, например, сатирик Лукиан из Самосаты, продолжали возмущаться низменным гедонизмом «скотоподобных» эпикурейцев, людей, начисто лишенных понимания возвышенного и прекрасного, то другие, и даже приверженцы стоицизма, считали подобные обвинения явно несправедливыми и необоснованными. Вот что писал в связи с этим известный римский стоик Луций Анней Сенека, выступая в защиту Эпикура и его философии в трактате «О счастливой жизни»: «Я остаюсь при своем мнении… О школе Эпикура не стану говорить того, что большинство наших… Скажу одно: она в дурной славе, опозорена — и не заслуженно».
Конечно, нельзя не признать, что у многочисленных противников эпикуреизма, продолжавших честить приверженцев этого учения как безбожное «стадо свиней», были для этого определенные основания. По мере распространения этических положений Эпикура среди самых широких слоев становящейся все более праздной и паразитической римской публики, они приобретали все более упрощенное и вульгаризированное истолкование. Эпикуреизм сделался одним из самых популярных учений после падения Римской республики, но по мере изживания последних иллюзий гражданственности, нарастающего оскудения человеческих душ, воцарения ужасающей внутренней пустоты (этой бездны, страшнее которой нет ничего на свете и которая являет собой самый грозный и несомненный признак приближающегося конца) учение Спасителя людей все больше понималось как апология вседозволенности, безудержного наслаждения днем сегодняшним, потому что инстинкт подсказывал, что дня завтрашнего, может быть, уже и нет. Эта безудержность подданных не устраивала взывающих не только к внешней, но и к внутренней соподчиненности императоров, поэтому Эпикурова школа была закрыта при Домициане и восстановлена только через сто лет при философствующем императоре Марке Аврелии.
Но когда, казалось, эпикуреизм окончательно выродился в нечто вроде вульгарного самоутверждения слабых и неспособных к созидательной, творческой жизни людей, когда вокруг самого основателя Сада неприглядным клубком сплелись, наслоились в течение веков злорадные и лживые легенды, тогда-то вот, спустя чуть ли не полтысячелетия, во II веке н. э., появляется человек, воззвавший к первоначальному смыслу гуманистической проповеди Спасителя людей, — словно пророс последний свежий побег на могучих корнях засыхающего древа ищущей эллинской мысли. Это был Диоген из Эноанды, захолустного местечка в Каппадокии, один из тех последних в античности, кого поразил открывшийся ему высший смысл Эпикуровой мудрости — возможность и даже обязанность для человека остаться человеком на этой земле, что бы на ней ни происходило. Именно Диогену из Эноанды мы обязаны знанием знаменитого «Эпикурова послания», выгравированного на стене старинного портика:
А после того как равнодушной рукою времени был навеки опущен занавес над тем, что представляло собой одно из блистательнейших действ в истории человечества, после этого и самого Эпикура, и его человеколюбивую мудрость надолго накрыли плотные тучи невежества, презрения, глубочайшего, воинствующего непонимания. Средневековому европейцу, даже в достаточной степени образованному и мыслящему, казалось богопротивной, кощунственной ложью учение об атомах, о не имеющих отношения к людям богах и погибающей вместе с телом душе. И даже на пороге Ренессанса знающие об Эпикуре лишь понаслышке могли сказать о нем словами Данте:
И в то же время, как утверждают некоторые из исследователей эпикуреизма, это учение проникает и на Ближний Восток, и отдельные его элементы находят отражение в определенных мусульманских концепциях.
Но опять поворачивается тяжкий круг времени — ищущий свободы духа и мысли человек опять обращается к идейному наследию Философа из сада, чтобы почерпнуть в нем поддержку, уверенность в своем праве на собственный путь как существа мыслящего и в достаточной степени автономного. Раскрепощающее разум воздействие Эпикуровой натурфилософии испытали на себе Леонардо да Винчи, Галилей, Бруно, Коперник и другие ученые, заложившие фундамент современного видения мира.
Понимание освободительной сущности Эпикурова учения возрастало по мере распространения в XVII–XVIII веках материалистических идей среди прогрессивно мыслящей буржуазной интеллигенции, восстающей против догматизма церковников, стремящейся к высвобождению и развитию творческого начала в человеке. В это время Эпикурово учение обретает как бы второе рождение, вновь подтверждается его теоретическая мощь, огромная притягательная сила. К философскому наследию Эпикура обращаются Дидро, Гольбах и Монтень, большой интерес к нему проявляли утопические социалисты. Многие из Эпикуровых идей нашли отражение у немецких просветителей XVIII века (у Гердера, Лессинга), у поэтов-романтиков, у таких корифеев литературы, как Шекспир, Мольер, Шиллер, Гёте, Гюго, Флобер, Франс.
Однако, как и при жизни самого Эпикура, система его взглядов продолжала вызывать далеко не однозначное отношение, весьма противоречивые оценки. И если одни из европейских мыслителей (такие, как Руссо, Гассенди, Фейербах) были горячими приверженцами и пропагандистами его атомистической теории, то другие, философы-идеалисты и XIX, и XX веков, продолжали начатое стоиками развернутое наступление на «безбожное учение». Ж. де Местер и Ж.-М. Гюйо, апеллируя к Цицерону, Сенеке и Плутарху, стремились опровергнуть исходные посылки Эпикура о естественных причинах всего происходящего в мире, о беспочвенности утешительного вымысла о божественном предопределении и бессмертии души. Лейбниц, Беркли, Юм, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель — все эти защитники идеи трансцендентности мироздания и бытия вторили античным идеалистам, защищая божественное первоначало и стремясь с этих позиций доказать несостоятельность как с научной, так и с нравственно-этической точки зрения Эпикурова учения как «учения о животном благополучии», недостойном человека.
Начало подлинно научному исследованию атомистического учения Эпикура было положено молодым К. Марксом. В своей диссертации «Различия между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (1841 г.) он опровергает идущее от античности обвинение Эпикура в том, что его физика не содержит в себе ничего теоретически оригинального и представляет собой лишь комментирование, а то и извращение основных положении Левкиппа и Демокрита. Особое внимание Маркса привлекала Эпикурова идея о возможности самопроизвольного отклонения атомов (та, по поводу которой столько иронизировали Цицерон и Плутарх). Рассматривая эту идею в свете общей направленности философского поиска античного материалиста, Маркс выдвинул основной тезис о том, что главной целью изменений, внесенных в атомистическую теорию Демокрита, было стремление опровергнуть демокритовскую сквозную необходимость и обосновать в конечном итоге естественную возможность свободной воли человека. Именно в преодолении такого рода натурфилософского фатализма Маркс видел одну из основных заслуг «радикального просветителя древности», в его убежденном, последовательном стремлении освободить человека от сковывающей его инициативу неизбежности всего происходящего в мире, в страстной проповеди свободы выбора и творчества.
Эпикуреизм оказал несомненное влияние и на передовую научную и общественную мысль России, Эпикура часто цитировали Ломоносов, Радищев и Новиков, многие из его положений преломились в трудах Чаадаева, Герцена, Писарева. Эпикуровский гимн вечной радости бытия был с воодушевлением воспринят Пушкиным. Большой интерес к эволюционным идеям Эпикура, подтвержденным в учении Дарвина, проявляли и ученые-естествоиспытатели.
Высокую оценку философии Эпикура дал в таких своих работах, как «Материализм и эмпириокритицизм», «Философские тетради», В. И. Ленин, отмечавший, так же как и Маркс, его несомненный вклад в развитие атеистического мышления, диалектического материализма. Дальнейшее изучение философского наследия Эпикура продолжалось в годы Советской власти, трижды переводились на русский язык и неоднократно издавались знаменитые письма Эпикура и сохранившиеся фрагменты из его сочинений. Развитие современной экспериментальной науки подтвердило многие из гипотез Эпикура, стало очевидно, что он интуитивно предвосхитил некоторые основные положения молекулярной теории. Глубокую близость его натурфилософии современному научному мировоззрению не раз отмечал С. И. Вавилов. Но, конечно, не это то главное, что делает Эпикура нашим вневременным современником, благодаря чему он и тысячи лет спустя остается живым среди живых. Как пишет о нем с глубоким почтением и непреходящим восхищением А. Боннар, Эпикур всегда хотел быть только другом для страдающего и ищущего человечества, и поэтому он остается им всегда.
БИБЛИОГРАФИЯ
Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. М., 1955.
Антология кинизма. М., 1984.
Демокрит. Демокрит в его фрагментах и свидетельствах. М., 1935.
Демосфен. Речи. М., 1954.
Диоген Лаэртекин. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.
Диодор Сицилийский. Диодора Сицилийского историческая библиотека. Спб., 1774–1775.
Лукреций Тит Кар. О природе вещей. М., 1946–1947.
Менандр. Комедии. М., 1982.
Платон. Сочинения. Т. 1–3. М., 1968–1972.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1–3. М., 1961–1964.
Плутарх. Сочинения. М., 1984.
Феофраст. Характеры. Л., 1974.
Цицерон Марк Туллий. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1974.
Цицерон Марк Туллий. Опровержение эпикуреизма, Казань, 1889.
Арним Г. История античной философии. Спб., 1910.
Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 3. М., 1962.
Вундт М. Греческое мировоззрение. Пг., 1916.
Гомперц Т. Греческие мыслители. Спб., 1911–1913.
Гюйо М. Мораль Эпикура и его связь с современными учениями. Собр. соч., т. 2. Спб., 1899.
Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946.
Танхилевич О. Эпикур и эпикуреизм. Новая Москва, 1926.
Шакир-Заде А. С. Эпикур. М., 1963.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЭПИКУРА
Конец 342 — начало 341 г. до н. э. — рождение Эпикура.
324–322 гг. — прохождение военной службы в Афинах.
322—306 гг. — был школьным учителем в городе Митилены и других городах Малой Азии, создавал основы своей филосфской системы.
306–271 гг. — возглавлял философскую школу в Афинах.
271 г. — смерть Эпикура
Иллюстрации
Эпикур. Бюст.
Демокрит.
Гераклит.
Урок чтения. Рисунок с вазы.
Платеи. Алтарь в честь победы над персами.
Корабль. Вазовая роспись.
В греческом храме.
Памятник в честь павших в битве при Херонее.
Македонский всадник.
Сократ.
В греческой школе.
Платон.
Вооруженный эфеб на коне.
Портрет неизвестного мыслителя.
Греческий доктор осматривает пациента.
Аристотель.
Карнеад.
Портрет неизвестного.
Аттическая ваза.
Поэт.
Сбор винограда. Вазовая роспись.
Статуэтка Александра с копьем.
Священная земля Элевсина.
Александр Македонский (слепок с головы).
Дельфы.
Демосфен.
Эсхин.
Менандр.
Афинский театр в современном состоянии.
Неизвестный мыслитель.
Остров Лесбос.
Демосфен. Статуя.
Метродор.
Старый учитель с грифелем.
Обедающие.
Селевк I.
Деметрий Полиоркет.
Общий вид на Пиреи.
Голова статуи так называемого Зенона.
В греческой школе.
Греческий поэт.
Старый пьяница.
Голова неизвестного философа
Демоны терзают умершую
Греческий философ. Голова из бронзы
Афинский Акрополь
Храм Посейдона на юге Аттики.
Зенон.
Голова статуэтки неизвестного философа.
Кариатиды храма Эрехтеин на Акрополе.
Старая женщина
Торговка
Птолемей I
Вазовая роспись.
Птолемей II и Арсиноя II (золотые монеты).
Продажа оливкового масла.
Пирр, царь Эпира.
Портрет неизвестного диадоха.
Антигон Гонат (золотая монета).
Гермарх
Гермес подводит умершего к Харону.
Некрополь в Афинах. Керамик.