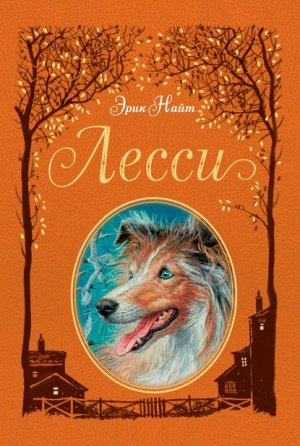
© Н. Вольпин (наследники), перевод, 2018
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
Посвящается доктору Гарри Джарретту – человеку, который понимает собаку
Глава первая
Не продается
В поселке Гринол-Бридж каждый житель знал Лесси, питомицу Сэма Керраклафа.
Она была, можно сказать, самой известной собакой на всю округу – и по трем причинам.
Во-первых, чуть ли не каждый в поселке признал бы, что не видывал колли красивей ее.
Это высокая похвала, потому что Гринол-Бридж находится в графстве Йоркшир, а в Йоркшире собака – всем собакам королева! Здесь, на суровом севере Англии, она хороша, как нигде на земле. Гуляет ветер, хлещут холодные дожди по плоским и голым полям, но у собак только богаче становится шуба, и сами они так же крепки, как здешний народ.
Народ здесь любит собак и умеет их выращивать. Обойдите хоть сотню, хоть три маленьких горняцких поселка в этом самом большом английском графстве, и везде вы увидите ту же картину: идет человек в бедной рабочей одежде, а за ним по пятам собака, такая породистая, такая на вид аристократка, что иной любитель собак, уроженец другого края, пусть даже самый богатый, глядел бы на нее завистливыми глазами.
Гринол-Бридж в этом смысле не отличался от прочих йоркширских деревень. Люди здесь знали толк в собаках и любили их; и здесь у многих были отличные собаки; но жители поселка все как один признавали, что если когда-нибудь и кто-нибудь в Гринол-Бридже вырастил собаку красивей Лесси, трехцветной колли Сэма Керраклафа, то это было не на их веку.
Но имелась и другая причина, почему Лесси хорошо знали в поселке. Дело в том, что по ней, как говорили женщины, можно было ставить часы. Началось это года три назад, когда Лесси была годовалым щенком, веселым и взбалмошным. Однажды Джо Керраклаф, сын Сэма Керраклафа, прибежал домой сильно взволнованный.
– Мама, мама! – кричал он взахлеб. – Сегодня я выхожу из школы, и знаешь, кто там сидел и ждал меня? Лесси! Как ты думаешь, откуда она узнала, где я?
– Верно, учуяла твой запах, Джо. Другого ничего не придумаю.
Так или иначе, а Лесси и на следующий день ждала у школьных ворот, и на третий день. Проходили недели, месяцы, годы, и было все то же. Женщины, выглядывая в окна своих домиков, и лавочники, стоя в дверях своих лавок по Верхней улице, видели бегущую мимо ровной трусцой горделивую черно-белую с золотыми подпалинами собаку и говорили: «Без пяти четыре – Лесси бежит!»
Ясный ли день или дождь, собака всегда была на месте и ждала мальчика – одного-единственного из полусотни мальчиков, выбегавших ватагой на асфальтовый двор, потому что для собаки был важен только этот один. Каждый раз наступало мгновение счастливой встречи, а затем они вдвоем, мальчик и собака, шли домой. Так бывало всегда, изо дня в день, уже четвертый год.
Лесси стала общей любимицей в будничной жизни поселка. Ее знал чуть ли не каждый. Но больше всего люди ценили Лесси потому, что она была утверждением чего-то такого, чего они сами не могли бы внятно объяснить. Чего-то, что было связано с их гордостью. А гордость их связана была с вопросом о деньгах.
Обыкновенно, если кому случалось вырастить особенно красивую собаку, она в один прекрасный день переставала быть собакой и становилась чем-то на четырех ногах, что стоит денег. Она, конечно, оставалась, как была, собакой, но теперь она была вдобавок чем-то еще, потому что о ней мог прослышать какой-нибудь богатый человек, любитель собак, или могли ее увидеть ловкие барышники, и тогда нашелся бы на нее покупатель. Богатый может так же горячо любить собаку, как и бедный, и в этом между ними нет разницы – разница в том, как они смотрят на деньги. Бедный сядет и подумает, сколько ему потребуется угля на зиму, и сколько нужно будет пар башмаков, и сколько пищи для детей, чтоб они росли крепкими, и придет он домой и скажет:
«Нам иначе не обойтись, так не мучьте вы меня, не надоедайте. Мы как-нибудь вырастим себе другую собаку, и будете вы все любить ее не меньше, чем любили эту».
Таким образом уходила из дому не одна прекрасная собака в Гринол-Бридже. Но не Лесси!
Весь поселок знал, что даже герцог Радлинг не может купить у Сэма Керраклафа его Лесси – сам герцог, который живет в своем большом поместье, в одной миле от поселка, и у которого полно там превосходных собак.
Герцог три года пытался купить у Сэма Керраклафа его колли, но Сэм устоял.
– Ни к чему вам набавлять цену, ваша светлость, – говорил он. – Цена правильная, но… собака не продается. Ни за какие деньги.
В поселке все это было известно. Потому-то Лесси так много значила для жителей. Она представляла собой особую гордость, которую деньги не могли у них отнять.
Но собаки принадлежат людям, а людей стегает судьба. И временами в жизни человека наступает такая полоса, когда судьба бьет его слишком тяжко, и тогда он поневоле склоняет голову и решает, что должен поступиться гордостью, чтобы не оставить без хлеба семью.
Глава вторая
«Не нужно мне другой собаки…»
Собаки нет на месте! Вот все, что знал Джо Керраклаф.
Он в этот день вышел из школы вместе с другими и пробежал по двору в том буйном веселье, какое можно видеть в каждой школе по всему свету к окончанию школьного дня. Почти машинально, по привычке, укоренившейся за сотни дней, он прошел к воротам, где его всегда ожидала Лесси. И там ее не оказалось!
Джо Керраклаф стоял – крепкий мальчик с милым лицом – и соображал, как могло это случиться. По широкому лбу над карими глазами легли морщины. Сперва он никак не мог себе представить, что глаза говорят ему правду.
Он просмотрел всю улицу из конца в конец. Может быть, Лесси запаздывает? Впрочем, он знал, что не в этом дело, потому что животные не похожи на людей. У людей есть часы и при себе и на стенке, и все-таки вечно получается так, что они на пять минут опоздают. Животным же не нужно никаких механических приспособлений, чтобы знать, который час. Есть у них внутри нечто более аккуратное, чем часы. Это чувство времени, и оно им никогда не изменяет. В самом деле, они всегда точно знают время, когда им пора приступать к тому или другому делу, твердо установленному по распорядку их жизни.
Джо Керраклаф это знал. Он часто обсуждал это с отцом, выспрашивая у него, как получается, что Лесси знает, когда ей пора бежать к школьным воротам. Нет, опоздать Лесси не могла.
Джо Керраклаф стоял на пригреве майского солнца и думал. И вдруг у него пронеслось в уме: может быть, она попала под колеса!
Он содрогнулся от этой мысли, но тотчас же отбросил ее. Лесси была слишком хорошо обучена, чтобы идти по улицам неосторожно. Она шла всегда уверенно и пристойно. Да и движения-то в поселке было совсем мало. Большое шоссе проходило долиной, по берегу реки, на милю в стороне. К Гринол-Бриджу вела только проселочная дорога, да и та, подойдя к торфяному болоту, превращалась просто в пешеходную тропу.
Может быть, Лесси украли!
Но и это казалось неправдоподобным. Чужой не мог притронуться к Лесси, если не было рядом кого-нибудь из Керраклафов, кто велел бы ей подчиниться. К тому же по всей округе, за много миль от Гринол-Бриджа, Лесси знали слишком хорошо, никто не посмел бы ее украсть.
Но где же могла она быть?
Джо Керраклаф решил свою задачу, как решают задачи сотни тысяч мальчиков по всей земле. Он побежал домой спросить у мамы.
Он пронесся со всех ног по главной улице через весь поселок. Ни разу не остановившись, пробежал мимо лавок по Верхней улице до переулка, что идет вверх по склону холма, взбежал по переулку, затем влетел в ворота, промчался садовой дорожкой и в дверях дома громко закричал:
– Мама! Мама!.. С Лесси что-то случилось! Она меня не встретила!
Едва выговорив это, Джо Керраклаф сразу понял, что дело неладно. Ни мать, ни отец не вскочили, не стали расспрашивать, как и что. Они как будто не испугались, что с их чудесной собакой случилось недоброе.
Джо это отметил. Он стоял, прислонясь спиною к двери, и ждал. Мать не сводила глаз со стола, который накрывала к чаю. Она помолчала секунду. Потом посмотрела на мужа.
Отец Джо Керраклафа сидел на низком стульчике у огня. Он повернул голову. Медленно, ничего не сказав, опять отвернулся и уставил глаза на огонь.
– В чем дело, мама? – вдруг всхлипнул Джо. – Случилась беда?
Миссис Керраклаф не спеша поставила тарелку на стол, потом заговорила.
– Так. Кто-нибудь должен же ему объяснить, – сказала она как будто в воздух.
Муж не пошевелился. Она обернулась к сыну.
– Ты все равно сам это узнал бы, Джо, – сказала она. – Лесси больше не будет ждать тебя у школы. И нечего реветь.
– Почему не будет? Что с ней случилось?
Миссис Керраклаф подошла к очагу, поставила котелок на жар. Она сказала, не оборачиваясь:
– Потому что она продана. Вот почему.
– Продана! – повторил мальчик на звонком крике. – Продана! Зачем же вы ее продали… нашу Лесси… зачем вы ее продали?
Мать в сердцах повернулась к нему:
– Она продана, ее увели, и дело с концом. Нечего тут выспрашивать. Теперь ничего не изменишь. Собаки нет, и все. Не будем больше об этом говорить.
– Но как же, мама…
Мальчик кричал звонко и растерянно. Мать перебила:
– Довольно! Давайте чай пить! Ну же! Садитесь!
Мальчик послушно сел за стол, на свое место. Мать повернулась к мужу, к очагу:
– Садись же, Сэм, поешь. Хотя, сказать по правде, угощение у меня к чаю скудное…
Женщина притихла, когда муж встал с сердитой решимостью. Но, не сказав ни слова, он прошел к дверям, снял шапку с крюка и вышел вон. Хлопнула дверь. С минуту в комнате молчали. Потом женщина бранчливо завела:
– Видишь, что ты наделал! Совсем рассердил отца. Теперь ты, конечно, доволен.
Она устало опустилась в кресло и уставилась на скатерть. В комнате долго молчали. Джо знал, что мать не права, виня его в случившемся. Но он знал и то, что мать таким путем прикрывает собственную боль. Это то же самое, как если она бранится. Так уж оно повелось у людей в этих местах. Люди здесь суровы, упорны, привыкли жить суровой, трудной жизнью. Когда случается что-нибудь, что их волнует, они прячут свои чувства. Женщины бранятся и ругаются, чтобы скрыть обиду. Их брань ничего не значит. Отбранятся, и все…
– Ладно, Джо. Ешь!
Голос матери звучал теперь мягко и терпеливо. Мальчик смотрел на тарелку и не двигался.
– Ешь, Джо. Намажь себе хлеб. Смотри, хлеб свеженький, я сегодня только испекла… Что, не хочешь?
Мальчик низко опустил голову.
– Не хочу ничего, – прошептал он.
– Ох, собаки, собаки, собаки! – вспылила мать. Голос ее опять стал сердитым. – Столько шуму из-за одной собаки! Хорошо, если хочешь знать, я рада, что Лесси нет. Право слово! Возни с ней и заботы не меньше, чем с ребенком! Теперь ее нет, и заботе конец, и я рада, право. Я рада!
Миссис Керраклаф повела полным плечом, шмыгнула носом. Потом вынула платок из кармана фартука и высморкалась. И только тут решилась поглядеть на сына, который все еще сидел не двигаясь. Она печально покачала головой, а когда заговорила вновь, голос ее был опять терпеливым и добрым.
– Джо, поди сюда, – сказала она.
Мальчик поднялся и стал подле матери. Она обняла его своей полной рукой и начала, обратив лицо к огню:
– Так что, Джо, ты уже взрослый мальчик, ты можешь это понять. Ты видишь… ну да, ты же знаешь, время нелегкое… Ты знаешь, как обстоит дело. Нужно покупать еду, нужно платить хозяину за дом, а за Лесси давали хорошие деньги, и… Словом, мы не могли себе позволить… не могли оставить ее у себя, вот и все. Настала тугая пора, ты не должен… не должен огорчать отца. Он и так не находит себе покоя… и… ну, вот и все! Собаки нет.
Керраклаф-младший стоял у очага бок о бок с матерью. Он понял. В Гринол-Бридже даже двенадцатилетние мальчики знали, что такое «тугая пора».
Много-много лет, все годы на их детской памяти, их отцы работали в Веллингтонских копях, за поселком. С едою в кошелке, с шахтерской лампой на лбу они ходили каждый день на смену и со смены; они работали, добывая много угля. Потом настала «тугая пора». Шахта перешла на «неполную неделю», и шахтеры зарабатывали меньше. Временами опять начиналось оживление, и люди опять работали полную неделю.
Все тогда радовались. Конечно, и тут бывало далеко до роскоши – в шахтерских поселках и в лучшие времена люди живут трудной жизнью, – но в такую пору все хоть чувствовали себя уверенно, в семьях был мир и лад и еды на стол подавалось вволю, ее хватало на всех.
Несколько месяцев назад шахту закрыли совсем. Большой ворот у спуска в ствол уже не крутился. Люди не стекались на дворе шахты перед каждой новой сменой. Вместо того они ходили отмечаться на биржу труда. Они толпились на углу возле биржи в ожидании работы. Но работы не было. Они, по-видимому, оказались, как называли это газеты, в одном из «пораженных районов», то есть в той части страны, где заглохла всякая промышленность. Люди целыми поселками сидели без работы. Не было никакой возможности заработать на жизнь. Правительство выплачивало людям пособие – еженедельную денежную выдачу, чтоб они не померли с голоду.
Джо это знал. Он слышал, о чем толковали люди в поселке. Видел мужчин, толпившихся у биржи труда. Он знал, что его отец не ходит больше на работу. Знал также, что мать с отцом никогда при нем об этом не говорят, что в грубой своей доброте они стараются сами нести все тяготы жизни, не давая им ложиться на его детские плечи.
Но хотя ум ему говорил все это, сердце кричало о Лесси. Он, однако, принудил его молчать. Он стоял, не двигаясь с места, потом задал только один вопрос:
– Нам можно будет когда-нибудь откупить ее обратно, мама?
– Видишь ли, Джо, она оказалась очень ценной собакой, а нам держать ее стало не по карману. Но мы как-нибудь заведем себе другую собаку. Подожди немного. Наступит более легкая пора, и мы тогда возьмем в дом щенка. Ты хотел бы?
Джо Керраклаф понурился и тихо покачал головой. Голос его упал до шепота:
– Не нужно мне другой собаки. Никакой и никогда!.. Мне нужна только… только Лесси!
Глава третья
Злобный старик
Герцог Радлинг стоял у живой изгороди из рододендрона и поводил вокруг горящим взглядом. Он снова поднял голос.
– Хайнз! – заорал он. – Хайнз! Что за человек, куда он делся? Хайнз!
Сейчас, с раскрасневшимся лицом, с копной растрепанных седых волос, герцог выглядел как раз таким, каким его считали: самым злобным стариком на все три райдинга[1] графства Йоркшир.
Справедлива ли была такая репутация или же нет, герцог, мы скажем, вполне ее заслужил своим поведением и манерой разговаривать.
Возможно, она создалась отчасти оттого, что герцог был изрядно глух, а потому со всяким человеком говорил так, точно командовал на смотре бригадой пехоты, как ему и вправду доводилось это делать когда-то, много лет назад. А еще он имел обыкновение ходить не с тросточкой, а с суковатой палкой, которой он всегда яростно размахивал в воздухе, чтобы придать еще больше резкости своим и без того слишком резким словам. И наконец, его злоба происходила от его нетерпимого отношения ко всему на свете. Ибо герцог был твердо уверен в одном: что мир, как он выражался, «идет к чертям». В наши дни все не так, как в пору его молодости. Лошади скачут не так быстро, молодые люди не так смелы и удалы, женщины не так красивы, цветы не так хороши, а собаки… если и осталось на свете несколько неплохих собак, так только потому, что они принадлежат ему, герцогу.
Герцог считал, что люди нынче не умели даже так чисто говорить по-английски, как говорили, когда он был молод. Он был убежден, что и слышит он плохо не потому, что почти оглох, а потому, что у людей в наши дни завелась скверная привычка комкать и корнать слова, вместо того чтобы просто говорить, как говорили, когда он был молод.
А уж молодое поколение! Герцог мог часами рассуждать о том, что ни один человек, родившийся в двадцатом веке, никуда не годен.
Это было тем более странно, что изо всей его родни единственным, кого герцог мог выносить (и кто, как видно, мог выносить герцога), был самый младший член его семьи – его двенадцатилетняя внучка Присцилла.
Она и сейчас пришла ему на помощь, когда он стоял у рододендроновой изгороди и звал, грозя своей палкой.
Увильнув от яростного взмаха, она подскочила к деду и дернула за карман его широкой куртки из мягкой ворсистой шерсти. Он повернул к ней свои взъерошенные усы.
– А, это ты! – закричал он. – Удивительно, что хоть кто-то наконец пришел. Не знаю, до чего дойдет мир. Слуги никуда не годятся! Никто не слышит – оглохли! Англия идет к чертям!
– Ерунда, – сказала Присцилла.
Это была самоуверенная юная леди, весьма независимая в своих суждениях. Постоянно находясь при дедушке, она приучилась смотреть на него и на себя как на равных – то ли двое престарелых детей, то ли пара молоденьких взрослых.
– Что такое? – заорал герцог, глядя на нее с высоты своего роста. – Говори ясно! Не шамкай!
Присцилла пригнула его голову книзу и прокричала ему прямо в ухо:
– Я сказала: «Ерунда».
– Ерунда? – повторил герцог.
Он поглядел на нее, потом расхохотался. У него было насчет Присциллы свое особое мнение. Он был убежден, что если у Присциллы хватало храбрости ему перечить, то храбрость свою она, конечно, унаследовала от него.
Вот почему, когда герцог посмотрел с высоты своего роста на внучку, у него сразу поднялось настроение. Он распушил свои длинные белые усы, которые были у него куда пышней и красивей, чем те усики, какие мужчины умудряются себе отращивать в наши дни.
– Ну-ну, хорошо, что ты явилась! – прогремел герцог. – Я хочу показать тебе новую собаку. Она великолепна! Красавица! Лучшей колли я в жизни не видел.
– Но она не такая хорошая, как бывали в прежние времена? – спросила Присцилла.
– Что ты шамкаешь? – заорал герцог. – Я не расслышал ни слова.
Он отлично расслышал, но предпочел не признаться в том.
– Я знал, что она будет моя, – продолжал герцог. – Я за ней охотился три года.
– Три года! – повторила Присцилла. Она знала, что дедушка ждет от нее такого ответа.
– Да, три года. Он думал, что мне его не переупрямить, а вышло по-моему. Я три года назад предложил ему за собаку десять фунтов – он ее не продал. На другой год я поднял цену до двенадцати – он не продал. В прошлом году я предложил пятнадцать фунтов. Сказал ему, что это крайняя цена, что больше я надбавлять не стану, и я в самом деле так себе поставил. Но он не поверил. Придерживал собаку еще полгода, и вот на прошлой неделе дал мне знать, что согласен.
Герцог самодовольно усмехнулся, но Присцилла покачала головой:
– Откуда ты знаешь, что он не «подменил» собаку?
Вопрос был естественный, потому что, сказать по совести, йоркширцы знамениты не только умением выращивать собак, но поговаривают, что их умение простирается слишком далеко. Они частенько применяют всякие тайные приемы, чтобы скрыть в собаке недостаток: например, так подправят кривое ухо или неправильный постанов хвоста, что недочет будет совершенно незаметен, покуда какой-нибудь не очень понимающий покупатель не уплатит за собаку деньги и не возьмет ее к себе домой. Такие фокусы и приемы называются у йоркширских собачников «подменой». При купле и продаже собак, как и с лошадьми, применяется неписаное правило: «Caveat emptor» – «Покупатель, гляди в оба!»
Но герцог, услышав вопрос Присциллы, только заорал громче прежнего:
– Откуда я знаю, что он не «подменил»? Да потому, что я и сам йоркширец. Я знаю все их фокусы и еще столько же в придачу, уж будьте покойны! Нет, собака правильная. К тому же я ее купил у… как бишь его… у Керраклафа. Я его знаю. Он себе такого со мной не позволит. Никогда!
И герцог взмахнул над головой своей здоровенной палкой, как бы бросая вызов каждому, кто посмел бы сыграть с ним шутку. Старик и его внучка прошли по дорожке к собачьим клеткам. Там, у проволочной загородки, они остановились поглядеть на собаку в ее дворике.
Присцилла увидела лежавшую на земле большую черно-бело-золотистую колли. Она лежала, склонив голову на передние лапы, – благородную темную голову, изящные очертания которой четко рисовались на снежной белизне пышных «брыжей» и «фартука».
Герцог прищелкнул языком, подзывая собаку. Она не ответила. Только легкое движение уха показало, что собака услышала. Она лежала, не поводя глазами на людей, разглядывавших ее сквозь железную сетку.
Присцилла пригнулась, захлопала в ладоши и позвала скороговоркой:
– Сюда, колли, сюда, сюда! Ну погляди на меня. Сюда!
Ровно на одну секунду большие карие глаза колли скосились на девочку, темно-карие глаза, задумчивые и, казалось, печальные. Потом они опять уставились в пустоту.
Присцилла выпрямилась:
– Дедушка, она как будто нездорова!
– Чепуха! – проорал герцог. – Вполне здорова. Хайнз, Хайнз! Куда он спрятался, этот болван? Хайнз!
– Иду, сэр, иду!
Резкий, гнусавый голос Хайнза донесся из-за строений, и тотчас же поспешил показаться и сам герцогский слуга.
– Да, сэр? Вы меня звали, сэр?
– Звал, конечно! Вы что, оглохли? Хайнз, что с собакой? Шерсть у нее потускнела.
– Понимаете, сэр, сейчас она плохо ест, – поспешил разъяснить Хайнз. – Она, я сказал бы, избалована. Собак, когда держат их дома, в комнатах, всегда балуют. Кормят с руки – так сказать, серебряной ложечкой. Но у меня она живо исправится. Через несколько дней станет есть, как положено порядочной собаке.
– Ну-ну! Ты за ней присматривай, Хайнз! – закричал герцог. – Хорошенько присматривай за этой колли!
– Хорошо, сэр, уж я постараюсь! – заверил Хайнз.
– Еще бы! – сказал герцог.
И, что-то ворча, он пошел прочь. Он был несколько разочарован. Ему хотелось показать Присцилле прекрасное новое приобретение, а она увидела вместо того довольно-таки жалкого пса.
Он услышал голос внучки.
– Что ты там говоришь?
Она вскинула голову:
– Я говорю: почему тот человек продал вам свою колли?
Герцог остановился, почесал за ухом:
– Он, я полагаю, понял, что я и впрямь предложил свою крайнюю цену. Я ему сказал, что больше не прибавлю ни полпенни, и, я полагаю, он понял, что я и в самом деле так решил. Только и всего.
Когда дедушка с внучкой пошли вдвоем к большому старому дому, Хайнз обернулся к собаке в клетке.
– Ты у меня будешь есть как миленькая! – сказал он. – Будешь ты у меня жрать, хотя бы мне пришлось силком запихивать в тебя жратву.
Собака в ответ не шевельнулась. Она только сожмурила глаза, как будто и знать не хотела человека по ту сторону решетки.
Он давно ушел, а она все лежала неподвижно на солнце, пока тени не стали длиннее. Тогда она нехотя встала. Подняла голову и, наставив нос против ветра, принюхалась. Не учуяв того, чего хотела, она тихо заскулила. Потом зашагала вдоль решетки, взад и вперед, взад и вперед, как будто несла караул.
Она была собака и не умела думать теми формами мысли, какие мы можем облекать в слова. У нее только возникло в мозгу и в теле нарастающее желание, поначалу смутное. Но дальше желание становилось ясней и ясней. Чувство времени дало толчок ее мозгу и мускулам.
И вдруг для Лесси стало ясно, чего она хочет. Она теперь знала.
Глава четвертая
Лесси возвращается домой
Когда Джо Керраклаф вышел из школы и шагнул за ворота, он не поверил своим глазам. Он постоял на месте, потом закричал пронзительно:
– Лесси! Лесси!
Он кинулся к собаке, в буйной радости стал подле нее на колени и запустил пальцы в ее густую шерсть. Он зарылся лицом в ее брыжи, похлопывая ее по бокам.
Потом встал и чуть не заплясал от восторга. Был странный контраст в поведении мальчика и собаки. Мальчик был вне себя от счастья, собака же сидела спокойно, и только колыхание хвоста с белым пером на кончике показывало, что она рада его видеть.
Она как будто говорила:
«Из-за чего так волноваться? Мне полагается приходить сюда, и я пришла. Что тут особенного?»
– Пошли, Лесси, – сказал мальчик.
Он повернулся и побежал по улице. Первую секунду он не думал о том, как собака оказалась здесь. Когда же до него дошло, что это все же странно, он оттолкнул от себя эту мысль.
К чему спрашивать, как произошла такая странная вещь? Довольно того, что она произошла.
Но тревога не хотела уняться. Он ее успокаивал опять и опять.
Не откупил ли отец собаку? Может быть, и так!
Он мчался по Верхней улице, и теперь, казалось, его возбуждение передалось и Лесси. Она бежала рядом, взвиваясь в высоких прыжках и звонко вылаивая крик о счастье, что вполне доступно собаке. Она при этом широко растягивала рот, как очень часто делают колли в минуту радости, почему и уверяют их владельцы, что собаки у них смеются, когда бывают довольны.
Только у биржи труда Джо сбавил шаг. И тут его громко окликнул мужской голос:
– Эге, парень, это ты где же сыскал опять свою собаку?
Слова были сказаны протяжным йоркширским говором, и Джо ответил так же. Хотя в школе все дети говорили по-английски «чисто», считалось, что из вежливости взрослым надо отвечать тем же говором, каким говорят они.
– Я глянул – а она сидит у школьных ворот, – откликнулся Джо.
Но теперь он уже знал правду. Отец собаку не откупил, иначе все уже знали бы о том. В таких маленьких поселках, как Гринол-Бридж, каждый знает, как дела у каждого жителя. И конечно, в поселке Гринол-Бридж люди знали бы о таком важном деле, как выкуп Лесси.
Лесси убежала! Вот оно что!
Джо Керраклаф уже не мчался радостно дальше. Медленно, задумчиво шел он теперь в гору узким переулком к своему дому. У дверей он обернулся и печально поглядел на собаку.
– Стоп, Лесси! – сказал он. – К ноге!
В задумчивости, наморщив лоб, он стоял у дверей. Он принял спокойный вид, чтоб лицо ничего не выражало. Открыл дверь и вошел.
– Мама, – сказал он. – У меня сюрприз. – Он протянул к ней руку, как будто этот жест должен был помочь ему добиться желанного. – Лесси вернулась, – сказал он.
Он увидел, что мать смотрит на него. Что отец на своем месте у огня поднял голову. Потом, когда вошел в дом, увидел, что они перевели глаза на собаку, которая послушно жалась к его ноге. Они смотрели, но не говорили ничего.
Будто поняв их молчание, колли постояла на месте. Потом пошла вперед, опустив голову, как это свойственно собаке, когда она чувствует, что в чем-то провинилась, хоть и не знает в чем. Она подошла к ковру у очага и завиляла хвостом как бы в знак того, что, если и есть за ней грех, она готова его загладить.
Но ее, казалось, не хотели простить, потому что мужчина вдруг сразу отвел глаза и уставился на огонь. Так он выключал собаку из круга своего зрения.
Собака медленно свернулась клубком и легла на ковер таким образом, что ее тело касалось ноги мужчины. Он отодвинул ногу. Собака положила морду на лапу и, как он, всматривалась вглубь огня, как будто в этой золотой волшебной стране таился ответ на все, что их смущало.
Первой двинулась женщина. Она уперла руки в бока и вздохнула долгим и шумным вздохом – красноречивым вздохом раздражения. Джо поглядел на нее и, как будто желая смягчить их каменную непреклонность, заговорил звонким голосом, в котором дрожала надежда:
– Я выхожу из школы – и она тут. На том самом месте, как всегда. Сидит у ворот и ждет меня. И так она была мне рада! Она завиляла хвостом. Уж так она была мне рада!
Лесси пошла вперед, опустив голову, как будто она в чем-то провинилась, хоть и не знает в чем.
Джо говорил и говорил, слова рвались с языка. Он как будто думал, что, пока он будет говорить не смолкая, ни мать, ни отец не смогут сказать то страшное, чего он ждал от них. Он пытался потоком слов задержать приговор.
– Я видел, что она соскучилась по нам… по нам по всем. Вот я и подумал: приведу я ее домой, и мы сможем…
– Нет!
Это крикнула мать, резко его перебив. Первое слово, услышанное им от родителей. Одну секунду Джо стоял притихнув, потом слова опять полились потоком, сражаясь за то, чего он желал и на что не смел надеяться.
– Но она же пришла домой, мама! Мы можем ее спрятать. Те и не узнают. Мы скажем, что мы ее не видели, и те тогда…
– Нет! – Голос матери строго повторил то же слово.
Сердито отвернувшись, она продолжала накрывать на стол. Опять, как это в обычае у женщин поселка, она нашла облегчение в брани. Она сыпала злыми словами, холодными и резкими, чтобы за ними спрятать свои чувства.
– Собаки, собаки, собаки! – кричала она. – Мне тошно о них слышать! Не хочу я в доме никаких собак. Мы ее продали, ее у нас взяли, и дело с концом. Чем скорей она уберется с моих глаз, тем лучше. Уведи ты ее отсюда. Да поторопись, не то Хайнз того и гляди прибежит к нам за ней. Мистер Хайнз Так-и-Знал!
На последних словах ее голос стал еще резче, потому что она их произнесла, подражая манере Хайнза. Слуга, которому герцог Радлинг поручил уход за своими собаками, был родом из Лондона, и его рубленая южная речь всегда как будто раздражала местных жителей: сами они говорили медлительно, широко протягивая гласные.
– Вот и весь мой сказ! – продолжала миссис Керраклаф. – Можете набить им ваши трубки и раскурить. Собака продана, так что ведите ее обратно к тем, кто ее купил.
Поняв, что от матери помощи не будет, Джо повернулся к отцу, сидевшему у огня. Но отец сделал вид, будто ни слова не слышал. Джо упрямо выпятил нижнюю губу, подыскивая новые доводы. Но лучший довод в свою защиту нашла сама Лесси. Теперь, когда в доме все смолкли, она, должно быть, подумала, что беда миновала. Она медленно поднялась и, подойдя к мужчине, стала тыкаться ему в руку своей узкой мордой, как часто поступает собака, когда хочет, чтобы хозяин заметил ее и приласкал. Но мужчина подальше отодвинул руку и продолжал пристально смотреть в огонь.
Джо все приметил. Он обратился к отцу с мягким укором.
– Ну, папа! – сказал он печально. – Ты бы хоть поздоровался с ней. Она же ни в чем не виновата и так рада, что пришла домой. Погладь ее, что ли!
Отец Джо не подал виду, что услышал хоть одно слово сына.
– Там, у герцога, о ней, видать, не очень-то заботятся, – продолжал Джо, говоря точно в воздух. – Разве они понимают, как ее нужно кормить?.. Посмотри на ее шерсть. Она стала на вид довольно-таки жалкая, правда? Как ты думаешь, папа, если подмешать ей в воду, когда она пьет, немножко льняного семени, это поможет, да? Я давал бы его собаке, чтобы шерсть у нее блестела… А ты бы что делал?
По-прежнему глядя в огонь, отец Джо начал тихо кивать головой. Но если он как будто и не замечал, на что его наталкивает сын, миссис Керраклаф все поняла. Она фыркнула.
– Ишь ты как! – обрушилась она на сына. – Ты бы не был Керраклафом, не был бы вообще йоркширцем, если бы ни черта не смыслил в песьей породе…
Голос ее гудел не смолкая на весь дом.
– Ей-богу, мне иной раз кажется, что в нашем поселке мужчины о своих шавках больше думают, чем о семье! Да, так оно и есть. Нынче трудные времена, а что они – работают? Нет. Ходят за пособием, и, могу поклясться, иной из них с радостью оставит голодать своих детей, только бы собака ела досыта.
Отец Джо неловко завозил ногами, но мальчик быстро перебил:
– Да нет же, мама, она в самом деле похудела. Поспорю на что угодно, они ее не кормят как надо.
– Что ж, – согласилась мать, – про господина Хайнза Так-и-Знал я поверю, что он способен отнять у собаки кусок мяса, чтобы съесть самому. В жизни не видала человека более тощего, с более противным лицом.
Она говорила, и глаза ее между тем остановились на Лесси. И вдруг она изменила голос.
– А ведь и правда, – сказала она. – Какой-то у ней жалкий вид. Бедняжка, надо бы ее чем-нибудь угостить. Она сразу повеселеет, или я ничего не смыслю в собаках.
Но тут миссис Керраклаф сообразила, что жалость шла вразрез со словами, сказанными ею пять минут назад. И, как бы ища себе оправдание, она опять повысила голос.
– Поест, и чтоб тут же ее увели! – раскричалась она. – И когда ее у нас не будет, я уже никогда не позволю завести в доме другого пса. Вы только и делаете, что растите их и обучаете, с ними возни… ну, право же, не меньше, чем с грудным ребенком. А после стольких трудов что вы в конце концов получаете?
Так, сердито ворча, миссис Керраклаф согрела в кастрюльке варево. Она его поставила перед собакой и стояла, наблюдая с сыном, как Лесси блаженно ест. Но мужчина так ни разу и не глянул на собаку, еще недавно принадлежавшую ему.
Когда Лесси доела, миссис Керраклаф убрала миску. Джо подошел к камину и достал с полки сложенную вчетверо суконку и щетку. Он уселся на ковре и принялся чистить собаке шерсть.
Отец продолжал сперва глядеть в огонь. Потом нет-нет да бросит быстрый взгляд на мальчика и на собаку у своих ног. Наконец, не выдержав, повернулся и протянул руку.
– Не так это делается, малец, – сказал он, и его грубый голос прозвучал тепло. – Уж если ты берешься за работу, поучись делать ее как надо. Видишь, вот так!
Он отобрал у сына щетку и суконку и, став на колени подле него, начал умело работать над собачьей шубой, поглаживая пышную, густую шерсть сукном, бережно покачивая на ладони аристократическую морду колли, пока другая рука трудилась над белоснежными «брыжами» и артистически расчесывала пушистые «гамаши», и «фартук», и «оборки».
В доме короткое время было тихое счастье.
Отец забыл думать обо всем другом, отдав все свои мысли работе. Джо сидел рядом на ковре, следя за каждым поворотом щетки и стараясь запомнить его, потому что знал, как знал это каждый в поселке, что на много миль вокруг не было человека, который умел бы так прихорашивать колли, для дома ли или на выставку, как Сэм Керраклаф. И втайне мечтал, как о высшей чести, стать со временем таким же искусным собачником, как его отец.
Миссис Керраклаф, кажется, первая вспомнила о том, что все они гнали из мыслей: Лесси больше не принадлежит им.
– Так как же! – сказала она с сердцем. – Уведете вы наконец отсюда пса?
Отец Джо обернулся, вдруг озлившись. В его голосе сильней, чем всегда, был слышен йоркширский акцент, огрублявший речь всех мужчин поселка.
– Ты хочешь, что ли, чтоб я отвел ее туда жалкую, как постный понедельник?
– Смотри ты у меня, Сэм! – гнула свое жена. – Если ты сейчас же не поведешь…
Она смолкла, и все они молчали, прислушиваясь. Были слышны шаги по садовой дорожке.
– Дождались! – закричала она с сердцем. – Это Хайнз!
Она побежала к двери, но не успела добежать, как дверь распахнулась и вошел Хайнз. Маленькая щуплая фигурка в куцем пиджаке, в рейтузах и суконных гетрах с минуту стояла в дверях. Потом глаза Хайнза обратились на собаку у очага.
– Го-го, так и знал! – закричал он. – Я так и знал, что найду ее здесь.
Отец Джо медленно встал.
– Я ее как раз причесывал, – сказал он веско. – Вот причесал бы немножко и тут же повел бы назад.
– Непременно! – усмехнулся Хайнз. – Вы повели б ее назад… непременно! Но случилось так, что я сам поведу ее назад, потому что мне, как видите, случилось наведаться к вам!
Вынув из кармана сворку, он быстро подошел к колли и надел на нее ошейник. Когда он дернул поводок, она послушно встала и, опустив хвост, пошла за человеком к дверям. Тут Хайнз остановился.
– Видите ли, – сказал он на прощание, – я не вчера родился на свет, и я случайно знаю разные фокусы. Вы – йоркширцы, и я знаю насквозь и вас и ваших собак, которые у вас всегда прибегают домой. Они у вас обучены срываться с привязи, когда вы их продали, и прибегать прямехонько домой, чтобы вы потом могли продать ту же собаку кому-нибудь еще. Только со мною этот номер не пройдет, нет, не пройдет! Я ведь и сам знаю кое-какие штучки, да…
Он вдруг замолчал, потому что Сэм Керраклаф, побагровев от гнева, двинулся к двери.
– Гхм… Добрый вечер! – заспешил Хайнз.
Дверь затворилась, Хайнз и колли ушли. Долгое время в доме молчали, потом снова подняла голос миссис Керраклаф.
– Очень мне это надо! – кричала она. – Вваливается в дом, даже не спросив у тебя позволения, и стоит, не снявши шапки, точно он вообразил себя самим герцогом! А все из-за какой-то шавки. Ладно, ее тут больше нет, и, если хотите знать, так я рада, что избавилась от нее. Теперь, может быть, будет в доме хоть немного покоя. Надеюсь, я ее больше никогда не увижу.
Она все молола и молола языком, а Джо и его отец сидели у очага. Они теперь оба неотрывно глядели в огонь, неподвижные и терпеливые, каждый схоронив в себе свои мысли, как это привычно жителю северной окраины, когда он глубоко взволнован.
Глава пятая
«Больше домой не приходи…»
Если миссис Керраклаф решила, что все уладилось, то она ошиблась, так как и назавтра Лесси была у школьных ворот и, верная долгу, ждала Джо.
И снова Джо привел ее домой. По дороге он обдумывал, как он отвоюет свою собаку. Путь к победе был ему ясен. Он чувствовал, что его родители, когда увидят, как собака им предана, пойдут на уступку – им самим захочется оставить ее у себя, вознаградить за верность. Но он знал, что уговорить их будет нелегко.
Медленно прошел он с собакой садовую дорожку, открыл дверь. В доме все было так, как бывало раньше: мать накрывала на стол, отец сидел, задумавшись, у очага, как просиживал часами в эти дни, потому что не было работы.
– Она… она опять пришла домой, – сказал Джо.
С первых же слов матери все его надежды улетучились. Она не сдастся.
– Не хочу я ее! Не хочу ни за что! – кричала мать. – Не смей вводить ее в дом… и не мучь ты меня, не надоедай! Ее нужно сразу увести обратно. Сейчас же!
Слова захлестывали Джо потоком. По строгому укладу йоркширского дома с его суровой добротой не часто бывало, чтобы мальчик «посмел перечить» родителям. Но тут он почувствовал, что должен попытаться, должен заставить их понять.
– Мама, на минутку. Право же, на минутку. Ну позволь мне подержать ее одну минутку.
Он чувствовал, что, если ему дадут подержать ее дома самое короткое время, сердца его родителей смягчатся. Может быть, Лесси тоже это почувствовала, потому что, когда Джо затворил дверь, она вошла в дом и улеглась на своем законном месте – на ковре у очага. Как будто понимая, что разговор идет о ней, она притихла и переводила глаза с одного на другого. В доме всегда говорили так спокойно, а теперь голоса были хриплые…
– Ни к чему это, Джо. Чем дольше ты ее продержишь здесь, тем труднее будет увести ее обратно. А увести-то нужно!
– Мама… папа… ну пожалуйста!.. Вы же видите: она плохо выглядит. Они ее не кормят как надо. Как вы думаете, может быть…
Сэм Керраклаф встал и повернулся к сыну. Лицо у отца было скучное, без выражения, но в голосе звучало понимание.
– Нет, Джо, ничего не выйдет, – сказал он веско. – Понимаешь, мальчик, это ни к чему. После чая мы сразу ее уведем.
– Нет! Вы ее уведете сию же минуту! – закричала миссис Керраклаф. – Не то Хайнз опять заявится сюда. А я не желаю, чтоб он входил в мой дом, как будто он тут хозяин. Надевай шапку и ступай сию же минуту.
– А она все равно опять придет домой, мама. Разве ты не видишь? Она все равно опять придет домой. Она – наша собака…
Джо замолчал, потому что мать устало опустилась в кресло. Она поглядела на мужа, и он кивнул, как бы подтверждая, что Джо прав.
– Понимаешь, она приходит назад из-за мальчишки, – сказал отец.
– Ничего не поделаешь, Сэм. Ее надо увести, – медленно проговорила миссис Керраклаф. – А если она приходит назад ради мальчишки, так ты должен взять его с собой. Пусть он пойдет с тобой, отведет ее к герцогу и скажет ей, чтоб она осталась там. Если Джо сам прикажет ей лежать на месте, может быть, она поймет и успокоится и не будет больше прибегать домой.
– Что ж, в этом есть толк, – медлительно отозвался муж. – Бери шапку, Джо, пойдешь со мной.
Джо, опечаленный, взял свою шапку, отец тихо свистнул. Лесси послушно встала. Мужчина, мальчик и собака вышли из дому. Джо все еще слышал за спиной голос матери, но уже обессиленный; казалось, еще немного, и она расплачется от усталости.
– Если она останется там, тогда, может быть, мы хоть немножко поживем в тишине и покое, хотя, видит Бог, на это не очень-то можно рассчитывать в наши дни, при таком положении вещей…
Джо слышал, как ее голос, затихая, тащился вдогонку, пока сам он молча брел за отцом и Лесси.
– Дедушка, – сказала Присцилла, – а могут животные слышать, чего мы не слышим?
– О да. Да. Конечно! – заорал герцог. – Взять хоть собаку. Слышит в пять раз лучше, чем человек. Вот, например, мой беззвучный собачий свисток. На самом деле он не беззвучный. Он издает высокие чистые звуки, но не для нашего уха. Человек их не слышит. А собака слышит и подбегает, потому что…
Присцилла увидела, что дед передернулся и, грозно размахивая дубинкой, ринулся вперед по аллее.
– Керраклаф! Чего вам тут надо от моей собаки?
Присцилла увидела в глубине аллеи высокого, плотного мужчину, жителя поселка, а рядом с ним – крепкого мальчика, который стоял, мягко положив руку на гриву колли. Она услышала, как собака тихо заскулила, словно протестуя, что дедушка подходит с грозным видом, а потом зазвучал голос мальчика, успокаивающий собаку. Девочка, догоняя деда, направилась к незнакомцам.
Увидав ее, Сэм Керраклаф снял шапку и подтолкнул сына, чтобы он тоже снял. Они обнажили головы никак не из угодливости, а потому, что в деревнях многие простые люди гордятся своею воспитанностью и умением вести себя вежливо.
– Это Лесси, – сказал Керраклаф.
– Ясно, что Лесси, – прогудел герцог. – Каждый дурак это видит. Чего вам тут надо от нее?
– Она опять убежала, и я привел ее обратно к вам.
– Опять? Разве она уже раз убегала?
Сэм Керраклаф стоял и молчал. Из последних слов герцога он понял, что Хайнз не доложил хозяину о ее прежнем побеге. И ему казалось, что если он ответит герцогу прямо, то этим он как бы оговорит Хайнза. Хайнза он не любил, но все же не мог оговаривать его перед хозяином, потому что, как сказал сам себе этот честный человек, он «не хотел подводить парня, чтобы его потом прогнали с работы». Хайнзу могли дать расчет, а работу в те дни получить было нелегко. Сэм Керраклаф узнал это на опыте.
Он разрешил задачу на обычный йоркширский лад. Упрямо повторил свои последние слова:
– Я привел ее обратно, вот и все.
Герцог смерил его грозным взглядом. Потом закричал еще громче:
– Хайнз! Хайнз!.. Чего этот бездельник всякий раз убегает и прячется, когда он мне нужен? Хайнз!
– Иду, сэр… Иду! – донесся гнусавый голос.
Вскоре затем показался и Хайнз – прибежал, выскочив из кустов за собачьими клетками.
– Хайнз, собака уже и раньше убегала?
Хайнз неловко замялся:
– Понимаете, сэр, тут оно так получилось…
– Да или нет?
– В некотором роде, сэр, она и впрямь убежала… но я не хотел беспокоить ради нее вашу светлость, – сказал Хайнз, нервно теребя в руках шапку. – Но уж теперь я присмотрю за ней хорошенько, чтобы больше она не убегала. Ума не приложу, как она умудрилась. Я затянул проволокой все места, где она подкапывалась, и уж я теперь догляжу…
– Вы мне только посмейте недоглядеть! – заорал герцог. – Совершенный остолоп! Вот именно! Я начинаю думать, что вы совершенный остолоп, Хайнз. Заприте ее в клетку. И если она вырвется опять, то я… я…
Герцог не договорил, какую страшную жестокость он собирался сотворить, и пошел прочь, притопывая со злостью и даже не сказав спасибо Сэму Керраклафу.
Присцилле, видно, было неловко, она пошла сперва за дедом, но затем поотстала. Она обернулась и, стоя на месте, стала наблюдать, что происходило за его спиной. Хайнз кипел злобой.
– Я й-её запру! – рычал он. – З-запру й-её, и й-ежели она еще хоть раз уббежит, йя йе-её…
Он не досказал, потому что, говоря, он как будто нацелился схватить Лесси за гриву. Но он не успел и подойти к собаке, так как тяжелый, подбитый железом башмак Сэма Керраклафа наступил ему на ногу и пригвоздил его к месту. Керраклаф медленно договорил:
– Я тут привел с собой моего мальчишку, чтобы на этот раз он запер ее сам, – сказал он. – Это она ради него прибегает домой. Так вот, он запрет ее и прикажет ей остаться.
Потом вдруг загремел могучий йоркширский голос, как будто Сэм Керраклаф только сейчас заметил кое-что:
– Ух, извини. Я и не заметил, что стою на твоей ноге. Пошли, Джо, мальчик мой. Отопри ты нам конуру, Хайнз, мы введем собаку.
Присцилла, все еще стоя у старых вечнозеленых кустов, увидела, как собака прошла от конуры к ограде своего дворика. Когда мальчик проходил вдоль проволочной решетки, она подняла голову и затем подошла к нему. Колли прижалась к решетке, и мальчик долго стоял там, просунув пальцы в сетку и щупая холодный собачий нос.
Молчание нарушил мужчина:
– Идем, Джо, мальчик мой. Кончай, пора. Что толку затягивать? Вели ей остаться… скажи ей, чтоб она не приходила больше домой, что этого нам нельзя.
Присцилла увидела, как мальчик у решетки поднял глаза на своего отца, потом поглядел вокруг, как будто могла прийти откуда-то помощь.
Но помощь не приходила. Джо неоткуда было ждать ее. Он сделал глоток и заговорил очень тихо, с трудом выдавливая слова, которые, однако, пошли затем быстрей и быстрей.
– Оставайся тут и будь счастлива, Лесси, – начал он еле слышным голосом. – И… и не приходи больше домой. Больше не убегай. Не приходи больше за мною в школу. Живи тут и оставь нас… потому что… потому что ты больше не наша и мы не хотим тебя видеть… никогда, никогда. Потому что ты плохая собака… и мы тебя больше не любим, и мы не хотим тебя видеть. Так что не надоедай нам, не прибегай домой… Останься тут навсегда и оставь нас. И… и никогда не приходи домой!
Собака, как будто поняв, отошла в дальний угол клетки и легла. Мальчик отвернулся и двинулся прочь. И так как ему трудно было смотреть под ноги, он споткнулся. Но его отец, который шагал с ним рядом, высоко вскинув голову и глядя прямо вперед, схватил его за плечо, тряхнул и сказал ему резко:
– Смотри под ноги!
Джо побежал вприскок рядом с отцом, потому что тот зашагал очень быстро. Мальчик подумал, что он никогда не сможет понять, почему взрослые бывают так черствы сердцем как раз тогда, когда они тебе особенно нужны.
Он бежал рядом с отцом, думая об этом и не понимая, что тот хочет уйти от звука, провожавшего их, – от честного лая колли, каким собака призывает хозяина не покидать ее. Этого Джо не понимал.
И кое-кому еще многое показалось непонятным – девочке Присцилле. Она подошла поближе к решетке. Колли стояла в своей клетке, недвижно уставив глаза на то место, где в последний раз увидела, как хозяин свернул на дорожке за угол. Собака подняла голову в тревожном лае.
Присцилла наблюдала за ней, пока у решетки не показался Хайнз. Она окликнула его:
– Хайнз!
– Да, мисс Присцилла?
– Почему собака убегает назад, к ним домой? Ей здесь нехорошо?
– Что вы, мисс Присцилла, Господь с вами, ей тут очень даже хорошо – такую ей дали роскошную конуру, с отдельным выгулом! А домой она убегает просто потому, что ее на это натаскали. У них так заведено – сманят собаку обратно, и вы чихнуть не успели, как они уже продали ее кому-нибудь еще.
Присцилла, задумавшись, наморщила нос.
– Но если они хотели сманить ее обратно, зачем же они сами вернули ее?
– Ох, не ломайте над этим вашу милую головку! – сказал Хайнз. – Им тут, в поселке, никому доверять нельзя. От них всегда жди подвоха. Да только нас им не провести!
Колли стояла в своей клетке, недвижно уставив глаза на то место, где в последний раз видела хозяина.
Присцилла немного подумала.
– Но если мальчик хотел получить назад свою собаку, зачем же им было вообще продавать ее? Будь собака моей, я бы ее не продала.
– Вы, конечно, не продали бы, мисс Присцилла.
– А они почему продали?
– Почему? Потому что ваш дедушка дал им за нее сумасшедшие деньги, да! Вот оно как! Сумасшедшие деньги! Он их слишком балует, людей, вот оно что. Будь моя воля, я бы их поприжал. Уж поверьте!
Довольный своим заключением, Хайнз обернулся на собаку, которая все еще стояла, призывно лая.
– А теперь – тихо! Пшла! Лежать! В конуру – и лежать! Пшла!
Так как собака и виду не подала, что слышит его, Хайнз подошел к ней поближе и поднял руку, как будто для удара.
Лесси медленно обернулась, и из ее груди пошел густой бас, а губа ее поползла вверх, и из-под нее засверкали крупные белые зубы. Уши ее оттянулись назад, а грива на шее медленно встала. Густой бас завыл громче.
Хайнз остановился и высунул язык промеж своих оскаленных зубов.
– Ага, ты злишься, вот ты как? – сказал он.
Тогда Присцилла зашла вперед и стала между ним и решеткой.
– Поостерегитесь, мисс Присцилла, я б на вашем месте не подходил слишком близко. Только гляньте сейчас на нее, и она как подскочит да и выдернет у вас клок мяса – если я знаю собак. А уж я их ого как знаю! Я бы хотел, чтобы наша славная барышня отошла подальше, покуда я не управился с этой колли. Уж вы держитесь-ка, мисс, в стороне.
Хайнз отвернулся. Присцилла долго стояла на месте. Потом тихонько подошла к проволочной ограде. Она продела пальцы в сетку, так что они почти коснулись Лессиной головы.
– Поди сюда, дружок, – сказала она ласково. – Поди сюда! Ко мне! Я тебя не трону! Ко мне!
Собака притихла, легла на землю. На одну секунду ее большие карие глаза встретились с синими глазами девочки. Но дальше собака ее уже не замечала и с видом терпеливого величия лежала за оградой. Она не мигала глазами, не поворачивала голову. Она лежала, уставив взгляд на то место, где в последний раз видела Сэма Керраклафа и его сына.
Глава шестая
Тайник на торфяном болоте
На другой день Лесси лежала в своем дворике под майским солнцем, игравшим на ее шерсти. Ее голова покоилась на лапах. Кончик носа был обращен в ту сторону, куда ушли накануне вечером Сэм Керраклаф и его сын. Уши ее были подняты и наклонены вперед, так что, хотя тело оставалось в покое, все ее чувства – и зрение, и слух, и нюх – были насторожены, готовые уловить что-либо, что могло бы указать на возвращение хозяев.
Но полдень миновал, кругом была тишина. В воздухе стояло жужжание ранних пчел, пахло сыростью английской деревенской стороны. Больше ничего.
Вечерело, и Лесси зашевелилась. Что-то внутри подталкивало ее, как будто предостерегая. Это было что-то неясное, неопределенное, вроде того, как мог бы звонок будильника, еще не разбудив, смутно сквозь сон тревожить человека.
Вдруг Лесси подняла голову и повела носом по ветру. Но это не дало успокоительного ответа на то, что безотчетно зашевелилось внутри.
Она встала, медленно подошла к своей конуре и легла там в тени. Но и это не принесло покоя. Она опять встала и прошла на солнечную сторону; но ответа не было. Странное душевное беспокойство толкало настойчивей. Она начала шагать по выгулу, кружить, прохаживаться вдоль крепкой проволочной ограды. Та внутренняя сила принуждала ее ходить и ходить, делать круг за кругом по клетке. Потом в одном углу она остановилась и уцепилась лапой за проволоку.
Как если бы это послужило сигналом, она теперь вдруг поняла свое желание. Уже время! Время идти за мальчиком!
Не то чтобы она так прямо и подумала это, как мог бы подумать человек. Она знала это только слепо. Но внутреннее побуждение завладело ею целиком и прогнало все прочее из ее чувств и сознания. Она только знала, что пора идти к школе, как она ходила изо дня в день столько лет!
Лесси крепко уцепилась за сетку, но сетка не подалась. Память говорила собаке, что раньше она убегала на волю так: уцепится когтями, подергает решетку, потом подроет, протиснется снизу, приподнимая сетку своею мощной шеей и мускулами спины, и окажется на воле.
Но Хайнз отрезал этот путь к свободе. Он укрепил сетку ограды более толстой проволокой и по всей ее длине натыкал в землю толстых кольев. Сколько ни цеплялась Лесси, сколько ни тужилась, ничего не выходило. Как будто неудача и потеря времени подстегивали ее энергию, Лесси металась по дворику. Она скребла повсюду, где, как подсказывал инстинкт, могла быть дорога к спасению, но Хайнз укрепил все такие места.
Она яростно вскинула голову, чтобы полаять в бесплодной злобе, потом взвилась на дыбы и попыталась, стоя на задних лапах, а передними упершись в сетку, заглянуть поверх нее.
Если можно подо что подлезть, то можно и перелезть через это!
Собаки могут знать такие вещи не потому, что постигли их путем логического рассуждения, и не потому, что кто-то им это сказал. Даже до самой умной собаки они доходят очень медленно, через неясный инстинкт или через выучку, полученную в ее собственной короткой жизни.
Так сперва туманно, потом более отчетливо собаке пришла на ум новая мысль. Лесси подпрыгнула и опять упала наземь. Решетка была в шесть футов высотой – прыгнуть так высоко колли не под силу. Вот борзая, русская или ирландская, та легко перемахнула бы через такую преграду. Собак растят годами, создавая разные породы для разных нужд. Колли принадлежат к группе так называемых рабочих собак, которых выращивали веками, чтоб они трудились бок о бок с человеком, понимали его слова, его знаки, были бы сообразительны и помогали ему, и в этом они превосходят другие породы; но они не умеют прыгать или бегать так быстро, как собаки других пород, в которых совершенствовали только эти качества.
Поэтому, сколько Лесси ни прыгала, она не могла даже сколько-нибудь близко допрыгнуть до верхнего края проволоки. Она возвращалась в дальний конец своего дворика и прыгала, взяв разбег во всю его длину, но каждый раз снова сваливалась вниз.
Перескочить казалось невозможным, но с мужеством и настойчивостью превосходного животного она пыталась опять и опять, прыгая в разных местах, как будто одно какое-то место могло оказаться менее неприступным, чем другие.
И такое место нашлось.
Лесси прыгнула в самом углу, где две решетки сходились под прямым углом, и, когда она взвилась в прыжке, ее повисшие задние ноги получили опору в двух стенках ограды.
Она попробовала снова, и вот – почти как человек, когда влезает по стремянке, – в рьяном порыве энергии она вскарабкалась выше. Она почти добралась доверху и опять сорвалась. Но она быстро выучилась. Повернув назад, она опять взяла разбег, и на этот раз, когда она прыгнула, самая сила наскока удержала ее в углу на решетке. Ноги ее уцепились за сетку в тот момент, когда сила тяжести была преодолена. Лесси вскарабкалась выше, еще выше – и вот уже передние лапы ухватились за верхний край. На одну секунду она повисла на них. Потом медленно подтянулась кверху. Покачнулась было в нерешительности. Верх решетки впился ей в брюхо. Но Лесси этого не почувствовала. В ее уме была одна лишь мысль. Уже время! Время честно явиться к месту встречи.
Ноги Лесси уцепились за сетку в тот момент, когда сила тяжести была преодолена.
Она свесилась наружу и упала наземь по ту сторону ограды. Она на воле!
Теперь, когда это было достигнуто, казалось, вся ее энергия пропала. Дорога перед ней была свободна, но инстинкт понуждал ее действовать по-новому. Как будто зная, что если ее углядят, то опять запрут, она двинулась с осторожностью, как умеет собака, когда ведет охоту или когда охотятся за ней самой.
Припадая животом к земле, она бесшумно доползла по дорожке до кустов рододендрона. Густая листва поглотила ее. Секундой позже она проскользнула призраком в тени забора и растаяла вдали. Как большинство животных, она превосходно запоминала местность. Бесшумно, но поразительно быстро она направилась туда, где кончалась каменная стена и начинался забор из чугунных жердей. Там под забором была выемка, которую она нашла еще раньше. Она проскользнула в нее.
Как будто поняв, что пересекла, так сказать, границу вражеской территории, она изменила свой способ продвижения. К ней вернулась ее обычная повадка: теперь она бежала спокойной трусцой, высоко подняв голову; распушенный хвост протянулся сзади изящным продолжением изогнутых линий тела. Она снова была великолепной колли, которая неторопливо бежит вперед и чувствует себя счастливой, следуя установленному укладу жизни, без суеты, без волнения.
Джо Керраклаф не надеялся вновь когда-нибудь увидеть Лесси. После того как он сам велел ей остаться, сам отругал ее за то, что она прибегает домой, он честно поверил, что она больше никогда не придет встречать его у школы.
Но где-то глубоко-глубоко затаилась надежда, и он мечтал об этом, не веря, что мечта осуществится. Когда он в тот день вышел из школы и увидел Лесси, ожидающую его как ни в чем не бывало, ему показалось, что это неправда, что ему это примечталось.
Он глядел во все глаза на собаку, и на его широком мальчишеском лице застыло удивление. И вот, как будто его молчание служило знаком, что ее поведение не одобряют, Лесси опустила голову. Она тихо завиляла хвостом, прося прощения за совершенную неизвестную ей провинность.
Джо Керраклаф опустил руку ей на шею.
– Правильно, Лесси, – протянул он, – правильно.
Он не глядел на собаку. Потому что мысли сбивчиво проносились в его голове и он весь ушел в них. Он вспоминал, как дважды приводил собаку домой. Как, наперекор всем его мольбам и надеждам, ее все-таки опять уводили. Так что на этот раз он не заторопился радостно домой. Он стоял на месте, опустив руку на шею своей собаке, и, наморщив лоб, как будто пытался разрешить эту задачу, внесшую путаницу в его жизнь.
Хайнз грохнул кулаком в дверь дома и вошел, не дожидаясь ответа.
– А ну, где она тут? – спросил он.
Мистер и миссис Керраклаф поглядели на него, переглянулись. В глазах женщины была тревога, Хайнза она точно и не замечала.
– Так вот почему мальчишки до сих пор нет! – сказала она.
– Н-да, – подтвердил муж.
– Ясно, запропастились вместе – и он и Лесси. Она опять сбежала, и он боится идти домой. Знает, что мы отведем ее обратно! Сбежал вместе с нею, чтобы мы не могли отвести ее обратно! – Мать тяжело опустилась в кресло, голос ее срывался. – Ох, боже мой! Когда же в моем доме будет мир и лад? Никогда ни минуты покоя!
Муж ее медленно встал. Подошел к двери. Снял с вешалки кепку и вернулся к жене.
– Ладно, не тревожься, родная, – сказал он. – Джо далеко не уйдет. Он пошел, конечно, прямиком на кочкари. И он не заблудится, ведь и сам он и Лесси знают на болоте каждую тропку.
Хайнз точно и не видел, что у людей в доме горе.
– Ну, где же она? – сказал он. – Где тут моя собака? – Сэм Керраклаф медленно повернулся к маленькому человечку.
– А я вот и иду ее искать, – сказал он тихо.
– Отлично! Я пойду вместе с вами, – сказал Хайнз. – Для верности, чтоб не было подвоха.
В Сэме Керраклафе на одно мгновение вскипела ярая злоба, и он двинулся на Хайнза. Тот съежился.
– Но-но, не затевайте! – пропищал он. – Для вас же будет лучше ничего не затевать.
Керраклаф поглядел на него сверху вниз, и, как будто почтя недостойным связываться с человеком, который настолько уступает ему и ростом и силой духа, он прошел мимо него к дверям. В дверях он обернулся.
– Ступай-ка ты прямо домой, мистер Хайнз, – сказал он. – Собаку твою тебе приведут, как только я ее сыщу.
Сказав, Сэм Керраклаф вышел в вечернюю тьму. Он не пошел в поселок. Он шел вверх по переулку, пока не выбрался на большое плоскогорье, которое тянется, голое и неприютное, на мили и мили по северной окраине страны.
Он шагал неуклонно вперед. Вскоре стало совсем темно, но его ноги сами, будто по инстинкту, держались малоприметных тропок, проторенных людьми за сотни лет, что ходили они туда и обратно по дикому полю. Пришлый человек мог бы сразу же заблудиться на этой равнине, где, казалось, не было никаких путеводных знаков, но житель поселка ни один не заблудился бы.
Всю свою жизнь – с первых детских игр – они изучали свой край. Они знали каждую пядь торфяного болота, и поворот тропы так же верно говорил им, где они находятся, как городскому жителю – дощечка с обозначением улицы на перекрестке.
Итак, отец Джо уверенно шел вперед, потому что знал, где ему искать сына. В пяти милях ходьбы по плоскогорью болото кончалось, упершись как бы в остров среди равнины, остров из выветренных скал, огромных каменных глыб с острыми краями – вид у них был как раз такой, как будто в незапамятную старину великан-ребенок начал складывать из своих кирпичиков башни, а потом бросил игру, наполовину не достроив. Сюда жители поселка часто приходили в час беды. Мрачные, нелюдимые каменные башни с их расселинами и пещерами были местом, где ты можешь сидеть в полной тишине и думать о неурядицах мира и жизни, и никто тебя не потревожит.
Сюда и направился Сэм Керраклаф. Он уверенно шагал в темноте. Вечерний дождь начал нахлестывать над болотом, мелкий и непрестанный, похожий скорей на туман, но Сэм не убавил ходу. Наконец замаячила в темноте каменная гряда. И тут, едва его нога ступила на первые камни, гулко отдававшие шаги, Сэм Керраклаф услышал обрывистый лай – лай, каким собака на страже дает свое предостережение.
Взобравшись выше по тропе, памятной ему с его собственного детства, человек пошел на лай. Здесь на уступе скалы, где они нашли защиту от нахлестывавшего дождя, он увидел собаку и сына. С минуту он стоял, и было слышно только его шумное дыхание. Потом сказал:
– Идем, Джо.
Только и всего.
Мальчик послушно встал, несчастный, молчаливый, пошел за отцом. Они шли с собакой по тропкам в зарослях вереска, по тропкам, так хорошо знакомым обоим. Когда они уже близко подошли к поселку, отец заговорил вторично:
– Ступай прямо домой и подожди меня, Джо. Я отведу ее назад к герцогу. Потом, когда вернусь, мне надо сказать тебе словечко.
Что это будет за «словечко», Джо знал заранее. Он знал, что, убежав из дому, он совершил проступок против семейного уклада. Но, только войдя в дом, по поведению матери он в полной мере ощутил, как глубоко этот проступок оскорбил его родителей. Мать не заговорила с ним, когда он снимал намокшую куртку, когда пристраивал к огню посушить свои башмаки. Она поставила перед ним еду, кружку горячего чая. И все еще не заговаривала.
Наконец вернулся отец. Он стал посреди комнаты, его суровое лицо блестело, мокрое от дождя, а лампа бросала ему на нос, на скулы и на подбородок резкие отсветы.
Они шли с собакой по тропкам в зарослях вереска, по тропкам, так хорошо знакомым обоим.
– Джо, – начал Сэм Керраклаф, – ты знаешь, что ты плохо сделал, убежав с Лесси? Что ты обидел и мать и меня?
Джо твердо смотрел на отца. Он поднял голову и сказал отчетливо:
– Знаю, отец.
Отец тряхнул головой и глубоко вздохнул. Потом поднес руки к животу и начал отстегивать свой толстый ремень.
Джо молча наблюдал. Потом, к своему удивлению, услышал голос матери.
– Этого ты не сделаешь! – крикнула она. – Не сделаешь, говорю!
Она встала прямо против отца. Джо раньше никогда не видел такой свою мать. Она стояла против отца, лицом к лицу. Она быстро обернулась.
– Джо, сейчас же наверх! Ложись спать. Уходи отсюда.
Когда Джо послушно пошел, он увидел, что она опять повернулась к отцу и заговорила ясно и ровно.
– Нужно сперва кое-что обсудить, – сказала она. – И я хочу начать разговор прямо с места. Я так полагаю – пора, чтобы кто-нибудь начал разговор.
Оба стояли молча, потом, когда Джо по дороге к лестнице проходил мимо матери, она взяла его за плечи и одну секунду с улыбкой глядела ему в лицо. Она быстро прижала к груди его голову, потом ласковым движением руки подтолкнула его к лестнице.
Поднимаясь по ступенькам, Джо дивился про себя, почему это бывает иногда, что взрослые так хорошо понимают тебя как раз тогда, когда они тебе особенно нужны.
…На другое утро за завтраком, покуда отец был тут, о вчерашнем не обмолвились ни словом.
Джо помнил, что накануне вечером, когда он уже ушел к себе наверх, мать с отцом повели разговор и потом, когда он уже лежал в кровати, они еще долго разговаривали. И, даже проснувшись среди ночи, он услышал, что они все еще разговаривают внизу. Слов он слышать не мог – дом был крепкой стройки, – слышны были только голоса: резкий, настойчивый голос матери и голос отца – низкий, гулкий и терпеливый.
Но когда отец позавтракал и вышел из дому, мать начала:
– Джо! Я пообещала отцу поговорить с тобой.
Джо уставился на скатерть и ждал.
– Ты знаешь сам, что ты плохо сделал, мальчик, знаешь, да?
– Да, мама. Извини меня, я очень сожалею.
– Знаю. Но что толку виниться задним числом? Этим, Джо, дела не поправишь. А время трудное, и ты не должен огорчать теперь отца. Теперь особенно. Не должен.
Она сидела за столом, полная, по-матерински сильная, и глядела мальчику в лицо. Потом ее взгляд как будто ушел куда-то вдаль.
– Понимаешь, сейчас положение дел не такое, как было раньше, Джо. И ты не должен это забывать. Твой отец… у него сейчас и так хватает забот – при таком положении дел. Ты уже большой – тебе двенадцать лет, – ты, если постараешься, можешь все понять не хуже, чем понимают старшие.
Так вот, в такое время, как сейчас, очень трудно в хозяйстве сводить концы с концами. А чтобы прокормить в доме пса, надо очень много – то есть чтобы прокормить как следует. У нее очень хороший аппетит, у нашей Лесси, и трудная это задача в наши дни, при нынешних делах, как следует прокормить собаку. Ну, ты понял, да?
Джо медленно склонил голову. Он понял по-своему, наполовину. Если бы взрослые могли посмотреть на дело, как смотрел он сам, он бы высказал все напрямик. Но мать похлопывала его по плечу, похлопывала белой рукой, такой чистой, гладкой, полной, – рукой, которая месит хлеб, и так быстро снует, когда вяжет чулки, и танцует над иголкой, когда штопает.
– Ну, будь же молодцом, Джо! – Ее лицо просветлело. – А случись когда, что положение опять изменится… и жизнь пойдет по-старому… знаешь, что мы сделаем тогда? Мы тогда первым делом заведем другую собаку, да?
Джо не знал почему, но только ему показалось, что овсяный кисель застрял у него в горле.
– Мне другой собаки не надо! – закричал он. – Ни сейчас и никогда! Не нужна мне другая собака…
Мальчик хотел добавить: «Мне нужна только Лесси!» – но он как-то почувствовал, что эти слова будут обидны для матери. Поэтому он только взял кепку и выбежал на улицу, по которой другие дети уже шли в школу.
Глава седьмая
Все потеряно, кроме чести
Все было верно, что сказала мать. Жизнь пошла не такая, как раньше. Джо с каждым днем ощущал это все сильнее. Во-первых, Лесси больше не приходила к школьным воротам. Должно быть, герцогский слуга наконец придумал, как окружить ее такими препятствиями, что даже и она не могла их одолеть.
Каждый день, когда Джо выходил из школы, в нем на одно мгновение оживала надежда и он устремлял глаза на то место у ворот, где всегда сидела Лесси. Но ее там никогда не бывало.
В школе на занятиях Джо старался думать об уроке, но Лесси не шла у него из ума. Он отбивался от собственных мыслей. Он решал больше не ждать, что она когда-нибудь снова окажется там. Но, проходя после уроков по школьному двору, он всякий раз обращал глаза к тому месту у ворот – наперекор своим обещаниям самому себе больше никогда ее не ждать.
Ее там не бывало никогда, – значит, жизнь пошла не такая, как раньше.
Но дело было не только в Лесси. Джо стал замечать, что и многое другое в жизни идет не так, как раньше. Он замечал, что родители часто ругают его теперь за такие вещи, за какие прежде никогда не сердились. Например, иногда за столом мать следила, сколько ложек сахару он сыплет в чай. Она поджимала губы, а порой прямо говорила:
– Куда тебе столько сахару, Джо? Нельзя же… не стоит есть так много сахару. Вредно для здоровья.
Мать за последнее время стала очень раздражительна – и это тоже было чем-то новым, чем-то, что «шло не так, как раньше».
Однажды, когда она собралась идти за покупками на воскресный день, она повела себя так странно! И только потому, что он предложил сделать на обед жаркое.
– Почему бы нам не сделать на воскресенье жаркое, мама? И пудинг по-йоркширски. У нас его давненько не было. Уф! Я только заговорил об этом, и у меня сразу разыгрался аппетит.
Раньше, бывало, мать с отцом радовались его аппетиту. Они смеялись, подшучивали, говорили, что ест он так, что впору слону, и всегда давали ему прибавку. Но на этот раз мать не засмеялась, даже не ответила ему. Она остановилась, швырнула кошелку и, ни слова не сказав, бросилась наверх, в спальню. А отец поглядел ей вслед, потом без разговоров вскочил, взял кепку и вышел, хлопнув дверью.
Да и многое другое шло не так, как раньше. Теперь нередко, войдя в дом, он заставал отца и мать сердито глядящими друг на друга. Едва он входил, они мгновенно смолкали, но он видел по их лицам, по тому, как они держались, что у них был спор.
Однажды поздно ночью он проснулся и услышал, что они внизу, на кухне, ведут разговор. То не было приятное гуденье голосов, как в прежние дни. Голоса были вскидчивые, сердитые. А потом, встав с кровати, Джо расслышал сказанные отцом слова:
– Говорю тебе, я исходил двадцать миль вокруг, ноги сбил, и нигде ничего…
Тогда голос матери сделался ровней, и Джо услышал, что она вдруг заговорила совсем тихо, в теплом, ласковом тоне.
Да, многое шло не так, как раньше. В самом деле, очень многое. Джо казалось даже, что просто уже ничто не идет как раньше. И все это было для него как добавление к одному, главному: нет больше Лесси!
Когда была у них Лесси, дома было тепло и уютно, был мир и лад. Теперь, когда ее отдали, все стало неладно. Значит, ответ простой: если Лесси вернуть, все опять пойдет по-хорошему, как раньше.
Джо много думал об этом. Мать просила его забыть Лесси, а он не мог. Он мог притворяться, что забыл, мог перестать о ней разговаривать. Но Лесси неизменно жила в его мыслях.
Он не выкинул ее из мыслей. Он сидел в школе за партой и все мечтал о ней. Он все думал, что, может быть, придет день… придет такой день… и как сбывается сон: он выходит из школы, а она тут как тут, сидит у ворот. Он видел ее как живую: черно-белый мех отливает на солнце, глаза блестят, уши стоят торчком и пригнулись вперед, на него, чтобы ей уловить звук голоса, который прежде скажет собаке о приближении хозяина, чем могло бы ей сообщить ее слабое зрение. Хвост ее будет приветливо помахивать, а губы растянутся в счастливом собачьем «смехе».
Потом они помчатся домой… домой… домой… Побегут вдвоем по поселку, счастливые побегут вдвоем.
Так мечтал Джо. Пусть он не мог говорить о своей собаке, но он непрестанно мечтал о ней и все надеялся, что когда-нибудь, в один прекрасный день…
Спустились ранние сумерки английского севера, когда Джо вошел в дом. Оба, и отец и мать, сразу уставили на него глаза.
– Ты почему так поздно? – спросила мать.
Ее голос прозвучал жестко и обрывисто. Джо почувствовал, что опять между ними был разговор – сердитый разговор, как часто в эти дни.
– Меня оставили после уроков, – сказал он.
– А чего ты натворил, что тебя оставили?
– Учитель сказал мне «садись», а я не расслышал.
Мать уперла руки в бока:
– Ты, значит, стоял – и что ж ты делал?
– Глядел в окно.
– В окно? А почему ты глядел в окно?
Джо молчал. Как мог он объяснить им? Лучше было промолчать.
– Ты слышишь, что спрашивает мать?
Отец стоял рассерженный. Джо кивнул.
– Так ответь ей. Почему ты глядел в окно во время уроков?
– Невольно.
– Это не ответ. Что значит «невольно»?
Джо почувствовал, точно захлестывает его какая-то общая безнадежность… Отец, который всегда так все понимает, теперь сердится на него! Он почувствовал, как слова сами собой срываются с губ:
– Я невольно. Было около четырех. Как раз ее время. Я услышал, как залаяла собака. Похоже было на ее лай. Я подумал, что это она, я вправду подумал так. И я невольно поглядел в окно. Я не думал, что я делаю, мама. Правда. Я поглядел в окно, чтоб узнать, не она ли это, и я не услышал, как мистер Тимз сказал мне «садись». Я думал, что там Лесси, а ее не было.
Джо услышал голос матери, громкий, раздраженный:
– Лесси, Лесси, Лесси! Если я еще раз услышу это имя… Неужели в моем доме никогда не будет мира и покоя?..
Мать и та не поняла!
Это сильнее всего огорчило Джо. Когда бы хоть мать поняла!
Ему стало невтерпеж. Что-то горячее подступило к горлу. Он повернулся и побежал к дверям. Он пробежал в сгущающихся сумерках по садовой дорожке. Он бежал и бежал, вверх по переулку, пока не выбежал в поле, на болото.
Жизнь уже никогда не пойдет по-хорошему!
На болоте было темно, когда Джо услышал шаги, а затем и голос отца.
– Это ты, Джо, мальчик мой?
– Да, папа!
Отец, казалось, больше не сердится. Джо вдруг почувствовал себя спокойней возле большого, сильного человека, ставшего рядом с ним.
– Гуляешь, Джо?
– Да, папа, – сказал Джо.
Джо знал, что отцу трудно «разводить разговоры», как он это называл. Отцу всегда нужно было так много времени, пока у него свободно пойдут слова.
Он почувствовал руку отца на своем плече, и они зашагали вдвоем по равнине. Долго оба они не заговаривали. Как будто им довольно было и того, что они вдвоем. Наконец отец заговорил:
– Вот гулять, Джо, – замечательная это штука, правда, Джо?
– Да, отец.
Отец кивнул и, казалось, был очень доволен и своим замечанием, и ответом сына. Он шел свободно, а Джо старался шире выбрасывать ноги, чтобы приноровиться к твердому, мощному шагу отца. Вдвоем, не разговаривая, они одолели подъем, и тут под их стопами зазвенел камень, – значит, дошли до скал. Наконец они сели, на краю уступа. Выплыл полумесяц из-за гряды облаков, и стало видно простершееся вдаль торфяное болото.
Джо увидел, как отец взял в рот короткую глиняную трубку, а потом начал рассеянно похлопывать поочередно по всем своим карманам, пока вдруг до него не дошло, чем он занят. Тогда его руки унялись, и он стал сосать свою пустую трубку.
– У тебя нет табака, отец? – спросил Джо.
– Нет, почему… Просто… такие пошли времена… Я бросил курить.
Джо наморщил лоб:
– Это потому, что мы бедные, папа, и ты не можешь покупать табак?
– Да нет, мальчик, мы не бедные, – твердо сказал Керраклаф. – Просто… времена пошли не такие, как раньше… ну и вообще, я слишком много курил. Лучше будет для здоровья, если бросить на время.
Джо задумался. Он сидел в темноте рядом с отцом и знал, что отец «сглаживает», чтоб его успокоить. Он знал, что отец хочет заслонить его от забот, которые несут взрослые. Джо вдруг почувствовал благодарность к отцу; большой и сильный, он пошел за ним в торфяное поле, поднялся сюда, чтобы как-нибудь его утешить.