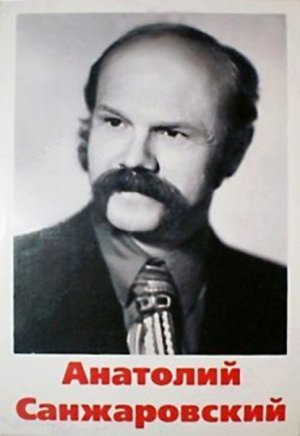
Александру Ильичу Фёдорову — сибирскому Далю.
Не следует краснеть, заимствуя у народа средства, служащие к его излечению.
Гиппократ
Если в прошлое выстрелишь из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки.
Восточная пословица
Анатолий Никифорович!
Роман «Сибирская роза» удался. Народные типы, народные образы. С интересом прочёл. Нравится, что Вы смело пошли на показ неофициальной медицины, народной медицины. Роман прекрасно скомпанован, хорошо выстроен каждый эпизод. Так и действуйте дальше. Прекрасное начало. Чувствуете народное слово, любите его.
Дело Ваше нужное, важное.
БОРИС МОЖАЕВ
1
Крайние дни осени отходили, отмывались в тяжёлых, неистовых дождях. Рывучие, пенкие ручьи потопно заливали улицу.
Врач-онколог Таисия Викторовна Закавырцева, возвращаясь с работы, привернула в продуктовый, взяла молока, пельменей, хлеба и вприбежку засеменила домой.
Она шла, не выбирая пути. Скорее, скорее в благостное тепло, в уют от этого обвального секучего проливня!
Она машинально глянула в сторону и споткнулась взглядом о пустое пространство в глухом дощатом заборе. Странно. Ещё вчера, когда приходила сюда, на этом месте вздрагивала под ветром старая калитка, а теперь сиротливо чернел прогал, и сама калитка, сорвавшись с петель, распято лежала на земле, её забрасывало жидкой шипучей пеной злобного потока. Откуда-то из-под крыльца покинуто плакала голодная кошка.
Дождь гулко остукивал Таисию Викторовну.
«Нина, Нина… В такие годы… Хоть и была лишь вчера у тебя, а завтра снова зайду, наведаю… Что я ещё могу?… Гм… А почему завтра? А почему не сейчас?»
Таисия Викторовна с опаской прожгла мимо собачьей будки и подивилась. Вовсе напрасно боялась! Пёс даже не шевельнулся, только скорбно посмотрел и вздохнул, не поднимая головы с передних лап.
Дом был слепой, без огней.
Таисия Викторовна, часто бывавшая в этом доме и знавшая его, как свою ладонь, быстро прошла в комнату к больной и словно вкопанная остановилась у порога, медленно притворяя за собой дверь.
Плотные, тугие сумерки заливали комнату. Никого не видно, кругом темнота, и откуда-то из темноты сочился охриплый Нинин стон — Таисия Викторовна ни с чьим его не спутает, — и в этот тяжкий стон вплетался усталый детский плач. Казалось, это сама темь плакала с простоном.
Слёзы поджали к горлу.
Таисия Викторовна судорожно щёлкнула выключателем.
Нина с крайним усилием перекатила голову по подушке.
— А-а… Докторь… Лёгонькая на поминках…
— Ниточка! Роднуша! Что же вы без света?
Нина собрала на лице зыбкое подобие улыбки.
— Я… Таись Викто… Из мене весь пар вон… Вóпласть лежу… на óдре… Навовсе никудышка… Сама уже не доползу до выключателя, а синюшата мои ещё мелки… Не дотянутся… От мы в потёмочках и кричим… Ох, детки… детки… Нету тех лавок, где продают мамок…
Сыновья-погодки, двух и трёх лет, мокрые, поди, и под мышками мокро, только что из-под дождя — одни прибежали из садика, — сидя у койки на полу, присмирели, перестали рёвушком реветь, с удивлением, с твердеющей надеждой взглядывают на докторицу. Мамка, мамка-то уже говорит! Не плачет!
— А сам где? — тихо спросила Таисия Викторовна.
— А где ему быти… В смене… А там, можа, зацепится где… оформит с кем горький стакашек. Не-е… Вы, докторь, не смотрить на мене так… Я к свому Слепушкину без претензиев… Я-то что? Меня уже не отладить… не всподнять… Невылечимая я… Эко шар подкатила под мене судьбина… Не век кричать… Смёртную одёжу уже собрала… Я-то сложу белы ручки на груди… Мне… Мене, барыньку, снесут… А мому бóле[1] каковски выть? Один-разбóженный… одним один… Как без мене возростит этих крох?… Что жа я накуделила? Родить родила и помираю… Не по судьбе… Ка-ак ему жити? Без мене он… как в сиротстве остаётся… От другой и разбежистый, и провористый, из воды дно достане, а мой страдалик на печке заблудится. Пропадё-ё ить без меня… пропадё-ё… Жалко… Шибко смирный, задавит его жизня… Ну почё он у меня такой?… Был ба хотько чудок с задачей…[2] Будь сила, я б утащилась в город… Христом-Богом усватала б ему под масть каку тиху одинарочку…[3] Тогда б я легко-о ушла в доски…[4]
С минуту Нина напряжённо смотрела прямо в глаза Таисии Викторовне и, отважившись, заговорила горячечно, захлёбисто:
— Таись Викторна!.. Миленька… Вы мне уж не помощница… Так подмогнить мому Слепушкину…
Нина слабо, молитвенно потянула руки к Таисии Викторовне.
— Дайте вашу руку.
Таисия Викторовна подала.
Нина прижала её руку к щеке и заплакала:
— Обещайте… обещайте… Сговорить ему в жёны каку-нить смирненьку… Не бойтесь, краснеть за Слепушкина не придётся… Кладить ей про него правдушку. А правдушка такая… У Слепушкина не выпадет работа. В работе не боится ломать горбушку… Горячий… С огня так и рвёт, так и рвёт. Он у мене за солнцем не лежит… Не лодыряка какой. Любому слесарьку нос забьёт… Хва-аткий, цо-опкий в деле. Про мово Слепушкина не скажешь: ни в горсть ни в сноп… В заводе на славе, кругом ему почётность… И в житье покладливый… славен норовом… Грех жалобиться. Мягкой, обходительной… лежит к душе… Не в свою лавочку не лезет. В пьяной крутанице не воевода… Не падкий на бабьи слёзки…[5] Так… на праздничек когда иль под красный под случай какой… легошко примет… А чтоб в пьянку даться… А чтоб упиться на пласт — такой беды и разу не приворачивало… Э-э… Чё попусте слова тереть?… Ладён мужик… Из десятку не выбросишь. Обещайтесь… о… ну обещаетесь… докторь…
Таисия Викторовна мелко затрясла головой. Да, да!
И, стыдясь своих хлынувших слёз, отвернула лицо, осторожно высвобождая руку.
Буркнув что-то про холод, про то, что это не дом, а волкоморня, Таисия Викторовна кинулась растапливать печку.
Наварила пельменей своих, накормила сидевших голодом ребятишек, Нину.
Тут и вода поспела, подхватилась ключом кипеть.
Выкупала в тазу Нину, уложила.
Вздохнула Нина рассвобождённо, сиротливая радость качнулась в глазах. Поскреблась под подушку, нашарила что-то, подаёт на сухой дрожащей ладонке какие-то странные изрезанные комочки.
— Докторь… добруша, в отплатку за вашу доброту… примить… Корешок… Втай от вас бегал мой Слепушкин к бабушке…[6] Уважила, дала. Сказывают, хорошо этот корешок побивает рак… ежель с умом да в час… в свой час напустить… Да уронила, упустила… прозевала я свою судьбу… Меня уже не выдернет из беды… Такая стадия… Никакому лечению не принадлежу… Коряво всё покатилось. Ни складухи ни ладухи… Получила гроб… Безо всякой надёжки остатни доплакиваю деньки… Берите…
Таисия Викторовна печально улыбнулась и отрицательно покачала головой.
— Брезгуете… Ну что ж… Каждому скворцу своя скворешня… А только я так скажу… Навпрасно отпихиваетесь от коренька… По слухам, народ извеку подпирал им своё здоровьице. А народ не глуп, ой не глуп, что попадя в рот не понесёт. Ежли в чём сомнительность ломает, так ты своим учё… научёным глазом посмотри на корешок, добавь чё от науки от своей учёной и потчуй болезника… Берите. Я не последня сгораю… не последня… Не мне уже… вам… живым… Вам живым до крика надобится это святое кореньице… Ва-ам!..
Таисия Викторовна взяла.
Совестно было обижать Нину отказом.
2
В скорых днях Нина отошла.
Её смерть сломала в Таисии Викторовне какой-то важный, прочный, отлаженный механизм, и Таисия Викторовна, в силу профессиональной привычки принимавшая смерть тяжелобольного почти как само собою разумеющееся, — рак не насморк! — вдруг почувствовала себя виноватой.
Ты сделала всё возможное, оправдывалась она перед собой, но прежняя успокоенность не приходила. Ты перед покойницей чиста. Да от этого разве она заговорит?
В анатомке она и разу не могла взглянуть Нине в лицо.
«В чём моя вина? В том, что ты в двадцать пять мертва, а я и в сорок живу? Но окажись я в твоих санках, я б тоже уже не рассуждала…»
При вскрытии Таисия Викторовна отметила про себя обычное: опухоль на десять-пятнадцать сантиметров окружена, облита нездоровой, набрякшей тканью, которая после удаления опухоли не мéньшала, а росла. Несмотря на то, что первичную опухоль выхватили, злокачественный процесс, эта «зверонравная» машина, не затухал, как должно бы быть, а напротив, разгорался, разбегался ещё сильней.
Что тут предпримешь?
Хорошо бы иметь средство, которое снимало бы остаточные явления злокачественного процесса так же, как, например, снимает их при гнойниках пенициллин.
Но как — иметь, если такого средства нет?
Нет — найти!
Неправда!
Коли есть болезнь, должно быть и средство лечения.
Должно!
Озарённая этой мыслью, перебрала она ворох препаратов, в которых почему-то надеялась-таки выловить и то самое средство заветное.
Но, прокатившись на нолях, отошла от них, привернула к травушкам. Чага, марьин корень, ромашка, подорожник… Нет, нет, тоже не то. Совсем не то!
Что же тогда то? В чём же тогда то?
Нинин корень не выходил у неё из головы.
Однако как он хоть называется? Где растёт? Кто знает, как им пользовать? Шатнуться с этим катышком к бабушкам? Узнáют, что я врач областного онкологического диспансера — будет куча смеха! Слушок побежит по городу. Гли-ко, наука пошла на поклон к бабушкам! На выучку к тё-ёмным баушкам пошла! Э-э, наука, наука — пустая ты штука, раз полезла на ту же ёлочку…
И потом, ещё неизвестно, как наши примут мой поход к знахарям… В какую сторону повернут…
Не-ет, надо самой всё разведать, надо самоуком дойти, что за подарок поднесла мне Нина.
Три года к Таисии Викторовне не подпускала покой, звенела комаром Нинина загадка.
Вечерами толклась то в одной, то в другой библиотеке, всё выискивала книжки про растения.
Только теперь она дотумкала, почему корень исполосовали до неузнаваемости. Раз по раку, наверняка из ценных, в прибыли наваристый, и знахарь, боясь, что корень может попасть к врачу, и, держа впотаях секрет фирмы, изрезал до краю, сбил форму — замуровал, заминировал. Но и обезображенный он оставался самим собой, с ним было всё его: запах, цвет, плотность.
Таисия Викторовна читала, сравнивала и непонятно даже для себя — ну разве объяснит собака, почему она идёт по следу зверя? ну разве объяснит птица, почему она поёт? ну разве объяснит речка, почему она обегает гору с этой, а не с той стороны? — и непонятно даже для себя скорей интуитивно угадала.
То был борец.
Царь-трава.
Царь-зелье.
Царь тибетской медицины.
3
В первую же неделю радость открытия обмякла, опала, и Таисия Викторовна, нигде и никому не проронив ни звука про свою удачу, затревожилась.
Ну, знаю, был у Нины борец. Дальше-то что? Как этого царя впрячь, воткнуть в работу? У кого выведаешь, как его применять? Кому первой предложишь испробовать? Какими словами скажешь? Как в диспансере посмотрят наши на всю эту петрушенцию?…
Вопросы наползали один ядовитей другого, и Таисия Викторовна, зажатая их тисками, навалилась дотошно изучать корень. И Бог весть сколь протопталась бы над своим кореньком, не позови её неотложная чужая беда.
Однажды, обходя тяжёлых больных на дому, спросила она Катю Игнатову:
— Ну что, Катюша, как мы себя чувствуем?
Не то с укоризной, не то с сожалением Катя коротко покивала, сломленно ответила:
— Вы, я вижу, чувствуете себя ладно. А я… Что я?… Лежу пеньком. Ну да к чему про меня речи терять? Вы лучше знаете моё положение… Докувыркаюсь ли до нового вашего прихода?
У Таисии Викторовны не поднялась душа разубеждать, что обычно делают врачи в таких случаях, лишь совестливо опустила лицо.
Долгим, благодарным взглядом посмотрела Катя на Таисию Викторовну. Спасибушки, врачея вы наша добрая, что не прибрёхиваете, что не любите финтить-винтить, спасибо за прямоту. Разве с морфия кто да ни будь восстал?
— Хорошо, Таис Викторна, что не сулите золоты горы. С вами можно по правде… Знаете, обида… Зло давит… Ну почё нам дажно правды не сказывают? Лечили, лечили в стационарке… Никакой просветности… Списывают домой, на воздух, на это сим…симпа…ти…чное лечение…
— Симптоматическое.
— О, оно самое… Какое закомуристое… А нет вправде напрямуху чесануть: лихо край доспелося, не хватает наших мочей вас выздоровить, вот и ссылаем домой домирать… Сгори здеся, в диспансере, нам какой минусяка! Статистику только подгадите. А откинь лыжки дома… Это ж дома! Мы в стороне, а не в бороне. На нас не повесят!.. Кривая ариф… кривая бухгалтерия… У моих соседев сынка учится на врача. Ласковый, заботный, зря ватлать языком не станет. Я спросила почитать про это моё домашнее лечение. Он и притарань книжищу толще библии. Там я вычитала, на память положила… Для надёжности себе списала…
Она сняла с полочки над головой тетрадь. Прочла:
— «Симптоматическое лечение сводится не только к ликвидации одного тягостного для больного симптома, но и к разрыву цепи взаимосвязанных и взаимообусловленных нарушений в организме, одним из звеньев которой является данный симптом…» Фу, псарня тя прихвати, еле прожевала! В книжке всё ловко, всё ладь да гладь. Да только в себе чтой-то я не чувствую разрыва этой распроклятущей цепи… Как же, жди! Воздух разорвёт, морфий разорвёт… Что ж оне в стационарике не разрывали? Иля дома в чём сподручней? Ой лё… Пока дождь с земли на небо не падывал…
Катя задумалась, отсутствующе вперилась в бледную потолочную немочь.
— Знаете, Таис Викторна… — заговорила, не убирая слабых, покинутых глаз с потолка. — Вы знаете, про что я думаю на отходе?
— Скажешь… узнáю…
— Про нашу хвалёную учёную медицину. Вы не подсчитывали, сколь у нас академиков, профессоров, кандидатов там разных?… До лешего! Чёрт на печку не вскинет. Брось палку в собаку, а попадёшь в академика. И чем же эта учёная орда пробавляется?… Тут тёмный лес — никакой просветки! Вроде летом и лёд не сушит, и баклушки не сбивает, но и пользы нам, кого боль ломом ломает, ни на грошик. Книжульки лепят, диссертации друг у дружки переворовывают… Ихними кирпичами все склады под верх забиты. Складам горе, а нам вдвоя… Сдвинуться с ума… Чиликают в тех писаниях про рак. А рак неграмотный. Тех писаний умных не читает, он как ел бедолаг, так и ест… так и ест… А ну выложи те книжки в один порядок… Коль не хватит на выстелить дорогу до луны… до кладбища помилуй как хватит… Даже останется… Ой… наплантовала я вам семь бочек арестантов…
Катя приподнялась на локтях, посветила обречённой улыбкой.
— Я всёжки счастливей Нины… Лежали мы с ей в стационарке вприжим, койка к койке. Задружились. У нас же всё однаковое… И года наши, и болячки, и семьи. Всё горем горевали, да как это спокидать мужиков однех с детишками в малом виде?… Аха-а… Мой-то, похоже, не ротозиня, пооборотистей её Слепушкина. Как списали меня с диспансера, я и вижу, нараз[7] совсем прокис. Ни жив ни мёртв таскает ноги. То был… Он у меня, извиняюсь на слове, регулярный воин. Без ласки не заснёт… А тут не то что ласки, разговоров на эту тему не подымает. Иль тоска его задавила, до время хоронит меня, иль наискал чего на стороне? Я говорю: как на духу сознавайся, уже завёл ночну пристёжку? Клянётся-божится: нет и нет и на план не занашивал. Вот, напрямок отстёгиваю, за это-то — и на план не занашивал! — я те и повыцарапаю ленивы глазюки! Нашёл чем фанфарониться! Напрок[8] обдумляй… Я не нонь-завтра перекинусь, кто детишкам уход даст? Кто накормит? Кто поджалеет?… Ты на ночь добра не лови — на жизнь ищи! Чтоб была моей фасонности… Всё вам не проходить деньги[9] на одёжку ей… Я б отдарила ей всё своё, вплоть до нашиванки…[10] ежли не возбрезгует… Да и… Увидишь ты её в моём и подумаешь — я это… И тебе было б легче, и мне, может, там будет легче, что ты не забываешь меня… Ну… намечталась… Через неделю чтоб как штык стояла туточки твоя чепурилка… Покажешь… Игнатик мой вялую руку к виску, как-то подбито поклонился: слушаюсь. И через неделю потомяча мой леший красноплеший привёл-таки! Напримерно моих так лет, с ловкой фигуркой… Лицо смешливое, простецкое, в золотых конопушках. Свеженька, опрятненька так… Думаю, чисто себя водит. С одуванчиком[11] на голове, в нарядной коротенькой татьянке…[12] Лежу я… Ни суха ни мокра… Мне ни хорошо ни плохо, как-то навроде и без разницы… Всё гадаю, а будет она моим горюшатам мать але ведьма? Вроде б так к матери ближе… Не какая там бардашная девка… не распустёха… Мне девчошечка поглянулась… Красивая… Ну, красоту не лизать, жили б в одно сердце… Ну, стала она захаживать. То постирает что, то сготовит да меня ж и подкормит… Мы даже немноженьку сошлись… Какой-то особенной любови я промежду ними не вижу. Да оно и к лучшему. Надо порядок додержать. Уж как сойду, наполно развяжу им руки. Я покойна… Муж, детки не будут у такой сиротами. Наказываю ей: ты за самим зорче карауль, а то он рюмашке мастак кланяться, не давай ему воли выше глаз, сгорит же с вина!.. Ухватила кавалерка моего пантюху крепенько, ни разу не был при ней и под малым градусом. Мой даже взглядывает на неё слегка полохливо. А ничё… Мужик в строгости не испортится… Я сделала, что могла… Семья без меня не падёт… Это главное… На душе тихий рай, покойность… Можно и в отход… чем так мучиться…
Катя вдруг сморщилась, закрыла лицо руками и заплакала навскрик.
— Доктор! Миленька!.. Брешу, брешу всё я!.. Каки ни египетски боли, а помирать больней!.. Тупая… спесивая… распроклятка наука! Чем помирать по этой науке, лучше жить без науки!.. Таис Викторна, миленька, — изнурённо зашептала Катя, — поджалейте мою молодость, помогите!.. Морфий добьёт… Как Нинушку!.. Я слыхала… Слухи бегают… сурьма помогает…
— Не знаю, Катюша, помощница ль тебе сурьма, — на раздумах сказала Таисия Викторовна. Вспомнила о своём борце, опасливо добавила:
— Вот травки…
— Травок-то полны леса. Да тольке наросла ль травка от погибели?
— Нарос… ла… — заикаясь, ответила Таисия Викторовна. Ладони у неё запотели, невесть отчего перехватило дыхание. Ей стало вдруг страшно, страшно оттого, что делает она что-то такое, чего не следовало бы вовсе и делать. — На траве сидеть, траву пить… — машинально проговорились сами собою эти слова. — Вот… — нервно достала из сумочки крохотный флакончик. — Это настойка. Должна бы помочь…
Было такое чувство, будто этот флаконишко жёг ей пальцы, и она суетливо поставила его на тумбочку у Катиного изголовья.
— Я ведь, К-катюша… В голове гудит, как на вокзале… Уж сколько дней хожу по больным по своим с этим борцом, а предложить боюсь… Ядовитый корешок…
Катя посмелела глазами.
— Да не ядовитей морфия! А отравиться и морковкой можно. Вон врач прописал одной моей знакомке морковный сок. Уж чего проще! Знакомка и рада стараться, навалилась хлестать почёмушки зря. За раз выдудолила четверть и откинула варежки.
— Осторожничай… Не дай Бог из детворы кто хватит.
— Таисия Викторовна! Миленькая! Не беспокойтесь, лиха сна не знайте. От детворы уж уберегу, а самой чего лишко хлебать? Каку дозу проскажете, та и моя.
— Доза нехитрая. В первую неделю по две капли три раза в день за пятнадцать-двадцать минут до еды. Пипеткой накапай в стопочку с сырой водой и пей. Во вторую неделю прибавляешь на одну каплюшку, в третью ещё на одну и так поднимаешь до десяти. Потом в каждую неделю сбрасываешь по капле, срезаешь норму до исходной — две капли. Ты у нас гинекологичка. Тебе надо и спринцеваться… Десять капель на пол-литра воды… Ты молодая, крепковатая, не очень запущенная… Я с тобой, шевелилочка, в полгода разделаюсь, как повар с картошкой.
— Уврачуете?… Поднимите? — робко уточнила Катя.
Таисия Викторовна плеснула руками.
— О! Да ты вся выпугалась в смерть. Думаешь, а чего это я тебе навяливаю? Не трусь. Это настойка борца. Две настаивала недели… Пять грамм корня на сто двадцать пять грамм семидесятиградусного спирта. Не бойся, свою настоюшку я уже проверила дома на коте на своём, на собаке Буяне, а вперёд на самой себе. Не баран чихал! Пила по граммульке сперва. Безвкусная. — Таисия Викторовна глянула на флакон на тумбочке. — Никакого яда не слышно. Цветом золотится. Вишь, похожа на коньяк. Коту подпускала в молоко, в суп. На пятой капле забастовал мой Мурчик, не стал лизать молоко. На пятой капле я и сама уловила лёгкий яд… Как-то угнетает, вдавливает в тоску… Но видишь, цела, не рассыпалась вдребезь…
А ночью Таисии Викторовне приснился сон.
Увидела она себя совсем маленькой, гимназисточкой-первоклашкой. В белом платьишке, на головке венок из ромашек. Вприскок бежит счастливая Таиска по лугу ромашковому, несёт перед собой мотылька на раскрытой ладонке, щебечет стишок:
И в тон ей звончато отвечает с ладошки мотылёк:
4
Отслоилось несколько месяцев.
Таисия Викторовна пришла к Маше-татарочке. Всегда мягкая, всегда стеснительная Маша ожгла её холодным, обиженным взглядом.
— Когда раздавали мудрость, в мой мешок ничаво не попал! — чуже посыпала Маша словами. — Пускай я балда осиновая, глупи, но я напрямки искажу… Я, докторица, на тебе пообиделась. Ай как сильно пообиделась, один Аллах знай!..
— Маша! Милуша! Да за что? — Таисия Викторовна бочком подлепилась на кровати к больной. — Давай сядем криво, да поговорим прямо.
— У тебе одна больной — эта! — вскинула Маша мизинец. — Другая больной — эта! — выставила большой палец. — Я эта больной! — Она пошатала мизинец.
— Маша! Не неси греха на душу. У меня все больнуши равны.
— Не все, не все… Ты зенкалки болшой не делай… Я совсема здыхот…[13] Кабы был мне сил, я б отворотился от тебе… К стенке поворотился ба… Одна стенка чесни… Я всю недель рыдал, как буйвол… Мне не был так чижало, когда работал землеройкой,[14] когда таскал потомяча на стройке кирпич на тачка… Машина такая ОСО, две ручки и колесо…
Таисия Викторовна растерянно заозиралась. Где же это я напрокудила? Чего ещё накуролесила? Вроде вина за мной никакая не бегает… Неужели кто на хвосте сплетни нанёс?
Замешательство врача вытягивает из больной огонь злости, и Маша ворчит уже тише, смятенно жалуясь:
— Равны… Кабы был равны, так ба я тожа пел. Игнатиха — вота где раздуй кадило![15] — по телефон как нарочи[16] уже мал-мала хулигански песняга поёт:
Я, простячка, такой песняга не пою. Мой песня коротки, мой песня одна: ох-ох-ох. Припевка тожа одна: ой-ой-ой… Бессовесни Игнатиха выхваляется: боль уж малешко. — Маша чуть развела указательный и большой пальцы. — Кушает, как слон. Спит, как медведе в берлоге зимой. Как мы равны? Я не сплю… Ночку кричу, деньский день кричу без перерыв на завтрик, на обед, на вечерю. Совсемушка ничаво кушать не хочу… Высох… паличка… Вес сорок один кило. Хорошая барашка болша тянет… Сила из мне утекла… Совсемко моя жизнуха размахрявилась… К больному даже муха пристаёт… Я такой здыхот, такой здыхот… Шла на Плеханова… Нет, это трамвай шла на Плеханова, а я стояла. Трамвай шла мимо и сдула меня. Ветром от трамвая сдуло! О, как вы, врачея, лечите… Прошу своих: не троньте, не шевелите мне… Мне к земле тянет… К земле… Говорят, жизнь — колесо: то поднимется, то придавит. А мне всю времю давит, давит… Моя мужа на война голова положил… Как хорошо, что до войны я обдетилась. Четыре детишка у мне… Разве я могу помирать? Не могу. Нельзя… запрещается… Давай нараз, золотая докторица, твои золоты капельки! Почё не даёшь?… Я тожа хочу кушать, как слон, спать, как медведе, петь, как бессовесни Игнатиха… Когда подковывают коня, лягушка тожа протягивает лапку…
— И умно делает! — воскликнула Таисия Викторовна, довольная желанным поворотом встречи. — Катящийся камень, Машенька, отшлифуется, лежачий покроется мхом… Дам я тебе свои капельки. Только ты уж не копи на меня зла… Я почему раньше не давала тебе? Корпело сперва твёрдо разведать, как работают мои капельки. Горелось закончить полный курс хоть на одной больной…
Маша протестующе пронесла руку перед своим лицом из стороны в сторону.
— Ух, докторица! Это шайтан в те говорит. Не ты говоришь… Что ж мне ждать-выжидать полный курс? Я ж добыдчивая! Не нонь, так взавтре могу добыть себе могилку! Курс будешь смотреть потомокось. А сначатия[17] давай скорейко сюда твои живые каплюшки… Чего прощей… Давай сейчас, золотунечка… Или чё, обеушками[18] надо их из тебе тащить?
5
Уже оттуда, из могилы, выхватила Таисия Викторовна пятерых горюх.
В диспансере на них махнули. Безнадёжные! Медицина сделала всё, что могла, что было ей по зубам.
А теперь чего без толку тиранить людей? Чего изводить врачей и себя?
Выпишем домой. «На воздух». «На солнечные ванны».
Их выписывали умирать в кругу семьи.
А они рвались жить, рвались растить детей, рвались к делу и, поникшие, отчаявшиеся, готовые на всё — голому разбой не страшен! — шатнулись к закавырцевской травушке.
Травушка спасла, достала из гроба.
На ком камнем висела инвалидность — сняли. Все вернулись к прежней работе, к будничным семейным заботам, набавив радостных хлопот и самой Таисии Викторовне.
В обычае, она встречала с работы мужа на крыльце, ласково заглядывала в глаза. Ну что, всё в порядке?
А тут нетерпёж поджёг. Выскочила на угол улицы.
— Кока! — со всех ног бросилась к мужу, едва выворотился тот из-за дома. — Кока! Она жива! Это тебе не баран чихал!.. Жива!.. Вот телеграмма! Ёлкин дед, её телеграмма!
Малорослая, худенькая, как девочка-подросток, Таисия Викторовна с лёту ткнулась в мужнино утёсное плечо, прижалась, подбираясь всем телом под надёжную, широкую руку Николая Александровича.
— Так ну читай, крошунечка!
— «Бесценная моя Таисия Викторовна!» — на ходу разбежалась читать она и тут же осеклась, смущенно бросила взор на мужа. Ну видал, как меня?!
Он ободряюще кивнул: всё правильно.
— «Чувствую я себя хорошо. Работаю на старой работе. Домашнюю работу делаю всю сама. Воспитываю шестерых сынков. Спасибо Вам за внимательность, за жалость к больным, за горячие чувства. Вы подняли меня со смертельной постели. Прошло ровно три года после моего лечения, и когда я в мыслях иду мимо этого здания, я боюсь вспоминать. Сегодня ровно три года, как я выписалась. Сегодня ровно три года, как я живу благодаря только Вам, дорогая Таисия Викторовна. Большое спасибо за всё. Ваша якутяночка».
Таисия Викторовна очарованно смотрела на раскрытую телеграмму и не верила, что пришла она с самого Ледовитого океана. С какой дали дать голос!
Надо же…
Тогда Таисия Викторовна только начала скрадчиво работать с борцом, а шумок про неё скоро добежал до ледовитой воды. Земля сухая, как пепел, слухи бегут, бегут…
Безо всякого предупреждения заявляется якутяночка с мужем, молится-просится в стационар к Таисии Викторовне. Сам подпевает — была она у своего мужика в нахвале — и не гулёна, и сынков шесть, и оленеводиха первая… Одно слово, славная норовом. Да вот горе-запята, хворь смяла. Возьмитесь, доктор! Спасите!
Если б всё решала Таисия Викторовна!
Грицианов, главный врач, ни в какие силы:
— Нет, не примем. В такой стадии не примем. Уж всё до крайней крайности запущено.
Муж-хитрован и кинь последний козырь.
Мне, говорит, дурь молотить некогда… Я уведал… Вам нужон дворник в диспансере? Главный аж затрясся. Нужен, ка-ак еще нужен! Всё никого не усватаем! А муж и упрись в своей линии: бери жёнку лечи, я пойду дворником, всё ближе к жене… Буду за жёнкой до победы ухаживать, буду и дворничать.
Тут главный и пал, одним моментом принял обоих.
Якутяночка была пятая, кого подпёрла борцом Таисия Викторовна, и вот все пятеро живут уже по три года. Последней эту заветную черту сегодня перешла якутяночка.
Таисия Викторовна ликующе выглянула из-под мужниной руки, как из нерушимого убежища, хватила частушку:
— А тебе, малышка, не кажется, что кто-то преувеличивает? — иронично глядя сверху вниз, весело спросил Николай Александрович, из-за спины вынося и подавая в поклоне жене букет из пяти роз. — Я всегда помнил… Я ждал этого дня… Я верил… С успехом тебя! Пять жизней — пять роз!
— Пять жизней — пять роз… — мечтательно повторила Таисия Викторовна. — Хорошо сказал. Спасибо. Жизнь — цветок… И во власти человека, увянуть цветку или расцвести… Как-то недавно Катя явилась в диспансер на проверку. В регистратуре долго искали её карточку, наконец нашли в ячейке, где стояли карточки умерших. Представляешь! Ее уже считали давно покойницей, выписывали-то совсем в плохом состоянии…
Вспомнилось им и то, как напрасно хлопотала Катя насчёт заменной жены своему Игнатику. Не припало Игнатику вдруголя жениться. И Катя рада, и Игнатик не горем повит. Вовсе не бил Игнатик клинья под вторую женитьбу. Как ни завороти клевучая судьба, не женился б всё равно. А что подменку приводил, так то одна видимость. Для Кати и старался, водил, чтоб её успокоить. Уклянчил у себя в цехе приятеля, и тот дал своей молоденькой жене-девчонишке поручение: набегай вечерами, стряпай-бегай по дому. И только. Безо всяких там кренделей. Да какие ещё могли выскочить кренделя, когда цвела уже замужем за любимым?
— Умница! Великая ты у меня умница! — сказал Николай Александрович. — Да вот думка давит… Живи твой татко, пришлось бы ему ай и краснеть. Ну, как он мог назвать тебя Тайгой?
— Точно так же, как твой назвал тебя Николаем.
Герой японской кампании, её будущий отец вернулся с войны к бедняку отцу в глухое местечко под Каменец-Подольском. Оженился, а земли носовым платком закроешь. И поехал отец переселением вместе с женой да с двумя своими младшими братьями в Нарымский край. В Нарым людей слали в ссылку, а эти своей охотой шатнулись за вольной землёй.
В Нарыме земля немереная. Разве что ведьма её одна мерила, да и та аршин потеряла не то в болоте, не то в тайге.
Ну, сели братья в поселочке Золотом.
Раскорчевали ложбистый лес, посеяли хлеб.
Хлеб — из тайги, живность какая — из тайги, ягодка, гриб — из тайги, дрова — из тайги, травонька какая живая — из тайги… Тайга кормила, тайга одевала, тайга согревала, тайга лечила, тайга веселила… Куда ни крутнись, всё тебе валом валит тайга. А ты-то, человече, что ей в отдачу подашь?
Отец как разумел, так и заплатил тайге.
Первеницу Тайгой назвал.
В метрику так и бухнули. Тайга! Тайга Викторовна!
Весь Золотой рты распахнул. Ну хохол! Ну вовсе тайга тайгой![19] И большатка[20] у тебя Тайга. Как же дочке с эким срамным да увечным именем в народе жить?
Отца подпекали, подкусывали и те, и те, а он в дыбки: «Твоё мытьё на моё бельё — и не надь!» Мол, не мешайся в чужую кучку.
Была маленькая, звали Таёжкой. Всем нравилось.
Вошла дочка в года, могла сменить имя, да не стала. Самой легло к сердцу лучше лучшего. А в миру навеличивали её чаще Таисией, вроде привычней так, уважительней. Она и на Таисию с охоткой откликается, негордая…
Уже дома, на скрипких ступеньках, когда поднимались к себе на второй этажишко, Николай Александрович полушутя спросил:
— Таёжка! Ну когда у тебя торжественный выход из подполья?
— Как и намечала… Завтра в девять ноль-ноль. Поклялась родом и плодом, дала зарок, если эта пятёрка осилит три года, ко всем чертям бросаю лечить в секрете, берусь открыто в диспансере. Почему от пирога народного опыта могут отщипнуть и то украдкой лишь редкие счастливцы, а не все больные? Пирог-то черствеет, зря пропадает.
— Ты у меня бабинька-ух, масштабно загребаешь! — вскинул палец Николай Александрович.
— Иначе, ёлкин дед, зачем я?
— Думаешь, главный возрадуется твоему выходу?
— Думаю, будет приятно удивлён, налегке шокирован, но не запретит. Всё-таки у меня ни одного компромата. Всё хорошо, хорошо, хорошо. Без борца мне б так до дуру не хорошило. Я у него вроде восходящая звёздочка, всё повышает, всё повышает… Ординатор-гинеколог, консультант-терапевт, завотделением, зав организационно-методическим отделом. Это тебе не баран чихал! Как отбрыкивалась, как просила: ну двиньте на отдел Желтоглазову, вместе учились, знания одинаковые. Может, страшные завидки перестанут её ломать, может, бросит злиться, как хорёк. Лыбится наш Золотой Скальпель: «Не могу-с Желтоглазову. Они хоть и академическая племянница, в просторечии племянница самого Кребса, но, извините, основательно глупы-с, основательно тупы-с…» Что главный, наш Золотой Скальпель… Я, Кока, в саму в свет Москву скакану, в минздраве доложу. Это будет тесно на планете!
Николай Александрович с укором, рассеянно окинул жену, угадывая, что это она, и не угадывая.
— Ух ты и воспарила… Говори да оглядывайся… Не лишку ли замахиваешься? Так тебя министр и принял! А лететь в Москву… Поздороваться с министерским вахтёром… навар невелик. Ну, в лучшем случае выпоешь ему, он-то со скуки послушает. Одначе… Не с докладом… Как бы… Ну да чего названивать? Как бы какой ушлый, проворливый активник не уморщил, не сцопал твой методишко. С заявкой на авторство надо ехать! Вот… Это серьёзно… В тяжёлую телегу, крошунька, ты впряглась… Да, время наше… не ахти… Пора захоронения идей… Если твоя затея с борцом в кон… на конце концов лопнет мыльным пузырём, тебе будет проще, легко отделаешься. Но если завяжется толк, завистники, кусливые завистники ещё покатают тебя в грязи! Ух ка-ак по-ка-та-ют! Чует моё бедное сердце рентгенолога… Видит…
6
Главный врач диспансера хирург Грицианов по прозвищу Золотой Скальпель — он слышал, что за границей отличным хирургам дарят золотые скальпели, он до смерти хотел иметь такой скальпель, это знали все в диспансере, — Грицианов воспринял путаную, с девятого на десятое, исповедь Таисии Викторовны до неправдоподобия, до бестолковости радостно.
— Таисия!.. Викторовна!!.. Голубушка!!!.. Что ж вы раньше молчали?
— Ну… раньше… Это было раньше…
— Ай жа скромница! Ай жа мы! А ведь, — Грицианов церемонно поднёс руку к мохнатой груди — ворот серой рубашки был расстёгнут, из-под неё круто, дико курчавилась смоль волос, черно забрызгивая и края рубашки под горлом, — а ведь я чувствовал. Чувствовал! Только ума не дам… Гляжу, что-то у других народушко снопами валится, а ваши как ваньки-встаньки вскакивают да домой, да сшелушивают с себя проклятущую инвалидность… Думаете, за синие за глазки я вас поднимал по табели о рангах? Ей-ей, чувствую, кто-то в вас засел и сидит. Бес не бес, но силён. На поверку я не ошибся. Борец в вас засел. Сам борец в помощнички пристегнулся! Сам Самыч! Борец! — Грицианов дурашливо хохотнул. — Без клоуна! Фильм такой был. «Борец и клоун»…
В каком-то безотчётном угаре Грицианов сыпал слова, блаженно тянул широко раскрытые ручищи с угрюмыми чёрными щётками волос на пальцах, будто готовясь что-то взять, что подавали ему, тянул вперёд по краям стола, по ту сторону которого бочком сидела Таисия Викторовна, и чем дальше пускал он руки, тем всё ощутимей слышал желанное тепло невидимого божественного костра.
Лет десять назад Грицианов защитил кандидатскую.
Звание кандидата его не грело, с ним ему было как-то неуютно, холодно, и он полубрезгливо, полужалеюще под случай дразнил себя кандидатом в человеки. Выскочить в человеки значило отстоять докторскую.
Аредовы веки бился он над докторской, аки лев, бился «львояростно», что, однако не мешало ему с постоянным успехом взбулгачивать в надсадной пляске лишь старую, усталую пыль. Докторская не вытанцовывалась, по-прежнему была пустенькая, тощенькая, дохленькая. Одно слово, беззащитная.
Тут только и вздохнёшь: хоть и погано баба танцюе, зато довго.
И вот теперь, когда он собственными ушами слышит, что во вверенной ему Богом заведенции творится этакейская чудасия, он хмелеет от восторга.
«Наша Дунька не брезгунька, чужой мёд так ложкой жрёт! — со злым умилением думает он о себе и, уже твёрдо не слыша Таисию Викторовну, уходит весь в раскладку, как это он навалится чужой мёд убирать. — Ну-с, раскинем щупальца. Кто есмь я? — В ответ он подобрался в кресле, осанисто развёл, растоперил плечи. — А кто такая, извините, Закавырцева? — Скользкая усмешка лениво помялась у него на лице и пропала. — Невелика крендедюлина… Уж точно, не какая там Жозефинка,[21] а всё про всё диковатая Тайга. Приплясывать, ломать колени, увы, не перед кем. Рядовая… врач-практик… Так… лёгенькая закавычечка, на гладком месте шишулечка… конопушечка, букашечка, пчёлучка… Правда, плодовитенькая. Что выдаёт — экстра. Этого не отнимешь. А мы, упаси Бог, и не отнимаем. Всё вокруг общее, всё наше! Дружно заклеймим позором звериное слово моё. Дружно воспоём прекрасное наше. Всё — наше! Мудрая природа разве зря толкует: не на себя пчёлка медок растит, не на себя работает? Не возражаю, пускай работает. А мы своё по праву возьмём. Из чужого… брр!.. из нашего костерка выхвачу горящее полешко… другое… пятое, десятое… Выворочу поувалистей, разведу свой персональный костерок. Неправда, согрею зазябшие руки… Сабо самой… Отогреется, глядишь, наша докторская и стронется, великомученица, с мёрзлой точки… Ну, Грицианов, не спи, а то умёрзнешь!» — млея, приказал себе Грицианов и преданно-ликующе уставился прямо в зрачки Таисии Викторовне.
Таисия Викторовна сконфузилась, потупилась.
— Вот вы, — глухо забормотала, — спрашиваете, почему раньше не говорила. А как говорить? Раньше не было пятёрки, прожившей три года, не было многих других, кого поставила на ноги борцом… Вот теперь… Вы видите, дело стоящее. Это вам не баран чихал! Надо продолжать работу с борцом… — На миг она запнулась и бухнула, как в лужу, первое, что упало на язык: — Если сомнём… человечество нам не простит…
Сильно морщась, Грицианов обеими руками замахал на Таисию Викторовну:
— Ой-ой-ой! Кислый вы агитатор… Так и передайте вашему человечеству, нечего ему, дорогому, беспокоиться. Да пусть знает, что в эту в историческую минуту… — Грицианов сановито выпрямился в мягком кресле, вмельк глянул на часы на стене, — пусть знает ваше глубокоуважаемое человечество, что в девять часов двадцать минут сего дня и сего года в моем лице ваш могучий борец получил преданнейшего друга! Что друга… Слугу! Пока я горячий, требуйте, сабо самой, что хотите! — на патетической ноте, облитой фальшью, закончил Грицианов и с чувством высоко исполненного долга рассвобождённо откинулся на спинку красного кресла.
Таисия Викторовна как-то с недоверием, оробело покосилась на главного. Неужели всё это правда? А если это розыгрыш? А если он мне глаза туманит?
Грицианов в нетерпении отдёрнулся от алости мягкой спинки. Её молчание ущипнуло его чуткое самолюбие.
— Что же вы ни слова? — отечески гневливо бросил он. — Не верите? Так я повторю… Пока я горячий, требуйте, что хотите! — И заторопил: — Ну требуйте! Требуйте! Пожалуйста! Ради нашего борца последнюю рубаху с плеча!
Грицианов взялся за манжету.
Таисия Викторовна в спехе выкинула перед собой в защите ладонку:
— Нет! Нет!
Грицианов и не отдавал рубаху. Он просто поправил у себя манжету, поудобней сел в кресле и только. Смутно подумал, на миг зацепившись вороватым глазом за молодые её вкусные плечи: «Своя рубашка ближе к телу, а без рубашки ближе к делу… Мхмм…»
— Без паники! — сказал он. — Рубаха мне и самому нужна. Просите, пока…
— Не остывайте ввек по веки… Никогда не остывайте к борцу… — жалко выдавила она.
— Вечное кипение я вам, сабо самой, гарантирую, — постно сронил Грицианов. — Что ещё?
Таисия Викторовна ужалась спиной в жёсткий стул и пискнула. Она хотела сказать тихонько, клянчаще, как и надлежит молящему милостыньку, но голос у неё совсем съехал, из неё выпал какой-то умученный писк:
— Мне б уголочек…
— Это уже что-то по теме! — подхвалил Грицианов. — Уж кому я от души сочувствую, так это вам, — с протягом вздохнул он, деланно-неловко пряча глаза. Этой игры Таисия Викторовна не заметила. Грицианов был большой притворяшка. — Кабинетец у вас не из показательных. Прямо говоря, показательная жмурня[22] в миниатюре. Без меры холодная… образцовое трупохранилище… Без меры тёмное, без меры тесное. Надо и исследования проводить… Да вам целую по-хорошему лабораторию нужно! И приличный кабинет, и лаборатория будут! Ловите на слове. Ради человечества приношу в дар вам свой кабинетище, а сам, — он бросил глаза на верх окна, где под крышей желтело старое гнездо, — а сам в ласточкину резиденцию. Оттуда стану чирикать-предводительствовать. Не улыбайтесь… Пока весна, у пташек потомство… не выселишь… А вот брызнут птички по югам, ключ от этого кабинета будет у вас!
Какая весна, когда на дворе ещё зима? Где какие птички?
Таисия Викторовна смолчала про птичий каламбур.
Неси, что угодно, лишь бы к делу правился.
Раньше прилёта птиц увеялся Грицианов на юг, в отпуск.
Ключ отдал Таисии Викторовне:
— Можете вести приём в моём кабинете.
Не чуя под собой ног от радости, она весь месяц носила его ключ с собой, но в кабинет так и не посмела войти. Да в кабинете ли счастье? Главное, на конце концов лечила она в открытку, не таясь. А большего ей и не надо.
Но всякое счастье границами мечено.
Возвращается утомлённый ласками юга, местами, кажется, слегка обугленный Грицианов, а ему ещё в его приёмной с трепетом вручают правительственную телеграмму.
КОМАНДИРУЙТЕ МОСКВУ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ВРАЧА ЗАКАВЫРЦЕВУ ВСЕМ МАТЕРИАЛАМИ ЛЕЧЕНИЯ РАКОВЫХ БОЛЬНЫХ РАСТЕНИЯМИ = ЗАМСОЮЗ МИНЗДРАВ КОЧЕРГИН
Вот тебе и дуда!
Вызвал Грицианов Таисию Викторовну. Открыл кабинет, впустил её первой, и ключик ткнул себе в карман.
И всё это молча, сопком.
Таисия Викторовна шуткой-пробауткой и напомни:
— Ласточки вроде ещё не прилетели.
— Главная ласточка, извините, прилетела, — мрачно показал на себя Грицианов. — И там ей, — потыкал в верх окна, в летошнее гнездо, — оченно тесно.
Таисия Викторовна не поймала, шутил он или не шутил.
Под конец какого-то кислого и пустого послеотпускного разговора он чуже пошатал головой:
— Я вот, мягко говоря, удивляюсь вам… В мой отпуск вы, правда, в отгульные дни, осчастливили Москву своим визитом. Сколько пели мне про всякие достопримечательности, которые вы удостоили своим высоким вниманием и любезно посетили. Но что же вы и не заикнулись, что летали в минздрав?
Таисия Викторовна дрогнула.
— А разве что-нибудь есть?
— Вам ничего нет и, сабо самой, не ожидается. Идите.
Грицианов чувствовал себя околпаченным. Провести стреляного воробья на соломе! Ухватистая ж пташка! Тут глазки не смеет поднять, еле чиликает этакой невинной канареечкой, через стол не совсем разберёшь, а её чиликанье слышно в Москве!
Про телеграмму он умолчал. Сделал вид, что никакой телеграммы не было. Однако это вовсе не означало, что её действительно не было.
«Она не сказала мне, что самоволом была в министерстве, я не сказал про телеграмму. Следовательно, мы квиты», — подвёл он черту и забыл думать о какой-то там телеграмме.
А через неделю уже ей домой пришла телеграмма.
ОБЛАСТНОМУ ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ ДИСПАНСЕРУ МИНЗДРАВОМ СОЮЗА ДАНО УКАЗАНИЕ КОМАНДИРОВАТЬ ВАС МОСКВУ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СООБЩИТЕ ЛЕНИНО ДАЧНОЕ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ВРЕМЯ ПРИЕЗДА
=ДИРЕКТОР ИЦКОВ
Растерянная, раздавленная неизвестностью она молча отдала Грицианову свою телеграмму. Он наискоску пробежал её безразличным взглядом, кинул на стол вниз лицом.
— Гм… Видали, сообщите им время прибытия английской королевы!
Таисия Викторовна механически подтвердила:
— Да, да… Время…
— Так вот и сообщите: ни-ког-да!
— По… почему?… Меня ж не на блины…
— Не знаю.
Таисия Викторовна опало выдохнула:
— Бы-ыстро вы откипели… Что случилось?
— Это вы спросите себя. И вообще, кто старое помянет, — Грицианов силой заставил себя состроить улыбку, — тому кое да что долой!
— Согласна. И всё же почему вы отпихиваетесь от борца?
Грицианов отяготительно подпёр щёку рукой, с горькой иронией молча закивал:
«А потому, что дарило уплыло, осталось одно купило, как говаривала одна бабуся. Борец уплыл, остался один клоун… покорный ваш слу-га-с… Разбежался хренов бабай подпереть свою докторскую борцом, а ты на весь свет и раззвони про борец. Даже в самой в Москве уже знают! На кой же чёрт мне теперь „дружиться“ с тобой да целовать пуп тебе? От тебя, канареюшка, теперь и крошку не умкнуть… Всем же известно, кто подлинный автор, а кто примкнувший болванище… В таком разе я и вообще нахлопну твои борцовские штукенции! Вот только дай разойтись туману, вот только дай послушать, что ещё сыграет на флейточке нам свет наша белокаменная…»
7
Через облздрав достучалась Таисия Викторовна, пустили её в Москву.
Прилетает в министерство, а ученый совет, куда звали, уже прошёл, отшумел. Без неё совет рассмотрел её заявку, разрешил клиническое испытание борца.
Врасполох узнала про всё про это Таисия Викторовна в приемной министра и на радостях пустила росу, а там и вовсе разлилась навзрёв.
Её успокоили.
Говорят, поберегите слёзы, они вам ой как ещё понадобятся, а сейчас к делу. Готовьте настойку, пишите инструкцию, как ею пользоваться.
Таисия Викторовна приоткрыла на ладошку дверь, увидела, что Грицианов не один, а с Желтоглазовой, дёрнула к себе ручку.
— Не-ет! — крикнул Грицианов. — Вы уж окажите, пожалуйста, милость. Войдите уж, пожалуйста! Тараньте нам поскорей московские новости.
Делать нечего, он видел, надо идти.
Как-то боком, опасливо Таисия Викторовна пошла к Грицианову за столом.
— Вот… — с облегчением проговорила, подавая вспотевшими руками министерскую папку.
Грицианов настороже раскрыл её, вонзил глаза в первый же лист.
— Ба-ба-ба! — холодея от ужаса, пробубнил он, подсаживая очки на лоб.
Очкам не хотелось лезть на лоб. Они то и дело валились на мягкий, мясистый нос. Раза три Грицианов подсадил их снова, пока они наконец-то не присмирели на лбу.
Грицианов подал папку Желтоглазовой, сидела рядом, и та, меняясь в лице и в страхе выбурив шарёнки, потянулась к папке безо всякой охоты, не дотянулась, на полпути задержала свои руки, а дальше подать ей папку у главного не было ни сил, ни видимых желаний. Так они и глядели в недоумении друг на друга со встречно выставленными руками.
— Да возьмите же! — шёпотом прикрикнул Грицианов, и Желтоглазова, точно пришпоренная лошадь, вздрогнула, инстинктивно дёрнула к себе папку, видимо боясь того, что было в ней. — Читайте!
Желтоглазова тупо пялилась то в верх лощёного листа, то на Грицианова, трудно хлопала жёлтыми глазами, а ни слова не могла произнести, хотя и порывалась.
Грицианов выжидательно поставил локти по край стола, срезанно уронил подбородок на сцепленные пальцы.
Закавырцева держалась за спинку свободного стула, всё не решалась сесть.
Он пригнул мизинец. Садись!
Повинуясь, та бесшумно села.
«Ты привезла, — думал он, — смертный приговор моей докторской. Теперь ты мне нужна, сабо самой, как медведю летом пимы. Больше мне с тобой дипломатию не размазывать… Не спи, Грицианов, а то умёрзнешь! Война! Война! Открытая!.. Третья мировая война!»
Он покосился на Желтоглазову — всё не решалась начать читать.
— Вы что? Читать не можете?
— М-могу… я м-могу… — И быстро перенесла взгляд на лист. — «Утверждена фармакологическим комитетом ученого совета Минздрава СССР 12 февраля 1955 года… Инструкция номер 194 по клиническому испытаю настойки борца, приготовленной по госфармакопее, для лечения раковых больных…»
Она спрашивающе посмотрела на него. Он пошевелил мизинцем. Довольно!
Она опустила папку на стол.
— К счастью, — сожалительно сказал Грицианов Таисии Викторовне, — вы нас не огорчили и не обрадовали. А только, сабо самой, озадачили.
— То есть? — тихо спросила Таисия Викторовна.
Грицианов что-то сказал, но Таисия Викторовна не услышала его. И вовсе не потому, что у него вдруг голос пропал, а потому, когда он, отвечая, не без злого поджигающего укора глянул на Желтоглазову, и та, поняв его злой взгляд как команду к нападению, заблажила по-бабьи визгливо, сорванно, так что забила и грициановский голос:
— Почему вы работали за спиной учёных?… Почему с ними не делились?… А теперь мы на вас гни горбушку? Н-не ж-жалаем!!!
— Простите, это вы-то учёные? — мягко, выдержанно уточнила Таисия Викторовна у академической племянницы Кребса.
Кребс пока профессор.
Но будет же он когда-нибудь академиком, и его любимой племяннице загодя, авансом щедрая молва прилепила титул академической.
— Есть учёные и повыше! — Желтоглазова обеими руками повела в сторону Грицианова и, брезгливо ударяя ладонью о ладонь, как бы стряхивая с них пыль разговора, недостойного её, демонстративно вышла.
— Это, — Грицианов посмотрел на закрывшуюся дверь, — был голос, так сказать, народа, рядовых врачей. А вот голос руководства…
Грицианов подвигался в кресле, угнёздываясь поудобней, попрочней, и, выдержав паузу, похолодел лицом.
— Тайга Викторовна…
Таисия Викторовна напряглась.
Когда Грицианов хотел выпятить крайнюю степень недоброжелательства, всегда называл её по паспорту. Тайга Викторовна. С одной стороны, вроде строже, официальней, а с другой уязвимей. Мол, что с тобой талы-балы городить, раз ты тайга тайгой!
— Уважаемая Тайга Викторовна! — не глядя на Закавырцеву, сухо забунтил Грицианов, зажёвывая концы слов. — Я главный врач и, следовательно, отвечаю за проводимые в диспансере лечения… Я считаю данные эксперименты в условиях нашего диспансера неприемлемыми.
— Сердце не терпит… странно… — поникло возразила Таисия Викторовна. — Пока… От таких новостей и язык потеряешь… Пока о моём препарате знали лишь вы да я, вы разрешали его применять. А сейчас, когда препарат одобрен министерством, когда само министерство официально рекомендует испытать его у нас в диспансере непосредственно под моим наблюдением, вы вдруг зарачились напопятки?
— Ну… Что было вчера, — Грицианов мягко прихлопнул обеими руками по столу, — то было вчера. А сегодня — это уже сегодня. Каждый заблуждается, и каждый по-своему…
Грицианов замолчал. Он не знал, что ещё сказать.
Молчала и Таисия Викторовна.
Молчание явно затягивалось.
«Грицианов, не спи, а то умёрзнешь!» — подстегнул он себя, и это придало ему духу, у него разыгрались глаза, и он уже твёрже, напористей поломил вслух:
— Вот сейчас я узнал, что ваши, казалось, невинные капельки выходят на вседержавную арену. Каюсь, я испугался. У меня, как говорил один дворник, ум назад пошёл… Ну… Дать эти капельки одному, двум, трём безнадёгам… Но когда дело ставится на государственный поток… извините, я на себя такого риска не беру. Я не хочу никаких экспериментов! Я врач, я лечу. Я хочу иметь уже готовые, проверенные препараты. Вы проверьте и дайте, я буду спокойно лечить. А экспериментировать в широких масштабах на людях… это знаете… Вы что же, думаете, у нас люди дешевле мышей? На мышах не испытывали — сразу давай на людях! Это не перехлёст? А потом… Мне, да и всему диспансеру неизвестно, какие именно больные фигурируют в представленных вами туда, в министерство, — он ткнул пальцем вверх, — материалах. Не знаю, был ли у них действительно рак, проводилось ли предварительное лечение лучами радия и рентгена, была ли надобность в применении ваших геркулесовых капель и тэдэ и тэпэ. Ведь всё это делалось вами лично без какого-либо контроля?
— А я, врач, что, не контроль? Или вы мне не доверяли? И — повышали? А десятки мною излечённых, кого вы лично смотрели потом? Вы что, себе уже не доверяете?
Грицианов скорбно сморщился.
— Ну, сабо самой, это не разговор… Что за базар? Доверяли, не доверяли… Одним словом, всё это заставляет меня возражать против испытания ва-ше-го препарата в условиях на-ше-го диспансера. Тем более, мы не научно-исследовательское учреждение. Мы не сможем объективно дать правильную оценку ва-ше-му методу.
8
Как на ватных, на неверных ногах, Таисия Викторовна вышатнулась из диспансера и машинально, без мысли во взгляде побрела по улице.
Пожилой чинный мужчина в тройке, при бабочке, ждавший её у выхода, насторожённо хмурится. Да куда это дурёку покатило? Или у неё семь гривен до рубля не хватает?[23] Пройти мимо и не заметить!
Короткотелый, точно обрубыш, непомерно тучный, с игрушечно-крохотной головкой с кулачок, невесть как прилепленной к экой раскормленной, оплывшей квадратно-гнездовой туше, с невероятно долгими, толстыми руками, напоминающими рачьи клешни, — да и весь он, рачеглазый, походил на жирного рака в строгом чёрном костюме-тройке, — с минуту ещё в маете ждал, полагая, что она опомнится, догадается, что жмёт вовсе не в ту сторону и повернёт назад, к нему, но она уходила всё дальше, теряясь в тугой весёлой апрельской толпе.
Он всплыл на цыпочки — её уже совсем не видать!
Он оторопело поморгал белёсыми ресницами и ринулся следом с той отчаянной прытью, с какой кидается зазевавшаяся старая гончая за просквозившей добычей.
— Тай Викторна!.. Тай Викторна!.. — аврально вопил он, тяжко пробиваясь сквозь людскую литую тесноту.
Суматошные крики догнали её.
Она очнулась, остановилась.
— Тайна Викторовна!.. Соболинка!.. Здравствуйте!.. — подлетая, бормотал он, задыхаясь с бега, тараща и без того сидевшие навылупке глаза и кланяясь.
Таисия Викторовна рассеянно улыбнулась.
— А-а, Борислав Львович… Вы…
— Я, я, Таёжка! Я!.. — захлёбывался он словами, плотно наклоняясь к её лицу, так что его могла слышать лишь она одна и крепко, будто железными тисками, беря её за локоть.
Она положила руку на его руку, до боли твёрдо державшую её за локоть, подумала столкнуть и не столкнула…
Познакомились они на первом курсе.
Ей было семнадцать, ему сорок два.
В молодости он много болел, в порядке исключения разрешили ему поступать в институт.
Сдавал Кребс вступительные вместе с Таёжкой.
Их зачислили в одну группу.
Уже в начале учёбы Борислав Львович нечаянно обнаружил, что ему улыбается случай стать мужем не только Таёжке, но и параллельно расшалившейся самой старенькой в округе кафедральной проказнице Люции Ивановне.
Он задумался и, кажется, горько затосковал.
Что делать?
К какому берегу кидать чалки?
Борислав Львович был серьёзный человек, обстоятельный. К тому клонили, обязывали высокие лета.
Как человек обстоятельный, осторожный, он занялся налегке бухгалтерией, севши за счёты.
Таёжка молода, соблазнительно хороша. Всё пока чики-брики. Одно очко. Но!.. Положение — ноль. Перспектива — прозябание где-нибудь в нарымской Ривьере по распределению. Минус очко. Итого имеем круглый ноль. Полный трындец! Лешак его знает, что за жизнь? Кроме вечного рака головы[24] что с нею наживёшь? Потрясение мозгов!
Прокрутим вариант с шалуньей Люцией Ивановной.
Люция Ивановна достопочтенна, скромно говоря, николаевская невеста, но искренне тянется в соблазнительно хорошенькие. Желание вполне похвальное, однако, увы, неисполнимое: она на двадцать пять лет старше Бориски. Знамо дело, при всём горячем желании это в плюс не впихнёшь. Минус очко.
Ах, этот минус! Сдвинуться с ума!
Борислав Львович осерчал на закон.
Ну что это за закон — нельзя взять даже две жены? На востоке вон раньше табунами огребали и ничего, сатана тебя подхвати!
Нам табун не нужен, нам и две достаточно. Мы скромны, мы без байских замашек. Нам бы к красоте и молодости Таёжки пристегнуть всё то, чем владеет Люция Ивановна — и мы на гребне сбывшейся мечты! Сразу б начало светать в мозгах.[25] Полный же шоколад!
Но — закон-жесткач!
Выбирай. Эта на двадцать пять моложе тебя, та на двадцать пять старше тебя. Кругом пендык! Как выбирать?
Борислав Львович покопался в пустоватых закоулках своей памяти, вымел кой-какую любопытную мелочишку. Вспомнил, что отец Конфуция был старше своей жены на 54 года, отец Бородина на 35, Бальзака на 32, Гончарова на 31, Генделя на 29, Лондона на 24, Гёте на 22, Ковалевской на 20…
Это выбрыки папашек гениев.
А что же сами гении?
Имре Кальман выпередил свою благоверную почти на тридцать, Достоевский на двадцать пять, Сталин на двадцать, Толстой на восемнадцать…
И кинь-верть, и верть-кинь — всё равно. Всё льётся в одной колее. И у сынов трактовка отцов.
Под момент вспомнилось, что «в процентном отношении больше всего выдающихся людей родилось у отцов в возрасте 37–39 лет (пик рождаемости талантов)".
Ну, заоправдывался Борислав Львович, нам талантов не рожать, поезд с нашим пиком убежал. Однако мужики — козлы вертоватые. Всё токуют подле свежатинки, подле батончиков. Молодых завлекалочек и так разнесут на руках по загсам, да кто ж пожалеет стареньких?… Какой-то антикварный баян?…[26] Безнадёга?…
«Я как Достоевский, только наоборот», — коряво подумалось.
Его подпекало вывернуть себе оправдательный пример из истории, чтоб с маху затыкать злые рты. Но, как он ни бился, ничего утешительного на ум не набегало, выгреб лишь один пустячок. Отец Ивана Тургенева был моложе своей жены на пяток годков. Не густо-с…
«Зато я сигану на все двадцать пять! Первый и последний в мире. Только запишут ли в историю мой подвиг?»
Цена подвига его согревала.
Он знал, что большие года не единственный и не самый крупный бриллиант башливитой Люции Ивановны.
Смотри да считай!
Варяжистая Люция Ивановна — кафедральная старушечка. Заведует кафедрой акушерства и гинекологии. Ни больше ни меньше. Его Величество госпожа Кафедра! Плю-юс очко.
Профи, то есть профессор. Опя-ять очко.
Как ни странно, Люция Ивановна, извините, невинна. Говорят, ещё в начале века она вроде окончила и институт благородных неваляшек. Гордая неваляшка! По слухам, всё со звёздочкой[27] — не с октябрятской! — скачет. До шестидесяти семи донести невинность и не расплескать — это вам не засушенный фиговый листок сохранить меж книжных страничек. Хоть с натяжкой, но это то-оже плюсишко.
Дальше. Бежим дальше.
Кончает Боба институт, остаётся, примирает при кафедре. Плюс.
Люция Ивановна по ускоренной схеме лепит из Бобы учёного льва — в две тяги ватлают кандидатскую (участие Бобы чисто символическое), и Люция Ивановна защищает её от провала. Плюс.
Потом защищают докторскую. Плюс.
Боба тоже уже профи, то есть профессор. Плюс.
Боба берёт в свои белы ручки кафедру, а Люция Ивановна гарантирует её передачу именно ему, поскольку туда просто не принято брать. Плюс.
Потом Люция Ивановна вообще удаляется. Сделала дело, умирай смело!
Аlles oder Nichts! Всё или ничего!
Говорят, в горячности разум теряешь. Но это, пожалуй, не про Бобу. По его сведениям, он ничего не потерял.
И Таёжку, и Люцию Ивановну он высоко оценил, ту и другую назвал кучками золота. Недолго — век-то жить не в поле ехать — он горевал, сидя между этими кучками. Сказал себе: из двух кучек золота выбирай бóльшую и, не колеблясь, выбрал Люцию Ивановну со всеми её обременительными причандалами: с её заплесневелой, престарелой невинностью, с её професссссорством, с дорогой кафедрой и пр. и пр. Брать так брать всё в комплексе. Как комплексный ужин. И он мужественно взял госпожу Кафедру.
Лихая бухгалтерия!
А вместе с тем и точная.
Всё так и повернулось, как Борислав Львович наплановал.
Он давно профессор. Кафедра давно его. Люции Ивановны давно уже нет и в помине. Сделав дело, как-то не стала долго без толку толочься. Позвенел сладкий звоночек. Природа позвала к покою, ко сну, и Люция Ивановна, как-то смирно, стандартно поохав, угомонилась. В общем порядке подала заявление на два метра и ей великодушно не отказали.
Таисия Викторовна всё же содрала его цепкую руку с локтя.
Кребсу это не понравилось, и он, перебарывая себя, натянуто хохотнул:
— Так вы домой?
— А куда ж ещё вечером?
«Ух и пуржит жизнь! Ух и пуржи-ит! — веселея, подумал он. — Видать, этот савраска без узды, Грицианишка, чувствительно тебя тряхнул, если, возвращаясь домой, скачешь ты, дорогая наша бухенвальдская крепышка,[28] в противоположную от дома сторону!»
А вслух проворковал, мягко, по-рысьи ступая рядом и влюбовинку оглаживая рукав её отёрханного, ветхого пальтишка:
— Позвольте вас, русяточка, уведомить. Пока вы удаляетесь от дома.
Таисия Викторовна стала, неверяще огляделась.
«И правда… Вот глупёха! Совсем памороки забило…»
Её полоснуло, что совсем чужой человек оказался невольным свидетелем её беды.
— А вам-то что нужно от меня? — пыхнула она. — В провожальщиках я не нуждаюсь. Откуда вы взялись?
С ласковым укором — детям прощаются капризы! — Борислав Львович погрозил пальчиком:
— Не позволяйте себе так грубить заслуженному работнику органов.[29] Не спешите меня изничтожать. Я вам иэх как нужен!
— Вы — мне?
— Я — вам. Потерпите, чудо увидите!.. Я был у себя дома, — широко, наотмашку вскинул он руку, показывая на закиданное облаками тёмное небо. — Вдруг входит ко мне в келью сам Господь Бог и велит: раб мой, доброму человеку худо на земле, спустись помоги. Вот я и возле вас…
Таисия Викторовна брезгливо покосилась.
— Театральничать в ваши годы — тошнотно видеть. У меня сегодня гадчайший день. Хоть глаза завяжи да в омут бежи… Я потеряла всё… — надломленно пожаловалась она.
— Сегодня у вас самый счастливый день! Сегодня вы приобрели всё! — властно возразил он, целуя её в руку. — Как вы говорите, это не баран чихал! Рано вам ещё бросаться с баллона![30]
Она удивилась, почему дала ему поцеловать, почему не выдернула руку. Она пристыла в напряжении, отчего-то ожидая, что скажет ещё он. Она почему-то поверила тому, как он всё это сказал.
— Сверху прекрасно видать всю смехотворную мышкину возню. Вы ещё не вышли из грициановского гнезда, а я уже дежурил у выхода. Не надо мне ничего рассказывать, я знаю всё, о чём вы там говорили, чем всё кончилось. А теперь скажу я. Единственный человек, который потерял… действительно потерял сегодня всё, — это сам Грицианов. Да! Да! Не удивляйтесь. Вам одной круто. Одной рукой и узла не завяжешь… Как вы думаете, зачем я здесь? Неужто станет орёл мух ловить?
Таисия Викторовна пожала плечом и медленно взяла назад, к дому.
Слегка наклонившись вперёд, Борислав Львович посыпал шажки рядом, ставя ноги шире обычного, надёжно, будто шёл по кораблю в штормовом море.
9
— Не смотрите, милочек, что я вьюноша далеко не первого разлива… У старого козла крепче рога. Я ваша вторая рука… Я человек простой…
Таисия Викторовна вежливо кивнула и насмешливо подумала:
«Простой как три копейки одной бумажкой…»
Она знала, не тот Кребс человек, кто с пуста шатнётся в драку. Этот аршин с шапкой не кинется с пуста ломать рога.
— И каковы в таком случае ваши условия? — прямо спросила.
Кребс не ожидал такого вопроса в лоб и с мелким, неохотным смешком ответил уклончиво:
— Не паникуйте за свою долю. В любом случае половина яйца лучше, чем целая, да пустая скорлупа.
Она тоже перешла на ироничный тон.
— Спасибо и за половинку… Не обошли… Но не рано ли делить яйцо, которое ещё не снесено?
— Вот! Вот! — подхватил он. — Курочка в гнезде, яичко кой-где, а мы бегаем вокруг курочки с раскалённой сковородкой… Милуша, умерьте ваш пыл. Если думаете, что изобрели ах штучку, то… Ходит меж учёными одна кислая байка. Некто изобрёл нечто и требует: признавайте. Ему говорят, прежде чем требовать признания потрудитесь хоть пролистнуть всю английскую энциклопедию за последние этак лет двести, нет ли уже там вашего изобретения. Посмотрел, не нашёл. Говорят, ну полистайте теперь всю французскую. Нет и во французской. Настаивают, берите немецкую. Взял. Нету. Ему и отвечают: если нигде, ни в одной энциклопедии нету вашего изобретения, то кому такое оно и нужно?
Усталая улыбка безучастно потрогала её лицо.
— А вы… А вы всё такой же, неисправимый болтунок.
— Увы. Только гробовая доска исправит.
— Похоже. Никакие вас годы не мнут.
— Слабó им! — торжественно приосанился Кребс. — Не кисляйка какой, чтоб поддаваться годам. Я сам их ломаю… Кого хотите сломаю, но горя к вам не подпущу! — с неожиданной серьёзностью намахнул он.
— Это что-то новое…
— И я попробую открыть вам на него глаза, мамочка, — вкрадчиво сказал Кребс, цепко беря её за локоть.
Она не сняла его руку с локтя. Напротив. Пошла тише, ладясь под его короткий шаг, напуская на себя беззаботность:
— Сделайте уж милость, откройте, пока странное любопытство подогревает меня.
— Знаете, что в городе о вашей доброте ходят легенды?
— Даже так? Это очень плохо?
— Очень! Почему вы бесплатно раздаёте свои чудодеи капельки, как навеличивают вашу настойку? Откуда такая бессребреница? О натюрель!.. Я преотлично знаю ваше генеалогическое древо и что-то не выудил из анналов старины, что оно от рокфеллеровского корешка! Разве вы берёте корень у барыг за спасибо? Разве спирт на настойку вам тоже дуриком достаётся? Так чего ж вы своё отдаете за так?
— Я отдаю больным.
— А разве аптека продает лекарства только здоровым?
— Так то аптека. У меня и мысли не было брать деньги.
— Ах, какие мы добренькие! Ах, какие мы хорошенькие! Да похвалите, пожалуйста, нас поскорей! Может, кто-то и хвалит, да есть и — хохочут! Вы стесняетесь взять с человека своё заработанное честно, а он, умняра, не стесняется доить вашу доброту. Раз по разу берёт и берёт у вас пузырёчки. Ему уже и не надо, а у него руки зудятся, горят нашаромыжку потянуть с ротозинихи, коль можно, и, не в силах удержать себя, берёт дальше, берёт на всякий аховый случай. И такой случай наворачивается. У вас кончилось. Вы с извинениями говорите больному, что пока нет настойки. Он в печали уходит от вас, а на углу его… в конце вашего же тупичка… у вас же в вашем Карповском переулке, перехватывает шельмоватый этот запасливый хомяк, про запас нахапавший внахалку выше глаз, и предлагает ваши же капли за бешеные капиталы! И тот по-ку-па-ет. А куда деваться?
— Ну, чего сплетни сплетать?
— Это правда, но не главная правда. Главная правда в том, что там, — Кребс яростно потыкал оттопыренным большим пальцем за плечо, назад, где был диспансер, — вас уронили, а здесь, — величаво повёл рукой вокруг, — а здесь, на тёмной этой улице вас подняли! Да не без моей помощи. Помните, ребёнок растёт, падая и вставая… па-дая и вста-вая, па-дая и вста-вая… В эту минуту вы получаете в моей институтской клинике десять коек… Испытывайте на здоровье свой борец!
— Что вы сказали? Повторите… — остановив дыхание, одними губами прошептала Таисия Викторовна.
Кребс подумал: «Разве краб проживёт без клешней?», а вслух сказал:
— Ничего особенного… Жалко, почему вы раньше мне ни гугушки про своего борчика? Без митинга я б отстегнул вам места, оградил бы от десятого вала грициановского кланчика… Ну-с, с этой минуты, милочек, у вас, повторяю, десять коек в моей клинике. Работайте на здоровье. И вот вам на верную помощь моя рука.
Он барски подал ей руку.
Она в растерянности взяла её обеими своими руками, прижалась к ней щекой и заплакала, наклоняясь перед ним всё ниже, ниже.
Кребс всполошился.
— Таёжик! Что вы делаете? Не плачьте… Поднимите лицо… Прохожие что подумают? Втихую избиваю и плакать не велю…
Она не слышала его и плакала-благодарила.
Чем прекратить эти слёзы? Чем её поднять?
— Даю при условии, что вы запишете меня к себе консультантом, — запоздало напомнил он.
Не отрывая лица от уютного тепла его ладони, она подтвердительно качнула головой. Согласна!
— И сразу первый вам совет. Тяжёлых больных не брать!
Таисия Викторовна перестала плакать. Подняла голову.
— Почему? — спросила отчуждённо. — Поступит человек с четвёртой стадией и что, показывай на дверь?
— Показывай! — жёстко рубнул Кребс. — Видите… Везут человека по татарской дороге,[31] везут, разумеется, на кладбище, на этот «склад готовой продукции», а по ошибке примчали к нам в клинику. Из этого вовсе не следует, что от нас он побежит своими ножками домой. Я лично не уверен, что он у нас поднимется… Я не могу рисковать репутацией своей клиники, наконец, своей собственной репутацией. Если мы сейчас забьём клинику едва тёпленькой публикой, то где гарантия, что у нас она не сделает последнее — не остынет? Какие слухи взорвут город? У Кребса не клиника. Сплошной морг! Туда ехать можно, но только предварительно заказав гроб! Вас такая репутация веселит? Лично меня знобит!
— Но-о институтская клиника и не базар. Это на базаре вы за свои денюжки можете набрать, скажем, яблок, какие на вас смотрят. А в нашем деле выбора нет. Что подали… Что подвезли, то и принимай.
Кребс уныло поморщился.
— Боюсь, наживу я с вами рак головы… На меня смертельную нагоняют тоску ваши фантазии дилетантки. В полупустую корону клиники вы должны добыть богатые жемчуга, а не булыжники. Жемчуга нужны! Жем-чу-га! И не мне одному! И вам! Прежде всего вам! Вашему методу! Вашему борцу! Нужен звёздный взлёт! Обвальный успех! Каскад! Карнавал! Незатухащий вулкан успеха!.. Тогда народище хлынет к вам, вознесёт! Воспоёт! Но если мы в своей клинике будем корячиться исключительно на могилокопателей, город капитально забросает нас камнями. Вы погубите и свой метод, и себя, и меня!..
Молотил Кребс с тем безотчётным, неуправляемым энтузиазмом, когда грохочущему потоку напыщенной, бессвязной речи не было видно ни конца, ни маломальской ясности.
— Совсем зарапортовались, — кротко перебила его Таисия Викторовна. — Никак не вырулите на главную мысль.
— С вами, милочек, вырулишь! Поясняю… Мы берём хотя б на первых порах больных полегче. От нас они выскакивают здоровенькие. Подправляется реноме клиники, наш метод вежливо вырывает поддержку в верхах. Мы на коне! Отогреваемся в лучах… славы… А чтоб были лучи, не должно быть четвёртой стадии. Излечение в четвёртой стадии равносильно чуду и то неземному. Так что лучи и четвёртая несовместимы.
Таисия Викторовна уставилась на Кребса в глубокой задумчивости.
«Почему он о моём методе говорит как о нашем? Неужели у него на плане вмазаться в соавторы? Ну что ж, этого и следовало ожидать. Разве руки гнутся от себя, а не к себе? Было б озеро, черти наскочат… Без личной выгоды зачем ему дарить мне десять коек в его клинике? Но заупрямься я на четвёртой — вообще к клинике не подпустит. Потеряешь всё! Мда-а… Гладкая дорожка, а не перейдёшь…»
Что же делать? Что? Спасать разом всё — заживо хоронить всё! Не умнее ли на первой поре уступить, поддакнуть, кинуть в жертву четвёртую, а там, закрепившись, и за эту малость вступиться? Как это один говаривал… Кажется, главное ввязаться в драку, а там кто-нибудь по шее и даст? А может, и не даст. Главное, хоть как-то ввязаться, хоть как-то начать…
— Конечно, — сожалеюще сказала Таисия Викторовна. — Раз вы нашли несовместимость крови у лучей с четвёртой стадией, так нельзя это не брать в резон… Не посидеть ли пока в тенёчке госпоже Четвёртой?
— Наконец-то я слышу дело! — Кребс ободрительно пожал ей локоть. — И то… Разве, спасаясь бегством, любуются природой? Не-ет… Вот мы и уговорились. Можно расходиться. Но прежде разрешите по старой памяти проводить вас до калитки.
— Если не устали…
— Возле вас устать?! — воскликнул он. — Да возле вас с каждым шагом по году с плеч сваливается! Я чувствую себя возле вас совсем молодым, прытким, лёгким. Как тогда….
Тогда, в студенчестве, он на первом курсе провожал её до калитки и возвращался в общежитие уже на первом свету. Странно. Тогда адски тёмных ночей почему-то не было. Сколько помнит, все ночи в этом её тупичке были с какой-то волшебной светлинкой, не то что сейчас.
Они шли рядом, и он не видел её лица.
Он хотел спросить, почему сейчас такие чёрные вечера, но счёл свой вопрос нелепым, не стал спрашивать.
«Что он вцепился, как вошь в кожух?» — беззлобно подумала она, недовольная тем, что он поддерживал её за локоть.
Она резковато качнула локтем.
Кребс отпустил его, оправдывая её невежливость:
«Близко дом… Опасная зона… Нам ли разгуливать под ручку? А вдруг навстречу муж иль из соседей кто? Зачем же наводить на Таёжку компромат? Да и сам могу поймать по мордаскам…»
Дальше молчать было просто неприлично.
Кребс задумался, что бы такое спросить, и даже охнул от восторга, когда вопрос всё-таки стоящий выискался.
— А вы не откроете служебную тайну, кто первый принял ваши капли? Вы помните того человека?
— Я сама. Моя игрушка… С себя и начинай.
— Вы-ы? — как-то огорчённо удивился он, опечалившись не тем, что это была именно Таисия Викторовна, а тем, что ответ ему так скоро нашёлся. — И… Как всё это было?
— Да как… Начинала с пустяка. С одной каплёшки. Капля для человека, что слону дробина. По одной три раза в день. Через неделю уже по две. На пяти каплях почуяла… как-то угнетает…
— И перекинулись давать больным?
— Нет. После себя проверила ещё на кошке. Сразу боялась ей давать. А ну примрёт?… Ну, моя игрушка, сама поиграла первая… Не отравилась. Как-то кошка теперь примет мои капли? Давала с молоком, с супом. На пятой учуяла — как человек! — запротестовала, не взялась есть. У меня не она, а он… Не взялся есть мой бедный Мурчик…
Кребса так и осыпало морозом.
— Совершенно белый кот, лишь одно ухо, правое, забрызгано чёрными крапинками? — отшатнувшись, выкрикнул он, поражённый.
— Совершенно белый кот, лишь одно ухо, правое, забрызгано чёрными крапинками, — слово в слово подтвердила Таисия Викторовна. — Вы-то откуда знаете моего кота?
— Это мне-то не знать своего кота? — как-то неестественно, дураковато хохотнул Кребс и навалился объяснять: — Люция Ивановна была помешана на кошках. Дюжины с три держала. Не дети — кошки задавили… Не терпел я их, а потом притёрся, привык. Грома-адное кошачье наследство отписала покойная. Всему городу раздариваю её кошек, а они всё назад сбегаются. Что они никому не нужны, что я… — горестно выронил он.
Ему вспомнилось, как дворничиха, ширкая сегодня утром под окнами метлой, пожалела его какой-то старухе, сказав: «Один, как перст!» Он уже не спал, слышал весь их разговор, и слова про то, что он в свете один, как перст, сломали его, он заплакал в холодной постели.
«Один, как перст», — сокрушенно повторил он в мыслях. Ему стало жалко всё вокруг и дальше он говорил уже так — всё жалея:
— Я их, кошек, вроде и жалеть начал… Мурчик мне нравился, да не стерпел, подарил вашей Миле. Дочка у вас — совершенная очаровашка. Только очень уж худа, как игла.
— А вы хотите, чтоб была, как мешок с зерном?
— Конечно, и мешок ни к чему… Когда я её вижу, меня обжигает такое чувство, будто лично я ей отец.
Таисию Викторовну бросило в огонь. Колко отстегнула:
— Спешу вас авторитетно успокоить, чувства вас обманывают.
— Да, да, — опечаленно согласился он. — Жизнь ушла, и под старость лет ни одного не пустил я своего росточка… Кем прорасту в завтра? Не кем, а чем… Кладбищенской травой…
— Что вы себя опеваете? — рассердилась Таисия Викторовна. — Ну что зубы-то пилить?[32]
— Правдушка ваша, — твердея, ответил он, набираясь духом, через силу улыбаясь. — До травы мы ещё… Вернёмся к Мурчику. Как судьба удачно-то завернула! Ну Мурчик! Ну Мурчик! Он снова нас свёл… В опытах вы пили свою долю, а Мурчик — мою. Теперь скажите, милочек, что я на равных с вами не участвовал в открытии борца!?
Кребс игриво выбросил вперёд одну ногу, изловчился, низко наклонясь, хлопнул под нею в ладошки и, не устояв, пал на попочку.
Всегда безукоризненно чисто одетый, всегда педантично важный Кребс, не без оснований носивший прозвище стерильный Кребс, поверг Таисию Викторовну в недоумение. Изгвазданный с ног до головы, обмакнутый в грязь, он стоял, понуро раскрылив руки. С пальцев катилась чёрная жижица.
— До калитки, Тайна Викторовна, я вас проводил, — потерянно пробормотал он, — но рукú вам пожать не смогу… Я вас выпачкаю… О натюрель…
10
Закавырцевский борец неслыханно набирал силу, власть.
Скоро весь Борск только и гудел о нём.
Кребс ходил гоголем, ни с кем не обмолвился и словом без того, чтоб не подхвалить борец. Хотя хорошая вещь крикламы не требует, но кому реклама мешала?
Как-то Таисия Викторовна погоревала вслух при Кребсе, хорошо б всё-таки испытывать борец не только в институтской клинике, но и у себя в диспансере, где работала, под своим непосредственным постоянным наблюдением.
Кребс меланхолично пообещал:
— Бу сделано, соболиночка.
И пошёл в облздрав.
Пришлось Грицианову выжимать десяток коек под борец.
Укрепил Кребс прежде всего себя.
В шутку он подпускал, что его историческое место во все времена впереди и с шашкой на белом коне. Всякая шутка правдой жива. Он был ведущий консультант у раковых гинекологичек у себя в клинике, стал им и в диспансере. Подмяв два таких трона, позволит ли он теперь плюнуть себе в лицо, допустит ли, чтоб борец дал в диспансере результаты, не устраивающие его, Кребса?
Была пора, диспансер наотрез отмахнулся от борца, а тут, пристыженный успехами в кребсовской клинике и поталкиваемый облздравом, снова покаянно шатнулся к борцу.
Борск очумело разинул рот.
А придя в себя, сказал Кребсу:
— Глубокоуважаемый Борислав Львович! Не хватит ли нам коридорно-уличных сладких песнопений? Однажды соберите всех нас в кучу да покажите, что за мóлодец ваш борец. Тогда и мы поймём, чего вы с ним носитесь как Маланья с ящиком.
— И соберу! И покажу! — тронно ответствовал Борислав Львович.
Однако время шло.
Борцовские смотрины всё отодвигались, всё отодвигались.
Борислав Львович не находил места. Чьим представлять этот проклятый борец? Закавырцевским? Ш-шалите! Зачем же генералу подсаживать солдатика в маршалы? Зачем обставлять самого себя? Это накладно. Это нерентабельно.
Может, преподнести его как наш борец? А Тайга-Таёжка не вскинет норку, не покажет коготки? Не захнычет ли на весь город: «Дедюка[33] отнял пирожок!»?
А что?… Тайга-Таёжка — мой остров сокровищ! А что, если мы этой Тайге, извините, застегнём роток женитьбой? Самой вульгарной, самой банальной?… О женщины! Вами движется жизнь. Вы — вечный двигатель жизни! За Люцийкой Ивановной я умкнул кафедру, клинику, чин профессора. А за Тайгой с её борцом разве не вырву я себе академика? Выр-ву. Обязан. Поначалу будет «Борец Кребсов», потом вывеску я заменю на «Борец Кребса». Так звучней, конкретней, солидней, надёжней. Щекотнётся наша Тайга! Нечего нарымской свистушке ошиваться в науке, историческое место жаны на кухне!
Такой план пленения борца разогрел Кребса.
Под момент он боковыми словами, обиняками намекнул Таисии Викторовне на разженёху, на развод. Мол, сотвори ручкой своему просветителю-рентгенологу и пускай не отсвечивает, отбывай своим душевным теплом отогревать наши настывшие профессорские апартаменты. Ну что, невестушка, не прочь покататься под кустиком?[34]
Она приняла этот выверт как неуклюжую шутку. Однако выкатила ему на сто лет — крапивка и молода, а уже кусается! — так что у него сразу рассохся интерес к женитьбе.
В голову полезла дичь.
То ему зуделось, чтоб Таисия Викторовна однажды взяла да и сделала предоброе дело — померла. Таисии Викторовны нет, а борец есть! Недурственно.
Как-то легко всё выбежало на пословицу: что бабе хотелось, то и приснилось.
Три ночи подряд он сладко видел, как Таисия Викторовна умирала. Ещё во сне вежливо ликовал, но, пробудившись, едва прощурив глаза, густо мрачнел. На всякий случай — а вдруг и правда? — на рани звонил каждый раз Таисии Викторовне домой по её номеру 59–96, слышал её жизнерадостный голос и совсем скисал, убеждаясь на собственном опыте, что сны, увы, химера, верный обман.
А то вчера наснилось, что борец, стройный орёлик, увешанный своими синими колокольчиками, в синем цилиндре, покручивая на синем пальчике синюю тросточку, пришёл на кладбище.
Приподнимет чинно цилиндр, поклонится холмику, скажет: «Прошу!» — и холмик расступается. Потягиваясь, как после сна, встает упокойник. Невесть чьи руки — человека всего не видно, видны лишь руки — подносят покойнику всё то новенькое, в чём провожали сюда, он одевается.
Борец обошёл всё кладбище, оживил всех покойников и те разбежались, весёлые, по домам. Лишь у кладбищенских ворот остался лежать кладбищенский сторож. Он умер, испугавшись наказания за то, что не устерёг мертвецов.
Кребс присмотрелся к сторожу и закричал. У сторожа было его, Кребсово, лицо!
Этот сон подтолкнул профессора к решительности. Чего декламацию разводить? Чего тереться вокруг да около? Надо г-гох молотком и гвоздь по самую шляпку в бревне!
Через неделю сияющий уверенностью Кребс принёс Таисии Викторовне тугую пачку листков величиной с ладонь.
— Я дам вам список. Разнесёте этот динамит, — тряхнул пачкой. — В упор добьём последних скептиков!
Таисия Викторовну взяла пачку, чугунелым взглядом пристыла к верхнему листку.
ОБЪЕДИНЁННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
хирургического, онкологического и гинекологического
борских научных обществ
СОСТОИТСЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ БОРСКОГО МЕ-МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 29 СЕНТЯБРЯ 1955 ГОДА, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ДОКЛАДЫ:
Профессор Б.Л.КРЕБС
ЛЕЧЕНИЕ РАКА БОРЦОМ (ДЕМОНСТРАЦИЯ БОЛЬНЫХ).
Ассистент У.Х.ПУПБЕРГ
Ординатор Н.И.НЕКИПЕЛОВА
Некоторые данные лечения борцом женщин,
страдающих раком половой сферы
(демонстрация больных).
«А где же я? Где?… Осталась остриженная?…"[35]
Таисия Викторовна ещё раз пробежала фамилии — нет Закавырцевой!
И растерянные её жалкие глазёночки остолбили[36] Кребса.
Кребс хищневато ждал этого взгляда, потому не сводил с неё глаз; покуда она читала, наготове держал на лице остановившуюся липкую улыбку.
— Милочек! Выше головку! Это я вам говорю!
Она как-то придавленно подвигала одним плечиком.
— Вы искали себя и не нашли. Объясняю, почему вас нет… Здесь, — Кребс потыкал согнутым указательным пальцем в пачку, которую она как-то неловко держала, — больша-ая дипломатия… Слишком ответственная игра… У нас отобрано право на проигрыш. На карту поставлено всё! И банк должен метать первый игрок, ваш покорный слуга! — с лёгким, галантным поклоном показал на себя. — Короче, основной доклад обязан делать я. Я — это я… Профессор и так далее. А кто вы? Кто вас знает? Народу набежит битком. В каждом стаде найдётся чёрная овца. Одна чернушка вякнет, вы растеряетесь, другая подвякнет — и дело пустило пузыри. Я же не растеряюсь. У меня не выдернешь кость из пасти! Старая гончая надёжно делает охоту! — распаляясь и входя в раж, убеждённо чеканил Кребс. Ему понравилось насчёт гончей, он подобрался, как гончая, чутко и быстро огляделся, будто выискивая что. — Мы, повторяю, вылетели на финишную прямую. Нам сейчас важней повыигрышней поднести свои успехи. Не мельчить! Чья есть фамилия, чьей нету… Что за мелочи!? Дело — прежде всего! Мы с вами, — он подумал и простодушно улыбнулся, — мы с вами так слились в борце, что не разлить водой. И не надо разливать. Это ж, — повело его на игривость, — и экономия воды, и экономия места в объявлении, и ещё громадный плюс — лишний раз не подразним злых гусей фамилией, неизвестной в учёном миру. Не убивайтесь. Вас просто не воспримут, милочек! Так что ваше отсутствие, — кивнул на пачку в её руках, — работает исключительно на нашу мельницу! Пускай вас нет в листке — подумаешь, событие века, глянул и выбросил! — зато вы в сути! Я представляю, я защищаю перед высоким собранием лично ваши интересы!
Она слабо, отстранённо качнула головой.
С мягким удивлением, с удовольствием — есть на чём погреть глаз — он изучающе уставился на Таисию Викторовну:
«Ну, слава Богу, кажется, уломал. Может, ещё малой кровью выхвачу своего академика? К чему нам свадебные скачки?…»
«Что же я такая безграмотная, как кошка, в этой в ихней распроклятой дипломатии? — корила она себя. — Это ж он, гладкий клоп, отгоняет, откидывает меня, плюшку… Невжель я совсем пустёха, что и свиньям щей не разолью?»
Ей стало жалко себя, и она тонко, по-щенячьи заскулила в плаче.
«Плачьте, милочек, плачьте, дружочек, — ласково подумал он, обнимая её за худые плечики и отечески целуя в лоб. — Плачьте и запомните — это ваши последние слёзы. В канун счастья! Двадцать девятого вы услышите гимн борцу. И петь его будет весь зал стоя! Запомните и то, что двадцать девятое сентября красно будет вписано во все календари мира. Этот день повсюду станут праздновать как день избавления человечества от рака! Рак упоминался ещё в папирусах Эберса, это 3730-ый год до нашей эры. Без мала шесть десятков веков человечество билось с ним, как видите, безуспешно. И лишь вот, наконец, в клинике вашего покорного слуги, — в мыслях Кребс благостно сложил ладонь к ладони, с грациозным поклоном указал ими на себя, — свершилось чудо. Рак побил рака!»[37]
Борислав Львович был в высшем расположении духа, и этот свой нечаянный экспромт он отнёс к пробной прокрутке коронной речи, которая была уже готова и держалась ото всех в тайне.
Всё узнаете двадцать девятого!
11
Но как раскладывалось, увы, не выкрутилось.
За три дня до заседания Борислав Львович топнул ножкой. Факт невероятный, как невероятно землетрясение в Рязани или наводнение в Сахаре.
Всегда безукоризненно выдержанный «стерильный Кребс» был со всеми ровен, спокоен, как параграф, и вдруг — топнул.
По единодушному мнению сослуживцев, топот Борислава Львовича был зарегистрирован всеми сейсмическими станциями в тот момент, когда он налетел в областной газете на объявление о заседании.
Что за невидальщина! Как объявление затесалось в газету? Кто подсуетился? И главное, ка-ак в докладчики выскочила сама мадам Закавырцева?!
Чёрный детектив! Без Дюма-папаши и сыночка не разобрать.
Борислав Львович спешно востребовал к себе в кабинет Закавырцеву. В кулак зажал своё мужество, заставил себя стерильно улыбнуться ей.
Трудно, но улыбнулся.
Трудно идёт улыбка, когда тебя рвёт жажда метать икру вперемежку с молниями.
— Дорогая Таисия Викторовна, — строго выдерживая ровный тон, сказал он. — Нет ли у вас горяченького желания осчастливить меня вашей программкой?
— А разве вас как докладчика не пустят?
— Всё может быть, — заставил он себя вежливо улыбнуться.
В программке был тот же текст, что и в газете.
— Тэ-экс… чики-брики… — задумался он. — Извините, но меня одолевает любопытство… А вам нетрудно объяснить, почему вы всю программку заново перепечатали?
— Ну… — замялась она в нерешительности. — У вас программка была напечатана чёрным… Текст обвели толстой чёрной рамкой… Будто объявление о смерти… Я и текст пустила синим, и витую рамку синей. Разве так не красивей? У борца колокольчики синие…
— И наложить текст на рисунок цветущего борца… Во вкусе вам не откажешь, — сдержанно подхвалил он. — Поделитесь, будьте любезны, опытом, как это вы умудрились переделать на свой лад? Вышло красиво… объявление — цветок… Но всё это не просто… Не частное дело… Типография, заказ, разрешение… Кто вам всё это санкционировал?
Конфузясь, заикаясь, Таисия Викторовна начала рассказывать так невнятно, что Кребс ничего не разобрал, но из деликатности уточнять не стал.
— А теперь, почему и в газете и здесь, — Кребс постучал остро отточенным красным карандашом по программке, — вы водрузили себя в докладчиках впереди меня, не спросив на то даже моего согласия?
Ехидное, какое-то насмешливое, совсем не к месту словцо водрузили дёрнуло её. Она сморщенно и быстро посмотрела на Кребса, сердито пропищала:
— Потому что вы его всё равно б не дали!
— Спасибо. Честно и даже с наскоком смелости. Я должен рассматривать это как вызов? — нарочито безразлично спросил он.
— Только лишь как справедливое уточнение. А то получалось, что я вообще никакого отношения не имею к работе с борцом.
— Опять двадцать пять, — совсем поскучнел Кребс. — Опять перепевай сказанное в прошлый раз? Я подавал вам руку помощи, вы её оттолкнули. Пожалуйста… Однако я позволю себе заметить. Забегая поперёд батьки в пекло, вы не подумали, что, вбежав, не найдете, где и присесть? Не подумали, что в том пекле можете сгореть? Если вы у себя дома обвели в календаре двадцать девятое красным и ликуете, то лично я теперь подожду и обводить и ликовать, — монотонно, тоскливо тянул он. — Поставив себя впереди меня, вы, мягко говоря, опасно замахнулись. Ну что ж, посмотрим, как вы… Это будет бой. И с чем вы выйдете к этим мамонтам? К этим носорогам? Наши предки ходили на добычу с копьями, с луками, со стрелами… У вас же нет не то что простого камня,[38] у вас нет даже камушечка. Голенькая, пустенькая, чего вы добудете кроме смеха? Пока не поздно, будьте мудры, не бейте по дающей руке… Нам надо как-то узаконить наши отношения… Вы пришли со своим препаратом ко мне в клинику, мы вместе, союзом… ну и… Мы не чужие друг другу… На худой конец, мы соавторы. Не так ли? Не дичитесь, отвечайте…
Сбелев лицом, Таисия Викторовна молча положила перед ним на стол вчетверо сложенный лист.
Он нервно развернул.
СПРАВКА № 697
о принятии к рассмотрению заявки на предполагаемое изобретение.
Выдана министерством здравоохранения СССР Закавырцевой Таисии Викторовне в том что 16 октября 1954 года министерством принято заявление о выдаче авторского свидетельства на предполагаемое изобретение.
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РАКА БОРЦОМ
Действительным автором предполагаемого изобретения указан Закавырцева Т.В.
Заявление подано заявителем.
Начальник отдела изобретательства и рационализации Ученого совета министерства здравоохранения СССР Г.Субботина.
Эта справка так ошеломила Кребса, что он век не мог оторвать от неё окаменелого, ненавистного взгляда.
«Действительным автором предполагаемого изобретения указана Закавырцева!» — суматошно толклось в голове.
Он мёртво пристыл к этой строчке, вовсе не замечая, что в слове указана съедено окончание.
«Юридически плотно всё обставила. Комар носом не подденет… Она, она одна действительный автор, и ни с какого боку к ней не подхватиться. Не подхватился тупенький Золотой Скальпель, не удержался и я… Неудачнику и в яйце кость попадается… А думалось, я-то не Скальпель, я-то не лопухнусь. Ло-овко провела старого краба! Весёленький номерок… Гм… У мелкой рыбёшки острые косточки… Какая-то девка-шнырь профессору нос подтирает! А насядь… Не пришлось бы льву от комара защищаться. Ах, милочек, милочек… Всё молчала… Так поддеть на фуфу… Маленькая змейка взмутила целое море! Ну!»
Кребс свёл пальцы в кулаки, подавил ими — лёгкая судорога трясла кулаки — подавил ими столешницу, словно пробовал, прочна ли.
— Вы… — просительно буркнула Таисия Викторовна, — вы уж не гневитесь… Заявку я подала зараньше. Ещё до прихода к вам в клинику… При всём желании уже не впишешь вас в соавторы…
Не удержался Кребс на деликатных вожжах и всплыви на дыбки.
— Какие соавторы?! — зыкнул во всю глотку. — Какие ещё соавторы? Я к вам — в соавторы? Я что, специализируюсь на стибрилизации?! Да вы даёте отчёт своим словам?! Сию же минуту выписываю всех ваших больных второй стадии! Набираем только четвёртой! Вот и увидим, чего стоит ваш хвалёшка борец!
— Ка-ак?! — жалобно простонала она. — Ну, к чему из иголки верблюда делать? Вы ж запрещали брать четвёртой…
— Вы ещё девчонка, чтоб меня учить! Девчонка!
12
Таисия Викторовна посмотрела с трибуны в зал и её опахнуло жаром.
Народушку невпроход! Негде пятку поставить. Пятна, пятна, пятна. Пятна лиц. Океан лиц. Взоры, ожидающие, тоскующие, ободряющие, холодные, злоехидные, тесно сошлись на ней, как в фокусе.
Прихватывал, подкусывал непонятный, необъяснимый страх.
Она растерялась, забыла, зачем вышла к трибуне.
Оробело скосила на президиум.
Ближний к ней из президиума мужчина ободрительно вскинул голову с сивым ёжиком.
— Поехали! — И ласково приказывающе прошептал по слогам подсказку: — То-ва-ри-щи!
— Товарищи… — еле пошевелила она зачугунелым языком. — Товарищи! — уже надёжней, разгонистей повторила. — Това…
Мужчина из президиума строго глянул на неё. И далече вы собираетесь ускакать на товарищах?
Таисия Викторовна осеклась на полуслове.
Что говорить? Что?
— Товарищи… — в панике выдавила она, натвёрдо прикипев глазами к верху трибуны, и тут вдруг, кажется, даже заслышала тяжёлое дыхание за спиной подбежавших ей во спасение слов, велеречивых, звонких, добрых. — Товарищи, необходимость важного значения вынудила меня подняться на эту сцену… Изложение своё сообразно цели… я думаю передать в виде беседы, что, по-моему, гораздо лучше, понятнее, доступнее…
Она как-то удивлённо, с простецким любопытством послушала себя, послушала, как путано, коряво говорила, вслушалась в свой механический, какой-то чужой, роботный, голос и вспомнила, немного покопавшись в голове, что надо говорить.
— Дальше всего от меня мысль выступать против существующего направления в медицине. Не думаю я также нападать на чьи-либо познания и признания. Всякое возражение, всякую правильную поправку я охотно встречу, приму с благодарностью. Мой доклад будет как бы из двух докладов. Первый. Об организации лечения борцом. Второй. Характеристика препарата, лечение, характеристика всех моих пятидесяти пяти больных, демонстрация моих больных с клиническим выздоровлением. Доклад о лечении рака борцом я должна была сделать по возвращении из Москвы ещё в марте на заседании онкологического общества. Но мне таковая возможность не была предоставлена. Это создало ряд неправильных толкований по поводу препарата и меня как врача…
Таисия Викторовна не замечала, что плела свою речь коряжисто, неумело, не в лад. Пуще всего она боялась потерять нить мысли и замолчать.
— В предоставлении коек для клинического испытания борца при лечении больных в онкодиспансере мне отказали и только при содействии облздрава выделили десять коек. Какого-либо участия в клиническом испытании борца врачи онкодиспансера не принимали, если не считать двух больных, взятых врачом Желтоглазовой и тут же мне возвращённых…
Грицианов, председательствовавший на заседании, уныло осуждающе покивал, тронул Кребса за локоть — сидели в президиуме рядом:
— Ну что ж, Борислав Львович, мелкий перчик горше? — постный взгляд на Закавырцеву. — Какую музычку вы назаказывали, такую и слушаем-с? Сабо самой… Зачем вас носило в облздрав? Я перед самой Москвой отбоярился, еле отбрыкался от этих испытаний, а вы и сунь мою бедную головушку в хомут… Э-хэ-хэ… За что боролись, на то и напоролись… Или, как бы завернула моя супружка, какой пирожок, Маруся, испекла, такой и кушай…
— Не зуди, — сказал Кребс. — Бездарь тем и сильна, что живуча, неистребима, как рак, — и нахлопнул ладошкой по столу: басни кончены, слушаем!
— Я хотела, — продолжала Таисия Викторовна, — чтоб с борцом работали только в диспансере под моим прямым контролем. Но так крутнулось, его испытывали и в гинекологической, и в глазной, и в лорклиниках. Мой борец как малое дитя на первой поре… Где как не у мамушки у родимой на руках ему способней? Чужие руки и студливы, и злы, и пусты…
— Это уже подкатила шарик под вас наша бухенвальдская крепышка, — с подначкой зашептал Грицианов, клонясь к Кребсу.
— Не председатель, а сорока! — пыхнул Кребс, не убирая раздражённых глаз с Закавырцевой. — Вы дадите послушать?
— Да ну пожалуйста, пожалуйста! — ответил Грицианов со льдистой вежливостью.
… несомненно и то, — говорила Закавырцева, — что интересы заболевших раком не могут довольствоваться теми благами, которые принесут нам в будущем научные исследования. Они требуют, чтобы уже сегодня были лечимы наилучшими способами и всеми достигнутыми средствами.
Где-то на задах кротко, разведочно ударил одиночный, сиротливый хлопок, и зал, точно очнувшись, лавинно заплескал.
Кребс сердито крутнулся к Грицианову.
— Что за шлепки? Кому-то Нобелевку вручили? Председатель, потрудитесь. Пускай не мешает это шлёпанье!
— Тружусь. — Грицианов забарабанил карандашом по прозрачному горлу графина, думая: «Вороны, — посмотрел на шумевший аплодисментами зал, на президиум, — как говорится, летают кучами, а орлы, — взгляд на сбитую с толку аплодисментами Закавырцеву, — парят в одиночку».
Мало-помалу зал притих.
— До настоящего времени, — молодо зазвенел закавырцевский голос, — способами лечения рака являются: операция, рентгеновские лучи и лучи радия. Применяются ещё химиотерапия, такая щедрая на беды, и гормонотерапия. Однако способа лечения в запущенных случаях нет.
Она сникла и совсем неверяще добавила:
— Вот пробую свою золотую… золотистую настойку борца… Растения в нашей жизни ничем не заменить…
Ее дёрнуло, повело в историю и она вспомнила, что ещё первобытники пускали борец — а в природе живёт до трёхсот его видов, — на яд. Борец ой и ядовит. Всего-то на пяти его миллиграммах смёртушка замешана. В Германии борцом выводили волков. В 1524 году по приказанию папы Климента У11 в Риме, а затем в Праге известный в ту пору учёный врач итальянец Матиолли испытывал на отравленных борцом преступниках «чудесные» противоядия.
Конечно, знал человек и о целебной силе борца. И добрую славу добыла ему именно его врачующая магия. У него вон имя идёт от бороть, барывать, ломать недуг. Есть у него имена ещё погромче, посановитей. Царь-трава. Царь-зелье. Волхунок. Кудесник.
Таисия Викторовна не стала расписывать, как пришла к борцу, полагая, что уже и без того выскочила за отведённые ей на доклад полчаса. Взяла с раскрытой папки листочек с цитатой, поднесла ближе к лицу. Доклада как такового, написанного, у неё не было, говорила она не с бумажки.
— Пирогов писал: «Гнойное заражение было проклятием хирургов. Явился Листер[39] — ввел антисептику, а затем асептику, и хирурги из бессильных рабов стали господами».
Меня это и навело на мысль дополнять настойку борца к оперативно-лучевому лечению. То есть, подумала я, разве ножу и лучу не может помочь мой борушка? Мо-ожет! Борец угнетает опухоль и одновременно взбадривает, несколько омолаживает весь организм, омолаживает кровь. Другими словами, «действует на весь организм комплексно, мобилизует его защитные механизмы». Но если кто решит, что достаточно выпить энное количество капель настойки и рак разбит, тот глубоко ошибается. Борец не панацея. Ему не по зубам четвёртая стадия. Но прочие…
Я не сталкиваю, я не сшибаю лбами народную медицину с научной. Я не хочу их рассорить. Я не противопоставляю борец ножу. Боже упаси! Напротив, совсем напротив! Я объединяю их в один кулак против единого врага. Я поднимаю народную медицину до уровня научной, ставлю на одну доску. И от такого союза в выигрыше больные.
Хорошо режет нож, да только всё ль ему дозволено?
Вот убрали опухоль. Кажется, всё прекрасно. Придраться не к чему. Ан хлоп, беда. Через какое-то время беда прорастает на новом месте, куда зараньше выбросила ещё не видимые, ещё не заметные щупальца-клешни.
Речной рак чем опасен? Клешнями. Клешнями защищается, клешнями нападает. Бывало в детстве, так стриганёт клешнёй, что, кажется, палец отскочил, и ты со смертным ором поскорейше, молнией, выдираешь руку из норы иль с-под коряги, куда сунулась за раком, да поймалась сама.
И прежде всего вот эти клешни, выбрасываемые в стороны, опасны и у болезни, названной раком. Я считаю, главное зло не в опухоли, а в её клешнях-щупальцах, расползающихся наподобие паучьей сетки. Не давай расходиться. А как не дашь? Прежде чем резать опухоль, обломай клешни-щупальца, отдели её от здоровой ткани. Вот это-то как раз и под силку борушке. Он обрывает эти клешни, чистит вокруг опухоли ткань, и опухоль как бы подносится ножу на блюдечке. Выщелкивай, как орех из скорлупки, режь спокойно, дальше беда не пойдёт.
Моя методика — не торопись, дай организму набраться духом. Он ведь не меньше твоего встревожен бедой. Недели две-три до операции даю больному настойку по схеме. После операции даю. Свежие силы человеку всегда нужны…
Я вся за борец, я против химии. Химия убивает…
Ещё Гиппократ говорил, что лечат нож, трава и слово. Так что я нового сказала?
Я лечила пятьдесят пять человек. Из них пятерых брала на облегчение страдания, остальных брала с некоторой надеждой на излечение. Счёт цыплятам осенью. Вот моя осень… Полное излечение получили десятеро с отдалённым результатом до четырёх лет. Умерли восемнадцать. Половине из них жизнь продлена до года. Остальные в периоде реакции… Такая вот моя осень…
Опечаленно, скорбно кончила доклад Таисия Викторовна.
Ей не захлопали.
Конечно, хлопать не за что, не тот момент. Тут ордена да знамена не раздают. Но все же…
Она вопросительно обвела зал. Зал тяжело молчал. Как-то даже враждебно.
— Я н-напомню… — заикаясь, снова заговорила. — Я выхаживала людей не от кашля… Люди обречённые… Вы можете спросить, и всё же какой процент у них выживаемости? Статистики нету… И не может быть… Это ж люди, на которых махнули рукой… поставили точку… Один московский академик мне говорил, если удастся спасти из них хоть два процента — уже победа. У меня выжило двадцать процентов. Каждый пятый… Это труды какие… Не баран чихал… Из уходивших туда десятеро моих не ушли. Раздумали. Посторонились от смерточки и вернулись… Они пришли сюда. В коридоре ждут. — Таисия Викторовна повернулась к президиуму. — Давайте покажем их, послушаем…
— Никаких смотрин! — замахал красным карандашом Грицианов. — Есть мнение…
Его перебили из зала:
— А вы в программку заглядывали?
— На плане, извините, демонстрация больных!
— Подавайте демонстрацию!
— Товарищи! — сказал Грицианов. — Мы тут посовещались и решили… — Он посмотрел на Кребса, Кребс утвердительно кивнул. — Мы посовещались и решили демонстрацию не проводить. Время поджимает! Вместо тридцати минут докладчик говорила один час сорок девять минут. В свете этого неопровержимого факта, товарищи, регламент явно нарушен. А с больными… — Грицианов еле заметно мягко улыбнулся. — А с больными господа желающие могут встретиться завтра в десять утра в клинике товарища Кребса, где для этой цели специально выделен кабинет и ассистент товарищ Лопушинская.
Словно разминая затёкшие руки-ноги, по залу пробежался сонный смешок.
Те, в коридоре, узнав, что показывать их не будут, повелись разно. Одна кучка тут же убрела по домам, довольная выше глаз, что «голую спектаклю придавили, как окурок на каблуке». Мол, раз «ничего не светит, так нечего тут и светиться!». Другая кучка, любопытных, бочком вжалась в зал, сбилась стайкой у стеночки и стала наблюдать за залом, за президиумом, за Таисией Викторовной, которая, услышав про злую новость, как-то закаменела вся.
— Таисия Викторовна! А вы чего ждёте? — удивлённый тем, что она всё ещё на трибуне, спросил Грицианов.
В глазах у него горел ядовитый восторг.
— Вам смех, а нам и полсмеха нет, — вслух подумала она, жалуясь.
— Отзвонили и с колоколенки! — выстывая голосом, буркнул Грицианов. — Отбомбились же!
— Как же я пойду? — тихо, так что её не могли слышать в зале, разбито сказала она. — Без демонстрации… Это ж всё голая говоруха…
— А вот вы теперь её и оденьте по последнему писку моды! Спасибо скажите, что хоть выслушали-то вас!
Грицианов заметил, что выражение лица у неё было какое-то непонятное, по крайней мере такое, какого он никогда не видел, страдальческое, угробное.
Он встал, меланхолической походкой пошёл к ней.
— Что вы вцепились в трибуну, как, простите, блоха в шубу? — голубино заворковал, подходя. — Если она вам так уж глянулась, так мы вам, сабо самой, подарим её, но попозжее туда, после заседания. А пока, пожалуйста, оставьте.
— Ноги… сердце захватило… — виновато прошептала она.
— У всех ноги, у всех сердца, — ровно, плакатно улыбнулся он, подал трибунный стакан воды.
Опираясь локтями на крылышки трибуны, Таисия Викторовна кое-как выпила и почувствовала, что в онемевшие, сомлелые ноги вошла сила.
Она слабо кивнула, что могло означать и благодарность, и упрёк, и неуверенно, шатко пошла со сцены.
Грицианов проводил её заледенелой жизнерадостной улыбкой. Заработала стакан тёплой воды и иди!
13
Власть и колдовство трибуны не изучены. И это немалое упущение человечества. Знай всё о трибуне, мы б знали, почему человек, встав за неё, вдруг преображается. У него вдруг новая, неожиданная для него самого манера держаться, другой голос, имеющий с коленями то общее, что и колени и голос в унисон дрожат, другие слова.
Взойдя на трибунку, Таисия Викторовна вдруг обнаружила, что от неё убежали все её буднишние, домашние, шёлковые слова, простые, ясные, лёгкие, озороватые, и понесло, и покатило её плести такие наукообразные помпезные колонны — семерым не обхватишь! — что ей было совестно за себя всё время, покуда чуже дребезжал в зале её сухой, омертвелый голос.
Ей и сейчас совестно за себя, за те свои слова под неживой, холодной вуалькой, за насмешку над её больными. Они пришли, но они могли уже никуда и никогда не придти, за то никто не ответил бы ни единым волоском. Они ей дороги, как яичко к Христову дню, а на них даже не пожелали с сыта и кинуть беглый глаз.
«Не нашла я тех слов, чтоб повернуло глянуть на моих горюшат, не нашла… Сама себя и казни…»
Её давит разобраться во всем в своём, но откуда-то сверху, с трибуны, вавкает писклявый кребсовский дискант. Монотонная писклявая нудь мешает собранно думать своё. Боком, крайком уха Таисия Викторовна вслушивается в писк, примечает, ой неладно трибунка вертит Кребсом, как чёрт кривою стёжкою в лесу. Кребс, «стерильный Кребс», всегда невозмутимый, бессуетной, всегда правильный, выглаженный, как устав, и вдруг те на — с какими-то ребяческими ужимочками, со смешочками чего зря колоколит без пути. Так, тренькает язычком…
— Sаlva venia… с позволения сказать, — одиноко скучал наверху его игристый, томкий писк, — большой заслугой Закавырцевой является её стремление найти препарат для лечения рака. Похвально, вполне в духе древних: omnes, quantum potes, juva! Всем, сколько можешь, помогай! Но!.. Но!!.. Но!!!.. Конечно, оmne ignotum pro magnifico est. Всё неизвестное представляется величественным. А дальше что? Нам, увы, точно видится, что стремление найти чудодейственный препарат осталось и единственной её заслугой. Мы позволим себе напомнить уважаемой аудитории… Если отвлечься от романтики, которая окружает всякое новое изобретение, и отнестись объективно, то получается следующее. Из пятидесяти пяти больных умерло восемнадцать. О двадцати двух ничего не известно. И только десять излечённых. Эти данные объявила сама Закавырцева. А мы возьмём на себя принципиальную смелость нiс et nunc — здесь и сейчас — объявить, что её борец к этой десятке ровно никакого отношения не имеет!
Зал пчелино загудел, в растерянности заоглядывался. В гневе вскочила со своего крайнего места в первом ряду Таисия Викторовна. Мстительно вскинула бледные кулачки.
— Бреху-ушка! — гаркнула от входа Маша-татарочка, из демонстрационных. — На твоя язык шайтан плюнул!
С видимой безучастностью Кребс окинул зал и, заметив внизу, сразу за сценой, медленно опускавшую руки Таисию Викторовну, лениво, с сытым благодушием посоветовал:
— А вы не стойте. Присаживайтесь.
— Да нет! Я уж постою послушаю, что вы ещё такое объявите! — ответила, коротко и нервно, рывком, поклонившись.
— А объявлю я, разлюбезная Таисия Викторовна, то, что эти десятеро ни-ког-да не болели раком. Да! — сухо, гулко ударил костьми пальцев по фанерной трибунёшке. — Аmicus Socrates, sed magis amica veritas! Сократ мне друг, но истина ещё бóльший друг!
Зал замер.
— Бреху-ушка! — снова крикнула Маша. — Зломучитель! Сор ложить не топором рубить!.. Я покажу-у!
Маша кинулась по проходу к сцене, на бегу развязав тяжёлый серый платок и столкнув его с головы на пол.
Двое дюжих молодцев, особо не чинясь, — при враче ничто не вредно! — остановили её, вывели за дверь.
Зал оцепенело уставился на Таисию Викторовну. Ждал, что же скажет она. Но она лишь парализованно таращилась снизу вверх, на Кребса, и не могла ни слова вымолвить.
Кребс подивился её молчанию — видите, вам даже нечего сказать в своё оправдание! — и продолжал легко, раскрепощённо, даже несколько с профессиональной, с обкатанной покаянностью в голосе, всегда так выручавшей его в круточасье:
— Проницательная уважаемая аудитория может вполне резонно спросить: помилуйте, как же так, препарат совершенно безнадёжный, на нуле, а вы, профессора, подсовываете его больным? Увы… Мы с самого начала не верили в борец, однако взялись за испытание. А вдруг! А вдруг! В науке всякое открытие — лотерея. Никакой определёнки! Тебя засасывает в этот вихрь, но как пойдёт что дальше, ясного ничего не скажешь. Лотерейка! То ли с делом, то ли с пшиком будет конец… Мы с особым удовольствием взвалили на себя ответственную задачу, учитывая важность проблемы эффективного лечения рака и поощрения всяких начинаний в этой области. По злой иронии судьбы, мы включились в работу с борцом с первого апреля сего года… К сожалению, natura non facit saltus… Природа не делает скачков. Чего не было с утра, не появится и под вечер… И всё же надо искать.
Кребс посмотрел вопрошающе в даль зала, как бы ища несогласных с ним, и, не найдя таковых, повторил вдохновенней, с нажимом:
— Да! Искать! Из полутора тысяч лекарственных средств, имеющихся в фармакопее, многие ли изучены на рак? А из литературы известно, что польский учёный применяет против рака иприт. Мы долго мучились с диабетом и только когда узнали, в чём суть обмена веществ при диабете, только тогда проблема диабета стала стоять на научной основе. Нужен объективный научный контроль, в существовании чего лично я не убедился из доклада. Нельзя думать, что коллектив онкодиспансера относится субъективно к этому вопросу, настроен против нового изобретения не из личной несимпатии, а основываясь на каких-то объективных данных.
— Конкретно. Каких? — выскочил нетерпячий басок из передних рядов.
Кребс хладнокровно подумал, хмыкнул:
— Объективных.
Где-то в центре зала лопнул тугой смешок.
— Да, объективных! — резко повторил Кребс. — В работе товарища Закавырцевой исчезла научная платформа. А, откровенно говоря, она и не появлялась. Ещё две с половиной тысячи лет назад был известен борец. В казахской литературе, например, имеются указания на его применение в так называемой народной медицине при всех заболеваниях. При всех! — Кребс торжественно вскинул палец и позволил себе вежливую, сановитую улыбку. — И, наверное, он помогал всем, кому не пришёл час умирать… И вот товарищ Закавырцева целиком и полностью поворачивает нас в сторону так называемой народной медицины. А нам нельзя к ней повернуться целиком и полностью, ибо борец — яд! Только дремучей безграмотностью можно объяснить возможность излечения им рака. Кроме того, борец — древнее знахарское средство для напущения порчи. Чувствуете, товарищи, куда тащит нас товарищ Закавырцева?
Кребс посмотрел на президиум, потом вниз перед собой и вбок. На Таисию Викторовну. Всё так же она стояла с какими-то напуганными, остановившимися, как пуговички, глазами.
Взгляды их столкнулись.
— Таисия Викторовна, — уступчиво, простительно-кокетливо заговорил Кребс, встав на цыпочки, чтоб из-за высокой трибуны хорошо видеть её, — ну зачем копать колодец там, где нет воды? Вы понимаете… Это «божий промысел» ваше знахарство… Извините, это шаманство какое-то, это мамонство, наконец, это просто шарлатанство… Тоже наука, мармазонская…
Таисия Викторовна почувствовала, что её отпустило.
Неверяще, что может говорить, перебила Кребса:
— Какое мармазонство? Какое шарлатанство? Разве не с вами я училась в одной группе в этом же мединституте, где мы сейчас? Разве не из одних рук получали мы с вами дипломы? Разве у меня не такой же диплом, как и у вас? Такой же! Такой же, только с отличием и порядковый номер на единичку впереди. В алфавите вы всё-таки стоите за мной! После меня! После! — твердила она, набирая в голос силы, гнева. — После! Вы слышите? После! Зэ. И. Ка!
— Верно, — умильно согласился Кребс. — Я после. Истинный джентльмен всегда пропускает даму вперёд. Но между нами соединительный союз. Это что-то да значит…
— То-то и значит, что ничего не значит! — обрезала она.
Грицианов страдальчески сморщился.
Потенькал красным карандашом по графину.
— Товарищ Закавырцева! Не мешайте выступать докладчику. Вам дадут заключительное ещё слово. Тогда и выплёскивайте на здоровье свои эмоции.
Не во нрав легла Кребсу такая обкрутка.
Он считал, что Закавырцева уже разгромлена, как горюн швед под Полтавушкой, принишкла, принародно сдалась. Дело сработано, можно и сбросить горячие обороты, можно показать почтенной аудитории, что не такие уж мы в натуре и жестокие, можем с вами и по-доброму, доброта у нас-де не заёмная, не покупная. Да! Самый момент вымахнуть великодушный жест. Отечески попенять шаловливой проказнице, уже примерно отшлёпанной, и с нежностями раскланяться, да… Я-то, господин дуб развесистый, с реверансиками перед ней, а она — когти выпускать! Упё-ёртая… С корнем обдирать эти когти! С корнем!
Кребс поджёг себя до тех крайностей, когда уже, выронив высокочтимое им самим самообладание, безо всякой связи с тем, как только что благодушничал, вскозырился, закричал во весь рот с петушьим апломбом:
— Но от врача мы требуем! Первое. Объективности! Второе. Обеспечения безопасности больного! Третье. Спокойного восприятия критики! Четвёртое. Недопустимости самокрикламы!
Кребс скосил кипящие глаза на Грицианова.
Грицианов согласно покивал.
Было в его согласии что-то и осуждающее, зовущее: невозмутимей, маэстро, не пережимай.
Кребс сделал паузу.
Продолжал уже выдержанней, ровней:
— Разъясняю по пунктам. Первое. В самом начале применения борца в онкодиспансере Закавырцевой был дан совет, чтобы она не была кустарём-одиночкой, привлекла к работе опытного специалиста онколога. Совет она не использовала. Сам профессор, — Кребс поднёс руку к груди, щедро поклонился в сторону Таисии Викторовны, — предложил вам свои услуги. Вы и здесь на своём уровне! Вы неуступчивы, вы неуживчивы. После возникновения разногласий в определении стадии заболевания при подборе больных для лечения и лично из-за вашей нетактичности мне пришлось консультации оставить. Она, товарищи, боясь, как бы её предложение не предвосхитил кто-нибудь, решила вести работу засекреченно, так как в каждом враче видела, мягко скажем, недруга, забывая о том, что каждый врач кровно печётся о благе своего народа. Она оторвалась от коллектива, появилась неточность в её документации.
Второе. По инструкции, борец следовало испытывать на больных с четвёртой стадией заболевания. Закавырцева явно нарушила свою же инструкцию. Брала больных третьей, второй, даже первой стадии! Какое право имела она экспериментировать на клинически здоровых людях? Здесь имеется недопустимый для врача факт — эксперимент на живых людях. Какое право она имела выдавать этот яд больным на руки и даже в другие города? Разве это забота о живом человеке?
Третье… — Кребс запнулся, немного помолчал. Запоздало загнул сразу три пальца. — Третье… — Голос у него слегка помягчел, выровнялся. — Спокойного восприятия критики нет у врача Закавырцевой. Это вы видели сами… Хочется пожелать, чтобы она прислушалась к мнению старших товарищей и своих товарищей. Она ж пока прибегает даже к угрозам.
Четвёртое, — заломил он ещё один палец. — О саморекламе-крикламе. Недопустим её метод коллективной обработки: Закавырцевой было дано объявление о сегодняшнем заседании в областной газете без ведома председателей обществ и вопреки их желанию, так как на это заседание не предполагалось приглашать немедицинских работников.
Мои предложения.
Первое. Данные по лечению борцом, представленные врачом Закавырцевой, говорят красноречиво не в пользу этого метода.
Второе. Врач Закавырцева неправильно производила подбор больных для лечения.
Третье. Удовлетворительное состояние немногих можно объяснить предшествовавшей лучевой терапией, а не действием борца. Лучи-лучики трудились в поте лица, а сливки слизал её борец!
Четвёртое. Просить облздрав запретить врачу Закавырцевой пользовать на дому больных настойкой борца, учитывая его сильное действие.
Пятое. Рекомендовать заведующему борским облздравом создать комиссию для оценки результатов лечения борцом раковых больных и возможности дальнейшего его использования в этих целях.
14
Дело лилось к полуночи, к концу, а боевая расстановка сил на бранном поле была, по мысли Кребса, критическая, с явным уклоном в паническую.
На листок из отрывного блокнотика он покидал в два столбца рядышком фамилии выступивших.
Закавырцева? Кребс
Прямушкина? Грицианов
Сватиков? Желтоглазова
Добровидова?
Есть, есть от чего всполошиться.
Нас меньше, думает Кребс, мы в меньшинстве, но мы в тельняшках? Не знаю, лично я тельняшку на себе не видел. Зато я чётко вижу, что их четверо, всё киты, что ихний столбушка выше. Велика Федора, да дура? Гм… гм…
С напускным безразличием он поглядывает на выступавшую Желтоглазову, в смятении прокручивает своё.
«Отмолотит племяшка свою копну, как две соломинки похожую на мою — моими же словами лупит! — кто ещё запросится на трибуну? Выскочит какой горяченький из закавырцевской а-капеллы? Отблистала Прямушкина. С дуря-буря чего не стригануть теперь какой-нибудь Резвушкиной, Быструшкиной, Вострушкиной, Ватрушкиной? Мы и так в меньшинстве, нас и так с гулькину душу, а тогда и вовсе… заколеблют меня с моими барабанщиками… Неужели я останусь на бобылях? Неужели Тайга прорвётся со своим борцом? Неужели наша барабанная тарабарщина не… Неужели не накинем на неё сегодня саван?… Неужели наша барабанная тарабарщина не обернётся для неё похоронным маршем?… Чё-ёрт, как подпирают её… Откуда и прыть у этой Прямушкиной… Прямо в копья бьётся… „Уважаемый Борислав Львович, извините за прямоту, но… Не с целью ли дискредитации испытываемого препарата вы выписали из своей клиники тех больных, которых Закавырцева по договоренности лично с вами направляла к вам, и набрали тех, излечения у кого и быть не может? Нельзя было ждать положительных результатов у глубоко инкурабильных. Тут положительный исход возможен лишь в случае, как вы поиронизировали: несли человека на кладбище, а по ошибке занесли в клинику, он сам нечаянно и поднялся… Что молебен разводить?… Считаем, закавырцевский метод лечения приемлем!“
И тю-тю-тю, и тю-тю-тю… Тю-тю-то тю-тю, да что в пику запоешь? Прямушкина — профессор глазной клиники. Тётя с весом и с довеском. Дамесса с большими бзыками. На примерах из своей клиники всё тютюкала, что борец на грани чуда… Дивушко!
Сватиков, профессор ЛОР-клиники, ей подпел:
«Настойка борца ослабляет, сникает боль, поднимает общее самочувствие. Не возражаю против применения борца».
Сам худ, а головка с пуд…
До позорного складно влилась в закавырцевский хор и Добровидова. Как только такую и терпят на посту главврача городской больницы? «Стрептомицин тоже не вылечивает запущенные формы туберкулёза. Почему же борец должен мочь всё? Уж спасибо низкое ему, когда он может то, что может. У нас в горбольнице он работает хорошо. Без претензий. Действует медленно, зато верно. Мы обязаны исключительно внимательно отнестись к тому, что тут говорилось. И нельзя, нельзя, товарищи дорогие, с пыльчику, так вот сразу снять испытание препарата. Напротив, совсем напротив! Надо шире поставить работу с борцом! Шире с ним оперировать!»
«Шире… ýже… Тоже мне адвокаты бесплатные…»
Кребс заметил, что сидевший с ним рядом кэнязь, как он про себя с завистью, с трепетом навеличивал на кавказский лад обложенного почестями, как подушками, единственного в Борске академика ректора мединститута Расцветаева, заглянул к нему, к Кребсу, в листок.
Кребс искательно улыбнулся.
Так улыбается ненадёжный студент грозному профессору, беря на экзамене билет.
— Весёлая арифметика? — шепнул Расцветаев.
— Ки-ислая.
Кребс уныло, точно приговор, посадил на пол-листа чёрный нолище в миллионной степени, благоговейно пододвинул к Расцветаеву.
Расцветаев озоровато чиркнул перед нолём ещё бóльшую кроваво-алую единичку, ободряюще тиснул Кребса за руку выше локтя и пошёл к трибуне.
Объявили его выступление.
Кребс солидно распрямил спину, развёл плечи и благостным, туманящимся от восторга взором обвёл зал. Ну вы видели, как меня сам кэнязь жалует!? То-то!
С трибуны Расцветаев разыскал Таисию Викторовну.
Глядя глаза в глаза, заговорил респектабельным, меценатствующим тоном:
— Таисия Викторовна! Я тепло встретил вас в начале вашей работы. Но, прослушав объективные выступления товарищей, я изменил отношение к вам как к врачу и к вашему борцу. Ваш эксперимент, Таисия Викторовна, увы, далёконек от науки. А чтобы решить тот или иной вопрос, надо его научно изучить, нужно данные анализировать, анализировать, анализировать. А не так легко и быстро выскакивать на сцену.
Моя точка зрения: вряд ли от применения вашего препарата можно ожидать эффекта. Как же быть дальше? Огромный опыт, который накопила медицина, является основой для наблюдений и исследований. То же, чем пользовались в Тибете и чем пользуются травники — это голая эмпирика. Вам нужно отобрать зерно, отбросив фантазию.
Если вы увлечены, продолжайте исследования. Изучите химические свойства. Изучите вещество в эксперименте на животных. Именно так уже был разоблачён не один хитростный всеумейка… Если хотите, в нашей лаборатории мы можем помочь вам решить вопрос, стоит ли направлять свою жизненную энергию на разрешение этого вопроса.
Моё предложение. Негоже лечить больных борцом, а нужно экспериментировать на животных в лаборатории. С людей переключайтесь, голубушка, на животных. Всё должно идти в обратном порядке. Сначала пробуй на мышке, потом уж подступай к человеку. Давайте начнём работать на научных основах!
Зал придавала тягостная лунная тишина.[40]
А Кребс зааплодировал.
Однако его никто не слышал. Он беззвучно хлопал, держа ладони меж коленями под столом.
«Что и требовалось доказать! — ликовал он, внешне оставаясь совершенно равнодушным. — В лабораторию! В лабораторию!! В лабораторию!!! В глушь! В Нарымчик! Аи да кэнязь! Аи да кэнязь! Наша тяжёленькая артиллерия. Из последних лукавец! Сегодня он тебя вежливо сдёрнул с пьедестала и на веки вечные упёк в лабораторию. Забавляйся с мышками! Хоть до тысячного пришествия. На твой век мышек хватит… В лаборатории, под его недремлющим оком, ты, Тайга Непроходимовна, и усохнешь. Всяка сучонка знай свою конурёнку! Ай да кэнязь! Ай да кэнязь! Похороны совершил по всем нормам светской этики. По высшему разряду! Тихо, мирно, интеллигентно. Интеллигентно замуровал в лаборатёшку!»
Кребс потрепал под столом мосластое грициановское колено. Ну, Грицианчик, наша как расчесала!
Сабо самой, постным ответил взглядом Грицианов и объявил, что заседание закончено.
Из зала защёлкали обрывчатые, резкие, как выстрелы, возгласы:
— Ка-ак закончено?
— А Закавырцева?
— А заключительное слово?
Кребс смешался. Ну Грицианов! Ну щербатый ржавый Скальпель! Деревянный Скальпель!.. Ну Сабо Самой! Забыть кинуть пяток минут на заключительный пар. Это только Грицианов такое может. А теперь что, после самого Владим Владимыча слушай мышку Закавырцеву? Да мыслимо ль? Ведь везде ж, где ни присутствуй Владим Владимыч, последнее слово всегда только за ним. Это вошло в этикет.
А зал подпирал:
— Обещали Закавырцевой слово!
— Такое-то ваше обещание?
Кребс распято лупит на Владим Владимыча глаза. Побитым псом уткнулся в стол Грицианов, не смеет дохнуть. Через какое-то время отваживается с зябкой, мятой надеждинкой вмельк бросить покаянный взор на Владим Владимыча.
Владим Владимыч в явном дискомфорте.
Но что же делать?
С минуту Владим Владимыч не то колеблется, не то наслаждается грициановской казнью. Наконец, перегорев, переломив себя, широкодушно снисходит. С видом: не надо бы уступать, но у доброты свой норов — едва заметно кивает.
Грицианов светлеет, как мальчишка, освобождённый от стояния в углу коленками на горохе, и, боясь, как бы Владим Владимыч не передумал, радостно, взахлёб выпаливает, что заключительное слово предоставляется врачу Закавырцевой.
Медленно, трудно, долго идёт Таисия Викторовна к трибуне. Долго оттуда, сверху, пристально, вприщур всматривается в лица внизу, словно старается все их запомнить.
— К зениту науки, — упали в зал её опечаленные тихие, но всюду ясно слышимые слова, — приходят различными путями. Наиболее частый, наиболее лёгкий путь — когда диссертант находится под защитой руководителя, влиятельных пап, мам, родственников и даже друзей по взаимосвязи. Но есть и другой… тернистый путь… Появилась идея. И чем она важней, тем трудней преодолевать препятствия, исходящие от противников, уже оперившихся сединой, имеющих положение в науке, тогда как идеи просекаются чаще в молодом возрасте ещё наивных людей, не умудрённых жизненным опытом, не имеющих научной подоплёки, даже не умеющих правильно оформить появившуюся идею. Нередко учёный значительно раньше автора ухватывает ценность идеи и стремится, в лучшем случае, возглавить её. Но если это ему не удаётся, то можно считать идею похороненной, автора осмеянным, изолированным и даже уничтоженным в неравной борьбе…
— Что это за лирическая аллилуйя? — жёстко перебил её Грицианов. — На дворе ночь! У людей дома семьи, а вы нам с лирикой про неравную подковёрную борьбу! Не хватит ли мочить корки? Давайте, понимаете, аукаться по существу!
— А разве я не по существу?… Ладно, я буду плотней… Товарищи, вы только вдумайтесь, пожалуйста… Какие вы сказки рассказываете своим детям? Народные… Какие вы песни поёте дольшь всего? Верней, всю жизнь? Народные. Какие танцы танцуете? Опять же на-род-ные. Ни к сказкам, ни к песням, ни к танцам народным никаких претензий, одна любовь сплошняком. Все мы на них выросли, все мы ими живём. Но как только дело подворачивает к народной медицине, так тут носы поганисты ворочам, так тут сам чёртушка в бок шилом: не верим! знахарство всё это! — и хва-ать за шашки рубить головы неподслушные.
А не спешите рубить.
Народная медицина — глубочайший кладезь народного ума, народного опыта. И не спешите в этот колодец плевать, пить нам же из него ох и до-олго… Умной, официальной нашей медицине жить им и жить многие и многие века, черпая именно оттуда ответы на закомуристые задачки.
Давайте вместе подумаем. Разве народ начал лечиться лишь с открытием медицинских институтов? А разве раньше он не болел? И болел, и, слава Богу, лечился, и что-то неграмотные врачуны лечили способней нынешних академиков. У всех у нас на памяти круглый стол уважаемого Владимира Владимировича в местной газете. Стол как стол. Был бы обычным, не вывороти одна журналистка про свою беду. Скрутил её радикулит. Всех борских гиппократов обползала, а радикулитище всё наглей. А радикулитище всё свирепей. Проходит год — никакого спасу. Инвалидность дают!
И тогда журналистка наплевала на брёх про знахарство и увеялась со всеми своими охами и ахами в глухоманкину нарымскую деревнюшку. К бабушке! Через неполную неделю возвращается — счастливей человека нет на свете!
Так вот эта журналистка и подкати колесики к Владимиру Владимировичу, просит объяснить, что за дивушка сидят в руках у той у ветхой бабунюшки. И Владимир Владимирович ответствует: а никакого чуда, просто массаж.
В задних рядах срывисто заржали.
— А не смеяться — плакать хочется. Почему тёмная, неписьмённая старуха выбивает боль, а дипломированные врачи, учёные разостепененные мужички, нагружённые громкими титулами, как телега в осень всякой огородной всячинкой, не могут сделать того же массажа. Они только и способны, что списать человека в инвалиды? Ка-ак тут не захочешь плакать? А раз зудится — заплачем. И скоро. Кинемся мы ведь искать ту старуху, спохватимся выведать её секреты, да не выведаем. Стариковский век быстриночкой мечен. Не успел дыхнуть, уже свернулся. А из могилы кто нам что расскажет?… Здесь медики. И каждый ли из вас брезгует знахýрками? Нет здесь ни одной живой души, чтоб потаённо не бегала к знахуркам?
Таисия Викторовна мёртво взгляделась в зал, будто отыскивала поднятые руки.
Но поднятых рук не было.
Как-то нелепо смущённо молчал зал, молчал президиум.
«Криво рак выступает, да иначе не знает…» — подумал Расцветаев и целомудренно-укоризненным голосом сказал в тишину:
— Таисия Викторовна! Вы злоупотребляете нашим терпением. Вы что же, до утреннего гимна нас собрались держать?
Таисия Викторовна повернулась к нему:
— Действительно. Не сидеть же до утреннего гимна. Начните с себя, Владимир Владимирович. Скажите, кто лично вам ставит пиявки? А кто поднял вам сына?
В зале зароптали.
— Клевета! — вскинулась со своего стула в середине зала Желтоглазова и, неистово жестикулируя на все стороны, араписто завопила: — Это клевета! Ложь!.. Товарищи! Да как мы можем позволить ей так бессовестно чернить дорогого всем нам Владим Владимыча?!
Расцветаев целомудренно устало улыбнулся. Немного привстал из-за стола, сказал Желтоглазовой:
— Садитесь, пожалуйста, не волнуйтесь так горячо. Увы, Таисия Викторовна говорит правду.
Немое изумление вытянуло лица.
— Видите, — продолжала Таисия Викторовна, печально глядя на Расцветаева, — от людей ничего не утаишь. Люди знают всё. И то, что сестра мединститутского конюха превосходно ставит пиявки. И то, что ваш сын, упав на ледяной горке, получил сотрясение мозга. Врачи его мучили, мучили… Было совсем не закололи уколами… И вы через подставных лиц показали его бабушке с Истока. Бабушка без лекарств поставила на ноги, даже не ведая, что у него папа акадэмик. А узнай, она б со страху померла. Но зачем всё это скрывать? Зачем врать друг другу? Зачем мы с этой трибуны оплевываем этих безвестных, этих мудрых, этих великих гуманнейших стариков, по крупинкам собравших многовековой опыт целого народа, а, слезши с трибунки, бежим, одевшись потряпивше, бежим, тряся махрами, к ним подлатать своё здоровьишко? Где же логика, господа?… Если сравнить возрасты народной и научной медицины, так это глубокая старуха и малое дитя, ещё пустенькое, капитально глупенькое, как все нормальные дети, а вместе с тем оно уже и сверх меры занянченное, зацелованное чадолюбивыми родителями, а потому и спесивое, перекормленное, нарывистое, под всякий каприз садистски помыкающее на свой недалёкий лад бедной, умаянной бабкой. Это не хочу, это не ем, это мне не нравится и вообще катись ты от меня, старая старушня, от тебя по-старушечьи воняет! Бабка без утиху плачет, уревётся украдкой, да терпит ради малого дурашки, терпит ради спокойствия его отца-матери. Бабка всё в тенёк забивается, всё на обочинку вильнуть норовит, но её и в теньке достают, и с обочинки на сам большак сдёрнут. Не могут без неё в доме! И за дитятком уход неси, нагуливай поправку, и отцу-матери из еды всё сготовь, и в доме полный глянец наведи, наблести — да упади под горький случай бабка, падёт и весь дом… Ах, бабка-косолапка! Ах, великая ты мудрорукая мученица! Откуда ты только и силы берёшь такой воз тащить?… Мы только на словах, как на гуслях, да с трибуны добренькие. Бери-де всё лучшее из народовой копилки! А сунь руку к копилке, тебе в самую душу грязным сапожищем и смажут. Знахарство! Яд! Не сметь!.. Конечно, среди знахарей до вихря порчунов. А разве среди врачей в диковинку эти самые порчуны? Только уже с дипломами? Знахарь знахарю, как и врач врачу, рознь. На эту тему можно без конца аукаться. Однако пора б уже и упомнить, что знахарить идёт от знать, что ниточка знахаря вьётся из клубочка: знать, знайка, знаткой, знаток, знатуха, знатоха, знаха… Знахари-то говорят, как огород городят…
Таисии Викторовне вспомнилось, выблеснуло аксаковское. В руке было наготове несколько цитат. Поднесла к глазам одну.
«… доктор… прислал мне чай и пилюли и назначил диету. Всё исполняли с большой точностью, но облегчения болезни не было; напротив, припадки становились упорнее, а я слабее. Чай и пилюли бросили, принялись за докторов простонародных, за знахарей и знахарок… Я совсем не против народной медицины и верю ей, особенно в соединении с магнетизмом; я давно отрёкся от презрительного взгляда, с которым многие смотрят на неё с высоты своего просвещения и учёности; я видел столько поразительных и убедительных случаев, что не могу сомневаться в действительности многих народных средств… Мне начали… давать „припадочные, или росные, капли“, и с первого приёма мне стало лучше; через месяц болезнь совершенно прошла… я не держал ни малейшей диеты. Сколько было бы шуму, если б так чудотворно вылечил меня какой-нибудь славный доктор!»
Кусочек ловкий, к месту.
Но она усовестилась его приводить, жалеючи поздний глухой час, и лишь твёрже прежнего сказала:
— Сметь! Надо сметь!
— Не всякая смелость города берёт! — с подсмешкой пустил Кребс.
Это царапнуло её.
Она тут же отхлестнула:
— Борислав Львович! Как вы-то при вашем профессорском звании дорапортовались до того, что борец — яд, которым только и травить организм? Так неосторожно поехать во всю матушку…[41] Разве вы не знаете, что борец фармакопейный? Разве вы не знаете, что все, я повторяю, все-е! лекарства в большой дозе — яд, а в разумной целебны? Уж, казалось, ну какого счастья дождаться от змеи? Клюнула — смерть! А смотри, обвила змейка чашу. Стала нашей эмблемой. Под такой момент как не вспомнить?
С пятого на десятое скакала она — время, время! — бегом пересказывая, что в старину змей «считали не только самыми опасными, но и самыми мудрыми. У грузин есть сказание: человек, побеждающий змею и питающийся змеями, становится мудрецом.
А греки богиню здоровья изображали в виде змеи: она ежегодно меняла кожу, оставаясь вечно молодой.
Известна классическая скульптура древнегреческого врача Асклепия (у римлян он назывался Эскулапом) со змеёй, обвившейся вокруг его посоха.
У греков было предание.
Умер единственный сын Миноса, легендарного царя острова Крит. Отец обещал великую награду тому, кто воскресит царевича. Послал гонцов за знаменитым лекарем.
Присев отдохнуть на дороге, ведущей во дворец, Асклепий вдруг увидел на своем посохе змею и, испугавшись, убил её. Но тут же сразу приползла другая с целебной травой во рту и оживила убитую. Воспользовался врач знанием змеи, взял драгоценную траву и оживил ею наследника престола. Так стал Асклепий еще более знаменитым, «Богом врачебного искусства». С тех пор будто и появилось на его посохе изображение одной или даже двух змей. Мудрая змея стала символом врачевания, символом медицинских знаний».
— Помилуйте, Таисия Викторовна! — взмолился Грицианов. — Ну сколько можно водить коридором?[42] Да вы что, всё это всерьёз? Мы что, на ликбезе? Что вы, как дошколят, пробаутками нас усыпляете? Только и осталось, упасть да пропасть![43]
— Не горячитесь, Леопольд Иваныч, — мягко тронул его за руку Кребс, — а то кровь себе подпортите… Жаль, что вы не уловили актуальности в информации. Змейка с травкой во рту — роскошь! Спешу уточнить у бухенвальдской крепышки… — И в нетерпеливой тряске потянул руку к Закавырцевой: — Скажите, Таисия Викторовна, какая травка была во рту? Борец?
— Не важно какая. Важно — травка!
Кребс сосредоточенно, изысканно вежливо кивнул.
— Спасибо. Просветили.
— Тогда уж заодно просвещу и насчёт того, почему я выдавала борец на руки. Это обвинение отпадает само собой. Я говорила об этом в министерстве. Мне пошли навстречу, разрешили амбулаторное лечение настойкой. Не маять же человека в стационаре до полутора лет!.. Что еще?… Как и следовало ожидать… Я практический врач, встретили меня с большим препятствием. Все новые предложения встречаются с большой критикой. Борьба нового и старого неизбежна… Во всяком предприятии сейчас же являются противники. Я должна была рассчитывать, что не останусь без них… И не осталась… Я очень много положила честного труда… Хотела что-то полезное сделать… Но всё ушло прахом… Не сумела я оформить… не сумела доложить… Не сумела отстоять… Пускай… Я работала не на марсиан… Пускай мой труд не принёс большой пользы, а и то, что облегчила я страдания людям, уже стоит внимания.
Борец был исследован в Москве. Я считала, что у нас в Борске им займутся плотно… Помогут мне в мединституте… Но плотно занялись не борцом, а мной… Я осталась одна, как кочка в поле. Что я могу в одинарку? Не я отошла от коллектива… Зараньше, когда ещё ничего не было известно, мне все наперебойку твердили, что ничего полезного в борце нет…
Дело всё скомкано… Считаю, времени на доклад было мне мало, пришлось идти галопом…
Говорить о каких-то результатах через два месяца лечения у инкурабильных больных нельзя, а у профессора Кребса они лечились не более двух месяцев…
Судя по выступлениям, профессора Кребса и врачей-онкологов удовлетворяют нынешние методы лечения. Я не могу с этим согласиться. Буду углаживать свой метод. Перед трудностями я не имею права падать. Я такой же слуга народа, как и все врачи… Недостатком заседания… Да, вот шарлатанство… Товарищ Кребс тут всё про шарлатанство шумел. А как назвать его?… Это не шарлатанство, а разбой какой-то… Тут он выворотил, что излечённые мои больные вовсе никогда и не болели раком. Поясню… Диагнозы я не устанавливала, это делали ведущие онкологи от Москвы до Борска. Как видите, вовсе нешарлатаны ставят диагнозы… Повторяю… Я пользовалась уже готовыми диагнозами, в том числе и самого господина Кребса. То он слал мне страдалицу со своим диагнозом, я лечила. Он снова смотрел её, писал заключение, что такая-то излечена, а тут я слышу — не было у меня раковушек. А кого же он ко мне слал? А кого я выхаживала? Что за чехарда! Почему он вдруг изменил своё поведение и стал противодействовать? Почему это он так ретиво взял крен на сто восемьдесят градусов? Я не люблю ходить вокруг да около… Я как есть… Я скажу…
Ещё когда мы с ним поступали в мединститут, он к пущей важности вызубрил в упор[44] семь латинских изречений. И потом всю жизнь щеголял ими, давил всех своей эрудицией. Я так часто слышала их от него, что запомнила. Сегодня вы слышали уже шесть. А седьмое я вам сама скажу. Еgo nihil timeo, quia nihil habeo. Я ничего не боюсь, потому что ничего не имею! Новое поведение профессора Кребса, который весьма квалифицированно организовал отрицательное заключение вопреки мнению профессоров трёх клиник, я считаю жестокой расплатой за то, что «не проявила практический реализм» и не передала ему в руки свой борец, в эффективности которого он как никто здесь убеждён!
Кребс заставил себя засмеяться.
Но сработал грубовато, нечисто.
Смеялся он с явно видимой натугой.
— Таисия Викторовна, — сказал он, отсмеявшись, — я бы посоветовал вам поучиться вести себя в приличном обществе, а то ведь за ваши фэнтези можно очутиться и в суде.
— А хоть сейчас! — с твёрдым спокойствием ответила Таисия Викторовна. — Видали, фантазия! Грубейшим недостатком этого нашего собрания я считаю отсутствие демонстрации излечённых. Неужели можно поверить, что отменили её только из-за нехватки времени? Да давайте вот сейчас начнём демонстрацию и сразу откроется, кто шарлатан и мамона.
— Никакой демонстрации! — пискляво вскрикнул Кребс. Истёртые нервы начинали его подводить. — Никакой!
— А почему эт никакоечкой?! — вдруг грянуло от входа. — Почему никакоечкой? Да уши заповянут слухать вашу глумёжную вздорицу! Унизить тако какого человека и — ша?! Иэх! Язык не картошка, не мнётся, а меля, что хоча!
От двери гулко по проходу, глянцевито рассекавшему зал надвое, шла Маша-татарочка, шла к сцене. После нескольких торопливых шагов её сорвало на рысь. Дёргая-взмахивая выставленными локтями, точно обрубленными, оголёнными от перьев крылами, ладилась она на бегу развязать крутой платошный узел под низом лица.
Узел не поддавался. Тогда она выдернула из платка голову, как лошадь из хомута, шваркнула так и не развязанную серую тёплую пуховку в сторону.
В следующий миг, дёрнувшись вперёд, стряхнула с плеч состарившуюся вместе с нею вельветовую заношенную плюшку.
Зал ожил, заворочался.
В разведку потянулись с мест голоса:
— Штой-то горячо бабоньке…
— Разбрасывает амуницию…
— Сдвинута по фазе…
— Похоже на хулиганство…
— Щас расстегнёт глотку!
У ступенек, ведущих на сцену, Маша вкопанно стала, потом повернулась к залу лицом.
Руки её тряслись под подбородком. Её подпекало расстегнуть кофту, но пальцы, в овражках трещин от чёрной работы, не слушались, вдесятером суматошно толклись возле одной верхней пуговки и никак не могли впихнуть её в петельку.
Потеряв всякое терпение, перебежали пальцы на ворот — только брызнули пуговицы белым звонким дождём.
Чуже, плетьми, упали руки к бокам.
Разорванная кофта, хрустко выворачиваясь, с шипом наползла, прикрыла собой верх юбки, схваченной бельевой бечёвкой.
Притих, насторожился зал. И все а! — уши топориками.
— Хулиганство полное! — холодно констатировала Желтоглазова.
— И как не стыдно! — преданно и спешно поднёс ей поддержку кто-то из кребс-крабиков.
— А чего стыдно? Мы не на светском балу… Если это и хулиганство, так плановое. У нас предусматривалась же демонстрация излечённых больных!
— Если это демонстрация, так недолечённых психов!
Оглохнув от горя, Маша не слышала ядовитых реплик.
— Люди! — сказала она. — Вы все врачи, и голая баба разь вам кому в чуду? А вот мне в дичь… Я хочу спросить, что у вас здеся? Цирк шапито?… Что молчите рыбами, когда пустобрешливой Кребс колоколит чего издря? Иль в вас зрение потухло, иль в вас души умерли? У вас же на глазах под пяткой топчут, губют, трут в муку какого человека! А вы, холоднокровые, позастегнули рты на замочки? Чего рты позажали-то? Иля уж воистинку: не я засыпал, не моё мелется? Ох люди! Ох горькие! Ума не дам… Да еслив у меня не было той проклятущей заразы, на что ж было обдирать меня, как зайца?
Маша подняла руки к тем местам, где должны были бы быть груди, и только тут все увидели, что грудей там не было.
— Кребс склал диагноз ваш. Грицианов, хирург, понятно, резал… чекрыжил… Если ничо не было, зачем жа отсекли грудя? Зараде какого смешного интереса? Они, — ткнула в Кребса и Грицианова, — не барского десятка, нехай слухают… Они испоганили мне весь верх. Выхватили и весь низ… Вымахнули всё женское хозяйство… Грицианов потрошил, как курку… И года ещё стары не прибыли, а я уже от бабьей от радости отсажена. Ну хорошо, что ещё до войны народила всех своих. Ну хорошо, что мужа накрыла военная лихость, не вернула с фронта. А то что мне делай? Да и… На словах не обскажешь… Выписали, как вы говорите, в тяжёлом, в носилочном состоянии. Выписали помирать. Я б тутеньки уже не тренькала язычком… Э-э!.. Ещё б когда совсем упала, да спасибушко, — Маша трижды поклонилась Таисии Викторовне до полу, — да спасибушко великой нашей страдалице Таись Викторне. Подпёрла борцом, не дала упасть. А тепере ей ишшо и выговорешник? За то, что выдернула с того света?
Маша зябко поёжилась и, рдея, надвинула кофтёнку снова на плечи. Держа её за края на груди, умаянно потащилась по ступенькам на сцену.
— Раз у нас демонстрация, — сказала со сцены Кребсу, — вот и скажи, профессор хороший, что было и что стало… Посмотри и скажи миру, что у меня сейчас посля борца?
Маша взялась за кончик бечёвки, коротко свисал из узла.
— Что вы! Только не это! — горячечно зашептал Грицианов, подскакивая к ней на пальчиках. — На сцене раздеваться!
— Так вы ж нас звали сюда напоказ? Или на что? Законфузился, шайтан его забери! На операции резал, как барашку, а тут законфузился!
— Всему своё место.
Из зала спросили:
— Грицианов! Вы что там шепчетесь? Нам тоже интересно послушать.
И Маша ответила:
— А смотреть не желают, как работает честняга борец… Наш Борисушка… Раздеться дажно не велят… Ну что ж… Тогда я и без смотринки так скажу Кребсу и всей его окружке… Как лягуха ни прыгает, а всё в своём болоте!.. Егози, профессор, не егози, а шляпой солнце не закроешь!
Кребс солидно промолчал, злобчиво скосил глаза на Грицианова. Да сворачивай ты, шизокрылый, это идиотское заседание!
Кребс видел, как от входа к сцене двинулись плотным ватажком женщины. Впереди была Шаталкина, видеть которую Кребс органически не мог.
Грицианов торопливо объявил, что повестка исчерпана, заседание на этом закрывается.
Он говорил и видел, что к сцене идут женщины. Он недоумевал. Он впервые видел, что при закрытии заседания люди шли не к выходу.
— Товарищи! — громко заговорила Шаталкина, и любопытные лица повернулись к ней. — Нас вызвали сюда, хотели показать, как нас выходили борцом. Но это кое-кому не по шерсти. Я всёжки скажу… Не всякий раз — обязательная операция, не обязательно лучи… Меня посмотрел Кребс. Шлёт под нож, под лучи. Грицианов уже свои наточил ножищи меня шматовать. А я прежь чем лезти под операцию заверни ещё к Таись Викторне. И гореносица наша сказала, что без операции, без лучей можно подштопать меня. Она говорела, ранний, ещё квёленькой, ещё хиленькой рачок одолеть за всё просто. Всё едино, что чирей угасить. Набралась я духом и дала Грицианову расписку. Под расписку отбрехалась, ель отбилась от ножа, от лучевого огня. И не прогадала. Таись Викторна свет травушкой осадила, задавила во мне беду. Нынь я здорова… бревном не ушибить… Здорова, как машина!.. Ка-ак ма-ши-и…
В её взор вплеснулась растерянность. Она видела: поднялся президиум, стал стадом разбредаться.
Глядя на президиум, и в зале повалило всё к дверям, гремя отодвигаемыми стульями, и Шаталкина, вконец смешавшись от разбредаемого народа, поникла, смолкла на полуслове.
Кребс мёртво сгрёб Грицианова за руку и поволок за красную стену занавеса.
— Слушай! — удушенно замычал Кребс, давясь от злобы, когда они остались одни. — Ну так глупо ударить в грязь яйцом!.. Да что за крезаторий[45] вы открыли в своём дурацком онкодиспансике?! Эта непристёгнутая расчехлила лапшемёт… Эта одна паршивая «заблудшая овца может целое стадо пастырей испортить»! Не в состоянии операцией заткнуть глотку этой Шаталкиной!? Неужели вы не в состоянии поймать эту буйнопламенную и для галочки вырезать у неё хоть что-нибудь? Это лично ей, разумеется, не надо, ей вовсе не надо, но до зарезу надо ва-ам! мне-е! Нашей репутации!.. О-о!.. Дубики-дубочки… Наживу я с вами рак головы! Грош тебе как главному цена, если не можешь убедить человека в том, что ему необходимо лечь на операцию, пустяковую, крайне безвредную, но до смерти необходимую. И срочную! Раз мазнули, надо дельце чётко выруливать! Выруливать!
— Дорогой Борислав Львович! Кровь откуда хошь, но — рульнём! Гад буду — рульнём! Ох да кэ-эк рульнём! — клялся Грицианов. — Я этой Шаталке-скакалке ещё устрою чих-пых!
16
А на следующее утро Таисия Викторовна проснулась совершенно больной, какой-то раздавленной, будто на ней остановился гусеницами трактор и поплясал.
Вспомнилось вчерашнее заседание.
Холодный страх закрыл ей глаза.
Передёрнувшись, она рывком надвинула одеяло на голову.
Со стены, из динамика, бодро ударила музыка — пошла заставка к уроку гимнастики.
— Крошунечка, — сказал Николай Александрович, похаживая в трико по комнате и поглаживая себе руки от кистей к плечам, готовясь к первому упражнению. — На правах штатного молчуна позволь мне мини-лекцию… Неужели ты думаешь, раз закрыла глаза, то снова стало за окном темно? Не кали себя, не трави… Жизнёнка штука кусучая, линявая. Вчерашнее отжито по-вчерашнему, а сегодня надо жить по-сегодняшнему. Может, ещё попадёшь на Международный онкологический конгресс в Москве…
— Разговоры давно идут…
— Может, когда-нибудь и соберутся? Позовут… Развеешься… Вставай. Уже урок…
Она примёрла под одеялом, не шевельнулась.
«Хох… Жидковато в тебе, малышка, борцовского пару. Выходит, в первой же драчке весь выпустила?… А была бритва, огонь…»
Он не стал нудеть, не стал её трогать, иначе он был бы не он, и, выключив динамик, побрёл разводить керосинку. Должен же кто-то готовить завтрак? Скоро вскочат Гоша с Милой. Детей в институты голодными не выпроводишь.
«Сколько живём, ни разу не пропустили гимнастику. День завязывался всегда с гимнастики. От неё, по домашнему уставу, освобождался лишь больной. Но из нас никто, сколь вместе живём, ни разу не болел… Ни разу…»
Вжав в плечи голову, понуро утащился к себе в милицейскую поликлинику Николай Александрович. Потом убежал в политехнический Гоша, а следом и Мила в медицинский. А Таисия Викторовна всё лежала, не решаясь высунуться из тёмного тепла под одеялом.
У неё была температура.
Это она знала без градусника. Она спокойно могла вовсе не идти на работу. Но как не идти? Это школьная детворня по своей малолетней жестокости и сглупа безумствует от счастья, когда хворь примнёт учителя. Не надо готовить уроки! Ну а какая радость у больных, свались сама их лечащая врачица?
И она пошла.
Мёл снег, плотный, лохматый, крупный, как лапоть. Первый нелёжкий снег щедро сыпал на сухую, точно пепел, землю.
Она любила зиму, любила пушной снег особенно в первые дни. Однако сейчас эта суетливая серо-мутная круговерть, эта весёлая заметуха совсем не грела ей душу, слепила глаза, и ей казалось, что она ясно чувствовала холод и давящий вес каждой опускавшейся на неё снежинки.
Она вошла к себе в полутёмную клетуху в свой час, минута в минуту, и сразу глазами в угол. Пусто. Где настойка? Боже! Да куда девалась целая четверть?!
Не раздеваясь, в уличном, подхватилась бегом на второй этаж к Грицианову.
— Леопольд Иванович, чепе! — в доклад с порога. — Настойка пропала!
Грицианов без охоты отлепил от бумаг скучное лицо.
— Прежде всего успокойтесь, Таисия Викторовна… Присаживайтесь… И запомните, у нас в диспансере ничегошеньки не пропадает, вот только вовремя не находится. Только и всего…
— Но я везде у себя обшарила. Нету!
— Верно. Нету и не будет. Хватит вихляться. По кривой дорожке вперёд не видать. Я вашему голубому лютику[46] по всем правилам, пардон, надел намордник. Опечатал…
Она привстала, с остановившимися глазами шатнулась к Грицианову, хотела что-то сказать, но забыла, что именно хотела сказать, и, конфузясь, снова села.
Грицианов ловчей угнездился в кресле. Налёг грудью на руки, лежали одна под одной по краю зелёного стола.
— Таисия Викторовна, вы вчера убедились, чего стоит ваш кудесник-расчудесник лютик? Не понимаю, как это он вам сел в сердце… Ну да!.. Давайте закруглять эту художественную самодеятельность. Разве я неправ был, ещё в самом начале отказавшись от его испытаний в целом по диспансеру? Пра-ав! Время голосует за меня. И только в том моё мягкодушие, что вам одной разрешил им пользовать. И каков, простите, улов? Успех? Все-е вчера прекрасно слышали, сколько ваших умерло. А сколько ещё находятся на пути к этому? Вы дискредитируете общепринятые методы лечения. С нас довольно ваших лавров! Был грех, дал я слабинку. Теперь исправляюсь…
— … проявляя твёрдость?
— Разумеется.
— А больные? Вы подумали? Да… Чужая болька не болит… Отнять у них настойку — всё равно что у тяжёлых, у испытывающих кислородное голодание, по-разбойничьи выхватить кислородную подушку.
— Вам кажется… — всё так же тоскливо, на одной ноте тянул Грицианов. — Это ваши личные умозаключения… У вас нет подушечников и нам нечего выхватывать. Человек слаб, суеверен. Внуши, что камень целебен, накатится грызть камни, и скоро человечество останется без Гиндукуша, без Эвереста, без Казбека, без прочих мелких горок. Всё поест!
Она не помнила, как вышла от Грицианова, как спускалась по лестнице, как вошла к себе. Очнулась, вернулась в себя, когда зазвонил телефон.
Ей сказали, что в клинике Кребса не стали давать борец.
Она ни слова не сказала в ответ, положила трубку.
«И Кребс… Со всех сторон заговорила тяжёлая артиллерия…»
Приближалось время капель.
Она несколько раз подходила к своей палате и, поторчав, как истукан, у двери, на цыпочках отходила. Нет, не могла она войти и сказать, что больше ничем не может помочь. Сказать так — значит забрать последнюю надежду?
Она присела в своём кабинетике.
Минутой потом тенью втекла к ней одна из её ходячих.
Вошедшую не удивило, что Таисия Викторовна у себя в кабинете сидела в пальто, в пуховом платке. Комната была сырая, холодная. Сам Грицианов считал её пригодной лишь для морга. Вошедшую подивило то, что сидела Таисия Викторовна не на своём обычном месте, а сбоку стола, на древнем посетительском стуле, скорбно вскрикивающем всякий раз, едва на него садились.
— Таисия Викторовна… генерал-капелечки… Самое время. Не забыли?
Таисия Викторовна отрицательно, чуже покачала головой.
— Кончились, больнуша, капелечки… Ушли…
— А подвезут навскоре? А то мы навродь груднят. Не дай в пору соску, воюшкой завоем. Без соски жизня стала!.. Вы уж, мамино сердце, выстарайтесь, чтоб поскорейше было… Безо время рази отымают у детёнка соску?
Таисия Викторовна уронила лицо на ладонки и зарыдала по-бабьи горько, навскрик.
А ближе к полуночи позвонила Шаталкина.
— Таись Викторна!.. Таись Викторна!..
А дальше ни слова. Голос, слезами одетый.
— Тáнюшка! Да что стряслось?
— Ой, Таись Викторна! Переболталось кисло с пресным,[47] так переболталось!.. Вертаюсь я со своей смены. Ночь. А дома детишки от слёз пухнут… Игрались они, значится, во дворе. Подлетела шизовозка с крестом. Вываливаются горками два санитара с носилками и Желтоглазова. Как описали, так это она, Желтоглазова. Эта рысь непутявая сразу к ребятне: «Не покажете, где тут у вас живёт раковая Шаталкина? Вот приехали с носилками забрать. Надо ей срочно на стол, под операцию». Ей сказали, что я на работе. Она крутанулась да умчалась вон. А по двору поползло змеёй шу-шу-шу, шу-шу-шу. Все своих лавриков от моих хвать, хвать, хвать. В секунд порасхватали! Мои и остайся одне. Никто, последний соплюк, играться с нимя уже не горит!.. «У вас мамка раковая, зыразная, и вы таки ж…» Таись Викторна, сердце не терпит… Как чужую беду — я водой разведу, а на свою на беду — сижу да гляжу… Как жить?… Ка-ак жить, Таись Викторна? Научите… Надо теперь бежать из этого дома. Уеду!.. Сживают с места! Уеду!.. Знай подламывают, знай подговаривают на операцию… Чего, какого лешего оне домогаются? Я ж здоровящая тёлка… При полном здоровье… А у них зуб горит резать меня. Зачем? Заче-ем?…
— Тут и слепой видит… А чтоб скомпрометировать и борец мой, и меня… Я завтра поговорю с этой с чёртовой куклой Желтоглазкиной…
И лучше б не говорила. Всё не в толк.
Едва Таисия Викторовна подвернула разговор к врачебной этике, к гиппократовой клятве, как Желтоглазова и взвейся — бесстыжим глазам не первый базар! — с подсолом окусываться:
— А мы вашу методу блюдём. Вы говорите больному правду о нём? И мы по-вашенски, по вашему руслу поворотили.
— Так я говорю больному, а не его детям, не соседям, не улице!
А между тем стало вязаться что-то такое, чему Таисия Викторовна не могла сразу сложить названия.
Вдруг Грицианов сделался предупредительно учтив, обходителен, мягок, даже любезен.
— Ну к чему, Таисия Викторовна, вам лишние хлопоты? — сочувствующе сказал он и освободил её от ночных дежурств, хотя она и противилась твёрдо.
Месяц спустя уже без слов отвёл её от присутствия, от обязательного ранее присутствия на врачебных обходах.
А седьмого марта, после торжественной пятиминутки, оставил одну, молча плеснул ей приказ об её же увольнении.
По диагонали пробежала она вздрагивающий у неё в руке листок.
— Это… ваш скромный… джентльменский подарок мне к Восьмому марта?
Грицианов, кажется, смутился.
— Расценивайте, как хотите, — сказал он. — А по мне, этот подарочек вам поднёс покойный Нудлер. — Грицианов свёл глаза на приказ. — И подарок, и счёт.
— По приказу, Нудлер отравился борцом. Но у меня никакого Нудлера не было! Это больной Желтоглазовой. Не установила диагноз. Запустила. Болезнь не стала ждать… На кой же мне вешать чужой чёрный орденок?
— Я думаю, с Нудлером мы ещё разберёмся. Выясним, чей он, кто довёл его до кладбищенской кондиции. И даже если Нудлер не ваш, всё равно одна ласточка вам погоды не сделает. Нудлер — последний блёсткий мазок к вашему портрету… Вы прочитали приказ. В приказе по пунктам расписаны все ваши заслуги. Больных кроме четвёртой стадии брали на лютик? Бра-али… Держали у себя настойку? Дер-жа-али… На руки выдавали? Вы-ыда-ва-али…
— И за это всерьёз можно уволить?
— За это можно всерьёз посадить.
Она немного подумала.
Нарочито буднично, однако слегка взадир возразила:
— Леопольд Иваныч, вы непростимо расточительны в своих посулах. Да ведаете ли вы, холодный рыбак,[48] что у меня ни од-но-го выговора, даже ни одного замечания? В нахвале всё бегала. Множень раз отмечали! Всё повышали, повышали и… повесили… Всё росла… Зигзаги роста…
— Увы, всякий рост имеет предел… И растут не только туда, — Грицианов назидательно воздел указательный палец. — Но и туда, — опустил вниз палец ровной палочкой. — Движение… диалектика… Застоя в движении не может быть. Не удержались на небесах… Трабабахнулись на грешную землю… Сабо самой… А будь похитростней… Чего б и дальше не заведовать организационно-методическим отделом? Ну да что об ушедшем поезде?… Черкните на приказе, что ознакомлены, оставьте свой автограф-крючок на память и с Богом.
Она медленно положила приказ на стол.
Пристукнула по приказу ладонкой.
— Никакого и самого маленького крючочка я вам не оставлю. Мне девятого, как намечалось, на конгресс по раку.
— А вот теперь уже и не ехать! — простодушно воскликнул Грицианов. — Отдыхайте!
— А кто поедет?
— А это уж не ваша печаль… Охотников на Москву не со стороны вербовать. А вы, — он весело щёлкнул пальцами, поймал идею! — а вы лично от себя можете поехать. Я возражать не стану. У вас теперь пустого времени чёрт на печку не встащит. Езжайте!
17
Спотыкаясь о свои слёзы, пришла Таисия Викторовна домой. Едва ноги за порожек завела, начала про приказ, а там и план свой яви:
— Хватит басни расправлять… Надо мелькать… Надо показываться!.. Надо показывать зубки!! Неча, ёлкин дед, слюни в ступке толочь. Девятого с утра в облздрав! В профсоюз!! В суд!!!
— Заче-ем? — детски удивлённо, с ростягом спросил Николай Александрович, помогая ей снять пальто. — Заче-ем? Девушка ты хорошая, но нахваливать я тебя погожу… Забудь… Проплакала и спрячь… — Лепестком платочка он вымакнул светящиеся, лучистые стёжки слёз на её щеках. — Успокойся и запомни простую истину. Медики не спорят. Медики не ходят по судам. Тем более младшие.
— Как младшие, так и молчи в кулачок, пока по маковку не вобьют в грязь? Да они ж готовы одним зубом меня загрызть!
Николай Александрович повесил пальто в ветхий, потемнелый шкаф. Взял зябкие с улицы пальцы жены, наклонился, подышал на них теплом.
— Тая, не преувеличивай. Это непросто… одним зубом… Стандартная неувязка, стандартное недоразумение… Они обидели, они и позовут.
— Через год? Через пять? А я, мякинная головушка, жди?
— Почему жди? Где упала, там и подымайся… Делай, что держала на плане. Собирайся на конгресс.
Таисия Викторовна устало, укоризненно всплеснула руками.
— Один уже посылал, отсмеялся… Грицианов… И ты? Какой ещё конгресс? Бабу с треском турнули с работы по негодной статье! Ни командировки, ни денег… Какой конгресс? Ну не смешно?!
Николай Александрович прижал выстывшие её ладошки себе к щекам.
— Дело! — сказал ободряюще, наливаясь восторгом от пришедшей мысли. — Дело! Давай смеяться, пропадать со смеху. По штату положено! Начальство посмеялось, образцовый подчиненный разве не должен его поддержать? Грицианов, вострокопытный змей, со смешком разливался про конгресс, а ты в сам деле катани. В пику! За нами смех будет последний! Вот!
Он схватил со стола билет. Торопливо сунул ей.
— На самолет… Девятого… В Борске в девять по-местному сядешь и в девять ноль-ноль по Москве будешь в белокаменной. На дорогу ни минуты не теряешь!
— Кроме четырехчасовой разницы между Борском и Москвой. Ну да… Ты брал заранее, не знал про приказ…
— А хоть бы и знал, всё равношко взял. Э-э, крошунька, лезет из тебя, как бы сказал Кребс, о натюрель! Как же крепенько мы возлюбили за государственный счёт свой интеллект растить… Нет командировки — наплевать и растереть! Лети на свои кровные! Послушать столпов, из первых уст узнать последние веяния… Разве это, сердечушко, нужно лично Грицианову? Разве это нужно лично Кребсу? Это прежь всего нужно те-бе самой. Те-бе са-мой!
Мало-помалу Таисия Викторовна притёрлась, притерпелась к мысли, что ехать ей надо и в таком горьком коленкоре, и даже ехать сейчас необходимей, чем когда было всё на работе нормально.
Тугих деньжат на поездку подхватили у соседей, а домашние хлопоты оставшаяся троица раскидала так.
Гоша готовит еду. На Гоше ещё вода, полы, дрова, магазины, мелкая стирка.
Николай Александрович ответственный за Росинку. Росинка — корова.
Он любил с нею возиться, не даст ветру дунуть. Кормить, особенно доить — золотых ему гор не надобно.
Николай Александрович не мог косить. Как махнёт — на палец обязательно воткнёт носок косы в землю, и летними вечерами бегала по городу с литовкой вёрткая Таисия Викторовна. Окашивала все канавки, все бугорки, все ямки. А Николай Александрович лишь сушил да сносил к дому сено.
А уход за котом Мурчиком смело взяла на себя Мила. Бесстрашная девушка, очень занятая свиданиями.
На конгрессе, в первый перерыв, народушко шумно выкатил в сувенирно-нарядное фойе, празднично блестевшее зеркальными стенами, ослепительным глянцем лакированных полов, сражающее монументальностью и торжественностью колонн.
В этом неземном великолепии, так изумившем всех непривычностью, значительностью, люди, похоже, словно враз особенно почувствовали, словно вдруг наглядно осознали свою малость, свою ничтожность рядом с этими великанистыми волшебными колоннами и невольно, как весело подумалось Таисии Викторовне, всяк стал неосознанно, сам собой тянуться если не вровень с колоннами, то всё же кверху, в живые солидные столпики, потому что, думалось ей, что-то властное, магическое в фойе ломало, переделывало людей на свой лад: попав в фойе, люди преображались, разводили, как орлиные крылья, плечи; если сперва, выйдя из зала, смотрели вокруг восторженно-робко, то две-три минуты в фойе совершенно их перекраивали, и люди уже прохаживались, совершали моцион раскрепощённо, величественно, державно вскинув головы, будто и впрямь ладясь сравняться в росте уже с самими сказочными колоннами.
С завистью глядя из-за колонны («А вдруг нарвусь на кого из своих?») на этих важно гуляющих людей, Таисия Викторовна уловила в себе какой-то дух простора, раскованности, лихой удали и, бросив прятаться, тоже стала гулять как все, гордо, величаво, изредка удостаивая дефилирующих мимо отдельных особ — не наши ли? — лениво-отсутствующего, покровительственного взгляда и ясно чувствуя, что растёт, растёт, растёт…
Наконец она вполне освоилась с мыслью, что здесь она равноправная участница, как и все кругом, а не какая там тайная сибирская беглянка-колодница, которую всяк по меньшей мерке может спокойно выставить за дверь как не нужный к случаю веник, перестала совсем бояться, что и впрямь нарвётся на своих, и, уверовав, что своих-то, из борского диспансера, никого не прикомандировали, угомонилась окончательно.
Несколько мгновений спустя Таисия Викторовна грациозно выкруживала из-за колонны, как вдруг с лёту въехала острым лицом в ватный многоведёрный живот какой-то коряговатой и толстой, как автобус, бабёхи в хрустящем шёлке.
Мелкорослая, тонкая, как травинушка, Таисия Викторовна отпрянула, словно мячик, стукнувшийся в чугунный столб, и едва не взвизгнула от изумления. Перед нею, хлопая утонувшими в жиру осоловелыми глазками, стояла сама Желтоглазова!
Сведи судьба их на Луне или на Марсе, они б меньше удивились друг дружке. Но встретиться в Москве, на конгрессе, куда вход Закавырцевой заказан — уму недостижимо!
— Вы-ы?!.. — невинно-садистским голоском прошептала Желтоглазова.
— Я! — ответила Таисия Викторовна, чувствуя себя прокудливым зайцем, изрядно насолившим под хвост волку и наконец-то попавши тому в лапки. — С весёлым днём![49]
Вместо ответа на приветствие Желтоглазова хмыкнула и у неё, будто включённые, закрутились, как у куклы, чёрные глаза, наливающиеся злобствомй.
— Закавырцева! Да что вы здесь делаете?
— А вы? — машинально спросила Таисия Викторовна, медленно пятясь с неосознанного ещё страха за колонну. Подумала: «Во всем диспансере не найти поумней послать?… Ведь когда раздавали ум, в её мешок, по словам Маши-татарочки, и на дух ничего не попало…»
— Лично я учавствую в конгрессе академии медицинских наук по проблемам рака. А вы?
— Я тоже участвую… — с коротким кокетливым поклоном смято ответила Таисия Викторовна, пробуя столкнуть разговор в пустую, приятельскую болтовню.
— Но как вы сюда проникли? — деревянея лицом, бормотнула меж зубов Желтоглазова. — Безо всяких дозволений?!
— Когда мышь лезет в амбар, она лезет без письменного на то дозволения в лапке… — поникло заоправдывалась Таисия Викторовна. — Какие у голода права?
— Кончайте гнать гамму! Здесь не амбар и вы не мышь!
— Мышка… — Таисия Викторовна примирительно виновато улыбнулась. — Я маленький человечек… Я как кроха мышка прошмыгну везде, особенно когда надо. Нашла малю-юхотную щёлочку, вот я и перед вами…
— Скажите, пожалуйста, осчастливила! Да за таковскую штукарию по шёрстке не погладят. Очередная авантюра! Впролом ломишь! Безо всякой документации в самой в Москве промахнуть на Международный конгресс! — Желтоглазова вскинула оплывший указательный палец, похожий на куцее полешко, плотоядно погрозила: — Уж тут-то я вас дожму-у… Ух ка-ак дожму-у!.. Всяка мышь грызи то, что по зубкам!
На рысях обежав колонну, Желтоглазова тяжело, увалисто заколыхалась к залу.
Таисия Викторовна онемела. Что делать? Что делать? Что сейчас и будет?… Сдвинуться с ума!..
Не отдавая себе отчёта, бросилась следом за колодой в два обхвата. Догнала, механически взяла её руку в обе свои.
— Марфа Иванна… Марфа Иванна… Ни с чего… Не надо базару…
Причитала Таисия Викторовна со слезами в голосе, безотчётно прижимаясь к желтоглазовской руке.
— Во имя всего святого… Не надо скандала… Мы с вами вместе учились, даже одно время дружили. Наши дочки, как и мы когда-то с вами, в одной группе сейчас…
— Родственничка! А я и не знала! От пятой курицы десятый цыплёнок! Эв-ва счастье!.. Жалостью расколола!.. Не-ет, я в кулачок не собираюсь шептать!.. — Желтоглазова выдернула у неё руку и уже тише, степенней пошла в зал, аврально брюзжа: — Ты у меня с дудками не в Борск — на Колыму усвистишь! Ты у меня по путе[50] огребёшь!
Что же делать? Кинуться одеться и уйти? Уйти? За тем ли я летела на свои за три с половиной тыщи километров, чтоб в первый же день уйти с конгресса? Что я дома скажу? На что влезали мы в долги по самую макушку?
С минуту Таисия Викторовна сомлело провожала взглядом Желтоглазову. Смотрела, как та шла к сцене, как поднималась на сцену, как пошла за кулисы.
«Иди. И я пойду».
Таисия Викторовна ругнула себя тонкослёзихой и, на ходу навспех промокая глаза платочком, быстро вошла в зал и села в последнем ряду на самое дальнее от прохода кресло, стояло вприжим к закрытой решёткой батарее у окна. Прикрыла себя оконной шторой — совсем не видно!
Тут на сцене показалась тигрояростная Желтоглазова с каким-то молодым гренадером в бабочке. Прошествовали по залу в фойе, щупая взглядами всех, кто сидел. Потом, опять же очень скоро, вернулись и уселись под дверью, цепко и вместе с тем с деланным равнодушием осматривая всех входивших.
Начались речи.
Гренадер ушёл, а Желтоглазова всё сидела пеньком, до зла не сводя остановившихся, зачугунелых глаз с двери, уверенная, что вот-вот крадучись прираспахнёт дверину Закавырцева, тут-то её она и цопнет.
Внапрасну промаялась Желтоглазова под дверью до вечера. Опять же не без пользы, по её мнению. Первая ведь выкатилась из зала, когда вальнули все одеваться!
«Действительно, мышка… Как в норку куда завалилась… — мстительно морщилась Желтоглазова, одеваясь. — Но я ничего не потеряла. Дежуря под дверью, я сэкономила на гардеробе. Выскочила первая, первая и оделась… А эта лютикова кукла наверняка трухнула и сбежала. Иначе б разь я её не поймала?»
И невдомёк ей, что сидели они с Закавырцевой в одном, в последнем, ряду. Только на крайних креслах. Одна у двери, а другая у батареи под шторой.
А ночью Таисии Викторовне приснился сон.
Поехала она со своими хлопотами далеко-далеко. Летела самолетом. Катилась поездом. Плыла пароходом. Тряслась автобусом.
Наконец подскреблась к дому, куда ей надо. Глянула — нету ему границы в высоту. «Высокий орган». Полдня поднималась на лифте. Потом ещё с час плыла на бойковитом пароходце по хитрым вилюшкам-коридорам.
И вот вводят её в главный кабинет. Большой, богатый. Таких кабинетов ввек она не видывала. И выступает к ней навстречу в том главном кабинете Желтоглазова. По-матерински обнимает, целует и ведёт под руку за царский стол. Сажает на своё место, а сама обочь стола прилепилась на краёк просительского стула.
А что ласковая! А что обходительная! А что на языке, как на музыке!
— Душечка, лютик ты мой голубенькой, не беспокойся. Все твои дела я улажу лучшим образом. Забудь ты про дела!
— Как же забудь? У меня дети… Кормить надо… А я без работы… Дома всё под метелочку выгребла. Ничего нет и на полизушки. Демонятам на зуб нече положить.
— Положишь. Всё образуется! Это я тебе говорю! Бросай на меня все дела — дела не волки, в тайгу не убегут! — а сама подзаймись своим здоровьицем. Я к тебе с хорошей душой… Не во нрав мне твой видик. А мне небезразлично. У наших дочек женихи братья. Вот поберут наших, извини, мокрушек. Приедешь ты к нам на свадебку, а гости высокие что возопоют, завидевши тебя? «Марфа Ивановна, лягуха ты болотная, что ж это ты родичку свою не бережёшь? Да ты тольке поглянь, какая она вся заморённая да замотанная!.. Доход-доходяга, одно основанье!..» Давай, голубанюшка-душа, разматывайся! Я о тебе загодя подумала. Вот тебе направленьице… Покажешься знаменитому профессору…
Таисия Викторовна застеснялась. Речей не найдёт.
Взяла листок, молчит.
— Ну, ты чего сидишь, как букушка?
— А что я, савраска без узды, скажу? Я всегда молчу, хоть камни с неба катись. Раз к профессору… поеду к профессору…
Уже в лифте на девяту-на десяту проскочила записку.
«Зав. диспансерным отделением института психиатрии проф. Ремизу А.Г.
Отдел специализированной медицинской помощи направляет к Вам гр. Закавырцеву Т.В., прибывшую из г. Борска для амбулаторной консультации, согласно договоренности».
Это ж ей, сникло подумала Таисия Викторовна, зудится кого-то убедить, что у меня не все дома — ушли по соседям. Ладно, ночью мои мозги работают. Что-нибудь придумаю.
И придумала.
Наутро приходит к Желтоглазовой. А та вроде в горе — так сочувствует.
— Душенька! Я ночь думала про тебя. Не спалось, хоть спички в глаза вставляй… Радостинка ты моя, была ль ты на консультации?
— Была.
— Ну и как?
— Посмотрели и говорят: «Вы такая здоровущая тетёха! У вас даже коленная рефлексия не поднимается. Удивительно, какой язевый лоб и направлял!»
— А где ты была? — нетерпеливо выкрикнула Желтоглазова.
— Да где… Еду к себе в гостиницу… в «Колос»… Вижу: поликлиника. Зашла к невропатологу.
— Без ножа зарезала! — простонала Желтоглазова и уронила голову набок. — Я куда тебя посылала? К про-фес-со-ру! Профессор так ждал, так ждал!.. Все жданки прождал… Умоляю всеми святыми, езжай прям сейчас к нему. Слышь? Сейчас же!
И тогда Таисия Викторовна спокойно, даже лениво, даже ленивей лодыря и расстегнись:
— А ты, Марфа Ивановна, ухо с глазом, ухватистая… Только не пойму, кому это ты, «дворянская кровь и собачья бровь» пылаешь доказать, что у меня не хватает семь гривен до рубля? Что ты из меня дурандейку строишь?
И со всей размашки только хвать кулаком по столу и… проснулась.
Во сне она била по столу, а наяву попала себе по ноге.
Села на кровати, глянула в окно.
Расцветало.
Она не знала сны, не верила им и не разгадывала, всегда была к ним прохладна.
Но этот сон задел её, полоснул по сердцу.
«Не к добру наснилась такая чертовня. Какое-нить лихостное коленце выкинет сегодня уховёртка Марфа… Наточняка… Не подловит ли сегодня и не упечёт ли в Кащенку?… Знатьё бы где упасть, постелю постелила…»
Желтоглазову она откровенно прибаивалась и потому заседать подалась на рани. Машины ещё умывали московские улицы.
— А вы нонче первейше всех! — ликующе доложил ей дежуривший у входа старичок с кулачок.
Это ему она вчера как на духу выпела всю правду о своих бедах, и старичок, махнув на все условности, безо всяких особых прямых бумажек пропустил её.
Ему хватило горькой её исповеди, её паспорта и справки о том, что Минздрав принял от неё заявку на предполагаемое изобретение — лечение рака борцом. Если такую разумницу, если такую радетельницу не подпускать к конгрессу по раку, то кого тогда и прикажете пускать? И он пропустил. Он и сегодня был непритворно рад, что она пришла именно первая. Все ещё чухаются, пинают воздух, а божья птичка уже в деле!
И старичок гордовито подхвалил:
— А старательная ж вы! Выполнительная!
— Надо! — посияла она детски чистой улыбкой и торопливо постучала каблучками к раздевалке.
Быстрей, быстрей за штору! Не то, отведи Господь, наткнёшься ещё на тигрояростную, с позором выставит! В психушку ещё замурует!
Во весь деньский день Таисия Викторовна не выпнула и носа из своей засады у батареи.
Утром уходила, гостиничный буфет был ещё закрыт. Она не позавтракала, и с полудня её начал подпекать голод. В её недрах всё рычало, хлюпало, лилось, журчало. Она зажимала живот, наваливаясь всем тощеньким тельцем на колени, но рычанье не стихало, а час от часу разыгрывалось всё злей. Её поднимало, как говорят в деревне, пойти до ветру, но она снова усаживала себя и терпела, терпела до самой крайней крайности.
Проученная, новым утром она прибежала за штору уже с хлебом, с колбасой, с яблоками, с бутылочкой простой воды в лаковой белой сумочке на руке. Никем не видимая, во всю силу пялилась, всё искала поиском Желтоглазову.
Но той не было и сегодня. И не могло быть.
Не найдя Таисию Викторовну позавчера ни с гренадером, ни без гренадера, Марфа Ивановна простодушно решила, что Таисия Викторовна ушла и без документов забоится ещё раз попытаться пощекотать судьбу.
А нет единственного свидетеля, кто мог бы уличить, то чего и тиранить себя в узде? Чем травить на конгрессе перекур с дремотой, не наваристей ли пуститься в разминку, в разгул по столичным магазинам? Ведь чего я здесь выслушаю, у гардеробщика уже и забуду, и ни одна душа тем меня не попрекнёт. А вот не привези я на заказ чего и дядюшке, и тётушке, и Грицианчику, как я им в глаза-то гляну?
Магазинная стихия её увлекла, пленила.
Не в примету, незаметно для самой себя из ГУМа перепорхнула она бабочкой майской в ЦУМ. Из ЦУМа в «Детский мир» и пошло, и поехало, и поскакало, и помчалось.
Услужливый вихрь кружил её по всей Москве. Москвы ей мало, тесно стало в Москве и занашивал её угодливый вихрь за покупками ещё в Балашиху, в Химки, в Люберцы и в прочие примосковские городочки.
Она так втянулась в магазинные скачки, что напрочь забыла, совсем ну выпало из ума, что у всякой командировки бывает конец. А когда спохватилась, уже пробрызнуло целых два дня поверх командировки.
В Борск самолёт всё же посмел улететь без неё, хотя билет у неё и был, и она ещё двое суток без сна, без маковой росинки во рту отсидела будто в наказание в аэропорту на громадной, на громоздкой куче натасканного из магазинов бирочного тряпья, выжидая у кассы случайного, бросового билета.
И Таисия Викторовна тоже сразу после конгресса не поехала домой, надумала ещё немного задержаться в Москве.
Конгресс ободрил, укрепил её, убедил, что в своих поисках по правильному бежала она руслу. Но чтоб совершенно твёрдой ногой стать при борце, решила походить в Главную в стране библиотеку, что напротив Кремля, прочитать и законспектировать всё, что знает литература о борце.
В бюро пропусков потребовали командировочное.
— Н-нету…
— Тогда отношение, подтверждающее вашу научную деятельность?
— Милая! Дóчушка! Да какая с меня сейчас деятельность? Была деятельность, да такая горячая, что теперь и без работы никак не остыну, никак не охолону. Уволенная я, как говорят дети, выгнатая.
— За что?
— О!.. Это до-олгий гопак…
Девчонишка из-за стоечки и на это нашлась.
— А вы, — говорит, — всё же расскажите в коротких словах… Я позову вам заведующую.
У заведующей было золотое сердце. С час слушала горькую Таисию Викторовну, обняла её и расцеловала:
— За обычай, травы в руках знахарей. А тут врач-онколог. Я вижу первого аллопата, который всерьёз занялся борцом. И в добрый час! Работайте на радость людям. Пропуск мы вам безо всякого выпишем на любой срок.
18
Самолётом дорого, на самолёт к тому ж не хватало.
И поехала Таисия Викторовна назад поездом.
Трое ехала суток, ехала с каким-то волшебным, с торжествующим светом в душе, какая-то вся лёгкая, юная, чистая, и только уже в Борске, на вокзале, когда вошла в автобус и в кошельке не наскреблось медного сору на проезд по городу, она вздрогнула, съёжилась.
Плотным холодом беды потянуло на неё.
В Москве, на конгрессе, в библиотеке, как-то не так остро думалось о делах. Вроде они и есть, а есть так и далеко, вроде как не твои, и ты знай сиди слушай, читай, выписывай. Вот твоё сегодня наиглавное дело. Всё было ясно, всё было понятно.
Но вот сошла московская волна, сошла московская лёгкость. Приупавшие боли снова яро заныли. Что с работой? К кому стучаться? Ка-ак жи-ить?…
Через весь город идти пеше не в силу.
Она поехала, мышкой вдавившись в уголок. Глядишь, контролёр не заметит…
До своей остановки не доехала, вышла на Розочке. Здесь дойти уже близко: её тупичок стеснительно выбегал на Розочку.
Дома на столе она увидела мужнину записку.
Записка стояла прямо, чуть опираясь на сытый бок старинной вазы с засушенным цветком борца.
Малышок, пишу на случай, если приедешь днем. Звонил сам Бормачев. Просил срочно зайти. Чуешь, куда ветер подул? Вхо-одит наша бешеная реченька в свои берега. А что я говорил? Они обидели, они и позовут. Они джентльмены, хотя и таежные, сибирские. Вот, пожалуйста, зовут. Иди!
Кока
Звать-то зовут, да что запоют?
Было около десяти утра, самое ходовое время, и Таисия Викторовна, умывшись и переодевшись с дороги, попив наскоро лишь чаю, кинулась в облздрав.
Заведующий Бормачёв выкружил к ней навстречу из-за стола, едва она боком, неуверенно переступила кабинетовский порожек.
Она смешалась.
Нигде никакие завы не выходили к ней навстречу, и в благодарность она подала ему руку.
Он учтиво пожал, ровней подставил стул к боку стола. Предложил сесть.
— Таисия Викторовна, — сказал Бормачёв, садясь на своё место, — чувствуйте себя как дома. Этого закадычного земляка,[51] — показал на мужчину, в сторонке сидел в кресле с раскрытой папкой и читал, не ворохнётся, будто не о нём и речь, — можете не стесняться. Наш коллега. Занимается сугубо своей бумаженцией. Итак, я вас слушаю.
— Видите ли… Вы вызывали, я приготовилась сама вас слушать…
— Конечно, меня вы услышите. Но мне хотелось сперва послушать вас. Вы опытнейший и авторитетнейший в Борске врач, — слово авторитетнейший Бормачёв выдедил голосом, — не имели ни единого замечания и вдруг уволены по «непригодной статье». Неужели вам нечего сказать в свою защиту?
— Нет, — сухо ответила Таисия Викторовна.
— И нечего сказать ни о Грицианове, ни о Желтоглазовой, ни о Кребсе?
Она с мягкой настойчивостью повторила своё короткое нет, и Бормачёв, к её удивлению, не выказал неудовлетворения её ответом, а напротив, как-то хорошо оживился.
Зазвонил телефон.
Постнея лицом, Бормачёв снял трубку.
— Да, Иван Иванович! — выкрикнул торопливо и, как показалось ей, заискивающе. — Конечно! Конечно!.. О!.. А это обязательно!.. Разумеется!.. Какие ещё разговоры?! Да конечно же!.. Ой!.. Ой же!.. Ну!..
Таисия Викторовна стыдливо опустила голову.
Бормачёвский разговор ей не нравился. Ну откуда эта всеугодливость? Ну откуда эта бесхребетность? Она так и ждала, что вот-вот, переломив спину надвое, вопросит:
«Чего-с изволите-с?»
И ожидания её были не такие уж и пустые.
Бормачёв встал и, прижав щекой трубку к плечу, в спехе стал ухорашиваться. Поправил галстук, застегнул стальной отутюженный до безжизненности пиджак на последнюю верхнюю пуговицу, пригладил какие-то угодливые, покорные волосы, приплюснуто, низко зачёсанные кверху. Потом зачем-то шагнул к углу стола, будто тот, с кем говорил, мог войти, и он наготовился встретить его, или, на другой конец, налаживался сам пуститься к тому, нырнув в трубку.
«Не-ет, это не мой герой, — подумала Таисия Викторовна. — Начал таким орёликом… а съехал… гм… на чего-с изволите-с?…»
Бормачёв вышагнул за угол стола. Дальше не пускал витой чёрный, глянцевитый шнур. Бормачёв остановился, топчась на месте.
Неутно, неприятно было Таисии Викторовне сидеть лицом к Бормачёву. Она резко, демонстративно крутнула голову влево и воткнулась взглядом в земляка за бумагами.
Таращиться на незнакомца тоже не дело. Пришлось опустить глаза.
Взор лёг на стол.
«О, это уже кое-что… занимательней…»
Под толстым стеклом были аккуратно уложены вырезки. Вырезки располагались так, что сидящий у стола с любой стороны мог их читать, не ломая ни шеи, ни глаз. Сидите вы справа — вырезки к вам «лицом». Сидите напротив Бормачёва или слева — и там уже другие глядят прямо вам в глаза, молят: да почитайте же!
Для кого эти вырезки? Для хозяина кабинета? Вряд ли.
Наверняка напихал под стекло для посетителей на ту нескладуху минуту, когда его самого отвлекут телефоном, а гость за милую малину хоть почитает со скуки. Однако ж хват этот Бормачёв!
Так рассудила Таисия Викторовна и, улыбнувшись его занятной предприимчивости, потянулась глазами к крайнему к ней газетному кусочку.
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ УЧТИВ
Название приманчивое.
Навалилась читать.
В 1832 году петербургский журнал «Сын Отечества и Северный Архив» опубликовал отрывок из книги «Благовоспитанный, или Правила учтивости». Вот что в нём говорилось.
Недостатки умственные, уменьшающие уважение к нам других: поступки и речи, кои обнаруживают в нас малый ум; слабую память; слабость рассудка.
Малый ум. Сей недостаток узнаётся по четырём признакам, кои суть:
= Важность, придаваемая вещам малым и незначительным.
= Частое и неуместное удивление.
= Любопытство знать чужие дела.
= Повторение одних и тех же мелочных действий.
Слабость памяти. Мы показываем слабость памяти, а теряем уважение других:
= Забывая имена людей и вещей, беспокоим других, чтоб назвали оные вместо нас или мучаем любопытство их неопределительностью рассказов.
= Пропуская нужнейшие обстоятельства какого-либо дела или смешивая разные дела.
= Рассказывая много раз одно и то же и в присутствии тех же особ.
Слабость рассудка. Человек показывает слабость рассудка или недостаток в здравом смысле:
= Объясняя будущее по случайностям, а не по законам Природы.
= Полагаясь на лекарства смешные.
= Судя о людях по их именам, по платью, по мнению, а не по поступкам.
= Удивляясь ничего не значащим происшествиям, когда оные бывают в одно и то же время. Тацит упоминает о пустых толкованиях римлян, которые, по смерти Августа, с удивлением замечали, что оная случилась в тот самый день, в который он стал императором; что он умер в том самом доме и в той же комнате, где умер и отец его, и проч. Подобные нелепые замечания ежедневно приводят в удивление глупцов.
Таисия Викторовна кончила читать.
Было тихо-натихо. Тишина насторожила её. Лупнула на Бормачёва.
Бормачёв уже не говорил по телефону. Сидел на своём месте и, по-домашнему подперев ладонью щёку, влюбовинку смотрел на неё.
Таисия Викторовна так и пыхнула вся жаром.
— Из… ви… ните…
— Ничего, ничего, — сказал Бормачёв. — Всё-таки хоть ма-аленькая будет польза вам от визита ко мне… Итак… Вы, наверное, считаете, как и я, что не врач должен говорить о себе, а больные должны говорить о нём?
Таисия Викторовна подтвердительно кивнула.
— Были у нас в облздраве ваши потраченные,[52] были… Опухли мы от вашего борца… Не дают работать… Валили целыми делегациями! Всё в один голос: верните нам Закавырцеву! Верните нам её травку! Где ни бери, да подай… Видите, они без травки, как пиндигашки,[53] которых до поры отсадили от груди. Высокую цену сложили вам больные… Кстати, где сейчас ваша настойка?
— А мне почём знать? Опечатывала не я, а Грицианов. Между рук всё пошло…
— А-а… — смутился Бормачёв, словно кто на язык ему наступил. — Грицианов — это вечные дрыжики перед профессором… перед свет Кребсом… дрыжики… Дрожит и кланяется каждому его чиху. До-олго хочет красиво жить… Больные требуют вернуть вас. А как вернёшь? Вы ж почти на месяц бултых, как в прорубь, и нетути вас. Где пропадали-то? Поделитесь по секрету.
— А разве Желтоглазова не говорила? Я была с нею на конгрессе.
— На конгрессе? Может, не надо песенок, доктор?
— Какие ещё песенки? В первый день мы с ней в перерыв стакнулись. А остальные два дня я её уже не видела.
— Неужели на конгресс она явилась лишь бы отметить командировку? На неё похоже… За этой кумушкой не задолжится… Тот-то эк сколь тряпичных навезла впечатлений. Пол-Борска вырядила начичик по последнему писку моды… Не тухленько, не тухленько скатала Марфа Ивановна…
— Потом я ещё осталась. Всё про борец по каплюшке собирала в Румянцевке.
Бормачёву не верилось, что слышали уши. Напрямую он и спроси:
— Это что ж?… И конгресс, и библиотека всё на свои грошики?
— Да уж не на ваши…
«Её выгнали за борец, — расстраиваясь, подумал он, — а она на свои полетела на конгресс, в библиотеку просвещаться до конца по части борца?… Ох народушко, ох народушко… Какие тебя силы и держат? — Бормачёв отвернулся от Таисии Викторовны. Ему совестно стало, что эта женщина, маленькая, хрупкая, измождённая, увидит давящие его слёзы. — Наша учёная элита шмындяет в столичные библиотеки сдирать у чужих свои кандидатско-докторские опусы только по научным командировкам. А навар каков от тех опусов? Мышам гарантируется безбедное житье! О мышах думают. А о людях, о горьких пиндигашках, ждущих капелек этой великой издёрганной бабы так, как ждёт молока ребёнок, припадая к материнской груди, — об этих-то когда и кто всерьёз начнет думать?»
Бормачёв сделал вид, что у него развязался шнурок, нагнулся к ногам. Вытер глаза платком и сел как-то неестественно ровно, будто аршин проглотил.
Он старался не смотреть Таисии Викторовне в глаза.
— Дела такие! — отрывисто начал он. — Москва дорого обходится всем. Пожалуй, вы в долгах как в шелках. Надо за дела браться. А дела такие. Больные требовали разобраться, за что это сняли вас. Наши люди разобрались. Нудлер не ваша медалька и не вам ею отсвечивать. И прочие пункты ваших прегрешений вздор, чистейший вздор, глупейший вздор!
Бормачёв говорил всё резче, всё запальней, всё громче. Смелел от нарастающей, закипающей в нём злости. Смелел смелостью труса, оказавшегося ночью в лесу. Он один, кругом ночь, темь чёрная. Страшно. Но вот заговорил сам с собой, и звучащий собственный голос покрывает, глушит в человеке страх, укрепляет человека зябкой силой, зябкой твёрдостью.
Вместе со стулом Бормачёв повернулся к Таисии Викторовне и продолжал, прямо уже глядя ей в глаза.
— Вот тут, — показал за плечо большим пальцем на стену, где висели правила для руководителя, — десятый пункт гласит: если твои распоряжения оказались ошибочными, признай и исправь. Я вас не увольнял, это сделал Грицианов. Я извиняюсь перед вами за Грицианова. Но это извинение на хлеб не намажешь вместо масла. Мне гораздо ближе, мне гораздо приятней другой пункт моих правил: всегда благодари подчиненного за хорошую работу. По отношению к вам я бы делал это с большой охотой и часто. Да что вам мои благодарности! По закону я обязан восстановить вас на работе. Да именно в ваших интересах и не восстановлю!
— П-почему? — привстала от изумления Таисия Викторовна. — И вы сживаете меня с места?… Ни с сеча ни с плеча…[54] Какая-то мизгирова сеть…[55] Если уж изъясняться на языке ваших настенных правил, так рядом с пунктом про благодарность есть и такой: будь справедливым особенно в отношении к подчинённым.
— Именно чувство настоящей, нас-то-я-щей, а не видимой, призрачной справедливости и вынуждает меня не восстанавливать вас.
— Это что-то из серии доморощенной оригинальности, — тонко пискнула Таисия Викторовна. — Как ножом по обуху резанули…
— Нет, это из серии «Хочешь жить — вертись с умом».
— То есть, «когда хочешь выиграть, прикинься глупцом, это принесёт больше пользы»? — выхватила она совет из-под стекла.
— Не совсем… Однако… Что-то в этом направлении… Я могу вас восстановить. А зачем? Я смотрю чуточку дальше завтрашнего дня…
— Но до завтра надо ещё дожить.
— Доживёте! — с апломбом заверил Бормачёв. — Куда вы денетесь? Но пока мы живём в сегодня, давайте о том, что мы имеем на эту минуту. Ситуация для вас в диспансере сложилась архитрудная. Тупиковая ситуация…
— Из тупика выходят по тому… по тем же рельсам, по которым и загоняли в тупик. Не так ли?
— Так. Но чтобы вас вернуть, надо убрать с вашего места мадам Желтоглазову. А это значит, что мне предстоит выйти один на один с самим Кребсом. С дядюшкой Кребсом! Я не боюсь за свой выход. Ещё вчера, до встречи с вами, я б не вышел, а теперь, послушав вас, я «звероподобен». Во мне проснулось что-то отважное, я не знаю ему названия, но оно есть, оно зажило во мне. Я знаю, мой выход чреват. Всемогущий дядюшка навалится в ответ расшатывать мой тронишко с инвентарным номером 1955, — Бормачёв тенькнул ногтем в жестянку с выдавленным номерком на боку стола как раз с той стороны, где сидела Таисия Викторовна. — Расшатает и я со своего трончика ухнусь, как голый цыплок из гнезда. С этой минуты это меня не страшит. Мне не важно удержаться на своей инвентарной седушке, мне важней помочь вам. А как? Ну, верну я вас в диспансер. Думаете, начнёте спокойнушко работать? Вспом… покопайтесь в голове, вспомните, как с вами обходились… Сплетни, будто бы вы вербовали больных на своё лечение — и без вербовки отбоя нет! Подлоги в диагнозах ваших больных. Ни одной врачебной пятиминутки, чтоб кто-нибудь не кольнул вас. Угрозы судом. И тэдэ и тэпэ… Вас всё это веселит? Вы ко всему этому жаждете вернуться? Я знаю, вы смелая, не мешком пуганая… Но!.. Вас вынудят уйти. А не уйдёте сами, на пустяках свалят по всем правилам профессиональной склоки, и никто и ничто вас не спасёт. А может, вам зудится просто доказать им силу? Может, хотите придти, чтоб эффектно уйти по собственному желанию? Тогда зачем вам этот дешёвый фарс? Конечно, вам бы, по-хорошему, нужно работать именно в диспансере. С Грициановым и Желтоглазовой, с этими гнутыми,[56] не проблема найти общий язык. Грицианов человечек безвредный. Я знаю все его слабости, поскольку сильных сторон у него нет. Мечется, как карась на сковородке, с кандидатской. Даже подключил двух лобешников. В шесть рук строчат уже не первый год. Но что? Сие миру неведомо… Не поднимала б норку и Желтоглазова, не будь дядюшки. Дядюшка… Кребс… Во-он откуда несёт сквознячком… Во-он кто вами дышит… И Грицианова, И Желтоглазову дёргает за ниточку дядюшка. Раз дёргает, они и дёргаются, порой и сами тому без радости. Кребс главный гинеколог в городе. Консультирует у себя в клинике институтской, консультирует и в диспансере. Как через такую гору вам перепрыгнуть? Иэ-эх!.. Несподручно бабе с медведем плясать, как бы юбку не порвать… Это трио бандуристов вырывает у вас пустую, уже без мяса, без мозга, сухую со спичку косточку — диспансер. Я вам напрямок скажу… Возьмите разводную… Киньте вы им красиво эту никчемушку. Киньте! Будь она прончатая!.. Отступите! Тигр перед прыжком отходит и приседает… Вы ж ни срезанного ноготочка не теряете! Зато сбережёте всё — силы, нервы, радость в работе! — и пойдёте дальше. Отсутствие видимой борьбы — это тоже борьба и самая действенная!
— Пока это туман… нулевая видимость… — уныло поду мала вслух Таисия Викторовна. — Да куда и с чем я пойду, если очутилась на самой мелкой мели… раку по щиколотку… Без работы, без денег…
Бормачёв смутился, замолчал.
Молчала и Таисия Викторовна, выжидая, что же ещё он скажет.
— Я недалеко скажу, вы уберегли главное, — с ласковой настойчивостью заговорил Бормачёв. — Не поддались на делёжку борца. Костища эта сахарная, здоровенная, и по оплошке согласись вы делиться, блинохват Кребс проще простого вырвал бы её у вас и заиграл бы всю. Ох уж эти учёные! Они, наверно, потому называются учёными, что учёны тому, как и у кого что стоящее уморщить. Самим дотумкать — шариков невдохват, а хапнуть готовенькое — они тут как тут. То стащат что у природы, то у травника. Ну, разве секрет, что часто и густо научная медицина добывает свои новшества из недр копилки народной? То, что народная делала веками, научная нынче объявляет открытием. И преподносит его так, будто бы она сама до всего до этого доехала. А чтоб за народной признать хоть какую малость и преподнести её научно пригодной, так сказать, к употреблению — ни Боже мой! Сама не может, но и наперёд себя уж не пустит. А до чего эта дамесса спесива, чванлива, глупа, как лесковская купоросная фея? Глупа! Зато в чине учёной. Каково? Иные шустрые учёнишки попросту шельмуют народную медицину и очень, и очень напрасно. Переживём мы свою смутную полосу, не развалимся. Само время повернёт учёную даму лицом к народной медицине. Хочешь не хочешь, а ещё ка-ак повернёт! Ещё расплеснётся у нас же в Борске институт народной медицины. Станут испытывать народные методы. И испытав, и утвердившись, запустят широко в практику, во все учебники. Верю, как в утро, пробьёт час, будут люди выбирать между народной и научной медициной. Лечиться человеку — он на разгувилке. Идти в какую поликлинику? В какую больницу? К народникам или к официальщикам? Люди умные, скоро поймут, к кому им пришатнуться. Тогда наука живей завертится. А сейчас… Это ужас! Сейчас чтоб внедрить новый препарат, ей надо двенадцать лет. Правда, новый сорт пшеницы вводят за пятнадцать. Но к чему равняться на худшее? Классно всё будет в будущем… А пока… Вот вам геморройка, в нашем миру, в просторечии, старичок Гем. Мы медики, стыдиться разучены. Легче сказать, чем не лечим этого старичка, а человек и тридцать лет мается. А что делает бабунька? Я сам деревенский. У нас в Колпакском нет не то что больницы, нет и медпункта. Кого прижмёт, мчат в соседнее Узорово к фельдшерке, а наичаще обходятся подножными средствами. Про старичка… У бабушки нет ни наших заводских, ни валютных снадобий, чем безуспешно пользует учёная медицина. Не из аптеки бабушка носит здоровье. Она присоветует простенькие свечечки из сырой картошки или бросовую луковую шелуху. Подержи эту рубашечку в кипятке, прикладывай на ночь к попонии. Можно каждую ночь. А можно и через ночь. Отходит с месяцок, ваш старикашка усох, накрылся медным тазиком… Эхэ-хэ и так далее…
Бормачёв осёкся, приутих.
Ему стало вдруг как-то неловко.
«У человека судьба на ниточке, а ты про что молотишь? Ух и мо-ло-дец!» — выговорил себе ядовито и, виновато подгорюнившись, уставился Таисии Викторовне прямо в глаза.
Он выдержал её долгий вопросительный взгляд и не сморгнул. Ни разу не сморгнул!
Это его несколько подживило.
От природы схватчивый, лукавый, он стыдился смотреть людям в глаза, когда навязывал чью-нибудь волю сверху, душа к которой у него не лежала. При этом глаза его бегали, как стрелка домашних ручных весов, когда на крючке тяжело и палец дрожью бьёт. Сегодня на весах слишком много, чтобы уступчиво, лукаво приплясывать под чужую, кребсовскую дудку. Хватит подплясок!
Таисию Викторовну свёл с толку этот открытый, честный взгляд. Почему Бормачёв так прямо, даже с каким-то внутренним вызовом так прямо смотрит ей в глаза? Начал разговор с нею ладно. На разговоре он хороший… Она поверила, что он ей союзник, но телефонная его говоруха заставила её думать иначе: «Не-ет, не союзник. Это какой-то парень-шнырь… Зато после! После! Говорено вдоволе, выше бровей наморожено! Да что всё это? Искреннее желание мне подмочь, иль всё это пустозвонная словесная эквилибристика?! Ну чего разводить галимастику? В моих интересах не восстанавливать меня в диспансере… Гмг… Тут, пожалуй, что-то от живой правды… Ну, вернусь… Так что, они в обнимашки ко мне кинутся? Ой ли… Наверняка встретят ещё бóльшими препятствиями. Нечего мне там, чучелу заболотскому, делать, нечего… Тогда где и что мне делать?»
Таисия Викторовна примирительно улыбнулась Бормачёву:
— Насчёт диспансера, пожалуй, вы правы… Тогда что вы можете мне предложить?
— Конечно, не век разговоры размузыкивать… Что я могу? Что у меня есть кроме этого номерного тронишки? — он вяло хлопнул по жестяному номерку на боку стола. — Что?
Ему вспомнилось, как в беседе один на один Кребс настоятельно рекомендовал навсегда разлучить Закавырцеву с диспансером. Даже поставил вопрос так: я или она. Видите, он, консультант диспансера, не может её видеть с некоторых пор.
И не надо. Я и сам, подумалось тогда Бормачёву, не верну её вам в диспансер, не кину на растерзание. Не ходить вам с нею по одной стёжке. А куда её устраивать?
«Вообще убрать из Борска, — буркнул Кребс. — Скажите: использовать вас на должности онколога кроме Судьбодаровки не имеется возможности».
«Несерьёзно. Что она, из Борска за триста вёрст будет ездить на работу каждый день? Или прикажете жить человеку поврозь с семьёй? Дети, муж в Борске, она в Судьбодаровке?»
«Да ну задвиньте в участковое ярмо!»
«Терапевта?»
«Разумеется. Не нравится дурапевт, пускай идёт по хирургии, по гинекологии… Выбор неограниченный. В Борске не хватает двухсот единиц врачей. Предлагайте ей что угодно, хоть своё место заведующего. Только от диспансера, от онкологии подальше!»
Бормачёв остался при мысли: совет жены выслушай, а поступи по-своему.
… Воспоминания отжали от него ответ.
Таисия Викторовна мягко напомнила:
— Так что же вы мне предложите?
Бормачёв встрепенулся, стряхнул с себя воспоминания.
— Видите, — раздумчиво начал он, — мне настоятельно рекомендовали подальше упрятать вас от онкологии. Я лично занимался вашим увольнением. Лично встречался с вашими больными. И пришёл к твёрдому, к единственному выводу: держать вас надо ближе, как можно ближе к матушке онкологии. А как? Есть место в районе. А зачем вам туда от семьи забиваться? И тогда я пошёл за советом вот к этому человеку, — указал на мужчину с папкой. Мужчина отложил папку, стал слушать. — У него не макúтровка, а дом советов. Пора сказать вам всю правду. Он здесь не по своему, а по вашему, именно по вашему делу. Это он подсказал выход. Знакомьтесь. Виктор Петрович Огнерубов. Главврач железнодорожной больницы.
Огнерубов и Таисия Викторовна встречно поклонились.
— Мы с ним, недоборки, из одной деревеньки. Избушки-курюшки наших маломочных[57] стариков рядом… Вместе мы учились, вместе на выходные к старикам… Сейчас наши квартиры дверь в дверь на одной площадке… В четыре кулака достучались мы в одну высокую душу. Убедили ту душу, нужен в железнодорожке онколог. Душа оказалась упрямая, упёртая. Пока сдалась наполовинку. Сочла, что хватит пол-онколога, то есть дала полставки. Это уже победа! Вырвали в две тяги половинку, вырвем и другую. Это печаль времени. Не всё вгладь катится… Трудно всей стране — трудно нам, медикам. Возьмите наше министерство здравоохранения. Покуда оно даже своего названия не оправдывает. Министерство, конечно, есть, да охраны здоровья нет. Лиха сна не знает медицина. Не спешит поворотиться к здоровому человеку. А вот свались с копытков, так мы к нему и с сиреной летим, мечемся, как кукушка в гнезде. Эхэ-хэ и так далее… Глушим мы пожары, а их упреждать надо! Упреждать выгодней, легче, да всё сносит нас волной текучки на тяжёлое… Покуда не повернётся медицина к здоровому человеку, здоровья не будет… Есть чем лечить рак, а мы знаем как? Кричим: новое, а ну давай сюда новое! Да мы и старое-то не знаем! Я вижу картину такой. Вы идёте к Виктору Петровичу на полставки. Для семейного человека это мало-малешко… Да… Со временем дожмём до полной… Испытываете в расцветаевской лаборатории борец на мышках, параллельно лечите своих больных. Только упаси вас Боже, сохрани Господь брякнуть об этом где-то. Не разрешал я вам пользовать людей. Запомните! Ведь ещё не прошли научные испытания на мышах. Пускай на виду будет так, как требует наука. Формально она права. Раз ещё мышки не отведали вашего коньячка, так кто ж позволит потчевать им людей? Мы должны всё делать по науке, — вывернул Бормачёв с иронией. — А я считаю, как и вы, лучше пускай люди живут без науки, чем умирают по науке. Скольких вы подняли! Разве это не доказательство, что надо идти к людям с борцом, а не отбрасывать его на долгие годы испытаний, где может случиться, что его вообще замордуют, затрут с грязью в научных склоках?… Больные ждать не могут! Верно вы сказали на том заседании. Им сегодня нужна помощь, сейчас, сию минуту, сию минуту…
Огнерубов захлопнул папку.
— Таисия Викторовна, — вздохнул он, — я бы вот что хотел вам сказать. Шептаться по углам я не мастак, я сразу в лицо. Не думайте, пожалуйста, раз вас берут — дело решено навсегда. Я беру вас по конкурсу, не по конкурсу… с необычным испытательным сроком. У меня очень болеет медсестра Тáнюшка Городилова. Рак — страшный палач. Ско-олько она мучится по больницам! Вылечите — ваш испытательный срок прошёл успешно. Умрёт — в ту же минуту я вас увольняю. Условие жёсткое. На то и кнут, чтоб резвей лошадь шла… Ну, так идёт?
— Намётом скачет! — счастливо просияла Таисия Викторовна.
19
Танюшку она трудно выхаживала полных два года.
Окончательно выправилась, вернулась Таня к жизни и в благодарность за спасение пошла в медсестры-помощницы к самой к Таисии Викторовне.
Как могла билась за обречённую Таисия Викторовна.
Как мог бился за саму Таисию Викторовну Огнерубов. Бился в разных кабинетах, бился с разных трибун.
Полную ставку ему не давали. Зато чувствительно давили, бомбили его самого комиссиями.
Неусыпный, архибдительный проходяга Кребс подсуетился и в угоду веяниям дня навязал облздраву общественный совет по проблемам онкологии.
Конечно, возглавил совет Кребс. Конечно, как-то оно так выкруживало, что у совета не было иных хлопот кроме бесконечных проверок Закавырцевой.
— Да не дёргайте вы без конца человека за руку! — взмолился Бормачёв. — Дайте спокойно работать!
Уязвлённым львом всплыл на свечу[58] Кребс благородный:
— Э-э, не-ет! Сверху чему нас учат? Доверяй, но про-ве-ряй! Вы доверяете — я проверяю. Всё в духе исторического момента.
Кребс распрекрасно знал бормачёвскую слабинку и натренированно бил по ней: когда дело докатывалось до ссылок на требования властей, Бормачёв сражённо замолкал. Замолчал и на этот раз и, краснея в бессилии, с сердцем подмахнул очередной приказ на очередную комиссию.
Как правило, комиссию вела Желтоглазова.
Как правило, комиссия сваливалась в тот день, когда у Закавырцевой выходной и Закавырцевой, разумеется, не было на работе.
Начинался во всех случаях один и тот же торг. Чадя плохо скрываемым раздражением, Желтоглазова просила показать закавырцевские бумаги.
Огнерубов на разрыве терпенья втолковывал:
— Или у вас максим не варит?… Комиссия — гости. А какие гости ломятся в дом, когда нет хозяев?
— Но она нам не нужна! Мы её работу… Её документацию проверим…
— Проверить-то проверите, да кто вам без неё даст? В её присутствии — пожалуйста! За милую малину! А так… Чёрт его маму знает… Чем хозяйка из своих рук угостит, то и съедите.
— Ну, вызовите её.
— И не подумаю. Чего возради? Может, она стирает… Вы хоть один… Вы хоть в один свой выходной были на работе?
И Желтоглазова зажала роток.
Пристыженная комиссия отлипает, убредает ни с чем.
Огнерубов тут же звонок Таисии Викторовне:
— Завтра по рани ждите ненаглядную комиссию. В запасе день и целая ночь. Если что, прибегайте, приводите свои в ажур дела. Полный чтоб в бумагах глянец был.
Но Таисии Викторовне не надо бежать. Неустанной заботой о ней любвеобильные кребснерята приучили её к осторожности, к предельной аккуратности во всякой малости, и как комар ловок ни будь, не подсунет под неё носа, не подденет.
Её на сто сит сеяли, в ста водах мыли, на ста верёвках сушили, а ни одного компромата, ни одного пятнышка не выловили. Чего нет, того, увы, нет. А без компромата на кой же отчёт Кребсу? Так горькая комиссия ни одного отчёта и не выдала на-горку.
Работы чище закавырцевской Огнерубов не знал. На отличку работала Таисия Викторовна и получала меньше своей помощницы сестры Танюшки. Продала шубу, корову, туфли, скатёрку начётистую, дорогую, а про полную обещанную ставку не заикалась, хотя условие — вернуть к живым Танюшку — Бог знает когда исполнила. Она видела, как Огнерубов бился за её ставку, как страдал из-за неё, и не поднимала голоса. Уже за то была до смерти благодарна, что держал её, не гнал, как требовали Желтоглазова с Кребсом.
— Чем же это она вас обворожила? — полюбопытничали они.
— А тем, чем отвратила вас! — рубнул Огнерубов.
— Не позорьтесь, выставьте эту мужатку.
— Я в своём монастыре чужим уставам не кланяюсь.
Молчала Таисия Викторовна про полную ставку. С краями вывершивало, полнило её сознание, что есть несвалимый защитник у её борца, что может лечить.
Людям отдала она всё, им предпочла мышиную возню, как называла опыты на мышах. Чем торчать в расцветаевской лаборатошке, куда, впрочем, её звали и после заседания, сам Расцветаев звонил домой, всё с шуткой допытывался, когда же она возьмётся за ум, а она легкодушно отмахнулась, подумав:
«Что мыши?… Людей надо поднимать, а мышками пускай играется-балуется тот, кто людям сегодня не может помочь, кто людям сегодня круглая бесполезка.»
Всё устраивало её.
И только царапало то, что железнодорожка была рядом с кладбищем. «Стала я работать у самого кладбища. Дурно-ой знак». В чём именно дурной?
Не могла она себе ответить.
Однако подтверждение своему дурному знаку увидела через пять лет в том, что Николаю Александровичу нужна была её помощь. Помощь онколога.
Она растерялась вдруг, размахрявилась. Никогда с нею такого не было.
Где лечить? Дома? У себя в железнодорожке? Или везти в диспансер?
Дом, конечно, отпадал. Не с гриппом… Операция…
Положить к себе в железку? Самый надёжный вариант. Всегда у тебя на видах. Но с какими глазами класть? Больница ведомственная. К железнодорожникам Николай Александрович никаким боком не пришпилен. Что злые запоют-то языки?
Таисия Викторовна к Огнерубову:
— Вы-то что подсоветуете?
— Ну отбила номер! Ну отбила! — громыхнул Огнерубов на укорных басах. — Вам сплетни дороже иль муж? Не совет — вот вам мой приказ. Во-он, — тычет в окно на скорую, — вам тарантас. Чтоб в полчаса Николай Александрович был тут!
А Николай Александрович так поставил точку:
— Сбирай, малышок, меня в диспансер…
Таисия Викторовна отшатнулась.
— Нет! — Диспансерный вариант она не раз прокручивала в мыслях, но опуститься до его обсуждения с мужем? — Нет! Нет! Никаких диспансеров!
Он не возражал, не спорил, а лишь мягко, просительно улыбался, уговаривал страдальческим взглядом:
«Крошунька, не от себя ты говоришь… Ты говоришь то, что в таком переплёте говорит всякая любящая жена. С хорошей душой зовёшь ты мне добра. Спасибо тебе за это. Я верю, за добром и будет верх. Только почему… Если есть возможность вместе с добром для меня взять добро и для тебя, то почему от добра для тебя следует отказываться? Сама судьба подаёт по два горошка на ложку.[59] Зачем ты забила на донышко души самое сокровенное желание? Неловко на беде мужа утверждать себя? Вот ты, горе-запята… Всё это для обывателей. А мы ж с тобой знаем, чего, горьмя горя, хотим, нам ли друг дружке затемнять глаза, и если уж подпал, подвернулся красный моментушко, не надо его с пустом отпускать».
«Ты в сам деле так думаешь?» — спросила она одними глазами.
«Разумеется. Хоть ты мне и не решилась сказать, да я знаю, в глубине сердца тебе зуделось поднять меня именно в диспансере. Ты хорошо запомнила мой девиз „Где упал, там и подымайся!“. Ты упала в диспансере. Тебя уволили по статье, унизили, оскорбили. И подними ты меня у себя в железнодорожке, это может пройти незамеченно. Злыдни разнесут, распушат слушок, что никакого рака у меня и не было, так не от чего было и спасать. Но будь я в диспансере и оперируй сам Грицианов, — а оперировать будет как раз он, поскольку он лучший в городе хирург на кишечнике и никому другому я не доверюсь, — тут уж волей-неволей они вынуждены видеть, как на их собственных глазах ты будешь три недели изо дня в день готовить меня к операции по своей методе… Волей-неволей доварятся они, воочию удостоверятся на конкретном случае, что в твоей методе сильная сидит сила. Ты обязательно спасёшь меня. Я в этом уверен, как в том, что после ночи приходит утро. Я верю в тебя. И внапрасну боишься везти в диспансер. Вези, крошунечка. Не бойся…»
И привезла она Николая Александровича в диспансер.
С диспансером случился шок.
Очнулся от дрёмы Борск. Запотирал сытыми ручками:
«Чтой-то оно за комедия и разбушуется? Ну-ка, чья тепере запляшет? Ну Закавырка! Ну баба-ух! Грицианов ей пинка под расписочку выдал, вышвырнувши по гнилой статье из диспансера, а она ему в ответку притащила под ножичек роднушу свет муженька!»
В городе шушукались все углы.
Бесспорно, прекрасный Грицианов хирург. Бесспорно, давал Грицианов клятву Гиппократа. А вдруг на тот момент, при операции, запамятует Грицианов про свою клятву и внечае где чикнет лишку? Пролупится ли от наркоза тогда чудик Закавырцев? Весьма и весьма промблематично.
Может, так и не будет.
А где гарантия, что так не будет? И чего это она подсовывает именно Грицианову своего повелителя? Не нашла иного способа избавиться от ненагляды? Иль это она таковски мстит Грицианову?
Волны кругами шли, шли по городу и заплеснули, затопили весь город.
И чем ближе, и чем плотней наваливался день операции, тем крепче вытягивал Борск-на-Томи в любопытстве шею.
Наконец в день операции, в шесть утра, сорвало горячую пломбу на нервах у Кребса.
Кребс позвонил Грицианову.
— Никаких операций!
— Н-н-но-о… — заикаясь, возразил Грицианов, сжимаемый страхом и съёживаясь, — назначен… час… Известно всему городу!
— Что, передавали по каналам ТАСС?! — на злу голову[60] заорал Кребс.
Его взбесило, что эта бессловесная тень вдруг заговорила.
— Без каналов, сабо самой, всем всё известно… — обмирая, прошептал Грицианов.
Теряя последнюю власть над собой, Кребс ералашно хохотнул:
— Слушай ты, земноногий! Не прикидывайся валенком! Да известно ль тебе, Деревянный Скальпель, чем всё может кончиться?! Да если этот её свет Рентгеныч аукнется у тебя на столике…
— Это исключено! — торопливо выпалил Грицианов, перебив Кребса. — Извините, склоки склоками, а дело делом.
Кребс замолчал.
Он очумело вытаращился на трубку, поднесённую к самим глазам, ожидая, что ещё за чушь выскочит из её серых недр.
Но Грицианов молчал тоже, покаянно жалея, что зря, совсем зря не в лад наплёл. Намолол на муку да на крупу,[61] теперь со стыдобушки и кисни, как на опаре.
— Ну ты, трибун, чего молчишь? Тебе, красный сват,[62] что, язык обрезали? — несколько успокоившись, сухо спросил Кребс. — Ты говори да оглядывайся…
— Сабо самой… Ваша правда, Борислав Львович, — покаянно пробубнил Грицианов. — Не успел оглянуться, как выболтнулось с языком чёрт те что! Я ведь сперва, в перву голову, говорю, уж потом, во второй серии, думаю…
Его покаяние к душе пало Кребсу.
— Вот видишь, — без зла, назидательно заговорил Кребс, — как основательно меняется сумма от перестановки слагаемых? Ме-ня-ет-ся! Запомни это… Надо щупальца раскинуть, прежде чем за что браться… Живи тихо. Не создавай вопросов… От твоей, милочек, дремучей порядочности шишек лопатой не прогрести… В административных шалостях ещё можешь слегка порезвиться, поплескаться, но у операционного стола… гм… гмг… Если он сгорит, мы веско докажем, что метода мадам Закавыркиной только губит людей и вполне резонно теперь, что она приткнулась на работу у кладбища — ближе и быстрей сносить товар на «склад готовой продукции». Ну а выживи анафемец её супружник? Картина дорогого товарища Репина «Приплыли»![63] Тогда мы должны навеки увянуть. Ведь… Знаю, ты на ять проведёшь операцию. Только операцией своей и спасёшь его, а сливки, а сливки слижет… А сливки слопает её борец! Эта бухенвальдская крепышка не дурёнка какая. Баба-жох! Факт выживания у вас же в диспансере, в этом ёперном театре, разнепременно пристегнёт… кинет в копилку распроклятой чудодейственной травки! И ты никогда, нигде не отмоешься, не докажешь обратного. До тебя хоть доходит?! Собственным золотым скальпелем прирежешь себя! Тебе это оч-чень надо? Как главврач ты готов умереть сегодня в десять ноль-ноль?
— Сабо самой… н-нет… — заколебался Грицианов.
— А потому, — Кребс напустил грозы в голос, выдержал короткую паузу, — а потому через три минуты тебя не должно быть в городе! Не должно! — распаляясь, державно подкрикнул. — Ты слышишь, штопаная невинность? Лети, святошка, в космос! На юг! Ложись сам на операцию! Беги в тайгу! На охоту! К медведям! К белкам! К зайчихам! Куда угодно выметайсь! Под любым предлогом! Пока ещё темно!.. Твоего духа уже нет в городе! Не-ет!!! Ты это по-ни-ма-ешь?!
20
Едва размыло, раскидало ночь, когда Таисия Викторовна, временами сбиваясь на нервную прибежку, пожгла в диспансер.
Толкнулась в дверь — заперта.
Только тут ей вяло подумалось, ещё такая рань, что даже уборщица не проходила, и она, обмякнув, побрела за угол к мужу под окно.
У диспансера было два этажа.
Николай Александрович лежал внизу, на первом. Его окно сидело так низко, что с улицы можно было разглядеть всё в палате. Наполовину окно снизу замазано белым. Кое-где в закраске больные попротёрли с булавочную головку орешки-окнышки. Начальство об этих орешках не догадывается, Зато пришедшему не в час проведать лучше наблюдательной точки и не ищи.
Таисия Викторовна припала к орешку.
Николай Александрович ещё спал.
Она долго смотрела на него остановившимися глазами, и неясная тревога заворочалась в ней. Лицо тихое, какое-то засмирелое, успокоенное.
Её вдруг прошила молния:
«Да жив ли он?!»
Судорожно скрюченными пальцами стала скрести стеклину, убитым позвала шёпотом:
— Кока… Ко-ока-а!..
Николай Александрович сонно шевельнулся.
Тут она принишкла, усмирилась, но от окна не отлипла. Ей казалось, отойди — случится самое страшное. И она не отходила, оцепенев, пристыв к прозрачной, как слеза, точке в затянутом блёклыми белилами стекле.
Сколько она так простояла? Час? Два?
Бог весть…
Её окликнули.
Трудно повернулась она на голос.
Перед нею была Желтоглазова. В чистом, но уже в примятом халате. В шапочке. Кулак на боку.
— Хэх… Это ещё что за номера! — накатилась Желтоглазова. — Ума не дам… Будь кто другой — простительно. А то сама врач виснет на окнах! Есть ведь часы для посетителей. Есть ведь и двери как для нормальных…
Таисия Викторовна ничего не слышала, не понимала. Верней, слышать слышала, однако, как ни старалась, слов разобрать не могла. Всё перед ней плыло, зыбко качалось словно в тумане.
— Марфа Ивановна… миленька… всё готово к операции?
Холодно, надменно выпрямилась Желтоглазова.
«С каких это пор стала я ей миленькая? Совсем опупела с горя…»
— Операция? Какая операция?… Не было и не будет в обозримом будущем, — окаменело бормотнула Желтоглазова.
— По-че-му? — по слогам опало выдавила из себя Таисия Викторовна.
— Спросите что-нибудь полегче.
— По-че-му? — повторила Таисия Викторовна.
— Видите… Я всего лишь зам главврача… Главврач, извините, забыл мне доложить. И вообще, поступки руководства не обсуждаются.
— Где же оно, руководство? Где Леопольд Иванович? Он же должен сегодня в десять оперировать… Где он?
— Увы, далеко, — скучно пошатала головой Желтоглазова. — В тайге. На охоте. С сегодня руководство в отпуске в законном. Будет через месяц… Есть ещё вопросы?
— Есть, — твердея духом, коротко сказала Таисия Викторовна, выходя из тумана и наливаясь решимостью. Ей вспомнился её «аварийный бабий копеж», запасной план, и она спасённо вздохнула. — Уж коли Леопольд Иваныч изволили отбыть на природу, так разрешите и мне сделать маленький подарок больному. Разрешите его забрать.
— Это ещё что за новости в калошках?
— Какие уж новости… Пока Леопольд Иваныч будут гонять-пугать таёжное зверьё, набираясь новых сил, почему бы и больному не отправиться за здоровьем на природу? Всё равно остался без врача. Так пускай побудет ему врачом сама матушка природа…
— Поясней можно?
— У нас всё можно. Я вывезу мужа на дачу до возвращения Грицианова.
— Пожалуйста. Только… — Вскинув руку, Желтоглазова сухо щёлкнула пальцами. — Маленькое уточнение… Похоже, вы затолкали себе в голову невесть что о Грицианове. А, такой-сякой, сухой-немазаный, вместо операционной увеялся в тайгу. Насчет тайги я это шутя… — она неопределенно пошевелила пальцами, — шутя… для разминки. А правдония такая. Леопольд Иванович шёл на операцию и попал на переходе под машину. Увечья немыслимые. Самолётом увезли в Новосибирск… Это объяснение вас устраивает?
«Приговоренного к повешению устраивает любая виселица». Кто с этим поспорит? Не веря желтоглазовским россказням, Таисии Викторовна молча пошла в палату.
По пути ей успели вшепнуть будто бы желтоглазовские откровения:
«Подождём. Пускай она его ещё получше подготовит к операции. Пускай подлечит ещё, покуда его совсем нельзя будет оперировать. Она у нас сама, своими ручками придавит своего мил муженёнка. Сама! Мы ещё посадим её на заслуженный отдых в лужу. Капитально!»
Николай Александрович взглянул на жену, и испуг забелел у него на лице.
— Что с тобой? Ты какая-то вся, как пружина сдавленная?
— А какой же мне быть ещё в такой час? Если нас предают, то кто же кроме нас самих постоит за нас? Всё пошло вперекувырку… Ты от горя бегом, а горе передóм…
— Да что такое? Не стой, садись… — показал на стул у своей койки. — Рассказывай…
— Кока, твой мудрорукий Грицианов удрал от тебя… — растерянно проговорила Таисия Викторовна, садясь. — Врач последним уходит от больного, а он удрал первым. Удрал от операции. Удрал от своего слова. Ты так верил ему! Про его честность мне твердил. Про Гиппократову клятву… Но теперь ты видишь…
Николай Александрович сражённо выдохнул из близких слёз:
— Что же делать?… Ты три недели на виду у всего диспансера готовила меня борцом к операции… Обдёргала, обломала все щупальца, осталась самая пустяшность — взять хирургу из меня, вышелушить уже нестрашную омертвелую опухоль, изолированную от всего живого, и на — хирург сбежал в тайгу! Что же нам делать?
— Тоже бежать в тайгу! — деланно-постно поднаметнула Таисия Викторовна. Говорила она для любопытных, слушавших со всех коек. — Едем на дачу!
При этом она хитрованно подмигнула, и Николай Александрович понял, что кроха замешивает какой-то фокус. Дачи у них никогда не было.
В скорой они сидели рядом.
Николай Александрович привалился к её плечику.
— Сорвали операцию… Что ж теперь тебе, всё заворачивай по-новой? Опять ты готовь меня?
— Что ты, колокольчик мой… Мучить тебя лишне не собираюсь. Никаковских опять… Всё бежит по графику. Правда, несколько по смещённому. Отсюда мелкие неудобства. Ты уж потерпи…
— О чём речь… Я говорил и повторяю: если моя жизнь нужна твоим опытам — я твой безропотный подопытный кролик. Бери… Я жил и живу для тебя для одной…
— Ну-ну-ну! К чему такие жертвы? Всё обкрутится, выскочит на лад. Вот увидишь! Только придётся малешко потерпеть… Эта дорога… этот переезд… Ты у меня не лапша…[64] подтерпи… Сирота и пуповину отрезает себе сам…
— Эха-а… Осиротели мы, осиротели… Даже ложка имеет свою судьбу… Сосед по койке всё нудил: «Промеж вас чистая война идёт, а она, то есть ты, ему, Грицианову, мужа под ножик пихнула… Диковинно…» И Желтоглазкина вскользь с лаской подпекала: а чего б вам не прооперироваться у себя в железке?… Я строил вид, что не понимал её… Э-э, дрогнул Золотой Скальпель… А я почему-то ему верил… верил…
— Испугался, а вдруг его капля упадёт на мою мельницу… Не отважился на операцию по моему методу… Испугался удачи!
— Испугаешься! Твоя удача им страшней ножа острого.
Дома Николая Александровича положили в коридоре.
Летом он всегда любил спать там. Коридор был широкий, долгий, разбежистый. По сю сторону стена всплошь из стекла. По ту сторону бокастые, в трещинках шоколадные брёвна одно на одном и две двери врезано в них. Первая к Закавырцевым, вторая к соседям, к Рысиковым.
За кроватью, у изножья, кадка с песком. Сразу от кадки деревянная лестница круто сбегает со второго этажа к входной двери. Лестница ветхая, жалобистая, всё охает под ногами, пройди то ли взрослый, то ли ребятёнок.
— Ларик! Воробушек! — позвала Таисия Викторовна четырёхлетнюю свою внучку со двора, на ходу застёгивая на булавку потайной карман, где был платочек с деньгами.
Девочка послушно подбежала.
— Лялик! Вот тебе поручение. Дома взрослых никого. Дедушку оставляю на тебя…
— Бабушка, а сто у дедуски?
— Двести! — сердито буркнула Таисия Викторовна, недовольная тем, что ой как не к моменту подтирается внучка с допросами.
— Не-е… Я не про сисло сто. А просто… Сто у него?
— Что, что… Ну ветрянка, ветрянка! Тебе легче от этого?
— Лекса… — светится гордоватой улыбкой девчонишка. — Я уже давно отболелась ветрянкой и совсем а не страсно… Бабуль… бабинька, а у ветра бывает ветрянка?
— Бывает, бывает… — А про себя подумала: ты ещё спроси, бывает ли рак у речного рака, бывает ли свинка у свиньи и слоновость у слона. — Вот что, ладушка, закрываем вечер вопросов. Отвечать некогда. Лучше в оба смотри тут, чтоб дедушка не спал. Развлекай. Весели. А я скоренько за билетами…
Лариса на пальчиках тихонько поднялась по лестнице.
Села на верхнюю ступеньку у самой у кадки и подгорюнилась.
Как же веселить дедушку? Спеть? Дедушка боленький, нельзя… Может, потанцевать? Разгрохаюсь… тоже нельзятушки… А что тогда можнушко? Сидеть пенёчком и молчать? Плоха-ая я развлекалка… Покудова я думаю, он, может, уже и приснул?…
Она подняла из-за кадки руку, покрутила.
Дедушка должен был увидеть бы её руку и как-то отозваться. Но дедушка лежал молчком. Она привстала и увидела, что глаза у дедушки закрыты. Спи-ит? Бабушка не велела…
Спрятавшись за кадку, Лариса попышней перевязала белые банты в блёстких тёмных косичках-ручейках, потукала коготочком по гулкому, пустому боку кадки.
Дедушка привстал на локтях.
Лариса торжественно вышла из-за кадки, разнесла в стороны края нарядной голубой юбочки в складку, с поклоном присела и уверенно объявила:
— Выступает Лариса Михайлова! Стихи!
И, не переводя дыхание, звончато залилась:
Дедушка накрыл лицо ладонью и заплакал.
Растерянная Лариса подбежала к дедушке, съехала на коленки.
— Дединька… дедунюска… хоросенький… Сто ж ты делаес?… Бабуска наказала тебя веселить, а ты вота как! Хужей рёвы… Вота войдёт бабуска, сто я искажу?
Девочка покинуто захлопала разнесчастными глазёнками и тоже в слёзы.
Николай Александрович подскрёб её слабой рукой к себе, еле слышно похлопал по тугим сахарным рёбрышкам.
— Ну-у, это у нас уже чистый перебор… Ещё не хватало, чтоб и кадушка заревела с нами за компанию. Не роси, внуча… Будет слезой слезу погонять… Вишь, я первый уже не плачу…
Лариса воссияла. Действительно, дедушка перестал плакать, а большего ей и не надо.
Она проворно выхватила у себя из нагрудного кармашка платочек с вышитым в углу зайкой, принялась старательно вытирать у дедушки на щеках две мокрые стёжки.
— Стоб бабука ни во столеньки, — показала каплюшку ноготочка, — не знала про нас!
— Не узнает, не узнает… Ты только доложи, девонька, откуда это ты выдернула… откуда это ты твёрдо знаешь бабушкин ещё гимназический стишок?
— А исто тута знать? В воскресенью она встрела нас с мамкой на вокзале. Радая. Гостьюски, гостьюски!.. Назадки ехала домой, рассказала стисок нам.
— В первом классе проходила… Вот память… — тихо удивился Николай Александрович и надолго умолк.
А на рассвете нового дня он очнулся в поезде — хлопотливо, угарно влетал с вытянутым на ветру дымным флагом в Новосибирск.
— Вот и наша дача! — сказала Таисия Викторовна, кивая на клинику, у входа в которую остановилась скорая. — Поверь, всё обойдётся. Оперирует Юрий Николаевич Юдаев, сокурсник Грицианова. Юдаев Юрий Николаевич… Запомни это имя, Кока. Прекраснейший хирург! Хирург-легенда! С тобой на операции будет Иришка, младшая из пяти моих сестёр. Младшая, младшая, а анестезиолог. Всё будет хорошо.
Ирина — сидела по другую руку вприжим с Николаем Александровичем — утвердительно пожала ему локоть.
И верно, всё было хорошо.
После Юдаев в восторге говорил Ирине:
— Борец — сказка! Как им отлично подготовили к операции. От крови, от слизи, от гноя слизистая была чистым-чистёхонька. Как языком вылизали! Что значит царь-травушка… Больше. Без травушки уцелел бы наш петушок? Не уверен… В нём же помимо того «подарка», что я выхватил, цветёт еще полна торба ах злых болячек. Аденома предстательной железы. Остеохондроз правой плечевой кости. Хронический колит. Анацидный гастрит. Гипертошка… Давленьице королевское. Двести пятьдесят на сто сорок! Ух и буке-ет… Ух и буке-етище!..
21
Отошли во вчера двадцать два января.
Её просторная коряговатая жизнь рисовалась ей в виде дерева. Ствол, ветви — это она сама. А листва — люди, которых к ней судьба подвела.
Нечаянно-негаданно ржа осыпала её дерево, и пошли её листочки валиться.
Первым пал Николай Александрович.
В ум не вобрать…
По его годам — разве шестьдесят пять это годы? — ему бы жить да жить.
И он жил безбедно, покойно.
В отпуск увеялись старики в Вязьму. В гости к дочке Людмиле.
Вдруг что-то там с почками. Удалили левую почку. Операция прошла блестяще. Почка прорастаний не имела, выделилась свободно.
После операции Николай Александрович почувствовал себя настолько хорошо, что попросил побриться.
Побрился, побрился чисто, до синеватого глянца на щеках, а через день умер.
«При вскрытии никаких признаков рецидива болезни метастазов не обнаружено».
Таисия Викторовна кремировала мужа в Москве.
Ехали на отпуск в Вязьму вдвоём, а вернулась в Борск одна с холодной, угрюмой урной.
Эту урну с прахом Николая Александровича она погребла на кладбище возле своей больницы, и всякий раз, подходя к окну, видела его могилу. Горький знак… Прежде не знала она, чем смущала её близость кладбища, теперь и слепому видно…
А вскоре рядом с отцом лёг Георгий, сын.
И как нелепо, как нелепо…
Забросили в Борск итальянские джинсы.
Липа, жена Георгия, жирная, необъятная тетёрка, семером не обхватишь, вьётся лисой.
— Жоржик! Лапунюшка! Взавтре в пять, на зореньке, у нас мини-культпоходик в цумик.
— Что, опять генеральная ассамблея цуманоидов?… На предмет?
— Предметишко стóящий, океюшный. Не то что твой динамит.
— Диамат…
— Всё равно. Джинсики! Чёрные. Вельветовые. Фирма «Riorda». Маде ин Италио! Последний вопль моды!
Георгий конфузливо зарумянился. Он всегда краснел, как на огне горел, когда его поджимали делать то, что ему не хотелось.
— Я джинсы не ношу, — заоправдывался Георгий. — Тогда почему я должен вскакивать вдосветку и бежать в чёрную очередь? Я н-не могу…
— Лапуля, надо! Как сказано не мной, «умей постоять за себя в любой очереди».
— В любой… Ну зачем такая безразборчивость?
Липа сочувствующе покачала головой.
— Какая темнота ты, шалунок, какая темнотишша… Даю пояснения по пунктам. А… К твоему сведению, не вредно бы знать, разлюбезненький, что твоя верная Липуся тоже в джинсиках не пижонит. На мою попонелли, пардон, — птичка я слегка перетяжелённая, — ни одни джинсики не напялишь. Тут только целым рулоном ситчика и укутаешь наши скромные богатства…
— Тогда вообще не понимаю. Сама не носишь… Ради кого в нитку вытягиваешься?
— Э-эх!.. Слушай сюда, дурашка… Пункт бэ… Детишкам ты у себя в политехническом разные талдычишь красивости про прекрасненькое будущее, про то, что каждый должен его приближать. А что видим в натуре? Я да я, якалка ты моя… Всё под себя гребёшь, нет у тебя и граммулечки общественной сознательности. Вот я другой коленкор. Да, я не ношу, но я хочу чтоб борские девулечки были ещё посимфонистей. Они мою доброту и оценят, и озолотят. В универмажке я вырву по сотняге, а на толчке расстанусь за триста, не хуже. Вот тебе и модная ерундовина… Чтоб тебе не было скушно, я подбила уже на культпоход и папулио, и мамулио с её неувядаемой мэгрэнью, и Ийку — весь наличный плахотинский состав. А ты что же, не член нашего милого семейства? Хочешь отсидеться в норке?
— Да ты пойми… Доцент института затесался в толпу из-за штанов!
— А разве доцент института не носит штаны? Что тут такого?
— Мне стыдно… мне некогда… — скороговоркой тускло пожаловался Георгий.
— Ах, ему стыдно! Ах, ему некогда! Хор-рош футболёр! Принести в дом свежую, горячую копеечку ему, видите, стыдно, ему, видите, некогда. А вот как дурацкий футболио — есть когда по полдня лежать под теликом! А вот голодным волком выть Фауста иль хренового сыночка солдата ему и не стыдно и времени навально!
— «В бурю» написал Хренников…
— Да хоть «В ураган»! Видите, он увлекается вокалом! Ах, ах!.. Он у нас на почёте… Гремит в доме учёных, а шум идёт аж до самого до Баб-эль-Мандебского проливчика! Ну и греми, любитель дорогой, в своих ёперах! Я не запрещаю. Но и ты ступи навстречь. Полчасика погреться в народе… Мы будем идти колесом… Я уже застолбушила в списке двенадцать очередей. За полчасика кинуть этако небрежно на текущий лицевой три тысчонки с копейками — это стыдно? На это нету трид-ца-ти минуточек?
— У меня, — выставляет Георгий последний козырь, бормочет оправдательно, — у меня сердце… Так и прокалывает…
Липа ласково, покровительственно погладила Георгия по скобке плеча.
— Жоржик, сизый голубочек… Я не ничёшка[65] какая, понимаю… Потому и толкую с тобой об деле. Знаю, с сердцем ты товарищ, не посмеешь отказать. Для приличия поокусываешься и перестанешь. Знаю, с таким масла накрутишь… Всего на полчасика… Ничо… Дельце и выкушанного яичка не стоит… Шалунок, ну, пожалуйста…
Бедный Георгий дожат.
А утром…
Он выдирался от прилавка уже с третьими джинсами, когда в толпе так сжало его, что он, крупный, тяжёлый, рухнул мешком на ближних.
Мрачно гудя, толпа разбрызнулась от него в стороны.
Один на полу в пустом кругу, он выронил джинсы, потянулся за кепкой, катнувшейся к табуну частых ног, а другой рукой полез в пиджак за нитроглицерином. Ни кепки, ни таблеток он так и не достал, остался недвижно лежать на помятых и уже со следами первой грязи джинсах, страдальчески уткнувшись лицом в красную, в виде сердечка металлическую нашлёпку чужой, далёкой фирмы.
Когда всё это случилось, Липа была уже «не в работе». Она и вся плахотинская рать уже вышла из «работы», поскольку давали последние джинсы, последнее на сегодня модьё.
Плахотинцы мялись чуть в сторонке, отхлынули на всякий случай. Старики потёрлись, потёрлись и вовсе побрели из магазина, лишь Липа с Ийкой, с сестрёнкой, остались возле свалки, ожидая Георгия.
Вот и он уже подрался от прилавка… Вот отдаст… Липа привычно, насторожённо сунет пятнадцатые джинсы в сумку, и они пойдут прочь.
Липа потянула молнию на сумке, чтоб поскорей от завидущих глазищ упрятать барахлину, и тут услышала шум толпы.
Она инстинктивно рванулась в толпу. Народу было невпробой. Она знала, зови не зови, ни до какой спины не достучишься, а потому, наваливаясь, ложась на эту людскую дикошарую стену, пошла ломить к кругу в толчее.
Увидев на полу Георгия, она бессознательно крепче сжала дужки сумки и из последнего кинулась к нему со своими таблетками — носила для него всегда — и тут же попятилась, в ужасе осела на пятки: с противоположной стороны к Георгию косолапил милиционер.
«Что делать? Что делать? Тут ведь милиции, как мурашей на кочке… Ийка чёрт те где… Бросить в давке сумяку, подскочить дать таблетки? Таблетки подымали!.. Но как подойти?… Глупо! Глупо! Глупо! Глупо! Можно остаться на бобылях… Тут всякий хапун до чужого сам не свой. Высовываться со всем добром на милиционера ещё глупей! Уметёт! С поличным!..»
И теперь Таисия Викторовна, отправляясь в больницу, не говорит, что пошла на работу. Теперь она говорит чаще про себя так:
«Я пошла к своим».
Каждый день её видели печальную у окна, и ни одна душа не скажет, про что она думает, глядя остановившимися глазами за оградку.
Случалось, засидится вечером у раскрытого окна. Уже стемнеет. Ей жутко брести одной в пустой дом, и она берёт к своим за оградку и сидит всю ночь, до первого света, на скамеечке, прикрывшись, как птица чёрным крылом, накидкой.
А в год, когда в Монголии обечевился, открылся институт народной медицины, в семьдесят третьем, с её дерева срезало ещё два скорбных листочка.
Огнерубова и Бормачёва.
Поехали неразлей-друзьяки к себе в деревню на выходной. На полном скаку выметнуло их жигулёнка на рельсы перед летящим скорым. Не удержали тормоза…
На место Огнерубова спустили нового главврача.
Уже через неделю новый, ретиво пошмыгивая носом, вежливо, с извинениями, а вместе с тем и напористо выпевал Таисии Викторовне про то, что ни он сам, ни новый облздравовский зав решительно не понимают, с каких это с тёмных небес упала в штатное расписание эта весьма сомнительная половинная ставка, скудно кормившая Таисию Викторовну восемнадцать лет. Убрать! Убрать! Никаких тёмных пятен!
Половинную ставку сбили с ног, ликвидировали.
Таисии Викторовну проводили на пенсию.
Ей было шестьдесят четыре.
По здоровью она могла б ещё работать да работать. Ну да ладно, с Богом не подерёшься. Пускай идёт как идёт, по-ихнему…
Она смирилась, ушла.
Но было ей горько, что лучший, первейший кусок жизни пробегала она на полставке — не деньги, не деньги тут гвоздь, хотя кто же против денег? — тут копай глубже, вроде как половинной жизнью отжила она эти восемнадцать лет, вроде как половинно работала, половинно любила, половинно страдала… Вполовину… вполглаза… вполплеча… вполчеловека… Прожила жизнь вполчеловека, вполсердца. Обидно, что так и не дослужилась до полной себе цены, так с полставки и скатилась на пенсию, и пенсия выскочила ей грустноватая, с гулькину душу.
А самое горькое было то, что не успела она и первую получить пенсию, как ставку её возродили в полный вес, и едва ли не силком пихнули на эту располневшую ставку бледненького мальчика со скамьи, ещё горяченького, ещё не остывшего от госовских экзаменов, до паники напуганного своей нежданной должностью онколога. Будто облили сонного дёгтем.
Читая бумаги, он вздрагивал, когда натыкался на слово онколог, в тоскливом оцепенении отводил от него глаза. Был мальчик по диплому просто терапевт.
Обидно.
Да что же делать?
Обидами вымощена, может, одна моя дорога? Если так, так ладно уж… Что я?… Было б всем, кто подходит ко мне со своими ахами да охами, добро…
Она боялась пенсии. Боялась её одиночества. Боялась узаконенного, оплачиваемого, пускай и из скупых рук, безделья.
Но ничего этого, ни одиночества, ни безделья, пенсия ей не поднесла.
Даже напротив.
Было притихший, примёрший её домок ожил, перестал закрываться. Таисия Викторовна вовсе не роптала на эти не рвущиеся людские потоки-ниточки, не останавливающиеся ни на день.
«Моя специальность — беда, — думалось ей. — Ко мне только с бедой ползут. И как я перед бедой захлопну дверь?»
Её осевший домишко стал вроде маленькой деревенской поликлинички. Жалостно охнула калитка — Таисия Викторовна уже сыплет по лестничке встречать человека.
Больнуши — народ со всячинкой. Один и с крюка сорвёт дверь, а другой, не насмелясь войти, полдня будет кружить, шастать в тупичке под окнами.
Тогда Таисия Викторовна сама выйдет к нему.
Назовётся и напрямки скажет:
— Выкладывайте, по какому горю?
Чужая боль горячила ей душу, лила в неё те токи, ту силу, которая помогала ей самой жить твёрдо, в полный рост.
По ночам она плакала от жалости к тем, кого не выходила, кому не могла уже помочь, однако сама смертно обижалась, когда ответная какая душа пробовала подбежать к ней к самой на выручку.
Домичек у неё утлый, на боку, без слезы не взглянешь. Того и жди, сдует эту курюшку ветерком в лужу.
Собрались раз мастеровые, сродники её одного спасёныша, совершить ей новый храмину безо всякой платы.
Она и всплыви:
— Новый ни к чему. А старый подлатать не в лишку. У меня вон и цемент-четырёхсотка в запаске есть. Да всё при условии, что положено, то и возьми. Копейка копейку жалеет…
И больше всего подивила мастеровых тем, что наравне с ними и пол перебирала, и крышу перестилала… Топор белой птицей так и взлётывал, так и взблёскивал.
— Докторь! Да откуль в вас эта матёрая плотничья прыть?
Смеётся:
— Удивительней было б, если б этих талантов не сидело в дёржаной русской бабе. Я ж на крестьянскую колодку деланная… На комарах росла…[66] Познала всю мужскую работу.
Сколько себя помнит, столько и делает что надо, под иной час вовсе и неженское.
Русскому что надо, то и сработает!
Ещё девчонишка была, лет двенадцати. Надо косить? Косила вровни с отцом. Её прокос поуже, у отца шире, но не отставала, наступала на пятки, а поднажмёт — так обгонит, посадит на козулю.
Иногда ей жалко было косить. Жалко смотреть на подкошенную траву. Глянет — душа мрёт. Ведь только ж что эта трава смеялась на солнце под ветром и на. Махни косой — трава срезана с ног, и какой-то миг ещё стоит на месте, не шелохнётся, будто обомлело горько думает, что ж такое страшное сдеяно. И — охнув, падает…
Стог некоторые ставили на кол. По колу вода стекает, сено гниёт. А Таёжка без кола ставила крепкие стога.
В пять лет, бывало, батяня кинет её лошадушке на хребет. Мёртво прикипит к животине и гоняет верхом без седла — еле сдерёшь назад на землю с Радостинки.
Да не только любила кататься.
В те же пять она уже запрягала и Радостинку, и Буяна. Запрягала хорошо. Шлею поперёд чересседельника не наденет. Заводила лошадь с густой размётистой гривой — Таёжка расчёсывала её на две стороны — заводила в оглобли, не боялась, что лягнёт.
В десять возила неоглядные возы сена.
Едут на луг, полно лукошко насажает своих меньших пятерых сеструх — они казались ей всё мелкие, как мелочь, — туда прокатятся, а там за катанье отрабатывай. Эта подносит, эта подает, эта утаптывает…
Возвращаются пешком.
Таёжка впереди. Вожжи в руках, бежит сбоку. Мелочь вереницей скачет следком.
Таёжка правит. Где какая колдобина — объезжает. А зазевается если, забудет взять в объезд, так ведёт Радостинку медленней и только нырни колесо в ухаб — плечишком всяка щебетунья поддерживает сеновозку.
А как мало оставалось до дома и дорога дальше уже лилась спокойная, ровная, как стол, все взбрызгивали кроме Таёжки на духовитое сено, прикипали держаться за бастрык. Что восторга, что счастья…
В двенадцать она раскорчёвывала с отцом лес под пшеницу.
Пахала.
Сеяла.
Окучивала картошку.
Метала копёшки в стога.
Резала с отцом в тайге дрова, пропасть дров впрок на всю новую зиму. Делалось это в апреле. По последнему старому снегу валили просторную берёзовую делянку. Потом распиливали каждое дерево. И отец, жалея помощницу, — ну что ж ты у меня не парень? — давал ей меньший конец: коротко пропускал к ней пилу, всё, глядишь, легче дочуре. Отца убивало, что у него не была ни одного сына.
Наконец всё перепилили. Теперь отец колет, Таёжка складывает в поленницу. Поленница у неё никогда не разваливалась, а кто из мальчишек сложи — тут же загрохочет врассып, вразнобежку.
Всю крестьянскую работу она умела ещё с измалец, оттого ей диковинно слышать, как ахают прохожие, с изумлением наблюдая, как это она, старушка с варежку, интеллигентно колет дрова. Не выносит она этих аханий, но и не оставаться же в зиму без дров.
На зиму ей надо машину угля, машину дровец.
Как завезут, с неделю винтом без продыху винтится. Бьётся поскорей перепилить, переколоть да вытаскать в сараюшку.
От сердобольцев нет отбоя. Не один, так другой подтирается к старушке с помочью, а ей это не к душе, и она выбивала из пилы одну ручку.
На полном пару подлетит какой мягкосердный, рад попилюкать, да не за что ухватиться, и смятенно отлипает.
22
Таисия Викторовна была прочного, сибирского замесу, однако с убыстряющимся бегом уклонных одиноких лет она всё чаще, обмирая, думала:
«Не вечная я… Уйду, уйду вот… Только кому ж я вложу в надёжную руку свой борец? Кто продолжит меня?»
Тот же медицинский институт, тот же факультет, что и мать, кончила Людмилка, дочка.
«Носило, носило, веяло, веяло Людмилку по стране — присохла в Москве. Практикует в поликлинике на Варшавке. Звучит. Сладко под случай похвалиться кому, что-де вот старшенькая моя врачица во-он где. Да особо я хвалиться не люблю, не гнётся язык.
В работе она всем образец. Не дивушко, что подняли её до зама главного врача. На конце концов все тянутся в главные, как малое теля к соске, да первое дело — не толкётся в Людмиле чиновный свербёж. Не перескочила на бумажки-перекладашки, не стала только руками водить, то есть руководить. Ушла из замов, по-прежнему прочно лечит и борушкой. Она у меня натуропат.
Я часто думаю, хватит ли дочкиной жизни дождаться, когда войдёт борец в закон? Надобно, чтоб и дочке было кому передать борец…»
У Людмилы на возрасте уже своя дочка Лариса.
На каникулы ссылали Ларису в Борск к бабушке.
Внучке нравилось у бабушки. Вместе ходила с нею в больницу, минута в минуту отбывала там бабушкину смену. Вместе и в выходные, и в будние вечера путешествовали по Борску из дома в дом, где были больные.
Уже в Москве Лариса поступила в сеченовский институт. Как бабушка, как мать будет гинекологичкой.
Легче, светлей думается Таисии Викторовне о внучке.
Почему-то верит, именно внучке удастся довести до победного дела борец.
Почему внучке, а не дочери?
Таисия Викторовна не может себе ответить. Ей кажется, внучка везучей. Оттого внучке такая вера, оттого во всякий свободный от школы, а теперь от института час Таисия Викторовна зовмя зовёт к себе Ларису, а та и без зова готова лететь в Борек, так ей там всё к сердцу.
Вот и подпуржил милый февралёк, вот и дождалась Таисия Викторовна каникул.
Сегодня приезжает Лариса!
Поезд ещё не подшумел к вокзалу, а Таисия Викторовна, не выдержав, бежит на Розочку к автобусной остановке.
У них уговорено так: никаких вокзалов, никаких дрыжиков на перроне. Жди, бабушка, дома, по такой калёной холодине не выскакивай за порожек!
По телефону Таисия Викторовна обещала Ларисе ждать дома, но нервы, нервы смял нетерпёж. Она пожгла встретить хоть у автобуса, а то как-то совсем уж неловко. Приезжает всёшки внучка. Как не встретить? Кинуться на сам вокзал — крепко Лариса обидится. Перехвачу на Розочке. Обида будет помягче, попокладистей.
Пурга метёт вселенская.
Старушку то толкнёт так в спину, что невольно сорвётся на бег, то дёрнет в сторону, и она свалится в снег, то кавардачно подует так навстречь, что несёт-поталкивает её назад к дому.
Она сгибается пополам, чуть тебе не ползком продирается к остановке.
На остановке в утренний час вечная каша. Эти выходят, те заходят… Народу тесным-тесно.
Обычно Лариса ездит на задней площадке, выходит во вторую дверь. Вспомнив это, Таисия Викторовна припечалилась.
Ей зудится подойти ближе к нужному месту, куда, как на лыжах, почти боком подскальзывают автобусы. Подойти она не решается. Боится, как бы эта теснота не внесла её в автобус.
Но и торчать в стороне тоже не дело. Глазам больно издали вприщурку пялиться на выходивших с задней площадки, и Таисия Викторовна, помедлив, плотней подбирается к выбранной точке.
Таисия Викторовна не заметила, как за нею духом натолокся Бог знает какой базар, и какой-то добряк детина, ладясь облегчить жизнь старушке, просто, будто перинку, подхватил её под мышки, как маленького ребёнка, и внёс в кипящий дверной распах.
— Да что вы делаете!? Я ж не еду! — закричала Таисия Викторовна.
В ответ ей засмеялись, полагая, что она шутит, и те две крепкие руки ещё твёрже сжали её под мышками, не давая выпасть.
«Ка-ак выйдешь, если оттуда, с низов, железно напирает горячая мамаевская орда…» — подумала она и смирилась.
Ругая себя размазюхой и в отчаянии тыкнув локтем милостивца раза три в бычий бок, проехала она целую остановку. Назад летела как заяц, за которым гнался изрядно проголодавшийся волк. Всё боялась, выгрузит её Ларису вокзальный автобус, а её, кислой старухни, и не будет.
Именно так оно и случилось.
Таисия Викторовна ждёт-пождёт, вся продрогла, посинела, а Ларисы нет как нет. А тут луп — бредёт Лариса к остановке от дома! Поди, увидела замок, догадалась: поехала бабушка встречать. И сама пошла разыскивать бабушку.
В обрат, домой, идётся Таисии Викторовне хорошо. Рядом с Ларисой ей празднично. Старушка то и дело в восторге вскидывает на внучку радостный глаз и не может сразу отвести. Ей нравится, что Лариса девушка рослая, широконька в кости. Плотная сибирская сбитуха. Царь-девка!
Ласковая рука Ларисы тепло сжимает её локоток. Возле Ларисы старушке уютно, надёжно. Старушке кажется, что возле Ларисы и ветер не смеет повесничать. Не оттого ль его и поубавилось? Где-то за домами он ревуще стонет, только не здесь, не возле них. Вовсе не трогает, не толкает, а мягко, уважительно обминает их, как вода камень.
Таисия Викторовна счастливо заглядывает Ларисе в лицо.
— Лялёнок, как столица?
— Нормалёк… Столица, бабушка, пробуждается… В поте лица воюет с аликами… Изо всех продуктовых повымели винные отделы. Полтыщи прихлопнули всяких там разливных стекляшек-забегаловок. Беда-а… Неважнец этим… разлейся море… Какой ты ни питок, а в ресторане больше ста граммушек не поднесут водочки для разводочки. Не ущипнёшь больше ни капельки даже пивка для рывка. За свои же кровные! Вот тем ста хоть радуйся, хоть плачь. Хоть молись, хоть пей… Хорошему питуху горло не смочить.
— Чудесно! Чудесно! Ах как чудесно!.. Наконец-то!.. Ведь разнузданное пьянство — это гибель нации! Наконец-то русский начал учиться жить трезво!
— Оно и в Борске, бабуш, учеников сверх нозрей… Еду с вокзала, водитель объявляет: «Остановка „Магазин“. Следующая остановка „Конец очереди“». В автобусе смешок. Я в окно — чёрная очередина змеёй с версту. Во мне что-то оборвалось. Не до шуточек… Во-от они, ученики-твердо-лобики! Во-от кому на трезвую голову веселье не идёт! Во-от у кого лозунги дня: «Не дадим попасть зелёному змию в Красную книгу!», «Ответим на красный террор белой горячкой!»
— С внезапу на втором взводе или на развязях ещё не то сморозишь… Ничего… Не враз… Ещё малок поотвечают и прижукнут, выпятят языки.[67] Крутовато за них взялись, крутовато. Очень даже правильно! Жаль, есть пробуксовочки. Ну да Москва не в день строилась. В продуктовых нет горячего — вина, водки, — а пива хоть топись. Многие ученики, сменив квалификацию, перескакивают на пиво. Копируется американская ошибка… В тридцатых в Штатах был ух грозный сухой закон. Исчезли вино, водка. Пиво оставили. Пиво и подвело. Даже шутка потом такая выплеснулась: «Сухой закон захлебнулся пивом». Конечно, всё скопом, хоть в щепки разбейся, не ухватишь, где-то будет и рваться, но главное делается, и делается густовато, прочно. Пора трезветь русскому. Как говорили в старину, трезвитеся и бодрствуйте!
Дома, пока Таисия Викторовна собирала на стол, Лариса в спальной сложила весёлую фестивальную кепочку из крашеного тонкого картона (в киоске прошлым летом, в фестиваль молодежи и студентов, брала), крикнула:
— Бабушка! Пожалуйте к зеркалу и закройте на минуточку глаза!
Заинтригованная Таисия Викторовна на пальчиках поспешно подбежала к зеркалу у входной двери. Старательно зажмурилась.
Лариса сняла с неё беретку, надела кепочку. Оценила, хорошо ли сидит кепочка, и, удовлетворённая, сама себе кивнула. Потом приколола бабушке значок.
— А теперь смотрите.
Таисия Викторовна глянула на себя в зеркале.
— Ёлкин дед, какая красота! — отшатнулась в изумлении. — Кака-ая красотень!
С детским восторгом впилась она изучать свою кепчонишку, не отрываясь от зеркала, и бережно, в упоении трогая подушечками пальцев свою обнову то там, то там.
— Козырёчек небесно-голубой… по краю алая полоска… С боков тоже небесно-голубая, а верх белый… По верху белая широкая полоса… С обеих сторон в ней по шесть тонких полосочек. С краю оранжевая, потом тёмно-зелёная, узенькая белая, голубая, белая пошире, красная… А над самым козырёчком, на белом просторе, фестивальная ромашка… Волшебная кепчушечка!.. А значок «Катюша»… Малышка в кокошнике-ромашишке…
— Художник Веременко рисовал не условную русскую Катюшу. Эта девчурка его племяшка…
— Спасибствую, Ларик, что не забыла про сувениры. Я так ждала… Только за ними и отпустила тебя в прошлое лето на фестиваль… Хотя… что я… Как было не пустить? Ты ж и пела, и была в медбригаде… прислуживала фестивалю…
— И пела, бабушка, и была…
— Спасибо.
Таисия Викторовна поцеловала внучку и, подхватив её за круглявые бока, закружила в вальсе, подыгрывая себе языком.
Кружилась Лариса растерянно-трудновато, и уже через минуту Таисия Викторовна ласково оттолкнула её от себя на диван так ловко, что та, сама того не ожидая, сдобно и почти плавно опустилась недвижимостью на мягкий столовский диван.
Докружившись одна до стены с гитарой, Таисия Викторовна сняла её. Не переставая танцевать, заиграла и вытянула не знакомую Ларисе озороватую песенку на французском языке.
Бабушка танцевала и пела, и было в ней столько живости, огня, азарта, что Лариса, отчего-то совестясь своей приворожительной молодой плотной стати, не решалась смотреть ей прямо в глаза и лишь изредка взглядывала на неё восхищённо-завистливо, думая:
«Боже! Мне двадцать два, а кто я рядом с нею? Перекормленная ленивая тумба… Стыдоха… А она… юла… ангорская козочка… Разве кто осмелится дать ей её семьдесят шесть? Осмелится?»
Песенка уже кончилась, а Таисия Викторовна всё играла и кружилась, прижимая всё тесней к себе старенькую, в трещинках, гитару.
Мало-помалу неясный стыд перед бабушкой разломало, унесло, и Лариса, поддавшись вся обаянию бабушки, пялилась на неё с нескрываемым младенческим озарением.
— А недаром я брала на плясках реванш у своего у благоверика за то, что он был умный, умней меня! Ай и недаром!
Таисия Викторовна зарделась.
Эко расхвалилась старушня!
— Бабушка, а откуда вы знаете французскую песенку?
— Ну вот… Да этой песенке семь десятков. Се-емь! Я ведь и петь, и плясать научилась смалку.
Она стала кружиться медленней и играть тише не потому, что устала, — вспомнилась гимназия.
— Покопалась в голове, вспомнилось… Воспоминательша… Вспомнилась гимназия… Приготовишка ещё была. Жила в пансионате при гимназии в Борске… Приехал на лошадях отец за мной на каникулы. Едем. Папа и спрашивает: ну как, Таёжка, учёба? Я и подхвались: знаю уже тринадцать танцев! И танцы всё крючковатые. И ну перечислять взахлёб. Падеспань — поди спать! Падепатинер. Краковяк. Венгерка. Полечка. Полизен. Вальс… Папа в удивлении пихает шапку на макушку. Да-а, говорит, умна, способна… Покончила тольке первый, подготовительный, а уже тринадцать знашь! А чё ж, плясея, даль-то ждать с тебя? А?… В чём, в чём, а по части танцев меня не перескакать. Могу дробушки отбивать…
Нехотя, на красоту, на любование заперебирала чечётошно ногами, звончато, густовато остукивая пол.
— Любому-каждому на свадьбе сделаю заявку и верх будет за мной, да не за розы-щёчки. Вприсядку переплясывала и-и каких плясунов твоя быстриночка. Так звали иногда меня… Девка пляшет, сама себя красит… Как-то была у одних. Приняли винца, понахохлились, угрюмые. Свадьба, ёшки, называется! Хоп я гитарёшку со стены, ка-ак врезала. Все заплясали! Да… Ну вот гимназия… В Борске были две женские гимназии. У девчонок нашей гимназии была своя форма, синяя. У девчонок другой гимназии — коричневая. Уже не спутаешь, кто откуда. На шапочках с ушками был у нас значок. Медный, с позолотой… как брошка. Носили сбоку, над виском. И горели на значке глазастые буквы БМЖГ. Борско-Мариинская женская гимназия. А напротив нашей гимназии была мужская. Мальчишки дразнили нас, на свой лад расшифровывали эти буквы. Идёшь, а он дёрнет за косу, язык покажет: «Бабка Марья жарила гуся! Бабка Марья жарила гуся!..» И бабка Марья померла, и жареный гусь улетел… Улетел… Не воротишь…
Таисия Викторовна сильней ударила в пол, отчаянно тряхнула реденькими кудерюшками, сиротски несмело выглядывавшими из-под голубой фестивальной кепочки, и весело закружилась, разжигаясь, отхватывая под гитару:
Откуда-то снизу, будто из-под земли, заслышалось авральное, нарастающее оханье старой лестницы.
Кто-то торопливо взбегал по ней.
Таисия Викторовна весело выскочила в коридор.
Навстречу быстро подымался из сумрака, летел через две ступеньки длинновязый прыщавый парень. Увидев вверху, на оконном свету, Таисию Викторовну, баловливо-счастливую, с гитарой, в фестивальной кепчонке, парубок смято осклабился и пристыл на серёдке лестницы, не решаясь сыпать выше.
— Извиняюсь… — буркнул. — Не знаете… Сказали, в этом доме живёт бабка… Всё знает про рак…
— Всё?! Что вы! Господь с вами! Вьюноша, да нет здесь не только таковской бабки, нету и такого дедки, чтоб знал всё!
Её забирает смех.
В подтверждение своих слов она дурашливо-твёрдо ударила по струнам.
Струны басовито ей подпели: не-ет!
Парень разбито побрёл вниз к выходу. ^
Таисия Викторовна смутилась. «Навела старая выжмочка копеечный кураж, а он и обидься? Как есть, похоже, обиделся…»
— Молодой человек… мил человек… — позвала искательно. — А вы… Не спешите уходить, не спешите. Тихий воз на горе всегда первым будет! Что у вас-то?
— А вам что за печаль?
— А у вас нет другой радости помимо той, что на лице?
— А разь мало этой одной? — тоскливо огрызнулся он.
— Мало. И не ищите ту бабку. С вашими угрями у неё делать нечего. Ступайте к кожнику.
— Вы-то что откуда знаете?
— Так это ж и дураку невооруженным глазом видно!
— А вам?
— Представьте, тоже. Тут даже и слепому видно!
Парень посветлел лицом, остановился.
— А у нас, — сказал, — сосед говорил: слепому всё равно смотреть что в открытую, что в закрытую дверь.
Бог ведает каким чутьём Таисия Викторовна уловила — догадался, допёр малый, что перед ним та самая бабка. Засвечиваясь ликованием, — так у меня не рак! так у меня не рак! — он в два прыжка слетел к двери и уже снизу, из сумрака, сияюще выпел:
— Благодарствуйте, бабушка! Благодарствуйте!
И почтительно прикрыл да собой входную дверь.
23
Лариса слышала весь разговор.
Разговор ей не понравился.
И уже за столом навалилась в ласковых тонах выговаривать. У человека-де беда, а вы с хохотошками. Наделали хохоту!.. Разве можно так?
— И можно. И нужно! — пустила на волю досаду Таисия Викторовна. — Будь что серьёзное, и я б, конечно, начала всё с ним серьёзно. А то… Прыщи целомудрия принять за рак! Я с ним ой ещё как мягко обошлась. Надо было послать его не к кожнику… Надо было послать… Пускай бежит ищет бабульку лет двадцати да разбежкой с нею в загс. Медовый месяц… семейная жизнь — надёжный артудар по угрям! И чтоб ты знала, кто-кто, только этот прыщ меньше всех имел право рассчитывать на моё светское обхождение. Прыткий типус! Втёк в дом аки тать. Шныра… Этот прикурит от молнии и блоху взнуздает… Входную я закрыла дверь на крючок. Дёрнул — закрыто. Ну, подними чуть нос, глянь выше лба… Звонок, позвони. Так нет, не позвонил. Палочкой сдёрнул крючок!
— Эв-ва! От больных, как от чумы, под крючком не отсидишься. Слава вас и под крючком находит!
— Что мне, Ларик, слава? Славы больше чем достаточно. От неё я готова прятаться под крючок. Но от людей я никогда не закрываюсь. А между тем лишний больной — мне уже тяжеловато. А эта тень-потетень да на каждый день. Годы… Дни заходят… С годами со своими не подерёшься… Ино бывает так. Звонок. Открываю. Сама ель на ногах держусь, до того устала, до того упрела. Спрашивают меня. Не велик грех и соврать. Мол, уехала в Москву. Будет дня через три. Соври да отдыхай. Сколько обещала себе соврать! А расплесну дверь, увижу бедолагу — куда уж тут врать?! По крутой лестнице лезем, друг за дружку дёржимся. Того и жди, обе загремим… Введёшь… Чайку… Чай пить не дрова рубить… За чаем всё и выспросишь… Это просто по случаю твоего приезда намахнула я крюк. Думаю, могу я в спокое хоть первый часок посидеть с любимой внучушкой?… Ну да… Вошёл как воришка, зато довольный ушёл. Разве не это главное? Однако… Однако диковатый жеребок, диковатый… Не люблю грубых. О! Я для него всего-то лишь бабка, хотя и всё знающая… Беспокоюсь я, Лялик… А ну влетишь в жёсткие руки вот к такому. Как гахнет: Ларка!
— Не боись, бабушка! На меня сложно гахнуть. Я ведь чего подзасиделась на станции Невеста? Гляжу товарец… Не спеша. Обстоятельно. Чай, не кроссовки, не шмотьё какое выбираешь. Через моё ситечко хуляганистый воитель-домостроевец не проскочит. Ситечко частое… У меня контингент деловой, цивильный. Оторвитесь на минуточку от хохлиного борща, почитайте. Это любопытно.
Не вставая из-за стола, Лариса дотянулась до красной лакированной сумочки на тёмном старом серванте. Достала из неё треугольничек, подала Таисии Викторовне.
«Вскрыть в субботу первого января 2000 года или когда воспожелается», — пробежала Таисия Викторовна надпись на треугольничке.
Спрашивающе глянула на Ларису.
— Читайте, читайте.
Таисия Викторовна разложила треугольничек.
АКТ
Копия
Настоящий составлен в том, что я, Фея Ивановна Махалкина, и я, Петруччио Дубиньо-Скакунелли, обязуемся вступить в настоящий, ёксель-моксель, брак в конце двенадцатой, тринадцатой или, по выбору, четырнадцатой пятилетки.
Если мы не выполним это обязательство, то пусть нас покарает верная рука товарищей в лице ИПС: Иванова, Петрова, Сидорова.
В чём нижеподписавшиеся и расписуются:
За Фею (завитушка)
За Петруччио (завитушка)
Свидетели:
Гуляшев-младшенький.
Гуляшев-постаршее.
31.02.1986
Таисия Викторовна брезгливо отшвырнула листок Ларисе в широкий, разбежистый подол ало-красного платья.
— Разнет на тебя!.. Милуша, весьма прискорбно, что цивилизация слишком бережно с тобой обошлась, не тронула и тенью твой детский умок. Ну совсем… Ты что, пять лет бегала в институт от грозы прятаться?
— Не только! — ответила Лариса, выдерживая весёлую тональность. — Я ещё вынесла оттуда вот этот предбрачный контракт. Мы сошлись на том, что пятнадцать годков нам вполне хватит, чтоб проверить… чтоб твёрдо проверить друг друга. У нас всё культуриш. Пятнадцать годков — надёжное ситечко.
— Да уж куда надёжней! Не выстарилось бы к той поре твоё ситечко.
— Ничегогогошеньки, не волнуйтесь. Кашу маслом не испортишь.
— Не испортишь, но и есть не станешь.
— И опять же… Сквозь старое решето скорей мука сеется… Года подопрут — не до переборов будет Маше. Это раньше по части кавалерчиков была лафа. Завались! По старой Москве, бабулио, вон даже прибаска такая гуляла: «Каждая купчиха имеет мужа — по закону, офицера — для чувств, а кучера — для удовольствия». Было времечко, жанишков толклось, как комара! А сейчас… Где они, эти кавальеро? Ведь самый занюханный муфлон — ба-альшой дефсит…
— Ох уж эти твои пробаутки… — вяло сердясь, выговорила Таисия Викторовна. — Одевалась бы, милок, скромно, что ли… А то, поди, женихи стесняются подкатывать к тебе коляски…
— Ха— ха, — по слогам сказала Лариса. — Я тоже пока их стесняюсь слегка. А вот достесняюсь до четвертака… Там перестану и стесняться, и миндальничать с ними. Муженёк не пирожок, на тарелочке не поднесут. Надо самой шариками крутить… Ручки-ножки есть в наличии, в живом виде можно в загс доставить — доставим!
— Силой милого не берут, — назидательно возразила Таисия Викторовна.
— Ещё как беру-ут! А то они привыкли… Вон по телику один точно сказанул: «Мужчина, как загар: сначала он пристаёт к женщине, а потом смывается». У меня не смоется ни один мушкетёр! — Лариса пристукнула пустой ложкой по боку миски.
— Ой, девонька! Тебе всё хохотульки… А ведь придавит жизнючка без мужика, и стужу назовёшь матушкой. Да я в твою пору уже имела двух детей и, разумеется, мужа. Во всяк день вскочи притемно. Сготовь, накорми всех. А самой уже некогда, кой да как. Сына на багажник, дочку на раму и полетела на велосипеде. Сдашь козлятушек на детскую площадку и крути ещё четыре кэмэ до института. Тогда автобусы не бегали… А вы?… Раскушали нынче молодые барское рай-житьё… возлюбили… Заигрались, нáтвердо заигрались в женихи-невесты.
Лариса вздохнула:
— А что прикажете делать? Увы, — усмехнулась она, — погода аховая, нефестивальная. Женихи не сыплются с неба дождём… Особо, бабинька, не нарываются в мужья… Факт… В толпе так мельтешат… проблёскивают отдельные экземпляры на мой образец вышибального покроя, но чтой-то оч смирные. Проскакивают мимо, шарики в сторону… Прибаиваются пухлявых, будто я и впрямь такая — бригадой не обнимешь. — Лариса скептически окинула себя деланно-страдальческим взглядом. — У вас было одно время, одна погода… у нас другая… Женихи пошли прямушки какие-то засони. Прям мозга с ними пухнет… Пока разбудишь, ему уже под сороковик. Не знают, чего им в жизни надо…
— Не скажи, не скажи… Не все такие. Вон Каспаров. В прошлую осень выскочил в шахматные короли. Самый молодой в мире чемпион. Двадцать два годочка!
— Подумаешь, елова шишка! Мне тоже двадцать два. Но я этим не кичусь.
Бабушка с недоверием хмыкнула:
— Чудно дядино гумно: семь лет урожая нет, а мыши водятся…
Она скосила глаза на акт, пригляделась к дате.
— До конца февралика ещё полных три недели, а вы уже подписали. И февраль нарастили… Всё шутите.
— Не шутим, а серьёзно. Со всей ответственностью исторического момента тараним намеченные рубежи. Досрочно подписали обязательство, досрочно, можем, и выполним.
— По хаханькам пережмёте с гаком… Мы в молодости были смиреньше. И за человека тогда не считали девушку, если не выдержала рекорд…[68] Жизнь начать — не в поле въехать… Скажи, Петруччио… Это что за петух?
— Да так… Стандартный. Инкубаторский… Петух как петух.
— Постой, распятнай тя! А где ж Тимоша?
Лариса искренне удивилась:
— Какой ещё Тимоша?
— Боже мой! — гневливо сверкнула бабушка. — Человеческий мозг способен вобрать всю информацию, что есть во всех книгах целой Румянцевки, а она не помнит парня, от которого ещё на первом курсе млела.
Тонкий румянец загорелся на Ларисиных щеках.
— Ну… О Тимоше ничего нет в книгах Румянцевки… И вообще… Тимоша — давно проигранная и заброшенная пластинка…
— Пробросаешься, милоха. Такой парубок!
— Ну, какой? Какой? Вы знаете, что этот ящер убогий отвалил?… Раз сбежались мы на гульбарий всей группой. Вскладчину. Кто притаранил пузырёк шампанского, кто коробýшку «Вечернего стона… пардон, звона», кто финского сервелата, а ваш Тимоша прикатился с ломтищем розоватого деревенского сала. Ещё завернул в старушечий платок. Увидели все — со смеху в лёжку. Разулся — опять все в лёжку. Вся франтоватая прихожая блестела от лаковых импортных туфелек наших, а Тимоша возьми в саму серёдку и ткни свои кирзовые сапожищи. Сало все ели — за ушами треск бегал. Но ели и подкалывали и Тимошино сало и Тимошины кирзачи. Тимоша терпел, терпел да то-олько хвать пудовым кулачком по столу и вон… Перевёлся в другую группу, с нами ни с кем не разговаривает…
— Эх вы, столичанские дикари… первобытники… Нашли над кем шутки вышучивать. Да вы всей группой не стоите срезанного Тимошиного ногтя! Учится на отличку, подрабатывает. Со стипендии да с подработки шлёт в деревню. Помогает одинокой матери-пенсионерке… А сам в общежитии сидит, гляди, на проголоди. От души человече нёс вам, а вы на смехá…
— Мог бы и он смехом отыграться… Упёртый хохол!
— А ты кто? Ты забыла, от кого твоя мать? Извини, от меня. А где я родилась? Село Жорныщи у Каменец-Подольска. Не за-быв-ки-вай… А украинцы народ тягловый. Сало ест, на соломе спит — ничего ему больше не
надь. Он всегда будет там, куда навострился. Тимоша пока пасёт нужду, да над вами, столичанские перекормыши, он ещё посмеётся. Последним!.. Послушай ты, модна пенка с кислых щей,[69] чем он тебе не нравится?
— А чем может нравиться этот малахай, куды хочешь помахай? — Лариса медвежевато подняла руки. — О громила!
— А ты не громила? Как раз под масть. На что тебе карлуша?
— А имя? Вон наш котик Тимоша. Назвали!
— Ну и что? Легче запоминать. И потом Тимофей — значит честь Бога!
— Страшный.
— Без носа? Без ушей?
— Не-ет…
— Тот-то! Кончай, подружа, косить сено дугой. Ты этому инкубаторскому кискахвату дай расчёт в полном количестве и присматривайся, подделывайся к Тимоше. Затуши спор. Подлейся первая. Извинись за насмешку на вечеринке. Будь хоть ты одна умная изо всей группы! Чему быть, то останется…
Лариса молчит. Опустила голову, думает.
Бабушке понравилось, что Лариса не стала возражать против Тимоши, и уже ласково, снисходительно трогает внучку за локоть.
— Ну что так жестоко задумалась? Смотри, а то лошадь в рот заедет, а ты и не заметишь…
— Баб! А как вы сходились с дедушкой?
— И-и, куда её повело… Тут не помнишь, что было час назад. А то… Умяли сивку крутые горы, умяли… К могиле поджали…
— Ну-у… — капризно гудит Лариса.
— Хоть ну, хоть тпру — ни с места… Помню, из сна он ко мне пришёл…
Лариса остановила дыхание. Такая диковина наяву?
И она, отложив ложку, стала щипцами вытягивать из бабушки слово за словом.
24
И началось всё это ещё на втором курсе института. С деньгами было плохо. Стала после занятий Таёжка подрабатывать медсестрой в больнице. (До института она кончила медицинский техникум.) И попала она к Закавырцеву. Наскочил огонь на лёд!
Таёжка была всегда на кругу, всегда на виду. Моторная, красивая, ласковая, в ней жил какой-то магнит добра, к ней тянуло людей.
Влюбчивые настырики — эти без масла влезут в глаза, — не зная, как завязать с нею знакомство потесней, слонялись за нею по пятам из палаты в палату и канючили добавки. Один выпрашивал лишних таблеток, второй — «сверхплановый стопарик» какой-нибудь гадкой микстуры, которую при других сёстрах норовил плеснуть за окно, третий, постарше, навяливался со своим:
— Ох, мой Бог! Болит мой бок девятый год, не знаю, которо место… Сестричка, маяточка, потри спинку…
— Но у вас нет этого в назначении, — весело отбивалась она.
— Жди, врачун назнача! Ты уж от себе, радостёнка, назначь. Уважь болезного…
— Нет, — мягко возражала Таёжка. — Без врача не могу.
За всяким разрешением на добавку она летела к Закавырцеву. Она наперёд знала — откажет. И ходить не надо. Она б ни за что и не ходила, не влюбись сама в Закавырцева, который, казалось ей, навовсе не замечал её. Добавки— всего-то лишь ниточка к встрече. И как тут не пойти?
Ей нравились блондины. Он был блондин. Высокий, стройный. У него рано умерла мать. Мачеха не любила его: он был похож на свою мать. Ему шёл двадцать девятый, ей семнадцатый. Вечно одинокий, молчаливый, угрюмый, он виделся ей несчастным старчиком. Ей жалко было его.
То и знай она бегала к нему за добавками. Раз к разу разговоры о добавках становились длинней, обстоятельней, нежней.
Он полюбил её, но не знал, как это сказать. Любил и молчал.
Она видела, что он любил и не решался открыться. «Вот божья коровка… Ну да такого тихонюшку и куры загребут!.. Если он мой, надо брать живьём».
Ей вспомнился бабушкин обычай. Кто приснится под Новый год, тот тебе и верный жених.
Ложась спать в новогоднюю ночь, Таёжка пихнула ключи под подушку.
Попросила:
«Приснись, жених, невесте…»
… Вошла Таёжка в вестибюль больницы, видит: наверху, на лестничной площадке, стоит в чёрном костюме её Николайчик.
Хотела она что-то ему сказать, и тут сон разломился.
До рассвета было далеко, но она так и не сомкнула глаз. Лежала и вслушивалась в себя. «Он мой жених… он мой…»
Её чувства как-то враз определились, она твердовато сказала себе:
«От судьбы не уйдёшь. Надо плотненько брать судьбу в свои хрупкие ручки…»
Утром она бежала по вестибюлю на смену. Обычно она работала во вторую смену. А тут праздник, народ гуляет, занятий с утра нет и её пихнули в утреннюю смену.
На той на самой площадке нагнала Николая Александровича.
— С Новым годом, живулька! — поклонился ей Николай Александрович.
— С новым счастьем! — светло ответила Таёжка и торопливо пошла рядом. Бегом пересказала куцый сон и дуря, наудачу подбавила: — А во сне вы были точней.
Николай Александрович смутился.
— Что такое?
— На этом на самом месте, где мы сейчас сошлись, на этой лестничной площадке, вы ещё мне сказали: здравствуй, берегиня! Так в старину звали жён.
— Да-а, во снах я орёл, воду не переливаю… И что я ещё сказал тебе, рекордная девушка?[70]
— Кажется, н-ничего…
— И правильно. Сколько можно лясалки точить?
Неожиданно, рывком он наклонился и поцеловал её…
Вскоре они поженились.
Хотели сойтись по-тихому, без свадьбы. Такая собачья сбежка не во нрав легла даже его мачехе. Устроила громкий чих-пых. Пришлось сыграть хоть негромкую свадьбишку.
Как-то, уже нажив дочку, заспорили молодые, кто первый влюбился.
— Я первая! — сказала Таёжка. — Моё чувство тебе на расстоянии передалось.
— Нет, — сказал Николай. — Я раньше. Когда парубки в больнице крутились возле тебя, я переживал. Чего надо от девчушки? Переживал и боялся тебя такой дикошарой. Ты всё на людях… На спевках, на танцах… Всегда в кругу. Меня ж всегда жало к стеночке. Ни петь, ни танцевать не умею. Непоказательный покоритель. И вообще, крепкая любовь приходит при близком знакомстве.
— Выходит, ты не любил? Сначала?
— Чувство было, но закрепло потом.
— Обидно… Я вся влюбленная, а ты — любовь только при общении…
С работы он встречал её каждый день.
Здоровье у него было нежное, не всегда бодрое, боялся он холодов и запрещал ей выносить детей на мороз.
— Хорошо! Хорошо! — торопливо соглашалась она, провожая его в присутствие.
Вечером он спрашивал:
— Ну, носила?
— Конечно же!
— Эх, грела кура яйца — ума не нажила!
А потом сам прихваливал её, что не слушала его во всём. Ребятёжь-то выросла на морозе прочная, звонкая. Ведь Таёжка не только гуляла по холоду с детьми, они у неё ещё и спали в тулупчиках на улице под окном в колясках, спали в сорокаградусные морозы. А вот этого муж никогда так и не узнал.
Вместе с детьми рос новый Николай.
Таёжка научила его петь, танцевать. С годами выпрела из него угрюмость, одичалость, стал он вполне компанейским. Однажды возвращались они из гостей. Николай петухом прокукарекал. Совсем ожил человек!
Как в сказке отжили они долгие годы.
Для бабушки воспоминания всегда грустны, тяжелы. Жизнь прожить не лукошко сплесть.
Вороша прошлое, бабушка вянет.
Глядя на неё, сникает и Лариса.
— Ну, — с усилием нарочито бодро говорит бабушка, трогая Ларису мягким взглядом, — отобедали бояре… Потешный час ушёл, время к делам подступаться. Денёшка у нас сегодня те-есный… Надо обскакать, ягодная козка, восемь постельных старушек.
— Надо — обскачем! И передовое место ещё займём.
— Как насчёт передового… Не знаю… Скакушка я… Не выкинула б фокус… Как бы этот божий обдуванчик… — бабушка зябко поёжилась, опасливо посмотрела на окно, толсто забитое снегом, послушала, как за стеной надсадно воюшкой выла вьюга, которая, казалось, ярилась раскачать дом и развеять в щепочки, — как бы саму где нечаем в сугроб не воткнуло.
— Воткнёт — выдернем! Я-то где буду?
— Ты уж, Ларик, не возводи кураж… Не обижайся. Не успела моя столичанская гостьюшка переступить порожек, а я и сунь её тут же в хомут. Старушки эти под годами, старе дуба… Уже плохие, не встают. Да ещё дальние, живут какая где… Трамвайка, автобус нам не товарищ… Не к пути… Не подъедешь. А сама я однёркой боюсь бежать. А ну где ещё смертуха[71] свалит, закидает… Я и посули ихним ходокам: в первый каникульный день внучки наведаю купно с нею. Поди, там у отогретой дырочки в окошке как на боевом посту стоят. Ждут-пождут… Хоть погодина и нелётная, а ползти аж кричи надо. Молодым в беде поможет их молодость. А кто поможет старости?
Они выходят.
Пока Лариса закрывала на ключ входную дверь, бабушка смело, опрометчиво вышагнула за угол дома. Тут же её сдул, срезал с ног монотонно гудящий порыв грязно-серой завирухи.
«Эко уложил Господь королевишну в сани!» — весело подумалось бабушке.
— Вот что значит отрываться от коллектива! — подпустила шпилечку Лариса, помогая ей встать. — «Вашу руку, фрау мадам!» Не дело пролёживать бока на снегу.
— Ничего, Ларушка… Хорошо лишь пахать на печи, да всё равно заворачивать круто. Везде несахарно.
Поднявшись, бабушка инстинктивно впилась в сильную внучкину руку.
Одинцом ей вдруг стало боязко и шагу шагнуть. А так, держась за Ларису, всё куда надёжней, затишок даже вроде курится за просторной молодой спиной. В этом затишке ей уютно. Это чувствует Лариса. Шаг за шагом Лариса берёт твёрдо, закрывая собой бабушку от встречной навали, и так, то ли кланяясь упругому встречному току, то ли бодаясь с ним, почти ложась на него лицом, грудью, в шубах, в валенках, закутанные платками — одни щёлки у глаз, — черепашно ползут они к реке по пустынным, бело стонущим дворам.
Томь отворилась нежданно, враз, толкнувши под ноги метровую льдистую гладь, во множестве мест исступлённо подметаемую хвостатыми змеями. На реке не было сосущей погибельной снежной толщи, и по мрачному глянцу замершей воды они взяли уже спорей.
Брели они молча.
Каждой думалось своё.
Лариса видела лето. Сколько себя помнила, от измалец малости каждое лето отбывала она у бабушки. Толклась всё на Томи. Купалась. Ныряла, с берега прыгала на головку. Загорала. Полоскала с бабушкой бельё.
Выполоскавши, бабушка легко, рассвобождённо вздыхала и, как бы заработав право на купание, скупнётся и сама.
Скупнуться — это не побултыхаться под бережком в иле, где и раку не утонуть, или чудок дальше, на поколенной мели. Скупнуться — это в обгонки на размашку поплыть с внучкой на тот берег и только на том берегу отдохнуть. А до берега до того километрина дали.
Был здесь такой случай…
Задалась Лариса не по годам крупная. Уже в малюхотные лета из неё волшебно смотрела восторженная, озарённая привлекалочка.
Раз как-то, уже на том берегу, голом, мёртвом, начал к Ларисе подтираться один пьяный в лапшу вертопрашный демонёнок. Уже на возрасте, поди, отбухал армию.
Бабушка терпела, терпела да и пальни:
— А ну отчаливай! Чего вылупил шарёнки? Ты чего это вязнешь к ребятёночке?! Она ж только в седьмых классах!
Смертную обиду Лариса не могла переварить. На бабушке выместила сердце, у такой из рук ничего не выпадет:
— Бабуль! Ну на фик туманить людям глаза? Изменщица! Не верьте, молодой человек, ей. Пожалуйста, не верьте! Я уже отучилась в седьмом. Перебежала в восьмой. Я уже в восьмом! Целый месяц!
Всплывший этот казус раззабавил Ларису.
Она в улыбке повернула лицо к бабушке.
Бабушка далеко была в своих мыслях.
Лариса не стала заговаривать с нею.
А видела бабушка своё. Сколько жила, столь и плавала. Лет с трёх перескакивала свою деревенскую речку. И плавала до последней, до прошлой, осени.
В семьдесят пять в обгон перемахнуть экую далищу — это что-то да значит. Может, река и слепила, слила её такой здоровой. Меленькая, с виду хрупкая, она всегда была, как репа, здоровая.
Только месяца два назад, уже на семьдесят шестом, узнала, что у неё есть сердце. До такой поздней поры не знать болезней, вовсе не знать…
«Это не чудо, это моя корявая, неразглаженная барством жизнь подбавляет, подмётывает мне деньков.
Мы вон шесть сеструх, все медички. Целая борона сестёр. Я большатка, самая старшая. Но я вот. Свои ножки подставляю и иду. Своими ножками топчу снежину. А где мои младшухи? Далече… по ту сторону… Все изнеженные, распаренные, наблещённые, в ловких дворцах королевствовали. Жили гладко, пили сладко. Они не знали, что такое дрова, что такое за полверсты таскать из колонки воду. А замерзни колонка, в чёртову холодину тряси и даль того к колодцу. Не знали, что такое в мороз мыть скворечник, нужник за сараем, не знали, как копать огород, как сажать, как мотыгу в руках держать… Мно-огое сестрички-лисички не знали, не ведали…
Меня ж всё это подкусывает, подмолаживает в каждый божий день. Я и верчусь. Я и бегаю всё… Однако, подруга, надо бы прыти поурезать. Надо б потише бегать, в прах тя расшиби, года твои не девочкины. Бегала б тише, и даль не опознала, с какой стороны серденько. Кабы знатьё…
Завези они уголь как полагается, по осени, я б в осенний долгий день тихой рысью весь бы и переплавила в сарай. А то стрянулись! В декабре! В мороз-сороковик! День короче ладошки. Я и бегом, я и бегом… С крайней устали выпятила язык на плечо и всё без остановы, всё без остановы. Ну да я привычная, не первый снег на голову…
Меня уже помахивало, а я всёжки не отлипла, всё под метёлочку снесла. Пошабашила да… Ну будь ты прончатая! Доласкалась, ёлкин дед, до подарочка… В домок по лесенке ползу — чую, ой плохо мне. А с чего взяться хорошу? А ну однёркой перемечи, перебурхай тако две тонны уголька в сатанинску стужу! Прикрутило родное, впервые за всю жизнь прихватило и прихватило крепышко…
Спасибо, на моё счастье ко мне забрела за советом одна моя спасёнка. Видит, у меня у самой беда на гряде спеет, позвала неотложку.
Нагрянула целая бригада.
Сватают по-скорому везти в кардиологический центр, а на дорожку подстёгивается круглая, как пуговица, сестрица со шприцем с локоть хороший. Глянула я в диковинку на тот шприц, любопытствую:
«Это вы кому наготовились?»
«Вам».
«Что ты, дурашка, что ты! Да мы в деревне скотине укольчики помельче вкатывали!»
Не далась под укол. Ни в какой центр не поехала.
Всё травками возживала. Аптечную химию не привечала, никогда не принимала. Восстала безо всяких аптечных подпорок. Одначе… Шатки, бабка, твои годы… Теперь я спускаюсь по ступенькам, как кошечка, и серденько слышит…»
Какое-то время она ни о чём не думает.
Молчание надоело ей. Она окликнула Ларису.
Ветер не подпустил её голос к вышагивавшей чуток впереди Ларисе, и та её не услышала.
Бабушка не стала вязаться с разговором. Не в час. Ещё снегу в рот накидает иль зубы выстудишь…
Она сковыривает ломти снега с щели в платке для глаз, тоскливо всматривается в белый плач над рекой.
В мою молодую пору, подумалось ей, разве Томь была такая? Тогда, бывало, плывёшь — себя видишь. До чего чистая была эта речка, бегущая с гор. А теперь залезешь чистой, а вылезешь в нефти. Ах катера, катерюги, как же вы укатерили реченьку… Тогда в речке жили осётры в рост человека, а сейчас выловят лаврики задохлого малька с мизинец — кошка нос воротит. Нефть есть не подучена…
25
Не лишний багаж благородное сердце.
Виктор Астафьев
В Истоке, на борской закраине, потонувшей в глухих, в матёрых снегах, едва подскреблись бабушка с Ларисой к нужной избёшке, как на крыльцо выскочил раздёжкой мужчина — в одной рубахе да с шапкой в кулаке — в поклоне, касаясь шапкой пола, зовёт в дом:
В Истоке, на борской закраине, потонувшей в глухих, в матёрых снегах, едва подскреблись бабушка с Ларисой к нужной избёшке, как на крыльцо выскочил раздёжкой мужчина — в одной рубахе да с шапкой в кулаке — в поклоне, касаясь шапкой пола, зовёт в дом:
— А мы вас ждём! А мы вас ждём! Как Бога…
Таисия Викторовна смотрит на него устало-осуждающе. Реверансы ей эти тошнотны.
Она быстро входит, снимает верхнее и, спросив глазами, где больная, стремительно идёт за ним в боковую комнату.
Увидев больную, Таисия Викторовна отмякает, холодность ссыпается с неё сухими льдинками, и она, садясь на пододвинутый к койке табурет, уже с лаской берёт тихую руку и поверх неё кладёт свою другую руку. Слабо пожимает.
— Ну, хвалитесь, чем богаты.
Говорит Таисия Викторовна мягко, с поощрительной улыбкой.
Сколько вьётся Лариса с бабушкой по больным, всё больше убеждается, что бабушка какая-то не от мира сего. Она просто влюблена в больных до беспамятства! Возле больного она воскресает! Выше больного никого не знает! Тут ей и сам Бог не в копейку! Увидит человека и больше её ни для кого нет. На всем белом свете никого, ни одной души нет для неё кроме вот этой единственной неможницы. Поскорей выяснить диагноз, поскорей выломить злосчастную из горя!
Истовое желание её видимо всем, и страдалица, робко смелея, с твердеющей верой в удачу заходится рассказывать.
— Да чем жа я богачка?… Чужая болесть даст поесть, а про свою про беду и сказать не могу… Сёдни ночь не спала… вся в боли… Глаз с глазом не сошёлся…Такое богатствие, что и не знашь, как от него отхватиться. Толку не сведу… Вже четыре зимы страдамши лежу в боли… Лежу на пласту… Боженька до-олго терпит, да болько бьёт… К кому я тольке ни кидалась… Да, видать, не тем углам кланялась… Первым долгом в диспансер по кожному. Никакоечкой мне помощи не подали. Я за реку в туберкулёзный. Не успела глаза обогреть, шлют… гонют транзиткой дальшь. Подсоветовали в онкологичку бечь… к узникам смерти… Приняли там. Навели на лечению. Десять сеансов. Оттаскалась… Дали коротко отдыхнуть. Опеть на десятку сажают… Немного продохнусь… По-новой пристегни десять лучей… Мне от этих киносеансов погоду не устроило… Ни мой Бог не полегчало… Насоветовали шатнуться в больницу мэвэдэ.[72] Пошла… Если камень не шевелить, под него вода не бежит… Тамочки прийняла я, курица безухая,[73] двадцать лучевых сеансов и как в лужу. Ни грамочки не подмогло… Стала, как бык, не знаю, как быть. Напоследе усоветовали мне солнечны лучи. Примала цельно лето и всёшенько без полезности. Разлезалось у меня больша и больша, и така корка наросла — как железо… Боль приживчива… Мочей моих не хватает… Едешь парой… то левой, то правой… А большь всё ахом да охом… Заболеть недолго, вылечити трудно… Такоти, болезная…
Таисия Викторовна опасливо потянула к себе старушку за локоть.
— Сядем-ка…
Старушка перепуганно замахала руками:
— Ох да вы, докторь!.. Оха вы, Таись Боговна! Да я вже год не сидела! В улёжку под святыми лежу… Бо-олько… Как эту корку пошевелят, так с-под неё кровушка не фонталом ли содит… Дошла я основательно… Тольке что помереть… Я всё вам, болезная, нараз обсказала, показала всё своё бедствие. Вы ско-ольких больнуш сняли со смертной постели… Возьмить нараде Христа и меня на свои капельки святыя. Капельками вы взняли соседку мою Пятачиху… Мы вроде как роднистые… У моей бабки сарафан горел, а её дед руки погрел… Такое вот родствие… Мне всё подноготно ведомо. Начали вы потиху с одной каплюшки, потом стали выдавать на раз по две… Потиху, неразбежисто… Тихий воз на горе повсегда первый будет… Да-а… А как жа, хворь низзя бить в лоб, низзя. А то эта фуфыня дошлая зна, где и твой лобешник. Та-ак в ответку звезданё — дух прочь!.. Уж как расхорошо, уж как часто да складно поёт мне Пятачиха про ваши царь-капельки. На ейных руках тепере вся домашность, ломом ломит на заводе. А была пора… Совсем бабёшку скрутило. Дело давнёшне, а в учебу гожается. Пришаталась на приём в диспансерий, а врачуны нараз врасполох валются на неё с операцией срочной. Да разь она перенесла б операцию? В ей же было весу сорок два кило! И боязко. Тоды хирург… Фамильность его какая-т с напёком… Уроде как царская…
— Грицианов? — подсказала Таисия Викторовна.
— Он! Он! Он прямо и наругал. Делай операцию! Все-таки два-три месяца поживёшь! И с его резучих слов поймала моя Пятачиха, взяла резон: что так смерть, что так смерть. И вырешила уйти без результата. Нету никаких лечений и помощи от врачунов. Чирья знай вырезывают, да болятки вставляют… И расположилась Пятачиха по всяким подсказкам вылезти из болезни. Как-то в разговоре с одной недужницей услыхала про вас… Вы и подбери её на свои капельки. Стала моя Пятачиха спать, боли как ножом обрезало. То ела — хворому всё горько! — закусывала как воробей, а то разбежалась есть. Слоновий явился аппетит и на еду, и на сон. Только поела, тут упала и пропала — уснула без задних гач. Начали вы её своими божьими капельками готовить к операции. Упустя три недели легла она на стол. Чувствовала себя расхорошо, и вес прибыл. Уже сорок семь кило. Немного навела тело, подправилась. Операция сошла благополучно за три часа и сорок восемь минут. Сердечного укола не приняла, из памяти не выходила и в памяти привезли в палату. На вторы сутки мела лазаретны и домашни обеды, всё заподряд мела от картошки до селёдки. А вот кого клали под операцию, да не лечили вашими генерал-капельками, не уцелели. В одной палате с ей лежали Баулова, Танюка Зайчикова, Филимониха, Сонюшкина, Журова, Луковка — все примёрли. А она борзым коньком бегат! Здоровёхонька, как боец!.. А потом приключилось с ейной дочкой… Назначили лечение лучами. Но из-за воспаления брюшины провели тольке половину курса и списали домой. Лечись воздухом! А она вознялась на ваших капельках! Через какую-то времю приходит в диспансерок на проверку. В легистратуре ель отыскали карточку и знаете где? Торчала там, где вже помершие! Ить до чего была плоха, кода выписывали на воздух. Не верили, что будет жить. Потом сам варяжистый Кребс из большой больницы смотрел. Смотрела Желтоглазова. Здорова, здорова! Сняли группу. Было это… Желтоглазова тольке-тольке выдерлась в главные в диспансере, раз этот с царской фамильёй слетел с копылков…
Таисия Викторовна грустно усмехнулась:
Эх, Грицианов, Грицианов… Никуда-то ты, Сабо Самой, не сгодился. Ни в мир, ни в пир, ни в добрые люди… Жил смешно, а со сцены сошёл грешно.
Ревизоры откопали у Грицианова растрату, которую можно было покрыть лишь десятью годами в «доме без архитектурных излишеств».
На суде Грицианов патетически пел, что пропавшие деньги ушли на невиданное и неслыханное досель развитие как раз того участка, который вела Таисия Викторовна.
Все пенно дадакали, особенно пенилась вулканом Желтоглазова. А Таисия Викторовна возьми да скажи, как было. Да, сказала она, развитие действительно невиданное, неслыханное в том смысле, что его никто не видел, никто о нём не слышал, а денюжкам приделали ножки, и они ушли-уплыли налево, в том числе и на зряплату двум бугаям, лепили докторскую Грицианову.
Как диктовала этика суровой необходимости, эти нештатные гении скрылись в неизвестном, по авторитетным слухам, зигзагообразном направлении. Делать Грицианова по полной форме доктором медицинских наук им было уже просто некогда. Защищаться надлежало собственной персоной.
Судьбе угодно было смешать божье с грешным. Дело до громкой грициановской защиты на учёном миру не доехало. Пришлось ограничиться глухой, меланхоличной защитой в народном суде.
— Все прошли лабораторию Грицианова, одна Закавырцева осталась необработанной, неохваченной, — съязвил на том заседании прокурор.
В местах отдалённых Грицианов встрепенулся, припиявился к образцовой жизни так, что через полсрока, подпав, подкатившись под амнистию, вернулся.
Угрелся где-то в медицинских сферах, присох на тихих ролях. Где-то в каком-то затрапезненьком санаторишке что-то скромненько возглавил. А попутно скоро вознёсся по общественной линии, выхватил себе какой-то секторок, выдавал удостоверения тем, кто окончил вечерний университет марксизма-ленинизма.
Окончила с отличием университет и Таисия Викторовна. Приходит за удостоверением, а Грицианов и говорит:
— Никакого удостоверения тебе не будет. Сабо самой, будешь знать, как правдушкой по судам трясти.
Таисия Викторовна только сочно рассмеялась.
— Смейся, смейся, — сказал Грицианов. — А без этого удостоверения нет тебе ходу в науку! «Дорогой друг дешево не продаст».
— А я, «дружок», и не собираюсь в науку. А понадобится, так я зачётку покажу. Зачётку-то я не сдала, а там одни пятёрки. Зачётка-то уж поважней.
Вот на такой комедии они и расстались.
Съехал Грицианов куда-то из Борска. По слухам, уже умер.
Увы, всякая комедия тоже кончается. Само собой.
Под другой крышей другая исповедь.
— Лечащим моим врачом была сама Желтоглазова.
Приняла я шесть зарядок.
Девятнадцатого мая выписали из диспансера. А в ночь на двадцатое подскочила температура до тридцати восьми и пять. Пульс участился. Девяносто четыре удара.
Дома питалась я молоком и соками. Кишечник закрыт, желудок освобождался редко и то только после клизмы, и то после двух-трех часов и с такой страшной болью, что мои стоны походили на звериный рык. С каждым днём мне становилось всё хуже и хуже. Живот стал твёрдый. Из-за боли к животу нельзя было прикоснуться.
Состояние моё было очень тяжёлое, и муж, не дожидаясь трехмесячного срока, установленного диспансером для проверки, возил меня в диспансер для оказания мне какой-либо помощи, чтоб хоть как-то облегчить мои страдания.
Там мне выписали болеутоляющие средства и сказали, что моё состояние — это реакция после облучения. Однако, осмотрев меня, врач Желтоглазова выдала справку для перехода на инвалидность.
Состояние моё продолжало быть невыносимым. Муж вызвал Желтоглазову на дом. С нею были ещё двое, фамилий их я не знаю.
Меня уже не осматривали. Отведя в сторону глаза, мне посоветовали быть мужественной.
От Желтоглазовой муж узнал, что опухоль в прямой кишке довольно значительных размеров и как бы составляет одно целое с маткой. Ни операции, ни введения трубки для отделения газов из кишечника мне уже не помогут. Я должна погибнуть.
Конечно, муж мне это рассказал.
Участковый врач Величко — муж вызывал на дом — тоже ничего утешительного не сказала. Я уже сама поняла, что долго не проживу.
Приехала на дом комиссия. Оформила меня на инвалидность. Была я слабая… куры загребут… Сама я из-за слабости и болей не могла поехать. Комиссия установила мне первую группу инвалидности. Вот и всё на сегодняшний день…
В третьем доме говорили Таисии Викторовне так:
— Я смотрю Вам в глаза, дорогая Таисия Викторовна, и думаю, что найду в Вас самого доброго человека, который даст мне здоровье, даст мне жизнь. Мне сорок четыре… Только сорок четыре… И на меня навязалась такая боля… Лéжечью лежать… Это чё?
Девятого сентября отоперировали в гинекологическом отделении мединстатута. Через две недели перевели на глубокую рентгенотерапию. Кончила лечение 26 ноября.
И только тут я узнала, что со мной.
С тех пор ни одной ночи не спала по-людски… Хоть руки на себя навешивай… Денёчки для моей жизни все сочтены. Ведь мои знакомцы, кто прошёл этот же путь лечения, все ушли на упокой. Ухаханова, Печкурова, Удачина, Можейко, Перехватова… Каждая выжила мень двух лет. Рак без топора рубит… По годам я ещё не выстарилась, не отошёл ещё мой пай… А так… А по здоровью мой час на отходе…
Невжель моим четверым деткам — все мал-мала короче — остаться на пожизнь сиротами? Миленькая, Вы мать, сжальтесь надо мной. Падаю… кланяюсь в правую ножку… прошу… Подберите меня на лечение своё. Я чувствую, лечёшка в институте была пустая… Ни к лугу, ни к болоту…
Я там прошла сорок два облучения пушкой и три зарядки. А у меня и посейчас всё болит. Каждому своя болезнь тяжела…
В низу живота всё время какая-то тяжесть. В правом паху болько. Позвоночник тиранит, спасу нет… Не согнуться. Мочевой пузырь жгёт… И самый страх — прямая кишка воспалена, геморройные шишки полопались, вторую неделю не думают заживать. Хожу с кровью… Всё горе поймала…
Выписали меня под наблюдение гинекологички. Безо всяких там лекарств. Сказали, и так всё пройдёт.
Я б сама к Вам сходила, да моя ноженька ни в какие силы не пускает из дому. Надо ж, ногу ещё подломила. Заковали в гипс на веки вечные. Вроде не болько болит, а не даёт ступить…
Таисия Викторовна, миленькая, я верю Вам и верю себе, пойдёт Ваше лечение в пользу. Я всё выполню, что скажете… Не дайте потерять детям мать… Не спокиньте… Не знаю, чем Вам буду благодарна и чем отблагодарю за Ваше горячее старание… Мне б вползти в здоровье хоть бы ещё годочка на четыре… Подростить, подбольшить бы своих горюшат… а там и… а там и… а там и…
На уклоне дня наши спасительницы, скользя и кувыркаясь в бездонные снега, наконец-то выкружили к банёшке. Унылой, обшорканной.
Воистину, баня всех моет, а сама вся в грязи.
Лариса тоскливо поморщилась, глядя на неё и проходя мимо, но Таисия Викторовна, всё так же клещом державшаяся за верх внучкиной руки, дёрнула её книзу и устало, разбито показала на дверь. Нам сюда!
— Бабушка! Вы что тут забыли?
— Здоровье мы тут забыли, Ларик, — назидательно ответила бабушка. — Не знаю, как ты, а я вся… Неделю волосы не мыла… грязные… Того и жди, вырастет репа на голове. Да и… Ног до дома не донесу… До смерточки стомилась… Всякую болячку приложи… примерь к себе… Исплакалась душа…
Лариса поражённо остановилась. Это-то у бабушки исплакалась на обходе душа? Что-то новое. Лариса никогда не слышала, чтоб бабушка жаловалась. Напротив. На обходах бабушка всегда расцветала, радовалась каждому больному, радовалась тому, что может помочь. Боль искала врача, и она его находила. Чего же жаловаться?
Мимо прошил тощий мужичонка с запашистым берёзовым веником под мышкой — в зимний холод всякий молод! — мурча под нос, напевая с ростягом:
Что там в пробаутке дальше было и было ль, Лариса не узнала. Мужичонка дёрнул в банную дверину, с лица заледенелую, а изнутри распаренную, вспотелую, и растаял в туго ударивших встречно клочьях весёлого пара.
— Ларик! Ты ли не сибирочка? Ты чего упираешься? Уж кто-кто, а тебе сам Бог велит сегодня выбаниться.
— По случаю приезда?
— Естественно. Баня — мать вторая, и после поезда к кому как не к ней идти?
Бабушка замолчала, не решаясь говорить то, что само катилось на язык, и, немного поколебавшись, озоровато-радостно воскликнула:
— А главное, баня смоет слёзки, шайка сполоснёт. Ты ж вся просолела, поди, от слёз!
Алость расплеснулась по девичьим щекам. Ларисе стало стыдно, что бабушка-то, оказывается, видела её слёзы.
Но как она могла видеть?
По обычаю, Лариса становилась всегда у изголовок. Больная видеть её не могла, это уже точно-наточно. Не могла и бабушка её видеть, поскольку у бабушки была раз и навсегда наработанная на обходах манера держаться с больной. Бабушка подсаживалась, брала её руку в свои и напрочно уходила в расспросы. Бабушка никогда не отвлекалась на постороннее, не снимала с больной глаз. В то время, когда бабушка сидит у постели, кроме больной для неё не существовало в целом мире ни одной другой души.
Горячечные мольбы спасти переворачивали неокрепшую, молодую душу. Лариса не выдерживала, слёзы сами собой бежали, и она, пряча их, то вытиралась тихонечко рукавом, отвернувшись перед тем, то промокала краем платка.
Собираясь уходить, одеваясь, Лариса отводила от бабушки лицо, набрякшее от слёз, старалась не смотреть на неё, пока не отходила на морозе — и на! Оказывается, она видела! Но когда? Когда?
— Ларик, сладенькая, ты не стесняйся своих слёзок. Не разучившийся сам плакать всегда увидит и услышит плачущего. Что же в этом стыдного?
Было это сказано тем хорошим, ласково-врачующим тоном, отчего Лариса просветлённо улыбнулась, согласно спросила:
— А веники? А прочее банное приданое? Рыльное-мыльное там?…
— Всё в твоей сумке… Заране напихала. Как же без веника? Веник в бане господин, всем начальник. Веник, говаривала моя мама, и царя старше, и царя самого в бане хлестал, а тот только крякал… Веник, не бойся, и про тебя живёт. Взяла и дубовые, и пихтовые, и крапивные.
— Я к крапивным не могу привыкнуть. Боюсь ожгусь.
— Э-э!.. На пару жигучка теряет, сворачивает свои иголки. Делается некусачей, шелковистой. Хлещись на здоровье! И вообще крапивка-огонь низкого поклона стоит. На крапивушке народ голод пережил. Заправляли только молоком и никто не умер.
Бабушка мягко подтолкнула Ларису.
Они вошли.
У буфета мужики запивали баню пивом.
— Ну! — весело сказала бабушка. — Мама моя ещё говаривала: вот тебе баня ледяная, веники водяные. Парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полка не свались. Болести в подполье с водой, на тебя здоровье!
26
А после ужина они вслух читали астафьевскую «Царь-рыбу».
Читала Лариса.
Бабушка зачарованно вслушивалась в то, про что так волшебно рассказывала книга.
Книги она любила. Абы какую не возьмёт, а за хорошей и погоняется, и побегает. Пускай вон три года томилась в библиотечной очереди на «Царь-рыбу», так зато теперь цветёшь, молодеешь за такой книгой.
Записалась ещё на шукшинский роман «Я пришёл дать вам волю». Только вот так, по записи, и почитаешь своих громких сибиряков.
Уже в обычай легло, каждый вечер два часа перед сном отдавались книгам. В эти железные два часа ничто иное не могло войти.
Но прошли и два часа, прошли и три, а чтение всё лилось. Масляным грибом бабушка заглядывала Ларисе в рот, с полна сердца радуясь, что и внучке книга к душе, иначе б наверняка зажаловалась, что устала, и тогда против усталости разве пикнешь?
Уже потом, без огня, лёжа в постелях, они долго молчали, каждая держа в себе то чарующее биение восторга, что пролился со вседобрых, с колдовских астафьевских страниц.
«Отчего так легко? Отчего такой свет на душе в эту страшную ночь? — думает Таисия Викторовна, вслушиваясь в гибельный, в бранный рёв урагана за бревенчатой стеной. — Наверное, и от книги… и от веника… Под веником, под паром омолодели сухие косточки… И от сознания, что наконец-то выскочила из томкого плена этих восьми великомучениц. Когда знаешь, что где-то над болью сидит человек, и ты ему не помог, что может быть врачу тяжелей? Но сегодня всех обскакала… Всем разнесла свои капельки… Скала с плеч… Как говорили древние, кого не излечивают лекарства, того излечивает природа… Я чиста перед людьми… чиста…»
— Бабушка! — тихо позвала Лариса. — Вы ничего не слышите?
— Кроме тебя никого.
— Вроде как ворона керкает…
Бабушка придержала дыхание, вслушалась в заоконную кутерьму. В скорбный плач ветра коротко вплеснуло голос помповой трубы. Трубу бабушка уловила ясно.
— Какая тебе, — усмехнулась, — ворона. Это один у нас тут… Бориска-бесконвойный играет отбой. Каждый день ровно в десять. Как из пушки.
Лариса громоздко заворочалась.
— Тихий ужас! Только одиннадцать, а мы уже бока мнём! Будь телик, киноху подсмотрели б…
Упоминание о телевизоре кольнуло Таисию Викторовну.
— Что телик? Что телик? Жвачка для глаз! Пустота! Всю жизнь прожила без твоего телевизора — принципиально не покупаю. Это выкручивание мозгов! Психящик! Я ни одного мгновения не потратила на твой дурной телик и уже тем только счастлива!
— Зато другие?
— То-то и страшно. Вся страна парализованно уставилась в пустой ящик. Не мигнёт! Раньше религия была опий для народа, а теперь твой телик. Какая-то жуткая мафия… Какое-то убийство в рассрочку. Вот что твой телик! Подумать… Люди перестали друг к другу ходить, перестали разговаривать, перестали читать, забыли театры… Всё закрыл своим амбарчиком твой преподобный. А взаменку что он даёт? Как-то на обходе задержали одни. Посиди минутку, занятный концертишко. Неловко отказаться, ну, задержалась. И что вижу? Выбегает один во всем белом, в атласном. Черненький, патлатенький, скачет, как неприкаянная блошка.
— Ну-у, бабинька, зачем вы так? Это Валера Леонтьев… Телегеничный парниша… Классный певун.
— Классный бегун! Только без номера на груди. Пока шёл музыкальный переход от куплета к куплету, он успел по стеночке обежать весь громадный залище. Как наскипидаренный летел! В Олимпиаду на стометровках тише бегают… Влетает назад на сцену, все одурело хлопают. Не знаю, чему хлопают. То ли тому, что бежал быстро, то ли тому, что хоть живой на сцену вернулся. Он же на радостях так чесал, что его за милую душу инфаркт мог со зла пристукнуть… Вместо пения беганье, скаканье, разбрасывание ног в стороны, даже кувырканье через голову… Искусство! Великое! А у телевизоров стонут. Ай хорошо! Ё-да хорошо! А что хорошего?
— Ну-у, бабуня… Не жестко ли заворачиваете? Если вы всю жизнь пели под гитару «По муромской дороге» да «Очи черные», из этого вовсе не следует, что и Валерчик должен про то же нам раздишканивать. Прошу понять правильно. Я не образцово-показательный ангелочек… Я всякая. А больше девчиш-плохиш. За мои тихие успехи и громкое поведение не раз мамá вызывали ещё в школу на коврик… Я разная… Я и про дорогу, я и про очи послушаю. Люблю. Но мне и вcю эстрадёху подавай…
И она запела, покачивая головой в такт:
— То-то и ох, что эти наши уно… что те, мадэ ин оттуда, плю-ющат нас! — взадир обрезала бабушка. — А вот что-то я ни от кого не слыхивала, чтоб по твоему телику почасту передавали наши народные песни. Будто их и нету!
Возразить Ларисе нечего.
Действительно, народная песня ре-еденькая гостьюшка на телевидении. Разве что когда-никогда споют одну-две и на год неподъёмным камнем наваливается на неё великий пост. Что так, то так…
Как-то виновато Лариса вслушивается в ночь.
Похоже, ветер повернул, и в монотонном нытье пурги она ясно расслышала откуда-то сверху надрывную, хриплую тоску не то вороны, не то трубы.
— Бабушка, — сказала примирительно, — а твой бесконвойный всё дудукает. Он что, себе отбой трубит?
— Зачем же себе? — с неохотой и вместе с тем как-то гордовато отозвалась Таисия Викторовна. — Да он полчаса будет играть… колыбельную для твоей бабушки.
Поражённая Лариса вскинулась на локти.
— Это что-то новенькое… Колыбельная для бабушки! Свежо! Свежо!.. Ещё прошлым летом этого петушка не было. И стоило мне отлучиться на полгодика, как нате из-под кровати! Моя бабулио влюбилась?! Какое опасное легкомыслие!.. Этот ваш кавальеро не нахал? Вы только скажите, я ему… Почему я с ним не знакома? Откуда он свалился на вашу бедную головушку?
— Продохни, не трещи, сорока…
— Бабушка, не тяните душу. Да расскажите же! Кто он? Как хоть зовут?
— Борислав Львович Кребс тебя устраивает? — смято выкрикнула Таисия Викторовна.
Лариса колодой рухнула на подушку.
— Эна!.. Ума не свести… — потерянно пробормотала. — Этот типус полжизни… лучшие свои годы убухал на то, чтоб утопить вас в сухой ложке! Эх, криво рак выступает, да иначе не знает! Ему и всему его учёному окружению — вот где театр карликов! — вы были хуже гориллы и — ночные серенады из-за облаков! Или у него с памятью заклинило?
Она кинула руку вверх, к стене, откуда тонко скулила труба.
— Слышите?
— Слышу, Лялик, слышу. Слышала третьего дня… слышала вчера… слышу сегодня… Услышу завтра…
— А вот насчёт завтра — извините! Я нанесу ему визит вежливости… И этот соловушка умолкнет если не навсегда, так в крайнем случае на все мои каникулы. Вся эта катавасия… вся эта лажа неспроста. У каждого клопа свой кровный интерес. Уж я похлопочу!
Бабушке к душе легло подорожником, что внучка так горячо вскинулась её защищать, ничего ещё толком не зная, и она попросила ласково, улыбаясь голосом:
— Ты уж особо не хлопочи. А то дыму будет много… Невпрогляд. Я уж и без тебя дымила. С ветра пришло, на ветер ушло…
— Он же обитал где-то у чёрта на куличках. А сейчас совсем рядом. Слышно даже его дудуканье. Как он здесь взялся?
— А как гриб… После дождя возрос! — отшутилась бабушка.
И, не желая больше изводить внучку, стала рассказывать, что же у неё с Кребсом навертелось здесь с августа.
В соседнем, в параллельном тупичке осенью сдали дом. Двадцать два этажа. Самый высокий в Борске. Куда ни пойди, откуда ни глянь, отовсюду видать, как над ветхими избёшками плывёт торжественно этот величественный коричневый корабль. В пасмурные дни низкие облака закрывали верх дома, и тогда казалось, что дом стоял, рисуясь собой, как денди на юге, в молочной войлочной шляпе.
В этой элитной башне одинокий Кребс выхватил себе однокомнатную келью.
Нежданное соседство с Таисией Викторовной и разогрело, и растревожило старчика.
Ему вспомнилось, как провожал Таёжку, и старческая слезливость взяла над ним волю, он расплакался. Таёжка, Таёжка… Ничего-то чище, ничего-то светлей твоей любви не было во всю долгую, во всю бездольную жизнь…
Он целыми днями толокся у её дома, множество раз торопливо, воровски поджигал к калитке. Однажды даже брякнул кольцом и тут же отскочил в панике. С какими глазами вползёшь? Что скажешь? Что?
Не решался он больше подскребаться к её домичку. «Подержи себя в руках, подержи… Вот с дня на день поставят телефон, по телефону всё и выпоешь…»
Брело время медленно, тянуче. День — год. Ночь — два.
Ему некогда было ждать. Он хотел видеть её каждый день.
Пресноглазый, он уже плохо видел, плохо слышал, и со своего двадцатого этажа уже не различал людей. Купил сильный морской бинокль, купил помповую трубу.
В тонком боку балкона спроворил щёлку и по утрам, едва отогревшись со сна чаем, приваливался к ней с биноклем, твёрдо угнездившись на малорослом раскидном стульчике.
Случалось, с утра до самого вечера, за вычетом короткого перерыва на беглый обедишко, недвижно корёжился он у щели. Со стороны так глянь, спокойно примешь за окаменелого истукана. От неудобства в позе его всего ломило, всё ныло в нём, так зато все эти страдания тела воздавались душе сторицею — он видел её во весь день!
Он видел, как она готовила на керосинке в коридоре со стеклянным боком.
Видел, как она там же, в коридоре, ела за крохотным столиком в уголке.
Видел, как там же, в коридоре, отдыхала на узкой раскладушке.
Видел, как она ходила за водой к колонке.
Видел, как ходила в ближний магазин.
Видел, как копалась в огородишке, убирая и снося в погреб картошку.
Видел, как ходила по рынку. Слава Богу, рынок за её домком, чуть наискоску, и крайние ряды были досягаемы ему. Он видел, как она ходила там, выбирала яблоки, и кавказские базарщики, хмурые небритые чебуреки, покашивались на неё, как ему казалось, с просыпающимся вожделением. Он в мщении молча сжимал и вскидывал слабый, уже без силы, высохший, какой-то пергаментный пустой кулачок. Она уходила с рынка, и он благостно притихал.
Видеть её — ему бóльшего и не надо.
Однако ему очень не нравилось, вроде как горчицей по губам, когда она долгое время была видима лишь со спины — когда на боку отдыхала после обеда, подпихнув ладошку под щёку и отвернувшись от окна. Мрачнея, он начинал отрывисто дудеть, будил её.
Она просыпалась, ложилась на спину или поворачивалась лицом к окну, и тогда дуденье обламывалось. Но если она ложилась так, что снова не было хорошо видать лица, он снова дудел, одновременно держа и трубу и бинокль, дудел отрывисто, заигрывающе, вроде как в прятки поиграть звал. Меня-де не видно, но ты найди!
Она сердито искала дударя — а, поведи тя леший! — недоумевая, кто это там дуром дурит, поочередно обегая удивлёнными глазами все балконы и нигде не находя дудильщика. А он при этих её поисках цвёл. Он видел её в лицо!
И вот установили ему телефон.
Едва мастер поплотней поддёрнул за собой дверь, как он вальнулся к трубке. Первый номер, который он набрал, был её. Пятьдесят девять — девяносто шесть!
— Привет! — пальнул дурашливо-беззаботным тоном, который так в чести у близких молодых.
Она узнала его.
Ответила охолодело, опустошённо:
— Здравствуйте.
— Привет, радость всенародная! — с разгону затараторил он, затараторил счастливо, взахлёб. — Таёжка! Милочек! Да знаете ли вы, что я, старый сморчок, ваш сосед! Ни больше ни меньше. В башне вырвал каюточку! Давайте дружить саклями!
«Ёрник. Болтуха. Пустоболт».
Она хотела бросить трубку, но любопытство шепнуло ей: подожди. Поругаться всегда успеешь.
Её самолюбие улыбнулось. Позвонил первый… Выходит, сдался? Она положила немного тепла в голос, спросила:
— Значит, за тридцать лет наконец-то надумали дружить домами?
— Да! — горячечно подкрикнул он.
— Ну куда лезть в друзья моей курюшке к вашему небоскребу?
— Так уж и небоскреб! Всего-то двадцать два этажульки. Всё скромней… недоскрёб скорей. Пожалуйста, соглашайтесь. Или… — он запнулся, — или вы всё ко мне в обиде? Возможно, я глубоко виноват перед вами, но, видит Бог, я заблуждался, чистосердечно заблуждался… Поверьте…
— Вы не заблуждались, — тихо, в раздумчивости возразила она. — Вы всю жизнь блуждали по тайге дремучей, да выходить из тайги так и не желаете.
— Если б не желал, я б не позвонил вам. — Он помолчал, натянуто хохотнул: — Приходите. Хоть погреетесь. Уже придавили холода и жутко видеть, как вы маетесь с этой печкой, с этими дровами, с углем, с водой… А у меня всё это сидит в батарее, в кране. Всё самодуриком! У меня на двадцатой палубе в двести десятой каюте тепло-о… А старая кость лакома к теплу. Посплетничаем о тепле, о старости…
— Скажите, какая актуальная тема — старость.
— Для нас с вами, увы, актуальная. Хотя… Куда же делась жизнь? Простите за откровенность, вы для меня навсегда остались семнадцатилетней девочкой… чистой, как бумага… Говоря открытым текстом, искренне жалею, что обтесали меня тупым топором. Неотёс сибирский… Слишком долго косил я сено дугой… Знайте, для меня вы всегда будете семнадцатилетней девочкой…
— Э-э… — припечалилась она. — У вашей семнадцатилетней девочки уже внучка вышла на возраст. Двадцать два года!
Эта новость подживила Кребса.
— Приходите с внучкой! — весело сказал он.
— А если она вас, извините, побьёт? — так же весело спросила Таисия Викторовна.
Кребс смешался.
— Ну… — трудно посопел он, — я считаю, такие излишества просто ни к чему…
— Не бойтесь, она не здесь. Она в Москве.
— Тем лучше, — приокреп он. — Спешу на всякий случай предупредить. Как бы ни сложились наши отношения, каждый вечер с десяти до половинушки одиннадцатого стану я играть на трубе лично для вас колыбельную. Вам наверняка и в детстве не пели колыбельные. Моя колыбельная на мотив песни, знакомой вам с молодой поры. Пел я её на свой лад.
Промокнув платочком слезливые красные глаза и подобравшись, он дребезжаще запел:
Пропев, он глухо пояснил:
— Вот такая песня. Приходите…
— А вы считаете это прилично?
— Милая вы Тайна Викторовна! Неприлично, я слышал, только на полный рот разговаривать. Помните, на объединённом заседании вы мне… вы меня упрекнули, мало-де знаю я латинских изречений. Всего семь. И все тогда, кажется, привели. Знаете, ваша критика легла мне в пользу. За прошедшие тридцать лет я… не сидел сложа ручки… Подкопил ещё кой-какие. Вот… Аlbo dies notanda lapillo. День, который следует отметить белым камешком. Этот день — сегодняшний. Я снова слышу вас… Я счастлив до смерти слышать вас. Я один, совершенно один… Как бы вы сказали, один-разбоженный, ни роду ни плоду… Совсем один на всем белом свете… Тяжело так…нигде никого… Ох… Ну… Отложим нытьё на вторую серию… А насчёт прилично, неприлично… Милочек, мне уже ого-го с гачком! Под сотейник подпирает…
Мягко говоря, Борислав Львович несколько отклонился от истины. Ему настукивал уже сто второй, но он боялся самому себе признаться, что уже переполз через вековой рубеж. Забрался на таран, залез слишком высоко!
Он суеверно опасался переступать столетний порожек, и хотя уже второй год вытягивал из второго века своего, любопытным он упорно отвечал, что ему около ста. Не больше. Все-таки когда тебе около ста, ты моложе, твёрже, надёжней. А признайся, что тебя занесло за сотнягу уже — самому смертельно страшно становится.
— Я скромно прошу у судьбы, — продолжал Борислав Львович, — сущий пустячок с довеском. Отживу с Гиппократово,[75] а там можно и в отставку падать.
— А сколько жил Гиппократ?
— Точного история ответа не даёт. Замнём и мы для ясности… Помните, в нашем возрасте всё прилично! Что мы ни сделай — всё прилично! Потому что на неприличное мы просто неспособны. Нет у нас сил на неприличное…
Кребс глубоко почитал чужую штучку про то, что «без секса прожить ещё можно, а вот без разговоров о нём — никогда!» и, обрадовавшись, что вот вдруг обломилось ему, одинокому, с кем поболтать, тараторливо шатнулся шелушить слова:
— Вы знаете, как распределяются мужчины по музыкальным инструментам? Думаю, не знаете, так послушайте. От восемнадцати до двадцати мужчина как кларнет. Играет без настройки. Но кто разбирается в музыке, тому игра не нравится…
Ей стало стыдно, что через тридцать лет молчания этот трухлявый старый пим и явный гаргальчик,[76] так и оставшийся на бобылях, ничего-то лучшего и не придумал, как в первую же минуту навалился молотить заборную похабщину. Или его уже вышибло из ума? Или он неполный умом? Не вызывает симпатий мужчина, выворачивающий жирные анекдоты. Но разве больше достоинств у женщины, слушающей их? И разве не верно, что с нами ведут так, как мы позволяем?
Она брезгливо швырнула трубку на рычажки.
На току тетерев глух и слеп. Распушив веером хвост, упоённый любовью, он никого и ничего не видит кроме своей роскошной тетёрки.
Борислав Львович шагнул дальше. Тяжёлый на ухо, разгорячённый, как тетерев на току, он не слышал даже сигналов, что на том конце провода трубку положили. Он слышал лишь самого себя:
— От двадцати до тридцати пяти мужчина как скрипка. Одна-две минуты настройки, играет, сколько понадобится музыканту. От тридцати пяти до полста — как тромбон. Не играет, а пугает. От пятидесяти до шестидесяти и выше — как футляр, который говорит о том, что там когда-то был инструмент… А женщины так делятся по частям света. От шестнадцати до двадцати — Азия, никем не изведанная, не обжитая, дикая. От двадцати до двадцати пяти — Африка, знойная и пыльная. В следующий десяток — Европа. Заманчивая, но изъезженная вдоль и поперёк. От тридцати пяти до полсотенника — Америка. Любит деньги, живёт с расчёта, но с каждым днём сознаёт, что ей становится хуже. От пятидесяти до шестидесяти — как отдалённая Австралия. А за шестьдесят — холодная, всеми забытая Антарктида… Вот видите, дикая ягодка, вы всеми забытая Антарктида, а я всего-то лишь пустой футляр. Так чего же нам друг друга бояться? У нас не только огня — чаду никакого не будет! Хотя и говорят… О мужчине и женщине, встретившимся в уединённом месте, никто не подумает, что они читают «Отче наш». И напрасно. Разве не так?
Ответа не было.
Он плотней прижал трубку к уху и ясно расслышал чёткие гудки. Ругнув себя глухой тетерей, снова набрал её номер. Она не сняла трубку. В нетерпении выждав минуту, ещё позвонил. Ещё, ещё, ещё…
Она не выдержала, ответила.
Он чинно извинился за пересоленную байку, опять стал звать прийти.
— Ради чего? — чуже буркнула она.
— Ну хотя бы, ненаглядная моя сибирская розочка,[77] ради вашей монографии. Мне из Москвы переслали её на рецензию. Забудьте наши недоразумения, приходите. Раскиньте хорошенько щупальца, подумайте. Всё будет in орtima forma! В наилучшей форме, — голубино подпустил он. — Будем идти, небесная вы воительница, вперёд без колебаний!
Она дрогнула.
Как выпроводили её на пенсию, засела она за монографию. День в день тринадцать лет корпела. Отобрала сто наиболее интересных излечённых больных, написала целую «Войну и мир» о том, как ей удалось их вылечить. По десять лет и больше живут! А Некрасов так совсем обнаглел. За двадцатник забежал!.. И вот теперь всё её будущее, вся её жизнь — в его руках. Всё зависит от того, какую прежде всего он, Кребс, положит цену.
«Ему надлежит изучить мои дела. Но на что я ему сама?»
— Вы так настойчиво зовёте, — сказала она, теряясь, — будто своей настойчивостью хотите дать понять, что от того, приду я или не приду, зависит судьба моей монографии?
— Вы мои мысли всегда читаете как по писаному.
Таисия Викторовна помолчала и, ни слова не уронив, осторожно положила трубку.
27
Разумеется, всего разговора с Кребсом она не передала Ларисе. Ещё чего! Да при одном воспоминании о делёжке мужчин по музыкальным инструментам у неё покраснели даже уши, не говоря уже о лице, и как хорошо, что была темь, и Лариса не могла видеть её лица. Ларисе она сказала лишь:
— В новом доме, в башне, — может, уже видала, рядом, от нас так наискоску стоит? — дали осенью Кребсу. Звал к себе по поводу монографии… На рецензию ему переслали из Москвы… Я не пошла.
— А это, бабушка, глупо, между нами, девочками, говоря. Или у вас максим не варит? Ради дела не в грех подломить свою гордыньку. Умный, деловой человек меняет свою позицию по обстоятельствам… Может, и в сам деле он почувствовал свою вину? Осознал?… Хотел как лучшéе, а вы испугались, как бы столетний пенёчек — там от мужичка одна реденькая тенька! — не разлучил рекордную девульку с невинностью.
— Не паясничай.
— И не думала. Что ж вы такая пугливая? Знаете, у нас институточки говорят: кто не рискует, тот не живёт. И верно! Везде жизнь, везде что-то да не так, как хочется. А ты вертись, живи, дело делай! Там нехорошо, там нехорошо, там нехорошо. Так и перемалывай это нехорошее в хорошее! Ведь сами талдычили мне старую пословицу: в воде черти, в земле черви, в Крыму татары, в Москве бояре, в лесу сучкú, в городе крючки: лезь к мерину в пузо, там оконце вставишь да и зимовать станешь. Везде несладко, да и к мерину в пузо не влезешь… Загадали, бабунь, загадку… Какую возможность с Кребсом профукали, какую возможность! С досады я прям местами млею… Ну просил мокроносый кобелёк косточку — кинь! Пока б он ворчал в будке над костью, вы б и проскочили в рай. — И с насмешливым укором поддела: — Как не поймёте, что ваш путь в бессмертие начинается у Кребса?! У этого неприбежного людям?[78]
— Скажите! А я и не знала! — сердито бухнула Таисия Викторовна.
— Один тоже не знал… Не обижайтесь, послушайте побаску… Муж в командировке. Со скуки жена завела трёх хахалей. Раз смотрит по телику с одним не то «Время», не то «Это вы можете». Приходит второй. Первого она… Не-ет, кискаблудов своих она, как гоголевская Солоха, не складировала в мешках. Она их на балкон курить спроваживала. Ну, один курит на балконе, второй — некурящий был — тоже курит. За компанию. Бах звонок. На пальчиках к глазку она. Синеньки-зелёненьки сыпанули искры из глаз. Муж! Ай и басурман! Ай и негодяй! Ну панок Подлянкин! До срока прорезался!.. Тебя кто-нибудь звал?!.. Она и третьего шварк на балкон. Ну, муж доволен. Командировка удачная, талы-балы… А трое уже курить не хотят, насосались до одури, все перемёрзли. Из балконников двое были офицеры. Десантники. Смотрят вниз. Говорит один другому: «Зачем влюбленному десантнику с целого девятого этажика прыгать без парашюта?» Второй молчит. Тогда третий, солдат из стройбата, приказал офицерам строиться и повёл строем через комнату. Строго спросил у мужа: «Где здесь дорога на Москву?» Муж опешил, махнул на дверь. Строй спокойно ушёл. Муж долго думал и наконец его прорвало: «Растудыт твою налево! Двадцать пять лет тут живу и не знал, что через мою квартиру проходит дорога на Москву!» Через двадцать пять лет узнал! А вы и через тридцать всё не знаете… Но!.. Простите великодушно за соль, но из постели патрона многие выскакивали в бессмертие! Да… Что горевать об ушедшем поезде? Подождём следующий… Пардон, прождать тоже можно до морковкина заговенья. Без толку можно просидеть все яйца. Нужно самим организовать поезд пораньшéй. И за это берусь я!
— Каким, звоночек, образом? — нарочито умильным голоском спросила Таисия Викторовна.
— Самым прозаическим. Завтра же с утреца махну к Кребсу, к этому гладкому мухомору. Обниму и от избытка чуйств за-ду-шу!
— Только не это! — весело возразила Таисия Викторовна. — Ты в один миг осиротишь меня.
— Странно, — фыркнула Лариса.
— Может быть. Но я вросла в мысль, что где-то есть человек, который долгие-долгие годы неусыпно следит за каждым моим вздохом. Я уже не представляю себя без его внимания в кавычках.
— Интересно, а что думает оказавшаяся одна в лесу раненая пожилая овечка о голодном волке, известном санитаре без халата, без отглаженного белого колпака?
— Всё иронизируешь?… Да, Кребс мне враг. Давнёшний. Вечный. Но знаешь ли ты, что твёрдый, преданный враг ещё не оценённый капитал? Почти бесценный! Смех смехом, а враги всегда подвышали меня. Заставляли быть собранней, наготове. Естественно, я держалась на достойном уровне. Я работала, я жила без помарок. Всю жизнь я им доказывала своё и невольно росла. Не будь врагов, достигла б я того, что достигла? Ой лё-лё… У меня уже в крови: ругают — норма. Подтягивайся. Я спокойна, вся в деле. А вот нечаянно подхвали они меня — это для меня чепе. Я в панике. Я вся перегретый комок нервов, вся насторожку. Где я допустила ошибку? Я ночей спать не буду, но в лихорадке докопаюсь до своей оплошки. Так что хвала моим противникам!
— Конечно! — ядовито подстегнула Лариса. — Несёте вы, бабушка, барабару! Кошка тоже вынуждает мышь держать ушки топориком. Но это вовсе не значит, что мышь от этого счастлива.
— Тоже сравнила…
— Ну по-вашему же, чем хужéе, тем лучшéе?
— Как видишь.
— И, понятно, чем сильнее «доброжелатель», тем лучше вам? Одним словом, вражда — самый надёжный двигатель прогресса?
— А вот с прогрессом пока пшик. Жестокие скачки на месте, — тускло призналась Таисия Викторовна. — Я рвусь вперёд, меня — осаживают. Все при деле…
— Вот вам в итоге и польза от врагов. Однако кре-епко эти бдительные санитары вас мнут. Тридцать лет ни вздохнуть, ни выдохнуть! Не довольно ли? — наливаясь гневом, проговорила Лариса. — Порезвились и — ша! Будя резвиться! Они думают, за вас некому заступиться? А я на что? Завтра в девять ноль-ноль я буду уже у вашего этого преподобного…
— Сразу видно, перегрелась ты в бане, — осуждающе возразила Таисия Викторовна. — На ночь глядя не мели чего зря.
— Почему же зря? Приду, вежливо поздороваюсь…
— Да он от твоего одного вида хлопнется в обморок. Ты — в молодости я. Копия! Один к одному… На одну колодку скроены… Разве что у меня амбарушко был поскромней.
— Не перебивайте, бабушка. И не хвалитесь… У вас всё было выдержано в скромных, но в пикантных масштабах… Поздороваюсь и сразу в темпе: не жалаешь, старче, честно соответствовать — кончай отсвечивать! Neminem laede. Никому не вреди! Мы тоже по-ихнему подсобачились… Иначе как же убрать с вашей дороги этого гнилого колупая? В ум не собрать… Сначала… А был ли мальчик?… Вы же не станете уверять, что не было этого прекрасного, волшебного мальчика по имени Борец?
— Был и есть, — подтвердила Таисия Викторовна. — Этот мальчик стольким спас жизнь… Собери всех его спасёнышей в одну кучаку — в нашем тупичке не пройти! Сельдям в бочке будет просторней.
— Та-ак. Это спасённые. А если собрать по всей земле и тех, кто не спасён по милости этого застепенённого туполобика из башни? Это ж какие тыщи!? Они погибли, потому что эта старая поганка уже тридцать лет не пускает… не даёт и шагу вашему мальчику, в которого вы влили всю свою жизнь. Высокопарно молочу, зато точно. Вы лечите, Вы тридцать лет пишете повсюду о своём способе, а ни Москва, ни Ленинград, ни Минск не выходят напрямую с Вами на связь. Они ж на рецензию гонят всё Ваше сюда же, в Борск, в соседний, в параллельный тупичок. И уже он, Кребс, этот развесистый дуб из соседнего тупичка, выносит Вам приговор, а вовсе не Москва, не Ленинград, не Минск… Вы понимаете этот дурацкий кругооборот? Этот дубоватый фанат выполняет роль отбойного молотка!
Таисия Викторовна обомлела.
С каких давен стучалась она во всякие громкие НИИ, во всякие титулованные конторы, в верховные органы. Посылала на суд свою новину, дело всей жизни, а ответ ей в смехе варился в соседнем тупичке. В сопроводиловке двумя строчками сообщалось, что её «работа направлялась на отзыв профессору Кребсу, который занимается данной проблемой у вас же в Борске». И все эти годы Кребс пёк рецензии, похожие одна на другую до запятой.
Таисии Викторовне стало горько, горько оттого, что всей этой куролесицы она не видела, не видела б и дальше, если б не внучка. Почему же она сама не дошла до такого открытия?
Случалось, ответ долго не приходил. Ей простодушно зуделось позвонить Кребсу, спросить, что там да как. Она набирала номер и на первом же гудке клала обратно в смятении трубку. Гором горела в ней охота дозвониться, узнать правдушку, но и разу не подумалось, но и разу даже не сверкнуло узкой догадки, что всё подчистую отдавалось на полный откуп лихостному Кребсу!
— Получается, — проронила потерянно, — что Кребс вроде мой персональный критик?
— Гм, критик… критика… Критика — это когда глупые судят об умных! Художник Ге сказал. Очень любил подвернуть под момент эту цитату Толстой, который Лев. Да если Кребс критик, тогда Вы наподобие писателя? А писателя, по Пушкину, должно судить по законам, им самим над собой признанным. А разве Вы можете признать ту ахинею, что в своих несёт распеканциях поносник Кребс?
— Да уж живая логика в его писушках и не ночевала…
— Я, бабика, часто думаю, что такое старый человек… Старик — это опыт, это мудрость. Один всё накопленное отдаёт молодым. Такому старику честь, хвала, земной поклон. Но ведь есть и кребсы! Гроб за задом волочится, а он какие пуляет крендельки? Этот сорт старичья я б сравнила с состарившимся деревом. Оно уже плодов не даёт, упало на дорогу. Гниёт. От него вонь, смрад, оно разлагается. С трухалём никому не охота возиться — ещё руки марать! — не убирают с проезда. Он и лежит, только мешается. Переехать нельзя, всё опрокидывает, как опрокидывал Кребс твоего мальчика… Кребс действовал, как говорили весьма неглупые древняки, аudacter calumniare, semper aliquid haeret. Клевещи смело, всегда что-нибудь да останется. И осталось! Осталось то, что вы остались с носом, тридцать лет он, тюлькогон, вешает вам тюльку на уши, а вы интеллигентно молчите! Будете и дальше молчать, он будет и дальше Вас полоскать. Всё молчите… Культуру показываете! Неудобно, мол, неприлично на миру ругаться. А тут не ругаться, тут драться надо! Шпаги наголо!.. Все мы обожаем плакатики. Ученику идти дальше учителя! А Ваш учитель отдал по сути жизнь, кинул весь талант, если он был, на то, чтоб не пустить своего ученика дальше себя! Сколько же можно спотыкаться об эту смрадную колоду? Хва-атит миндальничать! Её надо просто поднять и откинуть, сошвырнуть с дороги!
— Это ж вязаться с грязью… А если обойти?
— А вы за тридцать лет обошли?! — пыхнула Лариса. Ей не понравилось, что бабушка ужималась от открытого выступления, всё как-то клонилась к обочинке, к кусточкам, к постыдным авось, небось да как-нибудь. — Душить его не интересно. Будет ещё мне в пупок хрипеть… Может, где-нибудь на льду подставить ножку ему и интеллигентненько подтолкнуть в спинку? А может, подкинуть и пой… и забыть поймать?… Уцелеет, не рассыплется в пыль — живи и делай всё тип-топ, по совести…
Она запнулась. Тоскливо подумала:
«Не-ет, меня это не колышет. Это ж прикасайся к нему, пачкайся ещё… А может, напустить на него факировы чары? Приду, скажу: „Кребс, а чем ты фигуряешь? Ты ж ни в чём не бурычишь, не секёшь… Сим салабим абра кадабра!“ После этого заклинания он срывается каяться в своих грехах, в темпе перековывается…»
И вслух плеснула:
— Э-эх! Кабы на крапиву не мороз, с нею и ладов не было!
— Лялик, — грустно и длинно вздохнула бабушка, — Кребс не крапива, и мы с тобой, увы, не мороз… Долго бил меня через подушку Кребс… До-олго мяла жизнь… Где за дело, где без дела… Почём я, плюшка, знаю… Я знаю только одно, что само ничего в руки не придёт. Вот думаю, выстою ли, сохраню ли себя до победы? У бабы годы летят, что зерно из мешка сыплется… Греет меня лишь та мысль, если не хватит моих дней, так ещё ты подерёшься за нашего мальчика. Кровь обязывает…
— Я и без обязательств всерьёз займусь борцом, — буднично сказала Лариса.
— Вот за это спасибо! — ожила бабушка. — Раскатаешь кандидатскую… А там… С борцом не промахнёшься. А то вон Ирка, младшая моя лисичка-сестрица, пять лет просидела на моче и коту под хвост. Видите, научная тема диссертации оказалась неактуальной. А борец — это, Лялёнок, борец. Актуален будет, пока живёт на земле хоть один человек… Годы… Моё время, девочка, отходит за горизонт… Стара… Мой пай отошёл… Скоро вечер… Хорохорься не хорохорься, а всё так… Собирая игрушки, о чём я думаю? Чего я хочу? Нет, ни денег, ни памятников… Я об одном молю. Люди, сжальтесь надо мною, придите… Возьмите из моих старых, холодеющих рук моего бедного мальчика. Защитите его от грязи, от клеветы… Уберегите… А, возмужав, он сам за себя ещё ка-ак постоит и не забудет вашу доброту. В чёрный ваш час ох как он вас легко выведет из беды. Люди, люди… Неужели ни одна душа меня не слышит? Неужели все вокруг глухи? Вот пока я в силе… Дай мне где в больнице хоть одну палату. Я б лечила по-своему… А вы, зелень врачи, смотри, мотай покрепче на ус. Передать… передать бы пока живого мальчика с рук на руки… Как уходить, если знаешь, что вся твоя жизнь, все твои мýки, вся твоя добровольная каторга ушли в никуда, в песок забвения? Значит, ничего-то в твоей жизни и не было путящего, ничего-то людям и не воспонадобилось из твоего? А зачем тогда жила? Зачем мучилась? Неужели внапрасну приходила я в жизнь? Не-ет… Сотни моих спасёнок разве не доказательство?… Мир сбился с ума. В лихорадке ищет, чем же отпихнуться от рака. Из одной американской книженции по памяти помню. «Было время, когда американцы испытывали по тридцать тысяч химических соединений в год. Да мыслимо ли — испытать в год тридцать тысяч лекарств против такой сложной болезни как рак! Программу испытаний многие онкологи называют пустопорожним занятием. Позорное растранжиривание денег и времени…» Чего ж кидаться из крайности в крайность? Чего рыскать в поисках неизвестного мёртвого, спотыкаясь о живое и не желая его видеть? А вы не топчите, а вы поднимите это живое. Куда с добром послужило оно моим счасливицам. А почему только им? А почему больше ни одной душе?…
Бабушка печально замолчала.
Долго они ни о чём не говорили.
И Лариса, и бабушка скорбно вслушивались в стонущую, в чёрную ночь, будто слышали и никак не могли до ясности разобрать ответы на горестные бабушкины вопросы.
— А знаете, бабушка, — глухо заговорила Лариса. — Пробиться с чем стоящим у нас трудно. На Ваш Борец не хватило Вашей жизни… Не хватит и маминой… Может не хватить и моей… На вещи надо смотреть реально… У меня обязательно будет сын. Такое предчувствие, что рожу я его 23 февраля. В день Защитника России. И назову Андрей. Мужественный! Храбрый! Уж наш-то Храбрун и пробъётся с Борчиком к людям. Я Вам обещаю, бабушка…
— Это когда будет? А люди умирают от рака сегодня. Что сегодня-то делается?
— К слову, — тихо проговорила Лариса, — есть информация к размышлению. Вы вот приплясываете с Борчиком… А в одной с ноготок капстранёшке, по слухам, лечат иначе. На больного раком напускают… маленький простудифидис.
— Простуду новую какую, что ли?
— Извините, банальный сифилис… микробы сифилиса. Микробы сифилиса набрасываются на микробов рака и пожирают. Рак элементарно скушан, и больного теперь остаётся избавить от сифилиса. Это уже как дважды два.
— Лечить можно разно. Ведь болезнь — это голод. А голоду заткнёшь глотку чем угодно. И куском хлеба с солью, и кашей, и стаканом молока… Что подскочило под руку. Так и в нашем деле. Ведь «в рукописных источниках шестнадцатого века уже насчитывалось пятьдесят шесть средств растительного происхождения для лечения рака». Я многие травушки перепробовала и от Борчика не отошла. Он полезней, он сильней всех. Он все прочие травки поборол. И как жалко, если нашего мальчика затопчут клеветники и завистники…
— Бабушка, — подала Лариса выстуженный, осуждающий голос, — мне что-то не нравится Ваш тон. Что Вы панихиду разводите? О Борчике поёте, как о сироте. Сирота при живых родителях? Хорош сирота! Нечего тут разводить мокроту! Нечего плакаться в подушку! Надо зубки показывать там, где положено. Разве не слыхали, что добро должно быть с кулаками? И для вас, увы, исключения нет. Надо защищать Борчика unquibus et rostro! Клювом и когтями! Всеми возможными и доступными средствами! А Вы хотите чего-то добиться слезами в подушку. Suum cuique tribuere! Воздавать каждому своё! А не ныть из кустов: ах, Кребс! Ах, Кребс! А кто такой Кребс? Nanum cujusdam Atlanta vocamus. И чьего-нибудь карлика мы называем Атлантом! Только и всего. А не Вы любили мне в глубоком детстве рассказывать сказочку, умнейшую сказочку про лягушек?
— Это же про каких? — встрепенулась бабушка.
— А как попали две лягухи в глечик со сметанкой. Рвутся выскочить — ни фига. Одна сложи лапульки и на дно. Лучше умереть, чем так маяться! А вторая не сдалась. Всё хлоп да хлоп, хлоп да хлоп деревянными лапками по сметане. Взбила масло — твердь! Посидела на ней, продохнула да и скок из глечика!
— Э-э, Лялик!.. За тридцать лет я так и не взбила масла своего. А года уклонные ё как выдергивают силы…
— Главное, бабушка, не бросать. Не взобьёте сами — через пару годков в две тяги навалимся взбивать. Неправда, взобьём! Москва от меня никуда не сбежит, а я распределюсь сюда к вам, в Борск…
Бабушка беззвучно заплакала.
В детстве и потом она всегда плакала, когда её особенно жалели. И с тех пор, как умер Николай Александрович, сегодня её именно так пожалела Лариса.
Смирная, благостная, заснула бабушка под размытое, тонущее и накоротке выныривающее из пучины злой ночи немочное бубуканье кребсовской трубы.
28
И приснился ей сон.
Видела она свои похороны. Совсем она ещё молодая, красивая, не в первый ли замужний год. Ещё до детей. Без цвету цвела.
Вот схоронили её.
Все пошли с кладбища.
Последним уже под потёмочками пошёл и Коля.
А у самого слеза на слезе.
И осталась она одна, совсем одна, и видит она из своего тесного домка в шесть досок, как все прощальный пили компот, как все её жалели, как потом все расходились…
И остался Коля один. Долго сидел без света. Не выдержал ночи и, заревев волчьим горлом, побежал на кладбище.
Вынул её из земляночки, в которой богатый не расщедрится, бедный не разбогатится, ретивый не расходится, вынул её, всю в белом, и осторожно понёс домой на руках, как нёс тогда, в фате, из загса.
«Она устала, просто устала… Это пройдёт, пройдёт…»
Ночь стоял над нею на коленях, только под утро, так и не поднявшись с колен, заснул, приклонив голову ей к ногам.
А утром будит она его ласковым поцелуем, как будила во все прежние совместные дни, а он не просыпается… Мёртвый…
Таисия Викторовна дурматно закричала, и её крик разбудил её.
И первое, что она подумала, проснувшись, не разбудила ли Ларису. Пугливо надставила ухо, вслушалась. Не-ет, вроде спит…
Больше Таисия Викторовна не заснула, хоть заклеивай глаза пластырем. Сидела на койке, подобрав с холода зябкие коленки к подбородку, куталась в одеяло.
Сон не шёл с глаз.
Просидела она так и час, и два, может, все три, уже и базарщики запоскрипывали под окнами…
Чему быть, того не обежать, приговорённо подумала она. Бесшумно встала, взяла со спинки стула свою одёжку и на пальчиках выкралась на кухню. На кухне ощупкой нашла на стенке репродуктор и включила.
— Московское время два часа пятнадцать минут. Урок утренней гимнастики проводит Владимир Ларионов, — бодро, однако шёпотом сказала со стены старая чёрная тарелка, будто и она берегла молодой Ларисин сон.
— Доброе утро, товарищи! — поздоровался Ларионов.
«Здравствуйте, Володушка», — кивком ответила Таисия Викторовна.
— Начинаем с ходьбы на месте…
«За приглашение, Володушка, спасибо. Но сегодня не топтаться мне с вами на месте. Сегодня в порядке исключения буду я делать гимнастику не в вашей компании. Извините… — Она выключила радио. — Конечно, делай я мысленно, я б не потревожила свою дорогую гостьюшку. А так… Грому, грому!.. А ей с дорожки ё как надо отоспаться…»
К гимнастике на кухне — хлопотливую домашнюю работу-крутаницу Таисия Викторовна навеличивает основным уроком, а то, под радио, всего-то лишь игривое вступление к нему, — к гимнастике на кухне она пристёгивает энергичные занятия на воздухе.
Подхватила вёдра и навспех к колонке по снежной топи в пояс. Чувствительная разминка! Бегом назад с вывершенными пупком вёдрами — это тебе и не бег на месте, это тебе и не бег вокруг стола вальяжной рысцой…
Пока надёргаешь в охапку морозных чурок в сарайке — сколь отвесишь, отобьёшь поклонов? Да трижды обернись… Да покуда разведёшь печку — и накланяешься до поту, и наприседаешься до тошноты в коленках… Эта антарктидина утёсина скупа на разгар. С коленок дуешь, дуешь… Того и жди, пупок размотается. Моргалки под лоб укатываются… Это тебе не «опустите руки, потрясите кистями». Это тебе не «сделайте два хлопка над головой».
Её продиристая гимнастика вытягивается каждое утро в полные два изнурительных, маятных часа.
Наконец печь как-то уступчиво вздохнула, томно ухнула и, захлёбываясь золотым пламенем, точно размахивая платками, тяжело застугонела, ненасытно жалея себе в рот и суматошно подгоняя: мечи, дровишек, мечи! Знай не спи! не спи!! не спи!!!
Весёлое тепло разливается по кухне.
С минуты на минуту оно плотнеет, и Таисия Викторовна начинает разоружаться. Сперва сбила тылом ладони пуховый плат с головы на плечишки. Осталась в вязаной шапочке. Через короткое время платок слился и с плеч. Потом снимается, увольняется толстая фуфайка…
Тепло хмельно бродит по всему дому.
А ей всё кажется, что в спальне разоспался холод.
Она до пят размахнула в неё дверь.
Ходит она по дому только на цыпочках. Нет-нет да и примрёт у косяка, подержит ликующие глаза на спящей внучке.
«Ну, слава Богу, разобрало тёплышко… Руки выпростала поверх одеяла. Лежит как-то с фантазией… с чудинкой, скобкою. Совсем я, совсем я в молодости. Спеет чья-то радость… Хоть ты, Ларик, и смеёшься, что „мужчина, как загар, сначала пристает, а потом смывается“, ну да разве приставши, найдёт кто в себе силы своей волей уйти от такой твоей пригожести?…»
Завтрак уже томится на столе, а Лариса всё спит и спит.
Бабушке просто жалко её будить.
«Сегодня пускай отоспится моя путешественница. Ну уж завтра, засонька, день развяжем гимнастикой напару. У меня во всём порядок, я ленивкам не кланяюсь… — Тут же она спохватывается: — Постой. Ты кому это грозишь? Своей внучке? Ну, она-то хоть в деле, спит. А ты-то сама чего расселась? Чего брюхо разглаживать?» — поджигает себя бабка.
Ей вспомнилось, что крыша с третьего дня не чищена.
«Поди, натолкло… Забыла… Память совсем другая стала… Пока Ларик рассчитывается со своим Сном Иванычем, полезу-ка я да счищу. А то сама ленью заросла. Кровушка во мне, гляди, приснула. А ей бегать, бегать на весь дух надлежит!..»
По прыгающей под боковым ветром лестнице она привычно взобралась на крышу.
На крыше сам чёрт набросил свирепости снежной дуре. В двух шагах всё темно, всё ревёт, всё гудит.
Шалевой бес опахнул её несказанной радостью, и она, вперекор крепкой пурге, во весь рот закричала на одной ноте, выдавливая всё из себя до воздушинки:
— И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и!..
Плотно вздохнула и ещё громче:
— И-и-и-и-и!..
Вздохнула и ещё:
— И-и-и-и-и-и!..
Закрутили головами прохожие. Да какой там лешак воет! Как ни таращатся, а ничего до дела не видят.
Снегом враз забило старуху. В тихую, в сонную погоду увидели б сразу, а так, в эту слепую заваруху, выпни лицо из-за воротника — стебает игольно-стылыми снежинами по глазам, смотрины не в праздник. Плюнет ходок и знай настёгивает дальше своей нетвёрдой, зыбкой дорогой.
Тупо пялился вниз из незамерзающих, из тёплых окон высотки любопытный народишко. Но, так и не разобрав, кого ж это там, на низах, эдак ломает дурь, отлипал от стекла, пропадал в глубине тепла, в глубине довольства своих царёвых бункеров.
И только один человек видел, как старуха, счастливо обняв свою трубу, благостно дышавшую живым теплом печи, согревавшей и кормившей всю жизнь этот дом, однотонно слала в снежный ералаш свои угрозливо зовущие крики.
Этим человеком был Кребс, недвижно, как букушка, просиживавший дни у окна. Он видел всё в мощный бинокль.
«Jam redit et Virgo…[79] — меланхолично подумал Кребс. — Кого она зовёт? Кому грозит эта миниатюрная, изящная тигруша в год Тигра?»
Кребс видел всё, но не так, как хотелось. Таисия Викторовна стояла к высотке спиной. Кребс перебежал к краю крайнего у него окна, но нет, лица и отсюда не видно, а спину ненаваристо разглядывать за набегающими почасту взвеями.
«Уж как повалилось всё у нас через пень-колоду… Даже дома наши стали друг к дружке задами… И она повернулась амбарчиком… А талия у неё девичья… сахарная…»
Ветер несколько переменился.
Таисия Викторовна зашла за трубу, и теперь Кребс мог видеть её лицо. Её лицо поразило его. Молодое. Смелое. Красивое.
Он поцеловал дрожащую щепотку.
«Ах, антик с гвоздикой! Розочка!.. Спою тебе одной!..»
Он засуетился выйти на гудящий балкон — холод втолкнул его назад в тепло. Рачась, Кребс провористо защёлкнул с поддёргом дверь.
«Я в форточку».
Страшно, как в трубу, несло в форточку.
Убоясь простудиться, Кребс целую вечность её закрывал. Наконец закрыл. Тут же подхватил понуро припавший к стенке пыльный жуковатый валенок с протёртым задником — побудет гитарой! — и, трудно промаргивая по-рачьи красные, слезливо-гнилые глаза, широко ударив по струнам, затянул сиплым, торжественно-фальшивым фальцетом:
Кребс снова навёл бинокль.
В прогалах, в разрывах между метельными волнами выскакивала Таисия Викторовна. Она сбрасывала лопатой снег и тянула:
— а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а…
«Что за чертовщинка? Совсем моя ненаглядная мармеладка сдвинулась с ума! Воет и воет. Непогоду собирает? Так оно и без вытья свету белого не видать уже который день… А может, бухенвальдская крепышечка шаманит налегке?»
Гусино переваливаясь и не сводя с Таисии Викторовны ласково сияющих глаз, подошла толстая баба с почтовой сумкой. Брякнула калиткой, прошаталась к лестнице. Сложила на ней крест-наперекрест руки, лицо на руки. С минуту влюбовинку смотрела, смотрела на Таисию Викторовну, а потом и себе за компанию замычи.
Раз Мария Ивановна, почтальонка, принесла письмо.
Открывает входную дверь и видит: прикрыла Таисия Викторовна глаза сухонькой ладонкой, ходит по коридору и кричит.
Пристыла Мария Ивановна на месте. Ждёт, что ж дальше.
А Таисия Викторовна кричит и кричит.
«Что ж она такое жалостное на крик кричит?» — в растерянности подумала почтальонка и спросила:
— Таисья! У тя горя какая? Воюшкой воешь-то пошто?
Таисия Викторовна открыла глаза и расхохоталась.
— Марьюшка! Да какое там горе! Гимнастикой йогов занимаюсь.
— Кака ж гимнастика ту и вывывать? Оно и лошадь её выкрикиват, как ржё. Так чо ж, лошадёнка тож эту ёшкину гимнастику творит смеючись?
— Творит, Марьяша… И тебе невредно.
— А в чём полезность с вою-то?
— Тут с разбегу не скажешь… Это массаж кровеносных сосудов. Тело сверху просто массажировать. Погладил рукой, потёрся об угол… Роликовый ещё массажёр… Как сказано в рекомендации, «массаж производится массажёром за счёт движения рук, продолжительность 10–12 минут». Но никакими роликами до кровеносных сосудов, скажем, головы не доедешь. Вот гениальные умницы йоги придумали. Кричишь И — идёт на голову, на мозг. У идёт на диафрагму. Это наше второе сердце — диафрагма. А действует на сосуды шеи. Расширяет. О наводит порядок в верхней части грудной клетки. Кричать надо напряжённо, до предела. Чтоб кровка подживилась, заиграла, затанцевала.
Марья Ивановна тоже надорвалась умом. Накатило кричать дома в подушку, чтоб соседи с жалостными расспросами не бежали. Чует, полегчало, подхорошело, совсем расхорошо себя почувствовала. И стала она Таисию Викторовну навеличивать Йогиня, Йоговна, бабка Ёшка.
Всласть погудев и передохнув, Мария Ивановна сложила ковши громоздких ладонищ в рупор. Гахнула:
— Ёговна!
Таисия Викторовна остановилась кидать белые вороха на проезжину, за тротуар — на первом свету сама почистила. Распрямилась, стала на крыше, как на коне, привстав на стременах: одна нога по одну сторону гребня, другая по другую.
— Ёговна! Ты чо нонь трубу опевашь?
— У меня, Марьюшка, причина уважительная. Внучка гостится. Боюсь разбужу, я и марахни на крышу. Полезное на приятное намазываю… А ты так, мимобегом, иль с чем ко мне?
— С поклажей. Бандероля… Москва!
Таисия Викторовна судорожно махнула к себе рукой, будто что резко подгребла.
— А-но кидай Москву сюда!
Почтальонка вползла тяжко на одну ступеньку, ещё на одну и ша, примёрла заполошно. Тряская лесенка под ней напружинилась, провисла кишкой, того и жди, сломится. Марья Ивановна пригнулась, поплотней угнездилась на ступеньке и с размаху швырнула пакет в целлофановой обёртке.
Пакет взлетел над самым краем крыши, и Таисия Викторовна едва поймала его широкой фанерной лопатиной, в рывке дёрнувшись к нему и перенеся из-за гребня и другую ногу на одно крыло крыши.
Эту её оплошку тут же уловил в бинокль Кребс.
«Как бы этот божий обдуванчик сквознячком не унесло!»
— Упадёте! — добросовестно крикнул он и обмяк. — Кончайте вы это своё арбайтен унд копайтен!
Да разве в таком содоме да ещё при закрытых окнах услышит она?
Он высунул трубу в форточку и стал сумасшедше дудеть, дико тыча ей под ноги пальцем. Смотри! Смотри же, где стоишь!
Она не слышала дударика.
Нервно разодрала пакет, в комок сжала верхний листок, отписку-сопроводиловку, и воткнулась каменными глазами в кребсовскую рецензию.
«Трудно передать то тягостное чувство огорчения, которое овладело нами по прочтении рецензируемой работы».
Таисия Викторовна разбито опустила руки с папкой, остановившимся, помертвелым взглядом упёрлась в Кребса.
Кребс идиотски дудукал в форточку и с тем же идиотским энтузиазмом долбил указующим перстом в пол.
«Эко разобрало… Эко ломает нашего комаришку… И пьёт, и хлебает… Совсем сбился с каблуков… Трубит… весь аж корёжится… Старческое веселье придавило? Пляс напал?… Иль затмение нашло?… Затмение затмением, а, — она покачала папку, — а наполаскивает ка-ак?… Чего ж это вы, досточтимый Борислав Львович, начинаете своё писание с личных переживаний за мой труд? А я считаю, что такие переживания не уместны, и науке они не нужны. Подобное обычно выражают при утрате дорогих, близких лиц. В данном случае от рецензента требовалось краткое заключение по существу, а не его крокодилкины слёзки…»
Она трудно поднесла папку ближе к лицу.
На ветер унесло лист, с которого читала. Она безучастно заглянула во вторую страницу.
«Все главы написаны не академическим языком и изобилуют неправильными понятиями, имеющими, надо полагать, застойный характер на грани стойкого застоя…»
Взгляд машинально соскользнул на несколько строк.
«Я не буду приводить других шедевров стиля и содержания и приведенного достаточно, чтобы спросить: с чем граничит такое невежество врача-онколога? Полно. Сказано достаточно. Добавим лишь, что монография написана безграмотно, в ужасающем стиле, удивительным по своему несовершенству языком, содержит никому не нужные отступления с нападками на тех, кто уже давно и авторитетно указал автору на ненаучный подход и на стремление во что бы то ни стало протащить свои необоснованные «идеи»».
Этот безымянный, но «авторитетный» страдалик, на которого Таисия Викторовна обрушивалась с нападками, был сам Кребс. О, Кребс никогда и нигде не забывал себя, особенно там, где его могли обойти.
Таисия Викторовна на миг отняла большой палец, и ветер успел выдернуть ещё лист. Она последила, куда его понесло. Лист покружило, покружило во дворе и воткнуло под стреху её «скворешника».
На ветер унесло и следующий лист, и только на четвёртой, на последней, странице рецензии она отрешённо припала к последнему абзацу.
«В целом материалы, представленные доктором Т.В.Закавырцевой, не оставляют впечатления о целесообразности включения аконита (синонимы: борец, голубой лютик, иссык-кульский корень) в арсенал противоопухолевых препаратов, которые должны использоваться в онкологической практике. Да и сама работа не являет собой какой-либо научный труд и, естественно, не может быть рекомендована к публикации — к печати не подлежит. Более того, „труд“ тов. Т.В.Закавырцевой в целом оказался на редкость ограниченным и не соответствующим не только современному состоянию онкологии, но и клинической медицине вообще. Нам редко приходилось в такой форме высказываться о научных исследованиях, но в данном случае, при всем нашем уважении к автору, более лестных слов найти нельзя».
Таисия Викторовна вся опала, крýгом понесло голову.
Что же так душно? Что же так жарко на промозглом ветру?
Враз потяжелевшая папка с её монографией камнем кувыркнулась через руку, и сатанинский вихрь хватанул её себе, победительно захохотал.
Тесной белой стаей закружились с прощальным, с хлопотливым шёпотом её листы, и над тупичком, и над всей округой на несколько мгновений стало от них светлей.
Таисия Викторовна оцепенело смотрела на своих белых лебедей, рвущихся в поднебесье, в тёмную воющую высь, и погибельное горе стыло в её по-детски ясных глазах.
Тугая, варяжистая волна ударила со стороны кребсовской высотки, и Таисию Викторовну неслышно, медленно понесло по скату.
— На гребень! Па-а-ада-ай на гребень!.. Хватайся за гребень! — пискляво, суматошно кричал в закрытое окно Кребс, горячо жестикулируя.
Она по-прежнему оцепенело стояла на ровных ногах, а её несло и несло, и только уже у самого у среза крыши, точно очнувшись, она в мщенье вскинула бледные, обиженные кулачки.
29
Проснулась Лариса под истошные вопли заоконья:
— Уби-илась!..
— Прямушкой на тротуар! На чи-истенький!..
— Сама с час тому прочистила!..
— Уби-илась! В сме-ерточку!..
Смерть Таисии Викторовны выдернула стержень из Кребса, и жизнь его разом опустела, как пробитый ножом мешок с горохом.
Что, спрашивал он себя, жизнь, если знаешь, что придёт вечер и тебе некому будет играть колыбельную? Что жизнь, если по утрам больше не надо хвататься за бинокль — ты больше не увидишь её? Что жизнь, если ты наберёшь её номер, но она уже никогда не ответит?
Подвернулось какое-то странное сравнение, и оно ему с нехотью, но таки глянулось своей неожиданно замеченной верностью — он нечаем сравнил себя со своей комнатной сучонкой Леди, с этой капризной псинкой на вывернутых палочках, каждое утро прилежно выпрашивающей куриную косточку.
«На блюдечке культурненько подашь, чинно примет и грызть не станет, а носится с нею, шалея, из угла в угол. Забавляется! Скачет, скачет, паршивка, где-нибудь затаскает, бросит. Сгрызть забудет, только натешится и довольна. Ей потехи хватало одной… Так и я?… Не забавой ли была мне моя Таёжка? Игрался, игрался, всё тешил свою чвань… И нет у меня больше моей сахарной косточки… сахарной розочки…»
Два дня город прощался с Таисией Викторовной.
Два дня скорбный нескончаемый людской поток полно, державно лился через закавырцевский дом с обнорядкой,[80] с растворчатыми окнами, и всё это время Кребс синей чуркой торчал на гудящем от ветра углу своей высотки. Его поталкивало пойти поклониться ей. Бывало, он даже насмеливался, срывался с места на бойкий, на хлёсткий шаг, шёл и тут же бегом сыпал назад, подталкиваемый в спину страхом во весь свой рост.
Он боялся её, мёртвую…
Ночью, когда всё вокруг слепло, замирало, он подолгу стоял у окна, тупо пялился со своей выси вниз на её раздавленную темью курюшку.
«Завтра её унесут… И всё…»
Вспомнилось, какое множество перебыло днём у неё народу, и больная зависть взяла его в льдистые коготочки.
Он завидовал ей и мёртвой.
«Да-а, это бессмертная смерть… Mors immortalis!.. Бессмертная смерть!.. Борск словно с ума сдвинулся… Валят и валят… Толпы, толпы, толпы невпроход… — Ядовито подумалось: — А ко мне эти толпы привернут? Вряд ли… Высо-ковато подниматься… Как ни бился ты, точно лев, как ни гнул её к земле, а, простите, какая благодарность?… — Он пропаще покивал головой. — Вам, дорогой товарищ Кребс, обеспечена от отечества благодарность. Она преследует вас по пятам, но никогда вас не настигнет… За свою жизнь Тайга спасла полгорода. А что сделали лично вы, Кребс?… Quasi re bene gesta?…[81] Всё зыбко, всё как будто, как будто… И какое дело? Какой успех? Одна видимость… туманная… Тут, маэстро, надо посмотреть правде в глаза… В науку вас внесло в бабьем подоле. Иначе б вам в науку не прошмыгнуть: когда раздавали ум, вам в черепушку вовсе ничего не уронили. Соскочив с подола, вы схватились за кастет и всю оставшуюся жизнь шатались в науке этаким гоголем с кастетом. Летит какой молодой в ранние — остудить! Гнушаешься брать в соавторы — без соавтора ни на сантим вперёд! Она спасла полгороду жизнь… Но мы тоже не ударили в грязь кокосом. Полгороду испортили жизнь! Уравновесили. Фифти-фифти, квиты… Не зря профессорский хлеб с маслицем кушали, не зря… Профессорский кнутик мно-огих умнарей пришил на месте, мно-огих… Рессаndo promeremur…[82] Да нет, не грех. Это по-другому называется. Необходимость! Вырони я по оплошке кнутик — где бы теперь был? И кто бы я теперь был?… А кто дал мне кнутик? Хэх… Исполать тебе, деловое замужество! Без покойницы госпожи Кафедры кто бы я был? Плебейский работничек органов…[83] Так, замарашка… букашка… дурашка… макакашка… Всю жизнь протоптаться, проплясать у рогачиков… До блевотины изо дня в день с утра до вечера пялиться в гнилые бабьи лохматки — убийство!!! Но я счастливо обежал эту участь. Прикинулся умным валенком… наломал ё какие горы дровишек… Мда-с… Что было, то было… А душа всё равно просится в рай, да грехи мимо рая толкают… Теперь задача момента: красиво поставить заключительную точку. Уходить надо чисто, без помарок. Это значит, что lаtet anguis in herba.[84] Опа-асная… Кэнязя Расцветаева отпрыск. Расцветаев-младший… Виталь Владимирович. Молокососу только сорок, а он уже три года профэссор. Я в его годы скот в тайге пас да летал на побегушках у ветеринара, а он уже профэссор, чёрт его за хвост дёрни! Старший получил оттуда, от Боженьки, письмо, так младший пошёл заворачивать на грешнице земле. А ведь отогрел эту молодую змею я у себя на доброй груди. Ведь было… Доходил… Всё, отчирикал воробейка… Перепробовали всё, что могла медицина — без пользы. Тогда я старшему — кэнязю! — и вякни чисто из подсмеха про закавырцевскую травку: «Попробуем знахарских щец?» Не понял акадэмик профессорского юморка. Именно мой юморок навёл его на полный серьёз, он и бухни: «Рискнём!» Попробовали. Живёт соплюк! Но сам другим, в лице товарища Кребса, похоже, не желает давать жить. По просочившимся авторитетно-коридорным слухам, неделю назад закончил этот Виталик какие-то длинные эксперименты с участием борца. Результаты якобы умопомрачительные. Я сам видел, как прибегал он к Закавырцевой. Наверняк прошептались в мой адрес. Наверняк рядились, как покрасивей обложить меня красными флажками. А я не будь валенок, возьму и первый выброшу белый флажок? А? Не согрешишь — не покаешься… Наверняка разбежится Виталик разгребать мои завалы, выискивать кинется золотце там, где у меня всё шло на бой, гремело, валилось по графе «мусор». А я сам, первый, тыцну ему в своих завалах на золотишко закавырцевское? Сам себе не поднимешь борта,[85] дядя не разлетится. А уж кто-кто, а я-то лично по себе вывел истинную цену борцу! На себе испытал его чары целебные. Вот расскажи кому как кошмарнейший сон — не поверят. Скажут, врёт трухаль. Мол, не может такое насниться. Насниться такое, пожалуй, и не может, а в яви всё уже мною прожито… Вскоре после того разгромного антизакавырцевского заседания ка-ак же меня прикрутило… Всё! Откидывал ангелок лапоточки. Рак… Добрался кребс до Кребса. И вступило в голову: «Тебе уже ничего не страшно. Двух концов не бывать, а один вот он вот. Рискни, приложи к себе закавырцевскую методу… „Раскинул я хорошенько щупальца, рискнул. Уцелел. В обнимашку с борцом только и уплясал от верной смертули… И потом, во все остальные годы, как какой сбой — прикладывался к капелькам её… Через хохлаток добывал у самой у Таёжки. Борец снимал боли, нормализовал обмен, растил аппетит… Невпроворот чего может борец. Эффектная, незаменимая травулька… Тридцать лет не одною ли ею и держусь? Без этой травочки я б, раскидистый дубиньо, давно б не увял?… В одной ветхой книженции я вычитал, будто «всякий покойник вратарю царства небесного должен предъявить складень с изображением содеянного им при жизни“.
Думишка занятная. Будь такой вратарь и в самом деле, что б я ему предъявил? Что? Ну разве предъявишь то, что тридцать лет Таёжкины травы давали мне жизнь, давали силы, и я употреблял те силы лишь на то, чтоб бить саму же Таёжку? У Фили пили, Филю и колотили… Не подловатенько ли, сударь? Не дай она мне трав, я б ещё когда навсегда затих и навсегда кончились бы её мучения… Её больше нет… Так она и не выскочила из-под моей дуги… Но без неё, парадокс, нет жизни и мне. Без неё к чему мне моя жизнь? Без неё я примру, как муха в первый холод… Её больше нет… Оттуда ничего её не пришлют мне на рецензирование…
В эти тридцать лет я не только в рецензиях, но и на всех борских перекрестках мешал борец и Таёжку с грязью. Увы, барса за хвост не берут! Взяв же, не отпускают до победного. Иначе что я, монументальная пустота, мог делать? Подсади Таёжку на трон, а сам иди по Сибири с рукой? Пока ещё не родилась та курочка, чтоб не рвалась на насест повыше…
В последней рецензии, может, я расчирикал бы всю правду о борце, о её чудо-методе, угни она свою гордыньку хоть на срезанный ноготочек, подкорись хоть для вида, яви хоть бледный намёк на почтительность. Ты яви из милости хоть малое расположеньице, и разве я без понятий, разве не помягчел бы, как ягодка на солнушке?
Нет, как я и ожидал, не явила… Ну и парочка ж мы с нею… Она — задериха, я — неспустиха… Ну, что ж… У Кребса память прочная. Он может продлить срок своей немилости, и он продлил…
И зачем всё это? Зачем?
Обидела, видите. В соавторы не взяла. Подумаешь! Пережил я эту трагедь, не умер. Что соавторство! Если честно, какую взятку она мне дала! Тридцать лет жизни поднесла на блюдечке с каемочкой! И о каком соавторстве мог я думать? Тридцать лишних лет жизни ни в какие гонорары за соавторство не впихнёшь. Да, не впихнёшь!..
А между тем дельце повернулось… Остаюсь я совсем один. Горе одинокому… Ни роду ни плоду… Я должен прорываться к тем толпам, что в её доме толкутся. Надо вовремя перепорхнуть к большинству. Сама судьба подаёт удачнейший повод. Похороны! О покойниках хорошо или ничего!.. Зачем же ничего? Я согласен на… Я согласен почти на хорошо. Вот и распою… Начну… А как начать?… Люди! Вот перед вами остепенённый профэссорством ночной тать? Не пойдёть… Очень-то себя топтать негоже. Но легохонько побить себя на народе, простучать себе грудинку нелишне. Для убедительности… А любопытно, почему я, таёжная дуря-буря… Почему меня никто не осмелился и разу потрепать? Испугались, попадёт на веники? Профэс-сорской убоялись бирки? А показать задний угол хоть раз стоило и время от времени потом повторять для профилактики. За одного ж битого двух небитых дают, да и то не берут…»
30
Пятые кряду сутки рёвом ревела чёрная пурга, и особенно неистощимо-горько плакала она впристон в последнее утро, в похороны, — отпевала Таисию Викторовну.
Уже в трёх шагах всё было ночь.
Эта чёрная сумятица в руку была Кребсу.
Короткотелый, тушеватый, носастый, во всём чёрном, одновременно похожий и на вóрона, и на рака, он, подпираясь палками — в каждой руке чернело по палке, — трудно тащился обочь похорон, в отдальке, так что похоронники его не видели.
Чтоб острей рассмотреть, он нетерпяче заскакивал сзади то с одной стороны, то с другой — кружил по дуге будто коршун, гнавшийся за добычей. Временами он исподлобья кидал летучие, боязкие взгляды в тех, кто шёл за гробом — покойницу несли на руках, — но на сам гроб не решался поднять глаза. Однажды ненароком все же глянул — весь гроб был в белых замерзших цветах.
«Ты требовала, minibus date lilia plenis»![86] И ты получила…»
Какое-то время Кребс брёл рядом со всеми, и никто не обратил на него внимания.
«Меня здесь не знает ни одна душа», — подумалось успокоенно, и больше он не стал прятаться за чёрные лохмы пурги, а пошёл в толпе, приворачивая ближе к старушке вопленице, ладясь ясно слышать каждое её слово:
Плач показался Кребсу странным.
Конечно, думал он, «причет сам на ум течёт». Но почему же натекло именно всё это? Почему старуха обращается к покойнице как к матери родной?
Тут, пожалуй… Наверное, все эта толпы, туго залившие улицу, отвела в свой час от смерти покойница, и теперь все эти спасёнки и спасёныши считают себя её детьми, осиротевшими без неё…
Кребсу не нравится такой ход его мыслей. Он зло кидает глаза по сторонам, ища чем другим занять себя, и пристывает на тех, кто нёс гроб.
Возглавие несли Расцветаев-младший и Лариса.
«Какое-то наваждение… Девица тащит гроб! — Его шевельнуло желание подбежать заменить её — гляди, зачтётся в актив! — но тут же это насмешливое желание и сгасло. — Еле несёшь свои пустые палки. А то… Ещё придавит… Ноша не по плечу…»
Не в примету, потихоньку он узнаёт, что эта девица-ух московская внучка Закавырцевой, без пяти минут «врачея по-женски».
Кребс ловит себя на том, что не может отвести ревнистых глаз от лица Ларисы. Вылитая в молодости Таёжка!
«Одна Таёжка ушла, другая на смену пришла… Жизнь мимо катится колесом. Катится, не спросясь на то нашего высочайшего соизволения…»
Избоку недвижно пялится он на Ларису и ухватывает, что та по временам взглядывает на Расцветаева, Расцветаев на неё.
Из разговора их кручинных глаз он вывел, что эту пару свела не только одна на двоих беда — смерть Таёжки.
«Таёжки через час вовсе не будет. У них развязаны руки… Вилка в возрасте божественная… Не то что у меня с Таёжкой тогда… Гм… Хулио за улио, пчёлы были, а меду так и не нанесли?… Вот в таком составе… Конечно, если у меня с Таёжкой так ничем всё и кончилось, то это вовсе не гарантия, что и у них обломится тем же… Интересно, что это за водевильный альянс Наука — Знахарство? Что у них общего? Разве что деревянный тулупчик? Но через час… Братание Науки и Знахарства чревато… Оно потащит назад, в старь, на дерево, в пещеру, в глушь прошлого, когда лечили шаманы, хилеры, бабушки-знахарочки… Были… гм… Были и Гиппократ, и Сенека, и Авиценна…»
Мысли перепутались.
«При чём тут Сенека?»
Кребс плюнул и пополз из толпы немного продохнуть.
В толпе было затишно, покойно, и только отслоился, отлип он от толпы, как его едва не срезало с ног дурным толчком ветра. Еле устоял, переломившись в поясе надвое.
На кладбище Кребс держался одинцом, чёрным пенёчком кис в сторонке. Ждал…
Вот отревут дуринушкой старухи, отговорят-отхнычут, вот отпоёт своё Расцветаев, а там и Кребс обозначится. Вклеит своё, сообразуясь с правилами момента, словцо, в меру печальное, в меру похвальное, в меру осторожно покаянное.
Мысль о покаянии навела ему на лицо вялую усмешку:
«Покаянную голову меч не сёк: или меч тупой, или голова чугунная…»
Он, лично он подведёт черту. Выступит итогово, последним, как бывало всю жизнь на собраниях. Последнее слово за ним!
Что говорили старухи, его не интересовало.
И лишь когда заговорил Расцветаев, Кребс, понуро бычась в землю, полез в толпу, поближе. Хочешь не хочешь, а надо…
— Товарищи! — громко, как топором рубил, сказал Расцветаев. — Вслед за вами я только могу повторить: если бы не Таисия Викторовна, я бы сейчас здесь не стоял, а давно, лет ещё с двадцать назад, прел бы в сырь земле…
Толпа сражённо надставила ухо.
— Да! Да!.. После школы мне было без разницы, где дальше учиться. Отец мой был ректором медицинского института. Учиться у него в меде я счёл неудобным и пошёл в политехнический. Учился я неважнец, с тройки перебивался… С тройки с плюсом перебивался на тройку с минусом. Меня запросто могли выгнать, но не выгоняли. Сынок академика!
Беды гонялись за мной табунами. И кой-какие настигали. Ещё в школьные годы меня выходила одна бабушка. Потом беда покрепче придавила меня. Это случилось позже, на втором курсе института. Отец поднял на ноги всю учёную медицину Борска. Да что толку с этого подъёма? Спала б уж дальше… Вы все лучше меня знаете… вкусили от её сладенького пирожка. Пока она многовато трещит, как старая телега, о своих победах. Но у неё часто и густо язык заваливается за щёку, когда нужно серьёзно помочь человеку. Дни мои отгорали. И тогда отец, академик медицины, через подставных лиц стал добывать у Таисии Викторовны травушку. Отважиться ему на такой шаг было нелегко… Было это уже после одного чёрного громкого заседания…
То заседание провели в Борске в середине пятидесятых.
Заседание подлое. Грязное. Оно отлучило Таисию Викторовну от серьёзной медицины, выгнало её из онкодиспансера, навечно припечатало ей ярлык Борчиха.[89] И всё это за то, что Таисия Викторовна оказалась гадким утёнком. Не доложивши с реверансами борским именитым мужам от медицины о своем методе, двинулась она в Москву. Минздрав обласкал её, приветил, дал добро. А Борск вознегодовал. Напал на него бзык. Звонить-де звони по своей Москве, но зачем было регистрировать свою заявку на изобретение? Теперь же у неё не отнять изобретение. Даже нельзя примкнуть, вмазаться в соавторы, чтоб потом и вовсе оттереть её в сторону, вовсе выхерить её саму. Но, как верно заметил сатирик, «от изобретателя требуется одно — изобретать. Остальное сделают соавторы». И один такой смельчак в кавычках отыскался. Был он сам не свой до чужого. Это профэссор Кребс.
Расцветаев произнёс именно так, профэссор, с томким кребсовским прононсом. Все вокруг осудительно закивали головами, заоглядывались, как бы догадываясь, что Кребс здесь, и ища его.
Неожиданно услышав про себя такое, Кребс, к своему удивлению, обмяк, трусовато угнул голову и, пряча мороженые, бессовестные, глаза, тихошенько вжался между крупными старухами, как клоп между подушками.
— Напролом ломил Кребс в соавторы, — продолжал Расцветаев. — Ему вежливо сделали асаже, осадили. Кребс и всплыви на дыбки. Какая-то букашка щёлкнула по носу самого профэссора! Профэссор и подыми войну, выстави против беззащитного одинокого практического врача всю элиту, всю учёную рать Борска!
Все эти кребсы, нудлеры, шуткевичи, сладкопевцевы, желтоглазые перехватовы, перелётовы, колотушкины основательно запутали отца, и он, сбитый с толку, потянул на заседании кребсову сторону. А за ним, за отцом, было окончательное слово. А ведь в его силе было отжать элитку. Он мог одним словом вознести Таисию Викторовну, да не вознёс. Заосторожничал на всякий случай… Он ничего худого не сказал о ней, лишь мягко, отечески подал ей совет пока не лечить борцом — сперва прощупай его на животных. Всё-де ладь по науке… Вот так ласково, интеллигентно было убито великое дело. Ведь Таисия Викторовна, выходив уже изрядно страдаликов, не могла впутаться в пустопорожние эксперименты с мышкама-блошками. Да свяжись с опытами, она увязла б в них, и мно-огие, кто сейчас здесь, давно б уже не жили. Ну зачем ей было терять время на галочки?
Повторяю, по злой иронии судьбы уже после того жестокого заседания отец через подставных лиц стал искать поддержки у Таисии Викторовны. И нашёл. Отец всегда это помнил. Интуитивно он всегда верил Таисии Викторовне. Первым в этой цепочке героем был сам Кребс. Острей и точней Кребса никто тогда ещё не сложил доподлинную цену борцу, доподлинную цену закавырцевскому методу.
На травушке я и воспрял.
А что же отец? Отец колебался, всё не решался сказать Правду о борце своему уютному окружению, этому всем известному театру карликов… Так и не отважился открыто стать на сторону Таисии Викторовны.
И слишком поздно — тогда отец уже тяжело болел, не работал в институте — он так сказал мне сквозь повинные слёзы:
«С моего молчаливого согласия злые люди топчут, убивают каждодневно величайшего человека. Ты понимаешь, о ком я… Ты обязан ей жизнью… Я ухожу… Уже ничем… ни мой Бог я не могу ей помочь… Я не могу поправить свою ошибку. За меня это сделай ты, сын мой… Сними с меня грязное пятно… Не лови греха на душу… Пробей эту… Затяни эту жестокую брешь… иначе на конце концов корабль наш потонет… Из тебя не вытесать путного инженерика. Бросай политехнический. В тебе, чую, сижу я. Ты пока об этом не догадываешься… не занимался ещё медициной, а займешься — убедишься. Я тебе уже не китайская стена, давай в мед. Запрягайся, сыну, во все оглобельки… займись борцом… Докажи по всей науке, что достоин борец куда лучшей участи… что Таисии Викторовне след целовать руки, а не бить по ним… Не би-ить…»
Через три дня отец умер. Я пошёл в медицинский… Уже профессор… Пока учился, пока защищался, пока опытничал — слились долгие годы. И все эти годы Таисию Викторовну били, били, били, но заступиться я не мог. Без научно выверенных, без отглаженных фактов какой я борец?
Учёный Борск отпрянул от неё, как от чумы.
Она стучалась во все души. Кланялась, молила: возьмите всё моё в свою копилку, перепроверьте, дайте ход. Но что-то брать, чему-то давать ход наука не спешила. У нас уж так… Если допекает кто со стороны, чужак — сторожкие ушки а-ап топориком. А кто такой? А почему у себя не прорывается? И наводится мост с теми, кто его знает. Конечно, по работе с борцом Кребс лучше всех знал Таисию Викторовну. Потому всё её отовсюду пересылалось именно ему на отзыв, на разбор.
Чёрный сомкнулся круг. Выручку, честное, горячее сердце, готовое поддержать, искала она по всей стране, а её участь решал, потешаясь, завистный, злоковарный, пустой дурёка из соседнего дома!.. Из последних проходимец!..
Кребс не стерпел. Это слишком!
— Да как вы смеете оскорблять, мальчишка?! — на нервах взвизгнул Кребс, высунувшись из своего укрытия меж старухами.
Все поворотились к нему с гневными лицами.
Близко стоявшие стали ужиматься от него.
— Вас уже правда оскорбляет? — отрывисто, чуже бросил Расцветаев. — Вы вломились в науку как грабитель, напакостили в ней преизрядно. Своими пасквилями вы убили…
— Ложь! — захлёбисто перебил Кребс. — Несчастный случай!
— Увы… Таисия Викторовна всю жизнь сама чистила крышу своего дома. И ни разу не то что… Да ведаете ли вы, что у неё в кулаке был смятый в ком листок из вашего последнего разгрома? Штатный убийца в рассрочку…
— Слушайте! Ну что вы мне ни с чего вешаете эту лапшу? — Кребс выдернулся из редеющей вокруг него толпы и окружкой, по-за спинами, живо-два засеменил к Расцветаеву вприскочку.
31
Через несколько мгновений Кребс суматошно выпнулся позади Расцветаева и Ларисы, стояли рядом. В тесный простор между ними он горячечно впихнул своё лицо и почти глаза в глаза столкнулся с Таисией Викторовной.
О Боже! Ему помстилось, была она жива.
Таисия Викторовна приподнялась, устало и укоризненно толкнула Кребса перстом в лоб, и он, в диком страхе, безмолвно рачась по комковатой горке земли, вынутой из ямы, вместе с задубелыми грудками глины ссыпался в могилу.
Как он падал — никто не видел, никто не слышал, и чёрная пурга тут же навспех бело, как саваном, прикрыла его.
Он умер сразу, без шума, едва успев свернуть себя в могильном уголке в ком.
Узнай про свою скорую смерть, он не поверил бы, как не верил Червякову.[90] «Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он (Червяков. — А.С.) лёг на диван и… помер». Разве так скоро можно? — сомневался когда-то Кребс. Оказывается, можно ещё во много раз быстрей.
А между тем Расцветаев всё разыскивал глазами Кребса в народе и, не найдя, сожалеюще подумал, что тот вообще ушёл.
— Досадно, дорогие, что не высказал я ему всей правды в глаза. Ушёл… А правда в том… треть жизни!.. — Расцветаев вскинул палец, — лучшие годы сгубил он на то — потолок низости! — чтоб не пустить вперёд себя Таисию Викторовну. Одно время он даже считал её своей ученицей, хотя и учились они в институте вместе… Не пропустил её, так и сам ни на шаг не пробился без неё вперёд… В своих разносах Кребс выдавал её метод за знахарство. Какое ж тут, извините, знахарство? Какая ж Таисия Викторовна знахарка? Да она ж из врачебной династии, которой без малого вот уже сто лет! И все эти годы Закавырцевы служили у нас в Борске!
Мне подпало откопать в библиотеке старый журнал. И там в разделе «Памяти врачебных деятелей Сибири» набежал я на некролог о родоначальнике закавырцевской династии. Я переписал. Прочитаю вам…
«Доктор Закавырцев Александр Ефимович окончил медфак Казанского университета в 1893 году и по окончании его был ординатором терапевтической клиники того же университета, а затем два года врачом на уральских заводах.
Службу в городе Борске начал в 1897 году, где и проработал до дня своей смерти в 1920 году. Первые годы своей службы Александр Ефимович проводит старшим врачом борской городской больницы ведомства общественного призрения. Несмотря на то, что эта больница служила в то же время госпитальными клиниками университета, она представляла собой типичное для того времени так называемое «богоугодное заведение».
Грязь, теснота, отсутствие инвентаря и белья, плохое питание больных и прочее и прочее были отличительными чертами этого, с позволения сказать, лечебного заведения. Вместе с заведующими клиниками профессорами Александр Ефимович положил много труда для возможного улучшения состояния больницы, которая помимо всего играла ещё огромную роль в жизни беднейшего населения города и окрестного крестьянства.
В 1906 году Александр Ефимович делается директором и преподавателем вновь открывшейся в Борске акушерско-фельдшерской школы, которая вскоре же его трудами становится одной из лучших среди учреждений этого типа как по оборудованию, так и по качеству выпускаемых из нее медицинских работников. Окончившие борскую школу нарасхват приглашаются на службу в различные места Сибири.
Эту должность Александр Ефимович сохраняет до своей смерти. Кроме прямых служебных обязанностей он все время состоит бесплатным врачом детских приютов. Прекрасный практический врач, отличавшийся крайней отзывчивостью, Александр Ефимович никогда не отказывал в помощи бедному населению города, был всегда бессребреником и умер бедняком, не оставив семье никакого имущества. Скончался он от крупозного воспаления лёгких в марте 1920 года».
Сворачивая тетрадь с записью в трубочку и пряча её в карман, Расцветаев перенёс глубоко благодарные глаза на белую возвышенку, поднимавшуюся сразу за гробом с телом покойной. И все потянули пронзающе-печальные взгляды в сторону, куда смотрел Расцветаев — на закавырцевские холмы, где в ряд покоились Александр Ефимович, Николай Александрович, Георгий Николаевич. Все три холма забило снегом и бело слило в один, высокий, прочный.
От отца Расцветаев перешёл к сыну, к Николаю Александровичу. Рентгенолог, он первый в Борске облучал онкологических больных. Проверял дозы облучения.
— Николай Александрович, Таисия Викторовна, дочь Людмила окончили один и тот же в Борске мединститут. Сейчас Людмила работает в Москве. Там же, в столице, во Втором медицинском имени Сеченова учится и внучка Таисии Викторовны, — Расцветаев тронул Ларису за локоть. — Четыре поколения врачей! И каких врачей! Воителей! А Кребс талдычил о каком-то знахарстве. То, над чем сушат умы учёные сейчас, покоенка Воительница ещё тридцать лет назад де-ла-ла! И делала прекрасно! Она не противопоставляла народную медицину научной. Напротив, свивала обе ниточки в одну. Как проще. Как лучше. Как надёжней! А у неё грозились отнять диплом врача! Мол, знахарство всё это! Представляете?!.. Её борец обрывал клешни, вершил главное: дальше рак не пойдёт, не на чем идти, он изолирован от «общества», от остального тела. Остаётся хирургу только выщелкнуть саму отпалую опухоль.
Повернёмся к статистике. Статистика — это такая до тошноты любознательная бабёшка, интересы которой не выбегают за границы пяти лет. Пять лет — пока всё, что может подарить человеку после операции научная медицина. Скромненько, архискромненько… А Таисия Викторовна на пятаки и не смотрела. Десять, пятнадцать, двадцать — вот её козыри! Не баран чихал, как она говаривала. Официальная медицина путём не может и первую стадию одолеть, а покойная брала третью. Так что народный опыт ой как мы обязаны беречь…
Надо предельно уважительно вникать в каждую разумную мысль, которая выскакивает в ходе эксперимента, во время работы. И выявись в этой мысли или в начинании хоть три процента выигрыша, то и тут их необходимо рьяно поддерживать, зорко охранять от нападок чумовых высокопоставленных чинодралов. Они ж ради своей корысти готовы уничтожить великое дело практического врача!
Должно печься и о трёх процентах, а у нас стало в строку девяносто четыре! — Расцветаев торжественно вознёс указательный палец. — Я доказал сногсшибательную цифру. Девяносто четыре! Только вдумайтесь… Несвалимый успех дали мои научные эксперименты с борцом. Так… Даже не верится, что он так сильно изводит метастазы… И разве мы не обязаны постоять за свои девяносто четыре победы? Будьте уверены, в лечение народа мы внесём свой борский опыт врачевания. Не могу не привести крупного учёного Томилина:
«Мы должны быть безмерно благодарны народу за то, что он сохранил для нас этот драгоценный опыт врачевания… Фитотерапии и другим методам народной медицины несомненно принадлежит богатое будущее».
Вчера я только что из Москвы. У нас в Борске открывается первый в стране институт народной медицины. Я его директор… Утвердили… У меня в кармане штатное расписание, печать. Но нет пока ни одного сотрудника. Правда, Лариса Владимировна, — Расцветаев обратил на Ларису долгий, значительный взгляд, — пообещала распределиться к нам. Под номером два я авансом внёс её уже в свой список. Для нас она золотой самородок. Она единственная продолжительное время видела Таисию Викторовну в работе, помогала ей. И институт начнётся с того, что примется ладить в широкую практику опыт Таисии Викторовны.
Расцветаев немного помолчал и подумал вслух:
— А разве не доспело побеспокоиться, чтоб нашему институту присвоили дорогое имя Таисии Викторовны, Великой Воительницы?
Гроб опустили, но он не стал ровно. Кособочился.
Недоумение, библейский страх затянули лица старух, наготовившихся бросить на гроб по горсти мёрзлой земли.
«Что это? — помертвело пытали глаза у глаз. — Что?»
Гроб снова достали. Поставили на бережку.
Расцветаев, самый молодой, самый протористый из мужчин, спрыгнул в яму. Кувырк рукой в творожистый бугоришко в углу — вроде ондатровый воротник. Дёрг, дёрг — за ондатрой выдернул целого Кребса.
Мёртвого, уже отжитого.
Расцветаева так и одело морозом.
Охнув, он, поражённый, выронил ондатру и оторопело запятился.
— Что там такое? Что? — тревожно спросило разом несколько голосов.
Уперевшись спиной в поперечную короткую стену, Расцветаев остановился и, словно отнятый от языка, в растерянности поднял руку, молча указывая на Кребса.
Весь народ сбило, туго сбило за плечами Расцветаева, откуда лучше было видать Кребса. Кребс покинуто сидел в углу, уткнувши лицо в колени. Казалось, ему было холодно, он свился в калачик, напахнув на голову воротник. Шапка, распято раскинув уши-руки, недвижно и опрокинуто лежала у ног и безучастно собирала уже не тающий сыпкий, упругий снег.
Застывшие в недоумении взоры приварило к Кребсу.
«Эвва!.. — размыто подумалось Расцветаеву. — Наш подстрел везде подспел. Обогнал… Первый прибежал. Встречает мастеровито. С первой минуты и там продолжает ей солить. Подпихнул первую свинью. Экий пачкунишко!.. Экий злотвóрец!.. Лукавомудрый волчара…»
Кто-то тихонько подумал вслух:
— Может, позвать скорую?… Чтоб забрали этого злоныру в морг?…
И тут же сам себе ответил:
— Вот ещё невидаль! С кладбища трупы таскать… Хотя… Почему не отвезть?
И снова стало тихо.
— Тю-ю!.. — наконец подломив тишину, осудительно сказала одна старуха, плеснув обеими руками на Кребса. — Лихостной да злохитростный чо… Своей ходкой прибёг в глинский садик,[91] ухватил чужу вотчинку. Дума, яго и будя…Жил как нелюдь и помер как непокойник…
— Ну-к, Виталь Владимыч, — отвердело поддержала другая. — А ну-к вымахнить, качнить оттедева, из земляночки, эту похабну, тоскливу козлину. Грому на него нету! Ить не для него… Для мамушки Таись Викторны стелили горьку пухову постелюшку…
И возрос свежий печальный холмок.
«Что мы сделали, россияне? Кого погребли?»
Мало-помалу пурга пошла опадать.
Впервые за долгие пять дней проглянули сквозь тучи голубые оконца неба.
В Борске ждали солнца.
1985–1986
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Жизнь невероятней любого вымысла.
Эту общеизвестную истину лишний раз подтверждает роман Анатолия Санжаровского «Сибирская роза».
Неспециалист, прочитав его, может искренне поверить, что это научная фантастика. Но, увы… Этот роман — выхваченный из жизни горячий кусок действительности наших дней.
Всё это было. Всё это есть.
К счастью и к величайшему сожалению.
К счастью потому, что мы долгие годы знали прототипа главной героини. Это врач-онколог. Окончила мединститут. В лечении широко применяла траву борец. Она не ошиблась в борце. Недавно научно подтверждены его весьма высокие антираковые возможности.
В экспериментах получен положительный эффект, более чем на 90 процентов прекращающий процесс метастазирования у подопытных животных. Весьма оптимистически можно смотреть на то, что скоро будет сделан ещё один верный шаг в лечении рака.
Смотреть никому не возбраняется, да…
Не один десяток лет врач помогала больным, но, к глубокому сожалению, чинуши, бюрократы, злопыхатели, облачённые властью, так и не дали ей провести обстоятельные, честные клинические испытания борца.
Во всём мире бьются над проблемой рака и учёные, и практические врачи, такие, как героиня романа. Автор убедительно показал её жизнь-поиск, с глубоким знанием конкретного дела нарисовал твёрдой рукой её мужественный, цельный характер в развитии.
При всей драматичности ситуации роман дышит верой в победу добра.
Так оно и будет.
Доктор медицинских наук
Фёдор Ромашов
Кандидат биологических наук
Геннадий Свиридонов
ОТ АВТОРА
Роман Сибирская роза» — это слёзы России.
Миллионы и миллионы людей умирают от рака. А что же медицина?
Не дремлет. Борется.
Одни в медицине борются с раком.
Другие в медицине — все при деле! — борются с теми, кто борется с раком.
Это не каламбур. Это горькая правда.
Главная моя героиня не вымысел. Жила в Сибири женщина. Врач-онколог. Тридцать лет лечила от рака и тех больных, которых не смогли вылечить онкологические центры Москвы, Сибири. Ещё в молодости «вышла» она на борец. Минздрав принял от неё заявку на изобретение, утвердил инструкцию клинических испытаний борца, но испытания так и не были проведены.
Известно решение ЮНЕСКО. Тому, кто даст человечеству избавление от рака, в полный рост отольют золотой памятник. При жизни.
Завистники, обременённые титулами академиков, профессоров, всячески ей мешали. По Менделееву, «пигмеи вязали великана». Ей, дипломированному онкологу из врачебной династии со 140-летним стажем, прилепили прозвище знахарки и жестоко шельмовали, издевались над ней, грозились отнять диплом врача. Воистину, «не пора ли защищать науку от тех, кто защитил диссертацию?» А она спасла жизни сотням человек. Она шла по верному пути. Хотя борец клинически так и не испытан, она всё же многим успела помочь. А в 1985 году один сибирский профессор закончил официальные опыты на животных и доказал, что борец поражает метастазы на 94 процента. Успех фантастический. И всё это из жизни.
Уже после смерти этой Великой Воительницы, в конце прошлого века, Государственный комитет по делам изобретений и открытий выдал на её имя авторское свидетельство № 1450164 на изобретение «Способ получения препарата, обладающего противоопухолевой активностью». Позже Комитет выдал и патент № 1801255 на её способ лечения злокачественных новообразований. По завещанию, патент получила дочь Людмила, мудрая и неистовая продолжательница Дела своей Матери.
Люди научатся лечить рак, как насморк, и мой роман — грустный правдивый рассказ про то, как трудно, как грязно, как жестоко шло человечество к этому.
Мы не можем отмахиваться от опыта народа. Разве можно чем-то заменить опыт народа?
Я решил показать свой роман прежде всего специалистам, известным учёным — доктору медицинских наук, профессору Российского университета дружбы народов Фёдору Николаевичу Ромашову и кандидату биологических наук Геннадию Михайловичу Свиридонову.
Геннадий Михайлович лично знал долгое время Великую сибирскую искусницу, помогал ей в работе, защищал её перед отъявленными местными и московскими чинохватами. Честнейший человек, талантливейший учёный, ему самому приходилось круто. Скудоумные учёные рвачи вечно давили на него со всех сторон. Таланту на Руси никогда легко не бывает.
Как ни трудно работалось Геннадию Михайловичу, но он всегда находил силы для защиты искусницы, впоследствии послужившей прототипом литературной героини.
Тут надо сказать подробней, как появился этот роман.
Писательская судьба и раньше сводила меня с Геннадием Михайловичем.
Он сибиряк.
Это от него я узнал детективную историю про то, как неграмотная сибирская мудрая знахарка Блинова работала в начале прошлого века помощницей у парижского профессора в Сорбонне.
И стал я собирать материал про потомственную сибирскую знахарку из Сорбонны. Я бывал в тех местах в Сибири, где она родилась, где жила и работала.
Всё мне нравилось в захватывающей фантастической истории. И не хватало сущего пустяка. Встречи с самой знаменитой сибирячкой. Она была убита милиционером. Её приёмным сыном. Он считал, что она богата и требовал от неё денег…
Она взяла на воспитание полвагона ребятишек-сирот, вывезенных в блокаду из Ленинграда в Сибирь. Воспитывала, кормила, обихаживала экую ораву. Все ей были благодарны за спасение. А один решил и поживиться за её счёт. Это тот самый милиционер. Она спасла ему жизнь, вырастила до взрослости, а он только тем и отблагодарил, что сильно разгневался, когда узнал, что у неё не оказалось приличных денег, и в досаде ударил её пистолетом. Удар был смертельный.
— Значит, нужна встреча с самой Блиновой?
— Нужна.
— Будет. Только не с Блиновой, а с…
И вот тут-то Геннадий Михайлович свёл меня с мудрой старушкой, ставшей прообразом главной героини моего романа «Сибирская роза».
Ездил я в Сибирь от одного столичного журнала.
Роман не очерк, в неделю не напишешь. Отчёт по командировке я безбожно затянул на полтора года.
Редактор пригрозил судом взыскать с меня сто семьдесят рублей двадцать шесть копеек за командировку.
Вместо обещанной статьи о Блиновой «Знахарка из Сорбонны» я принёс ему свой роман «Сибирская роза».
И малая отечественная войнишка-сумятица приопала.
Фёдор Николаевич и Геннадий Михайлович написали послесловие к «Сибирской розе».
Рукопись была принята в издательстве «Молодая гвардия», где ещё в 1985 году вышел мой сборник художественных повестей «От чистого сердца». И «Сибирская роза» стояла в плане, готовилась к печати. Но книгой тогда, в 1990 году, так и не стала из-за перестроечного облома.
Анатолий САНЖАРОВСКИЙ