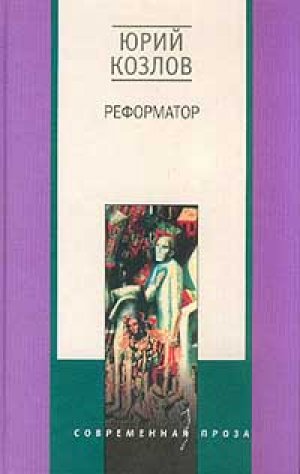
© Козлов Ю. В., 2023
© ООО «Арт-холдинг “Медиарост”», 2023
Реформатор
Формалин
Что делал бомж в подъезде стандартного двенадцатиэтажного дома 19/611 на улице Слунцовой в районе Карлин, Прага-6? Собственно, глупо было задаваться этим вопросом в столице Великого герцогства Богемия, ибо злато-, сребо-, а также медно-, цинково-, булыжно-, кирпично-, черепично-, кое-где – проломленно-, а то и вовсе безбашенная Прага давно считалась европейской столицей бомжей.
Бомж сидел на лестнице между одиннадцатым и двенадцатым этажом, прихлебывая из темной, как ночь, как жизнь (бомжа?), как смерть, бутылки, одновременно пошаривая рукой внутри приткнутого у ног пластикового пакета. Вышедший в тапочках из квартиры Никита Иванович Русаков моментально раздумал вызывать лифт, спускаться к почтовому ящику, где его ожидала газета «Lidove noviny» и, быть может, какие-нибудь муниципально-окружного значения рекламные листки, которые Никита Иванович выбрасывал, не читая. Он поселился в Богемии (до отделения Моравии нынешнее Великое герцогство называлось Чешской республикой) пятнадцать лет назад перед самой Великой Антиглобалистской революцией, но так и не научился всерьез относиться к государству, в котором жил, что свидетельствовало (он отдавал себе в этом отчет) о некоей совершенно неуместной в его положении – эмигранта, ЛБГ (лица без гражданства), наконец, «гражданина мира» – гордыне. Она была сродни гордыне бомжа, безмятежно (как господин при деньгах в ресторане) выпивающего и закусывающего в подъезде стандартного двенадцатиэтажного дома 19/611 на улице Слунцовой в районе Карлин, Прага-6. И тем не менее каждое утро Никита Иванович спускался к почтовому ящику, как если бы надеялся получить (благое?) известие… о чем? И от кого?
От Господа Бога?
Но в распоряжении Господа Бога, как известно, имелись куда более современные средства коммуникации, нежели почта. Что, впрочем, никоим образом не свидетельствовало, что Бог пренебрегает почтой. После введения в континентальной Европе ограничений на использование интернета захиревшая было почта повсеместно оживилась. Правда, воскресшие почтовые ведомства сильно напоминали военные. Каждому почтальону выдавалось табельное оружие, а в иных местах корреспонденцию развозили на танках, не самом быстром, как известно, транспорте. К примеру, письмо из Парижа в Прагу сейчас шло неделю, то есть примерно столько же, сколько в XVIII веке.
Это было добрым знаком. Все, что напоминало прошлое, с некоторых пор считалось в пережившей Великую Антиглобалистскую революцию Европе добрым знаком.
Что-то не так было с бомжом.
Закрыв дверь, Никита Иванович попытался понять, что именно не так. Он всегда был болезненно (мучительно) осторожен. Причем, старея – сейчас ему было за шестьдесят, следовательно, любые иные определения (взрослея, совершенствуясь, мужая, мудрея) представлялись неуместными – становился все более осторожным. Если существовал некий абсолют осторожности, то, надо думать, Никита Иванович давно его преодолел. Жизнь за границей абсолюта (в персональном мире сверхабсолюта) представлялась неслышной, стерильной и замедленной, как внутри сосуда с формалином. Если, конечно, можно было уподобить столицу Великого герцогства Богемия Прагу, район Карлин, улицу Слунцовой, дом 19/611, трехкомнатную с длинным коридором квартиру на одиннадцатом этаже сосуду с формалином. Хотя почему, собственно, нет? В эпоху постглобализма жизнь принимала самые разные, порой неожиданные формы.
Иногда Никите Ивановичу казалось, что это и не жизнь вовсе, но тогда что?
Быть может, сохранение (консервация) жизни, как сохранение беременности? Но тогда: во имя чего? Что именно готовился произвести на свет проживающий в Праге на птичьих правах пожилой эмигрант из России Никита Иванович Русаков, неизвестный, как только может быть неизвестен литератор, сочиняющий в Богемии (не публикующиеся) футурологические романы и (крайне редко публикующиеся) на злобу дня эссе по-русски, да к тому же под разными псевдонимами? Вряд ли этим «дитяткой» мог оказаться роман «“Титаник” всплывает», над которым в данный момент (не сказать чтобы самозабвенно и победительно, скорее, вяло и пораженчески) трудился Никита Иванович. «Титаник» лежал на дне сосуда с формалином, а точнее, его души, плотно и, похоже, совершенно не собирался «всплывать». Да, собственно, и некуда ему было всплывать, ибо формалиновая среда являлась самодостаточной и бесконечно консервативной, то есть беспощадной к любым проявлениям жизни. Жизнь, стало быть, можно было уподобить воздуху, который следовало закачать в заполненные формалином переборки «Титаника».
Но пока что формалин был сильнее жизни.
Так что это была именно его – Никиты Ивановича Русакова— жизнь, точнее, нежизнь. И в том, что она была именно такая (без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви и т. д.), он мог винить (и, естественно, винил) историю, обстоятельства, Бога, власть(и), народ(ы), Великую Антиглобалистскую революцию, разрушившую мир, и т. д., хотя единственно виноват (если, конечно, такое слово здесь уместно) в этом был он сам.
Даже и сейчас встречались люди, которые красиво жили и не менее красиво, а главное, очень быстро умирали.
Гораздо реже встречались такие, которые жили долго. Мир несказанно помолодел. Встретить старого человека, к примеру, в Праге было так же трудно, как встретить человека счастливого.
Никита Иванович сам выбрал долгую нежизнь.
И раз жил нежизнью, значит, она ему нравилась. Все прочее: слова, мысли, мечты, надежды и т. д. – было призвано замаскировать (запутать) суть вещей.
Бесследно растворившийся во времени и пространстве старший брат Савва любил повторять: «Осторожность может иной раз заменить ум, но не может заменить жизнь». Никита Иванович подумал, что в его случае – смогла. И еще подумал, что если вспомнить бессмертных Сокола и Ужа великого пролетарского (ныне забытого) писателя Горького, то он, Никита Иванович, – не просто уж, но уж в формалине, можно сказать, формальный уж.
Однако же в данный момент мысли Никиты Ивановича (гораздо в большей степени, нежели плотно залегший на дне души «Титаник») занимал бомж, которого он видел от силы мгновение. Мгновение-то мгновение, подумал он, но если это мгновение связанно со смертью, оно имеет обыкновение раздвигаться во времени и пространстве, подобно… лону, точнее, антилону, куда рано или поздно, как во врата, уходит (как некогда явился) каждый смертный.
В свое время Никита Иванович лично знал обладательницу такого лона-антилона. Мысли о ней согревали его одинокими холодными формалиновыми ночами.
Никита Иванович в это чудное мгновение не обнаружил во взгляде бомжа ни отчаянья, ни печали, какие обычно присутствуют в глазах подавляющего большинства бездомных людей. Напротив, презрительно-спокоен был его взгляд, как если бы бомж полагал себя конгениальным (равнодостойным) бытию, неотъемлемой этого самого бытия частью. Кто, подумал Никита Иванович, в наше время конгениален бытию, то есть бесконечно уверен в себе? Законченные мерзавцы, вооруженные бандиты, почтальоны (с недавних пор), психи (с давних) и… матерые профессионалы, которым владение мастерством, бесконечное совершенствование в нем заменяет собственно бытие, точнее, неизбежно сопутствующую бытию рефлексию. Но если допустить, что бомж – убийца-профессионал – продолжил, конкретизировав мысль, Никита Иванович, почему пластиковый пакет, в котором он шарит, с распахнувшим зубастую пасть крокодилом – эмблемой дорогого обувного магазина, совершенно новый? Обычно бомжи ходят с другими – не столь запоминающимися – пакетами. Профессионал не может этого не учитывать. Стало быть, по душу Никиты Ивановича прислали плохого профессионала?
А если нет?
Тогда, констатировал Никита Иванович, он бы сто раз успел пристрелить меня. Или прилепить к косяку пластиковую взрывчатку, которая бы взорвалась, едва Никита Иванович приоткрыл тяжелую металлическую дверь. Разодранная дверь уподобилась бы той самой крокодильей пасти, рвущей, нанизывающей на зубы его не сказать чтобы сильно упругую плоть.
Следовательно, или в планы мнимого бомжа это не входило, или входило, но не сейчас, или это был не мнимый, а самый настоящий бомж. Шикарный пакет мог достаться ему (как и все остальное его имущество) совершенно случайно. Иной раз жизнь дарит бомжам удивительные вещи.
В таком случае Никита Иванович городил огород на пустом месте.
Свято место пусто не бывает, подумал он, поглядывая в панорамный глазок, привычно орудуя смазанными щеколдами, в то время как пусто место далеко не всегда свято. К примеру, несвятость занятого бомжом пустого места на лестнице между одиннадцатым и двенадцатым этажами заключалась в том, что бомж, вне всяких сомнений, являлся профессионалом, у которого (в данный момент) не было приказа убить Никиту Ивановича Русакова. Несвятость пустого места скрывалась в пространстве среди бесчисленного множества (в сознании Никиты Ивановича они носились, как астероиды: вверх-вниз, туда-сюда по и против часовой стрелки) вероятных причин присутствия бомжа (профессионала?) на лестничной клетке и одной-единственной истинной причиной. Но у истинной причины как бы имелся хвостик (кто и зачем прислал к Никите Ивановичу мнимого бомжа?), за который следовало потянуть. Хвостик мог легко оборваться, как у ящерицы, но мог оказаться и… крокодильим? Несвятость пустого места, собственно, заключалась в том, что всякое пустое (даже и временно залитое формалином) место рано или поздно опять заполнялось жизнью. Или смертью, подумал Никита Иванович, как неизбежным следствием (продолжением и завершением) жизни. Единственным способом избавиться от неопределенности, бесконечного толчения воды – формалина? – в ступе – было потянуть за хвостик, выяснить у бомжа: кто и зачем его послал? Хотя (Никита Иванович в этом не сомневался) уровень погруженности бомжа (профессионала?) в многоходовую (ведь Никита Иванович все еще был жив) операцию вряд ли был достаточен, чтобы удовлетворить его законное любопытство.
Но для того чтобы потянуть за хвостик, требовались: во-первых, мужество, во-вторых, сноровка, в-третьих, решительность. Все это Никита Иванович изрядно подрастерял за годы ужиной (не?) жизни в Праге.
Воистину, погруженный в формалин, «Титаник» досрочно, неконтролируемо всплывал, и не сказать чтобы это доставляло радость Никите Ивановичу.
Не зная, что предпринять, цепляясь за мысль, что бомж – это всего лишь бомж (с таким же успехом можно было цепляться за мысль, что обнаруженная у себя, допустим, бубонная чума пройдет сама собой, без лечения), Никита Иванович ушел на кухню. Он вдруг осознал одно из измерений своей формалиновой жизни в Праге: находясь внутри ничтожества, он одновременно как бы находился и вне ничтожества, в том смысле, что дышал ничтожеством как воздухом и, следовательно, не чувствовал ничтожества (воздуха). И еще Никита Иванович вспомнил, что слышал вчера в телевизионных новостях про эту самую бубонную чуму, обнаруженную, кажется, в греческом полисе Аргосе, Гражданам Великого герцогства Богемия рекомендовалось воздерживаться от поездок в Грецию.
В апрельское утро 2030 года от Рождества Христова небо над Прагой казалось жестяным, как если бы решило уподобиться крыше над головой всех жителей столицы Великого герцогства Богемия. Протекающей крышей, отметил, приблизившись к заставленному кастрюлями и сковородками окну, Никита Иванович. Капли дрожали, накапливая двигательную энергию, затем соскальзывали вниз, вычерчивая по стеклу неуловимый, быстро исчезающий, как человеческая жизнь, след. Вид из окна был не то чтобы уныл, но преисполнен тщеты и отсутствия гармонии, так как едва ли есть в мире что-то более тщетное и негармоничное, нежели побитые неурочным морозом, свернувшиеся молодые листья.
Кухонное окно смотрело в холмистый с акведуками и мостами, по которым когда-то проносились поезда, парк, окружающий собор святого Якоба (Никита Иванович не знал наверняка: старый это или новый – XXI века – святой). Тем не менее ветер пытался гнать по верхушкам деревьев упругую воздушную волну, которая застревала в мокрых отмороженных ветвях, казалась неестественной и болезненной, как глубокая морщина на лице ребенка.
В апреле на несчастную (а может, напротив, счастливую?) Европу обрушился санирующий арктический холод. Ночные заморозки и дневные ледяные дожди пока что удерживали (если верить ТВ) бубонную чуму в пределах Аргоса, который великий Гомер называл «конеобильным». Сейчас «конеобильным» считалось государство Паннония (степная часть бывшей Венгрии), населенное раскосыми людьми в островерхих шапках и кожаных штанах, поставляющее коней в Центральную и Южную Европу. Никита Иванович наблюдал несметные их табуны из окна самолета, когда летал в прошлом году отдыхать на Балатон. Они, казалось, росли прямо из земли, низенькие косматые кони, и стелились по ней, как трава по ветру.
Раньше в этой (неурочное похолодание) связи был бы определенно вспомянут Промысел Божий, однако нынче в формально христианской, частично мусульманской, частично языческой, но фактически многобожественной (поли-, а может, пострелигиозной) Европе имя Божие, в отличие от века XX, всуе практически не упоминалось.
«Да такая ли уж ценность моя жизнь?» – скрипуче, как сквозь наждак, дыша – аллергическая (на нервной почве) астма всегда настигала его в самые неподходящие (если, конечно, у астмы могут быть подходящие) моменты – Никита Иванович устремился из кухни по длинному коридору в дальнюю комнату, где среди белья в шкафу прятал устаревшей модели, но вполне исправный «люгер» двадцать второго калибра с глушителем. Запахивая на хрипяшей, ходящей ходуном груди халат, устраивая за пазухой руку с пистолетом, чтобы в случае чего стрелять сквозь ткань, Никита Иванович не без грусти подумал, что в бытийном (Божественном, высшем, общечеловеческом, вселенском и т. д.) смысле его жизнь, конечно же, никакой ценности не представляет, однако, несмотря на это, лично ему, Никите Ивановичу Русакову, отчего-то жаль с ней вот так неожиданно взять и расстаться. Причем до такой степени жаль, что он был готов не только не выходить из квартиры сейчас, но… вообще не выходить, пока не закончатся продукты. А там… видно будет. Имея в виду вероятные эпидемии, внезапные танковые рейды, бомбежки, непредвиденные войсковые операции, революционные, расовые, на религиозной почве и прочие волнения, он, как и большинство жителей Праги (бомжи, естественно, не в счет) держал дома солидный запасец воды и еды.
А еще Никите Ивановичу не хотелось расставаться с жизнью до выяснения: почему, собственно, он должен с ней расстаться? Логичнее было сначала узнать, а потом расстаться, чем расстаться, не узнав. Но данная (высшая?) логика в этом мире была доступна лишь богам (в каждом новом национальном государстве своим, не считая, естественно Иисуса Христа), но никак не смертным людям. Видимо, на исходе первой трети XXI века самый смысл существования человека заключался в том, чтобы не просто внезапно расстаться с жизнью, но обязательно – до момента (естественно, чисто умозрительного и, в сущности, мало что меняющего) осознания, за что и почему. Так расстается с жизнью прихлопнутый комар. Так расстается с жизнью человек, прихлопнутый… да кем (чем?) угодно. Человеческая жизнь, – взгляд Никиты Ивановича упал на экран компьютера – с утра он работал над очередным своим безадресным эссе, – в постглобалистской Европе не стоит даже материала, затрачиваемого на ее пресечение, В сущности, сохранение жизни как таковой превратилось в сугубо личную (privacy) проблему лишь для ее непосредственного обладателя.
Беда моих эссе, самокритично признал Никита Иванович, в том, что я не открываю нового, в лучшем случае синтезирую из чужого нового нечто пригодное для вялого обывательского чтения. Стоит ли писать, подумал Никита Иванович, если не открываешь нового?
Выходило, что не стоит.
Стоит ли жить, подумал Никита Иванович, если не открываешь нового?
Тут ответ представлялся не столь однозначным. Многие люди не открывали нового, но жили, а некоторые так очень даже неплохо жили.
Однако же человечество, читатели, то есть те, кому (теоретически) адресовались сочинения Никиты Ивановича, встречали новое в штыки, можно сказать, ненавидели неизвестное, неосмысленное, предпочитая бесконечные вариации старого, известного, многократно осмысленного, Великая Антиглобалистская революция враз избавила их от иллюзий, что новое, как говорится, по определению лучше старого, Никита Иванович пришел к выводу, что отныне задвинуть в общество какую-нибудь новую идею можно только при несомненном участии Господа Бога, Сознавать, что в твоих сочинениях нет нового, подумал он, это все равно, что сознавать, что в твоих сочинениях нет Бога, И все равно Никите Ивановичу было жаль, что, возможно, он так и не закончит свои в общем-то никому не нужные (роман «“Титаник” всплывает», эссе – у него пока не было названия) труды, Никита Иванович подумал, что, готовясь, подобно вихрю, вылететь в халате и с «люгером» на лестничную клетку, он бросает вызов силам, погрузившим его в безвестное ничтожество, в формалин, в пустоту. Вот только не вполне понятно было, что это за силы. Вероятно, частично внешние, частично внутренние, Их соединение можно было уподобить химической реакции, в результате которой возникал формалин, В случае Никиты Ивановича внешние силы подавляли внутренние, диктовали им. Следовательно, его личность не имела шансов себя проявить.
Высшая и предпоследняя стадия развития личности, подумал Никита Иванович, это когда внутренние ее силы диктуют силам внешним. Самое удивительное, что он знал человека, поднявшегося до этой стадии. Вот только конец таких людей, как правило, был ужасен. Вероятно, подумал Никита Иванович, это происходит потому, что они путают свою волю с Божьей.
Естественно, у него не было стопроцентной уверенности, что получится «подобно вихрю». Никита Иванович увидел собственное отражение в темном зеркале: отвисшее брюхо, худые, птичьи какие-то ноги; лысый, но с клочьями седых волос над ушами, с седыми же редкими усами и мясистым, одновременно рыхлым и как бы (апоплексически) пропеченным изнутри лицом. В висящем мешком (саваном?) полосатом махровом халате он отнюдь не походил на героя, бросающего вызов судьбе. А если и походил, то на героя, изначально обреченного на поражение, на опереточного, водевильного героя-идиота.
Или на сумасшедшего.
Никита Иванович с грустью констатировал, что, скорее всего, на сумасшедшего. Стоило столько лет бесшумно сидеть в формалине, чтобы вот так нелепо, никчемно (внезапно подумалось: как жил) погибнуть. Выходило, что предполагаемая смерть как раз и есть логическое завершение нелепой, никчемной жизни. Бог определенно явил ему свою милость, дав время не только это осознать, но (по возможности) и некоторым образом этому противостоять. Не сказать чтобы данное умозаключение обрадовало Никиту Ивановича. Он подумал, что Бога гневят самые неожиданные вещи, включая такие, казалось бы, от Бога далекие, как ничтожная (растительная) жизнь отдельно взятого (Никиты Ивановича) человека.
Но чем дольше смотрел он на свое отражение, тем больше достоинств в себе открывал. Тусклое, запыленное зеркало в прихожей уподобилось тиглю, в котором прямо на глазах отливалась новая сущность Никиты Ивановича. Так однажды свинец в тигле средневекового алхимика (это было документально подтверждено тремя свидетелями – бургомистром, настоятелем местного монастыря и… палачом) однажды, а именно в ночь с тридцать первого июля на первое августа 1574 года, преобразился в золото. Чтобы впоследствии (как алхимик ни старался) не преображаться уже никогда. Никита Иванович увидел, как распрямились и развернулись его плечи, апоплексическая алкогольная пористость на лице (как свинец в золото в ту давнюю ночь) превратилась в благородный бронзовый загар, как если бы он только что вернулся… из Аргоса? Брюхо само собой мускулисто подтянулось, и будто бы даже бицепсы и трицепсы обозначились под халатом. Вот только лысина, с сожалением отметил Никита Иванович, осталась непобедимой, не покрылась золотом волос. Зато светло-зеленые его – а в последние годы бесцветно-водянистые – глаза вдруг сверкнули (зеркало отразило) в сумеречном коридоре, как если бы Никита Иванович превратился в волка или шакала. А может, хитрого лиса, потому что не столько крови мнимого бомжа жаждал Никита Иванович, сколько ответа(ов) на вопрос(ы).
Тяжелая металлическая пневматическая дверь подалась с трудом, будто Никита Иванович, сдвигая невообразимую толщу формалина, входил, подобно Одиссею, в мир теней, или, напротив, подобно опять же Одиссею, возвращался из мира теней (мертвых) в мир света (живых). Единственно, непонятно, было: зачем (в отличие от Одиссея) Никита Иванович это делает?
В следующее мгновение он уже (летающим ужом, не иначе) вылетел на полусогнутых на лестничную площадку и, не увидев бомжа – Никита Иванович сам не мог понять: откуда такая боевая прыть? – покатился по не сильно чистому плиточному полу, поочередно наводя «люгер» на места, где мог (и не мог, зачем, к примеру, Никита Иванович навел «люгер» на стоящий на подоконнике дивно разросшийся фикус?) затаиться бомж.
Но, как выяснилось, правильно сделал, что навел, потому что именно в этот момент светящиеся его глаза зафиксировали отделившееся от листа фикуса нечто, точнее, даже не нечто, а некое колебание воздуха в макушке фикуса. Не раздумывая, Никита Иванович дважды выстрелил в это отделившееся нечто, зафиксировав помимо глухих пистолетных хлопков неуместный звук порвавшейся металлической струны. Что-то, зазвенев, упало на плиточный пол у самого его лица.
Некоторое время Никита Иванович еще тыкал «люгером» в разные стороны, но уже было ясно, что бомжа и след простыл. В отличие от с трудом рассмотренной на полу деформированной металлической стрелки, на остреньком носике которой, как застывшая слеза, висела пластиковая капелька яда.
Никита Иванович знал (слышал по ТВ) об этом новомодном оружии киллеров – крохотной отравленной самонаводящейся стрелке с микрокомпьютером. Достаточно было «ознакомить» микрокомпьютер с фотографией человека, разместить «пусковую установку» там, где несчастный человек мог появиться, и дело в шляпе. Когда-то такие самонаводящиеся ракеты использовали в горах против самолетов сражающиеся за независимость партизаны, Сегодня крохотные самонаводящиеся стрелки использовали киллеры, сражавшиеся неизвестно за чью (от жизни?) независимость. Никита Иванович читал (если только это не была изощренная реклама), что последние (самые дорогие) модификации отравленных стрелок без следа растворяются в теле жертвы в течение нескольких мгновений. На него, похоже, дорогую стрелку пожалели. А может, не пожалели. Просто стрелки растворялись в теплых (остывающих) телах, а не на холодных каменных полах.
Никита Иванович принес из квартиры пинцет, поднял стрелку, уложил ее в металлическую коробочку из-под сигар. Он проделал это без малейшей опаски, потому что знал: Бог спас его, плохого, точнее, никакого стрелка. И спас, по всей видимости, не для того, чтобы тут же и уничтожить.
Спустившись на лифте вниз к почтовому ящику, он обнаружил в нем не только ожидаемые «Lidove noviny», но и неожиданный глянцевый конверт. Вскрыв его, Никита Иванович с изумлением узнал, что на его имя в местное почтовое отделение поступила «отложенная» бандероль, то есть бандероль, которую могли отправить когда угодно. Получить же ее, согласно воле неведомого отправителя, Никита Иванович был должен именно сегодня ровно в полдень, то есть в двенадцать ноль-ноль по среднеевропейскому времени.
Или (опять-таки согласно воле неведомого отправителя) никогда.
О чем и имело честь уведомить рапа Rusakova местное почтовое отделение.
Бандероль
«В каждом деле – опасном, неразрешимом, смертельном, – учил когда-то Никиту Ивановича (тогда, впрочем, никто не звал его по отчеству) старший брат Савва, – есть нечто, сообщающее силу этому самому делу. Это можно сравнить с сердцем в живом организме, хотя на самом деле это, конечно же, не сердце. До тех пор, пока ты не определишь, где, как и зачем оно бьется, ты не сладишь ни с одним делом».
«То есть дело сладит со мной?» – помнится, полюбопытствовал Никита.
«Растворит тебя в себе, – ответил брат, – умножит на себя, превратив в ноль».
«Неужели, – удивился Никита, – из ноля возврата нет?»
«Есть, – неожиданно внимательно посмотрел на него брат, – но это такой возврат, что человек ему не рад».
«Почему?» – спросил Никита, по молодости лет уверенный, что ему не грозит ни превращение в ноль, ни тем более безрадостное (если верить брату) возвращение из ноля.
«Видишь ли, – ответил Савва, – если уподобить человека числу, то до умножения на ноль – это одно число, а по возвращении…»
«Другое?» – предположил Никита.
«Да нет, – рассмеялся брат, – вообще не число, скорее… функция».
Никита Иванович не знал, зачем вспомнил дурацкий разговор со старшим братом, исчезнувшим много лет назад. Хотя в прежней своей формалиновой жизни он много читал, и из прочитанного ему было известно, что все самопроизвольное (в особенности же мучающие стариков и сумасшедших немотивированные воспоминания) является следствием неких глубинных психических нарушений, говоря по-простому, деградацией сознания.
Никита Иванович не сильно по этому поводу горевал. Господь принимал к себе людей, независимо от текущего состояния их сознания. Вероятно, там, где Господь их принимал (сортировал), существовали средства (специальные растворы), мгновенно прочищающие засорившиеся сознания на манер канализационных труб. К тому же собственная жизнь давно представлялась Никите Ивановичу грубым и одновременно ветхим, изношенным до дыр серым материалом, прошедшим, так сказать, точку возврата. То есть с некоторых пор из него невозможно было не только сшить добротную вещь, но и просто перелицевать.
Хотя, к примеру, старший брат Савва полагал, что одному человеку по силам изменить мир за час, другому – не изменить и за сто жизней. Все дело в том, что это за час, что за человек. Стало быть, и в случае Никиты Ивановича (теоретически) все было возможно. Если бы подвернулся чудо-портной, взявшийся сшить нечто из ничего.
Свинтив глушитель и зачем-то понюхав ствол «люгера», Никита Иванович подумал, что из его жизни, к примеру, еще не поздно сшить страшную хламиду для чучела. После сильно сократившего население Европы «ржаного гепатита», многих других эпидемий с невыясненной этимологией химические средства защиты растений более не применялись. Сейчас поля, виноградники, сады оберегались от птиц в основном с помощью чучел и – частенько – бомжей, которые, в отличие от чучел, могли (с трудом) передвигаться.
И еще Никита Иванович подумал, что определить, где сердце обеспокоившего его сегодня дела, – все равно что определить точку истечения Божьей благодати.
В мире, как известно, насчитывалось всего семь таких точек.
Они все время меняли свое местоположение, ускользая из лазерных спутниковых и наземных электронных ловушек, расставляемых досужими охотниками. В диаметре эти точки были не более метра, какие они были в высоту – можно было только догадываться. Во всяком случае, человек вмещался в них полностью. Может статься, они спускались с неба на манер вертикальных туннелей. Случайно (и, как правило, совершенно для себя неожиданно) угодивший в точку человек преображался. Если, допустим, у него была сухая полиомиелитная нога – она становилась совершенно нормальной. Если страдал от гнойной язвы – язва мгновенно рубцевалась. Случалось, убийца бросал пистолет (нож, петлю, топор и т. д.) и отправлялся в ближайший храм замаливать грехи. А был случай, когда человек вообще ничего не заметил, только вот купюры в его бумажнике сделались совершенно новыми, и… максимально увеличили свое достоинство.
Дело было в Трансильвании.
Тамошний князь вознамерился казнить несчастного счастливца за фальшивомонетничество, однако выяснилось, что купюры подлинные. Тогда князь обвинил угодившего под благодать в воровстве, но добросовестный судебный пристав установил, что все деньги в местном отделении на месте. Таким образом, можно было сделать вывод, что Божья благодать проистекала не только в пространстве, но и во (ведь суд длился не один день) времени.
Никита Иванович пришел к единственно правильному выводу, что мифическое сердце загадочного дела бьется… в прошлом. Наверное, оно билось все годы, пока он сидел в формалине, но пунктирно, как у человека, пребывающего в коме, а теперь вот застучало во всю прыть, так как больной вышел из комы. Нельзя сказать, чтобы Никиту Ивановича сильно обрадовало выздоровление неведомого (ведомого) больного.
…Он посмотрел на часы.
До назначенного для получения бандероли часа оставалось пятьдесят пять минут.
Ходу до почты было от силы минут семь, но Никита Иванович сомневался, что ему вот так запросто удастся заявиться на почту и получить «отложенную» во времени и пространстве бандероль… с чем?
Он понятия не имел.
Почему-то вдруг подумалось о деньгах, но это было маловероятно. У Никиты Ивановича не было в этом мире должников, как, впрочем, и сам он никому не был должен. Получить бандероль – означало проникнуть в тайну бьющегося сердца. В тайну – куда его одновременно звали и определенно не хотели пускать.
Никита Иванович вдруг вспомнил слова брата, сказанные давным-давно по какому-то совершенно ничтожному житейскому поводу: «Самые эффективные и надежные решения – из подручного материала». Сейчас, впрочем, подручного материала было всего ничего: отравленная самонаводящаяся стрелка; бомж; «отложенная» во времени и пространстве бандероль.
Чтобы «слепить» эффективное и надежное решение, подручный материал следовало должным образом рассортировать, ибо фрагменты его имели обыкновение неконтролируемо соединяться. Неконтролируемое же соединение несоединимого, как известно, порождает хаос, внутри которого любое решение изначально утрачивает надежность и эффективность.
По мнению брата, так называемое мироздание «лепилось», в сущности, из ничего (подручного материала) и воли, обретающей в определенные моменты волшебные свойства философского камня, посредством которого свинец превращается в золото. Так и воля реорганизовывала мироздание, позволяла решать поставленные задачи, добиваться намеченных целей. «В основе мироздания, – помнится, говаривал старший брат Никиты Ивановича Савва, – лежит простая, но, как правило, совершенно невозможная мысль».
Никита Иванович подумал, что в его сегодняшнем случае – это мысль, что бомж есть бомж, а не киллер, как он был уверен до сих пор. Бомж просто завтракал на лестнице и не имел ни малейшего отношения к самонаводящейся стрелке с ядом, установленной в листьях фикуса, по всей видимости, ночью. Воистину это была простая, но совершенно невозможная мысль. Единственно, непонятно было, зачем неведомые люди городили смертельный (в ветвях фикуса) огород, когда могли всего лишь забрать из почтового ящика уведомление. По всей видимости, они хотели решить вопрос кардинально, ликвидировав не следствие (бандероль), но причину (адресата).
Никита Иванович сам не заметил, как вновь оказался на лестничной клетке вблизи смертоносного фикуса. На сей раз растение вело себя вполне миролюбиво. Никита Иванович вроде бы даже ощутил исходящую от деревца симпатию. Он сам держал на подоконниках герань, слоновое дерево, лесной папоротник. Растения были единственными живыми существами в его квартире. Никита Иванович не сомневался в том, что общение между ними и человеком не только имеет место, но протекает неустанно и весьма конструктивно. Только вот результаты его и следствия человеку не всегда ясны.
Превозмогая отвращение, Никита Иванович опустился на колени, тщательно обнюхал ступеньку, где сидел бомж. Если это был профессиональный киллер, он, естественно, не мог вонять как бомж. Такую вонь с ходу не нагуляешь. Тем более что у объекта (Никиты Ивановича) не было шансов принюхаться к (мнимому?) бомжу.
Ступенька маханула живейшим (подделать было невозможно!) дерьмом, многослойной мочой, немытым с гнойными пролежнями телом, приклеившимися к гнилым грибковым ступням носками, тухлой капустой, чудовищной рыбой, даже явственный запашок самого крепкого и дешевого в Великом герцогстве напитка – «Tuzemsky rum» – уловил Никита Иванович в отвратительном, как жизнь без смысла, воли и перспектив, букете. У него отпали всякие сомнения: тут сидел самый натуральный бомж!
А где один, подумал Никита Иванович, скосив глаза на часы, там и два. Бомжей можно было уподобить грибам, прорастающим сквозь асфальт, просачивающейся сквозь дамбу воде, проникающему во все щели дыму. Следовательно, не могло быть ничего удивительного в том, что следом за первым из подъезда (Никита Иванович не сомневался, что за подъездом присматривают) выйдет второй.
Преображение в бомжа доставило ему странное мрачное удовольствие. Несмотря на относительно устроенную жизнь и опрятный вид, внутренне Никита Иванович давно считал себя бомжом, но бомжом, так сказать, в умственной, философской, а не в физической, бытийной ипостаси. Настоящие бомжи вызывали у него неподдельный жгучий интерес, какой вызывает у человека то, что могло (должно) было с ним случиться, но по какой-то причине (пока?) не случилось.
Он сам удивился, как сноровисто (словно резервист в военную форму), переоделся в широченные черные с прилипшими перьями штаны, растянутую вязаную, в засохших пятнах кофту, натянул на голову панаму цвета хаки с извилистыми полями – она была незаменима, когда Никита Иванович в дождь ловил во Влтаве рыбу.
Из зеркала на Никиту Ивановича смотрел не просто бомж, но презирающий человечество бомж. Такие бомжи, подумал Никита Иванович, сообщая лицу более приличествующее – заторможенно-животно-обреченное – выражение, не задерживаются на этом свете.
Бомж и достоинство – вещи несовместные, как гений и злодейство.
Отодвинув от стены диван, Никита Иванович, подобно (пожилому) щенку в падали, вывалялся в плотно покрывшем пол сером мху. Сколько себя помнил, он неустанно боролся с пылью. Но пыль (неустанно же) выходила из этой борьбы победителем. Особенно славно смотрелись свисающие из-под панамы пропыленные седые клочья волос. Воистину, с грустью отметил Никита Иванович, тонка, неразличима грань между добропорядочным обывателем и бомжом, по крайней мере, у меня.
Можно было трогаться в путь.
И Никита Иванович чуть было не тронулся, но, к счастью, вспомнил, что бомж без поклажи – все равно что черепаха без панциря. Подходящая (из синтетической, не знающей износа мешковины) сумка отыскалась мгновенно, как будто ожидала своего часа, и наполнил ее Никита Иванович не абы чем, но крайне необходимыми для бездомной жизни вещами. Драный плед, зимняя шапка, рукавицы, резиновые сапоги, тесак, алюминиевые миска, ложка, полиэтиленовые мешки, газеты, банка просроченной свиной тушенки, полбутылки «Tuzemsky гит».
Никита Иванович хоть сейчас был готов на набережную Влтавы, где в каменном кружеве мостов среди крытых галерей вблизи оборудованных и диких пляжей обитала колония так называемых речных бомжей, которые плодились и размножались там на манер безпозвоночных червей неполовым путем. Иначе как объяснить, что число их все время увеличивалось, в то время как средняя продолжительность жизни неуклонно сокращалась? Сыскалась и такая крайне необходимая вещь, как лыжная с острым наконечником палка, незаменимая для работы внутри мусорных контейнеров.
И последнее, о чем подумал Никита Иванович перед выходом из дома: запах. Если он оказался таким умным, то почему, собственно, те, кто замыслил его убить, должны быть глупее?
…Никита Иванович вдруг вспомнил, как много лет назад, когда он жил в Москве и с великим трудом заканчивал девятый (почему-то именно тогда случилась заминка, дальше Никита Иванович учился как Ломоносов) класс, родители определили его на частные уроки к преподавательнице английского, чтобы он сумел сдать переходной экзамен. Преподавательница жила с полупарализованной мамой, у которой, как понял Никита, были сложности с опорожнением кишечника. Никита сидел с преподавательницей на кухне, а из ванной (именно туда, а не в туалет вкатывалась мама в никелированном на колесиках кресле) доносились глухие ее стоны. «Мама, – чуть ли не каждую минуту подбегала к двери преподавательница, – получилось?» Не хотел бы я мыться в такой ванне, помнится, думал, отвлекаясь от английского, Никита. Видимо, его появление благотворно действовало на маму. С каждым его приходом стоны становились тише, а в последнее занятие, так и вовсе что-то напоминающее песенку донеслось из ванной.
Никита благополучно сдал экзамен, перешел в десятый класс, как вдруг в сентябре преподавательница позвонила ему сама, предложила продолжить занятия. Удивившись, Никита сказал, что в этом нет никакой необходимости.
Она предложила заниматься… бесплатно.
«Наверное, она в тебя влюбилась», – предположил старший брат Савва.
«Точно, влюбилась!» – горячо поддержала его Роза Ахметовна – тогдашняя сожительница Саввы, подбирающаяся к сороковнику татарка неясной профессии и с сомнительным прошлым.
Савва мог бы вполне сойти за ее сына. Как известно, татарки рожают рано.
Никто не мог понять, зачем он – симпатичный, хорошо зарабатывающий, свободный – живет с… Розой Ахметовной? Особенно не нравилось это родителям, но они помалкивали, потому что вся семья плюс Роза Ахметовна жила на деньги Саввы. Родители, конечно, могли попросить Савву и Розу Ахметовну вон, но где гарантия, что, съехав с квартиры, Савва будет их по-прежнему обеспечивать? Пожилые люди в России в те годы, как писали в оппозиционных правительству газетах, «мерли как мухи». Детей, согласных содержать состарившихся родителей в России, было на удивление мало. Честно говоря, Никита Иванович не понимал этого сравнения. Сами по себе мухи никогда не «мерли», напротив, обнаруживали удивительную живучесть. Мухи «мерли» только в том случае, если их целенаправленно уничтожали. Но на подобные стилистические противоречия никто в России в те годы внимания не обращал.
Никите было стыдно признаваться, что в основе мнимой влюбленности преподавательницы лежит такой непоэтичный процесс, как дефекация. Тут он отличался от брата, ни при каких обстоятельствах не стыдящегося истины, какой бы неожиданной и неуместной та ни представала.
к примеру, на вопрос Никиты по поводу Розы Ахметовны Савва ответил в том духе, что, в принципе, не имеет значения, с какой именно женщиной жить, с физиологической точки зрения все они – одно(а) и то (та) же. Роза Ахметовна, по его мнению, являлась стопроцентно усредненной среднестатистической российской женщиной. По возрасту, сложению, образованию, сохраняемому в тайне (но, надо думать, немалому) числу мужчин, по национальности (обрусевшая, точнее, обукраинившая- ся – она долго жила в Сумах – татарка, подзабывшая родной язык, оторвавшаяся от ислама и не прибившаяся к православию). По профессии (Роза Ахметовна успела потрудиться и воспитательницей в детском саду, и поварихой, и продавщицей, и челноком, и администратором в кафе, и даже сборщиком подписей на президентских выборах). Но главное, по отношению к жизни, то есть происходящим в стране политическим, экономическим, идеологическим, геополитическим и прочим процессам.
«Сожительствуя с Розой Ахметовной, – пояснил Савва, – я некоторым образом одновременно сожительствую со всеми женщинами России, я в курсе их дел и представлений, а это совершенно необходимо, если ты занимаешься прогностической политологией. Более того, – внимательно посмотрел на Никиту, – я примерно представляю себе, как воздействовать на всех этих женщин, чтобы они в свою очередь поступили так- то и так-то».
Таким образом, если в сожительстве брата с Розой Ахметовной наличествовала некая логика, то в случае бесплатного совершенствования Никиты в английском – логику заменяло нечто издевательское, непотребное, что вообще было невозможно открыть миру.
«Как бы там ни было, – словно прочитал его мысли брат, – имеет смысл вычленять из изначального неблагого то, что каким-то образом приносит тебе благо».
«Зачем?» – разум Никиты отказывался признать причинно-следственную связь между дефекацией и бесплатными уроками английского.
«Как минимум, чтобы знать, на что ты можешь в этой жизни опереться», – рассмеялся Савва.
Неужели, – вздрогнул, спустя десятилетия оглядывая себя в зеркале, Никита Иванович, – единственное, на что я могу опереться в этой жизни… дерьмо?
Тем не менее получилось все неожиданно ловко, как если бы он проделывал такое не раз. В общем-то, он и проделывал, но давным-давно, в России, сдавая анализы. В Великом герцогстве Богемия никто не проявлял ни малейшего интереса к его – политэмигранта, лица без гражданства (ЛБГ) – анализам. Сходив на газету, Никита Иванович надел штаны, а потом опустился штанами на эту самую газету, после чего, стараясь на нее не смотреть, выбросил в мусоропровод.
Распространяя зловоние, Никита Иванович вышел из подъезда на свет Божий, потащился, приволакивая ноги, вдоль окружающего дом палисадника в сторону (куда еще может направляться бомж?) мусорных контейнеров. Встреченные люди (в некоторых он узнавал жильцов), шарахались, отворачиваясь от Никиты Ивановича, даже и не пытаясь его узнать. Никогда еще он не чувствовал себя таким защищенным. Примерно так же, наверное, мог чувствовать себя закованный в латы средневековый рыцарь на площади среди торгующего сброда.
Некоторое время Никита Иванович с неподдельным (откуда?) интересом копался в мусорном бачке, умышленно смазывая рукава вязаной кофты тошнотворным рассолом, какой имеют обыкновение выделять так называемые смешанные (бытовые плюс пищевые) отходы. Удивительно, но ему почти сразу удалось найти пластмассовую бутылку с (прокисшим) молоком, полукруг твердого, бронзового, в плесени, как в патине, еще не успевшего пропитаться рассолом хлеба, пластиковую коробку с хоть и приобретшим консистенцию вросшего ногтя, но вполне съедобным плавленым сыром.
Завтрак, таким образом, был обеспечен.
Никита Иванович даже удивился, как, оказывается, легко (в смысле питания) живут бомжи.
Он подумал, что судьба толкает его в бродяги, как на саночках с ледяной горки. Он успел пробыть смердящим бомжом всего несколько минут, а сколько счастья! Складывая найденную провизию в полиэтиленовый пакет, Никита Иванович внимательно (из-под волнистых полей солдатской панамы) оглядел окрестности. Ничто не привлекло его внимания, разве только в дальних (по пути к почте) кустах что-то не столько сверкнуло (солнца не было), сколько обозначило себя мгновенным матовым бликом. Никита Иванович понял, что на него смотрят в лазерный прицел, а потому решил не торопиться под пулю, а прямо тут на ближайшей скамейке позавтракать чем Бог послал.
Бронзовый хлеб мужественно встретил тесак, Никите Ивановичу пришлось потрудиться, чтобы отсечь кусок. Капая на него прокисшим, обнаружившим волокнистую структуру молоком, он размышлял одновременно обо всем и ни о чем конкретно, то есть именно так, как должен размышлять бомж. Если мыслительный процесс укорененного в бытии (имеющего постоянное место жительства) человека можно было уподобить молоку, то мыслительный процесс бомжа – даже и не прокисшему, а вот такому – волокнистому, творожистому, лохматому – «пост-» или «прамолоку», которое одновременно все, производимое из молока: творог, сыр, кефир и т, д, и… ничего, точнее, нечто в пластиковой бутылке, Никита Иванович подумал: да существует ли вообще в природе «отложенная» бандероль; удастся ли ему живым добрести до почты; как получить ее, чтобы никто не заметил; наконец, зачем ему эта бандероль?
Выходило, что он, столько лет просидевший в формалине, почти что завершивший роман под названием «“Титаник” всплывает», преодолевший абсолют осторожности, ставит собственную жизнь на кон во имя… чего?
Совершенно неожиданно (для бомжа?) Никита Иванович подумал, что самый осознанный и, следовательно, правильный выбор тот, который человек делает… не выбирая. Когда все происходит само собой. Как вот сейчас сам Никита Иванович закусывает найденными на помойке хлебом и молочком, совершенно при этом не думая, что может отравиться и умереть.
Следовательно, выбор сделан.
Но кем?
Никита Иванович более ни мгновения не сомневался, что его жизнь едва ли важнее (ценнее) того, что находилось внутри загадочной «отложенной» бандероли, И еще он подумал, что «без- выборный» выбор в арифметической (или геометрической?) прогрессии умножает волю, потому что всегда ориентирован на скорейшее достижение реальной (в его случае – получение бандероли) цели. Если же цели нет, вздохнул, пытаясь проглотить неподвластную зубам кислую бронзу, Никита Иванович, жизнь сворачивается в сыворотку (в данный момент его одолевали исключительно «пост-» и «прамолочные» метафоры), обнаруживает неприглядную структуру, превращает человека во все (мысли) и одновременно в ничто (действия), что, однако.
никоим образом не поднимает человека над жизнью, потому что, как известно, от умножения «всего» на «ничто» получается «ничто». Лучше умножить одно «ничто» – мою жизнь, решил Никита Иванович, на другое «ничто» – «отложенную» бандероль – и, быть может, получить в итоге если и не «все», так хоть что-то.
До указанного в уведомлении срока оставалось четырнадцать минут.
Никто больше не смотрел из кустов на Никиту Ивановича сквозь оптический прицел.
Собственно, и некому было смотреть, потому что Никита Иванович увидел человека с прямой тренированной спиной, со стандартной молодежной (на половине головы волосы до плеча, другая половина – бритая) прической. На плече у молодого человека плотно к локтю висела сумка, в которой и скрывался автомат с цифровым электронным прицелом. Промахнуться из этого оружия мог только слепой: электронный прицел не просто приближал, но многократно увеличивал цель, сканировал внутренние органы, к примеру бьющееся сердце или волнистый пульсирующий (мыслями?) мозг. Цель наплывала на стрелка, как с экрана. Можно было выбрать на огромном, как из фильма ужасов, лице родинку, прыщ, бородавку да и спустить курок. У Никиты Ивановича не было ни малейших причин сомневаться в профессиональных навыках входящего в подъезд человека.
Он шел проверить, лежит ли уже Никита Иванович на лестничной площадке у своей титановой двери или же он еще не выходил из квартиры. Иного молодой человек со стандартной прической предположить просто не мог, иначе не вошел бы так доверчиво в подъезд.
В два прыжка, обгоняя собственную вонь, Никита Иванович добрался до бронированной огнеупорной (как и большинство в столице Великого герцогства Богемия) двери подъезда, нажал сначала кнопку «N», потом одновременно «2» и «3» и – после краткого электронного писка – «Е».
Несколько лет назад он как-то сильно запил с техником-электриком по имени Зденек. Помнится, жена Зденека – огромная рыжая бабища, похожая на обезьяну (она обожала ходить в длинных же рыжих вязаных кофтах, как в шерсти), – не просто погнала их по лестнице (пили у Зденека), но вознамерилась еще догнать и побить.
Никита Иванович и Зденек, однако, хоть и на заплетающихся неверных ногах, но добежали до первого этажа быстрее. Тогда-то Зденек и нажал хитрую комбинацию на электронном замке.
«Теперь можно не спешить, – сказал он Никите Ивановичу, – теперь хоть пожар, хоть война – пятнадцать минут ни снаружи ни изнутри никто дверь не откроет».
Никита Иванович не очень-то в это поверил и все время оглядывался на дверь. Но оттуда доносились одни глухие удары, как если бы дверь превратилась в колокол. Это обезьяноподобная жена Зденека била (ногой?) в бронированную дверь.
По пути к магазину (куда же еще?) Зденек объяснил Никите Ивановичу, что, в принципе, каждое электронное устройство, кодируемое с помощью цифр, букв или символов, имеет так называемую блокирующую комбинацию, надо только ее вычислить, чтобы, значит, потом с умом применять.
«Почему так происходит?» – помнится, полюбопытствовал Никита Иванович.
«Наверное, потому, – пожал плечами Зденек, – что придумывают эти устройства одни люди, изготавливают другие, а работают с ними третьи. Мир так устроен, – продолжил он после паузы, – что одни люди всегда отгадывают то, что от них хотят скрыть другие. В принципе, все люди похожи друг на друга, – понизил голос, словно выдавал Никите Ивановичу некую тайну, – хотя и кажутся разными…»
«Как цифры?» – предположил Никита Иванович.
«Наверное, – не стал спорить Зденек, – только цифры вечны, а люди смертны».
Никита Иванович молил Бога, чтобы комбинация сработала.
Ведь столько времени прошло.
Зденек давно лежал в могиле. Никому в этой жизни не удавалось слишком долго запивать ром пивом.
Вместо него электроникой в доме занимался длинный и плоский, как сточенный мачете, индеец из Южной Америки.
Но комбинация сработала, блестяще подтвердив тезис покойного Зденека о (долго)вечности цифр. Теперь никто не мог помешать Никите Ивановичу быть на почте в указанное время. Теоретически, конечно, его можно было достать из окна, но для этого стрелку надлежало проникнуть в квартиру, окна которой выходили на противоположную выходу из подъезда сторону. Именно по этой стороне в данный момент и спешил на почту Никита Иванович. Он сомневался, что стрелок успеет, слишком уж неохотно отворяли двери незнакомцам в столице Великого герцогства Богемия.
…Разместившаяся на первом этаже длинного, как поезд, здания почта была темна и пустынна, как предбанник того света, а может, зал отправления (накопитель?) этого. Экраны компьютерных мониторов были покрыты толстым слоем серебряной пыли. Переставшее ощущать себя единым целым человечество более не нуждалось в интернете, по которому еще недавно сходило с ума. Из Всемирной паутины, как из мозаичного панно, выпадали целые географические фрагменты, такие, к примеру, как Великое герцогство Богемия. Паутина превратилась в клочья, в патину, и Никита Иванович сомневался: жив ли, собственно, сам паук?
Пустовала и та часть зала, где занимались операциями с финансами. Никто никому никуда денег не переводил. Богемская крона обслуживала территорию примерно в четыреста километров с запада на восток и в двести с севера на юг.
Последний раз Никита Иванович был на почте зимой – получал гонорар из журнала за статью под длинным названием: «Теория перманентного конца света как генератор продуктивного жизнеустройства и устойчивости духа». Он, как сам полагал, не без блеска доказал в этой статье, что растянувшееся во времени и пространстве ожидание конца есть, в сущности, единственная сегодня не просто объединяющая, но и сообщающая человечеству волю к жизни идея. Бесконечная справедливость данного предположения заключалась уже хотя бы в том, что какие бы дикие и страшные беды ни обрушивались на людей, что бы ни происходило – все легко и естественно (подтверждающе) вливалось в эту идею, ничто не могло быть отринуто как чуждое.
Тогда, правда, богемские кроны можно было обменять на многие другие «близлежащие» деньги: тюрингские талеры, лангедокские франки, словацкие куны и т. д. Сейчас, если верить слабо мерцающему электронному табло, только (с немалыми потерями) на венгерские форинты и словенские толары.
Никита Иванович с грустью подумал, что процесс деления (распада) жизни, в сущности, столь же неисчерпаем и универсален, как сама жизнь, принимающая не только любую предложенную ей форму, но и – отсутствие формы. Осколки бытия (в частности, муниципальное почтовое отделение) функционировали по принципу оторванных конечностей ящерицы, то есть в себе, для себя и без надежды на обретение (восстановление) смысла.
«Деградация, – вспомнил Никита Иванович слова старшего брата Саввы, – это форма, пережившая содержание, дом, оставленный хозяевами. Когда из дома уходят законные жильцы, он разрушается, в нем селится разная нечисть».
Савва считал содержание божественной субстанцией, сообщающей жизни смысл и гармонию. Но иногда, по его мнению, нечто вневещественное, надмирное, мистическое пробивало форму (сосуд) и содержание вытекало (куда?). Вместе с содержанием, домыслил спустя много лет Никита Иванович, из формы (жизни) вытекали (как рыбы из разбитого аквариума) и люди. Не было более горестного и жалкого зрелища, нежели бьющиеся в безводной пустоте задыхающиеся (засыпающие) люди-рыбы.
Путь Никиты Ивановича к застекленной секции, где выдавались заказные письма и бандероли, лежал мимо тусклых, как глаза засыпающей рыбы, покрытых серебряной пылевой патиной интернетовских экранов. «Beri па пос» («Бери на ночь») было не без изящества начертано на одном пальцем поверх пыли, и телефонный номер. Похоже, интернет предельно упростился, вернулся к самой своей сути.
Сопровождающий Никиту Ивановича, как верный друг, запах дерьма то слабел, то усиливался. Должно быть, слабел, когда не было причин для волнения, усиливался, когда возникала опасность. Иного коммутатора с Провидением – неопалимой купины, медных труб, тени отца Гамлета, луча света в темном царстве и т. д. – Никита Иванович в этой жизни не заслуживал.
Запах вдруг сделался совершенно нестерпимым.
Никита Иванович услышал за спиной твердые (как если бы к нему приближалась сама судьба) шаги. Шаркающей, вмиг ослабевшей походкой он завернул к стойке, взялся дрожащей рукой заполнять бланк – стандартное прошение на помещение в приют для бездомных.
Шаги за спиной стихли.
«Чтобы через пять минут тебя тут не было, ублюдок!» – уткнулась ему в затылок твердая (как судьба) электрошоковая дубинка.
«Конечно, пан начальник, только отдам прошение», – пробормотал Никита Иванович, втягивая голову в плечи, даже не пытаясь оглянуться (они этого не любили) на полицейского.
Во многих странах Европы полицейским было разрешено убивать бомжей на месте, В Великом герцогстве Богемия этот вопрос пока еще дискутировался в Государственном Совете. Потому-то Прага и считалась европейской столицей бомжей.
«Урод, своим существованием ты позоришь Господа!» – полицейский направился к выходу.
Никита Иванович с грустью подумал, что полицейский прав, хотя и непонятно было, почему он вознамерился заступиться за Господа. Может статься, раньше он служил священником?
И еще Никита Иванович подумал, что рад бы не позорить Господа, да не получается. Голова была как котел, в котором кипела холодная пустота. Жизнь представлялась чем-то нереальным, случайным, главное же, в мире изначально (абсолютно) не существовало ничего такого, во имя чего ею можно было бы пожертвовать.
Ничтожность бытия, таким образом, выводила шашку в дамки, рядовую пешку в королеву. Физическая жизнь превращалась в единственную (абсолютную) ценность. Расстаться с ней было не то чтобы трудно, но как-то жалко, потому что, кроме проживаемой жизни и малых, связанных с ней радостей, у Никиты Ивановича, к примеру, не было… ничего.
Он не сомневался, что (рано или поздно) победит в этом мире тот, кто сложит разрозненные представления людей о том о сем и ни о чем в единую конструкцию, силой внедрит ее в разрушенное, расслабленное, фрагментарное, расползающееся, как слизь, общественное сознание. Чтобы оно, значит, изменило консистенцию, застыло в назначенных ему (конструкцией) пределах. Предполагаемый этот труд наводил на мысли об осушении болота.
Отслеживая взглядом растворяющуюся в холодном воздухе за стеклянной дверью прямую спину полицейского, Никита Иванович подумал, что болото довольно трудно осушить без простых и ясных ответов на два вопроса: есть ли Бог и что происходит с человеком после смерти?
Христианская цивилизация существовала две с лишним тысячи лет, но ответа на эти вопросы человечество так и не получило. Видимо, человечество устало ждать, подумал Никита Иванович, и еще подумал, что цивилизация подобна траве: никто не видит, как она вырастает и как исчезает. Спохватываются, когда травы нет. А может, подумал Никита Иванович, траву уже скосили, преобразовали, так сказать, цивилизацию в сено?
в таком случае, сена определенно не хватало.
Падеж скота шел полным ходом.
…Ровно без одной минуты двенадцать он приблизился к секции, где выдавали заказные письма и бандероли. С минуты на минуту стрелок должен был выбраться из подъезда и устремиться к почте. На все про все у Никиты Ивановича было минут пять, не больше.
В Великом герцогстве Богемия, как и в большинстве европейских стран, идентификация личности осуществлялась посредством отпечатков (на имеющемся в любом присутственном месте сканере) большого и среднего пальцев левой руки, моментального (этим же сканером) компьютерного снимка радужной оболочки правого зрачка. Собственно, их вполне можно было подделать, но совершенно невозможно было подделать код ДНК, безошибочно определяемый этим самым сканером. Никита Иванович прошел идентификацию успешно. Морщась от вони, почтовая девушка дождалась двенадцати ноль-ноль, сунула карточку с данными Никиты Ивановича в специальное электронное устройство.
Ячейка, где дожидалась «отложенная» бандероль, пискнув, открылась и выдвинулась. Надев на руку длинную, как чулок, резиновую перчатку, девушка брезгливо (что могли прислать вонючему бомжу?) извлекла из ячейки небольшой пластиковый контейнер, на котором было написано по-русски: «С днем рожденья!»
Какой-то бред, подумал Никита Иванович. Он родился тридцать первого июля, то есть больше месяца назад.
Бросив контейнер в сумку, устремился к выходу. Проявляя немыслимую для бомжа прыть, не просто добежал до трамвайной остановки, но и успел втиснуться, к крайнему неудовольствию пассажиров, в закрывающиеся двери вагона.
Кондуктор тут же прицелился в него из пистолета, велел выметаться на следующей остановке.
Никита Иванович не возражал.
Следующий остановкой был парк святого Якоба. За годы жизни в Праге Никита Иванович изучил его так, как только может человек изучить место, куда каждый день ходит гулять пятнадцать лет кряду.
Выбравшись из трамвая, он сразу же бросился по железной лестнице вдоль ручья вверх по холму к каменной башне неясного назначения.
Заброшенная без окон и дверей башня с первого дня притягивала Никиту Ивановича. Он долго кружил вокруг нее, недоумевая: как попадают внутрь, если конечно попадают, люди?
Он бы никогда этого не узнал, если бы случайно не наткнулся на железный люк в лопухах на другой стороне холма. У Никиты Ивановича достало сил сдвинуть тяжелую ребристую крышку. Вниз – в сырую скользкую вонь – вели губчатые от мха ступени. Спустившись по ним, как по ковру, Никита Иванович оказался в каменном коридоре, который и вывел его внутрь башни без окон и дверей. Там было вполне сухо, но делать там было совершенно нечего, и Никита Иванович не вспоминал про подземный ход в башню до самой богемско-моравской войны, точнее, до авианалетов на Прагу. Тогда-то он и оборудовал в башне вполне сносное бомбоубежище и даже провел там несколько ночей.
Война, однако, продлилась недолго.
Никита Иванович давненько не навещал бомбоубежище.
Впрочем, он точно помнил, что там есть газовый фонарь и несколько запасных баллонов.
Слушая дальние разрывы (моравцы бомбили богемцев, то есть чехи бомбили чехов), Никита Иванович, помнится, читал в подземелье Евангелие.
…За время, что он здесь не был, люк еще сильнее потяжелел, но, может, это ослабел Никита Иванович. Ребристая поверхность оделась, как панцирем, глиной. Ему стоило немалых трудов сдвинуть люк с места. Еще труднее оказалось закрыть его над головой.
Добравшись по каменному коридору до башни, Никита Иванович включил газовый фонарь, открыл пластиковый контейнер. Внутри него оказался другой – из красного бархата, в каких обычно дарят драгоценности. Дрожащими руками Никита Иванович извлек из крохотного бархатного чрева золотой с крохотным бриллиантом медальон на цепочке и непростой конфигурации ключ.
Он мог не переворачивать медальон, потому что прекрасно знал, что именно выгравировано на обратной (той, что льнет к груди) стороне: «С тобой до встречи, которую отменить нельзя».
Да и непростой, более напоминающий компьютерную микросхему, конфигурации ключ он уже держал в руках.
В прежней жизни.
Дельфин
…До сих пор Никита Иванович помнил (как если бы это было вчера или, точнее, происходило сейчас) августовский день в Крыму, когда стоял с братом на скалистом берегу, а горячий ветер зверски рвал голубую (в цвет неба) рубашку Саввы, как будто намеревался вернуть ее (а заодно и Савву?) обиженному небу.
Никита Иванович доподлинно знал, что прошлое того или иного человека, как и все сущее, умирает, превращается в пепел, точнее, в ничто. Но внутри этого «пепла-ничто», подобно алмазам внутри графита, странным образом наличествуют произвольно расширяющиеся во времени и пространстве «заархивированные» эпизоды, «точечно» концентрирующие в себе то, что принято считать жизнью. Внутри (вокруг) них эта самая жизнь обретает некий несвойственный ей, протяженный во времени и пространстве смысл, как бы длится вечно, не превращаясь в прошлое. А если и превращаясь, то в особенное – «опережающее» – то есть несущее информацию о будущем прошлое. Причем человек (независимо от возраста) пребывает там в максимальном (и даже сверх возможного) развитии своих умственных и душевных сил, провидит нечто, выходящее за край обыденности.
Никита Иванович подозревал, что жизнь в «опережающем прошлом» продолжается и после исчезновения с лица земли действующих лиц и исполнителей. Иногда же ему казалось, что «опережающее прошлое» есть не что иное, как незаконные, просверленные тут и там неведомыми хакерами лазы в рай, слишком тесные, чтобы живой рядовой (с багажом грехов) пользователь мог в них протиснуться, разве только заглянуть, как в трубу калейдоскопа, чтобы понять, куда он может попасть, а может и не попасть по завершении жизни.
Рай, таким образом, представал местом, где принимаются правильные решения.
у Никиты Ивановича, однако, не было уверенности, что в давний августовский крымский день он принял правильное решение. Можно сказать, в давний августовский крымский день он вообще никакого решения не принимал.
Решение принимал брат.
Но решение, которое он намеревался принять, было по сути своей диаметрально противоположным тому решению, которое он в конечном итоге принял. Следовательно, делал вывод Никита Иванович, не Савва принял это решение. Стало быть, рай вполне мог быть местом, где решения принимает Бог, а человек (люди) всего лишь при этом присутствуют. Ощущение же рая (безграничности собственных возможностей, причастности к Божьей воле, светлой вариантности бытия) человеку (людям) сообщает то обстоятельство, что Бог не наказывает задействованных в принятии решении избранных смертных, даже если оно в результате оказывается неправильным.
Напротив, зачастую вознаграждает их покоем.
Потому-то люди, которым, казалось бы, нельзя жить – столь скверные (в планетарном смысле) поступки совершили они, находясь во власти, столь многие «малые сии» из-за них пострадали – спокойно доживают до глубокой старости. Скорее всего, рай, подумал Никита Иванович, это место, где человек ощущает себя частицей мироздания, точнее (творящей) частицей Бога и – соответственно – несет вместе с Богом ответственность за… все?
…Никите Ивановичу было шестьдесят семь лет. На вопросы знакомых: «Как жизнь?» – он отвечал: «Движется к естественному завершению».
Она воистину двигалась.
Зеркало, в которое Никита Иванович раз в три дня (когда брился) заглядывал, не оставляло на сей счет ни малейших сомнений. Жизнь двигалась к естественному завершению даже стремительнее, чем ему хотелось. Можно сказать, она, как поезд, летела к конечной станции, отцепляя для ускорения вагоны.
Никите Ивановичу казалось, что, собственно, уже и нет ни вагонов, ни локомотива, ни рельсов. Осталось лишь виртуальное ощущение движения – свистящий ветер да туман впереди по курсу, где скрывается эта самая конечная станция.
Куда он, может статься, уже прибыл, да только не знает об этом.
Все во Вселенной происходило из энергии и в энергию же уходило. Конечная станция, таким образом, была чем-то вроде трансформатора, долженствующего принять, преобразовать, пустить в новом направлении виртуальную летящую энергию, некогда идентифицировавшую себя как Никита Иванович Русаков. Или – заземлить, растворить, уничтожить, если это плохая, неподходящая энергия. Конечная станция, стало быть, являлась еще и лабораторией, определяющей, какая энергия хорошая, а какая – плохая.
Иногда Никите Ивановичу казалось, что, вне всяких сомнений, он будет заземлен, растворен, уничтожен. Иногда же каким-то образом он чувствовал, хотя, в принципе, земной, существующий по знаменитой, но неизвестно, верной ли формуле: «Жизнь есть способ взаимодействия белковых тел» – человек не мог этого чувствовать (как, впрочем, и выразить словами, поскольку соответствующих органов (чувств?) и, следовательно, слов, чтобы их описать, попросту не существовало в природе), как проходит, преображаясь, сквозь трансформатор, вмещается в расширяющееся на манер бесконечного конуса звездное небо. А иногда – что как будто летит эдаким (переходным?) белково-энергетическим плевком вспять, дабы преобразовать, перелопатить прошлое. Даже не столько все прошлое, сколько один-единственный день, точнее час, когда он стоял с братом на берегу моря, а ветер рвал голубую рубашку Саввы, как будто именно в несчастной этой рубашке сосредоточилось, воплотилось мировое зло.
Если, конечно, допустить, что в (счастливом?) ветре сосредоточилось, воплотилось мировое добро.
В такие мгновения Никита Иванович понимал, что время, в сущности, обратимо, но не понимал смысла, технологии и конечной цели его обратимости, равно как и действующих в обращенном времени законов.
Неужели рай, размышлял Никита Иванович, это исправленное, точнее, вечно исправляемое прошлое? В конце концов он пришел к странной мысли, что, вероятно, рай есть нечто сугубо персональное, как, допустим, формула ДНК. Каждого, стало быть, ожидал (если ожидал) собственный рай, возможно, похожий, а возможно, и нет на другие, которые, в свою очередь, тоже были решительно не похожи друг на друга.
И тем не менее, старея, разваливаясь, седея, лысея, твердея костями, размягчаясь мозгами, он – тринадцатилетний – (вечно?)
стоял с восемнадцатилетним братом на поросших мхом камнях над морем, и горячий ветер рвал голубую (в цвет неба) рубашку Саввы, как если бы Савва украл ее у неба и небо послало ветер вернуть рубашку.
Этот вагон от локомотива было не отцепить. Может быть, этот вагон как раз и был локомотивом.
Савва закончил в тот год первый курс философского факультета МГУ Сессию он сдал на одни пятерки, написал блистательную курсовую о роли и значении водной стихии в древнегреческой философии. Помнится, речь шла о том, чтобы отбыть ему за казенный счет на двухмесячную стажировку то ли в Варшавский, то ли в Геттингенский университет.
Савва, однако, отказался, сославшись на отсутствие в тех местах выраженной водной стихии, решил ехать в Крым, а именно в Ялту – в дом творчества журналистов, куда отец – заместитель главного редактора одной из центральных газет – еще мог в то время раздобыть путевку.
Никита боготворил старшего брата, видимо перенеся на него (по Фрейду, но может, и по австрийскому зоологу Лоренцу) лучшую половину отношения к отцу. Этот Конрад Лоренц утверждал, что, животное-сирота, в принципе, может принимать за родителей людей, если, конечно, те о нем заботятся и кормят. Как, впрочем, и дети-сироты могут принимать за родителей волков, львов, тигров и т. д., если, конечно, те их сразу не сожрут.
Отца, кстати, Никита (несмотря на то, что тот его кормил) совершенно не боготворил. Вообще, не видел в упор, не удостаивая даже и худшей (уже только по Фрейду) половины отношения.
По мере того как дела в стране (тогда еще СССР, начинавшем превращаться в усеченную Россию) шли хуже, дела отца (в материальном измерении) определенно шли лучше.
Однако сам отец (видимо, в этом проявлялась его глубинная мистическая связь с Родиной) становился хуже. Он начал как-то гаденько (каждый день, но не допьяна) попивать, вести в газете рекламные полосы компаний, собиравших у народа деньги под невиданные проценты, публиковать пространные интервью с сомнительными предпринимателями, то певшими осанну великой России, то предлагавшими уступить Сибирь Америке.
При этом не сказать чтобы отец зажил на широкую ногу: завел молодую любовницу, купил «Мерседес», ушел из семьи и т. д. Он был по-своему привязан к матери, которая (сколько Никита их помнил) никогда ничего у отца не просила и ничего от него не хотела. Каждый год по три месяца мать проводила в подмосковном неврологическом санатории, куда отец не ленился ездить по субботам и воскресеньям, а то и среди недели. Возвращался он из этих поездок какой-то очень спокойный и просветленный, как если бы в душевном нездоровье матери чудесным образом черпал (укреплял) собственное душевное здоровье.
Если отец что-то и имел с рекламных проходимцев, то, по всей видимости, помещал деньги под проценты в их же фирмы, хотя (Никита сам был свидетелем) Савва не раз говорил отцу, что не следует этого делать.
«Тебе уже за пятьдесят, – объяснял Савва, – но ты не исполняешь основных житейских заповедей своего возраста: не пить, не курить и… не копить деньги».
Перед старшим сыном отец почему-то робел, словно Савва был его непосредственным начальником по службе или – молодым батюшкой в храме, а отец – не сильно примерным прихожанином. Во всяком случае, Никита не помнил, чтоб отец хоть раз повысил на Савву голос, не говоря о том, чтоб поднял руку. А может, это происходило потому, что Савва говорил отцу нечто такое, что невозможно было (пребывая в здравом уме) опровергнуть, как если бы (в Средние века) Савва читал вслух отцу Евангелие или (применительно к СССР) – последнее по времени выступление Генерального секретаря ЦК КПСС.
«Неужели ты не понимаешь, что за рекламные полосы по отъему денег у малых сих придется отвечать?» – интересовался Савва.
«Каким образом?» – удивлялся отец, стараясь остановить бегающие глаза, спрятать в карманы трясущиеся пальцы.
«Не знаю, каким именно, – объяснял Савва, – но это будет непременно связано с отъемом денег. Может быть, даже не у тебя, но у твоих близких. Если не у твоих близких, то у… неблизких. Одним словом, у народа, частицей которого ты являешься. Такие вещи отливаются в пули, которые летят по самым неожиданным траекториям».
Отец смотрел на Савву как на блаженного, опасаясь тем не менее признаться в том, что ему плевать, потеряют или не потеряют деньги его близкие, неблизкие, а также народ, частицей которого он является. Вероятно, это объяснялось тем, что, во-первых, деньги в ту пору в семье зарабатывал один лишь отец, во-вторых же, он не считал сыновей (мать не в счет) настолько близкими, чтобы горевать по деньгам, которые они в данный момент не могли потерять, потому что их у них попросту не было. О неблизких же, равно как и о народе, частицей которого он являлся, отец, надо полагать, вообще не думал.
В отце (как понял позже Никита) в те годы не было твердости, того, что называется духом. Как, впрочем, не было его и в конструкции, именуемой КПСС, и в более величественной – геополитической – конструкции, именуемой СССР.
Дух же, как известно, позволяет индивидууму (и не только) не просто мужественно противостоять скотской действительности, но и одерживать в этом противостоянии верх.
Дух в человеке или был, или его не было.
А иногда, разъяснял Никите студент философского факультета Савва, в этом самом индивидууме присутствовал отрицательный (анти-) дух. Носитель антидуха проявлял исключительную твердость и последовательность во всем (включая собственную жизнь), что касалось разрушения того, что было можно (или нельзя – здесь носитель антидуха буквально сатанел) разрушить.
Перманентная трагедия бытия, по мнению Саввы, заключалась в том, что люди, лишенные духа (пассивное большинство), были склонны идти на поводу у людей, отмеченных анти-, но никак не настоящим, то есть простым, понятным, ясным – одним словом, созидательным духом. Из двух могущих повести за собой меньшинств – людей разрушения и людей созидания – ведомое большинство неизменно выбирало неправильное, умножало себя на минус и тем самым многократно преумножало конечную «минусовую массу».
Оказавшись в средоточии «минусовой массы», созидательный дух тосковал и в конечном итоге разлагался, как будто и не существовал вовсе, либо же (в редких случаях) затаивался до лучших времен. Логика бытия, однако, заключалась в том, что, пресытившись разрушением, люди вспоминали о созидании. Вот в эти-то короткие (в историческом времени) периоды прояснения, собственно, и созидалось (воссоздавалось) то, что впоследствии непременно предстояло разрушить, а именно основы бытия.
Савва утверждал, что сей процесс можно уподобить качанию маятника. Беда заключалась в том, что с каждым махом амплитуда разрушения увеличивалась, а амплитуда же созидания – сокращалась. При этом, продолжал Савва, в людях пропорционально неравенству амплитуд убывало то, что называлось богобоязнью. Без богобоязни же человечество, по мнению Саввы, превращалось в скопище уродов и подонков.
«Неужели выхода нет?» – помнится, встревожился Никита, с которым (видимо, за неимением иных слушателей) поделился данными соображениями старший брат.
«Есть, – помрачнев, ответил Савва, – примерно раз в две тысячи лет. Но и здесь созидательный – и, стало быть, в высшем своем проявлении Святой – дух входит через одну дверь, а выходит через другую. Я имею в виду ту, через которую выносят покойников».
…Отец был по жизни не то чтобы слаб, но как-то излишне пластичен, вязко непрост. Он путался под ногами, как донные (в Саргассовом море, куда идут на нерест угри) водоросли, не то чтобы мешал сыновьям идти (плыть?) в избранном направлении, но сбивал с темпа. В шевелящемся под килем пространстве трудно было отделить воду от водорослей, а водоросли от угрей. Вне всяких сомнений, отец не являлся носителем созидательного, как, впрочем, и анти-духа. Скорее – некоего перманентно мутирующего духа падшего ангела, когда тот уже не ангел, но еще и не окончательный демон. Житейские и философские воззрения отца представлялись какими-то бездонными (не в смысле глубины, а в смысле саргассовой мешанины), так что совершенно не представлялось возможным вычленить то единственное простое (мысль, чувство, убеждение и т. д.), что лежало в основе его натуры.
Савва называл этот процесс «определением определяющего».
Людей, у которых не удавалось определить определяющее, он считал не вполне людьми, так как выше «определения определяющего» в мире стояли только Бог и Вечность.
Иногда Никите казалось, что насчет отца Савва излишне усложняет.
Определяющее в нем – жадность.
Но отец, хоть и не усвоив заповеди не копить после пятидесяти деньги, случалось, тратил их, не жалея и не считая. То вдруг затащил сыновей в казино и купил каждому фишек на двести долларов. Никита сразу все проиграл, а Савва начал со страшной силой выигрывать и, надо думать, выиграл бы немало (уже около него стали собираться мелкие игрочишки и ставить на те же числа), если бы в казино не ворвались ОМОНовцы и, круша кулаками рулетки, разбрызгивая веером хрустальные фужеры с шампанским, топча черной кованой обувью мягкие красные ковры, не уложили всю публику на пол лицом вниз, чтобы затем увезти в пропахшем мочой и блевотиной зарешеченном автобусе на дознание.
Иногда Никита думал, что это – трусость.
Но на спуске из зарешеченного мочевого автобуса отец вступил в неравную схватку с ребятами в шлемах и кевларовых жилетах, и хоть и не вышел из нее победителем (два сломанных ребра, сотрясение мозга средней тяжести, раздувшееся, как монгольфьер, ухо), все же определенно не выказал себя трусом, напротив, можно сказать, проявил самоубийственную смелость, потому что только самоубийцы в те годы в России осмеливались противостоять ОМОНу, находясь в полной его, ОМОНа, власти.
Или еще был случай, когда вечером отец возвращался с Никитой домой через сквер, и некие стриженые молодцы (число их трудно определялось в сумраке) то ли задели отца плечом, то ли сказали что-то недружественное. Приставив Никиту к дереву, как заключенную в футляр виолончель, отец вдруг с дурным каким-то воплем бросился на стриженых, и некоторое время белый его плащ победительно (вертикально) мелькал среди кустов. Но вскоре плащ (парус одинокий) принял горизонтальное положение, из чего Никита заключил, что стриженые приступили к наказанию отца ногами. Тут уже он завопил во все горло: «Папа! Папу бьют!», бросился ожившей виолончелью сквозь стриженых к лежащему на траве отцу. Стриженые, слегка «настучав» Никите по ушам и поучив еще немного (уже без прежнего пыла) отца ногами, растворились во влажной шумящей осенней тьме.
Никита помог отцу подняться.
Кое-как они добрались до дома.
На сей раз отец отделался вывихнутым плечом и разбитым носом.
Никите в ту пору было немного лет, он жил, особенно ни над чем не задумываясь, можно сказать, жил как растение (хотя, может статься, подобное сравнение оскорбительно для растения), однако острое ощущение бессмысленности отцовских действий запало ему в душу. Никита стал не то чтобы бояться, но опасаться отца, точнее, за отца. Отец как бы носил в себе нечто иррациональное, что могло в любое мгновение взорвать заурядную жизненную ситуацию, преобразовать ее в нечто непредсказуемое и… совершенно неуместное.
В «определении определяющего», таким образом, выходила осечка.
Притом что отец определенно не доставал до Бога и не становился вровень с Вечностью.
Что-то, однако, было.
Причем отнюдь не эпизодическое иррациональное и не усредненное среднестатистическое. Хотя отец в ту пору воплощал в себе обобщенный образ советского интеллигента, работника печати, служившего режиму и одновременно ненавидящего этот самый режим, имевшего от режима кусок и одновременно покусывающего руку, протягивающую ему этот самый кусок. Только спустя годы Никита продвинулся в «определении определяющего» отца: недовоплощенность. Нигде и ни в чем отец не шел до конца, сдаваясь на волю обстоятельств, застревая между хорошим, плохим и никаким. Он добивался исключительно промежуточных (тактических), а не конечных (стратегических) целей.
Никита частенько ловил на себе и брате его тревожно перемещающийся (оценивающий) взгляд, как если бы отец хотел понять нечто важное, кого-то из них выбрать, то есть «определял» в каждом из сыновей «определяющее» и… тоже никак не мог выбрать, определить.
Хотя, казалось, чего выбирать между копейкой (Никитой) и рублем (Саввой)?
Никита в детстве был толст и удивительно неуклюж. Преодолел немоту лишь к четырем годам, В школе смотрел в книгу, а видел фигу, во дворе частенько бывал бит сверстниками, дома же занимался в основном бесполезными делами, такими как лепка пластилиновых уродцев и вырезание из бумаги (опять же уродцев) с последующим размещением их в самых неожиданных местах: допустим, в шкатулке, где мать хранила браслеты и серьги, в запирающемся на ключ баре, где отец держал престижную заграничную выпивку, в холодильнике и даже… внутри обуви. Пластилиновые уродцы карабкались по бутылкам, как африканцы по пальмам, бумажные уродцы слетали со шкафов и люстр, как парашютисты или дельтапланеристы.
«Зачем ты это делаешь?» – не уставали спрашивать мать, отец, брат.
Никита не удостаивал ответом, пока наконец Савва не сформулировал вопрос иначе.
«Кто эти люди, брат?» – на полном серьезе поинтересовался он, как будто размножавшимся в квартире, подобно леммингам, бумажным и пластилиновым уродцам можно было дать хоть сколько-нибудь разумное определение.
«Это… народ», – вдруг ответил Никита, отметив, как дернулись зрачки в синих глазах Саввы и (боковым, не иначе, зрением) как дернулись зрачки у входящего в комнату (он всегда входил в самые неподходящие моменты) отца.
Больше они не беспокоили его вопросами насчет уродцев.
…Никита не поверил своему счастью, когда узнал, что старший брат берет его с собой в Крым.
Савва был высок, строен, светловолос, гибок, как молодая ольха или осина; в отличие от отца, не копил денег, был не эпизодически-истерически, а перманентно (как дышал) смел и уверен в себе. Идя со старшим братом по темному парку или по гадкому участку улицы, Никита ничего не боялся, потому что (по крайней мере, в его представлении) Савва был бесконечно выше тривиальных земных опасностей, как, допустим, орел выше тревог бегающих и ползающих по земле мышей и ужей. Хотя, конечно, это не означает, что презрительно (сыто?) посматривающего с высоты на ползающих по земле мышей и ужей орла вдруг не сразит пущенная с земли же пуля.
Девчонки сохли по Савве. Стиральная машина в ванной к концу недели была (как народно-песенная коробочка) полным-полна его испачканных помадой рубашек.
«Ты бы им намекнул, что ли, – просила мать, – чтобы они пользовались отстирывающейся помадой».
Особенно раздражала ее девушка, пользующаяся серебряной (практически не отстирывающейся) помадой, на свидания с которой Савва надевал самые красивые рубашки.
«Лучше бы ты надевал кольчугу, тогда пятна были бы не так заметны», – печалилась мать, посетившая не один хозяйственный магазин в поисках эффективного средства для борьбы с серебряной помадой.
В добавление к перечисленному Савва трижды в неделю плавал в бассейне, занимался в секции восточных единоборств, читал в день (как Сталин) не менее пятисот страниц убористого текста.
Мать читала мало и крайне избирательно, наверстывая, впрочем, упущенное в неврологических санаториях.
Никита тогда не читал вообще.
Второе место (с огромным отставанием) по чтению в семье занимал отец, который называл Савву «машиной для чтения».
«Знаешь, в чем основная конструкторская недоработка этой машины? – поинтересовался он однажды у Саввы. И, не дожидаясь (он, впрочем, и не предполагался) ответа, сам ответил: – Она жрет дикое количество топлива, но стоит на месте».
«Потому что летит, – возразил Савва, – со скоростью мысли, которая выше скорости света. Но это мало кто видит, а потому всем кажется, что она стоит на месте».
«А ты, стало быть, за рулем? И, стало быть, знаешь куда летишь?» – как вбил гвоздь, уточнил отец.
«Иногда мне кажется, – задумчиво ответил Савва, – что я не водитель и не пассажир, а… часть мотора. Мотор же, как известно, не может нести ответственности за скорость и направление движения».
Отец и Савва частенько вели странные беседы. До тринадцати лет Никита (за исключением печатной продукции эротического характера) не брал в руки книг (зато потом наверстал с лихвой), а потому хранил в незамусоренном, просторном, как храм (точнее, склад), нижнем (детском) этаже памяти все, что в те годы видел и слышал.
К примеру, ночной разговор отца и старшего брата накануне отбытия на отдых в Крым.
Был август, но смоговое, серо-черное, как оперение вороны, московское небо нет-нет да прорезывал тусклый трассер падающей звезды. Казалось, звезда падает из никуда в никуда, и, соответственно, не было ни малейшего смысла загадывать желание. Какой смысл загадывать желание, которое, возникнув из никуда, в никуда же и уйдет?
Бывало, отец коротал переходящие в ночи вечера на кухне за чашкой чая в обществе матери. В последнее время, однако, мать ложилась спать рано, и отец под предлогом поговорить за жизнь зазывал на кухню (когда тот был дома) Савву, который формально (студент-философ, отличник, совершеннолетний и т. д.) вполне годился в вечерние собеседники, точнее, в собутыльники.
Отец не скупился на эти трапезы. На столе можно было увидеть и копченого угря, и консервированного омара, несезонные (a стало быть, запредельные по цене) овощи, ветчинку-буженин- ку, французское или испанское красное вино, запотевшую плоскую в красном гербе «Smirnoff», маринованные грибки, крохотные, как новорожденные крокодильчики, соленые огурчики.
Никита, который (тогда) не любил читать, но (как и сейчас) любил вкусно пожрать, тоже подтягивался на кухню, набрасывался на деликатесы, сидел со слипающимися глазами в ожидании чая, надеясь, что к чаю у отца припасено нечто особенное.
Савва (сколько помнил его Никита) всегда ел и пил по-коммунистически (то есть исключительно по потребностям), духовно (а следовательно, и физически) пребывал «над» едой и питьем. Настроение у него не портилось, если он и Никита приходили куда-то, где, как представлялось, их ожидал хороший стол, а его не было, и не улучшалось, если приходили туда, где вообще не предполагалось никакого стола, а вдруг обнаруживался ломящийся лукуллов.
«Только уйдя за полста, – наливал Савве вино, себе водку, цеплял вилкой истекающего холодным скользким жиром угря отец, – я понял, что карьера, работа, семья – одним словом, весь круг общественных и прочих обязанностей – преходящ, я бы сказал, негативно-возвратно преходящ в смысле убывания отпущенного времени, то есть жизни. А кто есть вор времени и жизни по определению? – проглатывал водку, закусывал, смотрел на собственное отражение в темном оконном стекле. Должно быть, оно ему нравилось, потому что отец смотрел на него долго и внимательно. – Кто сказал, что все традиционное первично, а нетрадиционное вторично? – Мысль отца можно было уподобить знаменитому айсбергу, отдельные фрагменты которого всплывали на поверхность, основная же масса оставалась под водой. – Я понял, что есть жизнь, когда, в сущности, уже ее прожил. Что толку, – он переводил взгляд на так набившего рот, что ни вздохнуть, ни пошевелиться, Никиту, – тратить душевные силы и немалые деньги на детей, если растет в лучшем случае труба, превращающая продукты в дерьмо, в худшем… ничто? Что толку, – потрепал Никиту по лохматой двойной макушке, как бы давая понять, что он – не труба и не ничто, что к нему сказанное не относится, – рвать жилы на службе, делать карьеру, подсиживать редактора, если…» – не закончил, снова уставившись в ночное окно, словно там, как на компьютерном экране, были начертаны ответы на заданные вопросы, и эти ответы (в отличие от собственного отражения) крайне не понравились отцу.
«Если, – закончил Савва, – общественно-экономические формации конечны во времени и пространстве?»
«Как жизнь, – вздохнул отец. – Как думаешь, кто вор общественно-экономических формаций?»
«Как жизнь, – повторил Савва, – но не власть. Она бесконечна. Я думаю, дело не в том, кто вор общественно-экономических формаций. Да и можно ли считать это воровством? Вор крадет. Тут же речь идет о замене одного другим. Это может сделать только… Бог».
«Степень близости конца общественно-экономической формации, – посмотрел сквозь красное вино в бокале на лампу отец, – определяется степенью беспомощности и омерзительности власти внутри этой самой формации. Если бы тебе завтра предложили работать… в райкоме комсомола, ты бы пошел?»
«Пошел, – немало озадачил отца Савва, – поскольку общественно-экономическая формация вторична, а власть первична. Главное, не прозевать момент воровства, точнее, момент замены одного на другое, увидеть творящего историю Бога. Но оказавшиеся в данный момент наверху, – тоже навел на лампу бокал с красным вином, как перископ подводной лодки, – этого не понимают. Не понимают, что красный цвет бесконечен, сложен и многолик, как жизнь, как кровь. Не понимают, что, пока у них в руках волшебный кристалл власти, они могут заставить всех видеть вместо драного выцветшего кумача да хотя бы… вот это вино… Не понимают, что главное – не столько сама власть, сколько пластика бытия, а именно – контроль за моментом замены одного на другое. Суть и смысл власти в том, чтобы это не могло застать врасплох».
«Кристалл у них, – мрачно подтвердил отец, – но они не могут ничего!»
«Естественно, – рассмеялся Савва, – потому что ты решил отыграть в аут, остаться не у дел».
«Как бы они не упились этим вином, – словно не расслышал его отец, длинно отпил из своего бокала, вероятно, наглядно демонстрируя, как именно им можно упиться. – Время против пространства, – продолжил он. – СССР – это пространство. Но у него не осталось времени. Ничего не получится».
«Ты боишься, – сказал Савва, – потому что думаешь, что следом за СССР разрушится остальной мир. Он все равно разрушится. Но ты мог бы это отсрочить».
«Только когда пойму природу конца, природу смерти, – мрачно ответил отец. – То есть когда умру».
«Ты никогда не умрешь!» – вдруг с непонятной убежденностью произнес Савва.
«Как Ленин?» – усмехнулся отец.
«Почти, – ответил Савва, – только мавзолей у тебя будет больше и… светлее».
Никита вдруг обратил внимание, что белая, как снег или ангельские крылья, рубашка брата вся как бы в серебряных сдвоенных гороховых стручках. Неужели, подумал Никита, эта девушка хочет, чтобы следы ее губ оставались на всех его рубашках? Никите в ту пору уже было кое-что известно о любви, но он, убей бог, не понимал: почему неведомая, пользующаяся серебряной помадой девушка тесно покрывает поцелуями рубашку брата, словно это не просто белая рубашка, а… (тогда, правда, Никита про нее не ведал) знаменитая туринская плащаница?
Савва в косом свете лампы напоминал в этой рубашке зеркального карпа, заплывшего на огонек в кухню из ночной реки. Никиту удивляло, что ни брат, ни отец не обращают на полусере- бряную рубашку ни малейшего внимания.
«П-пят…на», – пробормотал он, проглотив огромный кусок консервированного омара и немедленно отправив в рот следующий.
«Какие пятна? Где?» – удивился Савва.
Отец строго уставился на Никиту, и тот понял, что отец не одобряет его расправу над омаром, но при этом тоже понятия не имеет, о каких пятнах идет речь.
Никита махнул рукой, единственно беспокоясь о том, чтобы не заснуть раньше, чем покончит с омаром, такой вдруг тяжелый, необоримый, всесокрушающий (потом он узнает, что по имени бога Пана его, как и ужас, называют «паническим») на него навалился сон.
«Зачем? Он не мешает», – тем не менее расслышал сквозь панический сон, словно сквозь положенную на голову подушку, голос старшего брата.
«Ты хочешь, – сказал отец, – чтобы я рассказал тебе, что будет, но вдруг не тебе надо рассказывать, а… ему?»
«Не рассказывай никому, – зевнул брат, – в принципе, это уже не имеет значения».
«А что, по-твоему, имеет значение?» – с непонятной строгостью поинтересовался отец.
«Что будет после, – ответил брат, – но ты ведь этого не знаешь».
«Меня в “после” уже не будет, – даже во сне Никита ощутил, как отцу в данный момент грустно, – Я исчезну в тот самый момент, как только пойму, что самое дорогое, что есть у меня в жизни – это… я сам! Что все, что у меня есть и, возможно, будет, я должен расходовать, тратить… исключительно на себя, использовать себе во благо, В общем-то, я уже это понял. Только вот… где я буду? Почему, когда я думаю об этом, мне становится так одиноко, как будто я последний из оставшихся в живых?».
«Мысль хорошая, – усмехнулся Савва, – но не новая. Обещаю: на меня ты больше не истратишь ни копейки. Только скажи, когда это случится, назови число, А я…»
«Попробуешь что-то предпринять? – перебил отец, – Поздно, Ты ничего не изменишь, только погубишь себя. Ты еще не готов. Еще не научился толком летать, а туда же – в воздушный Гольфстрим, Слишком рано. Знание точной даты не может повлиять на ход событий. Но если ты настаиваешь, пожалуйста: двадцать девятое августа. Самое печальное, – голос отца дрожал, как если бы он собирался расплакаться, – подобно зерну между жерновами, оказаться между “поздно” и “рано”».
«Прогреметь над изнывающей от жажды землей сухой грозой», – вздохнул Савва.
«Которую никто не заметит…» – лирически продолжил отец, «Если только молния не наделает бед. Ведь молния, в отличие от грозы, не может быть сухой», – завершил Савва.
…Но недолго в тот давний августовский день Никита и Савва стояли на камнях вместе, Никита засмотрелся на дельфиньи игры, а Савва тем временем непостижимым образом очутился на высоченной, нависающей над пенным морем, как кривой, грозящий морю каменный палец, скале.
Не иначе как Савву задул туда ветер, потому что без специального альпинистского снаряжения забраться (да к тому же так быстро) на скалу было невозможно, к тому же еще и с сумкой. Впрочем (теоретически), сумку можно было забросить на скалу.
Вот только зачем?
Едва только взглянув на эту скалу, Никита понял, что ему туда ни за что не залезть. Его, в отличие от Саввы, ветер не возносил вверх, а раскаленным крылатым молотом вколачивал в берег.
Помимо кривого, грозящего пенному морю пальца, скала напоминала еще и конус, причем острый его конец был уткнут в землю, а относительно плоское в клочьях мха основание, где в данный момент находился Савва, обращено к небу.
Никита не очень понимал, каким образом брат собирается спуститься вниз, и вообще можно ли самостоятельно спуститься со скалы и при этом не покалечиться?
Между тем дельфиньи игрища, за которыми, каждый со своей точки, наблюдали братья, приобретали странный характер. Построившись мусульманским полумесяцем, дельфины устремились к берегу, если, конечно, за таковой можно было считать кипящий в пене частокол скал, наводящий на мысли о кораблекрушениях и смерти, но никак не о счастливом спасении и, следовательно, жизни. Никита как будто слышал хруст разламываемых о скалы (деревянных) бортов, слышал визг и вой вскрываемых, как консервными ножами, (металлических) бортов, превращаемых скалами, как ножницами, в красные лохмотья тел.
Дельфины урезали и выгнули к центру оконечности полумесяца, отчего он сделался похожим на бумеранг.
Никита наконец понял смысл игрища (хотя, вероятно, данное определение было не вполне верным): дельфины (стая, общество) гнали в пенные челюсти скал на верную смерть дельфина (одиночку, индивидуума). Никита подумал, что так никогда и не узнает, в чем провинился бедолага, не обнаруживающий, впрочем, согласия с приговором, стремившийся изо всех своих дельфиньих сил избежать его.
А это было, учитывая, что и построившиеся бумерангом дельфины тоже ребята не промах, не так-то просто.
Когда, казалось бы, приговоренному деваться было некуда, когда очередная волна должна была поднять его вверх, а опустить (нанизать) на торчащие из пены каменные шипы (шампуры), тот, не желая быть тушей на безогненном этом барбекю (не иначе как прошел дрессировку в океанариуме), свечой взвился в небо, так что только белое восковое брюхо сверкнуло на солнце, как если бы солнце зажгло его, как свечу.
В следующее мгновение невообразимой силы порыв ветра сместил летучего дельфина в сторону скалы, где в данный момент находился Савва. Дельфин, вне всяких сомнений, упал бы на скалу, и смертный приговор, таким образом, был бы исполнен в еще более мучительном, нежели задумывалось, варианте, если бы Савва вдруг не бросился к краю скалы и, рискуя свалиться, что есть силы не толкнул застывшего на излете в воздухе дельфина. Видимо, Савва исключительно удачно (для дельфина) его толкнул, потому что следующий непредсказуемый – сильнейший, но на сей раз боковой – порыв ветра резко сдвинул блестящее плотное тело в сторону от острых скал. Дельфин, удачно подрулив в воздухе плоским хвостом, плюхнулся в море за спинами загонщиков.
Те мгновенно развернулись, но он уже торпедой несся в открытое море, где другие дельфины, конечно, могли его достать, но могли и не достать.
К примеру, он мог уйти через Босфор в Мраморное море, потом в Средиземное.
Одним словом, у ног (хвоста) дельфина лежал Мировой океан, который, как известно, занимает две трети пространства Земли, в то время как суша всего лишь треть.
«А может, – подал голос с нижней скалы Никита, – они хотели наказать его за дело?»
«Наверное, – не стал спорить Савва, – но кто знает, что это за дело?»
Никита с тревогой посмотрел на брата. Он был впервые в Крыму на море, и не было отдыха в его жизни лучше, только вот голова пухла от разных мыслей, потому что во всем, что говорил и делал старший брат, скрывалось нечто, выходящее за рамки произнесенных слов и сделанных дел. В видимом скрывалось невидимое, в неважном – важное, и не прочитавшему пока в своей жизни ни единой книги Никите постоянно приходилось умственно напрягаться, отслеживая это невидимое, важное. Его не оставляло ощущение охотника, преследующего неведомого, быть может, вылезшего из ледника или свалившегося с Луны зверя. В иные моменты Никите казалось, что уже не он преследует зверя, а зверь его. Мир переворачивался с ног на голову. Никита терял нить понимания сущего, утрачивал связь с реальностью. Неразработанный (хоть и отнюдь не девственный) разум его восставал против очевидной множественности миров. Никита привык, что есть один-единственный мир, где он как рыба в воде. Ему не хотелось быть в других мирах рыбой в лесу или зайцем в реке. Хотя, может статься, именно рыбы в тех местах пели в ветвях, а зайцы плавали по волнам.
Никита почти физически ощущал, как сдвигаются в голове свежие (в смысле, не оскверненные логическими и прочими рассуждениями) геологические пласты, скрежещут рождающие мысли механизмы.
Самым удивительным было то, что рожденные в геологических муках мысли объясняли далеко не все, тянули за собой вереницу других мыслей, объяснявших что-то совсем другое. Мысли росли подобно тем самым деревьям, на которых пели рыбы.
Деревья превращались в непролазную лесную рыбную консерваторию.
Никита бродил в ее шумящих, сорящих поющими рыбами, как осенними листьями, залах, не зная, где выход.
Иногда ему казалось, что из леса-консерватории вообще нет выхода. Точнее, есть, но он его никогда не найдет. Или – выход есть, но в другой мир, что еще хуже, чем если бы выхода не было вообще.
Никиту совершенно не прельщал выбор между отсутствием выхода и выходом неизвестно куда. Но он уже тогда неразработанным своим умом начал понимать, что, в сущности, это и есть единственно возможный для человека выбор в сошедшем с круга мире. Схождение мира с круга ощущалось одновременно во всем и ни в чем. Это был иррациональный, накапливающий невидимую силу процесс, как если бы Никита пил воду, но вдруг на очередном глотке понял, что это не вода и вообще он не пьет, а, допустим (как рыба в лесу), поет. Единственное же и последнее, что не дает ему окончательно пропасть, затеряться в мирах, – осознание, что он – это все еще он, Никита Русаков.
Никита понял, что смерть, о которой он прежде никогда не думал, есть не что иное, как исчезновение сущности «Никита Русаков», но, быть может, и освобождение от сущности «Никита Русаков», если конечно внутри (под-, над-?) этой сущности наличествует иная.
Если.
Никита подозревал, что отгадывать жгучую эту загадку ему (и не только) предстоит всю жизнь.
Чтобы так и не отгадать.
Брат учил его плавать, посылал на морские и сухопутные экскурсии, покупал мороженое, ставил на водные лыжи. С ними как-то не заладилось. Никита то позорно стартовал на дрожащих полусогнутых, теряя лыжи, вспарывая лицом воду; то стартовал вроде бы успешно, но тут же почему-то бросал держалку, и катер, гневно ревя мотором, уносился в море без него; то летел по воде.
как кладбищенская статуя Командора, боясь пошевелиться, хотя всем известно, что происходит с теми, кто каменеет на водных лыжах, – они теряют равновесие и падают.
Сам же Савва, как только наступал вечер, отправлялся на дискотеку, в кафе, в бар, а иногда – просто на набережную, где на каждых десяти метрах подавали в разлив шампанское, портвейн и мускат и откуда он каждый раз возвращался с новой девушкой.
Никита просыпался от плотной возни, сладких стонов на соседней кровати, лежал не дыша, навечно запечатлевая в памяти скульптурные сексуальные композиции.
Однако же вскоре Савве прискучил принцип «одна ночь – одна девушка», он начал приводить по две. А как-то, проснувшись среди ночи, Никита обнаружил, что в комнате три девушки, причем две были в работе (если данное определение здесь уместно), третья же «парующая» сидела в кресле и как-то слишком пристально смотрела на притворявшегося спящим Никиту.
Ощутив томительный позыв плоти, Никита вдруг подумал, что, пожалуй, и он бы мог… Но тут же ему стало страшно: такую могучую, перечеркивающую несерьезные его надежды тень наложил в лунном свете на стену высвободившийся из нежного трепещущего (чтобы тут же уйти в другое) ущелья(е) член Саввы. Никита понял, что это все равно что предложить изнывающим от жажды девушкам черпать воду стаканчиком, когда рядом (Савва) есть возможность черпать ведром. Девушки его просто засмеют, если он посмеет.
Он чуть не заплакал от огорчения.
Никите хотелось на практике овладеть наукой любви, а не плавать до одури брассом и кролем, не ходить почтительно по музею какого-то лохматого, широкомордого, как облепленная сеном лопата, Волошина, носившего просторную толстовку и пившего чай (а может, и не чай) из огромной синей в белых пятнах (она была в числе экспонатов) фарфоровой кружки, не позориться на проклятых водных лыжах.
«Привет, – вдруг услышал он тихий голос в самом своем ухе, но, быть может, и в сердце. Никита решил было, что в ухе плещется, живет своей жизнью, играет в слова задержавшаяся там после вечернего купания морская вода. Если же речь идет о сердце – то некая обобщенная мысль о близости полов. Единственно, непонятно было: почему она начинается со слова “привет”?
Но это была не вода и не обобщенная, начинающаяся со слова “привет” сердечная мысль о близости полов. – Меня зовут Цена».
С ним разговаривала сидевшая в кресле совершенно обнаженная девушка. Похоже, она уже не надеялась, что когда-нибудь подойдет ее очередь, так слаженно и самозабвенно занималось любовью трио на соседней кровати. В лунном свете девушка казалась ртутной или свинцовой, то есть из мягкого металла, лобок же, груди и голова как будто были из темного мрамора.
Никита вдруг почувствовал (хотя, может статься, это было ложное чувство), как пронзительно-одиноко и в то же время горестно-свободно в данный момент комбинированной (металло-мраморной) девушке. Хотя ему было трудно понять, на что, собственно, она надеялась, придя глухой ночью в номер к Савве с двумя другими девушками.
Чего-то он не понимал.
То есть, конечно, понимал, что то, чем они в его присутствии занимаются, – свальный грех, скотство. Не понимал же того, что было над этим скотством.
Что-то определенно было.
Никита допускал, что, возможно, девушки этого не знали. Но Савва точно знал.
Если не было ничего – жизнь представала, в сущности, не требующим размышлений бессмысленным и беспощадным способом существования белковых тел. Более того, Никите в ту ночь вдруг открылось, что человеческая жизнь триедина, что в ней существуют: «над», «под» и «в». Большинство людей, как, к примеру, сам Никита, – неизменно «в» и «под». Но есть и те, кому ведомы принципы работы механизмов, приводящих в движение жизнь, кто триедин, как сама жизнь, то есть одновременно «над», «под» и «в», как, к примеру, Савва.
Единственно, Никита не понимал устремлений (Савва – наглядный пример) этих людей, равно как и не представлял масштабов их силы и целей, которых они добиваются посредством этой силы. Никита подозревал, что цели эти не хороши и не плохи, в том смысле, что не имеет ни малейшего значения, как их оценивают люди «в» и «под».
«Разве есть такое имя?» – удивился Никита, как копьем, уткнувшись взглядом в мраморный в скульптурных завитках темный лобок. Улыбнувшись, девушка чуть раздвинула ноги, и Никита наконец увидел то, что мечтал увидеть вживую давно.
да все как-то не получалось. Увиденное сильно отличалось от того, что он прежде видел в порнографических журналах и на видеокассетах. То было – грех, а это – жизнь. Чем дольше Никита смотрел, тем меньше оставалось в его голове нечистых помыслов и скверных намерений. Восставшая юная плоть опала, как приземлившийся монгольфьер. Никите казалось, что он (точнее, не он, какой сейчас и каким, возможно, станет, когда вырастет, а, так сказать, обобщенный, «заархивированный») каким-то образом приблизился к (символическим) вратам, из которых вышло (и продолжало выходить) то, что называется человеческой цивилизацией. Он вдруг захотел, чтобы девушка немедленно ушла, пока неистовствующий Савва про нее не вспомнил, не востребовал ее на алтарь греха.
«Ты не представляешь, – ответила девушка, – сколько на свете разных имен. Например, Мера или Малина. Я думаю, – склонилась над Никитой, уронив ему на лицо сначала мягкие мраморные волосы, а затем – пружинные мраморные груди с вишневыми пуговицами сосков, – тебе лучше повернуться к стенке. Спи!»
«Ложись со мной. Цена, – предложил Никита, надеясь на невозможное. Монгольфьер плоти вновь рвался в небеса. – Места хватит и для тебя, и для Меры, и для… Малины».
«Для всех места не хватит никогда, – грустно ответила девушка. – В принципе, душа не шире двуспальной постели… Вот только, – вздохнула, – человек почти всегда спит один, даже… когда не спит один, как сейчас твой брат».
Никита так сильно задумался над ее словами, что мысли незаметно (как ручей в реку, а река в море) перетекли в сон. Сон же, как известно, имеет обыкновение бесследно растворять мысли либо оттачивать их до необьяснимой остроты, так что поутру человек либо ничего не помнит, либо – не знает, что делать. У Никиты во сне, видимо, случилось невозможное совмещение – растворившись, мысли отточились до необъяснимой остроты. Проснувшись, Никита одновременно ничего не помнил, не знал, что делать, проникал бритвенной мыслью в суть вещей.
У него закружилась голова.
Солнце светило вовсю.
Ни Саввы, ни девушек в номере не было. Номер был пуст и чист, как если бы ночная оргия приснилась Никите. Должно быть, они отправились на ночное (лунное) купание, которое незаметно перешло (перетекло, как мысли в сон) в утреннее (рассветное).
«Зачем тебе сразу три?» – спросил Никита у брата, когда наконец встретил его в столовой на обеде.
«Три? – удивился Савва. – Ты что, их было всего две!»
Наверное, подумал Никита, он забыл про третью со странным именем Цена. Какая-то его охватила светлая радость, что Цена осталась незадействованной в непотребном ночном действе.
«А две? Зачем тебе сразу две?» – Никита вспомнил, что душа должна быть не шире двуспальной постели. У Саввы она получалась многоспальной. Хотя, если судить по не уходящей из его глаз печали. Цена была права: Савва спал (да и бодрствовал) в одиночестве, даже когда не спал (не бодрствовал) в одиночестве.
«В это трудно поверить, – задумчиво проговорил Савва, – но некоторые на первый взгляд удивительные и необъяснимые вещи способны помешать произойти еще более удивительным и необъяснимым вещам. Видишь ли, – понизив голос, наклонился к самому уху (сердцу) Никиты, – сколько у меня будет девушек, столько дней будет существовать наше государство – сверхдержава под названием Союз Советских Социалистических Республик. Я, как атлант, держу страну своим х… Но все имеет свой предел, – почти весело закончил Савва. – В том числе и мощь моего х…!»
«Всегда есть что-то, что “над”»? – подумал, но получилось, что спросил Никита.
«Именно так, – внимательно посмотрел на него брат, – а над этим “над” другое “над”, и так бесконечно. Но это, – продолжил после паузы, – не избавляет, нет, не избавляет от страданий…»
«Каждая новая девушка идет за день? – уточнил Никита. – А я… могу тебе помочь? Купи мне ботинки на каблуках! Если я надену твою джинсовую рубашку, то…»
«Боюсь, тебе в этом не поучаствовать, – вздохнул Савва, – а если и поучаствовать, то не здесь и не сейчас. Возможно, позже. Куда спешить? Вся жизнь впереди! Пойду посплю, сегодня решающий день, точнее… ночь».
«Решающий? – удивился Никита. – Для кого?»
«Для Союза Советских Социалистических Республик! – как солдат в строю, отчеканил Савва. – Есть основания предполагать, что его время окончательно истекло».
…После ужина Савва обычно выдавал Никите рубль на молочный коктейль и пепси-колу, сам же направлял стопы в злачные и не очень злачные места, где можно было встретить девушек, готовых за деньги, за выпивку с угощением или просто так, ни за что (честно) разделить ложе с первым, вторым, а может, третьим или четвертым встречным.
В решающий для Союза Советских Социалистических Республик поздний багровозакатный день, а может, ранний густозвездный вечер Никита вышел из корпуса сразу вслед за Саввой и пошел за ним, аки сумеречный тать, благо брат не ожидал или не придавал значения возможному за собой наблюдению, а потому и не оглядывался. Слишком серьезное Савве предстояло дело, чтобы обращать внимание на подобную чепуху.
Это было невероятно, но пружинно маячившая впереди стройная атлетическая фигура Саввы как будто излучала вовне отвращение и ненависть, словно не юный красавец, умница и отличник, а… некий сосуд греха, вместилище порока, опасный подонок брел по улице, выслеживая жертву. И, в отличие от настоящего маньяка, таинственным образом оповещал мир о своих гнусных намерениях. Как если бы нес пылающую каинову печать на челе или – окровавленный топор в руке. Никита, когда подходил поближе, сам чувствовал, как… ненавидит брата, что было дико и необъяснимо, потому что если кого он в этой жизни и любил, так это именно и единственно брата.
Стоило только Савве заглянуть в затемненный с невнятной цветомузыкой подвальный бар под идиотским названием «Стоп», как все присутствующие мгновенно обернулись в его сторону, не скрывая злобы и презрения.
Савва спросил у бармена пива.
Бармен, ненавидяще белея во тьме глазами, ответил, что пива нет и не будет никогда.
Савва подсел было к одинокой, искурившей в ожидании клиентов не один десяток – пепельница была в окурках, как еж в колючках, – сигарет проститутке. К нему немедленно прямо из шумящего сортира вышел угрюмый, маленький и толстый, как бочонок, армянин: «Она занята!» Никиту удивило (хотя уже не удивило), что и лунно- (в смысле венозно-) ляжечная, определенно разменявшая «сороковку», проститутка брезгливо отвернула накрашенную рыбью морду от молодого и красивого Саввы, обняла студенистой белой рукой армянина за практически отсутствующую, как колючей проволокой утыканную жестким черным волосом, шею.
и ведь не боится наколоть ручонку, подумал тревожно вставший в дверях Никита.
Два устроившихся в углу с принесенным портвейном при- блатненных типа вдруг, как зомби, поднялись из-за своего столика, решительно направились к Савве. Одного Савва, не вступая в ненужные разговоры, встретил прямым в челюсть, другой, однако, успел дать Савве ногой в яйца, прежде чем Никита с грохотом толкнул ему под ноги паукообразный железный стул, который неожиданно, как якорь на дне морском, вмертвую зафиксировался между двумя другими железными пауками, так что у атакующего приблатненного вышла заминка, и Савва с Никитой успели покинуть негостеприимный бар с диким названием «Стоп», радуясь, что «Стоп» выпало противникам, а не им.
«Все против меня», – пробормотал на улице Савва, без малейшего стеснения (чего стесняться при таком отношении со стороны окружающих?) потирая ушибленное место.
«Против тебя?» – удивился Никита.
«Против нас: меня и Союза Советских Социалистических Республик», – уточнил Савва.
«Почему?» – Никита из последних сил преодолевал антипатию к брату. Лживым, жадным и подлым почему-то казался ему Савва. Какая-то совсем идиотская мысль посетила Никиту: а не душит ли он случаем, не закапывает после того, как натешится, несчастных девушек? И еще почему-то ему вдруг смертельно захотелось в Турцию, которая была рядом – через море, однако попасть куда вот так сразу (по желанию) было совершенно невозможно по причине все еще висящего над страной «железного занавеса».
Никита отчетливо, как если бы шел к этому всю свою короткую жизнь, понял: нет страны хуже, чем СССР, и, следовательно, нет человека хуже, чем брат, который пытается продлить существование СССР. Все это было тем более странно, что лично Никита (исключая невозможность предпринять немедленное путешествие в Турцию прямо из Крыма) от СССР ничего плохого не видел. Стало быть, дело было не в Никите. Нечто более существенное, так сказать, судьбоопределяющее и предопределяющее правило бал.
«Еще один такой удар, – Савва шагал, широко расставляя ноги, как будто только что соскочил с лихого скакуна, – и нашей державе п…ц».
«Почему?» – тупо повторил Никита.
«Видишь ли, брат, – перевел дыхание Савва, – в данный момент народ дико ненавидит свою Родину. Причем ненавидит как ее форму, так и содержание, то есть ненавидит законченно и отъявленно. Подобную ненависть можно сравнить с двухактной пьесой. Сначала истребляется форма. Ну, а потом – неотвратимо – оставшееся без формы содержание. Содержание без формы – все равно что человек без… яиц. В принципе, его можно и не истреблять – он и так бесплоден. В каком виде в данный исторический период существует наша Родина? – спросил Савва и сам же ответил: – По форме – СССР, по содержанию – Россия».
«Чего тебе до этого сраного СССР? – наконец-то сумел сформулировать Никита давно мучивший его вопрос. – Чего ты… ссышь против ветра?»
«В общем-то, ничего, – неожиданно спокойно ответил Савва, и Никита почувствовал, что переполняющая его ненависть, как перегороженная плотиной река, целиком уходит в один канал – СССР, оставляя другой – Савву – сухим и чистым. – За исключением того, что СССР, он же Россия, – моя Родина, а Родину, какой бы несовершенной она ни казалась, ненавидеть и предавать нельзя, потому что она от Бога. Более того, – понизил голос, посмотрел по сторонам, словно их могли подслушать, Савва, – иногда мне кажется, что Бог – это и есть Родина, хотя, конечно, далеко и не только одна лишь Родина. Полагаю, что именно любовь к Родине есть та универсальная линейка, которой Бог измеряет явившиеся к нему души, так как в остальном – уме, талантах, росте, красоте и так далее – люди от рождения не равны. Что же касается ссанья против ветра, то это делать необходимо. Так же, – добавил после паузы, – как и плавать по морям… Это понимали еще древние римляне».
Но не из СССР в Турцию из Крыма, подумал Никита.
И еще почему-то подумал, что, быть может, брат имеет в виду моря… мочи?
«Даже если Родина… плохая?» – поинтересовался он.
«К тому же, – словно не расслышал его Савва, – то, что рождается, точнее, возникает в результате предательства, – много, много хуже того, что было раньше. Новая же Родина в результате предательства, – внимательно посмотрел на Никиту, – не возникает никогда, то есть по определению. Видишь ли, брат, предательство сродни в лучшем случае аборту, в худшем – убийству.
Его первичные следствия – бесплодие и страх за содеянное. Вторичные – очередные – в стиле non-stop – предательства. И так до тех пор, пока что-то не положит этому конец».
«“Стоп”-бар», – неизвестно зачем сказал Никита.
«“Стоп”-бар? – удивился Савва. – Может быть, если вырубить там музыку и всех расстрелять».
Проходящие мимо девушки шарахнулись от них, как от прокаженных, как от… выскочивших из «Стоп»-бара предателей – подпольных абортмахеров и убийц. Хотя, если (насчет народа) верить Савве, девушки сами были (потенциальными?) non-stop предательницами. Интересно, как они… насчет абортов? – подумал Никита.
Одна с полненькими, гладенькими, как шампиньоны, ножками в мини-юбочке вдруг свистнула им в спину.
Никита и Савва обернулись.
«Я лучше сдохну, чем дам тебе, позорная козлина!» – крикнула, сделав неприличный жест в сторону Саввы, девушка, хотя ни словом, ни взглядом тот ее об этом и не просил. Но девушка таинственным образом была в курсе их – Саввы и СССР – проблем.
«А мне?» – Никите стало обидно за брата.
«А у тебя еще… не вырос, урод!» – шампиньононогая девушка определенно за словом в карман не лезла. А если и лезла, то в нехороший, замусоренный карман, откуда извлекала не менее гадкое слово. И вообще, какая-то она была слишком белая, как будто солнце ее… не брало. Она давала, а оно не брало. Может, потому и злая, подумал Никита.
«Неужели, – с тоской посмотрел на вечернюю набережную, где уже зажглись огни, Савва, – мне придется сесть за изнасилование?»
«Почему народ ненавидит СССР? – Никита подумал, что если что-то нельзя объяснить просто и внятно, то (хотя бы ради упрощения собственного существования) это следует воспринимать как данность, как звездное небо или земное притяжение. Иначе можно сойти с ума. – Просто так никто ничего не ненавидит, – рассудительно заметил он. – Разве только…» – прикусил язык, потому что в данный момент народ без малейших на то оснований люто ненавидел Савву.
«Потому что народ – сволочь! – ответил Савва. – Потому что его, как вонючая пена кипящую кастрюлю, переполняют низменные инстинкты. В сущности, он стремится к самоуничтожению. Народ, – посмотрел по сторонам Савва, как бы намереваясь найти немедленное подтверждение своим словам, – всегда, тотально и во всем неправ! Власть на то и власть, чтобы не дать ему реализовать свое право на неправоту, которое он, подлец, маскирует сначала под стремление к демократии, а после того как наиграется – под тоску по твердой руке. Как только власть про это забывает, она превращается в ничто! СССР гибнет не потому, что народ его ненавидит, а потому, что власть не мешает народу его ненавидеть. Ненавидит же народ его потому, что хочет, чтобы СССР погиб, а он остался. Но так не бывает. Нельзя, находясь в доме, его взрывать – завалит обломками. Но народ этого не понимает. Власть же пытается отделить себя от СССР, а этого делать ни в коем случае нельзя! Не может мозг, сердце или… печень существовать отдельно от тела. То есть, конечно, может, но лишь как материал для трансплантации. А что происходит с органами, которые некуда трансплантировать? Их выбрасывают на помойку! Иуды, они не понимают, что вне тела – народа – для них жизни нет! Получается классическая змея, кусающая собственный хвост, спираль разрушения посредством предательства. Она как будто закодирована в самом названии СССР, – задумчиво произнес Савва. – Три разомкнутые полости, а в конце – сомкнутая, глухая. Не разорвать. Но разорвать необходимо», – добавил после гробовой паузы.
«Чтобы получилось СССС?» – спросил Никита.
«Союз Советских Социалистических… Сволочей? – предположил Савва. – Или… Снов? Хотя где Снов, там и Сов».
Набережная между тем уже сияла поблизости сквозь кипарисы и пальмы. Вдруг светлая ультразвуковая тень с желтыми вкраплениями скользнула над самой головой Никиты, обдав его озоном. То была… сова, держащая курс на дендрарий. Никита подумал, что Союз Советских Социалистических Снов и Союз Советских Социалистических Сов имеют равные права на существование.
С общественными туалетами в Ялте тогда (как, вероятно, и сейчас) была напряженка. По-над столиками открытых кафе висели цветные лампочные гирлянды, туалетов же не было и в помине. Время от времени из-за столиков выскальзывали девушки, неглубоко углублялись в парк, присаживались под деревьями, оперативно справляя малую нужду. Девушки по вечерам любили ходить в белом и приседали они под деревьями, как диковинные журчащие цветы.
Зачарованный, Никита забыл про народ, брата, СССР, сны и сову.
По размеченной редкими огоньками канатной дороге ползли темные кабинки. Казалось, наверху они присоединяются к черному небу, а огоньки – к звездам. Никита вдруг вспомнил виденную на экскурсии в Воронцовском дворце гравюру, изображавшую первых христиан, отважно выходящих на арену римского цирка к голодным диким зверям. Он подумал, что, по всей видимости, на сверкающей, пенящейся шампанским, утопающей в аттракционах набережной их с Саввой встретят не лучше.
Нечего и думать было подцепить кого-нибудь здесь, равно как и в дискотеке «Зевс», где таинственным образом распространявшаяся на Савву ненависть к СССР хоть и смягчалась (смазывалась) кошмарной музыкой, тем не менее имела высокие шансы материализоваться. Прямо на глазах Никиты и Саввы кавказского обличья человека, как моллюска, отлепили от девушки, да и от души отметелили в углу ногами, после чего тот на четвереньках выполз вон.
Решив, что Никита ему мешает, а может, не желая травмировать брата сценой изнасилования (другой возможности продлить существование СССР, похоже, не оставалось), Савва взялся проводить его до Дома творчества.
Двинулись темными пляжами вдоль вкрадчиво лижущего песок моря. Лунный, отражающийся от воды свет превращал все вокруг в серебро. Черное, расплавленное, ночное, оно вливалось в глотку приговоренного СССР.
Тут-то из решетчатого монолита поставленных на попа шезлонгов и лежаков и прошелестело: «Я знаю, чего ты хочешь, сынок, иди сюда, не пожалеешь!»
«Лучше ты выбирайся», – упавшим голосом произнес Савва: настолько, мягко выражаясь, не юн и не свеж был голосок, настолько очевидно было, что ничего мало-мальски пристойного из решетчатого монолита поставленных на попа шезлонгов и лежаков появиться не сможет.
Действительность, однако, превзошла самые страшные ожидания.
Худая и плоская (как лежак) старуха со свисающими на манер живых змей седыми космами была, по всей видимости.
ровесницей СССР, но может, и старше. К тому же вся она была в сырых язвах, которые блестели сквозь ветхое рубище, как рубины (Кремлевские звезды?) в смешении лунного серебра и буксирно-прожекторного золота.
Никита вцепился брату в рукав.
СССР не заслуживал такой жертвы.
Ничто на свете не заслуживало такой жертвы.
Но по бледному лицу, сжатым в ниточку губам Саввы понял, что тот принял решение.
И было то решение в пользу СССР.
«Деньги вперед, – мрачно потребовала старуха, приводя в горизонтальное положения лежак, – знаю я вас, молодых, быстроногих».
«Сколько?» – достал из кармана бумажник Савва.
«Сто, – усмехнулась старуха. – Сегодня ты все равно больше никого не найдешь, сынок».
«Почему?» – поинтересовался Савва, отсчитывая сиреневые, с бледным, как голодный вампир, Лениным, двадцатипятирублевки.
«Потому что нет способа вернее снискать нерасположение судьбы, нежели истово, а может, неистово служить обреченному делу, – объяснила старуха. – Как, впрочем, – вдруг растворилась в лежаках и шезлонгах, но тут же вновь материализовалась с растрепанной книжкой в руках, – нет и способа вернее снискать ее стопроцентное расположение. Вот только…» – замолчала, задрав жуткую голову к небу.
Никите показалось, что она сейчас завоет, как волчица. Но она молчала, поэтому Никита тоже посмотрел в небо. Черное и прозрачное, оно как будто летело вниз – в серебряный тигель, роняя, как слезы, звезды. Никита вспомнил, что вторая половина августа – самый звездопад. И еще подумал, что звезд падает больше, чем желаний, которые он (даже чисто теоретически) может загадать. Тем не менее все же загадал единственное, поймав взглядом рой разнотраекторно, но однонаправленно – вниз – падающих звезд.
«Вот только, – повторила, опустив голову, старуха, – это будет расположение за вычетом счастья, сынок. Потому что невозможно быть счастливым в жизни, которую хочешь переделать, то есть в жизни, в которую не веришь».
«Что же тогда остается?» – глухо спросил Савва.
«Пустота, – ответила она, – внутри которой есть все за вычетом… жизни».
«Ты полагаешь, что воля – это пустота?» – удивился Савва.
«Воля – парус, – сказала старуха, – но ты ведь не станешь отрицать, что главное – ветер, который наполняет парус».
«А еще главнее то, что насылает ветер», – уточнил Савва.
«Вот только этот ветер, – глаза старухи вдруг блеснули в темноте, как падающие звезды, – всегда уносит, выдувает счастье. Ты бы отступил, сынок, – вдруг с материнской какой-то тоской произнесла она, – у тебя еще может получиться нормальная жизнь. Не стоял бы ты на этом ветру».
«А может, – неестественно рассмеялся Савва, – жизни нет? А только один ветер?»
«Жизнь есть, – возразила старуха, – но ее надо долго и трудно искать. Она как… невидимый родник под камнем».
«И ты нашла?» – спросил Савва.
«Нашла, – подтвердила старуха, – хоть это и не та жизнь, какую я искала. Но зато я… никому не мешаю».
«Видимо, тебе попался не самый чистый родник. Эти язвы…» – расстегнул на брюках ремень Савва.
«Может, и сифилис, сынок, – не стала отпираться старуха. – Последний раз я была у врача лет пятнадцать назад. Здесь недалеко – на улице Шевченко – ночной профилактический пункт. Они сделают все что надо. Если там будет очередь, вот почитаешь», – протянула Савве книжку. После чего опустилась на лежак, раздвинув напоминающие сухие сучья ноги и скрестив на (отсутствующей) груди напоминающие опять же сухие, но потоньше, сучья руки.
Никита закрыл глаза.
Меньше всего на свете ему хотелось это видеть. Но удержать глаза в закрытом состоянии было трудно. Никита перевел их в небо. Глазам сделалось больно, как если бы в них вонзились звезды.
В следующее мгновение Никита услышал глухой удар и – после гробовой паузы – голос Саввы: «Боже мой, это же… метеорит».
«Где?» – на всякий случай отбежал подальше от лежака Никита.
«Он убил ее, – сказал Савва. – Ее убил метеорит! Финиш. Конечно, теоретически… еще можно… Но… вероятно, мертвая не в счет?»
Никиту охватил ужас.
Лунный свет, звездное небо, серебряное море, лежак, на котором распласталась старуха с похабно задранным рубищем и с разбитой головой, шипящий в мгновенно натекшей из головы черной лужице метеорит, удивительно напоминающий по форме сжатый кулак, растерянно топчущийся над лежаком с приспущенными штанами Савва – все это было из какого-то другого жуткого мира, где Никите решительно нечего было делать.
Мира убивающего ветра.
…Он побежал по мокрому песку в сторону отбрасывающего резкую тень пляжного пивного павильона, как если бы именно эта тень была границей миров, как если бы именно там невидимый серебряный ветер уже не мог достать его сжатым кулаком-метеоритом.
«Стоять! Руки за голову, сука! Пошевелишься – пристрелю!» – услышал укрывшийся в спасительной тени Никита голос из только что оставленного жуткого мира. Миры, как выяснилось, оказались звукопроницаемыми.
Старуха по-прежнему (иначе она при всем желании не могла) лежала в скверной позе и еще более скверном (мертвом) виде на лежаке. Перед лежаком стоял, сцепив руки за головой, Савва в приспущенных штанах и (это было самое удивительное) натянувшим плавки членом. За Саввой – как-то странно, как вворачиваемый в песок кривой шуруп, раскачивался милиционер в большой фуражке и с пистолетом в руке.
Похоже, невидимая отвертка никак не могла приладиться к фуражке.
Он был совершенно один, и он был очень сильно пьян.
Савва не мог видеть, что он один. Но не мог не чувствовать, что он пьян, такой непобедимый (победительный) запах дешевого алкоголя стелился, оскорбляя ночное воздушное серебро.
Савва резко с одновременным выносом распрямленной ноги шагнул (как фламинго, если допустить, что фламинго занимается подобными вещами) назад, и милиционер скрючился, словно по шляпке кривого шурупа, разочаровавшись в возможностях отвертки, долбанули сбоку молотком. Крутнувшись на месте (уже не как фламинго, а… как местоблюститель пустыни варан?), Савва рубанул ладонью милиционера по шее, и тот зарылся носом в песок.
Никита бросился к брату. Почему-то ему показалось, что Савва сейчас добьет милиционера, и жизнь (во всяком случае, как ее понимал Никита) закончится.
«Где ты был?» – Савва уже успел застегнуть брюки и в данный момент с интересом разглядывал пистолет, в дуло которого хоть и забился песок, но в остальном, надо полагать, он был совершенно исправен.
«Не прикасайся к нему!» – вцепился в Савву Никита.
«К кому?» – удивился Савва.
Никита хотел сказать: к милиционеру, потом – к пистолету, но вдали послышались мужской и женский голоса. Мужской был глух, тороплив и неразборчив, а вот женский весел и звенел как колокольчик. Мужчина на чем-то (известно на чем) настаивал, женщина – в принципе не возражала, однако сначала ей хотелось искупаться в море. Из чего явствовало, что море пока (в отличие от мужчин) ей еще не надоело.
Никите не понравилось ни (подонческое) выражение лица брата, ни то, как проворно (как сом под корягу, как тать за угол) он скользнул в тень. Женщина между тем успела сорвать с себя одежду и уже шла в серебряную воду. У Никиты аж захватило дух, до того узка была ее талия и до того широка она была в бедрах. Нетерпение мужчины сделалось ему понятным. Афродита, как известно, вышла из пены морской, но (вполне вероятно) могла вот так же уходить в ночное море.
Вот только убитую метеоритом старуху, запоздало (и никчемно) подумал Никита, ночное серебро преобразить (оживить?) бессильно.
Дядя прыгал на песке, запутавшись ногой в штанине, как (недавно) Савва, обнаруживая антенно взметнувшийся в плавках член.
Впрочем, в дядином случае это было более объяснимо, нежели в случае Саввы. А может, менее, потому что Савва спасал Союз Советских Социалистических Республик, а дядя всего-навсего готовился ублажить собственную плоть.
«Не вздумай! Тебя посадят! Как я один вернусь домой?» – зашипел Никита. У него не было сомнений: брат собирается огреть прыгающего по песку дядю пистолетом по голове, нагнать женщину да и изнасиловать ее (с вероятным утоплением) прямо в море.
Савва, наверное, так бы и сделал, предварительно «вырубив» Никиту, но, на счастье Никиты, прямо на пляж, светя фарами, лихо вкатились побитые «Жигули», из которых высыпалось не меньше десяти нетрезвых и практически раздетых любителей ночного купания разного пола.
«Пошли! Они здесь все затопчут, нас не найдут!» – потащил брата в сторону выхода с пляжа Никита.
Тут и милиционер начал подавать признаки жизни. Он прохрипел: «Ох, б…», уселся на песке. Удержаться, впрочем, ему не удалось. Видимо, единственно возможным для него в данный момент положением было горизонтальное.
«Таге the well and if forever, still forever fare the well… – произнес Савва уже на асфальте среди кипарисов, магнолий и жимолости. – USSR…» – лицо его было в слезах.
«Что случилось? Кто тебя обидел? – прямо из тьмы, из кипарисов, магнолий и жимолости, видимо, только что справив малую нужду, шагнула к едва успевшему сунуть пистолет за пояс и прикрыть его рубашкой Савве девушка в белой футболке и белых же шортах. У нее были зеленые, широко расставленные глаза и вспотевший лобик под челкой. Девушка поддувала под челку, смешно выставляя вперед нижнюю губу. – Утешься, – погладила Савву по голове, – на моей груди, хотя, конечно, – весело подмигнула Никите, – не сказать что она у меня очень большая».
Никита взглянул на часы. Обычно, ему никогда не удавалось застать этот момент, но тут прямо на его глазах число «18», щелкнув, сменилось на «19». Было семь минут первого. Почему-то цифры задерживались с прыжком.
«Поздно», – ласково погладил девушку по (не такой, впрочем, и маленькой, отметил приметливый Никита) груди Савва.
«Поздно?» – удивилась девушка.
«Я имею в виду, эпоха кончилась», – пояснил Савва.
«А по мне, так эпоха только начинается», – удивленно посмотрела на него девушка.
«Иди домой», – сказал Савва Никите.
«Надеешься на чудо?» – Никита смотрел в зеленые, широко расставленные глаза девушки, и ему казалось, что он смотрит в пронизанную солнцем морскую воду. Странным образом пронизанная солнцем морская вода воинственно наличествовала, а может, воинственно же бытийствовала внутри ночного серебра. Расширяясь, глаза девушки вбирали в себя мир, не подчиняясь порядку естественного (в зависимости от времени суток) цветоделения, притом что сами были миром, где воинственно наличествовали, а может, не менее воинственно бытийствовали: море, солнце, загар, гибкие, тренированные мышцы, дельфины, раскаленный белый песок, горячие длинные ноги, тугие груди, загребугцие (до чужого тела) руки и так далее, то есть миром, где удельный вес радости был неприлично высок, как только и может быть в молодости.
Никита вдруг подумал, что в глазах девушки – рай.
Он хоть сейчас был готов в этот рай, но понимал, что пока ему туда хода нет. С одной стороны – не дорос. С другой – еще жив, то есть пока не умер. Ощущение некой истины скользнуло вдоль его сознания, как матовый, задавленный, но прорвавшийся сквозь облака солнечный луч. Никита вдруг понял, что имела в виду сифилитичная старуха, говоря о жизни.
Девушка смотрела на Савву и не замечала Никиту.
Савва смотрел на девушку, но (Никита был готов поклясться) не замечал сквозящего из ее глаз рая.
Никита вдруг (внутренним каким-то зрением) увидел, как сквозящий из глаз девушки рай перестает существовать, умножаясь на сквозящую из глаз Саввы бездну. Никита понял, что бессилен объяснить девушке разницу между бездной и невыразимой тайной мироздания. Девушка определенно собиралась принять за тайну мироздания бездну, ничто.
Чтобы в конечном итоге самой превратиться в ничто.
Странные эти мысли пронеслись в голове Никиты, как вихрь, и унеслись, будто их и не было. Никита подумал, что кто-то взял его голову напрокат.
«Как тебя зовут?» – спросил, глотая слезы, Никита, готовясь опустить руки в карманы, двинуться в кромешную тьму, насвистывая веселую (непременно веселую, чтобы не разрыдаться в голос от обиды на жизнь и на брата) мелодию.
«Меня зовут Мера», – не стала скрытничать девушка.
«Библейское имечко», – заметил Савва.
«Сдается мне, – пожала плечами девушка, – все имена в этом мире библейские, кроме, конечно, буддистских и индуистских».
«Все мое, – похлопал себя по карманам Савва, – сегодня твое. Мера».
Он не обращал ни малейшего внимания на Никиту, как будто тот ушел.
Никита подумал, что недавний Савва, спасавший СССР, был лучше нынешнего Саввы… спасающего… что?
Он развернулся, опустил руки в карманы, двинулся в сторону Дома творчества журналистов, насвистывая веселую мелодию.
…Савва по-прежнему стоял на скале, глядя вслед уплывшим дельфинам.
Некоторое время на поверхности моря держался пенный след, но волны быстро (как жизнь) разгладили эту аномалию. Голубая рубашка держалась на нем на последней пуговице. Никите хотелось, чтобы брат застегнул рубашку, но он понимал, что в данный момент Савву меньше всего волнует судьба рубашки – унесет ее ветер или нет. Еще ему хотелось спросить, как там у него получилось вчера с Мерой, но опять-таки у Никиты не было уверенности, что то, что вчера получилось (или нет) у него с Мерой, волнует Савву сильнее рубашки.
Получалось, что Савва делал в этом мире все что хотел. Хотел – спасал СССР. Хотел – спал с Мерой. Хотел – стоял с непонятной целью на скале.
Получалось, что Никита не мог в этом мире ничего, за исключением того, что позволял ему (кстати, совершенно о нем при этом не думая) Савва. Никита как бы пребывал внутри некоего круга, вокруг которого Савва очертил собственный круг. Круг Саввы был все, в то время как круг Никиты – ничто. В данный момент Никите было назначено стоять под скалой и ждать, когда Савва соизволит спуститься.
Никиту решительно не устраивало подобное положение вещей.
Ему хотелось прорваться сквозь оба круга, уйти куда глаза глядят.
Но куда он мог уйти, за исключением… Дома творчества, где было решительно нечего делать?
«Эй, держи! – к ногам Никиты вдруг упал бумажник Саввы. – Тут хватит на билеты и на… В общем, на все… я имею в виду, до дома хватит».
«А ты?» – Никита испуганно подумал, что да, конечно, он хотел самостоятельности, но… не такой всеобъемлющей и окончательной. Он читает мои мысли, подумал Никита.
«А я, пожалуй, отлучусь», – усмехнулся Савва.
«Куда? – спросил Никита. – Куда ты собираешься отлучиться с этой скалы и… без денег?»
«Есть одно местечко, – весело подмигнул ему Савва, – откуда письма идут слишком долго, куда, как в Киев, ведут все дороги. Мне случайно выпал билетик на экспресс, чтобы, значит, с комфортом и без ненужных остановок на малозначащих станциях…» – вытащил из сумки пистолет.
Никита хотел закричать, но ветер горячей ладонью затолкнул крик обратно в глотку.
«Где-то я читал, – задумчиво произнес Савва, – что в пользу выстрела в сердце свидетельствуют малое количество крови, аккуратная чистая рана, против – испытываемая боль и ужас, поскольку мозг успевает зафиксировать и отчасти даже осмыслить случившееся. Если же стреляться в висок, то тут «за» – мгновенное и безвозвратное выключение, а «против» – развороченная башка и разбрызганные повсюду мозги. Но это, так сказать, – зачем-то понюхал черное дуло, – относительное «против», тем более, – сладко (как по завершении любви с Мерой, успел ревниво подумать Никита) потянулся на горячем ветру, – когда дело происходит на открытом воздухе. Видимо, тот, кто стреляется в сердце, – внимательно посмотрел на Никиту, словно впервые его увидел, – больше думает о том, что оставляет, в то время как тот, кто стреляется в висок, – о том, что приобретает. Если, конечно, что-то приобретает…» – Савва поднес пистолет к виску, но тут же и опустил.
Ветер наконец расстегнул последнюю пуговицу, и теперь Савве достаточно было всего лишь поднять руки вверх, чтобы рубашка улетела в небо.
«Застегнись, – попросил Никита, – ты сам меня учил, что человек в любых обстоятельствах должен выглядеть прилично».
«Что? А… Да-да, – Савва машинально застегнул пару пуговиц, ветер, однако, одну сразу расстегнул. – Боюсь, мне не удастся выглядеть прилично. Жаль, что самые интересные мысли приходят поздно, – теперь он смотрел в черное дуло, как в калейдоскоп или прицел. Неужели хочет… в глаз? – ужаснулся Никита. – Выстрел в висок, – продолжил Савва, – мгновенно прекращает так называемую высшую нервную деятельность, вырубает все пять чувств. Следовательно, все эти разговоры, что человек что-то там наблюдает сверху, – полная галиматья. Как можно что-то видеть или слышать, если фрагменты мозга, ответственные за слух и зрение, разбрызганы, – посмотрел по сторонам, – по мху и камням? То есть, конечно, что-то, вероятно, можно видеть и слышать, но только не то, что ты видел и слышал, будучи человеком. И, вероятно, не видеть и не слышать, а… – развел руками, – не могу объяснить, потому что еще не испытал. Но я… попытаюсь… когда-нибудь. Так, братишка?»
«Спускайся, – сказал Никита. – Если ты не спустишься, я…»
«Что ты?» – неожиданно заинтересовался Савва.
«Я… сделаю то же самое, – спокойно, как о решенном деле, заявил Никита. – Я… не останусь здесь… один».
«Тогда, братишка, – засмеялся Савва, – придется сделать так, чтобы эта штука к тебе не попала, – подошел к самому краю скалы. – Боже, – посмотрел вдаль, где море, небо и солнце сливались воедино. – Как прекрасен мир. Точнее, как он иногда может быть прекрасен…» – один за одним выщелкнул из обоймы патроны. Остроносые, они падали вниз, сверкая на солнце, как если бы скала плакала литыми слезами.
«Как глаза Меры», – заметил снизу Никита.
«Меры? – удивился Савва. – Кто такая Мера? По-моему, так звали последнюю подругу Александра Македонского».
Приставил дуло к виску.
«Нет!» – завопил Никита, зажмуриваясь.
«Да здравствует СССР!» – дурным голосом завопил в ответ Савва.
Впрочем, открыв глаза, Никита понял, что громоподобное «Да здравствует СССР!» прозвучало не из уст Саввы, а из дула пистолета.
Он увидел, как разлетается в клочья голова брата, как из нее ударяет струя малиновой крови, как тело Саввы под нелепым каким-то острейшим углом валится со скалы вниз – на острые камни и белую пену.
Но, может, он этого и не видел, потому что невозможно видеть сразу два действия – собственно действие и противодействие – это все равно что видеть одновременно два фильма – собственно фильм и его же, но не с начала, а с конца – на одном экране.
И тем не менее Никита видел.
Причем противодействие определенно пересиливало собственно действие.
Поверх падающего со скалы Саввы, ударившего из его головы, подобно игристому «Абрау-Дюрсо» (брат частенько угощался им на набережной и, случалось, угощал Никиту), малинового фонтанчика крови, Никита увидел как бы сотканного из мельчайших бело-(пенно-)зеленых (водяных) точек, мозаичного (если допустить, что мозаика может выкладываться прямо по воздуху) дельфина, взвившегося над поверхностью моря в тот самый момент, когда Савва поднес пистолет к виску. Каким-то образом Никита понял, что это тот самый дельфин, которого недавно Савва так удачно вернул в море, Дельфин летел, руля в воздухе хвостом, точно на скалу, точнее – под сжимавшую пистолет руку Саввы. В тот самый момент, как раздался выстрел, который Никита принял за громовой вопль брата «Да здравствует СССР!», нос дельфина прошел, отделяя руку Саввы от пистолета, распрямляя змейку обхватившего спусковой крючок пальца, то есть намеренно прерывая линию смерти.
Но выстрел был.
Пистолет, обретший от выстрела ускорение, упал к ногам Никиты.
Савва отлетел на противоположный конец скалы.
Дельфин, спружинив хвостом о скалу, ушел по длинному эллипсу обратно в море.
Никите только оставалось гадать, насколько удачным оказалось (слишком уж близко торчали скалы) приводнение (теперь он не сомневался) брата по разуму.
«Будь так любезен, брось мне пистолет», – вдруг совершенно буднично, как если бы они сидели в столовой Дома творчества и Савва просил у него соль или перец, произнес брат.
Никита вдруг почувствовал, что больше всего на свете в данный момент ему хочется… бросить пистолет брату.
Ему сделалось страшно, как если бы его сущность была изгнана из тела, и сейчас, бессильно трепыхаясь, наблюдала, как телом распоряжается какая-то другая – чужая – сущность. Он вдруг понял, что смерть – дар Божий, и что за невозможным горем утраты близкого человека таится… невозможное облегчение от… утраты близкого человека. Невероятным усилием воли Никита заставил себя бросить пистолет не на скалу, а в море. Пистолет мгновенно ушел на дно, как будто и не было никакого пистолета.
«Ты даже не представляешь, какую только что совершил ошибку», – Савва как подкошенный упал лицом вниз.
Ломая ногти о камни, Никита, сам не понимая как, вскарабкался на скалу, перевернул брата на спину. Он боялся смотреть на его голову, но… не было в ней дыры. Цела была голова брата, и на скале не было крови. Только на виске у Саввы белел клок пены. Никита вознамерился стереть ее рукавом, но выяснилось.
что это не пена, а… седая, точнее серебряная, прядь, какой раньше на голове брата совершенно точно не было. Впрочем, то была мелочь в сравнении с тем, что Савва подавал признаки жизни. Более того, Никита был вынужден признать, что с косой седой прядью Савва сделался еще симпатичнее и мужественнее. Брат не то чтобы повзрослел и возмужал в результате непонятной этой истории, но как бы обрел некую завершенность. Никите показалось, что не Савва это вовсе, а… какой-то языческий бог возлежит на скале.
«О, Господи, чудны, но славны дела Твои!» – (имея в виду другого – триединого – Бога) окончательно пришел в себя Савва, удивленно посмотрел на Никиту.
Тот думал, что брат обрадуется, обнимет его, но вместо проявления радости Савва надменно повелел вытащить из сумки книгу, которую вчера подарила ему убитая метеоритом старуха.
Недоумевая, Никита принес лохматую, нечистую (как сама старуха) книжку. Имя автора – Элиан, название «Пестрые рассказы» решительно ни о чем ему не говорили.
«Открой на любой странице, прочитай вслух два любых фрагмента», – велел Савва.
«Зачем?» – поинтересовался Никита.
У него тряслись руки, голова же была странно светла и легка, как если бы ему вдруг открылась некая истина, и была эта истина непреложна. В том смысле, что до ее прихода в мире был хаос, а после – порядок. Или даже не столько порядок, сколько ясное понимание, как этот самый порядок навести. Никита не знал, что ему делать с этой мыслью. Но не сомневался в том, что это знает Савва. Почему-то он был уверен, что то, что открылось ему невыраженно, так сказать, итогово, Савве открылось – технологически-процессуально, то есть исчерпывающе и окончательно. Грубо говоря, Никита как бы получил откровение, Савва – руководство (инструкцию) к действию. Может, у меня тоже голова… седая? – с тревогой подумал Никита.
«Потому что моя жизнь, точнее, то, что от нее осталось, займет пространство в промежутке между этими двумя фрагментами, – неожиданно доходчиво объяснил Савва. – Разве ты не знаешь, что, если хочешь узнать судьбу после несостоявшего- ся самоубийства, достаточно взять первую попавшуюся книжку и прочитать два любых абзаца. Я жду, читай».
«Поли…клет изваял две статуи, – начал Никита, – изображавшие одно и то же; одну по вкусу толпы, другую по законам искусства. Первую, в угоду толпе, он создавал так: по желанию всякого, кто к нему подходил, Поли…клет послушно делал изменения и поправки. Наконец он выставил обе статуи. Одна вызвала всеобщее одобрение, другая была осмеяна. Тогда Поликлет сказал: статую, которую вы ругаете, изваяли вы, а ту, которой восхищаетесь, – я. Однажды ученик флейтиста Гиппо…по… Гиппомаха, играя, сделал ошибку, но имел успех у слушателей. Гиппомах же ударил его посохом и сказал: “Ты сыграл скверно, иначе они бы тебя не хвалили”».
«Давай следующий», – распорядился Савва.
«Зачем? Останься в этом», – сам себе удивляясь, попросил Никита. Ему вдруг захотелось швырнуть (как пистолет) книжку в море – пусть дельфины (если хотят) читают, но как будто чугуном налилась книжка, руки же, напротив, сделались слабыми, воздушными, если и способными на что-то, так это только трепетно держать проклятую книжку.
«Я бы рад, – вздохнул Савва, – но не могу… нарушать».
«Чего?»
«Правила».
«Какие правила?»
«Игры».
«Какой игры?»
«Какой-какой, – неожиданно разозлился Савва, – в карты! Читай!»
«Аристипп настоятельно советовал людям не страдать из-за прошлого и не печалиться заранее из-за будущего, так как это залог спокойствия и бодрости духа. Предписывал он также заботиться только о сегодняшнем дне, вернее, о той его части, когда осуществляется или обдумывается какое-нибудь дело. Человеку, говорил он, принадлежит лишь настоящее, а не прошлое и не будущее: прошлое ушло, а наступит ли будущее, неизвестно… Еще читать?» – спросил Никита.
«Не надо, – ответил Савва. – Мне все ясно, – опустил руку в карман, вытащил патрон. – Зачем ты выбросил пистолет в море?» – посмотрел вдаль, уже, впрочем, не радуясь красоте мира.
«Ты думаешь, я об этом пожалею?» – с тоской спросил Никита.
«Боюсь, – усмехнулся Савва, – не только ты. Но ты… – внимательно посмотрел на Никиту, – потом… исправишь эту ошибку».
Дельтаплан
«В предрассветный расстрельный час, – вдруг глухо, но явственно, как дальний поезд в тихую ночь, простучали в голове бредущего стылой сумеречной аллеей парка святого Якоба Никиты Ивановича слова из перепечатанного с неба, как с листа, всеми газетами прощального письма Саввы президенту России, – в рассветный предрасстрельный час мои окантованные свинцом мысли летят к тебе, Ремир…»
В те годы, помнится, много спорили, не мнимое ли это, часом, письмо? Каким, интересно, образом Савва-заточник переправил текст из, надо думать, письмонепроницаемого застенка на станцию лазерной рекламы, севшую клоунским бубенцом на вершине иглы (колпака) Останкинской телебашни, так что странные (применительно к положению Саввы) слова взорвались в ночном осеннем небе, как ярчайшее созвездие, флотилия метеоритов, новейшая благая весть. До сей поры лишь Папа Римский однажды обратился подобным (лазерным) образом к городу и миру. И хотя послание Саввы продержалось всего ничего – несколько минут – этого хватило, чтобы его с недоумением прочитали миллионы людей, а обитающие в московском небе птицы смертельно перепугались. Растревоженные их полчища носились по воздуху, роняя помет на задранные вверх лица читателей. Настоящий (отвратительный) дождь обрушился на город с неба-листа, как если бы само послание превратилось в птичий помет.
Должно быть, поэтому народ отнесся безучастно (в смысле последующих действий и логических выводов), если не сказать раздраженно, к начертанным в небе откровениям и пророчествам. Перепачканные пометом люди, не таясь, проклинали и Савву, и… правительство (президента тогда уже опасались проклинать при свидетелях), и даже… упоминаемого в послании Господа Бога, который, по мнению Саввы, попустительствовал злу, олицетворяемому Ремиром в той степени, в какой побуждал к бесстрашию и твердости добро, олицетворяемое Саввой, Степень эта представлялась Савве безмерной, а потому он просил прощения у народа России, смиренно призывал его чтить избранного (хоть и злого) президента (всякая власть от Бога), крепить добродетель и не паниковать по поводу кончины доллара (о том, что эта кончина явилась прологом Великой Антиглобалистской революции, тогда, естественно, никто не подозревал), так как у России есть все необходимое, чтобы достойно и счастливо существовать в автономном режиме. В последних строках электронного письма Савва объявлял российскому народу, что прощается с ним не навсегда, что обязательно вернется в Россию, причем не один, а… вместе с Господом Богом, Таким образом, Савва выступал самозванным гарантом второго пришествия, не уточняя, впрочем, апостолом в сияющих белых одеждах будет он при Господе или же страшным карающим всадником из Апокалипсиса.
Сам звал Русь к порядку, говорили люди про Савву, а как пришла пора держать ответ за прошлые делишки, заблажил. Это ему не в «Савой» ходить. Ясное дело, не понравилось, что будут расстреливать под барабанный бой прямо на Красной площади у подножия Мавзолея, Именно к такому (с некоторой, правда, вызванной организационными причинами отсрочкой исполнения) наказанию приговорил Савву военно-морской трибунал, не ставший (так уж издавна повелось у трибуналов) гнаться за доказательствами вины подсудимого, заслушиванием свидетелей, адвокатов и прочих любителей почесать языки. Тем более что заседание проходило во время сильного шторма в Баренцевом море на эскадренном миноносце, куда всей этой лишней шушере попасть было крайне затруднительно, А может, отсрочка давалась для того, чтобы у Саввы было время оссознать свою вину? Или Ремир, прочитав небесное письмо, решил приблизить визит Господа в Россию?
Как бы там ни было, народ богохульствовал, смахивая с лица птичий помет, читая в небе светящееся письмо. Бога в России во все времена можно было проклинать, хоть при свидетелях, хоть наедине с самим собой.
Как, собственно, везде и всегда.
Ибо и на этом стояла вера.
…«Балаганная грусть» – так, помнится, однажды охарактеризовал Савва настроение, иной раз посещающее человека в самом что ни на есть средоточии увеселений, в каком-нибудь, допустим, луна-парке среди аттракционов, пони с косичками, клоунов и продавцов воздушных шаров. Нечто бесконечно горестное наличествовало в карусельных львах, ходящих по кругу вагончиках, разнообразных – человекоподобных и автоматических – оракулах. Вне всяких сомнений, это была пародия на жизнь, но особая, обнажающая правду о жизни (правду жизни) пародия. Не выразимая в словах правда, как сердце, билась в невысоко (сколько позволял канат) взлетающем (но не могущем подняться в небо) монгольфьере, в бредущем на ходулях, рассыпающем конфетти пузатом клоуне с вечносмеющимся лицом, в крутых железных горках, укатывающих любого сивку, волшебных яйцах и даже в повсеместных напоминаниях, что аттракционы (как и все в Божьем мире) прекращают работу в назначенное время.
Впрочем, иной раз они начинали ее вопреки назначенному времени.
Никита Иванович вспомнил, как в ночь перед последними в России президентскими выборами они мчались с Саввой по шоссе в сторону Москвы, и Савва неожиданно притормозил около гигантского, погруженного во тьму придорожного луна-парка.
«Включай! – сунул охраннику под нос одно из своих многочисленных удостоверений. – Включай все!»
Случись такое еще несколько месяцев назад, квадратный стриженный охранник не задумываясь пристрелил бы Савву, даже не взглянув на удостоверение. Но что-то уже неуловимо изменилось в атмосфере. Жизнь (и все из нее проистекающее, равно как и в нее втекающее) в одночасье (точнее, в три месяца между исчезновением прежнего президента и назначенным днем новых – в полном соответствии с Конституцией – выборов) сделалась другой. Какой – никто точно не знал, а потому каждый додумывал в соответствие с собственными ожиданиями и представлениями. Впервые в новейшей истории России, писали тогда в газетах, народ сам решает свою судьбу, творит эту самую историю, ибо (после исчезновения прежнего президента) нет в России силы, которая смогла бы навязать народу что- то против его воли. В этих словах была доля истины. Прежний президент был объявлен недоразумением, фантомом, порождением политических и информационных технологий. Высший Народный Совет – временный орган власти, управляющий страной в переходный (три месяца) период, первым же своим указом объявил так называемых политтехнологов, пиарщиков, имиджмейкеров и т. д. вне закона, ввел запрет на деятельность организаций, фирм, фондов и т. д., способных замутить, перегородить, а то и пустить вспять чистейшую, но простодушную реку народного волеизъявления.
Вот только народ почему-то этому не радовался. Похоже, он сам боялся своего волеизъявления, зачарованно, как лунатик, брел по сужающемуся карнизу над бездной, сознавая в глубине души, что непременно в эту бездну свалится.
Даже тупой, едва ли прочитавший за свою жизнь и пару книг (УК не в счет) охранник ощущал ломанным-переломанным носом новые веяния. Пластиковая карточка со словами «Доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации», мерцающей печатью Центризбиркома повергла его в трепет куда больший, чем если бы Савва приставил к его башке пистолет.
Он бросился к пульту.
Луна-парк вспыхнул в ночи, как золотой слиток на солнце.
Это был весьма современный (по тем временам), насыщенный электроникой и всевозможными лазерно-виртуальными эффектами луна-парк. Взмыли вверх качели, одевшись белым светящимся туманом, задышало волшебное яйцо, стронулась с места карусель – летающая тарелка, зажглись глаза у многочисленных оракулов, расцвеченное по периметру колесо обозрения начало сложное – как Земля вокруг Солнца и собственной оси – ускоряющееся движение. И посреди этой неурочной, разнообразной, нелепой – для двух посетителей? – механическо-виртуальной жизни эдаким повелителем (чего?) неподвижно стоял Савва. У Никиты мелькнула мысль, что он мнит себя центром загадочной, на мгновение вырванной из тьмы и – неизбежно – во тьму же возвращающейся демонстрационной Вселенной. И еще мелькнула мысль, что Савва ошибается. Не он – центр Вселенной, а… то неясное, тревожное, беспокоящее и пугающее (сродни волшебному, одетому светящимся туманом яйцу), что выбрал, вознес над собой, чему, одновременно желая и не желая (как жена мужу), подчинился народ.
«В сущности, что есть реальность? – вдруг спросил Савва то ли у Никиты, то ли у посматривающего на него с испуганной ненавистью охранника. – Из чего она составляется и почему она абсолютно необорима?»
Никита подумал, что не так-то уж и необорима. Разве мог он, к примеру, мгновение назад предполагать, что погруженный во тьму придорожный луна-парк оживет, засияет огнями, что сотни оракулов будут готовы предсказать ему будущее задарма?
«Она составляется из произнесенных, но главным образом непроизнесенных слов, – задумчиво продолжил Савва, внимательно глядя, как из светящегося волшебного яйца проклевывается… неизвестно что, – реализованных, но главным образом подавленных желаний, ожиданий, мыслей и представлений. А что есть человеческие ожидания, мысли и представления? Они есть так называемые психосоциальные, а может, социопси- хические комплексы, незримая операционная система, управляющая сознанием. Апофеоз необоримости реальности приходится на момент, когда тебе кажется, что все схвачено, все под контролем. Выходит, конструирование реальности – опасная иллюзия?»
«С той точки, где оно начинает противоречить Божьему Промыслу», – ответил Никита.
«Самое трудное, – словно не расслышал (или не пожелал расслышать) Савва, – идентифицировать страсти, которых в действительности нет и быть не может, как, допустим, нет в природе бронзы, но есть медь и олово. Однако же памятники полководцам и героям отливаются именно из бронзы. Наступает таинственный момент, когда не существующие в чистом виде страсти – допустим, страсть к величию, социальной справедливости или порядку – вдруг материализуются, и реальность становится окончательно необоримой, бронзовой, как памятник самой себе. Причем ровно в такой же степени, в какой раньше казалась оборимой, пластилиновой, допустим, дядям, разворовывающим государство, подобно вампирам, пьющим его нефть и газ, подобно жукам-древоточцам, сжирающим его леса и заповедные рощи, то есть цинично истребляющим в государстве эти самые величие, социальную справеливость, порядок и богобоязнь».
«Богобоязнь?» – удивился Никита.
«Ну да, – ответил Савва. – Богобоязнь в государстве – есть страх и трепет граждан перед властью. Неужели миром правят несуществующие в природе – в нашем случае в обществе – страсти? – продолжил он. – Получается, что внутри самой реальности, как в волшебном яйце, сокрыт некий набор идей, а мы всего лишь переносим их в жизнь. Но то, что в итоге происходит… с жизнью и… с нами… совершенно не совпадает с тем, что мы имели в виду, когда брались эа это дело. Разве не так?»
Охранник молчал, слушая Савву с несвойственным вниманием и напряжением, как будто в это самое мгновение решалась и его, охранника, судьба.
Молчал и Никита, потому что Савва выводил суть за грань, где суть могла претерпеть любое превращение. То была волшебная страна, где урод становился красавцем, птица (если хотела) рыбой, глупый умным, нищий богатым, а богатый счастливым. Где все одновременно было всем и ничем. Никита (как и всякий человек) знал, что эта грань неизменно присутствует в сознании, более того, сознание зачастую само себя спасает, откочевывая, перемещаясь туда, но он не знал, что, оказывается, за эту грань могут организованно уходить целые страны, народы, общества, то есть сама жизнь со всеми ее надеждами, тревогами, несправедливостями, тщетой, отчаяньем и так называемыми вечными истинами.
Вот только каким образом она (жизнь) оттуда (из-за грани) возвращается, Никита не знал.
Но подозревал, что чем-то это напоминает жесточайшее похмелье.
Впрочем, как только что выяснилось, Савва тоже не знал.
Он, вероятно, тоже подозревал про неотвратимое похмелье, но не принимал его в расчет, как человек, пребывающий в высшей (ради этого, собственно, и пьют) точке алкогольного преображения, когда ему кажется, что он абсолютно трезв, ясен и мир лежит у его ног.
Про внимательно слушающего их разговор охранника и говорить было нечего. Проблемы (в философском плане) похмелья для него не существовало. Он пил как жил. А жил (и, следовательно, пил) до тех пор, пока был молод, силен и относительно здоров. Но ведь рано или поздно, посмотрел по сторонам Никита, все заканчивается, аттракцион не может длиться вечно. Даже бронза покрывается патиной и в конце концов крошится, как сухая глина.
«А может, – махнув рукой, направился к выходу Савва, – дело в принципиальной непредсказуемости мира, точнее, в его предсказуемости в малом, допустим, в том, кто выиграет те или иные выборы, и непредсказуемости в большом, допустим, научится ли человечество обходиться без нефти и газа, победит ли СПИД, состоится или нет второе пришествие?»
«Или в том, существует ли Бог?» – вдруг подал голос охранник, наглядно подтвердив тем самым принципиальную непредсказуемость мира.
«Бог существует, – задумчиво посмотрел на него Савва, – вот только человечек вспоминает о нем, когда, как говорится, деваться некуда».
«Но сначала пробует обойтись без», – казалось, охранник хотел получить от Саввы ответ на главный в жизни (и не только) вопрос, который, однако, сам не знал как сформулировать. В этом он был плоть от плоти народа.
«Потому что, пока ему, как говорится, прет, – продолжил Никита, – ему кажется, что он сам бог».
«Спросите, парни, у него, – кивнул Савва на водящую в темноте зелеными лазерными глазами античную голову оракула, – он знает. В принципе, – добавил, уже садясь в машину, – когда нет единого для всех ответа, годится любой. Каждый ведь знает, есть ли Бог, но… не делится этим знанием с другими».
…Что-то похожее на «балаганную» (ведь как ни крути, а смерть в одном из многочисленных своих измерений тоже балаган) грусть ощутил Никита в тот давний вечер, когда в небе вспыхнуло лазерное послание Саввы президенту России.
Он брел по проспекту Мира в леопардовом (из-за помета) утяжеленном (из-за него же) плаще, и ему казалось, что он ищет, но никак не может найти выход из некоего бесконечного во времени и пространстве аттракциона, из которого на самом деле выхода нет, а если есть, то только – ногами вперед.
«Мои окантованные свинцом мысли облетают тебя. Ремир, как наши истребители НЛО, без надежды на понимание, ибо я в своей работе на твое и, как я полагал, России благо исходил из постулата, что власть – это великое, организующее, таинственное Все, но никак не великое, организующее, таинственное Ничто, противостоящее… самой жизни. Все – иногда получается во имя и славу Божию. Ничто – всегда и исключительно во имя и славу собственную. Я – вечный пленник (раб) этой разницы, равно как ты – временный ее повелитель (господин). Я не прошу пощады или снисхождения, ибо заслужил то, что заслужил, что бы ни заслужил. Беда в том. Ремир, что я делал то, что мне казалось правильным, не соотнося свое дело с бесконечным, не имеющим цели и смысла Ничто, растворяющим в себе сущее.
включая песни и рейтинги, трудовые порывы и предназначенную мне пулю, мои окантованные свинцом мысли и само всемогущее время. Ничто может победить Все, но полная и окончательная его победа есть одновременно полное и окончательное его поражение. The barricades are broken, your enemy is God… Твой единственный противник отныне – ты сам. Ремир, ибо Ничто может принять любой образ, но не может превратиться в собственное живое продолжение во времени и пространстве. Как всякое зло, ты изначально конечен, а главное, бесплоден. Ремир, хотя, возможно, переживешь многих, включая меня. Ты – итог моей непоследовательной жизни. И тем не менее я прожил ее не зря уже хотя бы потому, что на самом ее исходе осознал, в чем был фундаментально – свинцово – неправ. Я имел наглость сомневаться в бесконечности любви Господа к человечеству и каждому отдельному его представителю, не мог постичь жалким и развращенным своим умом, за что, собственно. Бог так безнадежно и зачастую безответно любит человека? В мире, в принципе, невозможна такая любовь, думал я, во всем этом заключается (четвертая) тайна, вытекающая из трех других. Где Бог? Что происходит с человеком после смерти? Что есть душа?»
…Никита Иванович попытался вспомнить фамилию президента – адресата Саввы, но не сумел. Ремир бесфамильно вторгся в душу России, хотя, конечно, когда-то фамилия у него была. Это Савва присоветовал ему отказаться от фамилии, объяснив, что народ любит все краткое, однозначное и (само) завершенное, причем не просто краткое, однозначное и (само) завершенное, а чтобы внутри скрывалась противостоящая логике бездна. Савва полагал, что уже в самом имени Ремир угадываются врата бездны, а где врата, не без оснований полагал Савва, там и все то, что хотят видеть люди. Они, естественно, хотят видеть за вратами разные полезные для них вещи, первая из которых – практическое (материальное) величие. Величие же всегда есть самоограничение и смирение перед тем, кто его, так сказать, обеспечивает (берется обеспечить). Из бездны ничего нельзя взять. В бездну можно только падать. Люди это понимают, но делают вид, что их минует чаша сия. Не следует их в этом разубеждать, полагал Савва. Народ будет любить тебя, говорил он будущему президенту, сильнее, нежели Иисуса Христа, у которого было (есть) и имя, и фамилия или сразу два имени, а может, две фамилии, не суть важно, и который выступал гарантом величия не практического (осязаемого), но идеального (духовного). Народ, объяснил Ремиру Савва, к примеру, очень уважал короткие, как пистолетные стволы, псевдонимы: Ленин и Сталин, но при этом не забывал, что там, в background'e, имеются еще имена, отчества и даже настоящие фамилии. Вот эта не застывающая в бетономешалке народного (массового) сознания память, утверждал Савва, и ложится кубометрами в фундамент зданий так называемых разоблачений, перестроек, революций и реставраций. Надо всем истинным, как, впрочем, и ложным, продолжал Савва, витает дух (висит дамоклов меч) разоблачения (революции), и, видимо, высшей (хоть и скрытой до времени) точкой так называемого развития человечества является определение формулы вечной власти, не страшащейся разоблачения (революции) по причине того, что она (власть) вне этой категории. В конечном итоге, утверждал Савва, вождя губит то, что он всего лишь человек, то есть, в сущности, губит физическое в широком смысле – шесть пальцев на ноге, ранняя лысина, прочие мелкие отклонения тут не в счет – подобие малым сим. Вот почему, настаивал Савва, у Ремира не должно быть ни фамилии, ни отчества, ни… родственников.
«Было бы совсем хорошо, – говорил Ремиру Савва, – если бы у тебя не было и лица, но, увы, это невозможно. Что мы будем показывать по телевизору?»
И еще одно имя вспомнил Никита Иванович – Енот. Так звали ходившего в лакированных ботинках с золотым рантом соперника Ремира на последних в истории России президентских выборах. У Енота тоже не было отчества и фамилии, что свидетельствовало о том, что он был достойным соперником, хотя, в отличие от Ремира, относительно фамилии которого не было никаких предположений, ходили слухи, что фамилия Енота – Айвазов, а отчество – Никодимович, родственники же его проживают в Нагорном Карабахе, а если точнее, в городе Шуше, где и зарегистрирована компьютерная фирма Енота.
Изумляясь самому себе, Никита Иванович вспомнил давний выборный слоган: «Бессонница, Енот, нора сыра, темна, по мех идут охотники на мрамор»… И сейчас, спустя десятилетия, его изумила дикость и бессмысленность этого слогана, точнее, антислогана, в котором даже свирепая Комиссия по противодействию политическим технологиям не сумела обнаружить ни скрытой рекламы, ни тайного пиара. Чтобы он обрел смысл, потребовалось…
«Сколько же потребовалось лет? – подумал Никита Иванович, – Во всяком случае не меньше, чтобы подтвердился другой слоган: “Свинец-экран ТВ, Ремир, литые иглы-пули, покрой сознания без устали меняют”».
Когда-то словосочетание «покрой сознания» представлялось Никите Ивановичу абсолютной галиматьей. Но потом он понял, что «покрой сознания», в сущности, абсолютный термин, вмещающий в себя одновременно как неизменную данность (сознание, материал), так и возможное (в режиме non-stop) технологическое воздействие на него (покрой).
Сознание может оставаться неизменным, а точнее, каким угодно, однажды заметил Савва, но вот его покрой, то есть мода должны постоянно меняться, ибо предоставленное самому себе (оставленное без внимания) сознание начинает, как машина без водителя, забирать вправо, то есть склоняться к так называемым фундаментальным (пред-демократическим и даже пред-просвещенческим) ценностям бытия. Вот почему отдельно взятое индивидуальное сознание должно неустанно кроиться и перекраиваться, желательно в режиме самообучения, чтобы потом существовать в заданных параметрах автоматически. Грубо говоря, объяснял Савва, на данные курсы кройки и шитья человек должен являться добровольно и со своим материалом (штукой не ситца, сукна или драпа, но… сознания), Смысл же курсов заключался не столько в том, чтобы человек впоследствие неустанно (задрав штаны) поспешал за модой, сколько в том, чтобы те, кто по какой-то причине не желал подчиняться моде или самостоятельно кроил (перекраивал) собственное сознание не по утвержденному – единому, точнее, однообразному для всех – фасону, по определению (то есть без привлечения доказательств) считались бы идиотами, мракобесами, опасными извращенцами и т, д, – одним словом, решительно и бесповоротно выводились бы за круг бытия. Пусть мода чудовищна, говорил Савва, дело не в том, что она чудовищна, а в том, что никто не должен сознавать, что она чудовищна, все должны ей подчиняться.
В основе системы управления человеческим обществом, по мнению Саввы, лежал принцип: «Кто вне моды (нашей воли) – того нет».
«А если все же есть?» – помнится, поинтересовался Никита, имея в виду прежде всего себя.
«Сколько угодно – в подполье, в одиночестве, так сказать, за кругом бытия, в открытом космосе, – ответил Савва, – в бессмысленных непродуктивных размышлениях об изначальном несовершенстве мира. Главное, чтобы у несуществующих не накопилось силенок и деньжонок на собственное ателье, В принципе, тут возможен выбор; сидеть тихо и никому не мешать или – если не тихо – нелепо и незаметно погибнуть. Я сейчас как раз работаю над теорией опережающего забвения. Когда-нибудь я тебя с ней познакомлю».
«А если не познакомишь?» – спросил Никита.
«Тогда будешь изучать самостоятельно», – ответил Савва.
«По какому же, интересно, учебнику?» – усмехнулся Никита.
«По самому лучшему, – подмигнул ему Савва. – На собственной шкуре».
«Эту тайну. Ремир, – вспомнил Никита Иванович заключительные, пролившиеся на землю птичьим пометом слова Саввы, – я разгадал в ночь перед последними (по крайней мере на моем веку) выборами. Я вышел из машины на шоссе где-то за Домодедовом. Ночь была тиха, в небе стояла луна, над серебряным озером струился невидимый воздух. На другом берегу виднелась белая церковь, и странным образом синие ее со звездами купола не терялись в ночи, а напротив, как будто светились изнутри. Над моей головой со свистом пролетела сова, по проселочным дорогам, моргая фарами, ползли редкие машины. Я думал о воле, призванной организовать этот мир, но неожиданно пришел к выводу, что без великой, не имеющей измерения в нашем мире любви невозможно было создать все то, что я только что увидел. Но ведь зачем-то Бог создал этот мир. Ремир? Неужели Он создал его для того, чтобы мы (ты и я) вносили в него изменения? Тайна мира в том, что любую истину можно выразить простыми словами. Путь сознания. Ремир, это путь усложняющегося простого и упрощающегося сложного, путь от ощущения собственной исключительности (я не такой, как все, у меня в этой жизни все будет не так, как у всех!) до признания очевидного – я песчинка пред взглядом (хорошо, если не в самом глазу) Господа, песчинка, которую он любит, но которая всего лишь песчинка. Его любовь – гравитация, которая держит наш мир, не дает ему сорваться с оси и орбиты. Наш путь. Ремир, от отрицания (непонимания) любви Господа к смиренному и – я это понял в глухой предрассветный расстрельный час – радостному ее принятию. Я смиряюсь. Ремир, не пред тобой, но пред Господом, которому угодно, чтобы моя жизнь явилась уроком… кому, чему?»
…Никита Иванович почувствовал, как его собственная голова «окантовалась» свинцом, вероятно, сказывалось атмосферное давление.
Он вдруг обнаружил себя на самой вершине горы, где среди мокрых кустов и деревьев скрывался мраморный святой Якоб.
Никто не преследовал Никиту Ивановича.
Он подумал, что кое в чем Савва оказался прав, а кое в чем ошибся. Сейчас никому не было дела до «покроя» отдельно взятого сознания, никто не устанавливал обязательную для всех «моду».
Однако предоставленные сами себе люди определенно не потянулись к фундаментальным ценностям бытия. Куда, к примеру, потянулся сам Никита Иванович? К чисто механическому продлению собственного существования без видимых на то причин и целей. В самом деле, что толку от того, что он столько лет просидел за железной дверью стандартного двенадцатиэтажного дома номер 19/611 на улице Слунцовой в районе Карлин, Прага-6? Кому нужен роман под названием «“Титаник” всплывает», когда никто не помнит, что это был за «Титаник», когда и почему он утонул?
И тем не менее его (за что?) хотели убить.
Настало время, подумал Никита Иванович, «короткой воли», точнее, миллионов разнонаправленных «коротких воль». Все, что сразу не получалось, отбрасывалось как ненужное. Хотя нет, подумал Никита Иванович, некая «мода», «покрой» угадывались и в нынешнем сугубо индивидуальном – постглобалистском – времени. «Умри ты сегодня, а я завтра», – так можно было сформулировать его, увы, отнюдь не новый девиз. Неужели, подумал он, гравитация божественной любви иссякла, и люди, стало быть, вышли в земной (безвоздушный) космос, как некогда рептилии из океана на сушу?
Впрочем, быть может, Никита Иванович напрасно тешил себя надеждой, что, если не получилось убить его сразу, от него отстанут. Единственное, в чем он был совершенно уверен, так это в том, что (в перспективе) от него ничего не зависит и что (опять же в перспективе) он ничего не может. Мир был по-прежнему принципиально непредсказуем, и это странным образом утешало, ибо не предполагало никакой и ни за что ответственности.
Никите Ивановичу вдруг до боли захотелось вернуться в свою квартиру на улице Слунцовой. Почему-то теплые носки и засаленный махровый халат показались ему средоточием земного счастья, той самой точкой покоя, к которой стремилась его измученная душа. Переживал он и за оставленные растения, хоть и расположил их у окна таким образом, чтобы сквозь форточку на них попадали капли дождя. Короткая воля Никиты Ивановича враз исчерпалась, падала вниз, как пролетевший сверх положенного дротик.
Он вдруг подумал, что одинок так, как никогда еще не был одинок в этом мире. Таким одиноким человек может быть… только в первые мгновения после смерти, если, конечно, ему дано это осознать.
Без всего (прежнего) перед чем-то непонятным.
И – изначально виноватым.
И еще он подумал, что нет для него ничего желаннее этого одиночества, ибо оно – дом, в котором он живет, воздух, которым он (пока еще) дышит.
Прислушиваясь к току крови внутри себя, Никита Иванович явственно ощущал, как она напирает на стенки сосудов, стучит в них, как дятел клювом в гнилое дерево. Ему подумалось, что, пожалуй, не худшим выходом был бы сердечный (с летальным исходом) приступ прямо здесь – у ног мраморного святого Якоба.
Но сердце вдруг вернулось в ритм, тупая головная боль чудесным образом прошла, как будто и не было никакой боли.
Новое вино определенно вливалось в старые мехи, но Никита Иванович не был уверен, что мехи удержат вино. Да, мир был принципиально непредсказуем, но не настолько, чтобы старый хрыч превращался в мальчика. Он подумал, что дротик его воли, вопреки всему, не только продолжает лететь, но и набирает высоту.
…Никита Иванович как будто услышал в небе свист, как если бы этот самый мнимый дротик материализовался в реальный. Он поднял голову вверх и обомлел. В сумеречном небе над горой, над дымящимся осенним парком, над мраморным святым Якобом кружился… дельтаплан.
Невидимый пилот не просто кружился, наслаждаясь восходящими и нисходящими воздушными потоками, но определенно что-то высматривал сквозь кроны деревьев.
Никита Иванович знал что, точнее – кого.
Дельтаплан кружился над парком святого Якоба по его, Никиты Ивановича, душу.
Икона
…Никита Иванович никак не мог вспомнить, когда именно, при каком президенте, до или после отделения Дальнего Востока, введения «энергорубля», марша эстонской армии на Санкт- Петербург, небывалого двухчасового солнечного затмения, когда живая Москва оказалась завернутой в черный (в каких хоронили грешников) погребальный саван, ему в самовозрастающей (как масса сверхновой звезды) полноте открылось, что задумал брат сотворить с Россией.
Если, конечно, допустить, что Савва задумал, а Никите открылось.
Ведь не для того кто-то задумывает, чтобы кому-то открывалось, да к тому же в самовозрастающей полноте. Хотя так называемая полнота в бесконечном (точнее, конгениальном жизни) процессе познания (открытия) представала величиной колеблющейся, переменной. Иногда она (как масса сверхновой звезды) самовоз- растала, превращаясь во все. Иногда – как масса звезды сверхстарой, а может, сверхустаревшей? – самоубывала, превращаясь в ничто. А иногда – застывала в промежуточном состоянии между «все» и «ничто», представая в виде «нечто», точнее, неизвестно чем. Никита плутал в изменчивом триединстве, как в трех соснах.
Когда он сбивчиво и косноязычно поведал об этом Савве, тот долго не мог взять в толк, о чем, собственно, речь. А когда наконец-то взял – удивился и рассердился.
«Сдается мне, тут… нечего понимать. Событиям назначено течь своим необъяснимым чередом, – строго ответил брат. – Все остальное – лишь оформление их во времени и пространстве, то есть так называемая повседневная жизнь. А что есть повседневная жизнь? – и, не давая Никите открыть рта, сам ответил, мистически подтверждая цифровую логику младшего брата: – Гидра о трех – бессилие, бездействие и печаль – головах. Река общей, мы же братья, крови, не иначе, вынесла тебя на песчаную отмель, с которой тебе увиделся мираж. Видишь ли, брат, законченная, когда ни убавить и ни прибавить, картина мира – всегда мираж. Да и отмель, с которой тебе увиделся мираж, в сущности, тоже мираж. Да и сам мир – мираж. Как, впрочем, и мираж – мираж. Из этого замкнутого круга нет выхода, точнее, есть, но в круг разомкнутый, который вовсе и не круг, а… неизвестно что, точнее, неизвестно все. Чем быстрее ты смоешься с этой отмели, – добавил после паузы Савва, – тем тебе же будет спокойнее, ибо истины миражей не есть божественные истины, они скорее – негатив божественных истин. Вот почему, – закончил почти весело, – скорый и незаметный конец имиджмейкеров, политтехнологов, идеологов, а также специалистов секретных служб, как правило, предопределен. Они, видишь ли, действуют так, как будто им, точнее их заказчикам, известен некий окончательный план бытия. Они как бы бросают в живую жизнь дрожжи, от которых та закисает, превращается в брагу, а потом прогоняют эту брагу через самогонный аппарат – мираж. Странным образом, – вздохнул Савва, – во все века, какой бы конструкции ни был аппарат, из краника льется одно и тоже – кровь, слезы и… деньги».
«Пусть так, – не стал спорить Никита, – но при чем здесь скорый и незаметный конец имиджмейкеров, политтехнологов, идеологов, а также специалистов секретных служб?»
«А слишком близенько стоят у аппарата, – недобро усмехнулся Савва, – слишком истово снимают пробу, не дают первачу отстояться. Смерть наступила, – произнес противным официальным голосом, – в результате употребления спирто-, в смысле, деньгосодержащей отравляющей жидкости неустановленного – хотя почему неустановленного? – криминально-преступного происхождения».
«А если я не смоюсь с отмели?» – поинтересовался Никита, который не вполне успевал за мыслями брата, но странным образом чувствовал его фундаментальную – как если бы брат возводил здание с крыши, тогда как надо с фундамента – неправоту. Она заключалась хотя бы в том, что (Никита за минувшие после Крыма годы сделался изрядным чтецом, даже и в Библию успел сунуть нос) Господь сам частенько являлся избранным соискателям истины в виде миража. Сознание же человека вообще можно было уподобить безостановочному конвейеру по сборке миражей. Речь, таким образом, могла идти об утверждении неких общих (рамочных), по возможности основанных на добросердечии и человеколюбии, принципов непрерывного цикла, но никак не о том, что вся сходящая с конвейера продукция – ничто. Ведь именно человеческое сознание (а следовательно, и non-stop-конвейер миражей) являлись средой, равно как и исходным (расходным) материалом существования (осуществления) Божьего Промысла.
«Тогда тебя смоет…»
«Волна крови, слез и денег? – подсказал Никита. – Почему? Я ведь не имиджмейкер, не политтехнолог, не гебист…»
«Называй ее как хочешь, – холодно ответил брат, – но учти, что эта волна не только смывает, но и растворяет в себе без остатка».
«Всех подряд?» – уточнил Никита.
«Я бы сказал так: всех, кто тщится понять, что это за волна, – недовольно ответил Савва, – кто шляется по бережку, мочит ножки».
«Тогда это какая-то серная кислота, – Никите доставляло удовольствие злить брата неуместным конкретизированием вещей абстрактных и, в сущности, недоказуемых. Хотя он склонялся к тому, что недоказуемых вещей, в принципе, нет. Если, конечно, в основу системы доказательств положены универсальные (божественные) принципы добросердечия и человеколюбия. Тогда получалось, что все в мире можно не только доказать (объяснить), но и определить: хорошо это или плохо? – Стало быть, речь идет о каком-то крайне загаженном, опасном водоеме».
Савва, видимо, тоже мог все объяснить и доказать. Но в основе его системы доказательств лежали какие-то иные принципы. Какие именно, Никита не знал, но догадывался. Эти принципы рисовались воздушными замками в туманах над сернистыми водоемами; смотрели глазами Вия из многозначительного молчания власть имущих, сквозили ледяным ветерком в неистовых (адресованных отнюдь не артисту) аплодисментах.
Никита изначально отвергал эти принципы, причем особенно утверждался в их неприятии… во время посещений церкви.
…Никита никому не говорил, что время от времени наведывается по железнодорожному – через Москву-реку – мосту в крохотную церковь на Пресне. Он ходил в нее через гигантскую – как если бы строили новую египетскую пирамиду – стройку, развернувшуюся у самого их дома. Строили, однако, не пирамиду – многосложную транспортную развязку. Сначала строительство резко ушло вниз – в бездонный котлован, затем взметнулось бетонными стропилами выше дома. Ощетинившиеся арматурой конструкции истребляющими пространство челюстями уже висели над Москвой-рекой, нацеливаясь дальше – на Пресню, на тот самый уже почти растворенный в бетоне (как в серной кислоте) переулок, в конце которого цветной точечкой (а если считать по куполам, то многоточием) стояла миниатюрная церковь, Ее вроде бы не собирались сносить, но пейзаж вокруг несчастного храма революционно (перманентно) преображался, В результате циклопической выемки и подъема грунта церковь, некогда господствующая в пейзаже, очутилась на самом дне автомобильной развязки – у въезда в предполагаемые подземные гаражи. Вернувшиеся домой после трудов (праведных?) обеспеченные автовладельцы, таким образом, должны были стать в скором будущем основными ее прихожанами. Уже сейчас между храмом и небом намечалось по меньше мере пять бетонных горизонтов.
Неясность будущего, видимо, была причиной того, что в церкви (пока еще) служили разные (приходящие) батюшки. Однако же в последнее свое появление там Никита узнал у одной пожилой и немного дурной прихожанки, что в церковь назначен постоянный настоятель, что он молодой и из… «новых».
«Что значит из “новых”?» – уточнил Никита.
«Увидишь, – строго поджала губы прихожанка. Она не любила отвечать на конкретные вопросы, потому что ее ответы, как правило, были значительно шире вопросов. Как если бы у нее просили платок, а она… накрывала одеялом. Но и молчать долго она не могла: – Ездит на этом, как его… “Мерседесе”! – странно развела руки и откинула голову назад, словно “Мерседес” был… бочкой на тележке, – Я ему, – продолжила прихожанка, – неровен час задавишь, батюшка! Он мне: не бойся, милая, давлю только чертей и исключительно по пятницам!»
Кое-какой народец, однако, по старой памяти все еще просачивался в церковку: относительно незатрудненно с пресненского берега; и извилистым, постоянно меняющимся муравьиным ручейком со стороны Кутузовского проспекта – по кучам песка под башенными кранами, далее по железнодорожному мосту и вниз, А одна прихожанка так и вовсе прилетала в церковь на дельтаплане, изумляя строительных рабочих (в основном турок) виртуозностью управления этим странным летательным аппаратом. Так что, если большая часть прихожан притекала (ручейком), эта – дождинкой падала с неба.
«Может быть, это ангел?» – спросил Никита у турок, но по тому, как те зацокали языками, заулыбались, понял, что нет, не ангел. Турки махали руками, бежали за снижающимся дельтапланом, как если бы к ним спускалась гурия из мусульманского рая. Никита мечтал познакомиться с этой красивой, как гурия, если доверять вкусу строительных рабочих, девушкой, но мистически не совпадал с ней по времени.
Несовпадение по времени (временное или постоянное), объяснил ему Савва, это не досадное (и – теоретически – подлежащее исправлению) недоразумение, но судьба, с которой, как известно, не поспоришь. А если и поспоришь, опять же объяснил Никите Савва, то как пить дать проспоришь.
«Придет час, – успокоил Савва, – и она свалится вместе со своим дельтапланом прямо тебе на голову».
«Наверное, это будет здорово, но успею ли я порадоваться этому?» – Никите совершенно не улыбалось, чтобы ему на голову свалилась, пусть даже красивая, как гурия, дельтапланеристка.
«Это уже второй вопрос, – усмехнулся Савва, – в любом случае не имеющий для тебя принципиального значения. Если останешься жив, обрадуешься. Если она снесет тебе башку – не успеешь огорчиться».
«А если стану инвалидом?» – поинтересовался Никита.
«Будешь до конца жизни ездить в коляске и не отвлекаться на пьянки и баб, – пожал плечами Савва, – по крайней мере, у тебя появится шанс чего-то добиться в жизни. Как говорится, учись на здоровье!»
Приверженность (быть может, мнимая) божественным принципам добросердечия и человеколюбия сообщала Никите обманчивое ощущение твердости и некоей уверенности в своих (ничтожных) силах, как если бы за его спиной стоял сам Господь Бог. Находясь в, смотря на, выходя из, думая о странной церкви внутри развязки, Никита постигал не только первичные (добросердечие, человеколюбие) очертания Божьей мысли, но и рукотворную мощь пяти бетонных, препятствующих распространению Божьей мысли горизонтов. Иногда ему казалось, что торжествует мысль. Иногда – бетонные горизонты.
Когда казалось, что мысль, Никита был воинственно несогласен с утверждением Саввы, что добродетель, как безродная кошка к теплому дому, привязана ко времени и пространству. Никита полагал, что она главным образом привязана к… душе, которая не столько доказывает и объясняет, сколько чувствует. По мнению же Саввы, нравственно (или безнравственно) было все, что можно было объяснить (сформулировать) словами. Что же объяснить (сформулировать) было нельзя, то было вне-, над-, а может, под- (это не суть важно) нравственно. Не смертных, стало быть, людишек делом было размышлять над находящимися вне (над, под) их компетенции(й) предметами. То есть размышлять-то можно было сколько угодно, вот только смысла в этом не было ни малейшего. К чему размышлять над ходом вещей, если механизм этого хода принципиально непознаваем? К чему расходному материалу, допустим резине, размышлять над тем, что из нее будут делать: галоши, презервативы или автомобильные покрышки?
Никите иногда казалось, что в этом, собственно, и заключается основной конфликт современности, разводящий людей по разным (если уподобить конфликт реке) берегам. Никита знал, на каком он берегу. Но иногда знание пропадало, как будто его никогда не было, и Никита понятия не имел: на берегу он или на невидимом в тумане мосту над рекой, а может, вообще плывет по реке, не видя в тумане берегов?
Река почему-то всегда была в тумане, как если бы туман в месте протекания реки был естественной природной средой. И, вообще, вода ли это была или… серная кислота, в которой, по мнению Саввы, без остатка растворялись пытавшиеся понять… что? Но если они растворялись, думал Никита, что происходило с их (состоявшимся?) пониманием?
Однажды, впрочем, Савва поделился своими предположениями на сей счет: за традиционным – с омарами и красным вином – ужином. Правда, не с Никитой, а с отцом, которого к тому времени вышибли из редакции.
…Отец, помнится, прихватил с собой на улицу Правды в редакцию Никиту, чтобы тот помог донести до машины кое-какие вещички и книги из кабинета.
Новый хозяин превратил газету из ежедневной политической в ежемесячный таблоид, а в освободившихся (если газета выходит не тридцать, а один раз в месяц, то и сотрудников должно быть в тридцать раз меньше) помещениях разместил «Центр предсказания судеб».
Вместо журналистов и политологов по редакции теперь слонялись траченые жизнью сиреневолицые с карминными губами женгцины, гадавшие на картах, на кофейной гуще, по руке, вызы- ваюгцие духов, составляющие гороскопы и т. д. В холле, где раньше на обтянутой кумачом фанерной тумбе высился бюст Ленина, теперь стоял автоматический оракул в виде сидящего в стеклянном ящике манекена в чалме и звездном халате. За брошенный в прорезь (не сказать чтобы очень дешевый) жетон дяденька открывал глаза, внимательно смотрел на клиента, затем медленно опускал руку в примостившийся у ног сундучок. Звучала тихая электронная музыка, из автомата выпадал билетик с предсказанием, после чего звездно-халатный дяденька прикрывал глаза, успокаивался (до очередного жетона) в своем вертикальном хрустальном гробу.
У Никиты не было с собой денег на жетон, однако стоило ему приблизиться (отец отправился ругаться в бухгалтерию), дяденька в чалме вдруг открыл глаза, запустил руку в сундучок, билетик скользнул в железное с прозрачной крышкой, отполированное многими руками оконце выдачи. «Наверное, кто-то опустил жетон раньше», – тревожно (а ну как этот «кто-то» сейчас вернется?) подумал Никита, забирая билет. Единственно, непонятно было, что помешало предполагаемому жетонобро- сателю дождаться предсказания? Куда он делся, козел? В просматриваемом во все стороны просторнейшем холле было тихо, как в склепе. И пусто. Между тем хотя бы спину убегающего (от предсказания?) человека Никита должен был увидеть. Но не увидел. Все это было подозрительно и странно. Впрочем, едва ли более подозрительно и странно, нежели превращение газеты с простым и ясным названием «Россия» в «Центр предсказания судеб».
Некоторое время Никита раздумывал: читать ему чужое предсказание или не читать? Любопытство, однако, пересилило. «Россию-мать узнаешь, если любишь», – вот что было там написано.
Никита подумал, что, если и другие предсказания в таком же духе, восточному дяденьке недолго сидеть в стеклянном гробу. Точнее, недолго этому гробу пребывать в целости и сохранности.
В бывшем отцовском кабинете диковинное, напоминающее веник, на который набросили сушиться истрепанную половую тряпку, существо встретило их гневной тирадой на… итальянском. Самое удивительное, что отец на итальянском же и ответил, хотя ранее не был замечен в свободном владении этим языком.
Существо (при ближайшем рассмотрении оказавшееся пожилой женщиной очень маленького роста, но, может, и карлицей-переростком) стремительно покинуло(а) комнату, поправив на плечах принятый за истрепанную половую тряпку оренбургский пуховый платок, успев, однако, недовольно зыркнуть на Никиту.
Похоже, итальяноязычная гадалка еще только осваивалась в бывшем отцовском кабинете. Большой письменный стол был воинственно (не редакционно) пуст, если не считать хрустального шара на малахитовой (а может, нефритовой) подставке. На подоконнике стояла клетка с попугаем. Попугай, впрочем, не обратил на вошедших ни малейшего внимания, поскольку был занят сухарем. Припечатав лапой к полу, он кривым клювом выщелу- шивал из него последнюю изюмину.
«Он полагает, – кивнул отец на попугая, – что скоро все это закончится…»
«Изюм?» – изумился Никита.
«Что такое жизнь без изюминки? – уточнил отец. И сам же с пафосом ответил: – Жизнь без изюминки есть жизнь без политической свободы, плюрализма мнений!»
Никита хотел было возразить отцу, что с таким же успехом попугай – мнимый истребитель политической свободы и плюрализма мнений – может выковыривать из сухаря (жизни?), допустим, (изюм?) коммунистического рабства, социалистической уравниловки или даже (чем черт не шутит!) исконного российского авторитаризма, но не успел, потому что вдруг увидел собственное уменьшенное и недобро видоизмененное отражение в хрустальном шаре.
Никите не понравилось, что как-то уж слишком основательно (окончательно?) он был интегрирован в хрустальные недра шара, как если бы иной среды обитания для него уже и не предполагалось. Он отошел от стола, желая выскользнуть из шара, но шар продолжал удерживать отражение Никиты, хотя уже нечего было отражать, потому что Никита спрятался за спину отца.
На стоящего же прямо перед столом отца шар почему-то вообще не реагировал, как будто не было у него отражения. Или отец прогулял, растратил (если, конечно, допустить, что оно представляет хоть какую-то ценность) свое отражение, или же шар отражал людей по принципу: кто не успел, тот опоздал. Никите крайне не понравилось, что в шаре он… старик, точнее… предстарик – где-то между сорока пятью и пятьюдесятью. В шаре он был лысым, апоплексичным, с покатыми бабьими плечами и… определенно злоупотребляющим спиртным, причем не самого лучшего качества. На него прямо-таки махануло (из шара?) гаденьким устойчивым перегаром. И еще Никита обратил внимание, что вокруг него (пожилого) в шаре, как Луна вокруг Земли по заданной (кем?) траектории, крутится цилиндрическая металлическая соринка. Никита было подумал, что это муха, но разве бывают мухи без крыльев? Глядя в шар, он вдруг понял, что жизнь быстротечна, а молодость (часть целого) еще более быстротечна, нежели жизнь (целое). И еще понял, что жизнь без (вне, после) молодости – это совсем не то, что жизнь в молодости.
Две жизни, как два встречных поезда, пронеслись мимо стоящего между ними на насыпи Никиты, обдав смешанным запахом надежды и тщеты. Надежда пахла… разогретым мотором, «Еаг1 Grey Tea», цветными глянцевыми фотографиями, духами «Chanel № 19», придушенным дезодорантом (возбуждающим) потом и определенно айвой. Тщета – высохшей мочой, несменяемым постельным бельем, истоптанными тапочками, ладаном и… подгоревшей кашей.
Никита подумал, что, вероятно, именно эти – случайные – запахи посетят его в смертный час. Вот только непонятно было, почему генеральная репетиция (если, конечно, это репетиция, а не, так сказать, премьера) происходит так рано?
Вроде бы ничто не угрожало Никите в бывшем отцовском кабинете.
Одного-единственного взгляда было достаточно, дабы уяснить: внутри шара пожилой Никита одинок, неприкаян и… несчастен, хотя, быть может, и не осознает собственного несчастья.
А когда, подумал Никита, человек не осознает собственного несчастья? Человек не осознает собственного несчастья, сам собой явился ответ, когда люди вокруг точно так же (или еще более) несчастны. Тогда, напротив, собственное несчастье иной раз человек воспринимает как… счастье.
С человечеством что-то случится, догадался Никита, вот только что? Неужели его заедят металлические цилиндрические мухи без крыльев?
Самое удивительное, что и одет внутри шара он был не так, как если бы отражался нормально, то есть в чем в данный момент был.
На пожилом алкаше-Никите болталось безразмерное нищенское рубище, в руках он сжимал идиотскую, с ушами как закрученные бараньи рога, шапку, В России такие сейчас определенно не носили. Хотя, кто знает, какие шапки будут носить в России, когда Никита доживет до «шарового» возраста? Может быть, только такой вот рогатой шапкой можно отгонять железных мух? Может, он вообще должен радоваться (воспринимать как счастье?), что доживет до столь преклонного возраста?
Тем временем в кабинет вернулась итальяноговорящая карлица.
«Почто держишь хозяйку в сумасшедшем доме?» – сумрачно осведомилась у отца уже на русском, но несколько архаическом, как если бы в использовании языка у нее случился немалый (в век, а может, и больше) перерыв.
«Видишь ли, хозяйка расстраивается от политики, – совершенно не удивился дикому вопросу отец, – смотрит телевизор и… – понизил голос, – перестает верить в Бога, Теряет контроль над потоками информации».
«И все же взял бы ты ее домой, – покачало головой существо, – среди своих-то спокойнее, чем на людях».
«Боюсь, опять начнет пить, – покосился на Никиту отец, – да и не уверен, что свои спокойнее чужих».
Никита понял, что речь идет о матери. Откуда карлица ее знает? – удивился он.
«Не удержишь», – сумрачно предрекла гадалка, Никита, правда, так и не понял кого: «хозяйку», то есть мать, или «своих», то есть его и Савву, А может, она имела в виду «чужих», то есть человечество? В сущности, она была права во всех трех случаях, то есть права абсолютно и окончательно.
Мир был неудержим.
Уместив в несколько сумок служебные отцовские пожитки – книги, рюмки, канцелярские принадлежности, несколько непочатых подарочных бутылок в картонных коробках, они двинулись к лифту.
«А ты, паренек, – произнесла карлица в спину Никите, – от написанного не отмахивайся! Не для того оно попадается на глаза, чтоб отмахиваться!».
«Откуда она знает про мать?» – поинтересовался Никита у отца уже в коридоре.
«Эти гадалки, – вздохнул отец, – любят болтать по-итальянски, делать вид, что что-то знают, А в остальном… удивительно бесполезные особы! – произнес с выстраданной убежденностью. – Никчемные прыщи на коже человечества. Но… чешутся. Не чеши, не обращай внимания. Само пройдет».
Уйдя из газеты, отец немедленно (как будто не писал об этом два года кряду) забыл про благотворные для экономики финансовые пирамиды, про добрых отечественных предпринимателей, собирающихся возродить великую Россию.
Теперь он сотрудничал даже не столько с патриотическими, сколько с какими-то социально-сюрреалистическо-эзотерическо-астрологическими изданиями, названия которых – «Третья стража», «Натальная карта», «Прогрессивный гороскоп», «Солнечная революция» – мало что говорили рядовому потребителю печатной продукции. Да и продавались эти издания не в киосках, а в определенных местах у определенных (на вид тронутых умом) людей в определенное время, допустим, с трех до семи в переходе между станциями метро «Охотный ряд» и «Театральная площадь». Может быть, именно в это время по переходу шествовала невидимая миру «Третья стража», осуществлялась в небесах «Солнечная революция», «Прогрессивный гороскоп» одерживал верх над… гороскопом реакционным?
В своих статьях отец называл власть не иначе как «сборищем казнокрадов и духовно-нравственных, ушибленных Сатурном уродов», терпящий же эту власть народ – в лучшем случае «стадом Неба», в худшем – «быдлом Горизонта». Одна из отцовских статей, помнится, так и называлась: «Между стадом и быдлом».
Савва усмотрел в этом названии наглядное проявление экзистенциальной немощи социально-сюрреалистическо-эзотерическо-астрологической оппозиции, идеологом которой вдруг объявил себя отец. По его мнению, между стадом (Неба?) и быдлом (Горизонта?) не было… ничего, а вот над стадом и быдлом онтологически (Никите, правда, послышалось: отечески) возвышалась фигура пастуха с кнутом, наличие (или отсутствие) которой, собственно, и определяло превращение стада в быдло и наоборот.
«Человечество не может социально или духовно самоорганизоваться посредством знаков Зодиака и атмосферных терминов, – помнится, заявил Савва, – человечество может самоорганизоваться исключительно посредством… нечеловеческой воли конкретного человека».
«А почему не Господа нашего Иисуса Христа?» – возразил, помнится, Никита, только что вернувшийся из упрятанной в бетон церкви и еще не утративший благоприобретенной просветленности,
«Потому что, видишь ли, в планы Господа нашего Иисуса Христа, – ответил Савва, – самоорганизация человечества не входит. Но самоорганизация конкретного человека, быть может, входит, чтобы тот, значит, в свою очередь понудил человечество к самоорганизации, но, так сказать, без компрометации Господа, то есть как бы по собственному почину».
«И этот человек… ты?» – усмехнулся отец.
«Нет, – вздохнул Савва, – но я ищу его днем с огнем».
«И не находишь?» – удивился отец.
«Уже ослеп от дневного огня, – сказал Савва, – а человека нет как нет».
«Может, ищещь не там?» – спросил отец.
«Может, не там», – не стал спорить Савва.
«Самый верный признак, – сказал отец, – когда беспричинно девки любят. Это – или есть, или нет. Все остальное – можно приобрести, добавить, присовокупить, наработать, выстрадать и присвоить при наличии, так сказать, заинтересованных людей. Отчего сам не хочешь?»
«Беда в том, – с грустью ответил Савва, – что больше всего они любят подонков, алкашей, сутенеров, лжецов, воров и многоженцев, более всего же ненавидят тружеников, философов, верующих, умеренных в грехе, истинно нравственных и ответственных мужиков. Сдается мне, они любят меня по ошибке. А если не по ошибке, то… по убывающей. К тому же мне не дано обливаться слезами над… вымыслом, – вздохнул Савва, – социальным вымыслом. Слезинка ребенка, голодный хрип старца, сладкий стон любви для меня всего лишь частности. Я не смешиваюсь с жизнью, как бензин с водой. Мои крылья устроены таким образом, что народное горе, равно как и народное счастье, надежда, мечта, тщета и так далее, включая беспричинную любовь девок, их не колышит. В мои крылья задувает иной ветер».
«Какой же?» – усмехнулся отец.
«Тебе ли не знать», – внимательно и строго посмотрел на него Савва.
«Свинцовый ветр судеб – судебный ветер, – процитировал неизвестного поэта, но, может, и самого себя отец. – Кто ищет, тот рано или поздно находит. Что бы ни искал».
«Или искомое само находит искателя, что, в принципе, не имеет значения, потому что жизнь конечна, а смерть бесконечна, в смысле, что искать-то можно что угодно, но смерть найдешь всегда», – вздохнул Савва.
«Где троица, там ответы на все вопросы. Свинцовый, судебный, один хрен, смертельный. Что тебе тут неясно?» – спросил отец.
«В принципе, все ясно, но есть нечто в протяженности между определениями. И это нечто слаще… жизни», – завершил странный разговор, как, впрочем, и большинство их разговоров за вечерними трапезами, Савва.
Нечего и говорить, что денег «Натальная карта», «Солнечная революция», «Третья стража», «Прогрессивный гороскоп» и т. д. не платили, а если платили, то ничтожные.
Данные издания были выше денег.
После выгона из редакции газеты «Россия» отец мог себе позволить лишь обычную (подарочная в красивых коробках быстро закончилась) водку, отечественное же скоропортящееся (и скоро меняющее названия – «Старый мельник», «Три толстяка», «Добрый молодец», «Пей не хочу» и т. д.) пивко, дешевые (из полиэтиленового пакета) замороженные пельмени, но никак не натуральное французское вино, черную икру, спаржу и омаров.
Стол (кстати, еще с большим, нежели прежде отец, размахом и изыском) обеспечивал отныне Савва, неожиданно возглавивший некую всероссийскую студенческую ассоциацию «Молодые философы за президента и демократию», а потому и темы застольных бесед задавал он. Отцу, таким образом, оставалось только есть-пить, слушать и не перечить. Если же перечить, то смиренно, вежливо и неоскорбительно-доказательно, как и положено угощаемому.
Отец, однако, не желал мириться с подобным положением дел, готовясь к ужину, ставил возле себя на угол стола водку, пиво, просроченные – с оптовой продовольственной ярмарки – маринованные огурцы, серые, как глаза василиска, пельмени в тарелке. И, когда на манер Льва Толстого «не мог молчать», как, впрочем, и пить и закусывать, решительно переходил на суровые персональные хлеба. Когда же беседа вновь втекала в согласные берега, легко снимался с них, возвращался на богатые и прихотливые хлеба Саввы. Воистину, государство заботилось о молодых философах, приверженцах демократии и президента, как о возлюбленных детях своих.
…Был конец сентября, а может, начало октября. Мокрые листья шумели за окном, как хор в древнегреческой трагедии или безмолствующий (в смысле заявления своей гражданской позиции) народ в трагедии Пушкина «Борис Годунов». Переходя из сентября в октябрь, осень споткнулась, и в дверь (если, конечно, между месяцами есть дверь) просунулось минувшее лето.
Неурочное тепло наводило на мысли о случайности (непредсказуемости) бытия вообще, равно как и о ненадежности (непредсказуемости) собственного бытия внутри (вообще) бытия: теплого дождя, шумящих листьев, прогуливающейся (когда не было дождя) в шортах и майках молодежи. Вернувшееся лето высвободило упакованную было в плащи, куртки и т. д. юную плоть, широко разметало ее по улицам, скверам и дворам.
Никиту манил распираемый юной плотью вечерний двор, но еще больше манил его накрытый на кухне стол, то есть плоть собственная, хотя, конечно же, Никита уверял себя, что не жратва его интересует, а умные – отца и Саввы – разговоры.
Откусив непроглатываемый, так что пришлось прикрыть ладонью рот, будто он собирался зевнуть, кусок ананаса с неожиданным прихватом крокодиловой кожуры, Никита уставился рачьими глазами из окна в черное небо, одновременно уминая языком взрывающийся сладкими гейзерами ананас и досадуя на прикипевшую к небу крокодилову кожуру. Над Москвой-рекой, над деревьями, над циклопическим строительством сквозь выступившую от челюстного напряжения слезу ему вдруг увиделся стремительно летящий вверх, то есть царапающий, падающий в небо огонек. Воистину, нечто неуместное происходило с его нёбом (крокодиловая ананасовая кожура) и с… вечным божественным небом (царапающий огонек). У Никиты мелькнула совершенно идиотская мысль, что, быть может, это красавица-дельтапланеристка летит сквозь дождь в спеленутую бетонными подъемами и спусками, как Лаокоон змеями, церковь. Вот только что ей там делать ночью?
Никите сделалось стыдно, что красавица (с неясной, правда, целью) бесстрашно летит в ночи на дельтаплане, в то время как он жадно давится ананасом, сторожа слезящимся глазом омара, – почему-то Никите казалось, что на омара нацелился отец, а он, стало быть, должен обязательно его опередить. Зачем, ведь я не голоден? – ужаснулся позорной слабости Никита, но слабость (она же страсть) была сильнее его.
Никита вдруг понял, что не может победить слабость-силу именно потому, что она слабость-сила, то есть теза и антитеза, утверждение и отрицание, воля и рефлексия одновременно, так сказать, несочетаемые «два в одном». Как любовь к Родине, покосился на отца и старшего брата Никита, и… воровство, обман. Откуда взялись эти мифические «молодые философы», все как один «за президента и демократию»? Он понял, что обречен на ничтожество, бессмысленную борьбу с самим собой (два дня держаться, на третий обожраться) до тех пор, пока не откроет некий третий, разделяющий объединенные противоречия, как атомное ядро на электроны, элемент, который, собственно, и наполнит жизнь смыслом, сообщит ей победительную (по отношению к быту, телу и так далее) – атомную, ядерную, какую? – энергетику.
Вне всяких сомнений, данный элемент известен Савве.
Старший брат был абсолютно равнодушен к еде, хотя каждый день мог пировать как Лукулл. Был известен он и отцу, готовому в любой момент переключиться с французского красного и омаров на отечественные водку и пельмени. Главное же, догадался Никита, что сообщал своим обладателям загадочный третий элемент – самодостаточность и свободу.
Правда, содержанием он наполнял жизнь у всех разным. У Саввы одним, у отца другим, у Никиты (если получится) третьим.
Пока же – никаким.
Воистину, тройственность вносила в жизнь завершенность и ясность, вот только что именно было способно преобразовать слабость-силу в гармонию, Никита даже приблизительно не представлял.
Он вспомнил статью отца в «Солнечной революции», а может, в «Прогрессивном гороскопе», где тот доказывал, что жизнь человека иной раз как в невидимую стену упирается в вопрос, на который этот самый человек не может найти ответа. Тогда сама жизнь незаметно изменяет структуру и содержание, начинает длиться как наглядная (или скрытая) иллюстрация нерешения данного вопроса. Так волна, ударившись о плотину, откатывается, чтобы вновь и вновь биться об нее. Отец утверждал, что тем, как человек отвечает на безответные вопросы, собственно, и измеряется его высшая (натальная, третья, солнечная, прогрессивная?) ценность. Далеко не всегда, писал отец, вопросы эти носят запредельный мировоззренческий характер, гораздо чаще они рядятся под мелкие бытовые реалии, допустим, ремонт или нере- монт квартиры, развод или неразвод с женой, покупка или непо- купка новой машины. Но подобное (мнимо бытовое) измерение в действительности – дверь, за которой скрывается Вечность, Человек или бесстрашно распахивает ее (решает вопрос), или нет (не решает). Не решив же, случается, расшибает в бешенстве (о дверь) голову, но главным образом безвольно и бессистемно крутится по замкнутому (нерешения) кругу, жалобно скулит возле этой самой двери, как выставленный на мороз пес.
Под напором теплого осеннего ветра форточка вдруг распахнулась, как та самая загадочная дверь в Вечность. Листья влажно зашумели, словно кухня разом переместилась в Вечность, а может, сама кухня в одночасье предстала Вечностью, куда наконец-то прорвались давно стремящиеся в нее дождь и мокрые листья.
Прохладная тонкая ладонь скользнула по деформированному заглатываемым куском ананаса лицу Никиты – щеки коснулся влетевший в форточку кленовый лист. Никита закрыл глаза, представил себе, что его целует прилетающая в церковь на дельтаплане (а может, на кленовом листе?) фея. Хотя, конечно, вряд ли бы она стала, находясь в здравом уме, целовать перекошенную заглоченным куском, жующую рожу.
Никита понял, что сознание воистину управляет миром, только вот управление это носит скорее идеальный (эстетическо-ре- комендательный), но никак не организационный (обязательный к исполнению) и уж тем более не материальный (в смысле единства места, времени, действия и… денег) характер.
А в следующее мгновение слитного существования кухни и Вечности ему почудилось, что не листья шумят за окном, а игральные карты шлепают по… мрамору? Он был готов поклясться, что именно по мрамору, хотя за мгновение до этого ни о картах, ни о мраморе вообще не думал. Притом что знал совершенно точно: карты, хоть и игральные, но с неким дополнительным содержанием, мрамор же – темный, а если точнее, красно-коричневый (мясной).
Именно в этот момент в кухню вошла мать, зябко кутаясь в странного вида плед, наброшенный на плечи. Плед подарили отцу рекламодатели-предприниматели, вздумавшие не только наладить (воскресить) отечественное (текстильное) производство.
кажется, в городе Кимры Тверской губернии, но и оповестить об этом Россию через газету «Россия». Одна сторона пледа являла собой нынешний – бело-сине-красный – государственный российский флаг. Другая – сплошь красная с золотыми серпом и молотом в углу – флаг бывшего СССР. При этом плед, несмотря на очевидную плотность и (на этикетке) утверждение, что состоит на пятьдесят процентов из шерсти, а на оставшиеся пятьдесят из хлопка, в холод совершенно не согревал, а в зной решительно не холодил.
То есть в холод холодил, а в жару грел, вот такой это был плед.
Помнится, отец даже предположил, что это специальный плед для выходящих в открытый космос космонавтов, где, как известно, не бывает холодно или жарко, где царит абсолютный ноль.
Видимо, мать взяла его по растерянности.
Была у пледа и еще одна особенность – при неярком сумеречном освещении он изумлял сюрреалистической игрой цвета, превращался как бы в живой гобелен. То серп и молот катались по красному полю, как ртуть, то полосы закручивались в бездонную воронку, долго смотреть в которую было невозможно по причине головокружения.
Сейчас же на российской стороне Никита вдруг увидел злобно оскалившуюся трехцветную рожу, единым махом выпивающую стакан красной… водки? Наверное, клюквенной, подумал Никита, но тут же понял, что не клюквенная водка в стакане, а… сорокаградусная кровь. Ему вдруг открылось, что, оказывается, кровью можно упиться, как водкой, а водкой – как кровью. Между (в, над, под, по-над) водкой и кровью определенно присутствовал загадочный третий элемент, превращающий противоположности в подобие, выводящий сущности на новый уровень, в данном случае синтезирующий сорокаградусную кровь. Но все это пронеслось в жующей голове так стремительно, что Никита не успел сделать никаких выводов. Успел только проглотить очередной кусок ананаса да подцепить на вилку длинную бело-розовую косицу омарова мясца.
В следующее мгновение, однако, картинка на живом гобелене смазалась – упившаяся сорокаградусной кровью морда исчезла, разноцветные полосы сложились в хищную носатую птицу, точнее самолет, еще точнее – бомбардировщик, пикирующий на… Кремль?
Никите очень хотелось узнать, что происходит на внутренней (советской) стороне пледа, но как-то неловко было просить мать перевернуть его на плечах.
«Холодно, – пожаловалась мать, хотя на кухне было очень тепло. – Вот читаю, – положила на стол журнал, – про общечеловеческие ценности и права человека».
«“Открытое общество”, – недовольно покосился на журнал отец. – Где ты берешь эту макулатуру?»
«Из почтового ящика, – ответила мать, – наверное, это бесплатное издание».
«Вне всяких сомнений, – подтвердил отец. – Открытое, я имею в виду обнаженное, тело – только за деньги. Открытое общество – исключительно бесплатно. Знаешь, почему ты мерзнешь? – неинтеллигентно наполнил до самых краев дорогим французским вином стакан. – Потому что от мертвых, не имеющих шансов на реализацию, идей и концепций веет холодом! На-ка, вот, лучше, – взял с подоконника затвердевший, вспучившийся (как будто сквозь обложку собирались прорасти грибы) от долгого и вынужденного (видимо, под кастрюлей) лежания “Прогрессивный гороскоп”, – тут интересная статья про зверо- богов, идущих на смену мировым религиям».
«Кто такие зверобоги?» – поинтересовался Никита.
«Вероятно, все имеющиеся в наличии у человечества боги, за исключением Иисуса Христа, Магомета и Будды», – ответил Савва.
«По крайней мере, они не мерзнут, – заметил отец, – потому что, во-первых, их идеи в лучшем случае проще, в худшем – не сложнее самой жизни, а во-вторых, потому что покрыты шерстью!»
«Я читала про богиню по имени Сатис. Она… утопилась», – сказала мать…
В сумерках мать показалась Никите молодой, красивой и… ни на кого не похожей, точнее, похожей сразу на всех женщин, то есть не похожей, а как бы вмещающей в себя их всех, неустанных воспроизводительниц рода человеческого, включая изгнанную из рая Еву и красавицу (если верить строительным рабочим) дельтапланеристку. Лицо матери, как светильник в храме, мерцало в сумерках вневременной красотой, точнее, не красотой (это обусловленное временем понятие), но… смыслом.
«Да ну? – длинно (как последний раз в жизни) отпил из стакана отец и недоверчиво уставился на мать. – Если я не ошибаюсь, Сатис – богиня прохладной воды. Как она могла утопиться?»
«От любви», – вздохнула мать.
«К кому? – рассмеялся отец, явно не собираясь приглашать мать за стол. – Прохладная вода – категория самодостаточная. В сущности, прохладная вода и есть любовь».
«И потом, как она могла утопиться? – спросил Савва. – Разве может утопиться вода в воде?»
«Еще как может, – мрачно произнес отец. – Любовь в любви, вода в воде, огонь в огне».
«Смысл в цели, цель в средстве, средство в… смысле? – продолжил Савва. – Боже, где то звено, ухватившись за которое можно вытащить всю цепь?»
«Об этом знает каждый школьник еще с библейских, точнее, евангельских времен, – покосился на Никиту отец, – это звено – любовь».
«Вот только материал, из которого оно отливается, каждый раз другой», – вздохнул Савва.
«Чем тебе не нравится свинец, сынок? – отец размашисто вытер салфеткой рот, но на самом деле слезу. – Или никель?»
«Почему, – ответил вопросом на вопрос Савва, – после золота в таблице периодических элементов нашей жизни неизменно следуют свинец и никель?»
«В сущности, общество – это та же природа, – с грустью покачал головой отец, – а природа не может быть открытой или закрытой. Природа может быть только природой, – строго посмотрел на мать. – Тебе не изменить законов природы, сынок. Волк, в нашем случае власть, как жрал, так и будет жрать овцу, в нашем случае народ».
Мать стояла в дверях, и Никита прямо-таки физически ощущал, как легка и нетверда она в этом своем стоянии. Дыхание матери было чистым, как… прохладная вода, однако в легком алкогольном оперении. Впрочем, возможно, она только что протерла лицо или руки каким-нибудь спиртосодержащим лосьоном. Никита почувствовал, как сильно любит мать и – одновременно – как отец и Савва ее… не то чтобы не любят, но… подчеркнуто не принимают всерьез. Отец и Савва, похоже, давно сбросили мать с «корабля современности» в… прохладную воду, где утопилась неведомая богиня (зверобогиня?) Сатис.
«Мам, садись», – поднялся со своего места Никита, с трудом (как если бы тот вцепился оранжевой пупырчатой клешней) отводя взгляд от омара.
«Если бы кто-нибудь мог мне объяснить, – снова потянулся к бутылке отец, – что такое любовь?» – неверной рукой смахнул со стола стакан, который, упав на пол, конечно же, разбился.
«Любовь – это стакан, – спокойно ответила мать, – который сам собой наполняется после того, как его… разбили».
«Наполняется чем? – уточнил отец, не удивишись странному объяснению. – Тем же, что было, или… чем-то новым?» – с подозрением посмотрел на осколки, как бы опасаясь, что стакан воскреснет, скакнет на стол, однако же в нем будет уже не дорогое французское красное вино, а, скажем, дешевое отечественное пиво. Вероятно, отец не возражал бы против «Camus», «Martell» или «Hennessy», но решительно возражал бы против «Жигулевского», «Очаковского» или какого-нибудь «Бадаевского».
Некоторое время в кухне стояла тишина. Стало слышно, как тоскливо воет за окном ветер и (не менее тоскливо) собака на стройке. Казалось, у собаки нет шансов перевыть ветер, но ветер вдруг смолк, видимо, изнемог в бетонных развязках, собака же продолжила – в гордом одиночестве.
«Узнаешь после того, как выпьешь, – качнувшись, мать села за стол, – но, сдается мне, твой стакан разбит невозвратно».
«Значит, я, как Диоген, буду пить горстью, – не обиделся отец, – а вот ты у нас сегодня точно не выпьешь, – отодвинул подальше бутылки. – Разве что… – кивнул на минеральную воду. – Сатис – богиня прохладной воды, а не прохладного вина и уж тем более не прохладной водки».
«Я отвечу тебе, что такое любовь, – с жалостью посмотрела на него мать. – Она всего лишь преддверие веры… Все остальное, что за рамками веры, – не любовь. Сначала любовь, – твердым голосом повторила мать, – потом вера и… только вера, одна лишь вера. Видишь ли, дорогой, несовершенное неизбежно поглогцается совершенным, а если не поглощается, то остается, в лучшем случае – ничем, в худшем – превращается в зло. Если любовь не соединяется с верой, она перестает быть любовью, то есть превращается в собственную противоположность».
«А что есть противоположность любви? – спросил отец. И сам же (как повелось у них в семье) ответил: – Ненависть и беспокойство».
«Беда», – вдруг разобрал Никита слово, в которое сливались вой ветра и шум листьев.
«Но если можно пить горстью и из бутылки, – усмехнулся отец, – что тогда стакан, он же – бокал, фужер, кубок, чарка, кружка и так далее? Что? Архитектурное излишество на здании обгцественного сознания, то есть, в сущности, забава!»
«Особенно если в стакане была любовь к Родине, – уточнила мать, с невыразимой печалью оглядывая кухню. Взгляд Никиты как бы соединился (растворился) со взглядом (во взгляде) матери, и Никита тоже затосковал, увидев красногубого с прилипшей ко лбу седой прядью отца, надменного, как Дориан Грей, Савву, наконец, себя, вонзающего, как гарпун, вилку в фактически сожранного в одиночку омара. Никита как-то вдруг мгновенно понял, что на представшей Вечностью кухне не ночевали ни истина, ни добродетель, ни… стремящаяся превратиться в веру любовь. В следующее мгновение его взгляд обрел самостоятельность. Никита отвел вилку (гарпун) от омара, с омерзением вонзил ее в соленый огурец. – Без любви к Родине истинная вера невозможна, – мать поднялась из-за стола, не прикоснувшись ни к еде, ни к питью, – а какая возможна, та преступна, разве не так, сынок?» – посмотрела на Савву.
«Неужели богиня Сатис, – поинтересовался Савва, – утопилась от неразделенной любви к Родине?»
«Любовь к Родине не бывает разделенной или неразделенной, – возразила мать. – Она или есть, или ее нет. И потом, причем здесь Сатис? Мне кажется, мы говорили о боге по имени Ремир», – сказала мать.
«Ремир? – удивился Савва. – Это что… революция и мир? Или мировая революция? Я ничего не слышал о боге мировой революции. Хотя, если вдуматься, – добавил после паузы, – о мировой революции мечтает каждый бог, то есть зверобог».
«Но не Ремир», – возразила мать.
«Ремир, – нехотя объяснил Савве отец, – бог самоубийства у древних шумеров. Собственно, с ним все ясно, за исключением единственного: когда он милостив к человеку? Когда помогает свершиться самоубийству или когда препятствует?»
«Неужели, – криво улыбнулся Савва, – и такое случается?»
«Чего только не случается в этом мире», – махнул рукой отец, налил в стопку водки, со вздохом наколол на вилку пельмень. На вилке пельмень как бы расстегнул пальтецо, обнаружив под серенькими полами из теста лиловое брюшко.
Никита понял, что разговор о неведомом боге самоубийства не доставляет отцу ни малейшего удовольствия.
«Сатис утопилась от неразделенной родительской любви к своим детям», – сказала мать.
«Намек понят, – кивнул Савва, – но не принят. Родительская любовь, как и любовь к Родине, не может быть разделенной или неразделенной. Она тоже или есть, или ее нет. На что, следовательно, было этой Сатис обижаться?»
«Всего лишь на изначальное несовершенство мира», – ответила мать.
«Как можно победить несовершенство мира? – спросил Савва и сам же ответил: – Только следуя простым, освященным веками заповедям: чти отца и мать, не убий, не укради, не возжелай жены ближнего и так далее. Но если и в результате неукоснительного следования данным заповедям несовершенство остается не просто непобежденным, но, напротив, само наступает? Что тогда делать? Тогда остается победить его посредством… еще большего несовершенства! Но для тебя, конечно, – с грустью посмотрел на мать, – это не годится. Дети прохладной воды всего лишь не захотели быть прохладной водой, вот в чем дело, мама! Они захотели быть льдом, кипятком, а может, паром… Данное стремление никоим образом не отвергает, не перечеркивает сыновнюю любовь!»
«Мама, я тебя люблю! – крикнул Никита. – Почему ты уходишь? Посиди с нами».
«Мы все любим маму, – успокоил его Савва, – речь идет о… других детях. Так сказать, детях вообще. Если тебе известно, кто прав, а кто виноват, – спросил у матери Савва, – скажи, чтобы мы не мучились».
«Да-да, скажи! – решительно поддержал старшего сына изрядно опьяневший отец. Он опять подцепил на вилку пельмень, но на сей раз лиловый ускользнул, оставив болтаться на вилке, как на вешалке, уже не пальтецо, а… (надкусанный) лапсердак. – А то я чего-то не врубаюсь насчет критериев, – икнул отец, с омерзением сбросив с вилки пельменную одежку. – Разве социальная революция не есть высшая и последняя стадия любви к Родине?»
У Никиты возникло странное ощущение, что нет в мире ничего ясного и конкретного, что любое действие, даже такое простое, как дружественная, в общем-то, семейная беседа за ужином, простирается в Вечность, где сущность действия видоизменяется, преображается, ускользает от понимания, как если бы произносимые слова переложили… не на музыку, нет, не на язык танца, а… скажем, на язык звездной пыли или… прохладной воды.
Никиту обеспокоило очевидное отсутствие обратной связи.
В Вечность уходило все.
Из Вечности не возвращалось ничего. Собственно, так и должно было быть, потому что Бог, как известно, пребывает вне категории времени. Но зачем тогда надо было их, простых смертных, бестолково и напряженно проживающих свой короткий век, беспокоить (испытывать) Вечностью? Это было все равно что ловить руками звездную пыль, считывать текст с… зеркала прохладной воды. Мир с поправкой на Вечность представал неуправляемым и в принципе непознаваемым. В таком мире могло происходить (можно было делать) что угодно.
Как, собственно, оно и было в России.
Надо было только знать рычаги.
Которые, как подозревал Никита, всякий раз были разными, в смысле, штучными, без(вне)законными. Выявление и разовое использование рычагов, собственно, и лежало в основе теории управления новым миром.
Во вторник миром следовало управлять иначе, нежели в понедельник, потому что правила, которые действовали в понедельник, во вторник превращались в собственную противоположность (антиправила). Люди с устаревшими, точнее устоявшимися, а может, установившимися (то есть подавляющая часть человечества), представлениями о добре и зле выводились из, так сказать, управленческого персонала по статье «профнепригодность».
Никита подумал, что Бог дал людям слишком большую свободу.
А те воспользовались ею не лучшим образом.
«Бог предоставляет человеку свободу верить или не верить в себя, – словно прочитал мысли Никиты Савва, – но совершенно недопустимо лишать людей понимания происходящего, запуская в общество иного – не человеческого, то есть недоступного линейному пониманию – ряда технологии. Жизнь в этом случае теряет всякий смысл, превращается в какую-то позорную лотерею с позорными проигрышами и не менее позорными выигрышами».
«Чья жизнь?» – уточнил отец.
«Вся, – ответил Савва, – в том числе твоя и моя и вот… его», – кивнул на Никиту.
«Если только с помощью иных, как ты выражаешься, технологий не создается новый – иной – человек», – заметил отец.
«И самое удивительное, что он создается посредством свободного выбора, – сказал Савва, – в принципе, на человека не оказывается никакого давления, каждое решение он принимает свободно, то есть сам».
«Если, конечно, не считать телевизор, который этот самый свободный человек свободно смотрит», – задумчиво добавил отец.
Никита вдруг подумал, что, в сущности, все люди – дети прохладных вод… материнского чрева, которые, как известно, непосредственно перед родами отходят. Богине Сатис, следовательно, невозможно было утопиться. А если и было, то бог самоубийства Ремир должен был ей воспрепятствовать, явить свою (не?)ми- лость во избежание пресечения человеческой (Ното sapiens) цивилизации.
Никита как в свете молнии увидел основной конфликт бытия – стержень, вокруг которого крутилась жизнь, но он усомнился, потому что слишком уж много было этих стержней, слишком уж легко они, как в свете молнии, являлись пред его мысленными очами. И еще почему-то в сером экране стоящего на кухне телевизора ему увиделась… прохладная вода, то есть не вода, а антивода.
Вода и антивода находились примерно в таком же противоречивом единстве-антагонизме, как Христос и Антихрист. Никита отдавал себе отчет, что неким обскурантизмом (мракобесием, ненавистью к прогрессу и т. д.) веет от этих его мыслей, как, впрочем, отдавал себе отчет и в том, что среднестатистическая душа на исходе XX века определенно не поспевает за информационным – на теле- и компьютерных экранах – изобилием. Внутри мнимого изобилия скрывалась железная арматура технологий, готовая в любое мгновение повернуть цветную экранную реку в нужном направлении, вздыбить, поставить на попа, взметнуть да и обрушить рукотворную лавину на бесхитростную среднестатистическую душу. Никита не сомневался, что знание Христа бесконечно выше и чище знания Антихриста, но в то же время знание Антихриста представало куда более изощренным, технологичным, а главное, адаптированным к временным реалиям. Христос мог доказать (точнее, две тысячи лет назад уже доказал) одно, а именно, что Он есть высшая и последняя инстанция любви к человеку.
Антихрист мог доказать все что угодно.
Вот почему Христос был Богом, абсолютным смыслом которого была бесконечная любовь, а Антихрист – распространяющейся (летящей) во все стороны Вечностью при видимом отсутствии абсолютного смысла. В самом деле, не считать же за него такую мелочь, как приобретение власти над человечеством?
Дело было в другом.
В чем?
Никита не знал.
Он был вынужден признать, что человеческое сознание организовано скорее по образу и подобию Вечности при видимом отсутствии абсолютного смысла, нежели Бога, абсолютным смыслом которого была бесконечная любовь.
Теперь он (опять как в свете молнии, как будто жил внутри перманентной грозы) вдруг понял, почему (если верить матери) вознамерилась утопиться богиня Сатис. Она устала от несчастий своих детей. Родовые муки (отход вод) длились вечно, в то время как все прочее, во имя чего она терпела муки, а именно жизнь – было стремительно, если не сказать торопливо-, суетливо-конечно. Выходя из родовых вод, человек начинал дышать воздухом, который был полон несовершенства и, следовательно, сам становился объектом (субъектом?) несовершенства. Чтобы, пройдя назначенный путь, вернуться в уже иные прохладные воды, которые есть (Господа) любовь, и там – в этих водах – обрести иную – более совершенную – жизнь?
Если это и впрямь было так, то Сатис нечего было печалиться, так как логический круг был замкнут.
Или все-таки разомкнут?
Никита понял, что не увидит (как в свете молнии) ответа.
Между резервуарами двух прохладных вод лежала тайна (Бермудский треугольник), в котором то, что, казалось бы, не могло исчезнуть никогда, исчезало невозвратно, а что-то возникало совершенно неожиданно и, более того, начинало править миром. Проще всего было назвать эту тайну смертью, но это было бы слишком простым объяснением. Никита подумал, что речь идет о слитном (вопреки всем мыслимым законам) существовании жизни и смерти, вот только непонятно было, кто, собственно, должен объяснить, где жизнь, а где смерть, кто должен был отделить овец жизни от козлищ смерти? Принципиальная непознаваемость нового мира, о котором говорил отец, следовательно.
заключалась в пронизанности его (на манер метастазов?) смертью, то есть фрагментами, сегментами, секторами и т. д. бытия, где действовали правила, против которых живые люди были бессильны, ибо победить их можно было только «смертью смерть поправ», что, как известно, за всю историю удалось сделать од- ному-единственному существу во Вселенной.
Воистину, сознание наполняло жестокий мир романтическим содержанием, но романтическое содержание не могло смягчить жестокий мир.
«Если есть бог самоубийства, – вдруг произнес, глядя в серый (антиводу?) телевизионный экран Никита, – значит, есть и бог выбора, бог свободного выбора, который склоняет человека к тому или иному решению».
«А может, даже специально ставит человека перед необходимостью выбора, то есть навязывает ему этот выбор», – продолжил отец, глядя на Никиту с неожиданной симпатией и даже с некоторым облегчением, как если бы Никите было лет пять и он все эти годы молчал (как, собственно, и было, правда, до четырех лет), но вдруг сразу заговорил хоть и корявыми, но законченными по смыслу предложениями.
«Имя ему Енот», – вдруг весело подмигнул Никите Савва, плеснул ему в стакан красного вина.
«Енот? – Никита подумал, что брат над ним издевается. – Почему не… Никодим?»
Он сам не знал, откуда взялся этот Никодим и чем, собственно, плох Енот, о котором он мгновение назад, как говорится, ни сном ни духом.
«Никодим ходит там, где никто не ходил, – усмехнулся Савва. – Это, естественно, не тот енот, из которого шьют шубы, который полощет в прохладной воде пищу, – одним словом, не енот-полоскун и даже не енотовидная собака, а… другой Енот. Ремир тоже слово древнее, но в современном русском случайно производное от “революция” и “мир”, а может, “мировая революция”. Так и Енот. Совпадение звуков, не более того. Впрочем, если хочешь, зови его Енотом Никодимом или Никодимом Енотом, я думаю, он не обидится».
«А Енотом Никодимовичем?» – Никите было не отделаться от мысли, что проникшая в кухню Вечность раздвинула не только пространство, но и время, что они с братом опять идут по вечерней ялтинской набережной, и люди (в особенности же девушки) смотрят на них с нескрываемым отвращением. Они всегда смотрят с отвращением на тех, кто забегает вперед, подумал Никита.
Савва совершенно точно забежал.
Единственно, непонятно было, вернулся ли он туда, где все (большинство), или остался в этом «впереди».
«Хоть Енотом Дельфиновичем», – невесело ответил Савва.
«Енот Никодим спит один», – ни к селу ни к городу добавил отец.
Возникла пауза. Нелепое добавление сообщало нелепому обсуждению нелепого вопроса еще большую нелепость.
Никите захотелось крикнуть брату, что он будет с ним до конца, но он промолчал, потому что в последнее время его любовь к Савве уже не была слепой. Она (любовь) как бы перешла в новое качество, позволяющее подняться над рекой общей крови да и увидеть, что река течет не туда.
Хотя кто знал, куда ей течь?
«Сынок, – встревоженно произнес отец. Никита увидел, что бутылка водки в углу стола почти пуста. – Не все так просто с этими ребятами – Ремиром и Енотом».
Глаза у отца были совершенно стеклянными, на лбу дрожали капли пота, как если бы он только что вышел из бани. Он (точнее, его сознание) и вышел(ло). Из странной бани, где смешались водка и Вечность. В сущности, подумал Никита, водка и Вечность дополняют друг друга, хотя, конечно, они далеко не равноценны. Про водку, в принципе, можно сказать, что она – Вечность. Про Вечность, что она водка, – нет.
Впрочем, мысль эта не очень понравилась Никите. Она определенно появилась не в свете молнии. А если и в свете молнии, то… в жидком, сорокаградусном. И не у Никиты, а у отца. Но, видимо, мысль была размашиста, а потому ее тень, как если бы она была огромной птицей, накрыла Никиту. Вообще, в дельте (низовьях, верховьях, разливе?) реки общей крови происходили странные вещи.
«Сынок, – повторил отец, схватив его за руку, как будто Никита собирался убежать, – этот Ремир – бог не только и не столько самоубийства, но… и, так сказать, отсроченного самоубийства, то есть бог действий, которые приводят впоследствии как отдельных людей, так и целые общества, страны, цивилизации к… исчезновению… Вот они-то – Ремир и Енот – и раздолбают нашу несчастную Россию, а там и весь мир, хотя, конечно, никто об этом никогда не узнает…» – как конь всхрапнул, свесив седую с прилипшей ко лбу челкой голову на грудь.
Никита подумал, что, вполне возможно, отец произнес этот монолог… во сне перед другими людьми, находясь во власти иной системы пространственно-временных и, следовательно, логических координат. Ему хотелось спросить у отца, победа какого из двух мифических зверобогов – Ремира или Енота – предпочтительнее? Но тот бы, скорее всего, его не услышал.
Зато невысказанный этот вопрос услышал Савва.
«Енот, если хочешь знать, бог не только свободного, но навязанного выбора. А что такое навязанный выбор? – внимательно посмотрел на Никиту. – Удачно проведенная предвыборная кампания! Ведь все, что происходит с человеком в канун выбора, то есть до момента опускания в урну бюллетеня, в сущности, и есть предвыборная кампания. Енот, таким образом, еще и бог избирательных технологий, имиджмейкер и пиарщик, как говорится, по определению. А где избирательные технологии, там что? – подмигнул Савва. – Там деньги!»
Бред, подумал Никита. Река общей крови, похоже, протекала среди смысловых и прочих галлюцинаций. И сама порождала (генерировала) галлюцинации.
«Но ведь тогда получается, что Енот – это форма без содержания? – удивился Никита. – Технология, пусть даже самая совершенная, но обращенная на самое себя – это… умножение на ноль, пустота. Костюм без тела, рыба из одной чешуи!»
«Именно так! – обрадованно подхватил Савва. – Форма без содержания против содержания без формы или: бессодержательная форма против бесформенного содержания. Видишь ли, деньги заливаются в любую, даже самую бесформенную форму, заполняют ее и сами становятся содержанием».
«В чем смысл противостояния бога самоубийства и бога формы без содержания?» – спросил Никита.
«Сдается мне, – ответил после долгой паузы Савва, – они делают одно дело…»
«Вот только дети у них всегда получаются мертвые», – вдруг пробормотал, не открывая глаз, отец.
…Никите решительно не понравилась превосходящая меру пластичность (бесхребетность) мира, выражавшаяся хотя бы в том, что любые, в принципе, слова подходили к любой, в принципе, ситуации. Ему открылось, что слово – помимо того, что ключ ко всем дверям (смыслам), – еще и отмычка к этим же самым дверям (смыслам), в которые, стало быть, может войти (и выйти) кто угодно, прихватив с собой что угодно, включая саму дверь (смысл).
Выходило, что у смысла и бессмыслицы равные права на су- гцествование, и единственное, что их разделяло, – это… то, что ничто их не разделяло.
Никита наконец-то ухватил за кончик суровую нить беспокойства, прошивавшую его жизнь. В школе, на улице, во дворе, даже и в телевизоре мир был не то чтобы статичен, неизменен, но (в основном) предсказуем и (отчасти) понятен. Дома же, в особенности в такие вот вечерние сидения на кухне, – подвижен и виртуален, как комьютерное изображение, самосклады- ваюгцаяся и саморассыпаюгцаяся же мозаика. Отец, мать, Савва представали разрушителями смыслов, провозвестниками некоей ментально-бытийной революции, суть которой, как открылось Никите, заключалась именно в перманентном «мозаировании» смыслов, неустанной виртуализации предсказуемого и понятного. Грубо говоря, где раньше главенствовал ключ и, следовательно, сторож, определявший, кого можно, а кого нельзя пускать в дверь, теперь главенствовала отмычка и, следовательно, вор, пускавший… кого?
Вот он, подумал Никита, краеугольный камень бытийной революции: вместо смысла – бессмыслица, вместо сторожа – вор! А если, продолжил мысль, таков краеугольный камень, то каково же здание? Отец, мать, Савва определенно не являлись ни ключниками в старом мире, ни ворами в новом. Никита вдруг догадался, что они – зеркала, в которых скользят, меняются, появляются, исчезают, превращаются в собственную противоположность смыслы.
Единственно, Никита не понимал: кто должен смотреть в эти зеркала и что этот «кто» там должен увидеть?
Может быть, я, подумал Никита.
Когда-то Савва научил его, как искать ответы на вопросы, на которые, как представлялось, нет ответов. «Это в высшей степени просто, – помнится, рассмеялся Савва, – вот только не всегда возможно с кем-то поделиться своими открытиями». Савва сказал, что достаточно всего лишь ясно сформулировать вопрос в собственном сознании, а затем всего лишь… закрыть глаза. Первое, что увидят закрытые глаза, и явится ответом на поставленный вопрос.
Никита зажмурил глаза и увидел… девушку-дельтапланеристку, отважно летящую сквозь ночь… Неужели во ввинченную в бетон на манер раскрашенного многоголового бронебойного шурупа церковь?
Предполагаемый (если верить Савве) ответ на не сформулированный Никитой вопрос носил нестандартный, скажем так, характер, но Савва утверждал, что самые, на первый взгляд, дикие ответы как раз и есть самые правильные. Ибо Бог, Вечность (кто отвечает) изначально шире любого сформулированного (или не сформулированного) человеком вопроса. Просто человек не всегда это понимает.
…Отцу решительно не нравилась новая (после преобразования ассоциации молодых философов в партию с говорящим названием «Союз конформистов») работа Саввы. В некоем сомнительном фонде Савве платили огромные деньги за совершенно непонятные (и, как подозревал отец, вредные) исследования в области… национальной идеи.
Фонд так и назывался – «Национальная идея», сокращенно – «Нацид». Нацидами, стало быть, можно было именовать сотрудников этого фонда.
По всей видимости, хоть он в этом и не признавался, отца раздражал и беспокоил факт неожиданной конкуренции. В своих статьях в «Солнечной революции», «Прогрессивном гороскопе», «Натальной карте» и «Третьей страже» он тоже исследовал национальную идею, причем не просто исследовал, а, как говорится, закрывал тему. Отцовские труды были материальны, точнее, материализованы: их хоть и с трудом (не каждый знал где раздобыть редкие издания), но можно было прочитать.
А вот чем же занимался Савва, было совершенно неясно.
Наверняка отцу не нравилось, что ему денег за очевидные труды не платили, Савве же – неизвестно за что – еще какие! Получалось, что невидимые миру Саввины поиски национальной идеи пролегали среди тучных нив и стад, в то время как по достоинству оцененные знатоками – читателями «Натальной карты», «Солнечной революции», «Прогрессивного гороскопа», «Третьей стражи» – отцовы – в ледяном призрачном внемате- риальном астрале.
Всем своим новым – бессребреннически-вневременно-ду- ховным (плащ-мешок, бурые джинсы, овальные, общего цвета всесезонные ботинки, свалявшаяся круглая шерстяная шапочка, но при этом острый иронично-скептический взгляд из-под неухоженных бровей) – видом отец хотел продемонстрировать, что он выше денег, но (по жизни) получалось, что он всего лишь демонстрировал, что их у него нет.
Как, впрочем, не было их тогда у подавляющего большинства граждан России.
Поэтому отец никого не мог удивить.
Не утратившие чувства реальности окружающие смотрели на него как на идиота. То, что у него нет денег, – это было видно невооруженным взглядом. То, что он сочинял умные статьи для малотиражных эзотерических изданий, – знали сам отец, его близкие, редактор и редкие читатели этих изданий. Но читатели не знали отца в лицо. Таким образом, две прямые – бессре- бренничество и интеллектуальная мощь – не могли соединиться и наполнить в глазах окружающих образ отца желаемым содержанием. Налицо было выпадение из социальной ниши (гнезда). Эдаким состарившимся двуногим птенцом бродил отец, не понимая: как, когда, почему и за что все это с ним случилось?
Вроде бы нацидский фонд был частной организацией, однако же у Саввы моментально образовался разноцветный веерок пластиковых кредитных карточек и ламинированных пропусков с печатями, мерцающими гербами-голограммами, позволяющими ему (своим ходом и на колесах) проникать всюду и одновременно запрещающими имеющим на это право интересоваться как личностью самого Саввы, так и тем, кто и что у него в машине.
Савве выделили (служебный) черный джип, на котором он носился по Москве как хотел, пихая в нос гаишникам и омоновцам переливающийся, как змея свежей чешуей, пропуск с лаконичной фразой: «Проезд всюду».
«Так летишь, браток, – заметил однажды ему ироничный капитан, – что неровен час размажешь ее об асфальт, националь- ную-то идею…»
Вот и сегодня отец вдруг безо всякого к тому повода заявил, что безнравственно работать в организации, цинично жирующей, в то время как народ скорбно бедствует.
Савва не согласился с отцом, с некоторых (как выгнали из газеты) пор полагающим себя частицей этого самого скорбно бедствующего народа.
«Скорбно бедствующий народ и цинично жирующие отдельные личности – суть сообщающиеся сосуды, – сказал Савва, – случись даже атомная война, сгори все к чертовой бабушке, и тогда на, точнее, под пепелищем отыщется бункер с цинично жирующей сволочью».
«К чертовой бабушке, – задумчиво повторил отец, – еще иногда говорят: к чертовой матери. Почему никогда не говорят: к чертову отцу, чертову дедушке?»
«Понятия не имею, – удивленно посмотрел на отца Савва. – Говорят что угодно, точнее что хотят, еще точнее – что в голову взбредет».
Воистину, «на воздушном океане без руля и без ветрил» застольная беседа «тихо плавала в тумане». Точнее, не тихо, а вязко и бестолково.
«Значит, у черта есть мать и бабушка, но нет… отца и дедушки?» – не унимался отец. Вполне возможно, он собирался написать на эту тему статью в «Солнечную революцию», «Прогрессивный гороскоп», а может, в «Третью стражу» или «Натальную карту».
«Над этим можно думать сколько угодно, а можно вообще не думать, – заметил Савва. – Это называется дурная, в смысле, непродуктивная, бесплодная, тупиковая и так далее бесконечность. Она опрокинута в бытие, которое, как известно, определяет сознание. Потому-то народ скорбно бедствует, а отдельная сволочь цинично жирует, что тебя занимает, почему у черта есть мать и бабушка, но нет отца и дедушки. Если бы существовала единица измерения мысли, я уверен, в России у нее был бы самый низкий, ничтожный коэффициент полезного действия. Беда русских людей в том, что их мысли расходуются в лучшем случае ни на что, впустую, в худшем – им же во вред».
«По-твоему, это будет длиться вечно?» – поинтересовался отец.
«Не знаю, – ответил Савва, – ведь существует так называемое универсальное мерило всего и вся, а именно человеческий век, то есть так называемая среднестатистическая жизнь. Мир устроен так, что на протяжении этой самой среднестатистической человеческой жизни все начавшееся обязательно должно закончиться, то есть прийти к некоему, пусть даже суперстремительному, итогу, а все закончившееся… снова, пусть даже совершенно внезапно, начаться, чтобы… уйти от этого самого итога. Два эти встречные движения некоторые считают двумя жерновами, размалывающими жизнь».
«Когда же закончится то, что продолжается сейчас? – спросил отец, – И что начнется?»
«Исторический опыт свидетельствует, – ответил Савва, что обычно это заканчивается или наведением – восстановлением – социального порядка, то есть приведением цинично жиру- югцих и скорбно бедствующих к единому, как правило, невысокому в смысле жизненных стандартов знаменателю, так сказать, унификацией эпитетов “цинично” и “скорбно”, или… революцией, что в нашем случае маловероятно, если конечно, – усмехнулся, – не иметь в виду “Солнечную революцию”».
«Почему же маловероятно? – не согласился отец. – Революционная ситуация налицо: верхи не могут, низы не хотят».
«А может, – словно и не расслышал его Савва, – все закончится чем-то третьим, на что в глубине надеются как цинично жирующие, так и скорбно бедствующие. Неужели ты до сих пор не понял, – посмотрел на отца, как учитель на тупого ученика у доски, – что суть происходящего, длящегося, именно в исключении революции из мирового исторического времени, ликвидации революции, как класса?»
«Что же это за третье? – спросил отец. – “Третья… стража”?»
«Бесконечное свободное падение во времени, пространстве, религии и морали, – обьяснил Савва, – болезненно-сладостное бытие в новых – совершенно невозможных для прежнего состояния массового сознания – условиях. Это на первый взгляд зыбкая, случайная, но в действительности очень прочная социальная конструкция, совершенно исключающая революцию как способ разрешения вопиющих противоречий. Точнее, исключающая ее в виде действия, но допускающая, даже поощряющая в виде рассуждения. Скорбно, как ты выразился, бедствующие живут надеждой, что им повезет и они перейдут в разряд цинично жирующих. Цинично жирующие живут надеждой, что им будет позволено жировать вечно, то есть до самой смерти. Все как бы столпились у автомата, выплевывающего счастливые билеты, у рулетки с бегающим шариком. В казино, в игорном притоне, да, конечно, может возникнуть драка с поножовщиной, даже перестрелка, но… не революция. Какой ты, к черту, революционер, если сидишь за зеленым сукном, – спишь и видишь, как бы слупить джекпот? Это третье, – добавил задумчиво, – я бы охарактеризовал как теорию отложенного выигрыша. Она универсальна, эта теория, и вполне применима ко всем слоям общества, любым стоящим перед обществом – социальным, экономическим, геополитическим и так далее – проблемам».
«Значит, вот какую национальную идею вы там разрабатываете?» – неодобрительно покосился на Савву отец.
«А другая в России сейчас и невозможна», – развел руками Савва.
«Почему?» – нахмурился отец.
«Потому что в массовом сознании отсутствует само понятие справедливости, – ответил Савва. – Оно уничтожено вместе с понятием революции. То есть само понятие, может, и не уничтожено, но понятие пути к нему уничтожено. Так ворвавшиеся в Древний Рим германцы в шкурах тупо смотрели на Колизей, но совершенно не представляли, как он мог быть построен».
«Если, конечно, они вообще задавались данным вопросом», – заметил Никита.
«Кем же все это уничтожено?» – спросил отец.
«Да все ими же, – усмехнулся Савва, – Ремиром и Енотом».
«Значит, вы намерены превратить жизнь на земле в ад, чтобы смерть показалась людям раем?» – задал отец странный и, как показалось Никите, совершенно не вытекающий из предыдущих умопостроений вопрос. Как если бы на сковородке, где жарили яичницу, вдруг возникли… цыплята табака.
«Знаешь, где скрывается Вечность, если дьявол, как некогда заметил Шопенгауэр, скрывается в типографской краске? – превратил цыплят табака в… шаровые молнии, в вылетевший в форточку пчелиный рой (?) Савва. – В поиске смысла там, где он отсутствует, как говорится, по определению».
«То есть, – усмехнулся отец, – в национальной идее?»
Никита вдруг подумал, что он не на отмели, а на каменно-пе- ресохшем дне реки общей крови. Кровь (вода), возможно, протекала там в незапамятной (юрской) эпохе. На нее, возможно, тупо (как германцы в шкурах на Колизей) смотрели с берега сухопутные динозавры, возможно тиранозавры. Другие динозавры – птеродактили – пролетали над ней на перепончатых крыльях. И, наконец, третьи – ихтиозавры – сидели в реке, выставив наружу спины с перепончатыми, как вееры, аккумулирующими солнечное тепло гребнями. Но река давно и бесследно растворилась во времени, кристаллизовалась рубиновыми вкраплениями в прибрежных скалах, виртуально сканировалась в зрачках канувших в слепые нефтяные горизонты динозавров. Отчего-то пришли на ум… Кремлевские звезды. Как высоко, подумал Никита, вознеслась, воссияла над миром окаменевшая кровь.
Мысли бродили в голове, как стадо вольных баранов.
Чем дольше Никита над всем этим размышлял, тем отчетливее уверялся, что должно быть что-то, во имя чего происходит то, что происходит, и что в этом «что-то» странно, если не сказать противоестественно, соединились Кремлевские звезды и овальные отцовские ботинки, «Прогрессивный гороскоп» вкупе с «Третьей стражей», «Натальной картой», «Солнечной революцией» и богиня прохладных вод Сатис, мумифицированные в подземных нефтяных горизонтах динозавры и седая прядь на виске Саввы, метеорит, убивший старуху, и шумящие за окном листья, неурочное октябрьское тепло и облитый солнечной глазурью дельфин, некогда взлетевший над крымской скалой, яко птица. Все, что видел и слышал, о чем думал и не думал Никита, без видимой тесноты (и смысла) вмещалось в это «что-то». Так легко и непроблемно вмещаются в любой (даже и крайне тесный) карман любые (иногда весьма немалые) объемы денег.
Впрочем, он был вынужден признать, что, вполне возможно, данное «что-то» – всего лишь ничто, как это частенько случается в жизни. Собственно, подумал Никита, кто станет спорить с тем, что жизнь – странный – кафкианский «Процесс», в процессе которого человек тщится превратить ничто в нечто, чтобы в конечном итоге получить еще большее (если количественные показатели тут уместны), так сказать, абсолютное ничто.
Он закрыл глаза, желая (по методу Саввы) узнать, что есть национальная идея (мелькнула нехорошая мыслишка, что она как раз и есть ничто, упорно превращаемое в нечто) и увидел… летящую в небе сквозь ночной дождь дельтапланеристку.
Украдкой (как выяснилось, плохой украдкой) Никита налил себе полный фужер красного вина и, давясь под гневным отцовским взглядом, выпил судорожными, какими-то икающими глотками. Отец как будто специально протрезвел именно в этот момент, чтобы немедленно изгнать Никиту из-за стола.
«Идеология, я имею в виду оформленную и, в принципе, поддающуюся разумному объяснению систему представлений о жизни и смерти, сейчас никого не волнует, – выручил (отвлек отца от неотвратимых воспитательных действий) Савва. – Волнует что? В сущности, ничто, за исключением остаточного чувства, что что-то не так, не туда все идет, не так делается. Но этого недостаточно. Из этого материала полноценную революцию не выкроить. Разве что, – нехорошо улыбнулся, – срезать накладной карман с бумажником. Хотя, конечно, – добавил после паузы, – небольшую кровь можно пролить, И она будет пролита, – переставил с подоконника на стол очередную бутылку вина, – Есть такой политологический термин, – посмотрел в окно, где не было ничего, кроме теплого ветра и дождя, – нерезультативная кровь».
«Совсем как безалкогольная водка», – взгляд отца затуманился, Он как бы заранее (опережающе) опьянел и одновременно… успокоился.
Теперь ему было не до воспитания отрока Никиты.
Никита подумал, что теория отложенного выигрыша (пусть даже в виде очередного глотка вина или водки) определенно имеет шансы на существование, И еще подумал, что давно уже, точнее, со времени возвращения из Крыма, он не ощущает даже фантомного присутствия реки общей крови, а ощущает… что?
В данный момент – алкогольное дыхание отца и Саввы.
Впрочем, Никита их строго не судил, потому что и сам был не вполне трезв, а следовательно, и от него пахло отнюдь не розами.
Они сидели на кухне, думая (и переживая) каждый свое, и смотрели друг на друга как три (большой, средний и малый) медведя.
И река общей крови, странным образом трансформировавшаяся в воздушную реку алкогольного дыхания, несла их уже как трех бумажных змеев… куда?
Никита зажмурился.
И… вновь увидел летящую сквозь ночное дождливое небо дельтапланеристку.
Он подумал, что сходит с ума.
Или – пребывает в ожидании совершенно невероятного отложенного выигрыша.
В сущности, подумал Никита, вся человеческая жизнь, помимо того, что она ничто, есть ожидание мифического отложенного выигрыша. Который не может быть больше (меньше)… смерти. Правда, ставки делались в одном зале, о выигрышах же (или проигрышах) предполагалось узнавать в другом, находящемся, так сказать, в ином информационном пространстве, откуда, как известно, письма шли (идут) слишком долго, А какие в редчайших и недоказанных случаях доходили, те представлялись безнадежно замусоренными ничего не значащими словосочетаниями, произвесткованными инсультно-инфарктными артериями, так что никакой свежей (новейшей) вести было не пробиться сквозь них.
«Я устал находиться во власти пассивного чувства, что что-то не так, – продолжил Савва. – Действие, пусть даже ошибочное, разрушительное, в любом случае предпочтительнее рабьего бездействия. Мир устроен так, что во времена бездействия любое действие притягивает к себе лучших, как магнит. Или ты сомневаешься в том, что все лучшее в мире из железа? Когда Бог берет паузу, на сцену выходит кто? – спросил Савва. Отец, как загипнотизированный кролик, смотрел на бутылку. Никита не знал, кто выходит на сцену, когда Бог берет паузу. Конечно, он мог зажмуриться, но… не гурия же (если верить турецким строителям) дельтапланеристка, в самом деле, выходит (вылетает?) на сцену, когда Бог берет паузу? – На сцену выходит герой!» – подытожил, как вбил гвоздь, Савва.
«И он, как железо к магниту, как банный лист к жопе, прилипает к… чему?» – икнул отец.
«Уж во всяком случае не к “Солнечной революции”, или “Прогрессивному гороскопу”», – скривил губы Савва.
«Герой-дурак, – заявил отец, – его потом смешивают с дерьмом, потому что, когда Бог берет паузу… должна длиться пауза…»
«Наверное, – согласился Савва, – но она истекла… в моем сердце, магнитная эта пауза».
«Значит, тебе все равно, кто наниматель, для кого, собственно, ты ищешь национальную идею? Кто воспользуется твоим открытием, если, конечно, оно состоится?» – скорее утвердительно, нежели вопросительно произнес отец.
«Боюсь, мы с тобой по-разному понимаем природу божественной паузы, – сказал Савва. – Ты понимаешь ее как скорбную остановку бытия, я – как конкурс идей, тенденций, когда есть возможность всем себя проявить, чтобы потом восторжествовало лучшее».
«Запомни, сынок, – неожиданно трезво, как будто и не пил, произнес отец, – во все времена в конечном итоге торжествует всегда худшее!»
«Точка отсчета, – вдруг совершенно неожиданно для самого себя (как будто кто-то чужой, подозрительно умный) произнес Никита. – Всякое действие проистекает из точки отсчета, которая, собственно, и определяет это действие».
«Эта точка – превосходная, практически недосягаемая, ибо она почти за гранью жизни, степень отчаянья, – странным образом не удивился предположению Никиты Савва. – За ней нет ничего, потому что ничего быть не может. С этой точки, как с астероида, стартуют великие идеи и замыслы, потому что она вне земного притяжения. Главное – туда попасть, – задумчиво посмотрел в темное кухонное окно Савва, – и удержаться. Дальше проще, потому что дальше начинается собственно творчество».
«И ты знаешь, что это за точка?» – поинтересовался Никита.
«Две точки, – усмехнулся Савва. – На одной точке все равно что на одной ноге. Долго не простоишь. Мы же не аисты, – строго, как если бы Никита настаивал на том, что они аисты, – посмотрел на брата, – чтобы стоять на одной ноге».
«И не цапли, – рубанул рукой, как саблей, воздух отец, – и, конечно же, не фламинго».
«Почему у всех птиц, которые любят стоять на одной ноге, длинные острые клювы?» – задумчиво произнес Савва.
«Они, видишь ли, – усмехнулся отец, – выхватывают ими из болота лягушек».
«Может, назовешь эти точки? – предложил Никита, опасаясь очередного утекания беседы в… камыши, где стояли на одной ноге, высматривая в болоте лягушек, птицы с длинными клювами. – Если, конечно, в русском языке наличествуют подходящие слова».
«Запросто, – не стал чиниться Савва. – Икона и водка».
«Ну да, – Никита подумал, что можно отправляться спать. Он и так засиделся. Вот только спалось на полный желудок не очень хорошо. Снились… прохладные воды, ускользающие (как лягушки в болоте из-под длинного острого клюва жажды), как только Никита припадал к ним пересохшей пастью. – Что же еще?»
Он давно привык, что путь к главному (если он пролегает через отвлечения и частности) странным образом превращает это самое (страстно желаемое) главное в ничто, то есть отнимает у него смысл.
Процесс подменял собой результат.
Простое (не испорченное лишним знанием) сознание, подумал Никита, лучше воспринимает и сохраняет истину.
Простое (идеальное?) сознание увиделось ему в образе прохладного сухого погреба, в то время как сознание непростое (отца, Саввы, да и его самого) – то ли морозильной камеры.
мгновенно превращающей истину в лед, так что уже и не разморозить, то ли микроволновой печи, превращающей истину в… пиццу?
«Что такое икона применительно к современным условиям? – между тем продолжил Савва. – Да тот же телевизор в каждой квартире. Прямоугольное пространство истечения благодати. В принципе, весь так называемый двухтысячелетний прогресс можно свести к постепенному превращению иконы в телевизор, а затем в компьютер. Как прежде люди смотрели на икону в красном углу, так нынче смотрят в телевизор… опять же в красном углу. Они смотрели и хотели получить какие-то доказательства, услышать какие-то слова. Сейчас то же самое, только в стопроцентно интерактивном, так сказать, режиме. Телевизор – это синтез внутреннего голоса души и внешнего голоса Бога, не верить ему невозможно, как прежде невозможно было не верить чуду. Вот почему, кто пишет икону, в смысле, определяет, что показывает телевизор, тот и… в нехорошем смысле имеет так называемое общественное сознание. Надо только знать, что показывать. Ну, а второй аспект национальной идеи, – продолжил Савва, – заключается в том, что русский народ в случае свободных выборов однозначно проголосует за ту власть, которая – по факту – обеспечивает его дешевой водкой. Грубо говоря, в России вечной будет та власть, при которой человек, где бы он ни жил – в пустыне, тундре, тайге, степи, на дрейфующей льдине, в любое время дня и ночи тратит не более пятнадцати минут на то, чтобы выйти из дома (или где там он в данный момент пьет и закусывает) и вернуться с водчонкой. При этом никакого значения не имеет, обеспечивает ли эта власть целостность страны, заботится ли о пенсионерах, укрепляет или разрушает здравоохранение и образование, гоняет или пестует прессу. Знаешь, как это называется?» – строго посмотрел Савва на Никиту.
«Идиотизм», – честно, то есть так, как думал, ответил Никита.
«Мудрость, – возразил Савва. – Народ верит в икону – телевизор, то есть верит в Бога. И одновременно верит в водку, то есть в Вечность».
«А в конечном итоге верит в правительство, которое дурит его с помощью телевизора и спаивает дешевой водкой», – сказал Никита.
«В основе самых сложных избирательных, властных и прочих политических технологий лежат бесконечно простые вещи, – продолжил Савва, – настолько простые, что многим умным людям они кажутся даже не несущественными, а несуществующими. Внутри же этих вещей возможны любые варианты».
…В этот момент раздался звон разбитого стекла, тюлевая занавеска рванулась в открытую форточку, как если бы ее потянула невидимая рука… рынка?
«Какая-то сволочь разбила балконную дверь», – Савва, схватив со стола нож, грозно двинулся в комнату.
Теоретически злоумышленники могли забраться на балкон по водосточной трубе.
Никита, вооружившись двузубой непонятного назначения вилкой, много лет невостребованно провисевшей на стене, устремился следом.
Скрестивший руки на груди, свесивший буйную седую голову отец никак не отреагировал на шум.
Он не мог принять участия в поимке злоумышленника.
Стекольный звон показался Никите мелодичным, как если бы в балконную дверь врезался ангел.
Не зажигая света, Савва, аки тать в нощи (если, конечно, отвлечься от того, что он был у себя дома), подкрался к дышащей теплым лиственным ветром и дождем двери, резко сдвинул занавеску.
На балконе и впрямь бился ангел, хотя нечто определенно не ангельское присутствовало в его гибком черном теле, намертво заблокированных в чугунной решетке жестко структурированных крыльях.
Никита побледнел: дельтапланеристка!
Еще больше он побледнел, когда она стащила с головы шлем, сбросив (как излишек воды с вершины плотины) поверх плотно облегающего тело черного резинового комбинезона лавину золотых волос.
Никита узнал ее.
Впрочем, некоторое время он сомневался, как и должен сомневаться человек, собирающийся обратиться к другому человеку, которого прежде видел… во сне.
«Здравствуй, Цена, – сказал Никита. – Значит, это ты летаешь в церковь на дельтаплане?»
«Сегодня не долетела, – ответила Цена, высвобождаясь из крыльев. – Наверху тихо, а внизу очень сильный ветер.
я не с пустыми руками, – извлекла из рюкзака икону. – Хотела, как сейчас принято, передать в дар родной церкви. Чтобы об этом потом написали в “Православном Дорогомилове”».
Было темно, и Никита не сумел рассмотреть, что именно изображено на золотом в красной рамке поле. Единственно, ему почудилось какое-то движение на иконе, но это могла быть игра света и тени.
«Что это за икона?» – спросил Никита.
«Не знаю, – ответила Цена. – Мне подарили ее в Крыму».
«Кто подарил?» – спросил Никита.
«Ты будешь смеяться, – ответила Цена, – но мне подарил ее… дельфин. Я загорала на камнях в бухте, там глубоко, он подтолкнул ее ко мне носом. Странно, она, наверное, долго была в воде, но краски нисколько не поблекли. Это необычная икона, – тихо сказала Цена Никите, – на ней, как на экране, меняются сюжеты. Я думаю, отец Леонтий – новый настоятель церкви – сообразит, что с ней делать… Да, а откуда вы знаете, как меня зовут? – спросила она. – Разве мы знакомы? Хотя тебя, – посмотрела на Никиту, – я вроде бы видела… сверху возле церкви».
«Многие люди в этом мире незнакомы, – странно пошутил, обдав их живейшим запахом вина, Савва, – но мир не становится от этого ни лучше, ни хуже».
«Как и люди, – пройдя по битому стеклу аки посуху, Цена вошла в дом. – Похоже, я прилетела куда надо».
Часы
Никита уже не помнил, когда впервые увидел Ремира и Енота, Быть может, в день, когда Савва показал ему «живые часы истории».
А может, в день, когда тот объяснил ему суть мироздания.
Если, конечно, это случилось не в один и тот же день.
В иные дни Савва объяснял Никите суть мироздания по десять раз на дню, и каждый раз это были правильные, хотя и взаимоисключающие объяснения.
«Во всяком случае, не менее правильные и не менее взаимоисключающие, нежели сама сущность объясняемого мира», – как-то заметил Савва.
В понятии «мироздание», как в периодической системе элементов, уживались тяжелые, стремящиеся к центру земли радиоактивные металлы, рвущиеся в атмосферу, легкие, как жребий приговоренных к смерти, газы, равно как и всевозможные сконструированные, то есть существующие лишь теоретически, соединения типа «менделевий» или «правдий» (элемент, открытый в 1962 году – в аккурат к полувековому юбилею самой тиражной в то время советской газеты).
Тогда еще Никита по причине малых лет не был знаком со знаменитым «лезвием Оккама», вскрывающим «определяющее сознание» бытие посредством максимы (а может, леммы, но, может, и догмы): «не следует умножать сущности без необходимости». Это потом он придет к выводу, что, в принципе, остановка сущности, придание ей абсолютной неподвижности есть не что иное, как постижение Бога. И – одновременно – постижение смерти. Получалось, что в мире присутствуют лишь две противостоящих (неподвластных) безумному лезвию неумножаемых (и неделимых) сущности: Бог и смерть.
Лезвие проходило сквозь них, как сквозь ничто, или… сквозь все.
Никита, впрочем, подозревал, что между двумя основными сущностями возможны какие-то иные, неизвестные человечеству математические действия, время которых пока не настало.
Позже он понял, что и сами люди делятся (умножаются) в зависимости от присущего им коэффициента делимости (умножае- мости) сущностей, У одних не поддавались, хоть умри, делению такие сущности, как «Родина», «честь», «закон». У других – «семья», «долг», «супружеская верность». Третьи же скользили по плоскости извилистого, как символ доллара, коэффициента, неуверенно притормаживая на понятиях «воровство» или «убийство». А четвертые лихо катились еще дальше и ниже… куда?
Никита подозревал, что в ад, особенный виртуальный ад, инсталлированный в Божий мир, как скрытый (когда черное – белое, а белое – черное) негатив в цветной позитив Божьей же воли.
Это был ад перманентного революционного умножения (деления) сущностей, внутри которого пребывало великое множество вполне живых людей, которые знали, что находятся в аду, но при этом продолжали на что-то надеяться, жертвуя милостыню нищим, ставя в церкви свечки за здравие и упокой. То есть, находясь с черной мордой и светящимися глазами в негативе, рассчитывали переместиться в позитив, обрести иконный лик.
Таким образом, третьей неделимой (неумножаемой) сущностью представала надежда. Однако Никита подозревал, что надежда – это всего лишь сложносочиненное (или сложноподчиненное) производное от Бога и смерти. В сущности, человек перманентно и неизбывно надеялся, что смерть к нему (никогда) не придет, и что Бог его (всегда) простит. Однако на исходе тысячелетия в России многократно увеличилось число людей, доподлинно знавших, что смерть к ним (всегда) придет, а Бог их (никогда) не простит. Самим своим существованием эти люди не просто отрицали третью неделимую сущность, но свидетельствовали, что, оказывается, можно жить без надежды, как (вероятно) и без Бога. Вот только без смерти все равно не получалось, и эта очевидность вновь и вновь возвращала (хотя бы некоторых) людей к надежде и к Богу.
Наглядным пособием, так сказать, иллюстрированным анатомическим атласом «лезвия Оккама» представал… интернет, где сущности умножались и делились до бесконечности. Иногда Никите казалось, что, собственно, интернет и есть виртуальный ад, но потом он понимал, что слишком все упрощает, так сказать, выносит не вписывающуюся в конструкцию данного умозаключения сущность за скобки. В принципе, достаточно было вырвать из компьютера модем, выдернуть вилку из розетки, своевременно не заплатить провайдеру, и все – не было никакого интернета и, следовательно, мнимого ада.
Но в то благословенное (на исходе тысячелетия) время, когда Никита был воинственно юн и впервые увидел Ремира и Енота, спрятать в футляр пресловутое «лезвие Оккама» ему было так же трудно (невозможно), как, допустим, приказать Земле не вращаться вокруг Солнца, а Луне вокруг Земли.
Неистовое лезвие было сильнее мысленных приказов Никиты. Оно было готово исполосовать (и полосовало) в лоскуты все сущее.
Мир превращался в ворох цветных лохмотьев.
Никита бродил голый по этому напоминающему пункт приема вторсырья миру, не находя лоскута, чтобы прикрыть срам, до которого, впрочем, в этом мире – пункте приема вторсырья – никому не было ни малейшего дела.
Единственно, Никита не вполне представлял, как соотносятся, взаимодействуют между собой человеческие «коэффциенты сущности». Какой следует считать высоким, а какой низким, какой большим, а какой малым? И если, допустим, из предположительно высокого (большого) вычесть предположительно низкий (малый), то что представлял из себя остаток?
Никита склонялся к мысли, что так называемый Страшный суд есть не что иное, как исчисление (он не сомневался, что соответствующая методика давно разработана и миллионократно опробована) этого самого остатка.
Савва обращался с сущностями предельно вольно, то есть обладал универсальным коэффициентом. Хотел – делил (умножал) до бесконечности и выше (ниже). Хотел – вообще не делил, все равно как не резал арбуз (не откупоривал бутылку), когда все сидели за столом и ждали, когда он этот самый арбуз разрежет (откупорит, стрельнув пробкой в потолок, бутылку). Савва же вынуждал (гостей?) просто сидеть и тупо смотреть на неразрезанный арбуз (не откупоренную бутылку), как если бы он поставил его (ее) на стол для красоты, а не в качестве угощения.
Таким образом, сущности можно было не только делить или умножать, но и бесконечно длить, видоизменять, искажать.
превращать в собственные противоположности – одним словом, делать с ними что угодно.
На этом, в принципе, и зиждилась принципиальная непознаваемость мира.
Теоретически любое отдельно взятое человеческое сознание являлось не чем иным, как инструментом видоизменения, искажения, превращения сущностей в собственную противоположность. Савва это понимал, а потому плавал в сущностях, как рыба в (мутной?) воде, с легкостью мог составить из подручных сущностей любую идеологическую, социальную, экономическую и прочую конструкцию.
…Кажется, они неслись в тот вечер на джипе сквозь осенний сумеречный воздух, куда, как в прозрачное сиреневое стекло, были вплавлены набережная с (обманно) чистой Москвой-рекой, бело-золотой кочан храма Христа Спасителя, кирпичные зубчатые стены, вдоль которых на косых, засаженных Canada-green, склонах вытянулись из последних сил удерживающие листья деревья. Колокольни кремлевских соборов напрягали стекло ввысь, как если бы стекло было штанами, а колокольни…
Никита устыдился.
Если дьявол скрывался в типографской краске и где-то еще, то «лезвие Оккама», помимо всего прочего, скрывалось в метафорах, то есть в творчестве. И (изнутри) резало это самое творчество в клочья.
«Заметить и высмеять недостаток, – вдруг ни с того ни с сего заявил, глядя на вытекающие амальгамой из дымчатого воздуха-стекла крыши на другом берегу Москвы-реки, Савва, – гораздо легче, нежели его исправить».
Уходящее солнце как будто хотело прихватить с собой ребристые и плоские оцинкованные крыши вытянувшихся вдоль набережной складов, пакгаузов, корпусов «Мосэнерго» (до купола гостиницы «Балчуг» ему уже было не дотянуться), как если бы это было самое ценное в столице России. Вообще, уходящее солнце обнаруживало некую эстетическую (и экономическую) неразборчивость. Окончательно заваливаясь за горизонт, оно не возражало запихнуть (в карман?) пылающие мутными зарешеченными окнами подвалы и даже точечно воспламеняющиеся круглыми иллюминаторами промазученные, груженые неизвестно чем баржи, ползущие по реке.
Довольно часто Савва произносил столь завершенные по смыслу или, напротив, столь открытые в смысле толкования вещи, что отвечать ему представлялось совершенно излишним, В эти мгновения Савве, по всей видимости, было абсолютно все равно, кто его собеседник и есть ли он вообще, этот собеседник. С таким же успехом он мог обращаться к уходящему, склонному к клептомании «прихватизатору»-солнцу или урчащему мотором, склонному к сверхнормативному пожиранию бензина джипу.
Определяющее сознание бытие в эти мгновения как бы разделялось на две реки. Одна торила свой путь в сознании Саввы, другая – внутри классического триединства места, времени и действия. Между реками, вне всяких сомнений, наличествовала связь, но она была столь же трудноуловима, как связь между сияющей в ночном небе звездой и квакающей в ночном же болоте жабой. А еще эта связь заключалась в том, что сознание Саввы определяло бытие… Никиты, потому что сознание Саввы (категория идеальная) довлело над бытием Никиты (категорией отчасти материальной). Вероятно, точно так же сознание Бога определяло (довлело) над бытием человечества.
Глядя сквозь тонированное стекло джипа на прогуливающихся по Красной площади пожилых иностранных туристов (все, несмотря на вечернюю прохладу, в шортах, из которых, как из опрокинутых стаканов, выливались на землю студенистые шишковатые ноги), Никита подумал, что общественные науки, изучению которых посвятил жизнь Савва и – вослед брату – собирался посвятить он, Никита, почему-то избегают ясного и однозначного определения таких понятий, как Вечность и Бог.
По ним (общественным наукам), в мире существовало все, что душе угодно, за исключением… Вечности и Бога, как если бы они существовали отдельно от сознания масс и, стало быть, не участвовали ни в социальных, ни в психофизических проектах по переустройству жизни человечества или отдельных стран.
Получалось, что общественные науки находились в той стадии развития, в какой находились физика и химия в Средние века, а именно – пребывали в состоянии алхимии, то есть искали вещи невозможные и, следовательно, не существующие: философский камень (общество всеобщего благоденствия?); эликсир вечной юности (социальную справедливость?); гомункулуса («общественного» человека, склонного не к воровству и насилию, но исключительно к труду и творчеству).
A может, подумал Никита, как раз раньше-то науки развивались правильно, и философский камень, эликсир вечной юности для человечества гораздо полезнее, нежели, допустим, атомная бомба или отравивший земную атмосферу двигатель внутреннего сгорания? Единственно, непонятно было: кому и зачем нужен гомункулус? Крохотный, питающийся персиками в полнолуние человечек из светящейся реторты решительно не вписывался в гармоничную, основанную на критериях полезности для человечества, концепцию.
Воистину, мир состоял из противоречий, точнее, противоречивых единств.
И все же Никита уловил, ухватил связь между двумя (чужого сознания и собственного бытия) реками, хотя опять-таки с какого-то дурного конца.
Когда они вчера ночью с Саввой одновременно овладевали выгнувшейся между ними, как римский акведук или римский же виадук. Ценой (сбылись давнишние крымские мечты Никиты), а потом на залитом лунном светом (Цена заметила, что плавает в нем, как в сперме) диване поочередно овладевали ею в одиночном, так сказать, порядке, в ритмично перемещающихся по-над диванной плоскостью ягодицах Цены Никите вдруг увиделась… насмешливая острощекая, как заточенная морковь, кроличья морда, отчего мгновенное ощущение несовершенства мира переполнило его, как если бы Никита был глазом, а несовершенство одновременно ветром и слезой.
«Грустная мука совокупления» – пришло на память странное, неведомо где и когда вычитанное (Никита подозревал, что у забытого ныне латиноамериканского писателя, сочинившего трактат о жизни альбатросов) словосочетание, поэтизирующее как пустой в смысле духовного наполнения, автоматический, спортивный секс молодых, так и неотвратимый (а куда деваться, если хочется?), как смерть, секс уставших от жизни (пожилых) мужчин и женщин.
«Воистину, – подумал, глядя на вспухший в сиреневом небе белый, с утолщением по краям, напоминающий мобильный телефон, месяц Никита, – заметить и высмеять чужой недостаток гораздо легче, нежели его исправить».
И еще он подумал, что по белому, как Моби Дик, в сиреневом океане-небе мобильному телефону может звонить только… Господь Бог.
Вот только интересно, куда и кому?
Если Бог един, подумал Никита, тогда ему, конечно, некуда и некому звонить, но если Бог множествен, тогда очень даже есть.
Наверное, решил закрыть совершенно неуместную тему Никита, Бог един, равно как и множествен в зависимости от обстоятельств, а посему хочет – звонит, хочет – не звонит по плавающему в сиреневом океане-небе мобильному месяцу-телефону.
Честно говоря, Никита не представлял себе, как лично он может исправить данный недостаток – избавить ягодицы Цены от сходства с насмешливой кроличьей мордой. Разве только дать ей денег на недешевую, надо думать, пластическую операцию? Но захочет ли Цена по доброй воле подставлять собственную (кстати, отнюдь не целлюлитную) задницу под нож? Единственным утешением было, что Никита и не думал высмеивать этот ее недостаток. Вдруг острая, как заточенная морковь, кроличья морда просто пригрезилась ему в лунном (спер- мо)свете? Недостатки, подумал Никита, как и достоинства, составляются из лунного (спермо)света, узора теней, неясных звуков, мгновенных приятных или длительных неприятных ощущений, нелепых мыслей, случайных слов, неуместных воспоминаний, глупого хихиканья, но главным образом из умножения и деления сущностей без необходимости. Ведь наверняка же существует человек, которому обнаруженный Никитой недостаток Цены покажется грандиозным ее достоинством.
«Ты спрашивал меня, что есть мир, жизнь. Вселенная, в чем суть мироздания?» – произнес Савва, вгоняя джип, как черную иглу в истрепанную вену, в кривой малоэтажный переулок, неожиданно густо усыпанный осенними листьями, хотя деревья вокруг отсутствовали. Должно быть, листья, как желтые и красные летучие мыши, прилетали сюда из Александровского сада, а может, из-за самой Кремлевской стены.
«Ну да, конечно, спрашивал», – подтвердил Никита, хотя никогда в жизни не спрашивал об этом Савву, потому что знал, что ответить на эти вопросы невозможно. А если и возможно, то только неправильно.
Сумеречный переулок был безлюден, тих и странно (успоко- енно) прозрачен, как если бы находился в невозможном месте, где были известны (или не было нужды их искать) ответы на якобы заданные Никитой Савве вопросы.
To есть не в России и не в этой жизни находился сумеречный переулок.
Никита вспомнил отцовскую статейку в «Прогрессивном гороскопе» о взаимопроникновении миров. По отцу получалось, что миры сплошь и рядом проникали друг в друга, как невидимые (миру) излучения (слезы), и, к примеру, чувство глубочайшего покоя и умиротворенности, вдруг охватывающее человека, допустим, в заглохшей машине в час пик посреди ревущего Садового кольца, отнюдь не означает, что человек преисполнился мудрости и понял жизнь, а всего лишь, что он случайно и, как правило, ненадолго «въехал» в мир, где подобный покой – норма.
Никита подумал, что все эти искатели иных миров, последователи Блаватской, Гурджиева, Штайнера и Кастанеды – сотоварищи отца – ищут не истину, а всего лишь бегут (думают, что бегут) от смерти, сублимируя свой страх в разного рода литературные экзерсисы, экзотические философские концепции. Если этот страх в людях возобладает, подумал, отгоняя, как оводов, мысли о кроличьей морде Никита, культурная жизнь человечества превратится (или уже превратилась) в neverending путешествие по карте несуществующего мира.
Они встали у железных решетчато-чешуйчатых ворот, за которыми был виден ухоженный газон, клумбы с цветами, небольшой отреставрированный в антеннах и спутниковых тарелках особняк, попасть в который без приглашения (это было сразу ясно) представлялось делом крайне затруднительным, если не абсолютно невозможным.
Затейливые ворота бесшумно (как… ноги Цены, ни к селу ни к городу подумал Никита) раздвинулись. Савва поставил джип в очерченный белым прямоугольник на автостоянке у высокой стены, отделяющей территорию Фонда «Национальная идея» от суставчато-венозного переулка.
«Все предельно просто, – произнес Савва, с недоумением глядя на ползущий по капоту сухой кленовый лист. Он напоминал уже не летучую мышь, а лягушку, этот лист, причем не простую и даже не желтую или красную, но золотую. – Все, что вокруг нас, – Савва широко обвел рукой салон джипа, хотя, конечно, этот жест следовало истолковывать куда более расширительно, – все, что там, – небрежно ткнул пальцем вниз, – и там, – почтительно поднял палец вверх, – всего лишь огромное бесконечное тело. А Бог – одновременно душа и сознание этого тела.
To есть Вселенная, мироздание, в сущности, очень похожи на человека. А может, наоборот, человек похож на Вселенную и мироздание», – легко выпрыгнул из джипа, смахнул с капота сухую золотую лягушку.
Никита так и не успел разглядеть, есть ли у нее на голове корона и держит ли она во рту стрелу. Успел только подумать: не бывать тебе царем, брат!
«Сознание и душа, – повторил Никита, – это как soft-ware и hard-ware в компьютере?»
«Я бы не стал уподоблять сознание operation system, – покачал головой Савва, – хотя в нем определенно присутствуют элементы hard-ware».
«Как и в душе элементы operation system», – возразил Никита.
«Разве возможна operation system, которая изначально знает, что произойдет с жестким диском после того, как компьютер сгорит, его выбросят на помойку, отдадут в детский сад или дом престарелых? – спросил Савва. И сам же ответил: – Нет, потому что это совершенно излишнее, я бы сказал, неуместное для нее знание. Оно будет мешать ей исполнять необходимые функции. В принципе, – продолжил Савва, – между сознанием и душой существует один-единственный нерешенный вопрос: сознание не знает, но очень хочет узнать, что произойдет с ним после смерти; душа знает, но не говорит».
«То есть душа и сознание неразделимы, как близнецы-братья, как Ленин и партия? – спросил Никита, уважавший великого революционного поэта Владимира Маяковского, хотя на исходе тысячелетия в России он определенно вышел из моды. Чтобы вскоре – с началом Великой Антиглобалистской революции – вновь войти. Но тогда Никита, естественно, об этом не знал, а потому любил Маяковского как поэта исторического. – Если душа – Бог и сознание – Бог, то выходит. Бог одновременно ведает и не ведает?»
«Про нас с тобой точно ведает, – усмехнулся Савва, – про миллиарды земных страдальцев ведает, а вот про себя… не знаю. Но, думаю, что именно отсюда все наши беды».
«Получается, что все наши беды от свободы», – Никита с интересом разглядывал отреставрированный особняк, ухоженную, обнесенную высокими стенами территорию. На одной из клумб росли белые в черных крапинках астры. Никите нравились эти осенние цветы – сухие, строгие, легкие, отважно противостоящие заморозкам. Вот и сейчас они, как глаза, бестрепетно смотрели в темнеющее небо, готовые принять любую участь.
Если бы (в другой жизни) ему был предоставлен выбор внутри растительной (флоры) формы существования, он бы не колеблясь стал астрой.
Никита не знал, почему так.
Выходило, что это было записано невидимыми буквами в его подсознании. Как, впрочем, и: каким зверем, какой птицей, каким деревом и даже каким камнем ему быть.
Если, конечно, быть.
Воистину, душа много знала, но не спешила делиться знаниями. Или спешила, но так, что было трудно разобрать. Как, к примеру, бормотание ухватившей тебя за рукав в подземном переходе цыганки.
«Ты согласен с тем, что свобода, в принципе, это все, что за пределами знания и незнания? – спросил Никита у брата. – Что такое свобода? Свобода – это ни да, ни нет. Или да и нет одновременно».
«Не согласен, – сунул пластиковую карточку в электронный замок на двери особняка Савва. – Нет, нет и еще раз нет», – твердо, как партизан при начале допроса в гестаповском застенке, повторил он.
Дверь мягко, вакуумно подалась им навстречу.
У Никиты возникло нелепое ощущение, что они не в Москве, а в Древнем Египте, что Савва не только его брат, но еще и жрец некоего божества, что не в помещение Фонда «Национальная идея» они входят, а в храм этого божества, величие которого заключается уже хотя бы в том, что люди, включая жрецов, не знают законов, по которым оно правит миром, совершенно точно при этом зная, что оно правит.
Вот только насчет сумерек у Никиты не было сомнений.
В Москве, в Древнем Египте, во всех местах, временах, параллельных мирах, измерениях, по ту и по эту сторону добра и зла, на обратной стороне Луны и внутри животворящего пылающего Солнца царили сиреневые сгущающиеся сумерки – любимое время суток божества, которое он мог продлевать на отдельно взятых территориях, таких как, к примеру, сознание отдельно взятых людей, по своему усмотрению до бесконечности.
«Как только бог дает людям законы, – вспомнились слова отца из статьи в “Третьей страже” (будучи приверженцем теории множественности миров, отец принципиально писал слово “Бог” не с прописной, а со строчной), – он перестает быть для них богом, превращаясь в заурядного начальника, которого хочется обмануть, нагреть, запутать, переубедить, навязать ему собственные представления о жизни, финансах, банковской деятельности, взаимоотношениях с офшорами и так далее».
Никита подумал, что если персидский властитель Дарий называл себя «Царь царей», то к неназванному сумеречному божеству вполне применим эпитет «Бог богов».
«Не согласен, потому что за пределами знания и незнания не только свобода, но и порядок, точнее, упорядоченность», – продолжил Савва, пропуская Никиту вперед, в сумеречный холл с разнообразными экзотическими, то прямыми, как дротики, то распускающими зеленые орлиные крылья растениями в керамических кадках, низкими стеклянными столиками с пепельницами в окружении кожаных кресел и диванов, овальным с мозаикой на дне бассейном, где в прозрачной, как будто ее не было, воде среди тонких вертикальных нитей водорослей плавали большие золотые и красно-белые японские рыбы.
От их движений мозаика – четыре мужских и две женские фигуры за овальным (как и бассейн) столом – как бы оживала. Никите показалось, что одна из женщин, в белом хитоне (или пеплосе?), с конической (как карликовая ель) прической, золотыми браслетами на запястьях, вдруг повернула голову, посмотрела на него без малейшего одобрения. Самое удивительное, что сидевшие за столом под рыбами не поднимали вверх заздравные кубки, а… Никита не мог понять, чем они занимались. Просто смотрели на лежащие на столе… геометрические фигурки? Если, конечно, помимо кружков и ромбов к таковым можно было отнести рогатого жука, морского конька, стрекозу, определенно (с цепочкой) медальон и сложный, изрезанный, как аттическое побережье, ключ. Странный набор. Интересно, подумал Никита, какие двери в те времена отпирались подобными ключами?
А еще подумал, что в Фонде «Национальная идея» наверняка устраиваются презентации и приемы. Интересно, падал ли хоть раз кто-нибудь, напившись, в овальный бассейн? Не мог не падать, решил Никита, в очередной (бессчетный) раз умножая сущность без необходимости.
«Это точная копия древнейшей из дошедших до нас мозаик из царского дворца в Кноссе на Крите», – пояснил Савва.
«Что они делают?» – поинтересовался Никита, не в силах оторвать взгляд от второй повернувшей голову в его сторону женщины. У нее были невыразимо зеленые глаза, и Никите казалось, что если что-то и может, хотя бы частично, на ограниченном пространстве рассеять всеобщие сгустившиеся сиреневые сумерки, так это только такие зеленые глаза.
Никите захотелось оказаться внутри расчищенного пространства.
А еще ему показалось, что он когда-то уже смотрел в эти побеждающие сумерки глаза, но это было совершенно невозможно, давно, не с Никитой и не в этой жизни. То есть этого не было. Никуда он не смотрел.
«Кто их знает? – пожал плечами Савва. – Что угодно. Может, принимают экзамены по биологии, завтракают, обсуждают план военной кампании, решают, какую пьесу поставить на открытие сезона. У них ведь на этом самом Крите был обалденный театр, там еще бабы ходили с голой грудью. Вообще-то мозаика была здесь до нас, я имею в виду, до того, как сюда заехал фонд».
«А что здесь было раньше?» – спросил Никита.
«Ты не поверишь, – ответил Савва, – но в советские времена здесь была спецпсихбольница».
«В ней держали, этих, как их… диссидентов?» – Никита вспомнил седого всклокоченного дядю в берете и в потрепанном вневременном плаще-балахоне (в похожем сейчас ходил отец), неутомимо таскающего в толпе митингующих на площади плакат на длинной деревянной палке: «Советская психиатрия – убийца бессмертной души!».
«Диссидент, что с него взять!» – презрительно косились на дядю манифестанты. Кажется, он забрел не на тот митинг. Боевые старухи с портретами Сталина, краснолицые бородачи-казаки в неладно скроенных и не крепко сшитых мундирах неведомых полков, бледно-испитые монархисты с черно-бело-желтыми стягами и коммунисты со стягами кумачовыми не одобряли его лозунг. Убийцей бессмертной души им представлялась утвердившаяся в России власть, но никак не советская психиатрия, с которой они едва ли сталкивались в прежней (советской) жизни. Помнится, потом (дело было 23 февраля) подул злой, как новые времена, ветер, повалил липкий, как телевизионная реклама, снег. Площадь опустела, и только заносимый снегом дядя остался один, как (пока еще) живой памятник… кому, чему? Может быть, этой самой убиваемой бессмертной душе?
Отслеживая взглядом задумавшуюся о чем-то, а потому застывшую в бассейне как слиток золота рыбу, Никита подумал, что, видимо, легче умереть, чем прекратить умножать сущности без необходимости. Что ему до мозаик в Кноссе, до жертвы советской психиатрии, до этой застывшей (заливной?) рыбы?
«Не только диссидентов, – неохотно, как будто имел к этому какое-то отношение, пояснил Савва, – в основном разную сволочь, пророчившую о конце света. Армагеддоне, пришествии Антихриста, смерти Иисуса Христа, парадах планет, приближении комет, разных там катаклизмах и так далее».
Миновав стеклянную будку, внутри которой, как в аквариуме, сидел (утонувший?) охранник, Никита и Савва двинулись вверх по широкой мраморной лестнице.
«Неужели они считались опасными?» – удивился Никита. Сейчас о конце света в открытую пророчили со страниц газет, с экрана телевизора, но никого за это не помещали в спецпсих- больницы.
Главное же: свет упорно не кончался.
Если, конечно, его не отключали за неуплату.
«В сущности, основная пружина механизма цивилизации, человеческой истории предельно проста, – продолжил Савва. – Одни люди стремятся во что бы то ни стало упорядочить мир. Другие – осознанно, но большей частью неосознанно стоят на том, что мир принципиально не подлежит упорядочению, то есть должен оставаться свободным, невзирая на издержки, которые зачастую неизмеримо страшнее так называемых ужасов порядка. Кто любит арбуз, – рассмеялся Савва, – а кто свиной хрящик. В общем-то, тут великое множество нюансов, но если сократить все дроби, то окажется, что одни верят в государство, порядок и диктатуру, другие в свободу, человека и демократию – alma mater всех существующих в природе несовершенств, то есть не верят ни во что. Одни – во что-то, – подытожил Савва, – другие ни во что. Что лучше? Иногда, впрочем, – добавил задумчиво после паузы, – возникают некие структуры, которые на определенном, как правило, коротком отрезке времени и ограниченном, как правило, географическом пространстве самочинно, то есть не вовлекая в «революционное творчество» массы, упорядочивают мир. Вроде бы они все делают правильно, – остановился у одной из дверей. – Но конечным результатом их деятельности почему-то всегда оказываются… чудовища.
я не знаю, почему так происходит, но системный подход к организации бытия, мироустройству в конечном итоге приводит к плохим результатам. Здесь-то и зарыта собака. Бог ведь был первым системщиком, да? Он создал все сущее, опираясь на некую сумму принципов. И вместе с тем он дал этому сущему полную свободу. Даже… – понизил голос Савва, – свободу в себя не верить. Вот только свободы от смерти не дал… С тех пор человеческий разум бегает, как железный шарик, между двумя магнитами: порядком, то есть системой, и свободой, то есть отрицанием всякой системы. Возможно, это происходит потому, что никому еще в истории человечества не удавалось выдерживать системный подход на протяжении достаточно долгого времени. Человеческая жизнь слишком коротка, – вздохнул Савва, – а людей с истинно системным подходом слишком мало. Как по закону Менделя, на смену двум подряд системным людям во власти обязательно приходит антисистемный, который разрушает все, что те создали. Как сейчас в России. Да, все хотел спросить, – внимательно посмотрел на Никиту. – У тебя… как после вчерашнего?»
«Что “как?”» – покраснел Никита, удивленный, но отчасти и обрадованный (не он один умножает сущности без необходимости) перепадом в разговоре.
…Он старался не думать о том, что произошло вчера ночью, но воспоминания накатывались неконтролируемыми (как семяизвержение во сне) волнами, и Никита расслабленно и сладко качался в этих волнах, теряя связь с реальностью. Как если бы в данный момент его мучила (виртуальная?) жажда, но утолить ее он (опять-таки виртуально?) мог исключительно в воспоминаниях.
И он утолял, но не так, как, допустим, утолил бы эту жажду сейчас, пребывая в здравом уме и ясной памяти, – медленно, со вкусом, с оттяжкой, по капельке, мысленно фиксируя каждое мгновение процесса. Вчера же, казалось Никите, он просто дико хлебал божественное вино из случайно (и не по чину) свалившегося на него безразмерного бурдюка. Причем память о том (безразмерном и бесчинном) насыщении странным образом была живее (сильнее) нынешнего его культурного (в плане секса) планирования.
И сейчас какой-то частью своего существа он пребывал в скрещении теней, в лунном (спермо)свете, в лиственном заоконном шуме, на диване, где в ягодицах Цены ему увиделась насмешливая кроличья морда.
Никита не понимал, почему его преследует эта морда, а, скажем, не измененное страстью, как мраморная амфора в обрамлении змеящихся волос, бесконечно совершенное (в смысле единственное в своем роде, когда ни убавить и ни прибавить) запрокинутое лицо Цены с прикушенной губой, когда она выгибалась, подобно луку, на (под) стреле(ой) откинувшегося на подушки Никиты, а Савва задумчиво курил на подоконнике, как в античной нише или в гроте, отчеканив на белой стене божественную руку с сигаретой, дионисийский профиль с прямым, как линейка, носом.
Он понял, что она (морда) преследует его потому, что несовершенство (минус), будучи умноженным на совершенство (плюс), дает в итоге еще большее несовершенство (сверхминус). Никита подумал, что беда всех так называемых систем (плюсов) как раз и заключается в том, что при любой попытке их усовершенствовать, дополнить, облагородить, придать им более современный вид происходит их умножение на минус, который, подобно ВИЧ- инфекции, медленно или быстро, но неизбежно разрушает систему.
Бессмысленно браться за усовершенствование мира, подумал Никита, прежде окончательного выяснения вопроса: возможно ли в принципе существование (функционирование) абсолютно чистых (в смысле раз и навсегда заданных) систем? Он хотел сказать об этом Савве, но спохватился, что тот наверняка думал над этим и, видимо, сделал окончательный выбор в пользу системы.
Никита был вынужден признать, что мучается отнюдь не тем, что случилось ночью, а тем, как он этим (сумбурно, торопливо, суетливо… по-кроличьи как-то) распорядился.
И еще он подумал, что системный мир обречен, хотя бы уже потому, что, к примеру, ему, Никите, сейчас больше всего на свете хочется остановить именно то мгновение, за которое… ему бесконечно стыдно.
«Не натер с непривычки? – подмигнул Савва. – Иных неприятностей, смею надеяться, не предвидится, хоть мы и работали без презервативов».
«Почему это я должен был натереть? – Никита вдруг почувствовал, как запылала в штанах еще мгновение назад прохладная и спокойная плоть, как если бы он и впрямь натер, да только раньше не замечал, а сейчас это открылось во всей непреложности. Так мнительный человек легко обнаруживает у себя симптомы любой (в зависимости от обстоятельств) болезни. – Ты что, думаешь, я в первый раз?» – тем не менее надменно поинтересовался Никита.
«Ты-то, может, и нет, – усмехнулся Савва. – А вот она – да, хоть в это трудно поверить. Ей же наверняка подкатило к двадцатнику. Я не знал, поэтому быстренько впихнул, а там напряг, она пискнула, я даже подумал, может, спьяну не туда попал, потом, чувствую, вроде разработалось, а в ванной посмотрел – в крови. Но она молодцом! Мы же с тобой раза по три заходили. А я, пока ты спал, еще и утренника сгонял… Почему не сказала? Мы бы тогда осторожненько, нежненько…»
«Может, застеснялась, что сразу с двумя?» – предположил Никита.
«Ну да, – сказал Савва, – летела на дельтаплане в церковь, а вон куда залетела!»
Некоторое время Никита молчал, не зная как сказать об этом Савве. Дело в том, что, овладевая Ценой, он тоже ощутил точно такой же напряг и точно так же ему показалось, что на пути стрелы возникла некая эластичная тесная преграда, которую стрела с честью преодолела. И точно так же была на стреле кровь – свидетельство попадания в (неожиданную, скажем так) цель, когда Никита отправился в ванную, но он тогда не обратил на это внимания, потому что нормального мыла в ванной почему-то не оказалось, и ему пришлось вымыть стрелу каменным, карминного цвета обмылком, извлеченным из настенного шкафчика, где он невостребованно покоился, набирая твердость, с незапамятных времен. От юрского, не иначе, периода карминной окаменелости можно было ожидать чего угодно – она могла расцарапать стрелу, сама (при соприкосновении с водой) растечься жидким кумачом, поэтому Никита не стал умножать сущности, а просто вытерся насухо полотенцем и вышел из ванной вон.
Готовый снова пустить стрелу в цель.
«Что она там плела про Крым? – спросил Савва. – Убей бог, не помню такую. Да ее там точно не было, иначе как бы она осталась девственницей?»
«Никак», – был вынужден подтвердить Никита.
И тем не менее каким-то образом она осталась.
…Никите нравилось у Саввы на работе. Захлестнувшие Россию нищета, неустроенность, неуверенность и т. д., как о волнолом, разбивались о высокие стены, кружевные металлические решетки, вакуумные двери Фонда «Национальная идея».
Получалось, что ищущие национальную идею существовали в неизмеримо более комфортных условиях, нежели те, для кого они ее искали, то есть подавляющая (ожидающая, бездействующая?) часть нации. Нация только готовилась (сама, впрочем, об этом не подозревая) вкусить плодов идеи, в то время как ищущие уже вкушали и, видит Бог, отменно вкушали.
Нет ничего хуже в этой жизни, подумал Никита, чем ждать и бездействовать. Любой поиск, любое действие, даже поиск ради поиска, действие ради действия всегда предпочтительнее ожидания и бездействия.
По всей видимости, и люди разделялись по этому принципу. Савва, к примеру, предпочитал действовать. Никита – бездействовать. Но были и люди, которые, как отец, ухитрялись действовать бездействуя или бездействовать действуя. В том смысле, что от их действий (бездействия) ровным счетом ничего не происходило, ничего не менялось.
Как бы там ни было, подавляющая часть нации определенно бездействовала (ожидала), в то время как некоторая (ничтожно малая) ее часть действовала (искала). В результате ничтожно малой части доставалось (в материальном плане) все (многое), нации – ничто (прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, стоимость «продовольственной корзины» и т. д.).
Это было особенно очевидно на примере Фонда «Национальная идея», о существовании которого нация (Никита в этом не сомневался) понятия не имела. Хотя, даже если бы ей (нации) сообщили об этом по всем телевизионным каналам, со страниц газет, по радио, а также через интернет, вряд ли бы что-то изменилось. Стихия ожидания и бездействия обладала столь великим запасом прочности, что уже казалась не богатырским (оздоровляющим) сном перед великими свершениями, но летаргией, комой, клинической смертью перед… смертью классической, окончательной и бесповоротной.
Таким образом, единственно возможной национальной идеей Никите представлялось пробуждение нации, выведение ее с помощью искусственного дыхания, прямой инъекции в сердце, электрошока из состояния клинической смерти, однако, похоже, это отнюдь не входило в задачу таинственного фонда.
Никите было не отделаться от ощущения, что деятельность фонда (насколько, естественно, она была доступна его пониманию), как, впрочем, и деятельность всех прочих общественных и политических организаций в России, являлась не чем иным, как сном внутри сна, комой внутри комы, клинической смертью внутри клинической смерти, когда умирающему представляется, что он летит к белому свету по темному коридору. Просто в одном сне (внутри полета к белому свету по темному коридору) была нищета, пустые карманы, нечего было пить и жрать, в другом – столы ломились от жратвы и питья, носились туда-сюда джипы и «Мерседесы», девки блестели голыми плечами, карманы топырились от долларов и не очень надежных рублей.
Судя по размерам кабинета, качеству мебели и оргтехники, Савва был в фонде не последним человеком. Никита подумал, что Савва вполне мог бы приспособить к столь щедро оплачиваемому поиску национальной идеи отца, чтобы тот не шлялся по дурацким сборищам, не звонил безуспешно в редакцию журнала «Третья стража» насчет гонорара. Да и для матери мог бы сыскать должностишку – вахтера, курьера, редактора – чтобы она не спала весь день, как сова, а по ночам не бродила бы по квартире, как привидение. Пристрастившееся к выпивке привидение, потому что во тьме мать торила путь либо на кухню (к холодильнику), либо в большую комнату, где в одном из отделений комода Савва разместил свой персональный бар.
Никита не знал: делиться или не делиться с Саввой предположением, что это он лишил девственности Цену?
С одной стороны, спор о том, кто именно – Никита или Савва? – лишил девственности Цену, напоминал библейскую историю о первородстве, которое Исав уступил Иакову за чечевичную похлебку. Только сейчас (уступи Никита Савве) никакой похлебки не предвиделось. В лучшем случае – презрительная усмешка. С другой – девственность Цены представала той самой (уже древнегреческой) рекой, в которую, оказывается, можно было войти (и следовательно, выйти?) дважды. Единственной возможностью покончить с безумием было снова встретиться с Ценой и убедиться… в чем? Что она дважды недевственница?
Никита подумал, что время от времени возникают странные проблемы, как бы приходящие из сна. Разрешить их в реальной жизни невозможно. Только во сне. Или возможно, но только в том случае, если саму реальную жизнь превратить в сон.
Воистину, сны вставлялись друг в друга, как матрешки, и было их число бесконечно, как и, если верить отцу, число параллельных миров.
Немногие бодрствующие, точнее, полагающие себя таковыми, к примеру Никита и Савва, находились в поле притяжения сна (комы, клинической смерти), как живые опилки в поле притяжения гигантского магнита. Принадлежать к спящей нации и быть свободным от сна невозможно, подумал Никита.
«В жизни много необъяснимого, точнее, не вдруг объяснимого», – заметил он Савве в духе самого Саввы.
«Ты хоть записал ее телефон? – Савва, в отличие от Никиты, был предельно конкретен. – Где она, говоришь, работает?»
«Учится в мединституте, – ответил Никита, – то ли на психиатра, то ли на хирурга».
«Понятно, – усмехнулся Савва, – эти девчонки из мединститута большие придумщицы насчет девственности, – уселся за стол, включил компьютер. – Как, впрочем, и девчонки из пединститута, – подмигнул Никите, – и даже девчонки вовсе не из института…»
…На новомодном овальном дисплее возникла карта России, напоминающая телевизионную карту погоды, вдоль которой по завершении новостей похаживают улыбчивые, похожие на тонких зубастых рыбок дикторши. Правда, на Саввиной карте не было цифровых обозначений температуры и миллиметров ртутного столба, пограничных линий между циклонами и антициклонами.
В школе, на университетских подготовительных курсах Никита довольно часто (как баран) смотрел на карту усеченной (без бывших четырнадцати союзных республик) России. Если на старых картах красный (как сваренный рак) СССР крепко (как пустынный саксаул) сидел в Центральной Азии, то нынешней России словно дали пинка по заднице, отчего она сильно (безвольно) выгнулась к Северу, очистив значительную часть евразийского материка. Ускользающими своими очертаниями Россия напоминала проколотый, сдуваемый, стремительно несущийся вверх воздушный шар. Собственно, уже и не шар, но еще и не резиновые, падающие вниз лохмотья.
Никита обнаружил, что отнюдь не по границам так называемых субъектов Федерации раскрашена карта, и не по географическим (низменность, возвышенность, горные хребты) характеристикам.
К примеру, северо-запад был изумрудно-зелен, но в волнистых коричневых подпалинах, как брюхо породистой коровы. Юг европейской России – пустынно-желт (как бы присыпан песком поверх выжженной стерни и, по всей видимости, безуро- жаен). Кавказ – пятнист, как витязь в тигровой (камуфляжной) шкуре. Урал – от Карского моря до Казахстана – напоминал грозный вороненый ствол, бессмысленно наведенный на белое ледовитое безмолвие, а отнюдь не на бывшую братскую республику, где нынче (как, впрочем, и везде) сильно притесняли русских. Западная Сибирь была какой-то сине-пупырчатой, и… будто бы даже очертания сиреневоволосой грудастой русалки с печально-блудливым лицом увиделись Никите в болотной глубине Западной Сибири. Русалка между тем кокетливо повела плавно переходящей в широчайший хвост талией, и изумленному Никите открылось, что в ямку русалочьего пупка вмонтирован немалых каратов бриллиант, а хвост у нее не простой, не серебряный и не золотой, а… нефтяной – как если бы русалка густо вымазала его в черной икре, хоть это и было совершенно невозможно. Подмигнув с похабной грустинкой Никите, русалка скользнула не в зыбкую комариную болотную топь, но… (Никита глазам своим не поверил) в магистральный нефтепровод.
Нефть – испражнения дьявола, вспомнил изречение какого-то религиозного мыслителя (надо думать, врага прогресса, ортодокса и мракобеса) Никита. Легко угадывалось и мнение этого мыслителя относительно другой составляющей природных богатств России – газа. «Чего ожидать от страны, живущей продажей испражнений дьявола? – с печалью подумал Никита. – Неужели помимо всех своих многочисленных ипостасей – матрешек, лебедушек, березок и т. д. – Россия еще и презираемая миром русалка из… магистрального нефтепровода?»
Волга и Обь напоминали сияющие космическим светом (замкнувшиеся?) высоковольтные провода, по которым струилась неведомая (неужто духовная?) энергия. И все было бы ничего, да только эта энергия уходила неизвестно куда – свистящим космическим бичом – в атмосферу, где приобретала зеленоватый оттенок, успокаивалась, широко струилась мозаичной лентой, приглядевшись к которой Никита определил, что единицей, так сказать, альфой и омегой мозаичного эскалатора является не что иное, как… стодолларовая (США) купюра. Эскалатор с такой энергией стремился ввысь и в сторону, что было совершенно очевидно: он никогда не коснется российской земли. Доллары не хлынут на нее, сохнущую (как невеста без жениха) без инвестиций, зеленым дождем.
Алтай, Тува и Бурятия были прозрачны как вода и как вода же непостижимы. Якутия и Дальний Восток – белоснежны, как тот самый чистый лист (народ), на котором можно начертать любые иероглифы. И там, действительно, возникали иероглифы, которые решительно сгоняли с листа редкие, написанные кириллицей буквы.
Приглядевшись, Никита обратил внимание, что внутри одних (господствующих на определенных пространствах) цветов на карте рождаются, исчезают, меняются, так сказать, цвета местного значения, отчего карта напоминает саморисующуюся картину. Причем картину, стремящуюся отнюдь не к гармонии и успокоению, но к некоему особенному самоутверждающемуся хаосу внутри… Никита долго не мог понять внутри чего, пока не понял: внутри… ничего! Внутри космоса, бесконечности. Вечности, Божьей воли и Божьей же неволи. Как если бы Россия, подобно выдранному из бабьего цветастого халата длинному лоскуту, астероидно плыла куда-то среди ледяного вакуума мироздания.
В противоположную (это однозначно) от долларов сторону.
«Надо полагать, это карта национальной идеи?» – поинтересовался Никита, не в силах оторвать взгляд от безнадежно (как два берега у одной реки) расходящихся бабьего лоскута и светящейся долларовой реки. Почему-то пришли на память строки Фета: «Не жизни жаль с томительным дыханьем. Что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем и в ночь идет, и плачет, уходя». Единственно, непонятно было: оттого ли плачет огонь, что уходит в ночь, или оттого, что превращается в доллары и, стало быть, остается какой-то своей частью на земле в виде материальных благ? И – какое отношение имеет к огню длинный цветастый бабий лоскут? У Никиты возникло подозрение, что этот лоскут в огне не горит и в (долларовой) реке не тонет.
«Да, это живая карта национальной идеи, – не стал запираться Савва, – насколько нам удалось ее воссоздать в режиме реального времени».
«Слушай, а что, собственно, за народ трудится в фонде? Я имею в виду, по каким критериям сюда отбирают?» – Никите было не отделаться от ощущения, что грудастая сиреневоволосая русалка обхватила его за шею и тянет вглубь синего болота, в темную (прямую) кишку нефтепровода, а может, в светящуюся энергетическую реку, где он разлетится, прозвенит центовой мелочью, как невидимый дождик над родимой сторонушкой. Никита уже почти что плакал, заворачиваясь в лоскут, уходя в ночь, хотя отнюдь и не просиял над целым мирозданием. Вообще, нигде и никак не просиял.
«Есть люди, – объяснил Савва, – которые к месту и не к месту произносят: “Эта страна”. Так вот, таких мы не принимаем».
«А каких принимаете?» – Никита подумал, что у него есть призрачный шанс. Он никогда не произносил: «Эта страна». Хотя никто его про нее и не спрашивал.
«Кто произносит: “Эта жизнь”», – сказал Савва.
«В смысле, кто готов в любой момент расстаться с жизнью? – уточнил Никита. – Но в этом случае уместнее было бы произносить: “Эта смерть”…»
«Тогда бы здесь работали исключительно боги, – рассмеялся Савва. – Хотя, – странно посмотрел на брата, – как знать, как знать…»
«Хорошо, – решил зайти с другого конца Никита, – что это означает?» – ткнул пальцем в изумрудно-зеленый с коричневыми подпалинами, как коровье брюхо, северо-запад.
«Много чего, – сказал Савва. – Во-первых, приостановку хозяйственной деятельности, то есть поля здесь сейчас почти не обрабатываются. Во-вторых, наступление дикой природы. Раз не обрабатываются поля, растет трава, наступает подлесок. Множатся зайцы, лисы, волки, а также водоплавающая и боровая дичь. Кроты борзеют, – тихо поделился с Никитой конфиденциальной, видимо, информацией Савва. – А где кроты нароют дыр, там что? Вот именно: лезет из земли разная нечисть! В-третьих, определенное улучшение экологической ситуации, видишь, какая прет густая зелень? Скотину – паси не хочу. Почему-то и не хотят, – добавил озабоченно. – В-четвертых, – кивнул на коричневые подпалины, – практически повсеместный, хоть и несколько сонный, переход на натуральное, краеугольным камнем которого является, как известно, корова, хозяйство, а также на гужевой транспорт. В-пятых…»
«Ну, а где здесь национальная идея?» – перебил Никита. Он недавно перечитывал Свифта, и ему было не отделаться от мысли, что Фонд «Национальная идея» – это летающий остров Лапуту, где ученые разрабатывали технологию извлечения солнечного света из огурцов.
«Ты прямо как наше руководство, – погрустнел Савва, – тебе тоже нужны чеканные формулировки и немедленные практические предложения. Национальная идея не может быть сформулирована по какой-нибудь одной, пусть яркой, но региональной тенденции. Только по совокупности тенденций».
«И в чем же эта совокупность? – спросил скорее по инерции Никита. Одного взгляда на дурную разноцветную карту было достаточно, чтобы понять: нет и не может быть никакой совокупности. – Не в том же, что несчастная Россия превращается ни во что, точнее, хрен знает во что?»
«Сколько в стране людей, – ответил Савва, – столько и национальных идей. У тебя – одна, у меня – другая, вон у него, – кивнул в окно на одинокого вечернего прохожего в плаще, шляпе, с зонтом как тростью и почему-то в очках с желтыми стеклами, – третья. – Желтые стекла ловили остаточный (сквозь небо, как сквозь фильтр) солнечный свет, соединяли его с сиреневыми сумерками, отчего как будто два зеленых луча-лазера выходили из глаз странного прохожего. Никита подумал, что Савва прав как никогда; у дяди ни на что не похожая национальная идея. Вот только на русского дядя не очень походил. Так что, может статься, он исповедовал некую наднациональную (как очки с желтыми стеклами) общечеловеческую идею. – В принципе, – продолжил Савва, проводив лазерного очко- (и национальной идеи) носца неодобрительным взглядом, – задача может заключаться в том, чтобы слепить, склеить, сложить, склепать рассеянную в воздухе идею, как мозаику, в понятное всем изображение, желательно плакат. Допустим, обеспечить экономический подъем. Или построить общество социального равенства и всеобщего благоденствия. Но это профанация национальной идеи, вернее, возведение в абсолют ее отдельных, чаще всего сугубо умозрительных, элементов. Что такое, к примеру, экономический подъем?» – строго, как если бы на месте Никиты вдруг оказался лазерный очконосец, исповедующий неизвестно какую, а точнее, плохую, неприличную национальную идею, поинтересовался Савва.
«Наверное, когда всего много, – предположил Никита, жизнь которого пока еще не удосужилась совпасть с экономическим подъемом в России, – все дешево и все работают».
«А я считаю, что экономический подъем сродни пробуждению после сна. Рано или поздно любой живой организм – отдельно взятый человек или целая страна, общество – просыпается», – заявил Савва.
Никита подумал, что вот он уже не мальчик, но (вспомнил вчерашнее) муж, а живой организм под названием Россия что-то не спешит просыпаться.
«В принципе, для достижения экономического подъема не надо делать… ничего, – огорошил Савва. – Надо лишь не суетиться и спокойненько его дождаться. Он придет, никуда не денется. Не надо только мешать, лезть с разными там экономическими теориями. Ведь Россия – это страна, которая на протяжении всей своей истории существовала не столько за счет труда, сколько за счет своего исключительного богатства. Это только на первый взгляд наши люди социально пассивны и политически неорганизованны. В действительности же они крайне своевольны и чудовищно упрямы в отстаивании собственных взглядов, точнее, отсутствия этих взглядов. Если кто-то вознамерился всю жизнь пить и умереть от водки, он будет пить и умрет, вне зависимости от создаваемых властью экономических условий. Если кто-то решил стать фермером, то это совершенно не означает, что он двинется по, казалось бы, естественному пути расширения, интенсификации производства – от фермы к заводику, от заводика к торговой точке. Нет, как дядя держал одну корову, так и будет держать ее до упора, молоко же будет отдавать… да хоть даром! – только тем, кто ему нравится, а кто не нравится, тем ни за какие деньги не продаст. И плевать он хотел на так называемое товарное производство, зачем ему товарное производство, если он и так с голода не пухнет? И таких тысячи. Но встречаются – один на тысячу – и те, кто пытается следовать экономической целесообразности, то есть расширять производство, искать сбыт, нанимать работников. Их, как правило, давят, но некоторые выживают. В общем, единственная задача власти в России – не мешать народу жить, как он хочет. По крайней мере, это гарантия, что он с голоду не помрет. А если помрет, то не по вине власти. Но так не бывает, – горестно вздохнул Савва, – потому что если позволить народу жить, как он хочет, с него будет нечего взять. А кому нужен такой народ? Какая власть согласится с этим? Вот почему мы хотим сформулировать истинную, независимую от чьх-то конкретных представлений, если можно так выразиться, Божественную национальную идею, суть которой… – Савва запнулся, – хотя бы в том, что она, эта суть, абсолютно неприемлема, более того, враждебна ее, так сказать, невольным носителям. То есть, грубо говоря, идея в том, с чем никто никогда не согласится, что все вместе и каждый в отдельности будут совершенно искренне отрицать и… ненавидеть, как, к примеру, отрицали и ненавидели социализм. Если невозможно позволить народу жить как он хочет, – подытожил Савва, – надо заставить его жить так, как он не хочет, потому что он не знает, чего он хочет, а чего не хочет!».
«Надо ли искать такую идею? – резонно, как ему показалось, заметил Никита. – Если она, как ты говоришь, не обрадует, а огорчит народ? Кому нужна такая идея?»
«Видишь ли, – произнес Савва, – в данном случае речь идет скорее о диагнозе, а не о волшебной палочке, с помощью которой все можно в один момент изменить к лучшему. Власть – это зеркало народа, его подсознание, квинтэссенция его психофизической сущности. Причем зеркало, висящее… в темной комнате. Поэтому тот, кто собирается управлять Россией, должен отдавать себе отчет… – Савва замолчал, и Никита понял, что брат сам не уверен в том, что говорит. – Одним словом, – быстро закончил Савва, – мы пытаемся приспособить не идею под власть, а… власть под идею».
«Зачем? – Никите стало тоскливо, как если бы Савва вознамерился открыть ему тайну, которую Никита совершенно не хотел знать. Допустим, что их отец – гомосексуалист, а мать – проститутка. Или что он, Никита, вообще Савве никакой не брат, а… бомжи (или их тогда еще не было?) ненастной ночью подбросили его под дверь с запиской, что младенца сего зовут Ахмед. Одним словом, тайну, в которой, как в капле воды, сосредоточилось, “заархивировалось”, если использовать компьютерный язык, неизбывное несовершенство мира. – Темное зеркало отражает темноту, – произнес упавшим голосом Никита. – Чтобы оно отразило свет, нужно зажечь свет».
«Божественный свет? – уточнил Савва. И добавил после паузы: – Зажечь его может только сам Господь Бог. Если, конечно, – посмотрел в окно на окончательно погрузившийся в сумерки переулок, – захочет. Если народы – мысли Бога, то ему и решать, какую мысль додумать до конца, довести до совершенства, а от какой и отказаться за ненадобностью. Вот что такое национальная идея».
Почему-то никто не зажигал (электрический) свет и в домах, как если бы обесточен был квартал, дома в переулке свободны от жильцов или жильцы в квартирах научились обходиться без света. Но квартал не был обесточен, свидетельством чему являлась светящаяся аспидная на белом фоне одного из фасадов надпись: «Спиртные напитки. Круглосуточно. ТОО “Убон”».
Вглядевшись пристальнее в темные окна, Никита все-таки обнаружил в узком, как стакан, угловом задавленный свет, внутри которого определенно угадывалось некое шевеление обнаженных тел на некоей плоскости, предположительно кровати. Собственно, ничего толком было не разглядеть, но (испорченное) воображение мгновенно дорисовало (порнографическую) картину, возвело ее в степень какого-то запредельного (крайне редкого в обыденной жизни) похабства. Застыдившись, Никита подумал, что, вполне возможно, там мать укладывает ребенка, и (исправившееся) воображение немедленно воспроизвело (в духе картины Рафаэля) эту самую добродетельную мать, а заодно и обнимающего ее пухлыми ручонками ребенка. Никита посмотрел в окно в третий раз и отчетливо понял, что не видит… ничего, точнее, видит ту самую тайну бытия, которая может быть всем, еще точнее – чем угодно, а еще точнее… ничем.
«Мир устроен предельно просто, – услышал он спокойный, очищенный от эмоций (так беспристрастный судья оглашает приговор) голос Саввы. Если Никита впервые испытал опустошающий душу наплыв концентрированной (по несовершенству мира и, следовательно… Бога?) тоски, то Савва, похоже, давно познал ее космические, не знающие предела масштабы. – История цивилизации элементарна, как… огурец, – из которого ты зачем-то вытягиваешь солнечный свет, немедленно подумал Никита. – Сначала Иисус Христос объяснил человечеству, что все люди равны, что они, так сказать, братья и сестры, что несть ни эллина, ни иудея, что не следует быть злым, а следует быть добрым. Затем Дарвин обосновал идею естественного отбора в том смысле, что естественный отбор в любой сфере – война, бизнес, спорт, тюрьма, продвижение по службе и так далее – человеческой деятельности в конечном итоге всегда сильнее таких вещей.
как дружба, привязанность, любовь, симпатия, общие интересы, то есть сильнее добра и зла, сильнее всего того, что открыл людям Христос. Маркс объяснил, что движущей силой истории являются экономические отношения, способы производства, классовая борьба неимущих за свои права. Фрейд – что в основе поведения человека, а следовательно, всего общественного развития лежит «либидо» – подавленное, некондиционное, скажем так, сексуальное влечение: сына к матери, дочери к отцу, и наоборот, то есть кого угодно к кому угодно и к чему угодно. В смысле, не угодно. Он доказал, точнее навязал, потому что доказательства как таковые у него нулевые, миру мысль, что человек, в сущности, гораздо ближе к животному, нежели… к Иисусу Христу, который тоже, кстати, не подкрепил свое учение стройной теорией. Но одно дело не доказать благое, тут вполне уместна презумпция невиновности. Совсем другое – объявить человеку, что он спит и видит, как трахнуть собственную мать, и не предоставить ему никаких этому доказательств, кроме… его собственного сна, которого тот, может статься, никогда и не видел, но – теоретически – мог видеть. Поэтому, говоря о человечестве, о перспективах цивилизации, грядущих веках, что мы имеем в сухом, так сказать, остатке? Идеологическо-физиологическо-биологическо- экономическую мешанину из Христа, Дарвина, Маркса, Фрейда и… Впрочем, – добавил задумчиво Савва, – тут возможны варианты, боковые пути. К примеру, Сталин и Гитлер доказали, что в основе поведения человека лежит не секс, но страх. Если заставить человека выбирать; жить без секса или вообще не жить, что он предпочтет? Он предпочтет жизнь без секса. Более того, – понизил голос Савва, – когда речь идет о жизни и смерти, человек неизменно отвергает самую красивую благородную героическую смерть и выбирает… любую… без… демократических институтов, социальной справедливости, права избирать и быть избранным, бесправную, позорную, рабскую, животную, ничтожную, но жизнь. Вот где, – победительно посмотрел на Никиту, – собака зарыта. Вот где протянулся главный нерв цивилизации, хотя, – усмехнулся, – честно говоря, я не понимаю: почему человек так цепляется за жизнь? Что ему в ней?»
«Вероятно, ничто, – предположил Никита, – за исключением того, что кроме нее у него ничего нет».
Он подумал, что Савва безумен. Собственно, Никита давно (с поездки в Крым) это знал, единственно, непонятно было:
кто, как, почему, зачем позволяет Савве с таким размахом совершенствовать, реализовывать свое безумие? Компьютеры, дисплеи, мониторы, черные кресла, металлические шкафы, мягкие паласы на полу, мраморная под красной дорожкой, как под издевательски высунутым языком, лестница, овальная мозаичная фреска внизу в бассейне, над которой медленно, как во сне, плавали золотые и красные японские рыбы, экзотические растения в кадках, отреставрированный в шевелюре сложных антенн, навостривший уши спутниковых тарелок особняк, обессвеченный (если не считать аспидного на белом фоне: «Спиртные напитки. Круглосуточно. ТОО “Убон”») кривой переулок, разливающиеся над ним сиреневые (уже фиолетовые) сумерки, сквозь которые прошел, как проплыл, единственный – в очках с желтыми стеклами – прохожий. Похоже, весь мир превратился в «надстройку» над безумием Саввы.
А что же базис? – подумал Никита.
А базис, сам себе ответил Никита, пронизавшее мир – от «бракованной» человеческой хромосомы до черной, пожирающей галактики вселенской дыры – несовершенство мироздания, пронзающее страдающую душу, как стрела летящую птицу, как зеленые лазеры желтых очков – сиреневые сумерки.
Никита испуганно посмотрел в фиолетовое на желтой световой (не вся же Москва томилась во тьме) подкладке небо, с которого, как невидимый дождь, падали пронзенные стрелами птицы-души, и которое в свою очередь пронзали зеленые лазеры носителя желтых очков и (тут не могло быть двух мнений) неправильных идей.
«В принципе, – продолжил Савва, – все уже взвешено, исчислено и разделено. Остался, так сказать, последний штришок… А потом – ясность, трезвость, – вольно процитировал Маяковского, – пустота, летите, в звезды врезываясь…»
«Последний штришок – это, собственно, что?» – полюбопытствовал Никита.
«А собственно то, что будет, к примеру, с тобой после смерти, – ответил Савва. – Должен же появиться кто-то, кто объяснит, закроет тему? Задернет, а может, наоборот, раздернет занавес, что, в принципе, одно и то же. Человечество, – неожиданно рассмеялся Савва, – во все времена норовило побаловаться с занавесом. В особенности, – добавил задумчиво, – любило его срывать и топтать. Видишь ли, люди быстро устают от определенности, летят на новизну, как мотыльки на горящую свечу, И чем чудовищнее новизна, тем охотнее летят, сжигая крылья, на которых потом могли бы… – прошептал почти неслышно, – прямо в рай».
«А от неопределенности разве не устают?» – спросил Никита.
«От неопределенности люди… пьют и мрут», – странно ответил Савва.
«То есть тебя не удовлетворяют объяснения Христа? – удивился, точнее, не удивился Никита, – Он же сказал, что будет после смерти».
«Удовлетворять-то удовлетворяют, – ответил Савва, – только, согласись, две тысячи лет – срок достаточный для того, чтобы объяснения выкристаллизовались в непреложные нормы, сродни закону земного тяготения. Если же этого не произошло, то как можно априори отвергать, так сказать, альтернативные системы доказательств?»
«По-твоему, последний штрих – это конечная и непреложная истина о смерти, – сказал Никита, – а ну как ее нет? В смысле, что это истина каждого конкретного индивидуального сознания, и, стало быть, Дарвин, Маркс, Фрейд… одним словом, любой, кто широко обобщает, ничего здесь лично тебе не присоветует?»
«Тогда все просто, – покачал головой Савва, – Я думал об этом. Тогда – каждому по его собственному представлению. Боюсь, что от обобщения не уйти, потому что нет более массового и предопределенного обобщения для человечества, нежели смерть каждого в отдельности, а в определенных временных рамках – всех вместе без никаких исключений».
«А если у человека нет никаких представлений?» – спросил Никита.
«Значит, он настолько туп и примитивен, что не заметит собственной смерти, – предположил Савва, – И таких немало».
«А по-моему, – возразил Никита, понимая иллюзорность (эфемерность, легковесность, главное же, необязательность и вторичность, точнее, десятитысячеричность) своего возражения, – последний штрих – это окончательное и бесповоротное осознание того, что в состоянии “вещь в себе” человек бесполезен и безнадежен. Допускаю, что абсолютная свобода есть абсолютное одиночество. Но человек, когда он один, не может ни черта и не нужен никому».
«А как же Бог? – поинтересовался Савва. – Ведь Бог один как перст».
«Но мы-то не боги, – пожал плечами Никита. – Дух Божий носился в изначальной пустоте, которую он затем преобразовал в… прекрасный, если бы мы его не испохабили, мир. Наш дух носится в… остаточно, скажем так, прекрасном мире, который мы преобразуем в похабную пустоту».
«В этом мире, в этом городе, там, где улицы грустят о лете, – дурным голосом (почему-то с армянским акцентом) пропел Савва, – я один, как даже не перст, а… – опять процитировал Маяковского, – последний глаз у идущего к слепым человека. И тем не менее я… кое-что могу, ты увидишь, и… кому-то определенно нужен, ты в этом убедишься. Но мне, в общем-то, нравится, как ты рассуждаешь. Мне бы и самому хотелось так думать. Если бы я наверняка не знал, что все не так».
Никита подумал об универсальности формулы: взвешен-ис- числен-разделен. Так, к примеру, судьба обошлась со столь милым сердцу Саввы Советским Союзом. Впрочем, и нечто из области коммерции увиделось Никите в последовательности этих действий. Взвешен – понятно. Исчислен – определена цена. Разделен – подготовлен к (розничной) продаже, которая, конечно, более хлопотна, нежели оптовая, но зато и (если время терпит) более выгодна.
А еще Никита подумал, что и тайна (истина) смерти вполне укладывается в уникальную формулу, где в каждое действие вмещаются два других. Взвешен, решил Никита, это когда окончательно расстался с жизнью, лежишь в гробу (или не в гробу, или не лежишь, но – однозначно – уже никогда не поднимешься и не пойдешь). Исчислен – это на Страшном суде, где же еще? Разделен – когда душа отделена от тела и – одновременно опять (уже душа) взвешена: сколько в ней хорошего, а сколько плохого. Если хорошего больше – в один конец. Если плохого – в другой. А еще Никита подумал, что человек перманентно, в режиме non-stop взвешивается, исчисляется и разделяется, хотя и не замечает этого.
«Значит, ты полагаешь, – постарался как можно короче и яснее сформулировать вопрос Никита, – что национальная идея России в настоящее время – это смерть?»
«Если ты жаждешь однозначного ответа, то да, я считаю, что в настоящее время национальная идея России – это смерть.
Но, видишь ли… – замялся Савва, – клиническая картина смазана, неоднозначна, противоречива, как… жизнь, поэтому не каждому дано видеть ее во всей непреложности. Наоборот, в силу собственных представлений все видят разное, а потому теряются. Кто-то – безвластие, пороки административно-территориального деления и управления, кто-то – всемирный масонский или олигархический заговор, кто-то – неправильную экономику, кто-то – информ- и политтехнологии, скотинящие народ, кто- то… еще что-то. Видишь ли, – вздохнул Савва, – чтобы поставить правильный диагноз, мало читать газеты и аналитические сводки. Надо повернуть глаза внутрь себя, и…»
«Все люди смертны, – возразил Никита. – Но это отнюдь не означает, что вокруг одна лишь смерть. Наоборот, всюду жизнь. Помнишь, так еще называется старая картина: каторжные ребята смотрят из зарешеченного вагона на голубей…»
«По-своему, – как бы не расслышал его Савва, – открывшийся пейзаж величествен, ибо в чем еще, как не в отвязанности от обыденной жизни, заключается полная, абсолютная свобода? Воистину, Россия сейчас самая свободная страна в мире! Ее можно уподобить человеку, задумавшему самоубийство, только вот еще окончательно не решившему, как его совершить: прямо, чтобы всем было ясно, или хитро, чтобы можно было свалить на печальное стечение обстоятельств, историческую предопределенность, – почувствовал, что в России окончательно утвердился авторитаризм, и все, не захотел жить рабом, несчастный случай и так далее. Видишь ли, – неожиданно упавшим голосом продолжил Савва, и Никита понял, что Савва говорит не только о России, но и о себе, – мысленное приуготовление к смерти – это не столько действие, сколько процесс, иногда весьма и весьма растянутый во времени. Сначала кажется, что это игра, что в любой момент можно остановиться, вернуться, так сказать, на исходные позиции, к рутинному существованию. Человек сам толком не знает, задумал он самоубийство или не задумал, а если задумал, то что конкретно, и вообще, задумал ли? Однако сам строй его мыслей, сама его жизнь, сами его представления уже (незаметно для него, а зачастую и для окружающих) меняются. Его уже не волнует, как стоят на полках книги, с какими людьми он выпивает, что с потолка сыплется штукатурка, а кран в ванной ссыт круглые сутки ржавой мочой, есть ли еда в холодильнике или там шаром покати, плевать он хотел на газеты и телевизионные новости.
научные открытия, экспедицию на Марс, войну на Северном Кавказе, социальную несправедливость, ему до п… ремонт квартиры, приобретение нового дивана, а также где он будет летом отдыхать, повысят или снизят зарплату, кто президент страны, какая экономическая программа у правительства. Он устремлен в иные пределы, всматривается в бездну, которая, как утверждал Ницше, в свою очередь всматривается в него, гонится за призраком, которого в конце концов настигает, – одним словом, готовит себя к иной участи. Вот в каком состоянии пребывает нынче Россия. Причем как общество в целом, так и каждая отдельная личность. Чтобы совершить самоубийство, – вздохнул Савва, – потребна гигантская воля, напряжение всех душевных и физических сил. Эта воля у России есть. И в то же время нет воли, чтобы противостоять ничтожным, случайным историческим – я имею в виду так называемые реформы – обстоятельствам. Что проще – прогнать воровскую сволочь или… уйти из жизни? Конечно, прогнать. Но мы уходим. Люди изъяты из привычного круга жизни и, подобно зернам, помещены между жерновами мироздания…»
«Какими-какими жерновами?» – перебил Савву Никита, не в силах отделаться от мгновенного, но навязчивого образа… взаимодействующих мужских и женских половых органов. Почему-то явилась мысль, что именно они и есть жернова мироздания. Образ стремительно (и концептуально) разрастался. Зорким, как у орла (точнее, у «погруженного» в эту тему подростка), взглядом Никита разглядел и зерно внутри (между) жерновами. Должно быть, ему передалось безумие Саввы, потому что этим самым зерном оказался… гомункулус – крохотный светящийся человечек с невыразимо печальным взглядом то ли в реторте, то ли в… презервативе. Никита вдруг подумал, что существует (параллельная?) цивилизация гомункулусов и что синтезируются они (кем?) из ликвидированных посредством контрацептивов, а также абортированных младенцев в полном соответствием с законом о сохранении энергии, ибо, как известно, энергия, тем более энергия пусть и несостоявшегося, но по образу и подобию Божьему человека не может бесследно исчезнуть, а может только куда-то перетечь, чтобы сохраниться.
Самое удивительное, что дикая и непотребная эта теория, в принципе, не сильно противоречила логике.
«Жерновами? – удивленно посмотрел на него Савва. – Какими жерновами? Как какими? Кантовскими! Звездное небо над головой и моральный закон во мне. Но это в обществе, к которому применима категория «нормальное», А что у нас? Нет промышленности, нет сельского хозяйства, нет искусства, нет литературы, нет кино, нет науки, но еще остались люди, которые когда-то всем этим занимались. Сейчас они не занимаются ничем, дотлевают, стараясь не подохнуть с голода. Первый признак отсроченной – социальной – смерти – исчезновение среды обитания, где человек мог себя когда-то реализовать, где он беззаботно жировал, подобно рыбе в прибрежных камышах».
«Куда же она исчезает, эта среда?» – прервал брата Никита, не в силах отделаться от мыслей о законе сохранения энергии.
«А превращается в деньги, которыми владеют другие дяди, – неожиданно просто ответил Савва. – Был, допустим, НИИ, проектировал… ну, скажем, нагреватели. НИИ нет, никто не работает, нагреватели не проектируются, но куда-то же все это делось, во что-то же превратилось? А превратилось это в деньги, которые положил себе в карман некий дядя. Он думает, что всех облапошил, и не знает, что они не принесут ему счастья, потому что в этих деньгах – отобранная жизнь и, следовательно, приближенная смерть, которые вопиют, да? – посмотрел на Никиту Савва. – Вопиют, взыскуют и алчут справедливости. Так что второй признак отстроченной смерти – космическое одиночество, которое настигает как тех, у кого отняли жизнь, так и тех, кто отнял, конвертировав ее в деньги. Исчезновение и одиночество – имя новым жерновам. Вот почему, – торжественно поднял вверх палец Савва, окончательно уверив Никиту в собственном безумии, – душу народа-смертника все новым и возрастающим изумлением наполняют не кантовские звездное небо и моральный закон, но… – выпучил глаза и окончательно стал похож уже на классического, по какому плачет смирительная рубашка, безумца. Разве только без пены на губах, – водка и телевизор. Водка заменяет среду обитания, люди растворяются в водке, как раньше в общественном строе, в трудовом коллективе, в семье, в парторганизации. Телевизор – избавляет от одиночества, насыщая душу разрушающей картину мира, тупящей бессмысленной информацией. Вот и получается, – развел руками Савва, – что Россию волнует не столько вопрос, как наладить жизнь, а что будет… после этой самой жизни. Иначе бы население не сокращалось каждый год на миллион человек. Естественно, все намного сложнее, но, думаю, суть я тебе объяснил. Национальная идея России – все и ничто одновременно. Национальная идея России – гипотетический мир за чертой, про который говорят “лучший из миров”, но не знают наверняка, есть он или нет, а если есть, то и впрямь – лучший ли?»
У Никиты возникло ощущение, что все, о чем они говорят, не имеет ни малейшего отношения к жизни за вакуумно-звуконепроницаемыми окнами особняка, где люди ходят на работу, сражаются с безденежьем, читают книги, занимаются (не всегда криминальным) бизнесом, бомжуют, пьянствуют, развратничают, молятся в храмах – одним словом, делают самые разные вещи, определенно не стремясь при этом к смерти, равно как и не желая возвращения социализма, при котором якобы их существование было исполнено высокого геополитического, цивилизационного и прочего смысла. Не сильно как-то рвались людишки под тяжелую руку нового товарища Сталина, который, как известно, принял Россию с сохой, а сдал с атомной бомбой. Сейчас Россия, как огромная отпущенная (или опущенная) резинка вновь стремилась к сохе, и плевать ей было на атомную бомбу. И еще у Никиты возникло ощущение, что, сведя все к водке и телевизору, брат издевается над ним.
О чем он и поведал Савве.
«Меньше всего, – рассмеялся Савва, – меня волнует проблема правдоподобия, равно как и насыщения той или иной гипотезы трагедийным или комедийным содержанием. Более того, – понизил голос, – чем менее гипотеза правдоподобна и, следовательно, менее понятна, в смысле, абсурдна и невероятна, тем больше у нее шансов превратиться в России в руководство к действию. Чем, собственно, моя программа хуже программы построения коммунизма, когда должны были отмереть за ненадобностью национальные различия, деньги и государство, или программы либерального реформирования России, когда, напротив, стало отмирать все, за исключением именно национальных различий, денег и государства, превратившегося в главного вора, в крыловского кота, который жрет то, что должен стеречь? Так почему определяющими субъектами развития общества не могут быть такие категории, как жизнь и смерть? Так почему путь от жизни к смерти не может пролегать через водку и телевизор? Кто может четко и ясно объяснить человеку, что его ожидает после смерти? Только Бог! Следовательно, русский народ – избранный с точки зрения приближения к Богу народ. Пьет водочку, как святую воду, смотрит в телевизор и думает, что видит там… Бога. Ведь если вдуматься, – продолжил Савва, – вся жизнь человека – роман со смертью, имеющий стопроцентные шансы на взаимность, так сказать, гарантированный, а может, гарантийный роман. Видишь ли, смерть – серьезная и очень искренняя девушка, любые, даже самые мимолетные знаки внимания к себе она истолковывает однозначно. Ее принцип: верность до гроба. Иной раз, – понизил голос Савва, – если кто-то ей сильно глянется, она сама идет на контакт. Человек, находясь в расцвете душевных и физических сил, решительно не помышляя о смерти, иной раз чувствует… с ее стороны, так сказать, неожиданную взаимность и… – продолжил совсем уже шепотом, – странным образом отзывается на нее, безумствует, как мальчишка, чтобы, значит, по полной насладиться романом, пока молод и крепок, а не когда превратится в едва таскающего ноги маразматика…»
«Сам ищет смерти? – уточнил Никита. – Но ведь это вопреки… всему».
«Не знаю, чего именно он ищет, – развел руками Савва. – Наверное, любви, но… не женщины, не власти, даже не нации и не человечества, а… синтезирующей все это, включая бесконечную любовь к самому себе, любви… Той любви, которой любит человека Бог. Но насладиться этой любовью человек может только после смерти, вот в чем дело!»
«С религиозной точки зрения самоубийство – грех», – быстро возразил Никита.
«Смертный грех, – подчеркнул Савва. – Речь идет одновременно о полноте бытия и полной тщете этого самого бытия, вселенской любви к самому себе и осознании конечности себя в этом мире. То есть истина как бы постигается в двух не просто взаимоисключающих, но взаимоуничтожающих измерениях. Поэтому речь идет не о жизни и смерти, а о смертельном приближении к сути – тайне – жизни. Вот почему, – добавил служеб- но и деловито, как если бы давал объяснения официальному лицу по некоему малозначимому поводу, – человек не может не ощущать этой взаимности, причем даже не обязательно по отношению к себе лично, но и к другим людям».
«Которые неожиданным образом возвышаются над ним», – закончил мысль Никита.
«Увы, – сказал Савва, – смерть в разных дозах присутствует во всем, что над обыденной жизнью среднего (ничтожного) человека, в любом, как со знаком плюс, так и минус, величии».
Никите показалось, что он ощущает это присутствие, эту завораживающую взаимность, причем рядом не с собой, а… с Саввой. Как будто в холодном разреженном воздухе стоял надменно Савва, не замечая ни холода, ни того, что трудно дышать. Как если бы уже стал богом, если, конечно, не был им раньше. Только вот каким, чего именно богом – это было не вполне понятно.
Впрочем, Никита давно смирился с тем, что в таком деле, как повседневная жизнь, понимание, в принципе, являлось отсутствующей категорией, точнее, категорией «по умолчанию». В этом поглощающем жизнь, как субъекты Российской Федерации суверенитет, «умолчании», будто в черном омуте, тонуло как понимание, так и непонимание.
«Как ни крути, – тихо произнес Савва, – а получается, что смерть есть дух, то есть то, что подвигает к величию, и она же есть полнейшее отсутствие духа, то есть то, что подвигает к ничтожеству, что в данный момент наблюдается у русского народа. То есть у нее, как и у всего сущего и не сущего, два взаимо- уничтожающих измерения. Вообще-то, – продолжил Савва, – Россия слишком… не скажу чтобы мала, но пустынна и безответна, чтобы тратить на нее мои уменьшающиеся с каждым часом силы, но… – замолчал, собираясь с мыслями, которые, видимо, как недисциплинированные солдаты, самовольно оставили место сбора, – едва ли существует в мире более благоприятный материал для опыта по превращению не сущего в сущее, орла в решку, ничего во все, воли к смерти в волю к жизни и так далее».