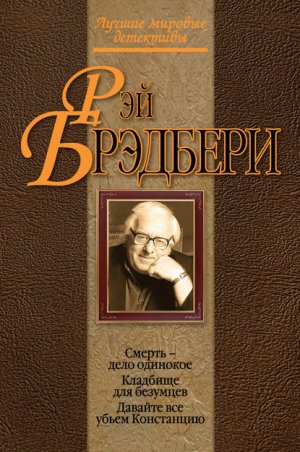
От переводчика
«Кладбище для безумцев» (1990) вместе с романами «Смерть — дело одинокое» (1985) и «Давайте все убьем Констанцию» (2002) входит в своеобразную мистическую трилогию, связанную не столько общим сюжетом, сколько действующими во всех трех романах персонажами, в том числе и фигурой рассказчика, которому Брэдбери, несомненно, подарил часть своей подлинной биографии.
Действие мистического детектива происходит в Голливуде, в 1954 году, примерно в тот период, когда сам писатель работал в качестве сценариста над фильмами «Пришелец из космоса» (It Came from Outer Space, 1953) и «Царь царей» (King of Kings, 1961). Сюжетно эти фильмы также перекликаются с теми вымышленными кинокартинами, съемки которых описаны в романе.
Вообще, «Кладбище для безумцев» изобилует отсылками к голливудским реалиям, что отражено в примечаниях. Конечно, нельзя сказать, что за каждым вымышленным именем и названием скрывается реальный человек или место, тем не менее под многими из них угадываются конкретные прототипы. Так, киностудия «Максимус», вобравшая в себя характерные черты многих гигантов Голливуда (например, «Метро-Голдвин-Майер»), внешне очень напоминает знаменитую «Парамаунт пикчерз». Действительно, территория «Парамаунта» примыкает своей задней стеной к кладбищу «Холливуд форевер» (Hollywood Forever Сеmetry), где покоится прах многих голливудских звезд. Да и описание ажурных ворот в испанском стиле не оставляет никаких сомнений в том, что Брэдбери «списал» их именно с «Парамаунта». За образами Роя Холдстрома и Фрица Вонга угадываются друзья писателя Рэй Харрихаузен и Фриц Ланг. Что касается Арбутнота, его можно назвать собирательным образом киномагната голливудского золотого века.
«Кладбище для безумцев» — настоящая энциклопедия Голливуда 30-50-х годов прошлого века, что делает этот роман не просто увлекательным, но и познавательным чтением.
О. Акимова
1
Жили-были два города внутри города: один светлый, другой темный. Один весь день в непрестанном движении, другой — всегда неподвижен. Один — теплый, наполненный изменчивыми огнями, другой — холодный, застывший под тяжестью камней. Но когда по вечерам над «Максимус филмз», городом живых, заходило солнце, он становился похож на расположенное напротив кладбище «Грин-Глейдс», город мертвых.
Когда гасли огни, и все замирало, и ветер, овевавший угловатые здания киностудии, становился холоднее, казалось, невероятная грусть проносилась по сумеречным улицам — от ворот города живых к высокой кирпичной стене, разделявшей два города внутри города. И внезапно улицы наполнялись чем-то таким, что можно назвать не иначе как припоминанием. Ибо, когда люди уходят, остаются лишь архитектурные постройки, населенные призраками невероятных событий.
Да, это был самый безумный город в мире, где ничего не могло произойти и происходило все. Здесь убивали десять тысяч людей, а потом они вставали, смеясь, и спокойно расходились. Здесь поджигались и не сгорали целые дома. Выли сирены, мчались патрульные машины, их заносило на поворотах, а потом полицейские снимали синюю униформу, смывали кольдкремом сочно-оранжевый макияж и возвращались к себе, в маленький придорожный отель где-то там, в огромном и невероятно скучном мире.
Здесь бродили динозавры: вот они совсем крохотные — и вдруг уже пятидесятифутовые ящеры надвигаются на полураздетых дев, визжащих в унисон. Отсюда отправлялись воины в различные походы, чтобы в конце пути (чуть дальше по улице) сложить доспехи и копья в костюмерной «Вестерн костьюм компани».[2] Здесь рубил головы Генрих VIII. Отсюда Дракула отправился бродить по свету во плоти, чтоб вернуться во прахе. Здесь видны Стояния Крестного пути[3] и остался след неиссякаемых потоков крови тех сценаристов, что, изнемогая, несли свой крест к Голгофе, сгибаясь под непосильной тяжестью поправок, а за ними по пятам гнались режиссеры с плеткой и монтажеры с острыми как бритва ножами. С этих башен правоверных мусульман призывали каждый день к послезакатной молитве, а из ворот с шелестом выезжали лимузины, где за каждым окном сидели безликие властители, и селяне отводили взгляд, боясь ослепнуть от их сияния.
Все это было наяву, и тем охотнее верилось, что с заходом солнца проснутся старые призраки, теплый город остынет и станет похож на дорожки по ту сторону стены, окруженные мраморными плитами. К полуночи, погрузившись в этот странный покой, рожденный холодом, ветром и далекими отзвуками церковных колоколов, два города наконец становились одним. И ночной сторож был единственным живым существом, бродившим от Индии до Франции, от канзасских прерий до нью-йоркских домов из песчаника, от Пикадилли до Пьяцца-ди-Спанья, за каких-то двадцать минут проделывая немыслимые двадцать тысяч миль. А его двойник за стеной проводил свою рабочую ночь, бродя среди памятников, выхватывая фонарем из темноты всевозможных арктических ангелов, читая имена, как титры, на надгробиях, и садился полуночничать за чаем с останками кого-нибудь из «Кистонских полицейских».[4] В четыре утра сторожа засыпают, и оба города, бережно свернутые, ждут, когда солнце взойдет над засохшими цветами, стертыми надгробиями и родиной индийских слонов: они готовы принять по воле Режиссера-Вседержителя и с благословения агентства «Сентрал кастинг»[5] бесчисленные толпы народа.
Так было и в канун Дня всех святых 1954 года.
Хеллоуин.
Моя самая любимая ночь в году.
Если бы ее не было, я никогда не сел бы писать эту новую «Повесть о двух городах».[6]
Как я мог устоять, когда холодный резец выгравировал на камне приглашение?
Как я мог не преклонить колено, не набрать в грудь побольше воздуха и не сдуть пыль с мраморной плиты?
2
Первым пришел…
В то утро после Хеллоуина я пришел на студию в семь утра.
Последним ушел…
Было почти десять вечера, когда я в последний раз совершал свой ночной обход, упиваясь простой, но невероятной мыслью, что наконец-то работаю там, где все ясно определено. Здесь все имело совершенно явное начало и четкий, необратимый конец. Там, за стенами съемочного павильона, я не слишком доверял жизни с ее пугающими сюрпризами и допотопными сюжетами. Здесь же, гуляя по аллеям на рассвете или на закате, я мог воображать, будто сам открываю и закрываю киностудию. Она принадлежала мне, ибо я так захотел.
Итак, я шагал по территории в полмили шириной и в милю глубиной, среди четырнадцати кинопавильонов и десяти открытых съемочных площадок, жертва собственного романтизма и безумной страсти к кино, которое укрощает жизнь, — а там, по ту сторону ажурных кованых ворот в испанском стиле, никто ее укротить не мог.
Час был поздний, но многие съемочные группы составили свое расписание так, чтобы закончить съемки в канун Дня всех святых, так что прощальные попойки в честь окончания съемок совпали на разных площадках. Из трех павильонов, распахнувших гигантские раздвижные ворота, гремел джаз, слышался смех, хлопали пробки от шампанского и доносились песни. Народ внутри, разодетый в киношные костюмы, приветствовал народ, ввалившийся снаружи в нарядах на Хеллоуин.
Я же никуда не входил, только лишь улыбался или смеялся, проходя мимо павильонов и площадок. В конце концов, раз уж я вообразил себя хозяином киностудии, то мог задержаться или уйти когда угодно.
Но стоило мне вновь ступить во тьму, и я чувствовал внутри себя какую-то дрожь. Моя любовь к кино началась много лет назад. Словно Кинг-Конг, она обрушилась на меня, когда мне было тринадцать; и я так и не смог выбраться из-под этой гигантской туши, в которой билось сердце.
Каждое утро, когда я приходил на студию, она точно так же обрушивалась на меня. Несколько часов уходило на то, чтобы побороть ее чары, восстановить дыхание и приняться за работу. На закате волшебные чары снова опутывали меня; мне становилось трудно дышать. Я знал, что когда-нибудь, очень скоро, мне придется покинуть эти места, вырваться на волю, уйти и больше не возвращаться, иначе кино, как Кинг-Конг, вечно падающий точно на свою жертву, однажды прихлопнет меня насмерть.
Я как раз проходил мимо крайнего павильона, когда его стены в последний раз сотряслись от взрыва веселого смеха и грохота джазовых барабанов. Один из ассистентов оператора пронесся мимо меня на велосипеде; его багажная корзина была доверху наполнена кинопленкой, отправляющейся на вскрытие под нож монтажера, в чьей власти спасти картину либо похоронить ее навеки. Затем она попадет или в кинотеатры, или на полку с мертвыми фильмами, где не сгниет — всего лишь покроется пылью.
Где-то на Голливудских холмах церковные часы пробили десять. Я повернул и не спеша побрел к своей каморке в здании для сценаристов.
В кабинете меня ожидало приглашение стать безмозглым тупицей.
Нет, оно не было выгравировано на мраморной плите, а всего лишь аккуратно напечатано на хорошей почтовой бумаге.
Прочтя его, я сполз в кресло, лицо мое покрылось холодной испариной, рука порывалась схватить, скомкать и выбросить подальше этот листок.
Вот что в нем было:
«Грин-Глейдс-парк»,
Хеллоуин
Сегодня в полночь.
У дальней стены, в середине.
P. S. Вас ждет потрясающее открытие. Материал для бестселлера или отличного сценария. Не пропустите!
Вообще-то я совсем не храбрец. Я не вожу машину. Не летаю самолетами. До двадцати пяти лет боялся женщин. Ненавижу высоту; Эмпайр-стейт-билдинг[7] — для меня сущий кошмар. Меня пугают лифты. Эскалаторы вызывают тревогу. Я разборчив в еде. Первый раз я попробовал стейк лишь в двадцать четыре года, а все детство провел на гамбургерах, бутербродах с ветчиной и пикулями, яйцах и томатном супе.
— «Грин-Глейдс-парк»! — произнес я вслух.
«Господи! — подумал я. — В полночь? Это я-то, которого лет в пятнадцать гоняла толпа уличных задир? Мальчик, спрятавшийся в объятиях брата, когда впервые смотрел „Призрак оперы“?[8]»
Да, он самый.
— Дурак! — завопил я.
И отправился на кладбище. В полночь.
3
На выходе из студии я хотел было зайти в мужской туалет неподалеку от главных ворот, но затем повернул в другую сторону. От этого места я по давней привычке держался подальше: подземная пещера, где слышались звуки невидимых струй и торопливые всплески — словно шмыгнул проворный рак, — стоило лишь коснуться ручки и приоткрыть дверь. Я всегда останавливался, откашливался и медленно открывал дверь. И тогда дверцы кабинок начинали захлопываться то со стуком, то совсем тихо, а иногда с грохотом ружейного выстрела, словно те, кто обитал в этой пещере весь день и из-за вечеринок не прятался даже в этот поздний час, в панике разбегались кто куда, — и ты входил в тишину холодного кафеля и подземных течений, поскорее делал свои дела и выскакивал, не помыв рук, чтобы уже снаружи услышать, как неохотно просыпаются ловкие раки, с шорохом распахиваются двери и всплывают на поверхность пещерные жители, встревоженные и всполошенные, кто сильно, кто нет.
Итак, я повернул в другую сторону и, окликнув, нет ли кого внутри, нырнул в женский туалет напротив: холодное, отделанное чистым белым кафелем помещение, ни темной пещеры, ни шмыгающих существ, — а потом мигом вынырнул обратно, как раз вовремя, чтобы увидеть, как мимо шагает отряд прусской гвардии, направляясь на вечеринку в десятом павильоне. Командир, светловолосый красавец с большими невинными глазами, покинул своих гвардейцев и, ничего не подозревая, пошел к мужской уборной.
«Больше никто его не увидит», — подумал я и заспешил прочь по улице. Была уже почти полночь.
Такси (оно мне не по карману, но не пойду же я в одиночку на кладбище, черт побери!) остановилось перед кладбищенскими воротами за три минуты до назначенного времени.
Долгих две минуты я прикидывал в уме количество склепов и могил, где около девяти тысяч мертвецов были на полной ставке у фирмы «Грин-Глейдс-парк».
Пятьдесят лет их складывали сюда, каждого в свое время. С тех самых пор, как владельцам строительной конторы Сэму Грину и Ральфу Глейду пришлось объявить о своем банкротстве, снять вывеску и занять участок надгробиями.
Понимая, что их имена неплохо сочетаются, обанкротившиеся строители одноэтажных коттеджей назвали новое дело просто «Грин-Глейдс-парк», и всех скелетов, выпавших из шкафов соседней киностудии, стали хоронить здесь, на этом кладбище.
Поговаривали, что киношники, замешанные в их темной афере с недвижимостью, вложились в дело: взамен два джентльмена будто бы соглашались держать язык за зубами. Все слухи, пересуды, грехи и старые делишки были похоронены в первой же могиле.
И вот, сжав колени и стиснув зубы, я сидел, уставившись на маячившую вдалеке стену, за которой я насчитал шесть мирных, теплых, прекрасных павильонов, где завершались последние хеллоуинские пирушки, заканчивались последние вечеринки, затихала музыка, и хорошие парни вместе с плохими направлялись домой.
И пока я глядел на отсветы автомобильных фар, пляшущие на высоченных стенах павильонов, воображая себе все эти бесконечные прощания — «пока», «доброй ночи», — мне вдруг так захотелось быть вместе с ними, плохими и хорошими, и ехать неизвестно куда: лучше уж неизвестность, чем это.
На кладбище часы пробили полночь.
— Ну что? — раздался чей-то голос.
Мой взгляд словно отскочил от стены киностудии и остановился на стриженой голове шофера такси.
Тот пристально всматривался сквозь железную решетку, высасывая аромат из мятной жвачки, прилепленной к зубам. Ворота дребезжали от ветра, вдали замирало эхо башенных часов.
— Ну и кто пойдет открывать ворота? — спросил шофер.
— Я?! — в ужасе переспросил я.
— Сам напросился.
После долгих колебаний я все же заставил себя взяться рукой за ворота: к моему удивлению, они оказались незапертыми, и я распахнул их настежь.
Я повел за собой машину, как старик, ведущий под уздцы смертельно усталую и перепуганную лошадь. Такси неустанно что-то бормотало вполголоса, но все без толку, а шофер вторил шепотом:
— Черт, черт! Если что-то пойдет в нашу сторону, не думай, я здесь не останусь.
— Ничего, я тоже здесь не останусь. Вперед!
По обе стороны гравийной дорожки виднелось множество белых силуэтов. Я услышал чей-то призрачный вздох, но это было всего лишь мое дыхание: легкие пыхтели, как кузнечные мехи, пытаясь раздуть в груди хоть какую-то искру.
На голову мне упали несколько капель дождя.
— Боже, — прошептал я. — И зонтика нет.
«Какого лешего я здесь делаю?» — пронеслось в моей голове.
Каждый раз, пересматривая старые фильмы ужасов, я смеялся над тем, как парень выходит поздно ночью на улицу, хотя надо было остаться дома. Или над тем, как женщина делает то же самое, хлопая большими невинными глазами и надевая туфли на шпильках, в которых на бегу только спотыкаешься. Но вот и со мной случилось то же самое, и все из-за этой дурацкой соблазнительной записки.
— Все! — прокричал таксист. — Дальше не поеду!
— Трус! — крикнул я.
— Ага! Я подожду здесь!
И вот я уже шагаю к дальней стене, дождь льет как из ведра, заливая лицо и пожар проклятий, клокочущий в моем горле.
Фары такси давали достаточно света, чтобы разглядеть лестницу, прислоненную к задней ограде кладбища: по ней можно было забраться и попасть на натурные площадки «Максимус филмз».
Я остановился у подножия и стал вглядываться вверх сквозь холодную морось.
Там, наверху, стоял человек. Он словно собирался перелезть через стену.
Но его фигура застыла, точно вспышка молнии выхватила ее и навсегда запечатлела на бледно-голубой эмульсии кинопленки: голова была наклонена вперед, как у бегуна-рекордсмена, а тело согнулось так, будто он готов был перевалиться через стену и сорваться вниз, на территорию «Максимус филмз».
Однако человек, словно статуя, не менял этой нелепой позы.
Я хотел было окликнуть его, но тут понял, почему он молчит, почему он так неподвижен.
Человек на лестнице то ли умирал, то ли был мертв.
Он пришел сюда, преследуемый тьмой, забрался на лестницу и окаменел при виде… чего? Может, что-то у него за спиной заставило его замереть от ужаса? Или — еще хуже — что-то за стеной, в темноте студии?
Дождь поливал белые камни надгробий.
Я слегка подергал лестницу.
— Господи! — вскричал я.
Потому что старик на вершине лестницы вдруг свалился вниз.
Я отскочил и бросился на землю.
Он упал между надгробиями, как десятитонный свинцовый метеор. Я поднялся на ноги и склонился над ним, уже не слыша ни грохота в своей груди, ни шелеста дождя, омывавшего каменные плиты и тело покойного.
Я вгляделся в его лицо.
Ответом был взгляд водянистых, бесцветных глаз.
— Почему ты смотришь на меня? — спросил он молча.
«Потому, — подумал я, — что я тебя узнал!»
Лицо его было белым, как надгробные камни.
«Джеймс Чарльз Арбутнот, бывший глава „Максимус филмз“», — подумал я.
Да, прошептал он.
«Но, но, — беззвучно кричал я, — в последний раз я видел тебя в тринадцать лет, я катался на роликах напротив твоей студии в ту самую неделю, когда ты погиб, двадцать лет назад; потом появились дюжины фотографий — две разбитые машины, врезавшиеся в телефонный столб, страшные, искореженные обломки, окровавленная мостовая, изуродованные тела; а после этого были два дня с сотнями других фотографий — тысячи людей, пришедших на твои похороны, миллион цветов, нью-йоркские боссы, утирающие непритворные слезы, и мокрые глаза за двумя сотнями темных очков, когда актеры без улыбки выходили из машин. Да, это стало большой утратой для всех. А эти последние фото искореженных машин на бульваре Санта-Моника, а газеты, которые неделями не могли забыть о тебе, а радио, где непрестанно пели тебе хвалы и не прощали короля за то, что он ушел навсегда! И все это, Джеймс Чарльз Арбутнот, все это ты.
Не может быть! Это невозможно! — почти кричал я. — Ты, здесь, сейчас, на стене? Кто тебя туда затащил? Тебя что, можно убивать много раз?»
Сверкнула молния. Удар грома обрушился, словно хлопнула гигантская дверь. Дождь поливал лицо мертвеца, капли-слезы текли из глаз. Открытый рот заполнялся водой.
Я закричал и опрометью бросился прочь.
Добежав до такси, я понял, что сердце мое осталось там, возле тела.
Теперь оно гналось за мной. Оно настигло меня, как пуля, попавшая в печень, и припечатало к кузову машины.
Шофер тревожно вглядывался в темноту аллеи позади меня, где дождь барабанил по гравию.
— Там кто-нибудь есть? — крикнул я.
— Нет!
— Слава богу. Сматываемся!
Мотор никак не отзывался.
У нас обоих вырвался стон отчаяния.
Повинуясь страху, мотор все-таки завелся.
Не так уж просто ехать задним ходом со скоростью шестьдесят миль в час.
Нам это удалось.
Полночи я просидел, оглядывая свою обыкновенную гостиную с обыкновенной мебелью в маленьком домике на самой заурядной улице, в тихом квартале. После трех чашек горячего какао мне по-прежнему было холодно, я дрожал; на стене мое воображение рисовало мрачные картины.
«Люди не умирают дважды! — думал я. — Человек, который там, на лестнице, хватался руками за ночной ветер, не мог быть Джеймсом Чарльзом Арбутнотом. Трупы разлагаются. Трупы исчезают».
Я вспомнил, как однажды в 1934 году Арбутнот вышел из своего лимузина перед воротами студии, и тут я подкатился к нему на роликах, потерял равновесие и упал прямо в его объятия. Он, смеясь, помог мне удержаться на ногах, подписал книгу, ущипнул за щеку и прошел через ворота.
И вот теперь — Господи Иисусе! — этот человек, давно затерянный в прошлом, падает откуда-то с высоты вместе с холодным дождем на кладбищенский газон.
Мне уже мерещилось, будто я слышу голоса и читаю заголовки:
ДЖЕЙМС ЧАРЛЬЗ АРБУТНОТ УМЕР И ВОСКРЕС
— Нет! — сказал я, обращаясь к белому потолку, где шуршал дождь и падал человек. — Это был не он. Все это ложь!
«Подожди до утра», — произнес чей-то голос.
4
Утро не принесло ясности.
В радио- и теленовостях не промелькнуло никаких мертвых тел.
Газеты пестрели сообщениями об автомобильных авариях и антинаркотических рейдах. Об Арбутноте ни слова.
Я рассеянно вышел из дома и поплелся на задний двор, в гараж, забитый игрушками и старыми журналами об открытиях и изобретениях. Никакой машины, только подержанный велосипед.
Я проехал уже полпути до студии и вдруг понял, что не могу вспомнить ни одного перекрестка, через которые промчался вслепую. Вздрогнув от ужаса, я свалился с велосипеда.
Огненно-красный родстер со сложенным верхом, поравнявшись со мной, затормозил так резко, что запахло паленой резиной.
Водитель в бейсболке, надетой козырьком назад, явно мчался на полном газу. Он рассматривал меня сквозь ветровое стекло: один глаз ярко-голубой, другой не виден из-за монокля, словно всаженного в глазницу и сверкавшего искрами на солнце.
— Эй ты, чертов сукин сын придурочный, здорово! — крикнул он, по-немецки растягивая гласные.
Велосипед чуть не выпал у меня из рук. Я видел этот профиль на старинных монетах, когда мне было лет двенадцать. Это был то ли воскресший Цезарь, то ли германец, верховный понтифик Священной Римской империи. Мое сердце колотилось так, что в легких не осталось места для воздуха.
— Не слышу! — крикнул он. — Говори!
— Здорово, — услышал я собственные слова, — чертов придурочный сукин сын. Ты Фриц Вонг? Родился в Шанхае, отец китаец, мать австрийка, рос в Гонконге, Бомбее, Лондоне и дюжине городов Германии. Сбежал из дома, бродяжничал, потом работал монтажером, потом сценаристом, потом оператором на студии UFA,[9] потом режиссером в разных уголках мира. Фриц Вонг, потрясающий режиссер, снявший великий фильм немого кино «Песнь Кавальканти». Парень, который устанавливал планку голливудского кино с тысяча девятьсот двадцать пятого по тысяча девятьсот двадцать седьмой год и которого вышвырнули вон за сцену в одном фильме, где ты лично снялся в роли прусского генерала: эпизод, где он вдыхает запах нижнего белья Герты Фрёлих. Всемирно известный режиссер, который вернулся в Берлин, а затем бежал от Гитлера, режиссер, снявший «Безумную любовь», «Исступление», «Путешествие на Луну и обратно»…
С каждым моим словом его голова поворачивалась на четверть дюйма, в то время как рот расплывался в улыбе ярмарочного Петрушки. Монокль вспыхивал, сигналя морзянкой.
Из-за монокля иногда выглядывал краешек восточного глаза. Я думал, что левый глаз был Пекином, а правый — Берлином, но нет. Восточный казался больше лишь благодаря увеличительному стеклу монокля. Лоб и скулы являли непобедимый оплот тевтонской самоуверенности, крепость, способную простоять две тысячи лет или до тех пор, пока не расторгнут контракт.
— Как ты меня назвал? — спросил он необычайно любезно.
— А ты как меня назвал, — тихо отозвался я. — Чертов придурочный, — я вздохнул, — сукин сын.
Он кивнул. Улыбнулся. И распахнул передо мной дверцу машины:
— Залезай!
— Но ты же меня…
— …совсем не знаю? Неужели ты думаешь, я разъезжаю по улицам и подвожу каждого безмозглого велосипедиста? По-твоему, я не видел, как ты шныряешь по павильонам, делая вид, будто ты Белый Кролик на столовской кухне? Ты же этот… — он прищелкнул пальцами, — побочный сын Эдгара Райса Берроуза и Владыки Марса,[10] незаконный отпрыск Герберта Уэллса, который произошел от Жюля Верна. Закидывай свой велик. Мы опаздываем!
Я запихнул велосипед на заднее сиденье и едва успел сесть в машину, как она рванула с места на скорости пятьдесят миль в час.
— Кто знает? — орал Фриц Вонг, перекрикивая рев мотора. — Мы оба ненормальные, раз работаем там, где работаем. Но ты счастливчик, ты все еще любишь это дело.
— А ты разве нет? — спросил я.
— Помоги, Господи, — пробормотал он. — Да!
Я не мог оторвать взгляд от Фрица Вонга: он склонился над рулем, подставляя ветру лицо.
— Ты самый тупой придурок, какого я встречал! — кричал он. — Хочешь попасть под колеса? Ты что, не умеешь водить машину? А что у тебя за велосипед? Это твой первый сценарий в кино? Как ты можешь писать такую галиматью? Почему бы не почитать Томаса Манна, Гёте?
— Томас Манн и Гёте, — спокойно объяснил я, — не сумели бы написать мало-мальски приличный сценарий. «Смерть в Венеции»[11] — да. «Фауста»?[12] Легко. Но хороший сценарий? Или короткий рассказ вроде тех, что пишу я: описать высадку на Луну и заставить тебя поверить в это? Черта с два! А как ты можешь вести машину с этим моноклем?
— Не твое собачье дело! Лучше ничего не видеть. Посмотри ближе на козла, что едет впереди, и захочешь врезаться ему в задницу! Дай-ка поглядеть тебе в лицо. Ты меня одобряешь?
— По-моему, ты классный!
— Бог мой! Да для тебя, похоже, все, что скажет великий и могучий Вонг, — как Библия. Как вышло, что ты не водишь машину?
Мы оба старались перекричать ветер, который бил нам в глаза и трепал губы.
— Писатель не в состоянии купить себе машину! К тому же, когда мне было пятнадцать, я видел пятерых погибших людей, разорванных в клочья. Машина врезалась в телефонный столб.
Фриц взглянул на мое побелевшее при воспоминании лицо.
— Как на войне, да? А ты не такой уж тупой. Я слышал, тебе дали работу в новом проекте с Роем Холдстромом? Спецэффекты? Здорово. Терпеть не могу условностей.
— Мы дружили еще в школе. Я смотрел, как он лепит крохотных динозавров в гараже. Мы пообещали друг другу, что, когда вырастем, будем вместе создавать чудовищ.
— Нет, — кричал Фриц Вонг сквозь ветер, — ты их не создаешь, ты на них работаешь! Вот Мэнни Либер. Ящерица-ядозуб, которой мерещится паук. Берегись! Это настоящий зверинец!
Он кивнул собирателям автографов, стоявшим на другой стороне улицы, напротив ворот студии.
Я тоже посмотрел туда. Внезапно душа моя покинула тело и мгновенно перенесла меня в прошлое. Шел 1934 год, я толкался и давился в толпе страждущих, которые размахивали блокнотами и ручками, шныряли под «солнечными» прожекторами на премьерных показах, подлавливали Марлен Дитрих[13] у ее парикмахера, охотились за Кэри Грантом[14] во время боксерских матчей по средам на стадионе «Лиджен»,[15] ждали у дверей ресторана, пока Джин Харлоу[16] закончит свой более чем трехчасовой обед или когда Клодетт Кольбер,[17] смеясь, выйдет в полночь.
Я окинул взглядом толпу безумцев и снова увидел бульдожьи носы, сплющенные мордочки, бледные близорукие лица безымянных друзей откуда-то из прошлого, стоящих перед величественным, в стиле испанского музея Прадо, фасадом киностудии «Максимус», чьи тридцатифутовые ажурные чугунные ворота открывались и с лязгом захлопывались за спиной недосягаемых знаменитостей. Я представил себя, затерянного в этом гнездовье голодных птиц, жадно разинувших клювы в ожидании пищи: мимолетных встреч, фотовспышек, росчерков в блокнотах. Солнце скатилось за горизонт, в памяти моей взошла луна, и я увидел, как еду на роликах все девять миль до дома по пустынным тротуарам, мечтая, что когда-нибудь стану величайшим в мире писателем или наемным сценаристом где-нибудь на «Шиш-под-Нос пикчерз».
— Зверинец? — пробормотал я. — Вот так, значит?
— А это их зоопарк! — продолжил Фриц Вонг.
И, ворвавшись в ворота студии, мы поехали, раздвигая толпу прибывающих людей, статистов и администраторов. Фриц Вонг направился прямиком под знак «Стоянка запрещена».
Я вышел из машины и спросил:
— Какая разница между зверинцем и зоопарком?
— Здесь, в зоопарке, за решеткой нас держат деньги. А там, в зверинце, болванов держат под замком их глупые мечты.
— Когда-то я был одним из них и мечтал оказаться по ту сторону, в стенах киностудии.
— Глупец. Теперь тебе уже отсюда не выбраться.
— Еще как выберусь. Я только что закончил новый сборник рассказов и пьесу. Мое имя будут помнить!
— Не стоило мне этого говорить. — Монокль Фрица блеснул. — Мое презрение может улетучиться.
— Насколько я знаю Фрица Вонга, через тридцать секунд оно вернется.
Фриц наблюдал, как я вытаскиваю из машины свой велосипед.
— Мне кажется, ты почти немец.
Я сел на велосипед.
— Ты меня оскорбляешь.
— Ты со всеми так разговариваешь?
— Нет, только с Фридрихом Великим, мне не нравятся его манеры, но я обожаю его фильмы.
Фриц Вонг вывинтил из глаза монокль и опустил в нагрудный карман рубашки — словно бросил монету, чтобы запустить какой-то внутренний автомат.
— Я наблюдал за тобой несколько дней, — нараспев произнес он. — Во время припадков безумия я читал твои рассказы. Ты не лишен таланта, а я мог бы отполировать его до блеска. Сейчас я работаю — помоги мне Бог — над совершенно безнадежной картиной об Иисусе Христе, Ироде Антипе и всех этих безмозглых апостолах. Предыдущий режиссер-алкаш, который не способен руководить даже детсадом, потратил на фильм девять миллионов долларов. Меня выбрали ликвидатором. Ты христианин или как?
— Отступник.
— Отлично! Не удивляйся, если по моей милости тебя вышибут из твоего дурацкого сериала с динозаврами. Если сможешь помочь мне спасти от тлена этот ужастик про Христа, для тебя это будет ступенькой наверх. Принцип Лазаря! Если ты работаешь над дохлой курицей и выводишь ее вон из киношного склепа, то зарабатываешь очки. Я еще несколько дней понаблюдаю за тобой и почитаю, что ты пишешь. Появись сегодня ровно в час в студийной столовке. Ешь то, что ем я, говори, когда к тебе обращаются, понял, талантливый маленький ублюдок?
— Так точно, Unterseeboot Kapitan.[18] Будет сделано, господин большой ублюдок.
Когда я отъезжал, он подтолкнул меня. Не сильно — просто своей рукой старого философа помог тронуться с места.
Я не обернулся.
Боялся, что, оглянувшись, увижу его.
5
— Боже правый! — сказал я себе. — Из-за него я чуть не забыл!
Прошлая ночь. Холодный дождь. Высокая стена. Труп.
Я припарковал велосипед возле павильона 13.
Полицейский из охраны студии, проходя мимо, спросил:
— У вас есть разрешение на парковку здесь? Это место Сэма Шёнбродера. Позвоните в администрацию.
— Разрешение! — закричал я. — Черт подери! Для велосипеда?
Гремя великом, я прошел через огромные двойные двери с тамбуром и попал в темноту павильона.
— Рой?! — крикнул я.
Тишина.
Я огляделся в кромешной тьме среди свалки игрушек Роя Ходдстрома.
Точно такая же, но поменьше была у меня в гараже.
Павильон 13 был усыпан игрушками трехлетнего Роя, книжками пятилетнего Роя, наборами фокусника восьмилетнего Роя, наборами для электрических и химических опытов девяти- и десятилетнего Роя, вырезками из воскресных комиксов одиннадцатилетнего Роя, а еще фигурками Кинг-Конга, сделанными в 1933 году, когда Рою исполнилось тринадцать и за две недели он посмотрел гигантскую обезьяну пятьдесят раз.
Руки у меня так и зачесались. Здесь валялись копеечные магнето, гироскопы, оловянные паровозики, наборы фокусника, заставляющие ребятишек скрипеть зубами и мечтать об ограблении магазина. Здесь лежало мое собственное лицо — прижизненная маска, снятая Роем: он смазал мне лицо вазелином и чуть не задушил под слоем гипса. И дюжина раскиданных везде слепков его собственного профиля — прекрасного, ястребиного, — а еще черепа и скелеты в полный рост, рассованные по углам или сидящие на садовых стульях, — в общем, все, чтобы Рой чувствовал себя как дома в этом павильоне, таком огромном, что через его ворота, словно в шлюз космодрома, можно было затащить «Титаник» и еще осталось бы место для фрегата «Олд-Айронсайдс».[19]
Одну из стен Рой сплошь заклеил огромными рекламными плакатами и постерами из «Затерянного мира»,[20] «Кинг-Конга»[21] и «Сына Кинг-Конга»,[22] а также «Дракулы»[23] и «Франкенштейна».[24] В апельсиновых ящиках посреди этой «вулвортовской» барахолки[25] лежали скульптурные изваяния Карлоффа[26] и Лугоши.[27] На рабочем столе — три оригинальных шарнирных макета динозавров, подаренных создателями «Затерянного мира»: резиновая плоть старых чудовищ давно расплавилась, обнажив металлический костяк.
Так что павильон 13 был одновременно магазином игрушек, сундуком с чудесами, саквояжем волшебника, мастерской фокусника и неосязаемым вместилищем снов, посреди которого ежедневно стоял Рой и своими длинными музыкальными пальцами подавал сигналы мифическим существам, чтобы шепотом пробудить их от сна, длившегося десять миллиардов лет.
И вот я осторожно пробираюсь через эту свалку, через эту кучу хламья, порожденного ненасытной страстью ко всяким механизмам, жадной привязанностью к игрушкам и любовью к гигантским прожорливым монстрам, отрубленным головам и темным размотанным мумиям Тутанхамонов.
Повсюду лежали огромные брезентовые тенты, под которыми Рой до поры скрывал свои творения. Я не осмелился заглянуть под них.
Посредине всего этого стоял скелет, держа в поднятой руке записку. Она гласила:
КАРЛ ДЕНЕМ![28]
(Так звали продюсера «Кинг-Конга».)
ГОРОДА МИРА, УЖЕ ГОТОВЫЕ, ЛЕЖАТ ЗДЕСЬ, ПОД ТЕНТОМ, И ЖДУТ, КОГДА ИХ ОТКРОЮТ. НЕ ТРОГАЙ. СПЕРВА НАЙДИ МЕНЯ.
ТОМАС ВУЛФ[29] НЕ ПРАВ. ДОМОЙ ВОЗВРАТ ЕСТЬ. ПОВЕРНИ НАЛЕВО ОТ СТОЛЯРКИ, ВТОРАЯ НАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА СПРАВА. ТВОИ БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ЖДУТ ТЕБЯ ТАМ! ИДИ И ВЗГЛЯНИ! РОЙ.
Я посмотрел на брезентовые тенты вокруг. Торжественное открытие! Ну конечно!
Я бежал и думал: «Что он имел в виду? Мои бабушка с дедушкой? Ждут?» Я замедлил бег и начал глубоко вдыхать свежий воздух, пахнущий дубами, вязами и кленами.
Ибо Рой был прав.
Домой возврат есть.
Перед второй натурной площадкой стояла табличка: «Форестплейнс», — но это был Гринтаун, город, где я родился и вырос на хлебе, зревшем всю зиму за брюхатой печью, и вине, бродившем там же на исходе лета, и кирпичи, осыпаясь, падали в эту самую печь, как железные зубы, задолго до прихода весны.
Я пошел не по тротуарам, а по траве, радуясь, что у меня есть такой друг, как Рой, который знал о моей давней мечте и позвал меня посмотреть на нее.
Я прошел мимо трех белых домиков, где в 1931 году жили мои друзья, свернул за угол и остановился, потрясенный.
На пыльной кирпичной дороге стоял старый отцовский «бьюик» 1929 года; на нем в 1933-м мы отправимся на Запад. Он стоял, тихо ржавея: фары потрескались, кожух радиатора облупился, сам радиатор был, как пчелиными сотами, облеплен мотыльками, желтыми и голубыми крыльями бабочек — мозаикой давно ушедших летних дней.
Я наклонился и заглянул внутрь, чтобы дрожащей рукой погладить колючий ворс подушек на заднем сиденье, где мы с братом толкались локтями и орали друг на друга, проезжая через Миссури, Канзас, Оклахому и…
Это не была отцовская машина. Но это была она.
Я поднял глаза и увидел перед собой девятое и величайшее из чудес света:
Дом моих бабушки с дедушкой, терраса, качели, герань в розовых горшках вдоль ограды, папоротники, торчащие повсюду зелеными фонтанчиками, и просторная лужайка, похожая на зеленую кошачью шкуру, так густо усеянная клевером и одуванчиками, что хотелось сбросить ботинки и пробежаться босиком по всем этим коврам. И…
Высокое сводчатое окно комнаты, где я когда-то спал, а потом, проснувшись, выглядывал наружу и видел зеленые луга и зеленый мир.
На летних садовых качелях, тихо покачиваясь вперед-назад, растопырив на коленях ладони с длинными пальцами, сидел мой лучший друг…
Рой Холдстром.
Он тихо скользил, затерявшись, как и я, в каком-то из летних полдней давно ушедших времен.
Увидев меня, Рой поднял свои длинные журавлиные руки и развел ими вправо и влево, охватив лужайку, деревья, себя, меня.
— Господи, — прокричал он, — разве это не… счастье?
6
Рой Холдстром с двенадцати лет мастерил в гараже динозавров. В фильме, снятом на восьмимиллиметровой пленке, динозавры гонялись за его отцом и потом сожрали его целиком. Позже, когда Рою было уже двадцать, он возил своих динозавров по студиям-однодневкам и начал снимать малобюджетные фильмы в жанре «затерянных миров», они-то его и прославили. Динозавры настолько заполнили его жизнь, что друзья забеспокоились и попытались подыскать Рою хорошую девушку, которая бы поладила с его чудовищами. Ищут до сих пор.
Я поднялся по ступеням крыльца, вспоминая тот особенный вечер, когда Рой взял меня на оперу «Зигфрид»[30] в зале «Шрайн».[31]
— Кто поет? — спросил я.
— К черту пение! — вскричал Рой. — Мы идем смотреть дракона!
Что ж, музыка была изумительная. Но дракон? Убейте тенора. Потушите огни.
Наши места были так далеко от сцены, что — увы! — я видел только левую ноздрю дракона Фафнира! Рой же не видел ничего, кроме огромных огненных клубов, которые невидимое чудовище извергало из своих ноздрей, чтобы уничтожить Зигфрида.
— Проклятье! — шептал Рой.
Фафнир погиб, волшебный меч глубоко вонзился в его сердце. Зигфрид издал победный клич. Рой вскочил на ноги, проклиная спектакль, и выбежал из зала.
Я нашел его в фойе, он бормотал себе под нос:
— Вот это Фафнир! Господи! Ты видел?!
Когда мы вылетели в темноту на улицу, Зигфрид все еще завывал о жизни, любви и кровавой резне.
— Вот несчастные идиоты, эти зрители, — сказал Рой. — Еще два часа сидеть там без Фафнира!
И вот теперь он тихо качался на невесомо скользящих качелях, на террасе, затерявшейся во времени, но всплывшей вновь из глубины лет.
— Эй! — счастливо прокричал он. — Ну как? Точно дом моей бабушки!
— Нет, моей!
— Наших!
Рой рассмеялся, по-настоящему счастливый, и протянул мне пухлую книгу Вулфа «Домой возврата нет».
— Он не прав, — тихо произнес Рой.
— Да, — сказал я, — мы дома, ей-богу!
Я осекся. Ибо там, за зелеными лугами съемочной площадки, я увидел высокую стену между киностудией и кладбищем. Видение мертвеца на садовой лестнице стояло у меня перед глазами, но я пока не был готов заговорить о нем. Вместо этого я спросил:
— Как поживает твое чудовище? Ты его нашел?
— А твое-то чудовище где?
И так уже много дней подряд.
Нас с Роем пригласили, чтобы мы рисовали чертежи и создавали чудовищ, чтобы наши метеориты падали из космоса, а из темных заводей появлялись гуманоиды, роняя капли смолы с незатейливых пластмассовых челюстей.
Сначала наняли Роя, потому что он был продвинут в техническом плане. Его птеродактили, как живые, летали в доисторических небесах. Его бронтозавры сами, словно горы, шли к Магомету.
А потом кто-то прочел два-три десятка моих «жутких историй» в журнале «Уиэрд»[32] — рассказов, которые я писал с двенадцати лет, а в двадцать один начал продавать палп-журналам, — и нанял меня, чтобы «создавать сюжет» для чудовищ Роя; от этого предложения у меня участилось дыхание, ибо я, когда с билетом, когда без, на своем веку посмотрел около девяти тысяч фильмов и полжизни только и ждал, чтобы кто-нибудь нажал на курок и дал старт моему безудержному забегу в мир кино.
— Я хочу то, чего никто раньше не видел! — заявил мне Мэнни Либер в первый же день. — Нечто трехмерное, огненное, падающее на Землю. Какой-нибудь метеор…
— Где-нибудь в районе Метеоритного кратера[33] в Аризоне… — вставил я. — Он там уже миллион лет. Отличное место для нового метеора: он врезается в Землю и…
— Оттуда появляется наш новый монстр! — воскликнул Мэнни.
— Мы вправду видим его? — спросил я.
— Что ты хочешь сказать? Мы должны его видеть!
— Да, но вспомните фильм «Человек-леопард»![34] Страх нагнетается ночными тенями, чем-то невидимым. А как насчет «Острова мертвых»?[35] Женщина вроде мертва, но на самом деле находится в кататоническом ступоре, потом она просыпается и видит, что погребена в могиле.
— Это все для радиоспектаклей! — заорал Мэнни Либер. — Черт побери, люди хотят видеть то, что их пугает…
— Не хочу с вами спорить…
— И не спорь! — Мэнни бросил на меня огненный взгляд. — Выдай мне десять страниц, чтоб поджилки тряслись! А ты, — указал он на Роя, — все, что он напишет, склеивай какашками динозавров! Все, проваливайте! И чтобы в три утра ваши кривые рожи отразились в зеркале у меня в кабинете!
— Есть! — рявкнули мы.
Дверь за нами захлопнулась.
Выйдя на солнышко, мы с Роем, моргая, смотрели друг на друга.
— Опять влипли, Стэнли![36]
И с громким хохотом отправились работать.
Я написал десять страниц, оставив место для монстров. Рой шлепнул на стол тридцать фунтов сырой глины и затанцевал вокруг, похлопывая и придавая ей форму, в надежде, что монстр сам возникнет, словно пузырь из доисторического болота, а потом обрушится, со свистом выпуская сернистый газ, — и вот он, настоящий ужас.
Рой прочел мои десять страниц.
— Ну и где твое чудовище?
Я взглянул на его руки, пустые, хотя и покрытые кроваво-красной глиной.
— А где твое? — спросил я.
И вот теперь, три недели спустя, чудовище было здесь.
— Эй, — сказал Рой, — чего ты на меня уставился? Подойди, возьми пончик, сядь, скажи что-нибудь.
Я подошел, взял у него пончик и сел на качели, плавно уносясь то вперед, в будущее, то назад, в прошлое. Вперед — к ракетам и Марсу. Назад — к динозаврам и ископаемым.
И вездесущим, безликим чудовищам.
— Для человека, который обычно говорит со скоростью девяносто миль в минуту, — сказал Рой Холдстром, — ты чертовски молчалив.
— Мне страшно, — сказал я наконец.
— Так, черт побери. — Рой остановил нашу машину времени. — Говори, о всемогущий.
Я заговорил.
Я воздвиг стену, подтащил лестницу, поднял на нее мертвое тело, добавил холодный дождь, а затем вызвал разряд молнии, который ударил в мертвеца, и тот упал наземь. Когда я закончил и капли дождя высохли у меня на лбу, я протянул Рою печатный листок с хеллоуинским приглашением.
Рой пробежал его глазами, бросил на пол веранды и придавил ногой.
— Чьи-то шуточки!
— Конечно. Только… дома мне пришлось сжечь свои подштанники.
Рой поднял записку и перечел, а затем устремил взгляд в сторону кладбищенской ограды.
— Зачем кому-то это посылать?
— Ага. Тем более что на студии мало кто вообще знает о моем существовании!
— Но черт возьми, это же была ночь Хеллоуина. Однако какая изощренная шутка: поставить мертвеца на лестницу. Погоди, а что, если тебе было сказано прийти в полночь, а другим — в восемь, в девять, в десять и в одиннадцать? Напугать всех по очереди! Тогда это имеет смысл!
— Только при условии, что все это придумал ты!
Рой резко повернулся ко мне:
— Уж не думаешь ли ты, что…
— Нет. Да. Нет.
— Тогда кто?
— Помнишь тот Хеллоуин? Нам было по девятнадцать, и мы пошли в «Парамаунт»[37] на Боба Хоупа[38] в фильме «Кот и канарейка»,[39] и тут девушка, сидевшая впереди нас, вдруг закричала. Я огляделся, смотрю, а ты сидишь в резиновой маске вампира.
— Ага! — засмеялся Рой.
— А помнишь, как ты позвонил мне и сказал, что наш лучший друг, старина Ральф Кортни, умер? Ты попросил меня прийти и сказал, что он лежит у тебя дома, но все оказалось шуткой: ты хотел уговорить Ральфа напудрить лицо белой пудрой, лечь и притвориться мертвым, а потом встать, когда я приду. Помнишь?
— Угу. — Рой снова засмеялся.
— Но я встретил Ральфа на улице, и шутка не получилась.
— Точно. — Рой тряхнул головой, хохоча над своими проделками.
— Ну вот. Понятное дело, я подумал, будто это ты поставил чертова покойника и отправил мне письмо.
— Одна неувязка. Ты редко говорил со мной об Арбутноте. Допустим, я смастерил покойника, но как быть уверенным, что ты узнаешь беднягу в лицо? А этот тип точно знал, что ты видел Арбутнота много лет назад, верно?
— М-да…
— Чей-то труп под дождем — зачем это, если ты, черт побери, не знаешь, кто перед тобой? Ты рассказывал мне о множестве других людей, с которыми ты встречался в детстве, ошиваясь возле студии. Я бы сделал другого мертвеца — Рудольфа Валентино[40] или Лона Чейни,[41] чтобы ты узнал наверняка. Так?
— Так, — неуверенно согласился я, внимательно посмотрел Рою в лицо и быстро отвел глаза. — Прости. Но черт возьми, это был Арбутнот. Я видел его раз двадцать пять за все время, тогда, в тридцатых. На предварительных показах. И здесь, у входа в студию. Видел его самого и его спортивные машины, с дюжину разных моделей, и еще лимузины, три штуки. А его женщины, несколько дюжин, они всегда смеялись! А когда он раздавал автографы, то незаметно вкладывал в твой блокнот двадцатипятицентовик. Четвертак! В тридцать четвертом! На четвертак тогда можно было купить молочный коктейль, шоколадку и билет в кино.
— Ах вот, значит, какой он был. Неудивительно, что ты его запомнил. Сколько он тебе дал?
— За один месяц — доллар двадцать пять центов. Я был богач. А теперь он лежит в земле там, за стеной, где я был прошлой ночью, верно? Зачем кому-то пугать меня, чтобы я думал, будто его выкопали из могилы и водрузили на лестницу? К чему тратить силы? Мертвец тяжелый, он упал, как железный сейф. Чтобы поднять его, нужны по меньшей мере двое. Так зачем?
Рой надкусил следующий пончик.
— Ага, зачем? Может, кто-то использует тебя, чтобы ты разболтал об этом всему свету. Ты ведь собирался рассказать об этом кому-то еще, правда?
— Мне надо…
— Не надо. Ты выглядишь таким напуганным.
— С чего мне пугаться? Хотя такое чувство, что это не просто шутка, тут есть еще какой-то смысл.
Рой, спокойно жуя, задумчиво смотрел на стену.
— Черт, — наконец произнес он. — Ты утром не ходил смотреть — вдруг тело все еще там? Может, сходим посмотрим?
— Нет!
— Эй, трусишка! Сейчас же день, светло.
— Нет, хотя…
— Эй! — окликнул нас возмущенный голос. — Что вы тут делаете, болваны?!
Мы поглядели с террасы вниз.
Посреди лужайки стоял Мэнни Либер. Неподалеку был припаркован его «роллс-ройс»; мотор работал глухо и почти бесшумно, не вызывая ни малейшей вибрации кузова.
— Ну так что? — прокричал Мэнни.
— У нас совещание! — непринужденно заявил Рой. — Мы хотим переехать сюда!
— Что?!
Мэнни оглядел старый дом в викторианском стиле.
— Отличное место для работы, — затараторил Рой. — Здесь будут наши кабинеты, солнечная веранда, поставим карточный столик, пишущую машинку.
— У тебя уже есть кабинет!
— Кабинеты не дают вдохновения. А это… — я обвел подбородком вокруг, принимая эстафету от Роя, — вдохновляет. Вам надо бы переселить всех сценаристов из писательского флигеля! Стива Лонгстрита[42] поселим вон там, в новоорлеанском особняке, пусть пишет сценарий фильма о Гражданской войне. А эта французская булочная? Не правда ли, отличное место, где Марсель Дементон сможет закончить свою революцию? Идем дальше — Пикадилли: черт возьми, туда засунем всех этих новых английских сценаристов!
Мэнни не спеша поднялся на террасу, краснея от смущения. Он окинул взглядом киностудию, свой «роллс-ройс» и, наконец, нас обоих, как будто застукал нас за сараем голыми и с сигаретой во рту.
— Господи, мало того, что за завтраком все пошло к чертям собачьим. У меня еще тут два кекса, которые хотят превратить хижину леди Пинкхэм[43] в писательский храм!
— Вот именно! — подхватил Рой. — На этой самой террасе у меня родился замысел самой жуткой минидекорации в истории кино!
— Хватит гипербол, — отступил Мэнни. — Показывай, что у тебя там!
— Можно воспользоваться вашим «роллс-ройсом»? — спросил Рой.
И мы воспользовались.
Пока мы ехали к павильону 13, Мэнни Либер, неподвижно глядя прямо перед собой, произнес:
— Я пытаюсь заставить этот дурдом работать, а вы, ребята, сидите себе на террасе, в кулак свистите. Где, черт побери, обещанное чудовище?! Три недели жду…
— Черт побери, — сказал я, взывая к здравому смыслу, — нужно же время, чтобы из мрака появилось что-то действительно новое. Дайте нам возможность вздохнуть, дайте время на то, чтобы тайное «я» само вышло наружу. Не волнуйтесь. Вот Рой, он замесит глину. И из глины все и возникнет. А пока наш монстр еще скрыт во тьме, понимаете…
— Простите! — отрезал Мэнни, устремив вперед горящий взгляд. — Не понимаю. Даю вам еще три дня! Я хочу видеть монстра!
— А что, если, — вдруг выпалил я, — монстр уже видит вас?! Бог мой! Что, если снять все с точки зрения монстра, выглядывающего из засады?! Камера движется, она и есть монстр, народ пугается камеры и…
Мэнни удивленно посмотрел на меня, прищурил один глаз и пробормотал:
— Неплохо. Камера, хм?
— Да! Камера выползает из кратера. Камера, она же монстр, с пыхтением идет по пустыне, вздымая пыль, распугивая ядозубов, змей, грифов…
— Черт подери! — Мэнни Либер завороженно смотрел на воображаемую пустыню.
— Черт подери! — восхищенно воскликнул Рой.
— Мы поставим на камеру линзу с масляной пленкой, — тараторил я, — добавим клубы пара, тревожную музыку, тени и героя, глядящего прямо в камеру, и…
— А что потом?
— Если я расскажу, то уже не напишу.
— Напиши, напиши!
Мы остановились возле павильона 13. Я выскочил из машины, бормоча:
— О да! Пожалуй, я сделаю две версии сценария: одну — для вас, другую — для себя.
— Две? — вскричал Мэнни. — Зачем?
— В конце недели я вручу вам обе. И вы решите, какая лучше.
Мэнни подозрительно взглянул на меня, так до конца и не выбравшись из «роллс-ройса».
— Чушь! Лучший вариант ты напишешь для себя!
— Нет. Я буду стараться изо всех сил для вас. И для себя тоже. По рукам?
— Два монстра по цене одного? Идет! Пиши!
Перед дверью Рой театрально остановился.
— Вы готовы? Приготовьте ваш разум и душу! — сказал он, как пастор, воздев к небу свои прекрасные руки артиста.
— Я готов, черт возьми. Открывай!
Рой распахнул наружную дверь, за ней — внутреннюю, и мы вошли в непроглядную тьму.
— Дай свет, черт возьми! — произнес Мэнни.
— Потерпите, — шепнул Рой.
Мы слышали, как он движется в темноте, осторожно переступая через невидимые предметы.
Мэнни нервно подергивался.
— Почти готово! — нараспев прокричал Рой откуда-то из мрака. — Итак…
Рой включил ветряную машину на медленной скорости. Сначала послышались шелест вроде чудовищной бури, приносящей ненастье с андских вершин, снежные вихри, завывающие на гималайских уступах, ливень над Суматрой, шум ветра в джунглях, дующего в сторону Килиманджаро, крахмальный шелест волн у берегов Азорских островов, крик первобытных птиц, хлопанье перепончатых крыльев — смешение звуков, от которого мороз драл по коже и мозг словно выпадал из тесного черепа навстречу…
— Свет! — закричал Рой.
И вот над пейзажами Роя Холдстрома забрезжил свет, открывая взору столь нездешние и прекрасные ландшафты, что у вас замирало сердце, страх улетучивался, а затем вы вновь погружались в трепет, когда тени огромными стаями леммингов проносились над микроскопическими дюнами, крошечными холмами и миниатюрными горами, уносясь подальше от смертельной угрозы, уже ощутимой, но еще не явленной.
Я с восхищением огляделся вокруг. И вновь Рой словно прочел мои мысли. Светотени, отбрасываемые на полночный экран моей мысленной камеры-обскуры, были украдены им, скопированы и воплощены даже прежде, чем я успел выпустить их на волю, облечь в слова. Теперь уже я буду использовать эту миниреальность для воплощения в жизнь своего самого необычного и странного сценария. Мой герой едва удержался, чтобы не промчаться по этим миниатюрным просторам.
Мэнни Либер глядел на все это, пораженный.
Созданная Роем страна динозавров — это был мир призраков, представший перед нами в свете древней, искусственной зари.
Весь этот затерянный мир был окружен гигантскими стеклянными панелями, на которых Рой нарисовал первобытные джунгли и смоляные болота, где плавали его твари, под нестерпимо пламенеющими, как марсианские закаты, небесами, горевшими тысячей оттенков красного.
Меня охватила та же дрожь, какую я ощутил еще школьником, когда Рой позвал меня к себе домой и распахнул ворота гаража, в котором — я ахнул — были не автомобили, а существа, движимые древней потребностью вставать на дыбы, скрести когтями, жевать, летать, визжать и умирать во всех наших детских снах.
И вот теперь здесь, в павильоне 13, лицо Роя горело отблесками небес над целым континентом в миниатюре, куда нас с Мэнни выбросило волной.
Я на цыпочках пересек этот континент, боясь разрушить какую-нибудь крохотную деталь. Дойдя до единственной оставшейся под тентом скульптуры, я остановился.
Наверное, это оно, величайшее из его чудовищ, цель, поставленная им самим, когда нам еще не перевалило за тридцать и мы гуляли по коридорам нашего местного Музея естественной истории. Это чудовище, конечно же, все еще существовало в каком-нибудь уголке мира, пряталось под землей, топтало угольные пласты, затерянное в богом забытых угольных шахтах прямо под нашими ногами! Слушай! Слушай этот подземный гул, биение первобытного сердца и свист воздуха в вулканических легких, стремящихся вырваться на свободу! Неужели Рой выпустил его на свободу?
— Разрази меня гром! — Мэнни Либер наклонился к задрапированному монстру. — Это оно?
— Да, — ответил Рой, — это оно.
Мэнни прикоснулся к покрывалу.
— Постойте, — сказал Рой. — Мне нужен еще один день.
— Лжец! — вскричал Мэнни. — Черт побери, я не верю, что под этой тряпкой у тебя вообще что-то есть!
Мэнни сделал два шага. Рой подскочил к нему в три прыжка.
В этот момент в павильоне 13 раздался телефонный звонок.
Прежде чем я успел пошевелиться, Мэнни схватил трубку.
— Ну, что еще? — прокричал он.
И изменился в лице. Может, побледнел, а может, нет, только в его лице что-то изменилось.
— Это я знаю. — Он перевел дыхание. — Это я тоже знаю. — Он сделал еще один вдох, его лицо начало краснеть. — А об этом я знал еще полчаса назад! Черт побери, да кто говорит?
На том конце телефонной линии послышалось какое-то осиное жужжание. Повесили трубку.
— Сукин сын!
Мэнни швырнул телефон, я подхватил.
— Кто-нибудь, наденьте на меня смирительную рубашку, это дурдом какой-то! Так о чем это я? Вы оба!
Он указал на нас.
— Даю вам два дня, а не три. Либо вы по-хорошему предъявите мне чудовище наяву и при божьем свете, либо…
И тут наружная дверь павильона открылась. В ослепительном свете солнца появился коротышка в черном костюме, один из шоферов киностудии.
— Ну что еще? — заорал Мэнни.
— Мы его пригнали сюда, но мотор заглох. Вот, только что починили.
— Так проваливайте отсюда, ради бога!
Мэнни бросился к нему с поднятым кулаком, но дверь с грохотом захлопнулась, коротышка исчез, и Мэнни пришлось обрушить весь свой гнев на нас.
— К вечеру пятницы все должно быть готово окончательно. Сдайте мне работу, или вы больше никогда работы не получите, ни тот ни другой.
— А это, — спокойно спросил Рой, — мы можем оставить себе? Гринтаун, Иллинойс, кабинеты? Теперь, когда вы видели наши результаты, хотите сделать из нас дурачков?
Мэнни оглянулся и довольно долго молчал, окидывая взглядом эту необыкновенную, затерянную во времени страну, как ребенок на фабрике фейерверков.
— Черт, — вздохнул он, на мгновение забыв о своих проблемах, — приходится признать, что вы действительно это сделали.
Он замолк, рассердившись на собственную похвалу, и резко сменил тему.
— Ладно, кончайте болтать и хватит рассиживаться!
Бах! И он ушел, хлопнув дверью. Стоя посреди нашего доисторического ландшафта, затерянного во времени, мы с Роем смотрели друг на друга.
— Все страньше и страньше, — сказал Рой. — Ты и вправду собираешься это сделать? Написать две версии одного сценария? Одну для него, другую для нас?
— Ага! Точно.
— И как ты собираешься это сделать?
— Черт побери, — ответил я, — я занимался этим пятнадцать лет, написал сотню рассказов для палп-журналов, один рассказ в неделю, сто недель подряд, а тут два наброска сценария за два дня? И оба блестящие? Доверься мне.
— Ладно, верю-верю.
Наступило долгое молчание, затем Рой сказал:
— Так что, пойдем посмотрим?
— Посмотрим? На что?
— На покойника, которого ты встретил. Под дождем. Вчера ночью. Там, на стене. Погоди.
Рой подошел к огромной двойной двери павильона. Я последовал за ним. Он открыл дверь. Мы выглянули наружу.
Черный, украшенный искусной резьбой катафалк с прозрачными стеклами как раз уезжал прочь по аллее киностудии, мотор с прогоревшим глушителем страшно ревел.
— Держу пари, я знаю, куда он поехал, — сказал Рой.
7
Мы объехали вокруг киностудии по Гауэр-стрит на потрепанном роевском «фордике» 1927 года выпуска.
Мы не видели, как черный катафалк въехал на кладбище, но когда мы подкатили к воротам и остановились, похоронная машина как раз выезжала из аллеи между надгробиями.
Минуя нас, катафалк вывез гроб на залитую ярким солнечным светом улицу.
Мы повернули головы, провожая взглядом черный автомобиль, выезжающий из ворот с тихим шуршанием, почти неслышным, словно полярное дыхание арктических льдин.
— В первый раз вижу, чтобы катафалк вывозил гроб с кладбища. Опоздали!
Я обернулся и увидел хвост автомобиля, направлявшегося на восток, обратно в сторону киностудии.
— Куда опоздали?
— К твоему покойнику, идиот! Идем!
Мы уже почти подошли к дальней стене кладбища, как Рой вдруг остановился.
— Господи, это ж его могила.
Я посмотрел туда же, куда смотрел Рой, — футах в десяти над нами на мраморе было выгравировано:
ДЖ. Ч. АРБУТНОТ,
1884–1934
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Это был один из тех похожих на древнегреческий храм склепов, где хоронят знаменитостей: запертая на замок чугунная решетка, а за ней массивная внутренняя дверь из дерева и бронзы.
— Не мог же он сам выйти оттуда, а?
— Нет, но что-то там было, на лестнице, и я узнал его лицо. А кто-то другой знал, что я это лицо узнаю, и позвал меня посмотреть.
— Замолчи. Идем.
Мы пошли по дорожке.
— Гляди в оба. Мы ведь не хотим, чтобы нас застукали за этим глупым занятием.
Мы подошли к стене. Разумеется, на ней ничего не было.
— Я же говорил: даже если тело было здесь, мы опоздали, — вздохнул Рой и окинул взглядом стену.
— Нет, посмотри-ка. Вон там.
Я указал на вершину стены. На ней виднелись две отметины, словно что-то прислоняли к ее верхнему краю.
— Лестница?
— И еще здесь, внизу.
Примерно в пяти футах, под соответствующим углом, у подножия стены в траве было два полудюймовых углубления от лестницы.
— И здесь. Видишь?
Я показал Рою продолговатую вмятину на траве, там, куда упало что-то тяжелое.
— Так-так, — пробормотал Рой. — Похоже, Хеллоуин продолжается.
Рой присел на траву и длинными костлявыми пальцами провел по отпечатку, оставленному тяжелым телом — всего двенадцать часов назад оно лежало здесь под холодным дождем.
Я присел рядом с Роем, разглядывая продолговатое углубление, и вздрогнул.
— Я… — начал было я, но осекся.
Ибо между нами легла чья-то тень.
— Добрый день!
Над нами грозно возвышался дневной кладбищенский сторож.
Я бросил на Роя быстрый взгляд.
— Это та могила? Давно здесь не был. Это…
Надгробная плита по соседству была засыпана листьями. Я смахнул пыль. Под нею оказалась полустертая надпись: «СМАЙТ. 1875–1929».
— Это она! Дедушка, дорогой! — воскликнул Рой. — Бедняга. Умер от воспаления легких. — Рой помог мне смести оставшуюся пыль. — Я так любил его. Он…
— А где ваши цветы? — спросил суровый голос над нами.
Мы с Роем так и застыли.
— У мамы, она принесет, — сказал Рой. — Мы пошли вперед, чтобы найти могилу. — Рой оглянулся через плечо. — Да вон и мама.
Кладбищенский сторож, человек немолодой и весьма недоверчивый, чье лицо очень смахивало на потертый надгробный камень, бросил взгляд в сторону ворот.
Вдалеке, где-то возле бульвара Санта-Моника, по улице шла женщина с букетом цветов.
«Слава богу», — подумал я.
Сторож недовольно хмыкнул, пожевал челюстями, развернулся и медленно пошел прочь между могил. Как раз вовремя, потому что женщина остановилась и пошла в другую сторону, удаляясь от нас.
Мы вскочили. Рой схватил с ближайшей могилки несколько цветков.
— Ты что!
— К черту! — Рой кинул цветы на могилу дедушки Смайта. — На случай, если этот дядька вернется и удивится, почему нет цветов, после всего, что мы ему натрепали. Идем!
Мы отошли ярдов на пятьдесят и выждали время, притворяясь, будто беседуем, хотя почти ничего не говорили. Наконец Рой тронул меня за локоть.
— Осторожно, — прошептал он. — Смотри в сторону. Не гляди в упор. Он возвращается.
Старый сторож действительно подошел к тому месту у стены, где остался продолговатый след от упавшего тела.
Он поднял голову и увидел нас. Я тут же обнял Роя за плечо, как бы утешая его.
Потом старик наклонился и пальцами, как граблями, причесал траву. И вскоре уже ничто не напоминало о тяжелом предмете, который прошлой ночью, при проливном дожде, якобы свалился откуда-то сверху.
— Теперь ты веришь? — спросил я.
— Интересно, куда поехал тот катафалк? — произнес Рой.
8
Когда мы снова въезжали в главные ворота киностудии, нам навстречу опять прошелестел катафалк. Пустой. Словно долгий вздох осеннего ветра, он выплыл из ворот, свернул за угол и умчался, возвращаясь в страну Смерти.
— Черт! Все в точности как я и предполагал! — Не отпуская руля, Рой обернулся назад, на пустынную улицу. — Это начинает мне нравиться!
Мы направились туда, откуда выехал катафалк.
Впереди, по противоположной стороне улицы, шагал Фриц Вонг, будто управляя машиной или ведя за собой невидимый военный отряд, он чертыхался и что-то бормотал себе под нос; острый профиль рассекал воздух пополам, а на голове красовался черный берет: Фриц единственный в Голливуде носил берет и сцеплялся с каждым, кто осмеливался ему об этом сказать!
— Фриц! — окликнул его я. — Рой, останови!
Фриц небрежной походкой подошел к нам, облокотился на автомобиль и поприветствовал нас в уже знакомой манере:
— Здорово, марсианский придурок на велосипеде! А это что за странная макака за рулем?
— Здорово, Фриц, сукин… — Я осекся и проблеял: — Рой Холдстром, величайший в мире изобретатель, создатель и гениальный творец динозавров!
Монокль Фрица Вонга блеснул огнем. Он пристально взглянул на Роя своим китайско-немецким оком, затем решительно кивнул.
— Друг Питекантропа Прямоходящего — мой друг!
Рой с чувством пожал ему руку.
— Мне понравился ваш последний фильм.
— Понравился! — вскричал Фриц Вонг.
— Я был в восторге!
— Хорошо. — Фриц взглянул на меня. — Что нового за это утро?
— Ты не заметил, здесь происходит что-то странное?
— Только что здесь прошагала римская фаланга из сорока человек. По десятому павильону бегала горилла, волоча собственную голову. Из мужской уборной выкинули одного художника-постановщика, он голубой. Иуда устроил в Галилее забастовку, требует, чтобы платили больше сребреников. Нет-нет. Ничего странного, иначе я бы заметил.
— А мимо никто не проезжал? — подсказал Рой. — Похоронная процессия?
— Похоронная процессия! Думаете, я бы не заметил? Погодите-ка! — Его монокль блеснул в сторону ворот, затем в сторону натурных площадок. — Да, черт побери. Я даже подумал с надеждой: вдруг это катафалк Демилля,[44] мы могли бы отпраздновать. Он поехал вон туда!
— А что, сегодня где-то снимают похороны?
— Да в каждом павильоне: тухлые сценарии, актеры, вялые как трупы, английские режиссеры-гробовщики, своими кривыми лапами они не сумеют принять роды даже у кита! Ведь вчера был Хеллоуин, верно? А сегодня настоящий мексиканский День мертвых,[45] первое ноября, так почему на «Максимус филмз» не должны его отмечать? Мистер Холдстром, где вы откопали эту развалюху?
— Это, — произнес Рой, приходя в тихую ярость, как Эдгар Кеннеди[46] в старой комедии Хэла Роуча,[47] — машина, с которой Лорел и Харди[48] торговали рыбой в той самой короткометражке, в тридцатом году. Она обошлась мне в пятьдесят баксов плюс семьдесят за покраску. Прочь с дороги, сэр!
Фриц Вонг, в восторге от Роя, отскочил назад.
— Через час, марсианин! В столовке! Приходи обязательно!
Мы попыхтели дальше среди полуденной толпы, свернули за угол. Рой направил машину в сторону Спрингфилда (штат Иллинойс), Нижнего Манхэттена и Пикадилли.
— Ты знаешь, куда мы едем? — спросил я.
— Черт побери, на студии есть отличное место, где можно спрятать тело. Кто его там заметит? На натурных площадках среди абиссинцев, греков, чикагских гангстеров, приведи туда хоть шесть десятков уличных банд и сорок полковых оркестров Сузы,[49] никто ничего не пронюхает! Дружище, этот труп должен быть где-то здесь!
Подняв клубы пыли, мы в последний раз свернули за угол и въехали в город Томбстоун,[50] штат Аризона.
— Неплохое название для города, — заметил Рой.
9
Было тихо и тепло. В этот час — «Ровно в полдень»[51] — нас окружала тысяча следов, отпечатавшихся в пыли киносъемочных задворок. Некоторые принадлежали Тому Миксу,[52] Хуту Гибсону[53] и Кену Мейнарду.[54] Взметая горячую пыль, я смотрел, как ветер уносит прочь память. Конечно, их следы не могли сохраниться, пыль не вечна, и даже отпечатки огромных сапог Джона Уэйна[55] давно улетучились, и точно так же следы от сандалий Матфея, Марка, Луки и Иоанна исчезли с песчаного берега Галилейского моря всего в сотне ярдов отсюда, на площадке № 12. Тем не менее здесь все еще пахло лошадьми, и вот-вот сюда подкатит дилижанс с грузом свежих сценариев и новой бандой вооруженных ковбоев. Я не мог отказать себе в тихой радости просто посидеть в стареньком «фордике» Лорела и Харди, глядя на паровоз времен Гражданской войны, который заправляли углем дважды в год, и он превращался то в поезд 9.10 из Галвестона, то в траурный поезд Линкольна,[56] везущий его домой — о господи! — домой!
Наконец я спросил Роя:
— Почему ты так уверен, что труп здесь?
— Черт побери! — Рой топнул ногой по полу машины, как однажды Гэри Купер[57] — по коровьей лепешке. — Посмотри-ка внимательно на эти строения.
Я присмотрелся.
Здесь, в этом уголке Дикого Запада, за фальшивыми фасадами скрывались сварочные цеха, музеи старинных автомобилей, склады декораций и…
— Столярная мастерская? — предположил я.
Рой кивнул, и наш «форд» медленно, как сонная муха, пополз за угол, подальше от посторонних глаз.
— Гробы делают здесь, так что труп здесь. — Рой вылез из своей развалюхи, по очереди вытаскивая одну длинную ногу за другой. — Гроб вернули сюда, потому что он был изготовлен здесь. Идем, пока не появились индейцы!
Вслед за ним я вошел в прохладную пещеру, где на стеллажах стояли предметы мебели эпохи Наполеона и трон Юлия Цезаря ждал своего хозяина, оставшегося в далеком прошлом.
Я огляделся.
«Ничто не умирает навсегда, — подумал я. — Все возвращается. Если захочешь, конечно.
И где он прячется? Где он воскрес? Здесь, — думал я. — О да, это здесь.
В головах мужчин, что приходят с готовым обедом навынос и выглядят как рабочие, а уходя, выглядят как мужья или идеальные любовники».
А что же в промежутке?
Построй пароход «Красавица Миссисипи»,[58] если хочешь швартоваться у причалов Нового Орлеана, или возведи колоннаду Бернини[59] на задворках. Или построй новый Эмпайр-стейт-билдинг, а потом создай огромную механическую обезьяну, которая сможет забраться на небоскреб.
Твоя фантазия — для них чертеж, все они правнуки Микеланджело и да Винчи, отцы вчерашнего, сыновья будущего.
И вот сейчас мой друг Рой, пригнувшись, нырнул в темную пещеру за ковбойским салуном и потащил меня за собой, пробираясь между спрятанных там фасадов Багдада и Верхнего Сандаски.
Тишина. Все ушли обедать.
Рой потянул носом воздух и тихо засмеялся.
— Боже мой, да! Чувствуешь этот запах! Опилки! Из-за них я бегал с тобой в школьную столярку. И еще звук деревообрабатывающего станка. Сразу слышно: люди работают. У меня руки так и тряслись. Погляди-ка. — Рой остановился рядом с длинным стеклянным футляром и залюбовался.
Там был фрегат «Баунти»[60] в миниатюре: двадцать дюймов в длину, — в полной оснастке он плыл по воображаемым морям два долгих века назад.
— Ну же, давай, — тихо сказал Рой. — Потрогай.
Я прикоснулся к фрегату, и меня охватил такой восторг, что я забыл, зачем мы пришли, и мне захотелось остаться здесь навсегда. Но Рой в конце концов оттащил меня прочь.
— Ну что, счастливчик, — шепнул он мне, — выбирай какой хочешь.
Перед нами в теплой полумгле раскинулся огромный склад гробов, простиравшийся на пятьдесят футов вглубь.
— Зачем им столько? — спросил я, когда мы подошли ближе.
— Чтобы похоронить всех дохлых индеек, которых наклепает киностудия до Дня благодарения.
Мы подошли к траурному конвейеру.
— Все твои, — сказал Рой. — Выбирай.
— Наверху вряд ли. Слишком высоко. А люди ленивы. Поэтому… вот этот.
Я пнул ботинком ближайший гроб.
— Давай, — торопил Рой, подсмеиваясь над моей нерешительностью. — Открывай.
— Нет, ты.
Рой наклонился и попробовал поднять крышку.
— Черт!
Гроб был наглухо заколочен.
Где-то послышался автомобильный гудок. Мы выглянули наружу.
К нам по томбстоунской улице подъезжала машина.
— Скорее! — Рой бросился к одному из столов, лихорадочно порылся в инструментах и нашел молоток и лом, чтобы вытащить гвозди.
— Господибожемой, — прошептал я.
Там, в ослепительных лучах полуденного солнца, поднимая пыль, во двор конюшни въезжал «роллс-ройс» Мэнни Либера.
— Бежим отсюда!
— Нет, пока не посмотрим… есть!
Последний гвоздь отлетел прочь.
Рой ухватился за крышку, сделал глубокий вдох и открыл гроб.
Снаружи, где пылало солнце, в ковбойском городке зазвучали голоса.
— Господи, да открой же глаза! — воскликнул Рой. — Гляди!
Я закрыл глаза, потому что не хотел снова почувствовать капли дождя на своем лице. Но теперь я их открыл.
— Что скажешь? — спросил Рой.
Да, труп был там, мертвец лежал на спине с широко распахнутыми глазами, раздувшимися ноздрями и раскрытым ртом. Только дождь больше не поливал это лицо, не наполнял водой рот, стекая по щекам и подбородку.
— Арбутнот, — сказал я.
— Он, — выдохнул Рой. — Теперь я припоминаю его снимки. А чертовски похож. Но зачем кому-то поднимать это, что бы это ни было, на лестницу, с какой целью?
Я услышал, как хлопнула дверь. В сотне ярдов от нас Мэнни Либер вышел из своего «роллса» среди нагретой пыли и, щурясь, вглядывался во тьму, вокруг, около, поверх наших голов.
Я отпрянул.
— Подожди, не убегай, — сказал Рой.
Он шмыгнул носом и запустил руки в гроб.
— Не делай этого!
— Погоди, — сказал он, прикасаясь к телу.
— Ради бога, скорее!
— Ты только погляди, — продолжал Рой.
Он схватил труп и поднял его.
— Боже! — ахнул я и осекся.
Тело оказалось легким, словно мешок кукурузных хлопьев.
— Не может быть!
— Очень даже может.
Рой встряхнул его. Оно шуршало, как огородное чучело.
— Черт меня побери! Смотри, на дне гроба свинцовые грузила, которые они привязали к мертвецу, как только водрузили его на лестницу, чтобы он был потяжелее! И когда он упал, как ты говоришь, удар был тяжелый. Тревога! Акулы плывут сюда!
Рой быстро выглянул наружу, в полуденный зной, и мельком увидел, как вдалеке из машин выходят какие-то люди и собираются вокруг Мэнни.
— Ладно, бежим.
Рой бросил тело, с грохотом захлопнул крышку и побежал.
Я метнулся за ним, лавируя в лабиринте из мебели, колонн и картонных фасадов.
Отбежав на порядочное расстояние, миновав три дюжины дверей и одолев половину пролета лестницы в стиле ренессанс, мы с Роем, обернувшись, остановились и стали вглядываться и вслушиваться, до боли вытягивая шеи. Где-то вдали, футах в девяноста или ста, Мэнни Либер подошел к тому самому месту, где мы стояли всего минуту назад. Голос Мэнни заглушал все остальные. Насколько я понял, он приказал всем заткнуться. Наступило молчание. Пришедшие открыли гроб с фальшивым трупом.
Рой посмотрел на меня, подняв брови. Я посмотрел на него, не смея даже дышать.
Послышался взволнованный ропот, крики, ругательства. Мэнни орал на остальных. Потом какое-то бормотание, потом снова разговор, Мэнни опять заорал, и наконец послышался стук закрываемой крышки гроба.
Этот звук подействовал на нас с Роем, как выстрел стартового пистолета, и мы рванули вниз по лестнице. Мы сбежали по ступеням, как могли тише, промчались еще сквозь дюжину дверей и выскочили с задней стороны столярной мастерской.
— Ты что-нибудь слышишь? — тяжело дыша, обернулся Рой.
— Нет. А ты?
— Ничегошеньки. Но они определенно взорвались. И даже не один раз, а трижды. И больше всех Мэнни! Господи, да что происходит? Зачем весь этот сыр-бор из-за какой-то двухбаксовой восковой куклы, которую я в полчаса слеплю тебе из латекса, воска и гипса?!
— Не гони так, Рой, — сказал я. — Мы же не хотим, чтобы видели, как мы убегаем.
Рой замедлил бег, но по-прежнему шагал размашистой, журавлиной походкой.
— Господи, Рой! — сказал я. — А вдруг они узнают, что мы там были?!
— Откуда им знать? Да ладно, все это просто шутка.
«И зачем только, — думал я, — я познакомил своего лучшего друга с мертвецом?»
Минуту спустя мы добрались до тарантаса Лорела и Харди, стоявшего позади мастерской.
Рой сел на водительское сиденье, улыбаясь самой что ни на есть дьявольской улыбочкой и при этом любуясь небесами и каждым облачком.
— Залезай, — сказал он.
Гвалт внутри мастерской все усиливался. Кто-то где-то сыпал проклятиями. Другой выступал с критикой. Кто-то соглашался. Остальные были против, и вся небольшая толпа вывалилась на улицу, в полуденный зной, как рой рассерженных пчел.
Через мгновение «роллс-ройс» Мэнни Либера бесшумным вихрем пронесся мимо.
Внутри машины я разглядел трех его прихлебателей с бледными лицами.
И лицо Мэнни Либера, пунцово-красное от злости.
Он увидел нас, когда «роллс» мчался мимо.
Рой помахал рукой и весело крикнул:
— Привет!
— Рой! — закричал я на него.
— И что на меня нашло?! — захохотал Рой и поехал.
Я бросил на Роя враждебный взгляд и едва не разразился проклятиями. Вдыхая ветер, Рой с наслаждением выдыхал его через рот.
— Ты тупица! — сказал я. — У тебя что, вообще нет нервов?
— А с чего мне пугаться куклы из папье-маше? — дружески рассуждал Рой. — Черт, как мне нравится, что у Мэнни поиграли на нервах. За этот месяц я наслушался от него кучу всякой чепухи. И вот теперь кто-то сунул бомбу в штаны ему. Здорово!
— Так это ты? — вырвалось у меня вдруг.
— Ты опять за свое? — ошеломленно спросил Рой. — Зачем мне шить и клеить какое-то дурацкое чучело, а потом лазить по лестницам в полночь?
— А что ты сейчас сказал? Чтобы разогнать скуку. Сунуть бомбу другому в штаны.
— Ничего подобного. Я хочу, чтобы ты мне поверил. Но сейчас мне не терпится пообедать. Когда Мэнни появится, его физиономия наверняка вызовет фурор.
— Как ты думаешь, нас кто-нибудь там видел?
— Нет, конечно. Поэтому я и помахал! Чтобы показать, какие мы глупые и невинные! Творится что-то неладное. Мы должны вести себя естественно.
— Когда в последний раз мы вели себя естественно?
Рой засмеялся.
Под рев мотора мы обогнули сзади мастерские, проехали через Мадрид, Рим и Калькутту, а затем остановились возле бурого здания где-то в Бронксе.
Рой взглянул на часы:
— У тебя назначена встреча. С Фрицем Вонгом. Поехали. В ближайший час нас обоих должны видеть где угодно, только не здесь.
Он кивнул в сторону Томбстоуна в двухстах ярдах от нас.
— Когда ты наконец начнешь бояться? — спросил я.
Рой ощупал рукой свои костлявые колени:
— Пока что не трясутся.
Он высадил меня перед столовой. Я вышел и остановился, глядя ему в лицо. Рой смотрел полусерьезно-полушутливо.
— А ты зайдешь? — спросил я.
— Зайду, скоро. У меня тут еще кое-какие делишки.
— Рой, уж не собираешься ли ты отколоть какую-нибудь глупость, а? У тебя какой-то отсутствующий, безумный взгляд.
— Я как раз думал, — сказал Рой. — Когда умер Арбутнот?
— На этой неделе исполняется двадцать лет. Столкновение двух машин, погибли три человека. Арбутнот, его бухгалтер Слоун и еще жена Слоуна. Об этом несколько дней трубили газеты. Похороны были шикарнее, чем у Валентино. Мы с друзьями стояли за воротами кладбища. Цветов хватило бы на новогодний Парад роз.[61] Тысячи людей не пришли в тот день на работу, слезы текли из-под их темных очков. Господи, какое это было горе. Арбутнота так любили.
— Значит, авария?
— Свидетелей не было. Может, один слишком близко подъехал к другому. Возвращался пьяный после вечеринки на студии.
— Может быть. — Рой оттянул нижнюю губу и прищурил на меня один глаз. — А вдруг тут есть что-то еще? Может, после стольких лет кто-то что-то узнал об аварии и теперь угрожает все рассказать. Иначе зачем этот труп на стене? К чему эта паника? Зачем все замалчивать, если нечего скрывать? Боже, да ты слышал, как они только что кричали? Неужели, если окажется, что мертвец — не мертвец и труп — не труп, руководство так взбудоражится?
— Наверняка письмо было не одно, — сказал я. — Его получил не только я, но и другие. Но я единственный кретин, который пошел посмотреть. Однако сегодня за весь день я не проронил об этом ни слова, ничего не разболтал. Тому, кто повесил труп на стену, пришлось сегодня же писать или звонить на студию, чтобы поднялась паника и приехал катафалк. А тот, кто сделал мертвеца и послал записку, сейчас здесь, наблюдает за всем этим цирком. Зачем… зачем… зачем?..
— Тсс, — тихо сказал Рой. — Тсс. — Он завел мотор. — За ланчем мы решим эту загадку, будь она трижды неладна. Сделай невинное лицо. Притворись наивным поедателем горохового супа от Луиса Б. Майера.[62] Пойду проверю свои модельки. Надо приладить еще одну маленькую улочку. — Он взглянул на часы. — Через два часа моя страна динозавров будет готова для съемки. И тогда все, что нам нужно, — это наше замечательное и потрясающее чудовище.
Я посмотрел на Роя, чье лицо по-прежнему лихорадочно пылало.
— Надеюсь, ты не собираешься выкрасть тело и водрузить его обратно на стену?
— Даже в мыслях не было, — ответил Рой и уехал.
10
В дальней левой части столовой, посередине зала, был небольшой подиум, не выше фута, на котором стоял один-единственный столик с двумя стульями. Я часто представлял себе, как за ним восседает надсмотрщик боевой римской триремы и с грохотом обрушивает то один молот, то другой, задавая темп потным гребцам, прикованным к своим веслам, запуганным и покорным; они плывут к какому-то далекому театральному проходу, за ними гонятся разъяренные постановщики, а на берегу их встречает толпа рассерженных зрителей.
Но за этим столом никогда не сидел командир римской галеры, задающий темп.
Это был стол Мэнни Либера. Он восседал там один над своей тарелкой, помешивая еду, словно то были голубиные потроха под ножом личного гадателя Цезаря, тыкая вилкой селезенку, не обращая внимания на сердце, предсказывая судьбы. Иногда он сидел там, ссутулившись, вместе с врачом киностудии, Доком Филипсом, пробуя новые зелья и снадобья и запивая их водой из-под крана. Бывали дни, когда он закусывал потрохами режиссеров и сценаристов, а те хмуро смотрели ему в глаза, кивая: да-да, съемки не укладываются в график! Да-да, мы ускоримся!
Никто не хотел сидеть за этим столом. Зачастую вместо счета тебе приносили розовый квиток об увольнении.
Сегодня, когда я прошмыгнул в столовую и, поджавшись, лавировал между столиками, небольшой подиум Мэнни пустовал. Я остановился. И впервые не увидел на этом столе ни тарелок, ни приборов, ни даже цветов. Мэнни все еще где-то бродил, проклиная солнце за свои оскорбленные чувства.
Но меня уже ждали за самым длинным столом, где половина мест уже была заполнена, и народ все прибывал.
За то время, что я проработал на студии, я ни разу не подходил близко к этому столу. Как большинство новичков, я боялся завязывать общение со звездами и знаменитостями. Когда я был еще мальчиком, Уэллс выступал с лекциями в Лос-Анджелесе, но я не пошел к нему за автографом. Я умер бы от радости при виде его. Те же чувства я испытывал, глядя на этот стол, за которым сидели лучшие режиссеры, монтажеры и сценаристы, словно на Тайной вечере в ожидании запаздывающего Христа. Увидев всех их снова, я оробел.
Развернувшись, я попытался незаметно пройти мимо, в дальний угол, где мы с Роем частенько наспех глотали бутерброды и суп.
— Нет-нет, не туда! — прогремел чей-то голос.
Моя голова втянулась в плечи, шея, лоснясь от пота, перископом выглядывала из ворота рубашки.
— Тебе назначено здесь! — крикнул мне Фриц Вонг. — Марш ко мне!
Рикошетом промчавшись между столов, я встал перед Фрицем, разглядывая собственные ботинки. Я почувствовал, как его рука опустилась на мое плечо, готовая вот-вот сорвать с меня погоны.
— Это, — объявил Фриц, — наш гость из иного мира, с того конца столовой. Я помогу ему совершить посадку.
Положив руки мне на плечи, он мягко заставил меня сесть.
Наконец я поднял глаза и посмотрел вдоль стола на дюжину людей, устремивших на меня взгляды.
— А теперь, — объявил Фриц, — он расскажет нам о своих поисках чудовища!
Чудовище.
С тех пор как было объявлено, что мы с Роем намерены написать сценарий, сотворить самое ужасное страшилище в голливудской истории и вдохнуть в него жизнь, тысячи людей стали помогать нам в наших поисках. Словно мы искали Скарлетт О'Хару или Анну Каренину. Но нет… мы искали чудовище, и так называемый спор о будущем чудовище велся на страницах «Вэрайети» и «Холливуд репортер».[63] Наши с Роем имена упоминались в каждой статье. Я вырезал и сохранял каждую заметку, даже самые дурацкие и никчемные. Другие студии, агенты и широкая публика начали заваливать нас фотографиями. У ворот нашей студии появились Квазимодо номер два и три, а также четыре Призрака Оперы. От оборотней не было отбоя. Двоюродных и троюродных братьев Лугоши и Карлоффа, прятавшихся в павильоне 13, выкидывали вон с площадки.
Мы с Роем чувствовали себя так, будто заседаем в жюри конкурса «Мисс Атлантик-Сити», перенесенного каким-то образом в Трансильванию. Те полузвери, что ждали нас каждый вечер у выхода, не лезли ни в какие ворота; фотографии были еще хуже. Наконец мы сожгли все снимки и покинули студию через боковой выход.
В таком режиме наши поиски чудовища продолжались весь месяц.
И вот теперь Фриц Вонг снова спросил:
— Итак. Где чудовище? Объясни!
11
Я посмотрел на все эти лица и произнес:
— Нет. Нет, пожалуйста. Мы с Роем скоро будем готовы, но пока… — Я быстро глотнул невкусной голливудской водопроводной воды. — Я три недели наблюдал за этим столом. Каждый садится всегда на одно и то же место. Этот здесь, тот напротив. Держу пари, те, кто сидит на этой стороне, даже не знают тех, кто напротив. Почему бы не перемешаться? Сесть посвободнее, чтобы каждые полчаса люди могли меняться местами, как в игре «Музыкальные стулья», перемещаться, знакомиться с новыми людьми, а не слушать надоевшую болтовню, не видеть знакомые рожи. Простите.
— Простите?! — вскричал Фриц, схватил меня за плечи и потряс своим смехом. — О'кей, ребята! Музыкальные стулья! Алле-ап!
Аплодисменты. Одобрительные возгласы.
Все так развеселились, что начали похлопывать друг друга по спине, обмениваться рукопожатиями, искать новые стулья и снова рассаживаться. Все это повергло меня в еще больший конфуз и неловкость: новый взрыв смеха и веселья. Снова раздались аплодисменты.
— Придется каждый день сажать маэстро с нами за стол, чтобы он учил нас, как вести себя в обществе и в жизни, — объявил Фриц. — Ладно, успокойтесь, соотечественники! — прокричал он. — Слева от вас, юный маэстро, Мэгги Ботуин, лучший монтажер в истории кино!
— Вздор! — Мэгги Ботуин кивнула мне и вернулась к принесенному с собой омлету.
Мэгги Ботуин.
Прямая и спокойная, она была похожа на строгое пианино и казалась выше своего роста благодаря манере сидеть, вставать и ходить, благодаря тому, как держала руки на коленях и зачесывала волосы наверх, по моде времен Первой мировой войны.
В одной радиопередаче я слышал, как она рассказывала о своей способности укрощать змей.
Эта пленка, что с шуршанием проходит через ее руки, скользит между пальцами, извивается и мелькает.
Это время, что проходит лишь затем, чтобы повторяться снова и снова.
То же самое, говорила она, и с самой жизнью.
Будущее стремительно мчится на тебя. И пока оно не умчалось прочь, у тебя есть одно-единственное мгновение, чтобы превратить его в милое, узнаваемое и достойное прошлое. Мгновение за мгновением будущее мерцает в твоей руке. Если ты не сумеешь поймать, не схватив руками, не разрушив, придать форму этой веренице мгновений, у тебя не останется ничего за спиной. Твоя цель, ее цель, цель всех нас — вылепить самих себя и оставить свой отпечаток на этих разрозненных кусочках будущего, которые, соприкоснувшись, перерастут в быстро исчезающие кусочки прошлого.
То же самое с фильмом.
С одним лишь различием: ты можешь проживать его снова и снова, столько раз, сколько захочешь. Пропускай будущее через свои руки, превращай его в сегодня, превращай его во вчера, а затем снова начинай с завтра.
Замечательная профессия — контролировать стечение трех времен: безбрежного, невидимого будущего; настоящего — суженного фокуса; и огромного кладбища секунд, минут, часов, лет, тысячелетий, сквозь которые пробиваются ростки двух других времен.
А если тебе не нравится ни одна из трех стремительных рек времени?
Хватай ножницы. Режь. Вот так! Тебе лучше?
И вот она прямо передо мной на мгновение сложила руки на коленях, а затем подняла восьмимиллиметровую камеру и начала снимать панораму лиц за столом, переходя от одного к другому, спокойно и без лишних движений, пока камера не остановилась на мне.
Я неотрывно смотрел в объектив и вспоминал тот день в 1934 году, когда увидел за воротами студии эту женщину, снимавшую на пленку всех придурков и идиотов, тупоголовых охотников за автографами и меня в их числе.
Мне хотелось крикнуть ей: «Вы помните?» Но откуда она могла помнить?
Я опустил голову. Камера застрекотала дальше.
В этот самый момент вошел Рой Холдстром.
Он стоял в дверях столовой, обшаривая ее взглядом. Отыскав меня, он не помахал рукой, а бешено замотал головой. Затем развернулся и направился вон из столовой. Я вскочил и выбежал на улицу прежде, чем Фриц Вонг успел меня поймать.
Я увидел, как Рой исчезает в мужской уборной, и нашел его перед белой фарфоровой святыней, поклоняющимся «Фонтанам Рима» Респиги.[64] Я встал рядом с ним: иссяк источник, как зимой, вода застыла в моих старых трубах.
— Смотри. Вот это я нашел только что в тринадцатом павильоне.
Рой положил на кафельную полочку передо мной машинописный листок.
Чудовище явилось наконец!
Сегодня в «Браун-дерби»![65]
Уайн-стрит. Ровно в 10.
Приходи! Или потеряешь все!
— И ты поверил! — ахнул я.
— Так же, как ты поверил в свою записку и пошел на это чертово кладбище. — Рой задумчиво глядел в стену прямо перед собой. — Бумага и шрифт такие же, как на твоей записке? Идти мне или не идти вечером в «Браун-дерби»? Черт, почему бы нет? Трупы на стенах, исчезнувшие лестницы, разглаженные следы на траве, куклы из папье-маше, да вдобавок Мэнни Либер с его воплями. Пять минут назад я подумал: если Мэнни и остальные так рассердились из-за огородного чучела, что, если оно вдруг исчезнет, а?
— Но ты же этого не сделал?.. — проговорил я.
— Не сделал? — переспросил Рой.
Он сунул записку в карман. Затем взял со стола в углу небольшую коробку и передал ее мне.
— Нас кто-то использует. Я решил предпринять кое-что самостоятельно. Возьми. Иди в кабинку. Открой.
Я послушался. Запер дверь.
— Ну, что стоишь? — крикнул Рой. — Открывай!
— Открываю, открываю.
Я открыл коробку и заглянул внутрь.
— Боже мой! — воскликнул я.
— Что ты там видишь? — спросил Рой.
— Арбутнота!
— И коробка подошла, тютелька в тютельку, а? — сказал Рой.
12
— Как тебе такое в голову пришло?
— Все коты любопытны. А я кот, — ответил Рой, протискиваясь через толпу.
Мы возвращались в столовую. Рой держал под мышкой коробку, на его лице сияла победная улыбка.
— Смотри, — продолжал он. — Кто-то отправляет тебе записку. Ты идешь на кладбище, находишь труп, но никому не говоришь и тем самым портишь чью-то игру. Этот человек звонит на студию, те посылают за телом и начинают паниковать, когда видят такую картину. А я вне себя от дикого любопытства. Что это за игра, спрашиваю я. А узнать это я могу, только сделав ответный ход своими фигурами, верно? Час назад мы видели и слышали реакцию Мэнни и его сотоварищей. А давай-ка разберемся, как они среагируют, — сказал я себе, — если, найдя труп, снова его потеряют и будут ломать голову, у кого он? А он у меня!
Мы остановились перед дверью столовой.
— Не пойдешь же ты туда с этой штукой! — воскликнул я.
— Это самое безопасное место на свете. Коробка, которую я таскаю по всей студии, ни у кого не вызовет подозрений. Но будь осторожен, напарник, в этот самый момент за нами наблюдают.
— Кто?! — вскричал я, резко оборачиваясь.
— Если б я знал, все бы уже разрешилось. Идем.
— Я не голоден.
— Странно, — заметил Рой, — а вот я почему-то готов съесть слона.
13
Снова войдя в столовую, я увидел, что столик Мэнни по-прежнему пустует. Я так и застыл, глядя на него.
— Чертов безумец, — прошептал я.
Рой потряс коробкой у меня за спиной. Она зашуршала.
— Да, я такой, — радостно ответил он. — Давай шевелись.
Я прошел на свое место.
Рой поставил удивительную коробку на пол, подмигнул мне и уселся на противоположном конце стола, расплываясь в невинно-безупречной улыбке. Фриц бросил на меня испепеляющий взгляд, как будто своим отсутствием я нанес ему личное оскорбление.
— Минуту внимания! — Фриц щелкнул пальцами. — Знакомство продолжается! — Он указал на сидящих вдоль стола. — Следующий — Станислав Грок, личный гример Николая Ленина,[66] человек, который готовил тело Ленина, наносил воск на лицо, вводил парафин в тело, чтобы оно все эти годы хранилось у кремлевской стены в Москве, в Советской России!
— Гример Ленина? — переспросил я.
— Косметолог.
Станислав Грок помахал маленькой ручкой над маленькой головой, сидящей на маленьком теле.
Он был едва ли выше тех поющих лилипутов, что играли жевунов в «Волшебнике из Страны Оз».[67]
— Слушай и повинуйся! — прокричал он. — Ты пишешь чудовищ. Рой Холдстром их создает. А я нарумянивал, покрывал воском, выглаживал величайшее советское чудовище, давно покойное!
— Не обращай внимания на этого изумительного русского ублюдка, — сказал Фриц. — Лучше посмотри на стул рядом с ним!
Стул был пуст.
— Чей же он? — спросил я.
Кто-то кашлянул. Все головы повернулись.
Я затаил дыхание. Пришествие свершилось.
14
Последний из пришедших был настолько бледен, что, казалось, кожа его светится изнутри. Он был высок — шесть футов и три дюйма ростом, прикинул я; длинные волосы, ухоженная, подстриженная борода, и такая поразительная ясность в глазах, что, казалось, он видит все твои кости сквозь плоть и всю твою душу сквозь кости. Когда он проходил мимо столиков, ножи и вилки зависали в воздухе, не добравшись до полуоткрытых ртов. Он проходил, оставляя за собой шлейф молчания, а затем жизненная суета мало-помалу возобновлялась. Он шел размеренным шагом, словно вместо изорванного плаща и замызганных штанов на нем были дорогие одежды. Проходя мимо каждого стола, он осенял всех крестом, но его глаза смотрели прямо вперед, будто им открывался какой-то иной мир, не наш. Он смотрел на меня, и я весь сжался, ибо не мог вообразить, почему он выделил меня среди всех этих признанных и авторитетных талантов. Наконец он остановился и встал надо мной с такой торжественностью, что я вскочил с места.
Наступило молчание, а этот человек с красивым лицом вытянул вперед свою тонкую руку с тонким запястьем, которая завершалась тонкими пальцами, самыми восхитительными из всех, виденных мной.
Я протянул руку и взял его ладонь в свою. Он перевернул ее, и я увидел посреди запястья шрам от прошедшего насквозь гвоздя. Он перевернул и другую руку: посреди левого запястья я увидел такой же рубец. Он улыбнулся, прочитав мои мысли, и спокойно объяснил:
— Большинство людей думают, что гвозди вбивали в ладони. Это не так. Ладони не могут выдержать вес тела. А запястья могут. Запястья.
Затем он повернул руки, чтобы показать, где вышли гвозди.
— Иисус, — обратился к нему Фриц Вонг, — это наш гость из иных миров, наш молодой фантаст…
— Я знаю.
Прекрасный незнакомец кивнул и указал на себя.
— Иисус Христос, — представился он.
Я посторонился, давая ему сесть, а затем рухнул на свое место.
Фриц Вонг передал через стол небольшую корзинку, полную хлеба.
— Пожалуйста, — попросил он, — преврати это в рыбу!
Я открыл рот от удивления.
Но Иисус, просто щелкнув пальцами, выудил из хлеба серебристую рыбку и подбросил ее высоко в воздух. Восхищенный Фриц поймал ее под общий смех и аплодисменты.
Официантка принесла несколько бутылок дешевого пойла, вызвав еще больше криков и аплодисментов.
— Это вино, — сказал Иисус, — еще десять секунд назад было водой. Прошу!
Вино разлили по бокалам и попробовали.
— Определенно… — начал я и запнулся.
Все сидящие за столом посмотрели на меня.
— Он хочет знать, — закричал Фриц, — тот ли ты, кем себя называешь?
С угрюмой грацией высокий человек вытащил и показал свое водительское удостоверение. На нем значилось:
«Иисус Христос. 911, Бичвуд-авеню. Голливуд».
Он опустил его обратно в карман, дождался, пока за столом снова воцарится тишина, и сказал:
— Я пришел на эту студию в двадцать седьмом, когда здесь снимали «Царя Иисуса». Работал плотником в мастерских на заднем дворе. Я вырезал и отполировал все три голгофских креста, которые и сейчас там стоят. По всей стране искали Христа: в каждой баптистской норе, на каждой католической помойке. А нашли здесь. Режиссер спросил, кем я работаю. Плотником. «Господи, — вскричал он, — дай-ка я посмотрю на это лицо! Приклейте ему бороду!» «Сделай так, чтобы я был похож на святого Иисусика», — посоветовал я гримеру. Я вернулся из гримерной, одетый в длинные одежды, в терновом венце, в полной святой амуниции. Режиссер сплясал на Голгофе и омыл мне ноги. А дальше, вы знаете, пока баптисты выстраивались в очереди за пирогами на фестивале в Айове,[68] я подкатил на своем пыльном тарантасе с транспарантами: «ЦАРЬ ГРЯДЕТ», «ОН УКАЗЫВАЕТ ПУТЬ». Целых десять лет, как Мессия, я колесил по стране, останавливаясь в мотелях, пока вино и венерины дочки не превратили мои одежды в лохмотья. Кому понравится Спаситель, шляющийся по бабам? Не то чтобы я часто кадрил девчонок и заводил чужих жен, как дешевые часы, нет, просто я был Им, понимаете?
— Кажется, понимаю, — мягко сказал я.
Христос положил перед собой свои длинные запястья, длинные руки, длинные пальцы — так садятся коты в ожидании, что весь мир придет им поклоняться.
— Женщины считали богохульством даже то, что дышали одним воздухом со мной. Они испытывали ужас от прикосновения. Поцелуй считали смертным грехом. А сама близость? Все равно что прыгнуть в кипящий котел и вариться там вечно, по уши в мерзости. Хуже всех были католики — нет, пожалуй, трясуны.[69] Когда я путешествовал по стране инкогнито, мне удалось всего раз или два переночевать в мотеле, прежде чем меня узнали. После месяца, проведенного в страдальческих мечтах о гибких красотках, я едва не сошел с ума. Я просто побрился и помчался прочь через всю страну, бросая палки повсюду, подминая под себя телок направо и налево. Я раздавил больше шлюх, чем паровой каток на баптистско-нудистском купании. Я мчался на всех парах, надеясь, что проповедники с ружьями не припомнят мне все гимны и гименеи и не подстрелят меня картечью. Я молился, чтобы девицы никогда не догадались о том, что получали наслаждение в объятиях главного участника Тайной вечери. И вот, когда мой член превратился в выжатый лимон, а сам я допился до положения риз, киношники собрали меня по косточкам, дали взятки шерифам, успокоили пастырей из Северного Хлева в Небраске, оплатив для них новые купели для крещения моих отпрысков «последних дней»,[70] и увезли меня домой, в келью на задворках студии. Там меня держали как Иоанна Крестителя под страхом лишиться обеих моих буйных головок, пока не будет отснята еще одна, последняя рыбешка в Галилее и еще одно чудесное путешествие на Голгофу. Только преклонный возраст и сломанный перец остановили меня. Я был сослан в третью лигу. Что само по себе здорово, мне страшно хотелось попасть куда-нибудь в третью лигу. Там не было большего бабника, чем заблудшая душа, которую вы видите перед собой. Я был недостоин играть Христа, а в это время в тысячах кинотеатров по всей стране я спасал души и вожделел сладенького. Много лет я умерял свои страдания, топя их не в плоти, а в вине. Мне повезло, что Фриц подштукатурил меня для нового фильма: тонны грима — неплохо для общих планов. Вот так. Глава такая-то, стих такой-то. Изображение медленно гаснет.
Раздались аплодисменты. Весь стол хлопал в ладоши и кричал «браво!».
Закрыв глаза, Христос покачал головой вправо-влево.
— Ничего себе история, — пробормотал я.
— Не верь ни единому слову, — сказал Христос.
Овации смолкли. Вошел кто-то еще.
На другом конце стола появился Док Филипс.
— Господи, — произнес Иисус сильным и чистым голосом. — А вот и Иуда!
Но даже услышав это, доктор и ухом не повел.
Он помедлил, с отвращением оглядывая зал, боясь неожиданной встречи. Доктор был похож на тех ящериц, что попадаются иногда на опушке девственного леса: они вращают глазами, ужасно пугливы, принюхиваются, пробуют воздух своими чуткими лапками, мелко подергивают хвостом, со всех сторон ожидают смертельной опасности и не питают никаких надежд — лишь нервно подергиваются, готовые в любой момент сорваться с места, шоркнуть, сбежать. Его пристальный взгляд нашел Роя и отчего-то остановился на нем. Рой выпрямился на стуле, застыл и слабо улыбнулся в ответ.
«Господи, — подумал я, — кто-то видел, как Рой убегает с коробкой. Кто-то…»
— Не желаете ли прочесть молитву перед едой? — закричал Фриц. — Молитву хирурга: Боже, избави нас от докторов!
Док Филипс метнул молниеносный взгляд в сторону, словно его щеки коснулась какая-то мелкая мушка. Рой снова откинулся на спинку стула.
Приход Дока был неожиданностью. Где-то там, за дверьми столовой, под палящим полуденным солнцем Мэнни и еще несколько блох так и подпрыгивали от гнева и обиды. И доктор пришел сюда, то ли подальше от этого кошмара, то ли в поисках подозреваемых, — что именно его привело, я не знал.
Но вот он здесь, Док Филипс, знаменитый целитель, работавший на всех студиях от появления первых камер с крутящейся ручкой до прихода звукового кино с его визгами и воплями и, наконец, до нынешнего дня, когда земля содрогнулась. Если Грок — это вечно веселый шут, то Док Филипс — мрачный целитель, излечивающий любое самолюбие, зловещая тень на стене, убийственный взгляд с последнего ряда на предпросмотрах, ставящий диагноз слабым фильмам. Вроде тех футбольных тренеров, которые наблюдают с края поля за своей победоносной командой, ни разу не удостаивая игроков даже малейшим намеком на одобрительную улыбку. Он говорил не фразами и предложениями, а обрывками и обрубками слов из наспех написанного рецепта. Между его отрывистыми «да» и «нет» пролегала тишина.
Он был восемнадцатилетним юнцом, когда глава студии «Скайларк» забил в лунку свой последний шар и упал замертво. Ходили слухи, что Филипс отчалил от калифорнийского берега вместе с тем самым знаменитым издателем, который выбросил за борт не менее знаменитого режиссера, инсценировав «несчастный случай на воде». Я видел его фотографии у гроба Валентино, у постели Джинни Иглз,[71] на какой-то яхте во время парусной регаты в Сан-Диего, куда его взяли как зонтик от солнечного удара для дюжины нью-йоркских киномагнатов. Говорили, он посадил на иглу всех звезд киноиндустрии, а затем лечил их в своей тайной клинике где-то в Аризоне, неподалеку от Нидлз.[72] Ироничное указание в названии города также не было оставлено без внимания. Филипс редко обедал в столовой; от его взгляда портилась еда. Собаки лаяли на него, словно на посланника ада. Взятые им на руки младенцы кусались и страдали кишечными коликами.
При появлении доктора все вздрагивали и расступались.
Док Филипс метал пристальные взгляды то в одного, то в другого. Через несколько мгновений у некоторых начался нервный тик.
Фриц повернулся ко мне:
— Для него всегда есть работа. То слишком много цыпочек явились с утра пораньше к пятому павильону. То сердечные приступы в нью-йоркском офисе. То этот актер в Монако попался со своим ненормальным дружком из оперы. Он…
Мрачный доктор прошагал за нашими стульями, что-то шепнул Станиславу Гроку, потом быстро повернулся и спешно покинул столовую.
Фриц хмуро поглядел на входную дверь вдали и, обернувшись ко мне, грозно сверкнул моноклем:
— Ну что, все понимающий господин футурист, расскажите нам, черт возьми, что происходит?
Пунцовый румянец вспыхнул на моих щеках. От стыда язык прилип к нёбу. Я опустил голову.
— Музыкальные стулья! — раздался чей-то крик.
Грок вскочил и, глядя на меня, повторил:
— Стулья, стулья!
Все засмеялись. Все задвигались, и мое смущение осталось незамеченным.
Когда же народ наконец перестал носиться в разные стороны, я вдруг увидел, что Станислав Грок, человек, полировавший Ленину лоб и причесывавший его козлиную бородку для вечной жизни, сидит напротив меня, а рядом со мной сидит Рой.
Грок широко улыбнулся, словно мы всю жизнь были друзьями.
— Куда это Док так рванул? Что происходит? — спросил я.
— Не обращай внимания. — Грок спокойно взглянул на дверь столовой. — Сегодня в одиннадцать утра я почувствовал толчок, будто студия кормой налетела на айсберг. С тех пор народ снует как угорелый, вычерпывая воду из тонущей лодки. Я счастлив, когда вижу столько людей в панике. Тогда я забываю свою унылую работу по превращению гадких утят Бронкса в бруклинских лебедей.
Он прервался, чтобы съесть ложечку фруктового салата.
— Как вы думаете? С каким айсбергом столкнулся наш «Титаник»?
Рой откинулся на спинку стула и сказал:
— Что-то стряслось в бутафорских и столярных мастерских.
Я бросил на Роя сердитый взгляд. Станислав Грок напрягся.
— Ах да! — медленно произнес он. — Небольшая проблемка с морской коровой, деревянной женской фигурой для фрегата «Баунти».
Я пнул Роя под столом, а он спросил, наклонившись вперед:
— Но вы ведь, конечно, говорили не об айсберге?
— О нет, — со смехом ответил Грок. — Я говорил о столкновении не с арктическим айсбергом, а с воздушным шаром, наполненным струей горячего воздуха: все эти раздувшиеся от спеси продюсеры-балаболки и студийные подпевалы сейчас вызваны на ковер к Мэнни. Кто-то будет уволен. А затем… — Грок указал на потолок своими маленькими кукольными ручонками, — упадет наверх!
— Как это?
— Человека увольняют из «Уорнера», и он падает наверх в «МГМ». Человека увольняют из «МГМ», и он падает наверх в «Двадцатый век Фокс». Падение наверх! Закон Ньютона наоборот! — Грок замолчал, улыбаясь собственному остроумию. — Да, но ты, бедный писателишка, если тебя уволят, никогда не сможешь упасть наверх, только вниз. Я…
Он осекся, потому что…
Я внимательно смотрел на него, как, должно быть, тридцать лет назад разглядывал своего деда, когда тот умер, навеки, в своей спальне наверху. Щетина на бледно-восковой коже деда, веки, готовые вдруг раскрыться и пропустить рассерженный взгляд, от которого бабушка, как Снежная королева, всегда застывала посреди гостиной, — все, все это предстало передо мной так же четко и ясно, как этот миг, когда напротив меня марионеткой сидел посмертный гример Ленина, по-мышиному жуя свой фруктовый салатик.
— Вы что, — вежливо осведомился он, — ищете следы швов над моими ушами?
— Нет, нет!
— Да, да! — развеселившись, возразил он. — Все ищут! Гляди!
Он наклонился вперед, вертя головой направо и налево, натягивая кожу у линии волос, затем на висках.
— Надо же, — сказал я. — Отличная работа.
— Нет. Безупречная!
Ибо тонкие порезы были едва-едва различимы, и если мушиные пятнышки рубцов и были там когда-то, то давным-давно сошли.
— Неужели вы… — начал я.
— Оперировал сам себя? Вырезал себе аппендикс? Может, я вроде той женщины, что сбежала из Шангри-Ла и сморщилась, как монгольская старуха![73]
Грок рассмеялся, и меня очаровал его смех. Не было ни минуты, когда бы он не веселился. Казалось, стоит ему перестать смеяться, как он тут же задохнется и умрет. Вечно счастливый хохот и не сходящая с лица улыбка.
— Да? — спросил он, видя, что я разглядываю его зубы и губы.
— А над чем вы все время смеетесь? — спросил я.
— Да надо всем! Ты когда-нибудь смотрел фильм с Конрадом Вейдтом?..[74]
— «Человек, который смеется»?[75]
Грок остолбенел от удивления.
— Невероятно! Ты не можешь этого знать!
— Моя мать была помешана на кино. Когда я учился в первом, втором, третьем классе, она забирала меня после школы, и мы шли смотреть Мэри Пикфорд,[76] Лона Чейни, Чаплина. И… Конрада Вейдта! Цыгане разрезают ему рот, чтобы он улыбался до конца жизни, а он влюбляется в слепую девушку, которая не может видеть этой страшной улыбки. Потом он ей изменяет, а когда принцесса с презрением его отвергает, извращается к своей слепой девушке, плачет и находит утешение в ее невидящих объятиях. А ты сидишь в темноте кинотеатра «Элит», где-то у бокового прохода, и плачешь. Конец.
— Боже мой! — воскликнул Грок почти без смеха. — Ты потрясающий малыш. Правда!
Он усмехнулся.
— Я — тот самый герой Вейдта, только цыгане не разрезали мне рот. Это сделали самоубийства, убийства, кровавые бойни. Когда ты заживо погребен вместе с тысячами мертвецов и изо всех сил, преодолевая тошноту, пытаешься выбраться из могилы, расстрелянный, но живой. С тех пор я не притрагиваюсь к мясу, потому что оно пахнет гашеной известью, трупами, непогребенными телами. Так что вот… — он развел руками, — фрукты. Салаты. Хлеб, свежее масло и вино. И со временем я пришил себе эту улыбку. Я защищаю истинный мир фальшивой улыбкой. Когда стоишь перед лицом смерти, почему бы не показать ей эти зубы, похотливый язык и смех? Кстати, это я взял тебя под свою ответственность!
— Меня?
— Я сказал Мэнни Либеру, чтобы он нанял Роя, твоего приятеля, спеца по тираннозаврам. И сказал: нам нужен кто-нибудь, кто пишет так же хорошо, как Рой фантазирует. Вуаля! И вот ты здесь!
— Спасибо, — медленно проговорил я.
Грок снова принялся клевать свою еду, довольный, что я пялюсь на его подбородок, его рот, его лоб.
— Вы могли бы сколотить состояние… — сказал я.
— Как раз этим я и занимаюсь. — Он отрезал ломтик ананаса. — Студия платит мне баснословные деньги. Их звезды то и дело приходят с помятыми лицами после пьянки или пробивают лобовое стекло головой. На «Максимус» постоянно боятся, что я уйду. Чепуха! Я останусь. И буду молодеть с каждым годом, резать и подшивать, и снова подшивать, пока моя кожа не натянется так, что при каждой улыбке будут выскакивать глаза! Вот так! — Он показал. — Потому что я не могу вернуться назад. Ленин выставил меня из России.
— Покойник вас выставил?
Фриц Вонг наклонился и с немалым удовольствием прислушался к разговору.
— Грок, — сказал он мягко, — объясни. Ленин с новым румянцем на щеках. Ленин с новенькими зубами, прячет во рту улыбку. Ленин с новыми, хрустальными, глазами под веками. Ленин удаляет себе родинки и подстригает козлиную бородку. Ленин, Ленин. Рассказывай.
— Очень просто, — сказал Грок, — Ленин для них — святой чудотворец, бессмертный в своем хрустальном гробу. А Грок, кто он такой? Разве это Грок придал яркость его губам, свежесть его лицу? Нет! Ленин, даже умерший, сам становится все краше и краше! И что же? Грока в расход! И Грок бежал! И где теперь Грок? Падает наверх… вместе с вами.
На другом конце длинного стола снова появился Док Филипс. Он не стал подходить ближе, однако резким кивком велел Гроку следовать за ним.
Грок не спеша промокнул салфеткой тонкие ярко-розовые улыбающиеся губы, сделал еще один долгий глоток холодного молока, скрестил на тарелке нож и вилку и стал пробираться к выходу. Вдруг он остановился, задумался и сказал:
— Нет, это не «Титаник», скорее Озимандия! — и выбежал вон.
— И к чему, — помолчав, сказал Рой, — он болтал тут про всяких морских коров и столярное дело?
— Он что надо, — отозвался Фриц Вонг. — Конрад Вейдт в миниатюре. Я задействую этого сукина сына в моем следующем фильме.
— А при чем тут Озимандия? — спросил я.
15
Весь остаток дня Рой беспрестанно просовывал голову в дверь моего кабинета и показывал свои покрытые глиной руки.
— Пусто! — кричал он. — Нет чудовища!
Я выдергивал лист из пишущей машинки.
— Пусто! Нет чудовища!
Но наконец, к десяти вечера, Рой поехал вместе со мной в «Браун-дерби».
По дороге я прочел вслух первую часть «Озимандии»:
По лицу Роя пробежали какие-то тени.
— Читай дальше, — попросил он.
Я прочел:
Когда я закончил, Рой проехал молча еще два-три длинных и мрачных жилых квартала.
— Поворачивай назад, поехали домой, — сказал я.
— Почему?
— После этого стихотворения кажется, что киностудия и кладбище — единое целое. У тебя когда-нибудь был такой стеклянный шар: встряхнешь его и внутри поднимаются снежные вихри? Вот так у меня вертится сейчас все внутри.
— Фигня, — отозвался Рой.
Я взглянул на его великолепный орлиный профиль, рассекавший ночной воздух. Рой был полон того оптимизма, которым, пожалуй, обладают лишь настоящие мастера, уверенные, что способны сотворить мир именно таким, каким они хотят его видеть, несмотря ни на что.
Я вспомнил, что, когда нам обоим было по тринадцать лет, Кинг-Конг сорвался с Эмпайр-стейт-билдинг и упал прямо на нас. Поднявшись на ноги, мы больше не были прежними. Мы сказали друг другу, что либо однажды напишем и вдохнем жизнь в столь же великое, могучее и прекрасное чудовище, как Кинг-Конг, либо просто умрем.
— Чудовище, — прошептал Рой. — Мы пришли.
И мы подкатили к «Браун-дерби», ресторану с коричневым котелком вместо крыши, не столь гигантским, как у ресторана на бульваре Уилшир, в пяти милях отсюда, на другом конце города: тот котелок был таким огромным, что пришелся бы впору самому Господу на Пасху или какой-нибудь киношной шишке в пятничный вечер. О том, что это далеко не простой ресторан, говорили только 999 рисованных шаржей, которыми были увешаны все стены внутри. Снаружи то было ничем не примечательное здание в псевдоиспанском стиле. Мы отважно переступили порог этого безликого места и оказались перед 999 портретами.
При виде нас метрдотель «Браун-дерби» приподнял левую бровь. В прошлом страстный собачник, теперь он любил только кошек. От нас странно пахло.
— У вас, конечно, нет договоренности? — вяло заметил он.
— Недоговоренности? По поводу этого заведения? — переспросил Рой. — Сколько угодно!
От таких слов у метрдотеля на затылке шерсть встала дыбом, но все же он нас пропустил.
Ресторан был почти безлюден. За несколькими столиками сидели люди, доедая десерт и допивая коньяк. Кое-где официанты уже начали перестилать скатерти и раскладывать приборы.
Впереди послышался смех, и мы увидели трех женщин, стоящих возле столика: они наклонились к мужчине, который, по видимому, пересчитывал купюры, чтобы оплатить счет за вечер. Молодые женщины смеялись и обещали, пока он расплачивается, ждать на улице и рассматривать витрины, после чего, в облаке духов, промчались мимо нас с Роем. Мы же стояли словно вкопанные и удивленно таращились на человека в кабинке за столиком.
Это был Станислав Грок.
— Боже мой! — воскликнул Рой. — Это вы?
— Я?!
Вечное пламя Грока внезапно погасло.
— Что вы здесь делаете? — воскликнул он.
— Нас пригласили.
— Мы тут кое-кого искали, — сказал я.
— А нашли меня и здорово расстроились, — заметил Грок.
Рой, страдавший достопамятным синдромом Зигфрида, незаметно попятился назад. Обещали дракона, а получил комара. Он не мог оторвать взгляда от Грока.
— Почему ты на меня так смотришь? — резко спросил коротышка.
— Рой! — предостерегающе произнес я.
Ибо понял, что Рой подумал то же, что и я. Это была всего лишь шутка. Кто-то знал, что Грок иногда ужинает здесь, и направил нас по ложному следу. Чтобы сбить с толку и нас, и Грока. И все же Рой внимательно рассматривал уши, нос и подбородок карлика.
— Не-а, — сказал Рой, — вы не подходите.
— Для чего? Продолжай! Давай! Это что, расследование?
Смех тихой пулеметной очередью начал вырываться из его груди и наконец слетел с тонких губ.
— Но почему в «Браун-дерби»? Здесь бывают совсем не те страшилища, что вы ищете. Скорее персонажи ночных кошмаров. А я сам, обезьяньей лапой сляпанный из лоскутов? Кого я могу напугать?
— Не волнуйтесь, — ответил Рой. — Страх приходит потом, когда в три часа ночи я вспоминаю о вас.
Это подействовало. Грок разразился небывалым хохотом и жестом пригласил нас сесть в его кабинке.
— Раз уж этой ночью вам все равно не спать, выпьем!
Мы с Роем нервно окинули взглядом ресторан.
Нет чудовища.
Когда шампанское было разлито по бокалам, Грок поднял за нас тост:
— Пусть вам никогда не придется завивать ресницы мертвецу, чистить ему зубы, вощить бороду и подкрашивать сифилитичные губы.
Грок поднялся и посмотрел на дверь, куда убежали его женщины.
— Вы видели их лица? — Грок улыбнулся им вслед. — Это мои! А знаете, отчего эти девчонки так безумно в меня влюблены и никогда меня не покинут? Я — верховный лама долины Голубой Луны.[78] Стоит им уйти, дверь — моя дверь — захлопнется и их лица увянут. Кроме того, я предупредил их, что прикрепил тонкие ниточки под их глазами и подбородками. Стоит им слишком далеко, слишком быстро удрать к другому концу ниточки — их истинный облик раскроется. И вместо тридцати им будет сорок два!
— Фафнир, — проворчал Рой.
Его пальцы сжали край стола, как будто он вот-вот вскочит с места.
— Кто?
— Один приятель, — пояснил я. — Мы должны были встретиться с ним сегодня.
— Сегодня уже прошло, — сказал Грок. — Но вы оставайтесь. Допейте шампанское. Закажите еще, я оплачу. Может, хотите салат, пока кухня не закрылась?
— Я не голоден, — буркнул Рой, в глазах которого читалось то же бесконечное разочарование, как на спектакле «Зигфрид» в «Шрайн».
— Хотим! — ответил я.
— Два салата, — сказал Грок официанту. — С голубым сыром?
Рой закрыл глаза.
— Да! — сказал я.
Грок повернулся к официанту и сунул ему в руку неоправданно щедрые чаевые.
— Побалуйте моих друзей, — сказал он, ухмыльнувшись. Затем, бросив взгляд на дверь, куда его женщины рысцой умчались на своих миниатюрных копытцах, он покачал головой. — Мне пора. На улице дождь. И вся эта вода льет на лица моих пташек. Они же растают! Прощайте. Арриведерчи!
И ушел. Входная дверь с тихим шорохом закрылась за ним.
— Сматываемся. Я чувствую себя дураком! — сказал Рой.
Пошевелившись, он расплескал свое шампанское, чертыхнулся и принялся вытирать. Я налил ему еще и смотрел, как он медленно и спокойно допивает свой бокал.
Через пять минут в дальнем углу ресторана появилось оно.
Метрдотель разворачивал вокруг самого дальнего столика ширму. Она выскользнула и с резким шуршанием наполовину сложилась обратно. Метрдотель что-то пробурчал себе под нос. А затем в дверях кухни, где, как я понял, уже несколько секунд назад появились мужчина и женщина, произошло некое движение. И вот, когда метрдотель поправил свернувшийся экран, они вышли на свет и, глядя лишь вперед, на эту ширму, поспешно направились к столу.
— Боже мой! — сипло прошептал я. — Рой?
Рой взглянул туда же.
— Фафнир! — шепнул я.
— Не может быть! — Рой замер и пристально вгляделся в прошмыгнувшую парочку. — Точно.
Но тот, кто торопливо прошел от кухни к столу, за руку таща за собой свою даму, был не Фафнир, не мифологический дракон, не жуткий змей.
Это был тот, кого мы искали столько долгих недель и трудных дней. Тот, кого я мог бы создать при помощи пера или машинки, чувствуя, как холодок ужаса ползет вверх по руке и леденит затылок.
Это был тот, кого Рой тщетно пытался сотворить каждый раз, когда запускал свои длинные пальцы в глину. Кровавый пузырь, раздувшийся на поверхности грязной первобытной жижи и обретший форму лица.
И это лицо вобрало в себя все изуродованные, рубцеватые, замогильные лица раненых, расстрелянных и похороненных людей за все десять тысяч лет, что существуют войны.
Это был Квазимодо в старости, истерзанный ниспосланными ему Божьими карами в виде раковых опухолей и нескончаемыми страданиями от проказы.
И сквозь это лицо просвечивала душа, которой суждено жить в нем вечно.
«Вечно! — подумал я. — Ей никогда не выбраться!»
Это было наше чудовище.
Все решилось в один миг.
Мысленно сделав моментальное фото этого создания, я закрыл глаза и увидел, что ужасающий лик оставил огненный отпечаток на моей сетчатке; он пылал так неистово, что глаза мои до краев наполнились слезами, и невольный звук вырвался из моего горла.
Это было лицо, в котором тонули два страшных жидких глаза. Лицо, в котором эти исступленно барахтающиеся глаза не находили ни тихой гавани, ни покоя, ни спасения. И, не видя вокруг себя ничего безупречного, эти глаза, блестя отчаянием, плавали на одном месте, держась на поверхности месива из плоти, не желая тонуть, отказываясь сдаться и исчезнуть совсем. В них светилась искра последней надежды, надежды на то, что, вращаясь в том или ином направлении, они все-таки высмотрят для себя что-нибудь: незаметный способ избавления, проявление совершенной красоты, весть о том, что все не так ужасно, как кажется. И вот эти глаза покачивались, как поплавок на якоре, среди раскаленной докрасна лавы истребленной плоти, среди плавящейся массы генетического материала, в которой ни одна душа, даже самая мужественная, не способна выжить. Ноздри размеренно втягивались, рот отверстой раной заходился в беззвучном крике и исторгал воздух обратно.
В этот момент я увидел, как Рой дернулся вперед, потом назад, словно в него выстрелили, а рука его безотчетным и быстрым движением потянулась к карману.
Затем, когда странный человек-развалина скрылся за водруженной на место ширмой, рука Роя вынырнула из кармана, достав оттуда маленький блокнот для эскизов и карандаш. Не отрывая взгляда от ширмы, словно прозревая сквозь нее, и совсем не глядя в блокнот, Рой сделал набросок страшного видения, кошмара, кровоточащей плоти — разрушенной и обезнадеженной.
Рой, подобно Гюставу Доре[79] задолго до него, обладал той же точностью пальцев, которые двигались, бегали, оставляя чернильный след, рисуя набросок, ему достаточно было одним взглядом окинуть лондонскую толпу, и, словно из открывшегося крана, из опрокинутого стакана, сквозь воронку памяти, из-под его пальцев струей выхлестывали образы, брызгали с карандаша, и каждый глаз, каждая ноздря, каждый рот, каждая щека, каждое лицо оказывались четкими и законченными, будто отпечатанные. Через десять секунд рука Роя, точно паук, брошенный в кипяток, плясала и лихорадочно сновала, судорожно набрасывая воспоминания. Мгновение назад блокнот был пуст. И вот уже чудовище — не все, но большая его часть — оказалось там!
— Черт! — прошептал Рой и отшвырнул карандаш.
Я посмотрел на ширму с восточным орнаментом, затем на набросок.
То, что я увидел, смахивало на полупозитивный-полунегативный снимок промелькнувшего перед нашими глазами страшилища.
Теперь, когда чудовище скрылось из виду и метрдотель за ширмой принимал заказ, я не мог оторвать взгляда от рисунка Роя.
— Почти все, — прошептал Рой. — Но не совсем. Поиски закончены, юнга.
— Нет.
— Да.
Я отчего-то вскочил.
— Спокойной ночи.
— Ты куда? — опешил Рой.
— Домой.
— Ну и как ты думаешь добираться? Час трястись в автобусе? Сядь.
Рука Роя бегала по блокноту.
— Перестань, — сказал я.
Это было все равно что выстрелить ему в лицо.
— И это после стольких недель ожидания? К черту! Что это с тобой?
— Я выхожу из игры.
— Я тоже. Думаешь, мне все это нравится? — Он задумался над своими словами. — Ладно, пусть мне будет плохо, но сперва я разберусь с этим.
Он сделал рисунок еще кошмарнее, выделяя самые страшные черты.
— Ну как?
— Вот теперь мне действительно страшно.
— Думаешь, он выскочит из-за ширмы и схватит тебя?
— Точно!
— Садись и ешь свой салат. Знаешь, как говорит Хичкок: когда главный художник закончил с декорациями, фильм состоялся. Наш фильм состоялся. Это — его завершение. Дело в шляпе.
— Но отчего мне так стыдно? — Я тяжело опустился обратно на стул и не мог уже смотреть в Роев блокнот.
— Потому что ты не он, а он не ты. Благодари Бога и цени каждое проявление Его милости. Что, если я порву все это и мы уйдем? Сколько еще месяцев нам понадобится, чтобы найти что-то столь же печальное и страшное?
Я с трудом проглотил комок в горле.
— Вечность.
— То-то. Другого такого вечера не будет. Так что сиди спокойно, ешь и жди.
— Я подожду, но спокойно сидеть не смогу, и мне будет очень грустно.
Рой посмотрел на меня в упор.
— Видишь эти глаза?
— Да.
— Что ты в них видишь?
— Слезы.
— Значит, я переживаю не меньше твоего, но ничего не могу с собой поделать. Остынь. Выпей.
Он подлил еще шампанского.
— Какая гадость, — сказал я.
Рой рисовал, и лицо ясно проявлялось на бумаге. Лицо на стадии полного разложения, словно его жилец — разум, обитавший под этой оболочкой, — сбежал, уплыл за тысячи миль и теперь безвозвратно тонет. Если под этой плотью и были кости, их давно разметало на части, и, воссоединившись, они обрели какие-то жучиные очертания — чужие фасады, замаскированные под руины. Если и был под этими костями разум, прячущийся в расселинах сетчатки и слуховых каналов, то он отчаянно заявлял о себе через вращающиеся белки глаз.
Однако, как только нам принесли еду и налили шампанского, мы с Роем застыли от ужаса: из-за ширмы раздались взрывы невероятного хохота, гулко отражавшиеся от стен. Сперва женщина не смеялась в ответ, но затем, по прошествии часа, ее негромкий смех звучал почти наравне с хохотом мужчины. Но если его смех звучал чисто, как колокол, то ее хихиканье было почти истеричным.
Чтобы не дать деру, я надрался в хлам. Когда бутыль с шампанским опустела, метрдотель принес другую и отвел мою руку, которой я пытался нащупать пустой бумажник.
— Грок, — напомнил он, но Рой его не слышал. Он заполнял блокнот — страницу за страницей; время шло, смех слышался все громче, наброски Роя становились все более гротескными, словно бурные всплески бесхитростного веселья подстегивали воспоминания и заставляли исчеркивать страницы. Наконец смех затих. Из-за ширмы послышался негромкий шорох суетливых сборов, и перед нашим столиком появился метрдотель.
— Прошу вас, — вкрадчиво сказал он. — Мы закрываемся. Не возражаете?
Он кивнул в сторону двери и отошел в сторону, отодвигая стол. Рой поддался, посмотрел на ширму с восточным орнаментом.
— Нет, — произнес метрдотель. — Вы должны уйти первыми, таков порядок.
Я уже был на полпути к двери, когда мне пришлось обернуться назад.
— Рой? — позвал я.
Рой пошел за мной, то и дело оглядываясь, словно уходил из театра, когда спектакль еще не закончился.
Когда мы с Роем вышли на улицу, к обочине как раз подъезжало такси. На улице не было ни души, кроме мужчины среднего роста в длинном верблюжьем пальто, стоявшего к нам спиной на краю тротуара. Его выдала папка, зажатая под мышкой слева. День за днем я видел эту папку в летнюю пору моей юности и ранней молодости перед дверями «Коламбии», «Парамаунта», «МГМ» и прочих киностудий. Она была полна прекрасно нарисованных портретов Греты Гарбо,[80] Рональда Колмана,[81] Кларка Гейбла,[82] Джин Харлоу и тысяч других, и на каждом — росчерк актера красными чернилами. Все они принадлежали неистовому собирателю автографов, нынче постаревшему. Я заколебался в нерешительности, но все же остановился.
— Кларенс? — окликнул я его.
Человек вздрогнул, словно не хотел быть узнанным.
— Это же ты? — спросил я и взял его за локоть. — Ты Кларенс, да?
Тот отшатнулся, но наконец обернулся ко мне. Это было то же лицо, только седые морщины и бледность старили его.
— Что? — произнес он.
— Ты меня помнишь? — спросил я. — Наверняка помнишь. Когда-то я носился по Голливуду вместе с тремя сумасшедшими сестрами. Одна из них еще шила такие цветастые гавайские рубашки, в которых Бинг Кросби[83] снимался в своих ранних фильмах. Я приходил к «Максимус» в полдень и стоял там каждый день все лето тысяча девятьсот тридцать четвертого года. И ты тоже там был. Как я мог забыть? У тебя был единственный из виденных мной набросков Греты Гарбо, подписанный ею…
Моя литания только испортила все. От каждого слова Кларенс вздрагивал под своим теплым верблюжьим пальто.
Он нервно кивал. И нервно поглядывал на дверь «Браун-дерби».
— Что ты делаешь здесь так поздно? — спросил я. — Все давно сидят по домам.
— Кто знает? Так, от нечего делать… — сказал Кларенс.
Кто знает. А вдруг Дуглас Фэрбенкс,[84] будто снова живой, неспешной походкой идет по проспекту, куда там до него Марлону Брандо.[85] Фред Аллен,[86] Джек Бенни,[87] Джордж Бернс[88] словно вышли из-за угла, со стороны стадиона «Леджн», где только что закончились боксерские матчи, и оттуда валила толпа счастливых людей, счастливых, как в те старые добрые времена, которые были намного прекраснее нынешнего вечера и всех будущих вечеров.
Так, от нечего делать. Да.
— Что ж, — согласился я. — Кто знает? Ты что, меня совсем не помнишь? Я тот придурок. Конченый придурок. Марсианин.
Кларенс обшарил взглядом мой лоб, нос, подбородок, но в глаза не смотрел.
— Н-нет, — проговорил он.
— Что ж, доброй ночи, — пожелал я.
— Прощайте, — ответил Кларенс.
Рой увел меня к своей жестянке, мы забрались в машину, Рой шумно дышал от нетерпения. Едва усевшись, он схватил блокнот, карандаш и замер в ожидании.
Кларенс по-прежнему стоял на краю тротуара рядом с такси, когда двери «Браун-дерби» открылись и чудовище вместе со своей красавицей вышли оттуда.
Стояла прекрасная, на редкость теплая ночь, однако то, что произошло дальше, было не столь прекрасно.
Человек-чудовище стоял, вдыхая полной грудью воздух, очевидно опьяненный шампанским и самозабвением. Зная, что его лицо похоже на поле давно проигранного сражения, он не показывал виду. Он взял за руки свою спутницу и, о чем-то болтая и смеясь, повел ее к такси. Только в этот момент, когда она шла, глядя в никуда, я заметил, что…
— Она слепая! — воскликнул я.
— Что? — переспросил Рой.
— Слепая. Она его не видит. Ничего удивительного, что они стали друзьями! Он приглашает ее на ужин, но никогда не говорит, как он выглядит на самом деле!
Рой подался вперед и внимательно посмотрел на женщину.
— Господи, — произнес он, — ты прав. Слепая.
А мужчина все смеялся, и женщина, стараясь не отставать, изображала веселье, как оглушенный попугай.
В этот момент стоявший к ним спиной Кларенс, наслушавшись их смеха и нескончаемой болтовни, медленно обернулся и посмотрел на парочку. Полуприкрыв глаза, он снова напряженно прислушался, и вдруг по его лицу скользнуло выражение невероятного удивления. Изо рта вырвалось какое-то слово.
Чудовище перестало смеяться.
Кларенс сделал шаг вперед и что-то сказал мужчине. Женщина тоже перестала смеяться. Кларенс задал еще какой-то вопрос. После чего Человек-чудовище немедленно сжал кулаки и замахнулся, как будто собираясь ударить Кларенса, забить его в асфальт по самую макушку.
Кларенс упал на одно колено, что-то проблеяв.
Человек-чудовище возвышался над ним, кулаки его дрожали, туловище раскачивалось взад и вперед, то сдерживаясь, то отдаваясь порыву.
Кларенс взмолил о пощаде, слепая женщина, наугад ощупывая воздух, что-то сказала, и тогда Человек-чудовище закрыл глаза, и руки его опустились. Кларенс вмиг вскочил на ноги и унесся прочь во тьму. Я чуть было не выпрыгнул из машины, чтобы бежать за ним, хотя сам не знал толком зачем. В следующее мгновение мужчина помог своей слепой подруге сесть в такси, и оно с ревом унеслось.
Рой нажал на педаль газа, и мы помчались в погоню.
Такси свернуло направо на Голливудский бульвар, но тут перед нами зажегся красный свет, и пришлось остановиться, пропуская пешеходов. Рой жал на педаль газа, словно пытаясь расчистить путь, ругался и наконец, когда переход опустел, рванул на красный свет.
— Рой!
— Хватит звать меня по имени. Никто нас не видел. Мы просто не можем потерять его! Господи, как он мне нужен! Мы должны узнать, куда он едет! И кто он такой! Вот он!
Впереди мы увидели такси, сворачивающее на Гауэр-стрит. Там же неподалеку показался Кларенс, он все еще бежал, но не заметил, как мы проехали мимо.
В руках у него ничего не было. Свою папку он выронил и оставил лежать где-то в окрестностях «Браун-дерби». Интересно, думал я, как скоро он заметит пропажу.
— Бедный Кларенс.
— Почему «бедный»? — спросил Рой.
— Он тоже в этом замешан. Иначе зачем ему было торчать возле «Браун-дерби»? Совпадение? Нет, черт возьми. Кто-то велел ему прийти. Боже, и вот теперь он потерял все эти великолепные портреты. Рой, нам надо вернуться и спасти их.
— Нам надо ехать вперед, — отрезал Рой.
— Интересно, — произнес я, — какую записку получил Кларенс? Что в ней было написано?
— Кем написано? — спросил Рой.
Возле бульвара Сансет Рой снова проехал на красный свет, чтобы нагнать такси, которое приближалось к бульвару Санта-Моника.
— Они направляются к студии! — воскликнул Рой, но тут же поправился: — Хотя нет…
Ибо, поравнявшись с бульваром Санта-Моника, такси свернуло налево, в сторону кладбища.
Тем временем мы подъехали к церкви Святого Себастьяна, наверное, самому захудалому из костелов Лос-Анджелеса. Внезапно такси нырнуло влево на боковую улочку сразу за церковью.
Проехав по переулку примерно сто ярдов, машина остановилась. Рой затормозил и заглушил мотор. Мы увидели, как Человек-чудовище повел женщину к небольшому белому зданию, едва различимому во тьме. Он отсутствовал всего минуту. Где-то открылась и закрылась дверь, после чего Человек-чудовище вернулся в такси, которое плавно доехало до следующего перекрестка, быстро развернулось и направилось обратно в нашу сторону. К счастью, наши фары были потушены. Такси промчалось мимо. Рой выругался, врубил зажигание, выжал педаль газа, машина, взревев, сделала умопомрачительный разворот на сто восемьдесят градусов, несмотря на мои крики, и мы снова оказались на бульваре Санта-Моника — как раз вовремя, чтобы заметить, как такси останавливается перед церковью Святого Себастьяна и высаживает пассажира, который быстро, не оборачиваясь, зашагал к освещенному входу в костел. Такси уехало.
Выключив фары, Рой неслышно подъехал и остановил машину в темном месте под деревом.
— Рой, что ты собираешься…
— Тихо! — зашипел Рой. — Предчувствие. Предчувствие — это все. Этот тип такой же посетитель ночных церквей, как я хорист…
Прошло несколько минут. В церкви по-прежнему горел свет.
— Пойдем посмотрим, — предложил Рой.
— Что?
— Ладно, я сам пойду!
Рой вышел из машины и скинул ботинки.
— Вернись! — крикнул я.
Но Рой уже ушел, в одних носках. Я выскочил на улицу, снял ботинки и пошел за ним. Через десять секунд Рой был уже у дверей церкви, следом подошел я, и мы, распластавшись, приникли к стене. Прислушались. До нас доносился голос: он звучал громко, стихал, снова делался громче.
Голос чудовища! Он торопливо перечислял жуткие бедствия, страшные преступления, ужасные ошибки и грехи, чернее мраморных небес над головой и под ногами.
Голос пастора отвечал коротко и столь же поспешно словами прощения и обещания лучшей жизни, в которой чудовище если и не возродится красавцем, то сможет обрести кое-какие радости, раскаявшись.
И снова шепот, шепот из темных глубин ночи.
Я закрыл глаза и весь превратился в слух. Шепот, шепот. И вдруг… я замер, не веря своим ушам.
Рыдание. Горестный плач, нескончаемый, безудержный.
Одинокий человек, пришедший в церковь, человек с ужасным лицом и пропащей душой выплескивал свою громадную печаль, заставляя содрогаться стены исповедальни, церковь и меня. Стоны, вздохи и снова плач.
От этого звука слезы едва не потекли у меня из глаз. Затем все стихло, послышался… шорох. Шаги.
Мы бросились бежать.
Подбежав к машине, мы прыгнули внутрь.
— Ради бога! — прошипел Рой.
Он наклонился, пригнув мою голову. Человек-чудовище вышел из церкви и побежал один через пустынную улицу.
Добравшись до ворот кладбища, он обернулся. Проезжавшая мимо машина поймала его в лучи своих фар, как в лучи театральных софитов. Он застыл на месте, немного помедлил, а затем исчез в кладбищенской тьме.
Вдалеке, за дверьми церкви, мелькала чья-то тень, потом свечи погасли, двери закрылись.
Мы с Роем переглянулись.
— Боже мой! — произнес я. — Как велики должны быть грехи, чтобы исповедоваться в столь поздний час! А этот плач! Ты слышал? Как думаешь, может, он пришел простить Господа за свое лицо?
— Свое лицо. Ах да, да, — сказал Рой. — Мне просто необходимо выяснить, что он затевает, я не могу его упустить!
И Рой снова вышел из машины.
— Рой!
— Ты что, не понимаешь, болван? — закричал Рой. — Он — это наш фильм, наш монстр! А вдруг он улизнет? Черт!
И помчался через улицу.
«Дурак! — подумал я. — Что он делает?»
Но я побоялся окликнуть его в этот поздний час, ведь было далеко за полночь. Рой перепрыгнул через ограду кладбища и погрузился во тьму, как утопленник в воду. Я так подскочил на своем сиденье, что ударился головой о крышу машины и с проклятиями упал на место; Рой, черт тебя возьми. Черт тебя возьми, Рой.
«А вдруг сейчас подъедет полицейский патруль, — думал я, — и спросит: что это вы тут делаете? Что я отвечу? Жду Роя. Он пошел на кладбище, через минуту вернется. Вернется? Точно вернется? Конечно, стоит только немного подождать!»
Я подождал. Пять минут. Десять.
А потом — я не поверил своим глазам — появился Рой, и двигался он так, словно его обработали электрошоком.
Он шел через улицу медленно, как во сне, и даже не заметил, как его рука повернула ручку и открыла дверцу машины. Он сел на переднее сиденье, пристально глядя в сторону кладбища.
— Рой?
Не слышит.
— Что ты там такое увидел, куда ты смотришь?
Нет ответа.
— Он что, оно… гонится за тобой?
Молчание.
— Рой! — Я потряс его за локоть. — Говори! Что там?!
— Он, — произнес Рой.
— Ну и?
— Ты не поверишь, — сказал Рой.
— Я поверю.
— Нет. Успокойся. Теперь он мой. Что за монстр будет у нас, юнга!
Наконец он повернулся и посмотрел на меня: глаза его горели, а душа проступала на щеках и губах ярким румянцем.
— Ну что, дружище, сделаем фильм?
— Сделаем?
— О да! — воскликнул он, воодушевленный своим открытием.
— И это все, что ты можешь сказать? Ничего о том, что случилось на кладбище, о том, что ты там видел? Просто: «о да»?
— О! — произнес Рой, вновь обратив немигающий взгляд в сторону кладбища. — Да.
В мощеном дворике церкви погасли огни, и она погрузилась во тьму. Улица погрузилась во тьму. Яркие краски на лице моего друга потухли. Кладбище полнилось ночными тенями, растушеванными на рассветных закраинах.
— Да, — прошептал Рой.
И мы поехали домой.
— Жду не дождусь, чтобы добраться до своей глины, — сказал он.
— Только не это!
Потрясенный, Рой повернулся ко мне. Потоки уличных фонарей проплывали по его лицу. Казалось, он глядит на меня из-под толщи воды, как человек, которого невозможно коснуться, достать, спасти.
— Полагаю, ты хочешь сказать, что я не должен использовать это лицо в нашем фильме?
— Дело не только в лице. У меня такое чувство… если ты это сделаешь, нам крышка. Господи, Рой, мне действительно страшно. Не забывай, кто-то написал тебе, чтобы ты пришел и увидел его сегодня вечером. Кто-то хотел, чтобы ты его увидел. Кто-то сказал и Кларенсу, чтобы он пришел туда сегодня! Все происходит так быстро. Давай сделаем вид, будто нас не было в «Браун-дерби».
— Но как я могу притвориться? — возразил Рой.
Он прибавил газу.
Ветер врывался в раскрытые окна, рвал на мне волосы, трепал веки и губы.
По лбу Роя бежали тени, спускаясь вдоль его восхитительного орлиного носа, соскальзывая по торжествующим губам. Мне мерещились губы Грока или рот Человека, который смеется.
Рой почувствовал на себе мой взгляд и спросил:
— Начинаешь меня ненавидеть?
— Нет. Удивляюсь, как я мог, зная тебя столько лет, так и не узнать тебя.
Рой поднял левую руку с целой кипой набросков из «Браун-дерби». Они трепыхались и хлопали на ветру за окном машины.
— Отпустить?
— Мы же с тобой знаем, что у тебя в голове фотоаппарат. Ты отпустишь эти, а в левом глазу уже приготовлен новехонький ролик отснятой пленки.
Рой помахал листками.
— Ага. Следующая партия будет в десять раз лучше.
Блокнотные листки взлетели и скрылись в ночи где-то позади нас.
— Мне от этого ничуть не легче, — сказал я.
— А мне — да. Теперь чудовище у нас в руках. Оно наше.
— Ага, а кто его нам отдал? Кто нас направил, чтобы мы его увидели? Кто наблюдал, как мы за ним наблюдаем?
Рой протянул руку и нарисовал на запотевшем стекле жутковатую рожу.
— Вот, это моя муза.
Больше не было сказано ни слова. Остальной путь до дома мы проделали в холодном молчании.
16
В два часа ночи зазвонил телефон.
Это была Пег, она звонила из Коннектикута, где как раз занимался рассвет.
— У тебя была когда-нибудь жена по имени Пег, — кричала она, — которая десять дней назад уехала на преподавательскую конференцию в Хартфорд? Почему ты не звонил?
— Я звонил. Но тебя не было в номере. Я оставил сообщение, что я звонил. Боже, как я хочу, чтобы ты поскорее вернулась.
— О бог мой, — медленно произнесла она по слогам. — Стоит мне уехать из города, и у тебя сразу начинается Великая депрессия. Хочешь, чтобы мамочка прилетела домой?
— Да. Нет. Обычные козни на студии.
Я замолчал, не зная, что сказать.
— Ты что, мысленно считаешь до десяти, зачем? — спросила она.
— Боже, — произнес я.
— От Него, как и от меня, не убежишь. Ты соблюдал диету, как хороший мальчик? Сходи взвесься за один цент на уличных весах, получи распечатку, сделанную красными чернилами, и пошли мне. Эй, — добавила она, — я серьезно. Хочешь, чтобы я прилетела домой? Завтра?
— Я люблю тебя, Пег, — сказал я. — Возвращайся тогда, когда ты собиралась вернуться.
— А что, если тебя не будет, когда я вернусь? У тебя все еще Хеллоуин?
Ох уж эта женская интуиция!
— Его отложили на следующую неделю.
— Я все узнаю по твоему голосу. Держись подальше от кладбищ.
— Почему ты это сказала?!
Мое сердце подпрыгнуло, как кролик.
— Ты положил цветы на могилы родителей?
— Забыл.
— Как ты мог?
— Во всяком случае, кладбище, где они лежат, гораздо лучше.
— Лучше чего?
— Лучше любого другого, потому что они там.
— Положи цветочек за меня, — попросила она. — Я люблю тебя. Пока!
И она повесила трубку: раздался шорох, негромкий треск, и все стихло.
В пять утра, когда солнце и не думало показываться, а тучи, налетевшие с Тихого океана, неподвижно зависли над крышей, я рассеянно посмотрел на потолок, потом встал и на ощупь, без очков добрался до печатной машинки.
Я сел в предрассветных сумерках и написал: «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩА».
Но разве оно когда-нибудь исчезало?
Разве оно не маячило где-то впереди меня на протяжении всей моей жизни, шепотом призывая к себе?
Я напечатал: «ГЛАВА 1».
Что такого прекрасного в совершенном чудовище? Отчего мальчишки и мужчины ищут ответ на этот вопрос?
Что заставляет нас полжизни бредить всякими Тварями, Пугалами, Монстрами, Уродцами?
И главное, что вызывает безумное желание догнать и поймать самое страшное страшилище в мире?!
Я перевел дух и набрал номер Роя. Его голос раздался откуда-то издалека, словно из-под воды.
— Все в порядке. Все будет, как ты хочешь, Рой. Нормально, — сказал я.
Затем повесил трубку и снова повалился на кровать.
На следующее утро я стоял возле павильона 13, где работал Рой Холдстром, и читал нарисованный им плакат:
ОСТОРОЖНО! РАДИОАКТИВНЫЕ РОБОТЫ. БЕШЕНЫЕ СОБАКИ. ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
Я приложил ухо к дверям павильона и представил себе, как там, под высокими сводами, в безмолвной темноте, Рой плетет глиняные узоры, точно неуклюжий паук, попавшийся в сети своей собственной страсти и ее порождений.
— Вперед, Рой, — прошептал я. — Вперед, чудовище.
И, в ожидании, пошел прогуляться по разным городам мира.
17
Шагая, я думал: «Боже, Рой помогает родиться на свет чудовищу, которого я боюсь. Как унять дрожь и смириться с безумием Роя? Как мне его протащить в сценарий? Куда его вставить? В какую местность, в какой город, в какой уголок мира?»
Боже, думал я, шагая, теперь-то я понимаю, почему так мало мистических сюжетов написано среди американских декораций. Англия с ее туманами, дождями, болотами, старинными домами, лондонскими привидениями, Джеком Потрошителем — это да!
А что Америка? Ни одной стоящей истории про привидения или огромных собак. Разве что Новый Орлеан: там достаточно туманов, дождей и одиноких домов на болотах, от которых холодный пот прошибает: есть где раскопать могилку, пока святые вечно куда-то маршируют.[89] Еще Сан-Франциско, где каждую ночь завывают сирены, подавая кораблям сигнал в тумане.
Может, Лос-Анджелес. Вотчина Чандлера[90] и Джеймса Кейна.[91] Хотя…
Во всей Америке было всего одно настоящее место, где можно было спрятать убийцу или расстаться с жизнью.
Киностудия «Максимус»!
Рассмеявшись, я свернул на боковую дорожку и пошел через дюжину натурных площадок, по пути делая заметки.
Здесь можно отыскать и Англию, и далекий Уэльс, и заболоченную Шотландию, и дождливый Эйре, и развалины древних замков, и могильные склепы, под сводами которых снимались ужастики и привидения толпами носились всю ночь по стенам просмотровых залов, что-то отрывисто бормоча, в то время как ночные сторожа распевали похоронные гимны, проезжая мимо на старинных колесницах Демилля, запряженных конями с пламенеющими султанами.
Итак, сегодня ночью статисты-призраки исполнят бой часов, холодные капли разлетятся из поливальных установок на лужайках, упадут на разогретые за день тихие могильные камни, поднимется кладбищенский туман и поверх стены незаметно приплывет сюда. Здесь ты в любой вечер можешь пройтись по Лондону и встретить Призрак Стрелочника,[92] от чьего фонаря загорелся паровоз, который со свистом пронесся мимо него, словно железный бронепоезд, и протаранил павильон 12, чтобы затем раствориться на страницах старого октябрьского номера «Сильвер скрин».[93]
Итак, я бродил по аллеям, ожидая, пока не зайдет солнце и Рой с руками по локоть в кроваво-красной глине не выйдет наружу и не возвестит о рождении новой жизни!
Ровно в четыре я услышал далекие ружейные выстрелы.
Это были вовсе не выстрелы: просто Рой гонял туда-сюда крокетный мяч по лужайке натурной площадки № 7. Он лупил и лупил по мячу, но, почувствовав на себе мой взгляд, застыл на месте. Он поднял голову и удивленно посмотрел на меня. С виду он был похож не на акушера, принявшего роды, а скорее на хищника, только что убившего свою жертву и наевшегося до отвала.
— Я это сделал, ей-богу! — крикнул он. — Я его поймал! Наше чудовище, твое чудовище, мое! Сегодня — в глине, завтра — на пленке! Все будут спрашивать: «Кто это сделал?» Мы, сынок, это сделали мы!
Рой сжимал своими длинными костлявыми пальцами воздух.
Я медленно подошел, изумленно глядя на него.
— Поймал? Господи, Рой, ты так и не рассказал мне. Что ты там видел, когда погнался за ним прошлой ночью?
— Всему свое время, дружище. Слушай, я закончил работу полчаса назад. Один взгляд на это, и ты начнешь строчить так, что твоей машинке придет каюк. Я позвонил Мэнни! Он подъедет через двадцать минут. Я чуть с ума не сошел от нетерпения. Пришлось гонять мячи. Вот так!
Он опять с размаху ударил по мячу, и тот улетел прочь.
— Остановите меня, пока я не убил кого-нибудь!
— Рой, успокойся.
— Нет, я никогда не успокоюсь. Мы сделаем величайший фильм ужасов в истории кино. Мэнни…
— Эй, вы двое, что вы тут делаете? — окликнул нас чей-то голос.
Почти неслышно урча, к нам подкатил «роллс-ройс» Мэнни, эдакий белоснежный театр на колесах. Лицо нашего босса выглядывало из маленького кассового окошечка.
— Вы хотели встретиться, нет?
— Нам идти пешком или сесть в машину? — спросил Рой.
— Пешком!
И «роллс» проскользнул мимо.
18
Мы не спеша побрели к павильону 13.
Я все время смотрел на Роя, надеясь разглядеть хоть намек на то, что он придумал за эту долгую ночь. Даже когда мы были мальчишками, он редко показывал свои настоящие чувства. Обычно он распахивал передо мной настежь двери гаража, чтобы продемонстрировать своего последнего динозавра. Только после моего восхищенного вздоха он позволял себе крик радости. Если мне это нравилось, для него уже не имело значения, что скажут другие.
— Рой, — спросил я, пока мы шли, — у тебя все в порядке?
Перед павильоном 13 мы увидели Мэнни Либера — он просто кипел от злости.
— Где вы пропадаете, черт возьми?! — заорал он.
Рой открыл дверь павильона, проскользнул внутрь, и дверь захлопнулась за ним с тяжелым стуком.
Мэнни бросил на меня испепеляющий взгляд. Я подскочил и распахнул дверь перед ним.
Мы вошли во мрак.
Вокруг было темно, если не считать единственной лампочки, висевшей над станком с металлическими опорами, на котором Рой лепил свои модели, — в шестидесяти футах от нас, на том конце пустынного пространства, полумарсианского пейзажа, неподалеку от погруженного во мрак метеоритного кратера.
Рой скинул ботинки и, словно балетный танцор, стрелой промчался через этот ландшафт, боясь раздавить какое-нибудь деревце размером с ноготок или машинку величиной с наперсток.
— Снимите туфли! — прокричал он нам.
— Черта с два!
И все же Мэнни стащил с себя туфли и на цыпочках прошел через миниатюрный мирок. С рассвета здесь появилось много нового; новые горы, новые деревья и плюс еще что-то, укрытое мокрой тряпкой и стоявшее под лампой.
Мы оба, в одних носках, подошли к станку.
— Готовы? — Глаза Роя, как маяки, выхватили из темноты наши лица.
— Да, черт меня подери! — Мэнни схватился за влажное полотенце.
Рой оттолкнул его руку.
— Нет, — сказал он. — Я сам!
Мэнни отступил назад, вспыхнув от гнева. Рой поднял влажное полотенце, словно это был занавес величайшего представления на Земле.[94]
— Это вам не красавица и чудовище,[95] — вскричал он, — а по-настоящему красивое чудовище!
Мы с Мэнни Либером так и ахнули.
Рой не соврал. Это была лучшая из всех его работ, то самое существо, что неслышно покинуло космический корабль, прилетев из далекого далека, за множество световых лет от нас. Это был тот полуночный охотник, что пробирался межзвездными тропами, тот одинокий мечтатель, что скрывался за страшной, ужасной, безобразной личиной.
Чудовище.
Это был тот одинокий человек за восточной ширмой в «Браун-дерби», хохочущий над шуткой, казалось сказанной много дней назад.
Существо, которое умчалось прочь по ночным улицам, скрылось на кладбище и осталось среди белых могил.
— О боже, Рой.
Мои глаза наполнились слезами от сильного потрясения — столь же острого и ясного, как то, другое, когда Человек-чудовище вышел на улицу и обратил обезображенное лицо к ночным небесам.
— О боже…
Рой не мог оторвать безумного, влюбленного взгляда от своего удивительного творения. Затем он все же медленно повернулся, чтобы посмотреть на Мэнни Либера. Увиденное поразило нас обоих.
Лицо Мэнни было белым, как овечий сыр. Глаза выкатились из глазниц. Из горла доносилось клокотание, словно его душили проволокой. Пальцы вцепились в грудь, будто сердце внезапно остановилось.
— Что ты наделал? — взвизгнул он. — Господи! Боже мой, о господи! Что это? Фокус? Шутка? Закрой его! Ты уволен!
Мэнни швырнул мокрое полотенце в глиняное чудовище.
— Дерьмо!
Неловкими, механическими движениями Рой накрыл глиняную голову.
— Я не сделал ничего…
— Сделал! Ты что, хочешь, чтобы это появилось на экране? Извращенец! Собирай манатки! Убирайся! — Мэнни, весь дрожа, закрыл глаза. — Немедленно!
— Вы же сами этого требовали! — возразил Рой.
— Пусть, а теперь я требую уничтожить это!
— Это моя лучшая, величайшая работа! Да посмотрите же на него, черт возьми! Он прекрасен! Он мой!
— Нет! Он принадлежит студии! На свалку его! Съемки отменяются. Вы оба уволены. Я хочу, чтобы через час здесь было все чисто. Пошевеливайтесь!
— А почему вы принимаете все так близко к сердцу? — спокойно спросил Рой.
— Разве?
И Мэнни, с туфлями под мышкой, решительно прошагал через весь павильон, давя по пути миниатюрные домики и расшвыривая игрушечные грузовики.
У дальнего выхода из павильона он остановился, втянул носом воздух и кинул на меня огненный взгляд.
— Ты не уволен. Получишь новую работу. А этот сукин сын — вон!
Дверь открылась и, словно окно готического собора, пропустила ворох света, а затем с грохотом захлопнулась, оставив меня наблюдать провал Роя и крушение его надежд.
— Господи, что мы такого сделали? Что такого, черт возьми? — кричал я, обращаясь к Рою, к самому себе, к красному глиняному бюсту монстра, открытого и явленного миру чудовища. — Что?!
Рой весь дрожал.
— Боже! Я полжизни работал, чтобы сделать что-то стоящее. Я учился, ждал, пытался увидеть и наконец действительно увидел. И вот творение явилось из-под моих пальцев, о боже, как оно явилось! Что за тварь такая возникла из этой проклятой глины? Как же так: она родилась на свет, а я убит?
Рой вздрогнул. Он поднял кулаки, но бить было некого. Он посмотрел на своих доисторических животных и широко развел руки, точно желая обнять и защитить их.
— Я вернусь! — хрипло прокричал он им и медленно побрел прочь.
— Рой!
Он, спотыкаясь, выбрался на свет, я бросился за ним. Снаружи пылало раскаленное предзакатное солнце, мы словно плыли сквозь реку огня.
— Куда ты?
— Бог знает! Не ходи. Не хватало еще и тебе остаться с носом! Это твоя первая работа. Ты предупреждал меня вчера ночью. Теперь я знаю, зря я все это затеял, только вот почему? Я спрячусь где-нибудь на территории, чтобы ночью вынести потихоньку своих друзей!
Рой с тоской посмотрел на закрытую дверь, за которой обитали дорогие его сердцу чудища.
— Я помогу, — сказал я.
— Нет. Тебе не стоит показываться со мной. Подумают, что ты меня на это подбил.
— Рой! Мэнни смотрел на тебя так, будто хотел убить! Я позвоню своему приятелю, детективу Крамли. Может быть, он поможет! Вот его телефон. — Я торопливо написал номер на мятом клочке бумаги. — Спрячь. Позвони мне вечером.
Рой Холдстром прыгнул в тарантас Лорела и Харди и на скорости десять миль в час задымил в сторону натурных площадок.
— Поздравляю, чертов придурочный сукин сын! — произнес чей-то голос.
Я обернулся. Посреди аллеи стоял Фриц Вонг.
— Я на них наорал, и тебе наконец дали переписывать сценарий для моего паршивого фильма «Бог и Галилея». Мэнни только что промчался мимо меня на своем «ройсе». Он прокричал, что я могу взять тебя на новую работу. Так что…
— А в сценарии есть какие-нибудь монстры? — Мой голос дрожал.
— Только Ирод Антипа. Либер хотел тебя видеть. И он потащил меня к кабинету Мэнни Либера.
— Погоди, — сказал я.
Я вглядывался через плечо Фрица в дальний конец аллеи, пытаясь разглядеть улицу за воротами киностудии, где каждый день, неизменно, собиралась толпа, стадо, людской зверинец.
— Идиот! — произнес Фриц. — Куда ты собрался?
— При мне только что уволили Роя, — ответил я. — Теперь я хочу снова пригласить его на работу!
— Dummkopf.[96] — Фриц быстрой походкой догнал меня. — Мэнни хочет видеть тебя прямо сейчас!
— Сейчас, но через пять минут.
Выйдя за ворота киностудии, я посмотрел на противоположную сторону улицы.
«Кларенс, ты здесь?» — подумал я.
19
И точно, там они и стояли.
Придурки. Психи. Идиоты.
Толпа влюбленных, молящихся на храм киностудии.
Совсем как те полуночники, что когда-то таскали меня с собой на боксерские матчи голливудского стадиона «Леджн» — поглядеть, как мимо промчится Кэри Грант, или Мэй Уэст,[97] колыхаясь, проплывет сквозь толпу, словно гибкая змея из перьев, или Граучо Маркс[98] неслышно прокрадется вместе с Джонни Вайсмюллером,[99] таскавшим за собой Лупе Велес,[100] как леопардовую шкуру.
Болваны (и я среди них) с огромными фотоальбомами, с перепачканными руками, держащими маленькие, неразборчиво подписанные карточки. Чудаки, которые со счастливыми лицами стояли под проливным дождем на премьере мюзикла «Дамы» или «Дорожка флирта»,[101] а между тем Депрессия все не кончалась, хотя Рузвельт сказал, что это не может длиться вечно и счастливые дни снова настанут.
Уроды, шакалы, бесноватые, фанатики, несчастные, пропащие.
Когда-то я был одним из них.
И вот они здесь, передо мной. Моя семья.
Среди них еще остались несколько лиц с тех времен, когда я сам скрывался в их тени.
Двадцать лет спустя — господи! — тут была Шарлотта со своей мамой! В 1930-м они похоронили Шарлоттиного отца и с тех пор прямо-таки прописались перед воротами шести киностудий и десяти ресторанов. И вот теперь, спустя целую жизнь, они стояли здесь: Ма, лет под восемьдесят, крепкая, прозаическая, как зонтик, и Шарлотта, под пятьдесят, как всегда, хрупкая, словно стебелек. Обе притворщицы. У обеих под бледными, как носорожья кость, улыбками скрывался стандартный набор мыслей.
В этом странном, увядшем букете могильных цветов я стал высматривать Кларенса. Ибо Кларенс был среди них самым одержимым: он таскал от студии к студии огромные двадцатифунтовые альбомы с фотографиями. В красной коже — для «Парамаунта», в черной — для «RKO», в зеленой — для «Уорнер бразерс».
Зимой и летом Кларенс был закутан в большое, не по размеру, пальто из верблюжьей шерсти с карманами, куда он рассовывал ручки, блокноты и миниатюрные фотокамеры. Он снимал пальто только в самые жаркие дни. И тогда становился похож на черепаху, вырванную из панциря и с испугом глядящую на жизнь вокруг.
Я перешел улицу и остановился перед толпой.
— Привет, Шарлотта, — сказал я. — Здорово, Ма.
В тихом шоке обе женщины уставились на меня.
— Это же я, — продолжал я. — Помните? Двадцать лет назад. Я стоял тут. Космос. Ракеты. Время?..
Шарлотта ахнула и невольно прикрыла рукой свои выпирающие зубы. Она наклонилась вперед, как будто вот-вот рухнет с поребрика.
— Ма, — вскричала она, — надо же… это… это же Псих!
— Псих! — Я тихонько засмеялся.
В глазах Мамы вспыхнул огонек.
— Надо же, господи! — Она тронула меня за локоть. — Бедняга! Что ты делаешь здесь? Все еще собираешь автографы?..
— Нет, — нехотя произнес я. — Я здесь работаю.
— Где?
Я мотнул головой через плечо.
— Там? — недоверчиво воскликнула Шарлотта.
— В отделе писем? — спросила Ма.
— Нет. — Щеки у меня запылали. — Можно сказать… в отделе текстов.
— Ты копировщик?
— О, ради бога, Ма. — Лицо Шарлотты вспыхнуло. — Он имеет в виду писательскую работу, верно? Сценарии?!
Последнее было верной догадкой. Все лица вокруг Шарлоты и Ма загорелись румянцем.
— Боже мой! — воскликнула мать Шарлотты. — Не может быть!
— Так и есть, — почти шепотом сказал я. — Я работаю над фильмом вместе с Фрицем Вонгом. «Цезарь и Христос».
Долгое, ошеломленное молчание. Ноги зашаркали. Рты приоткрылись.
— Мы не могли бы… — начал кто-то, — попросить у вас…
Но Шарлотта сама закончила фразу:
— Ваш автограф. Пожалуйста!
— Я…
Но все руки с карандашами и белыми карточками уже протянулись ко мне.
Я стыдливо взял Шарлоттину карточку и написал свою фамилию. Мать недоверчиво посмотрела на подпись, перевернутую вверх ногами.
— Напиши название фильма, над которым ты работаешь, — попросила Ма. — «Христос и Цезарь».
— А после своей фамилии напиши еще: «Псих», — подсказала Шарлотта.
Я написал: «Псих».
Чувствуя себя полнейшим кретином, я стоял в углублении водостока, а надо мной склонялись все эти головы, и все эти несчастные, пропащие чудаки, прищурившись, разглядывали подпись, чтобы угадать, кто я такой.
Чтобы как-то скрыть свое смущение, я спросил:
— А где Кларенс?
Шарлотта с матерью открыли от удивления рты.
— Ты и его помнишь?
— Как можно забыть Кларенса с его папками и пальто! — отозвался я, ставя росчерки.
— Он еще не звонил, — раздраженно сказала Ма.
— Не звонил? — Я в удивлении поднял глаза.
— Примерно в это время он звонит вон на тот таксофон напротив, спрашивает, что было, кто выходил и все в таком духе, — ответила Шарлотта. — Экономит время. Спать ложится поздно, так как по ночам обычно торчит у ресторанов.
— Я знаю.
Я поставил последний автограф, сгорая от непозволительного восторга. Я все еще не мог смотреть на своих новых поклонников, которые улыбались мне, словно я только что одним прыжком перемахнул через всю Галилею.
На другой стороне улицы в стеклянной будке зазвонил телефон.
— А вот и Кларенс! — сказала Ма.
— Простите… — Шарлотта направилась к телефону.
— Пожалуйста. — Я тронул ее за локоть. — Столько лет прошло. Сделаем ему сюрприз? — Я переводил взгляд с Шарлоты на Ма и снова на Шарлотту. — Согласны?
— Ну что ж, ладно, — проворчала Ма.
— Давай, — сказала Шарлотта.
Телефон все еще звонил. Я подбежал и снял трубку.
— Кларенс? — произнес я.
— Кто это?! — закричал он с внезапным недоверием.
Я попытался объяснить поподробнее, но в конце концов остановился на старом своем прозвище Псих.
Все это не возымело никакого действия на Кларенса.
— Где Шарлотта или Ма? Я болен.
«Болен, — подумал я, — или, как Рой, вдруг перепугался?»
— Кларенс, где ты живешь? — спросил я.
— Что?!
— Дай мне хотя бы твой телефон…
— Я никому не даю свой телефон! Меня ограбят! Мои фотографии. Мои сокровища!
— Кларенс! — умолял я. — Я был прошлой ночью в «Браун-дерби».
Молчание.
— Кларенс? — окликнул я. — Мне нужна твоя помощь, чтобы кое-кого опознать.
Клянусь, я слышал, как бьется его заячье сердечко на том конце провода. Слышал, как его глазки альбиноса дергаются в глазницах.
— Кларенс, — сказал я, — пожалуйста! Запиши мою фамилию и номера телефонов.
Я продиктовал.
— Позвони или напиши на студию. Я видел того человека, который чуть не ударил тебя вчера ночью. За что? Кто?..
Щелчок. Гудки. Кларенс, где бы он ни был, исчез. Я перешел через улицу, словно во сне.
— Кларенс не придет.
— Что ты имеешь в виду? — с упреком сказала Шарлотта. — Он всегда приходит!
— Что ты ему сказал?! — Мать Шарлотты повернулась ко мне своим левым, злым, глазом.
— Он болен.
«Болен, как Рой, — подумал я. — Болен, как я».
— Кто-нибудь знает, где он живет?
Все отрицательно покачали головой.
— Думаю, ты мог бы проследить за ним! — Шарлотта остановилась и засмеялась сама над собой. — То есть…
Кто-то сказал:
— Я видел его однажды в Бичвуде. Во дворе, среди одноэтажек…
— У него есть фамилия?
Нет. Как и у остальных — за все эти долгие годы. Никаких фамилий.
— Проклятье! — прошептал я.
— Кстати, а как… — Мать Шарлотты внимательно посмотрела на карточку, которую я подписал. — Как твоя кличка?
Я назвал ей по буквам.
— Будешь снимать фильмы, — фыркнула Ма, — подыщи-ка другое имя.
— Зовите меня просто Псих. И я пошел прочь.
— Пока, Шарлотта, пока, Ма.
— Пока, Псих, — ответили они.
20
Фриц ждал меня наверху, перед кабинетом Мэнни Либера.
— Тут такая кутерьма пошла! — воскликнул он. — Что это с тобой?
— Поговорил с горгульями.
— Что, опять спустились с собора Парижской Богоматери? Входи!
— Но почему все это? Час назад мы с Роем были на Эвересте. А теперь он отправился в ад, а я с тобой — в Галилею. Объясни.
— Здесь твой путь к успеху, — сказал Фриц. — Кто знает? У Мэнни померла мамаша. Или любовница пропустила пару мячей в свои ворота. Может, у него запор? Может, ему поставили клистир? Выбирай сам. Роя уволили. Так что нам с тобой теперь предстоит ломать комедию из серии «Маленькие негодяи»[102] для шестилеток. Заходи!
Мы вошли в кабинет Мэнни Либера.
Мэнни Либер стоял, повернувшись к нам затылком.
Он стоял посреди просторной комнаты, где все было белым: белые стены, белый ковер, белая мебель и огромный, совершенно белый стол, на котором не было ничего, кроме белого телефона. Настоящий вихрь вдохновения, созданный неким ослепшим от снега художником из декорационных мастерских.
Позади стола висело зеркало четыре на шесть футов, так что, взглянув через плечо, можно было увидеть самого себя за работой. В комнате имелось всего одно окно. Оно выходило на заднюю ограду студии, расположенную не более чем в тридцати футах, и из окна открывался панорамный вид на кладбище. Я не мог оторвать взгляда от этого зрелища.
Но тут Мэнни Либер прочистил горло. Затем, не оборачиваясь, произнес:
— Он ушел?
Я спокойно кивнул, глядя на его напрягшиеся плечи.
Мэнни почувствовал мой кивок и выдохнул.
— Его имя больше никогда не будет упоминаться здесь. Будто его и не было.
Я молчал, а Мэнни повернулся и стал ходить вокруг меня, перемалывая внутри себя гнев, которому он не мог дать волю. Его лицо представляло собой сплошной нервный тик. То глаза с бровями двигались вразнобой, то рот перекашивался несообразно движению бровей, то голова сворачивалась куда-то набок. Мэнни шагал и, казалось, был вне себя от ярости; в любой момент мог произойти взрыв. Тут он заметил Фрица Вонга, наблюдавшего за нами обоими, и подошел к нему, словно желая вызвать у Фрица вспышку гнева.
Фриц благоразумно сделал то, что, по моим наблюдениям, проделывал часто, когда мир становился для него слишком реален. Он вынул из глаза монокль и опустил его в нагрудный карман. Что-то вроде тонкого намека: мне это неинтересно, я отстраняюсь. Вместе с моноклем он засунул в карман и Мэнни.
А Мэнни Либер все расхаживал и говорил. Я ответил полушепотом:
— Да, но что нам делать с Метеоритным кратером?
Фриц предупреждающе мотнул головой в мою сторону: «Заткнись!»
— Так вот! — Мэнни сделал вид, что не слышал. — Другая наша проблема, главная проблема — это… отсутствие концовки для фильма «Христос и Галилея».
— Повторите, я не расслышал? — с убийственной вежливостью переспросил Фриц.
— Нет концовки! — вскричал я. — А вы не пробовали почитать Библию?
— Да были у нас эти Библии! Но наш сценарист не мог прочесть мелкий шрифт даже на бумажном стаканчике. Я видел твой рассказ в «Эсквайре».[103] Очень смахивает на книгу Экклезиаста.
— Иова, — пробормотал я.
— Заткнись. Что нам нужно, так это…
— Матфей, Марк, Лука — и я!
Мэнни Либер недовольно фыркнул.
— С каких это пор начинающие писатели отказываются от величайшей работы века? Срок исполнения — вчера, чтобы завтра Фриц мог возобновить съемки. Пиши хорошо, и когда-нибудь все это, — он обвел рукой вокруг, — будет твоим!
Я посмотрел в окно на кладбище. День был солнечный, но могильные камни мокли под невидимым дождем.
— Боже мой, — прошептал я, — надеюсь, этого не случится.
Это его доконало. Мэнни Либер побледнел. Он снова оказался там, в павильоне 13, в темноте, вместе со мной, Роем и глиняным чудовищем.
Не говоря ни слова, он помчался в уборную. Дверь со стуком захлопнулась.
Мы с Фрицем переглянулись. Там, за дверью, Мэнни явно было плохо.
— Gott,[104] — вздохнул Фриц. — Надо было послушаться Геринга!
Через минуту, шатаясь, Мэнни Либер вернулся, огляделся по сторонам, словно удивляясь тому, что комната все еще плывет, доковылял до телефона, набрал номер, сказал: «Заходи сюда!» — и направился к выходу.
Я остановил его у двери.
— Насчет павильона тринадцать…
Мэнни поднес руку ко рту — похоже, ему снова стало дурно. Глаза округлились.
— Я знаю, вы собираетесь очистить павильон, — затараторил я. — Но у меня там осталась куча вещей. А мне хотелось бы остаток дня провести с Фрицем — поговорить насчет Галилеи и Ирода. Вы не могли бы оставить там весь хлам, чтобы я мог прийти завтра утром и забрать свои вещи? А потом можете очищать павильон.
Мэнни в задумчивости закатил глаза. Затем, прикрывая рот рукой, он сделал один короткий кивок: да, — обернулся и столкнулся нос к носу с высоким, худым, бледным человеком, входившим в кабинет. Они что-то сказали друг другу шепотом, после чего Мэнни, не прощаясь, ушел. Этот высокий бледный человек был Хоуп из финансового отдела.
Он посмотрел на меня, заколебался, затем с некоторым смущением произнес:
— Похоже, м-м-м, у нас нет концовки для вашего фильма.
— А Библию не пробовали почитать? — хором спросили мы с Фрицем.
21
Зверинец исчез, тротуар перед студией был пуст. Шарлотта, Ма и остальные пошли дальше, к другим студиям, к другим ресторанам. Таких, как они, по всему Голливуду наберется дюжины три. Хоть один наверняка знает фамилию Кларенса.
Фриц отвез меня домой.
По дороге он сказал:
— Загляни в бардачок. Футляр для очков. Открой.
Я открыл маленькую черную коробочку. Там, в шести аккуратных углублениях из красного бархата, лежали шесть блестящих стеклянных моноклей.
— Мой багаж, — сказал Фриц. — Все, что я сохранил и взял с собой в Америку, когда мне пришлось сваливать, имея при себе лишь ненасытный член и талант.
— Великий талант.
— Не надо. — Фриц легонько ткнул меня кулаком в голову. — Только оскорбления, недоносок. Я показываю тебе эти штуки, — он подтолкнул локтем коробку с моноклями, — как доказательство: не все потеряно. Все кошки, и Рой тоже, приземляются на лапы. Посмотри-ка, нет ли чего еще в бардачке?
Я нашел толстую копию рукописи.
— Если прочтешь и не выбросишь, станешь мужчиной, сынок. Это Киплинг. Иди. Приходи завтра, в два тридцать, в столовку. Поговорим. Потом, попозже, мы покажем тебе черновой вариант эпизодов «Христос с протянутой рукой» или «Для чего ты меня оставил?». Ja?[105]
Я вышел из его машины напротив своего дома.
— Зиг хайль! — сказал я.
— О, вот это уже лучше!
И Фриц укатил, оставив меня наедине с домом, таким пустым и безмолвным, что я сразу вспомнил: «Крамли».
Вскоре после захода солнца я сел на велосипед и отправился в Венис.[106]
22
Ненавижу ездить на велосипеде по ночам, но мне хотелось удостовериться, что никто за мной не следит.
Кроме того, нужно было придумать, что я скажу своему другу-детективу. Что-нибудь вроде: «Помоги! Спаси Роя! Сделай так, чтобы его снова приняли на работу. Разгадай тайну чудовища».
При этой мысли я чуть было не повернул обратно.
Я уже представлял себе, как Крамли тяжело вздыхает, слушая мой невероятный рассказ, воздевает руки к небу, неторопливо потягивает пиво, топя в нем свое презрение к недостатку твердых, крепко сколоченных и остро заточенных фактов в моих речах.
Я припарковал велик перед его небольшим охотничьим домиком, расположенном в миле от океана, среди колючих кустов, и зашагал через рощицу африканских лилий по тропинке, где, казалось, только вчера промчались, вздымая пыль, табуны окапи.
Едва я поднял руку, чтобы позвонить, дверь настежь распахнулась.
Из темноты вынырнул кулак с зажатой в нем банкой пенного пива. Я не мог разглядеть человека, который ее держал. Я схватил банку. Рука исчезла. Я услышал, как затихают шаги в глубине дома.
Перед тем как войти, я выпил три больших глотка для храбрости.
Дом был пуст.
А вот сад полон.
Элмо Крамли в шляпе бананового воротилы сидел под сенью колючего кустарника, неподвижно глядя на пиво в своей загорелой руке, и молча пил.
Подле него на ротанговом столике стоял телефон, из дома тянулся кабель. Пристально и устало поглядев на меня из-под белого охотничьего шлема, Крамли набрал номер.
На том конце подняли трубку. Крамли произнес:
— Снова головная боль. Беру больничный. Вернусь через три дня, договорились? Хорошо.
И повесил трубку.
— Полагаю, головная боль — это я, — предположил я.
— Ты — это каждый раз… больничный на трое суток.
Он кивком указал на стул. Я сел. Он отошел на край своих персональных джунглей, где трубили слоны и слышался шорох крыльев невидимых гигантских шмелей, колибри и фламинго, вымерших задолго до того, как будущие экологи заявили об их вымирании.
— Где, черт возьми, ты пропадал? — спросил Крамли.
— Я женился.
Крамли обдумал мой ответ, пренебрежительно фыркнул, не спеша подошел ко мне, обнял за плечи и поцеловал в макушку.
— Принимаю!
И, рассмеявшись, вытащил целый ящик пива. Мы сидели и ели хот-доги в небольшой ротанговой беседке в глубине сада.
— Ладно, сынок, — наконец сказал он. — Твой старый папочка скучает по тебе. Но юноша под одеялами не слышит. Старая японская поговорка. Я знал, что однажды ты вернешься.
— Ты меня прощаешь? — спросил я, едва сдерживая слезы.
— Друзья не прощают, они забывают. Промочи-ка горло. А что Пег, отличная жена?
— Год как поженились и уже ссоримся из-за денег. — Я густо покраснел. — Она зарабатывает больше. Но мои заработки на киностудии растут — сто пятьдесят в неделю.
— Черт! Это же на десять баксов больше, чем зарабатываю я!
— Ненадолго, всего на полтора месяца. Скоро снова буду писать рассказы для «Дайм мистери».[107]
— И преотличнейшие рассказы. Хоть мы давно не виделись, я все время следил…
— А ты получил мою открытку на День отца?[108] — быстро спросил я.
Крамли кивнул и расплылся в улыбке.
— А как же! — Он выпрямился на стуле. — Но тебя привели сюда не только фамильные чувства, верно?
— Люди гибнут, Крамли.
— Как, опять? — вскричал он.
— Ну, почти гибнут, — сказал я. — Или встают из могил не то чтобы живые, а в виде кукол из папье-маше…
— Полегче, не гони лошадей!
Крамли бросился в дом, вернулся с бутылкой джина и плеснул из нее в свое пиво, пока я взахлеб продолжал рассказ. В его тропическом лесу за домом, под крики африканских хищников и птиц из девственных джунглей, включились дождевальные установки. Наконец я закончил рассказ обо всем, что произошло начиная с Хеллоуина. Наступило молчание.
Крамли испустил печальный вздох.
— Значит, Роя Холстрома уволили из-за глиняной скульптуры. А что, лицо чудовища было действительно таким страшным?
— Да!
— Эстетика. Тут старая ищейка тебе не поможет!
— Ты должен. Сейчас Рой все еще на студии, он ждет случая, чтобы незаметно выкрасть всех своих доисторических чудовищ. Они стоят тысячи долларов. Но Рой находится там нелегально. Не поможешь ли мне разобраться, что, черт возьми, все это значит? А Рою — снова получить работу?
— Господи Иисусе! — вздохнул Крамли.
— Ага, — отозвался я. — Если они поймают Роя за выносом вещей, то боже мой!
— Проклятье! — произнес Крамли. Он подлил еще джина в свое пиво. — Ты знаешь, кто был этот тип в «Браун-дерби»?
— Нет.
— А кто может его знать, как думаешь?
— Священник в церкви Святого Себастьяна.
Я рассказал Крамли о полуночной исповеди, как говорил, как плакал этот голос, как тихо ответил служитель церкви.
— Скверно. Беспросветно. — Крамли покачал головой. — Священники обычно либо ничего не знают, либо не раскрывают имен. Если я приду к нему и начну расспрашивать, через две минуты он вышвырнет меня вон. Кто еще?
— Может быть, метрдотель из «Дерби». А еще его узнал один человек, стоявший возле ресторана в ту ночь. Человек, которого я знал еще в детстве, когда катался по улицам на роликах. Кларенс. Я как раз расспрашивал, пытаясь узнать его фамилию.
— Продолжай расспрашивать. Если он знает, кто этот Человек-чудовище, будет от чего плясать дальше. Черт, как все это глупо. Рой уволен, тебя засунули на другую работу, и все из-за какого-то глиняного истукана. Неадекватная реакция. Всеобщее помешательство. И какое отношение весь этот бред имеет к кукле на приставной лестнице?
— Вот именно.
— А я-то, — вздохнул Крамли, — когда увидел тебя в дверях, думал: вот, буду счастлив, что он вернулся в мою жизнь.
— А ты не счастлив?
— Нет, черт возьми. — Его голос смягчился. — Господи, да. Но чего мне действительно хочется, так это чтоб ты выбрался из этой кучи конского дерьма.
Он бросил взгляд на восходящую над садом луну и сказал:
— Боже, боже… Ну и раззадорил же ты меня. — И добавил: — Попахивает шантажом!
— Шантажом?!
— Зачем затевать всю эту канитель с записками, провоцировать ни в чем не повинных людей вроде тебя и Роя, вешать фальшивые трупы на лестницы, делать так, чтобы вы создали копию чудовища, если это ни к чему не ведет? Какой толк наводить панику, если тебе от этого никакой выгоды? Наверняка были и другие записки, другие письма, верно?
— Я не видел.
— Конечно, но ты был всего лишь средством, орудием, чтобы все завертелось. Ты не проболтался. А кто-то сболтнул. Держу пари, сегодня вечером кто-то получил от вымогателя письмо со словами: «Двести тысяч немечеными полусотенными купюрами — и больше никаких воскресших покойников». Так… расскажи-ка мне про киностудию, — наконец произнес Крамли.
— Про «Максимус»? Самая успешная киностудия в истории. До сих пор. В прошлом месяце «Вэрайети» опубликовала их прибыли. Сорок миллионов чистыми. Ни одна другая студия даже рядом не стояла.
— Это реальные цифры?
— Вычти пять миллионов и все равно получишь чертовски богатую студию.
— А были в последнее время крупные неприятности, шумные скандалы, кадровые пертурбации, волнения? Не знаешь, кто-нибудь еще был уволен, фильмы снимались с производства?
— Последние несколько месяцев все было тихо и спокойно.
— Значит, все дело в этом. То есть в прибылях! Все идет чинно, благородно, и вдруг происходит нечто, не то чтобы очень важное, но все пугаются. Кто-то подумал: «Боже мой, человек на стене», и пошло-поехало! Тут какая-то тайна, что-то тут зарыто… — Крамли рассмеялся. — Ну конечно зарыто! Арбутнот? Слушай, а вдруг кто-то решил раскопать какой-то старый грязный скандал, о котором никто толком и не слышал, и теперь — не слишком тонко — угрожает вылить всю эту грязь наружу?
— Что же это за скандал двадцатилетней давности, если на студии считают, будто с его раскрытием все рухнет?
— Если хорошенько покопаемся в нечистотах, узнаем. Проблема только в том, что копание в нечистотах никогда не было моим любимым занятием. А Арбутнот при жизни был чист?
— По сравнению с другими студийными шишками? Несомненно. Он не был женат, и у него были девушки, что вполне нормально для любого холостяка, но девчонки приличные, из тех, что ездят верхом на лошадях в Санта-Барбаре и не сходят со страниц «Таун энд кантри».[109] Холеные и симпатичные, принимают душ дважды в день. Никакой грязи.
Крамли снова вздохнул, словно кто-то сдал ему плохие карты и он уже готов махнуть на все рукой и сдаться.
— А как насчет той аварии, в которую попал Арбутнот? Был ли это несчастный случай?
— Я видел фотографии в газетах.
— К черту фотографии! — Крамли окинул взглядом свои домашние джунгли и внимательно всмотрелся в тени. — А что, если несчастный случай вовсе не был случаем? Что, если это, ну скажем, непредумышленное убийство? Что, если все упились до полусмерти, а затем погибли?
— Они как раз возвращались со студии, с большой попойки. Об этом много писали в газетах.
— Почему бы нет, — задумчиво проговорил Крамли. — Студийный босс, богатый, как Крез, получающий неслыханные прибыли от «Максимуса», надирается в стельку, пускается наперегонки с другой машиной, которую ведет Слоун, врезается в нее, отскакивает рикошетом, и все натыкаются на телефонный столб. Такие новости не для первых страниц. На фондовых биржах обвал. Инвесторы смоются. Съемки остановятся. Убеленный сединами босс рухнет с пьедестала и так далее и тому подобное, поэтому нужно какое-то прикрытие. А вот теперь кто-то, кто был тогда на месте происшествия или совсем недавно обнаружил эти факты, трясет студию, угрожая рассказать побольше, чем сказали фотографии и следы протектора на асфальте. А что, если…
— Если что?
— Если это был не несчастный случай и они отправились в ад вовсе не из-за пьяных шалостей? Если кто-то намеренно отправил их туда?
— Убийство?! — воскликнул я.
— Почему нет? У таких важных, таких больших и крупных кинобоссов всегда куча врагов. Все эти подпевалы, что вьются вокруг них, строят козни и норовят при случае подкинуть какую-нибудь гадость. Кто на студии «Максимус» в тот год был следующим в очереди за властью?
— Мэнни Либер? Да он мухи не обидит. Только воздух сотрясает: пшик — и лопнул!
— Сделаем ему скидку на одну муху и один воздушный шар. Он ведь теперь глава студии, верно? Так-то вот! Пара проколотых шин, несколько раскрученных винтиков и — бабах! Вся студия у твоих ног, пожизненно!
— Звучит логично.
— Но если нам удастся найти парня, который это сделал, он сам все докажет за нас. Ладно, красавчик, что еще?
— Думаю, надо проштудировать местные газеты двадцатилетней давности и посмотреть, чего не хватает. И еще, мог бы ты немного поболтаться на студии? Так, незаметно.
— С моим-то плоскостопием? Кажется, я знаю охранника у ворот студии. Несколько лет назад он работал в «Метро». Он пропустит меня и будет держать язык за зубами. Что еще?
Я перечислил. Столярные мастерские. Кладбищенская ограда. И домик в Гринтауне, где мы с Роем планировали работать и где сейчас, возможно, сидит Рой.
— Рой все еще там, ждет момента, чтобы выкрасть своих чудовищ. И знаешь, Крам, если все, что ты говорил, правда — уличные гонки, убийство, случайное или преднамеренное, — надо немедленно вытаскивать Роя оттуда. Если кто-то из работников студии сегодня вечером заглянет в тринадцатый павильон и обнаружит там коробку, где Рой спрятал украденный им труп из папье-маше, представляешь, что они с ним сделают?!
Крамли недовольно проворчал:
— Ты просишь меня не только вернуть Рою работу, но и помочь ему остаться в живых, верно?
— Не говори так!
— Отчего же? Ты ведь как питчер в бейсболе: все время на поле, бегаешь, ловишь удобные мячи, пропускаешь плохие. Как, черт возьми, я поймаю Роя? Буду слоняться по съемочным площадкам с сачком для бабочек и кошачьим кормом?! Твои друзья с киностудии знают Роя в лицо, я — нет. Эти быки могут затоптать его задолго до того, как я успею выйти из загона. Дай мне всего один факт, от которого можно было бы плясать!
— Человек-чудовище. Если мы узнаем, кто это, станет ясно, почему Роя выгнали из-за глиняного бюста.
— Ладно, ладно. Что еще? По поводу чудовища.
— Мы видели, как он пошел на кладбище. Рой побежал за ним, но так и не рассказал мне, что он там видел и что делал этот человек. Может… может, это он, Человек-чудовище, подвесил на кладбищенскую ограду кукольного двойника Арбутнота и разослал записки, чтобы шантажировать людей!
— Ну ты загнул! — Крамли энергично потер обеими руками свою лысую голову. — Узнать, кто такой этот Человек-чудовище, спросить, где он позаимствовал лестницу и как ему удалось состряпать чучело из папье-маше, неотличимое от Арбутнота! Неплохо, неплохо! — Крамли широко улыбнулся.
Он побежал на кухню за новым пивом.
Мы выпили, и Крамли устремил на меня по-отечески теплый взгляд:
— Я просто подумал… как здорово, что ты снова дома.
— Черт, — сказал я, — я даже не спросил про твой роман…
— «С наветренной стороны от смерти»?
— Но это не то название, которое я тебе подарил!
— Твое название было слишком хорошим. Я возвращаю его тебе обратно. «С наветренной стороны от смерти» выйдет на следующей неделе.
Я вскочил и схватил Крамли за руки.
— Крам! Господи! Ты сделал это! У тебя есть шампанское?!
Мы оба заглянули в его холодильник.
— Может, если смешать пиво с джином в блендере, получится шампанское?
— Почему бы не попробовать?
И мы попробовали.
23
Прозвенел телефон.
— Это тебя, — сказал Крамли.
— Слава богу! — Я схватил трубку. — Рой!
— Я больше не хочу жить, — сказал Рой. — О боже, это ужасно. Приезжай поскорей, пока я не сошел с ума. Павильон тринадцать!
Связь оборвалась.
— Крамли! — крикнул я.
Крамли повел меня к своей машине.
Мы ехали по городу. Я не мог разжать губы, чтобы заговорить. Мои пальцы так крепко вцепились в колени, что прекратилось всякое кровообращение.
У ворот киностудии я сказал Крамли:
— Не жди. Я позвоню через час и все расскажу…
Я зашагал к воротам, вошел. Нашел телефонную будку неподалеку от павильона 13 и вызвал такси, чтобы оно ждало у девятого павильона, ярдах в ста от меня. Затем я вошел в двери павильона 13. И шагнул в темноту и хаос.
24
Я увидел тысячу вещей, разом опустошивших мою душу.
Вокруг, вырванные с мясом и разбросанные по всей площадке, валялись вперемешку маски, черепа, деревянные ноги, грудные ребра и лица Призрака, содранные с костей.
Чуть поодаль еще дымились руины, оставшиеся после войны, тотального истребления.
Крохотные деревушки и миниатюрные города, построенные Роем, обратились в прах. Его чудовища были выпотрошены, обезглавлены, растерзаны и погребены под грудами собственной пластиковой плоти.
Я шагал через обломки, раскиданные по полу так, словно на миниатюрные крыши, башенки и карликовых человечков обрушился град ночной бомбежки, уничтожившей все до основания. Рим рухнул под пятой гигантского Аттилы. Великая библиотека не сгорела в Александрии; крохотные листочки ее книг, будто крылышки колибри, ворохом лежали на дюнах. Париж еще тлел. Лондон лежал кишками наружу. Москва была навеки стерта с лица земли ногой исполинского Наполеона. В общем, то, что создавалось в течение пяти лет, по четырнадцать часов в день, семь дней в неделю, было уничтожено за каких-то… пять минут!
«Рой, — подумал я, — ты не должен это видеть!»
Но он это видел.
Шагая через поля проигранных сражений и разоренные деревни, я заметил у дальней стены чью-то тень.
Это была тень из кинофильма «Призрак оперы», виденного мной в пятилетнем возрасте. Там за кулисами вертятся какие-то балерины — и вдруг застывают на месте, глядя в одну точку, и с визгом бросаются бежать. Ибо там, вверху, на колосниках, они увидели подвешенное, как мешок с песком, тело ночного сторожа, которое тихо покачивалось. Этот фильм, эта сцена, эти балерины и мертвец, висящий высоко во тьме, навсегда врезались в мою память. И вот теперь, в дальнем конце съемочного павильона, в его северной части, что-то покачивалось на длинной и тонкой, как паутина, нити. Оно отбрасывало гигантскую двадцатифутовую тень на голую стену, точь-в-точь как в том старом и страшном фильме.
— О нет! — прошептал я. — Этого не может быть!
Но это было.
Я представил себе приход Роя, его шок, его крик, удушающий приступ отчаяния, затем ярость и новый приступ отчаяния, захлестнувший и одолевший его уже после того, как он позвонил мне. Я представил, как он в бреду ищет веревку, шнур или провод и наконец — повисает и тихо покачивается. Он не мог жить без своих удивительных крохотных человечков и домиков, без своих игрушек, своих сокровищ. И он был слишком стар, чтобы воссоздать все это снова.
— Рой, — прошептал я, — не может быть, это не ты! Ты всегда так хотел жить.
Но тело Роя медленно поворачивалось высоко во тьме. Мои чудовища мертвы, говорило оно.
— Но они ведь никогда и не жили!
— Значит, — вздохнул Рой, — и я никогда не жил.
— Рой, — сказал я, — неужели ты оставишь меня одного на этом свете?!
— Может быть.
— Но надеюсь, ты не позволил себя повесить?!
— Все может быть.
— А если так, почему ты все еще здесь? Почему они не срезали тебя с веревки?
— А это значит, что…
— Тебя только что убили! Тебя еще не нашли. Я первый, кто тебя увидел!
Мне ужасно захотелось потрогать его ступни, его ноги, чтобы убедиться, что это действительно Рой! Мысли о человеке из папье-маше в гробу мелькали у меня в голове.
Я осторожно протянул руку, чтобы дотронуться… но вдруг…
Возле рабочего стола Роя стоял станок, где под покровами скрывалась его последняя и самая лучшая работа — Человек-чудовище, монстр из ночного ресторана, Существо, ходившее в церковь за оградой через улицу.
Кто-то взял плотницкий молоток и нанес им дюжину ударов. Лицо, голова, череп — все это было смято так, что от них осталась лишь бесформенная груда обломков.
«Господи Иисусе», — прошептал я.
Стало ли это для Роя последней каплей?
Или разрушитель, поджидавший в темноте, напал на него внезапно посреди уничтоженных городов, а потом повесил?
Я вздрогнул. И остановился.
Потому что услышал, как распахнулась дверь павильона.
Я скинул туфли и бесшумно помчался в укрытие.
25
Это был он, хирург-целитель-врачеватель, виртуоз подпольных абортов средь бела дня, расстрига доктор, подсаживающий на иглу своих пациентов.
Док Филипс скользнул в луче света на том конце павильона, огляделся по сторонам, увидел развалины, потом заметил наверху повешенного и кивнул, как будто подобная смерть была повседневным событием. Он зашагал вперед, расшвыривая ногами разрушенные города, словно они мусор и ненужный хлам.
При виде этого у меня вырвалось проклятие. Прихлопнув рот ладонью, я поспешно отступил в тень.
И стал наблюдать через щелочку в декорации.
Доктор замер на месте. Как олень на лесной поляне, он внимательно осматривался, вглядываясь сквозь линзы очков в стальной оправе, напрягая не только зрение, но и обоняние. Его уши, казалось, подергивались по бокам лысого черепа. Он встряхнул головой и с небрежным шарканьем направился дальше, сметая на пути Париж, расшвыривая Лондон, и наконец остановился, разглядывая ужасный груз, висящий под потолком…
В его руке блеснул скальпель. Он схватил какой-то сундук, открыл его, подставил под висящее тело, взял стул, взобрался на него и перерезал веревку над шеей Роя.
С ужасным грохотом Рой ударился о дно сундука.
Я вскрикнул от горя. И застыл, уверенный, что на этот раз он услышал и доберется до меня, с усмешкой сжимая в руке холодное стальное лезвие. Я резко задержал дыхание.
Опустившись на колени, доктор наклонился, чтобы осмотреть тело.
Входная дверь с шумом распахнулась. Послышалось эхо шагов и голосов.
Пришли уборщики: не знаю, всегда ли они приходили в это время или их вызвал Док Филипс.
Доктор захлопнул крышку, раздался тяжелый стук.
Я вцепился зубами в костяшки пальцев и запихнул в рот кулак, чтобы заглушить разрывавшие меня приступы отчаяния.
Замок сундука защелкнулся. Доктор жестом пригласил рабочих.
Я отступил назад, пока команда рабочих с метлами и совками шагала по павильону, чтобы смести и выбросить развалины Афин, стены Альгамбры, библиотеки Александрии и кришнаитские храмы Бомбея в мусорное ведро.
Чтобы убрать и вывезти то, на что Рой Холдстром потратил всю свою жизнь, понадобилось лишь двадцать минут; а заодно на скрипучей тележке был вывезен и сундук, в котором, сложенное в три погибели, скрытое от глаз, лежало тело моего друга.
Когда в последний раз хлопнула дверь, я издал отчаянный, горестный вопль, проклиная ночь, смерть, чертова доктора и уходящих рабочих. Я выбежал, потрясая в воздухе кулаками, и остановился, ничего не видя от слез. Долго я стоял так, дрожа и плача, и лишь потом, успокоившись, увидел нечто невероятное.
К северной стене павильона были прислонены ряды соединенных между собой декораций в виде дверных проемов, похожих на те пороги и двери, через которые мы с Роем шныряли вчера.
В центре первого проема стояла знакомая небольшая коробка. Все выглядело так, будто ее оставили там случайно. Я понял: это дар.
Рой!
Я ринулся вперед, остановился, глядя на коробку, и наконец прикоснулся к ней. В ответ — шорох и стук.
Что бы ни было внутри, оно шуршало.
Неужели ты там, мертвец, что стоял на лестнице у стены под дождем?
Шорох — стук — шуршание.
«Проклятье! — подумал я. — Когда же я наконец избавлюсь от тебя?!»
Я схватил коробку и побежал.
У выхода я остановился.
Закрыв глаза, я отер губы и медленно приоткрыл дверь. Вдалеке рабочие свернули за угол и направились к столярной мастерской и большой железной мусоросжигательной печи.
Док Филипс, идя вслед за ними, давал молчаливые указания.
Меня пробрала дрожь. Если бы я пришел на пять минут позже, то заявился бы в тот самый момент, когда он обнаружил тело Роя и развалины городов всего мира. Мой труп мог оказаться в сундуке вместе с телом Роя!
Такси ждало меня за девятым павильоном.
Рядом стояла телефонная будка. Покачиваясь, я вошел в нее, опустил монету и набрал номер полиции. Из трубки послышался голос: «Слушаю! Алло? Слушаю! Алло! Алло!»
Я стоял в будке, шатаясь, как пьяный, и глядел на трубку, словно это была мертвая змея.
Что я мог сказать? Что съемочный павильон убран и пуст? Что в мусоросжигателе, возможно, что-то горит и сгорит задолго до того, как подоспеют патрульные машины с сиренами?
А что потом? Вот он я, без защиты, без оружия, без доказательств.
Меня уволят, а может, убьют и буду я лежать там, по ту сторону ограды, в арендованной могилке?
Нет!
Я вскрикнул. Кто-то бил меня молотком по голове, пока она не превратилась в кровавую глину, растерзанную, как плоть Человека-чудовища. Шатаясь, я отчаянно пытался выйти, но, к моему ужасу, не мог вырваться из этого наглухо заколоченного гроба, как бы я ни бился о стекло.
Дверь телефонной будки распахнулась.
— Вы открывали не в ту сторону! — сказал шофер такси.
У меня вырвался какой-то безумный смех, и я позволил шоферу увести себя.
— Вы что-то забыли.
Он принес мне коробку, упавшую на пол в будке.
Шорох — шуршание — стук.
— Ах да, — ответил я. — Его.
Пока мы выезжали со студии, я лежал ничком на заднем сиденье. Подъехав к первому перекрестку, шофер спросил:
— Куда сворачивать?
— Налево.
Я прикусил зубами запястье. Шофер пристально посмотрел на меня в зеркало заднего вида.
— Господи, — произнес он, — вы выглядите ужасно. Вам плохо?
Я замотал головой.
— Кто-то умер? — догадался он.
— Да. Умер.
— Ну вот. Вестерн-авеню. Дальше на север?
— На юг.
В квартиру Роя, на Пятьдесят четвертой. А что потом? Войдя внутрь, почувствую ли я оставленный добрым доктором запах одеколона, висящий в воздухе прихожей, точно невидимая завеса? А может, подручные доктора уже тащат по темному коридору вещи и только и ждут, чтобы выволочь меня оттуда, как ненужную мебель?
Я дрожал и ехал дальше, раздумывая о том, суждено ли мне когда-нибудь повзрослеть. Я прислушался к своему внутреннему голосу и услышал:
Звук разбивающегося стекла.
Мои родители умерли давно, а их смерть, казалось, была легка.
Но Рой? Я не мог даже представить тот водоворот страха и отчаяния, который затягивает человека в свою пучину.
Теперь мне было страшно возвращаться на студию. Безумная архитектура всех этих наскоро сколоченных вместе уголков мира безжалостно обрушивалась на меня. Каждая южноамериканская плантация, каждый иллинойский чердак, как мне мерещилось, кишели маньяками-детоубийцами и осколками разбитых зеркал, в каждом чулане качались повешенные на крюках друзья.
Полуночный дар — кукольная коробка с покойником из папье-маше, чье лицо исказила смерть, — лежал на полу такси.
Шуршание — стук — шорох.
Вдруг меня словно молния ударила.
— Нет! — закричал я водителю. — Поверните здесь. К океану. К морю.
Когда Крамли открыл дверь, он внимательно посмотрел мне в лицо и не спеша пошел к телефону.
— Выпросил себе больничный на пять дней, — сказал он.
Он вернулся с полным стаканом водки и обнаружил меня сидящим в саду: я жадно глотал соленый морской воздух и пытался разглядеть звезды, но над землей стлался слишком густой туман. Крамли посмотрел на коробку, лежащую у меня на коленях, взял мою руку, вставил в нее стакан с водкой и поднес к моему рту.
— Выпей это, — спокойно сказал он, — а потом мы уложим тебя. Утром поговорим. Что это?
— Спрячь, — попросил я. — Если кто-нибудь узнает, что эта штука здесь, нас обоих могут убрать.
— Но что там?
— Полагаю, смерть.
Крамли взял картонную коробку. Она шуршала, громыхала и шелестела.
Крамли приподнял крышку и заглянул внутрь. Оттуда на него смотрела странная вещь из папье-маше.
— Так это и есть бывший глава киностудии «Максимус»? — спросил Крамли.
— Да.
Крамли еще с минуту разглядывал лицо, а затем кивнул:
— Точно, сама смерть.
Он закрыл крышку. Тяжелый предмет внутри коробки шевельнулся и прошелестел что-то вроде: «Спи».
«Нет! — подумал я. — Не вынуждай меня!»
26
Утром состоялся разговор.
27
В полдень Крамли высадил меня перед домом Роя на углу Вестерн-авеню и Пятьдесят четвертой. Он внимательно осмотрел мое лицо.
— Как тебя зовут?
— Я отказываюсь называть себя.
— Хочешь, я тебя подожду?
— Поезжай. Чем раньше ты начнешь околачиваться вокруг студии и собирать информацию, тем лучше. В любом случае нас не должны видеть вместе. Ты взял мой список контрольных точек и карту?
— Все здесь. — Крамли постучал себя по лбу.
— Встретимся через час. В доме моей бабушки. Наверху.
— Добрая старушка.
— Крамли?
— Что?
— Я люблю тебя.
— Такая любовь в рай не приведет.
— Нет, — согласился я, — зато проведет сквозь тьму.
— Да брось, — сказал Крамли и уехал.
Я вошел в дом.
Прошлой ночью интуиция меня не подвела.
Если миниатюрные города Роя были разорены, а от его чудовища остались лишь кровавые ошметки глины…
В прихожей стоял запах докторского одеколона… Дверь в квартиру Роя была приоткрыта. Квартира была выпотрошена.
— Господи, — прошептал я, стоя посреди этих комнат и озираясь вокруг. — Как в Советской России. История повторяется.
Ибо Рой стал несуществующим человеком. Этой ночью в книжных магазинах из книг будут вырваны страницы, а тома переплетены заново, так что само имя Роя Холдстрома исчезнет навсегда, как скандальный слух, как плод воображения. Ничего не останется.
Не осталось ничего: ни книг, ни картин, ни письменного стола, ни бумаг в корзине. Даже рулон туалетной бумаги исчез из уборной. В аптечке — пусто, как в буфете матушки Хаббард.[110] Ни тапочек под кроватью. Ни самой кровати. Ни пишущей машинки. Пустые шкафы. Ни динозавров. Ни рисунков динозавров.
Несколько часов назад квартира была вычищена пылесосом, выскоблена и отполирована высококачественным воском.
Безумная ярость выжгла павильон, уничтожив его Вавилон, Ассирию, Абу-Симбел.
А здесь безумная чистота втянула в себя саму память до последней пылинки, само дыхание жизни.
— Господи, вот ужас, а? — раздался за моей спиной чей-то голос.
В дверях стоял молодой человек. На нем была блуза художника, сильно заношенная, а пальцы и левая щека перепачканы краской. Волосы казались растрепанными, а в глазах проглядывало что-то дикое, звериное, как у человека, который работает в темноте и только иногда выходит из дома на рассвете.
— Вам не стоит здесь оставаться. Они могут вернуться.
— Постойте, — сказал я. — Я вас знаю, верно? Вы друг Роя… Том…
— Шипвей. Лучше убраться отсюда. Они чокнутые. Пойдем.
Вслед за Томом Шипвеем я вышел из пустой квартиры. Он отпер дверь своего собственного жилища двумя комплектами ключей.
— На старт! Внимание! Марш!
Я прыгнул внутрь.
Том захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.
— Домовладелица! Она не должна это видеть!
— Видеть?!
Я огляделся.
Мы оказались в подводных апартаментах капитана Немо: в каютах его подлодки и машинном отделении.
— Вот это да! — воскликнул я.
— Неплохо, а? — просиял Том Шипвей.
— Неплохо? Черт возьми, просто фантастика!
— Я знал, что вам понравится. Рой дал мне ваши рассказы. Марс. Атлантида. И то, что вы написали о Жюле Верне. Здорово, да?
Он показывал, размахивая руками, а я ходил, смотрел и ощупывал. Великолепные викторианские кресла, обитые красным бархатом, с медными заклепками, привинченные к полу корабля. Начищенный до блеска медный перископ, спускающийся с потолка. В центре сцены — огромные трубы органа. А позади него окно, переделанное в овальный иллюминатор субмарины, за которым плавали тропические рыбы всех цветов и размеров.
— Взгляните! — сказал Том Шипвей. — Идите сюда!
Я нагнулся, чтобы посмотреть в перископ.
— Он действующий! — воскликнул я. — Мы под водой! Или как будто под водой! Это вы сами все сделали? Вы гений.
— Ага.
— А ваша… домовладелица знает, что вы сотворили с ее квартирой?
— Если бы знала, она бы меня убила. Я никогда не позволю ей сюда войти.
Шипвей нажал какую-то кнопку на стене. За стеклом, в зелени моря задвигались тени. Показался шевелящийся силуэт гигантского паука.
— Кальмар! Вечный враг Немо! Я потрясен!
— Еще бы! Садитесь. Что происходит? Где Рой? Зачем эти бездельники ворвались к нему, как шакалы, а потом смылись, как гиены?
— Рой? Ах да. — Груз воспоминания придавил меня с новой силой. Я тяжело опустился на стул. — Боже мой, да, Рой. Что здесь произошло вчера ночью?
Шипвей тихо двигался по комнате, воспроизводя все, что он мог вспомнить.
— Вы помните, как неуловимо шнырял по Лос-Анджелесу Рик Орсатти? Рэкетир?
— У него была банда…
— Ага. Однажды, много лет назад, под вечер, в центре города, вывернув из-за угла, я увидел шестерых парней, одетых в черное. Один из них был вожаком, и двигались они, как странные крысы, вырядившиеся в кожаные пиджаки и шелковые рубашки: все черные, словно в трауре, волосы напомажены и зачесаны назад, а лица белые как мел. Нет, даже не крысы, а черные ласки. Молчаливые, неуловимые, как змеи, опасные, враждебные, как черный дым из трубы. Так вот, то же самое было и вчера ночью. Я почувствовал такой сильный запах одеколона, что он проник даже под дверь…
Док Филипс!
— …я выглянул: эти огромные черные крысы из канализации не спеша вытаскивали из прихожей папки, динозавров, картины, бюсты, скульптуры и фотографии. Краешками своих крысиных глаз они пристально наблюдали за мной. Я закрыл дверь и стал смотреть через глазок, как они шныряют туда-сюда в черных тапочках на каучуковой подошве. Еще с полчаса я слышал, как они там рыскают. Затем шорох прекратился. Я открыл дверь в пустую прихожую, и меня ударило волной проклятого одеколона. Эти парни убили Роя?
Я вздрогнул:
— Почему вы так думаете?
— Они выглядели как работники похоронного бюро, вот и все. А раз они расправились с квартирой Роя, почему бы им не расправиться с самим Роем? Эге. — Шипвей осекся, увидев мое лицо. — Я ничего такого не хотел сказать… но… э-э-э… Рой действительно…
— Мертв? Да. Нет. Может быть. Такой жизнелюб, как Рой, просто не может умереть!
Я рассказал ему про павильон 13, про разрушенные города, про повешенного.
— Рой никогда бы такого не сделал.
— Может, кто-то сделал это с ним.
— Рой дал бы отпор любым мерзавцам. Черт! — Из глаза Тома Шипвея скатилась слеза. — Я знаю Роя! Он помог мне построить мою первую подлодку. Вот!
На стене висел миниатюрный «Наутилус», всего каких-нибудь тридцати дюймов в длину, мечта ученика художественной школы.
— Не может быть, чтобы Рой умер, ведь так?!
Вдруг где-то в подводных каютах Немо зазвонил телефон.
Шипвей поднял трубку в виде крупной раковины моллюска. Я было засмеялся, но сразу осекся.
— Да? — сказал он в телефон, затем спросил: — Кто это?
Я едва не вырвал трубку из его руки. Я закричал в нее; закричал так, словно от этого зависела моя жизнь. Я слышал, как кто-то дышал там, на том конце провода.
— Рой!
Щелчок. Тишина. Длинный гудок.
Задыхаясь, я в остервенении затряс трубку.
— Это Рой? — спросил Шипвэй.
— Его дыхание.
— Проклятье! По дыханию нельзя узнать человека! Откуда был звонок?
Я швырнул на рычаг трубку и застыл над ней, закрыв глаза. Потом я снова схватил телефон-моллюск и попытался набрать номер не с той стороны.
— Как работает эта чертова штуковина? — заорал я.
— Кому вы звоните?
— Хочу вызвать такси.
— Куда ехать? Я подвезу!
— В Иллинойс, черт возьми, в Гринтаун!
— Но до него две тысячи миль!
— В таком случае, — сказал я, в онемении кладя обратно ракушку, — нам пора в путь.
28
Том Шипвей высадил меня возле киностудии.
В самом начале третьего я уже бежал по Гринтауну. Весь городок был выкрашен свежей белой краской и лишь ждал, когда я постучусь в чью-нибудь дверь или загляну в окно сквозь тюлевые занавески. Ветерок взметнул облачко цветочной пыльцы, когда я свернул на тропинку, ведущую к дому моих давно покойных бабушки и дедушки. А когда я поднимался по лестнице, с крыши вспорхнули птицы.
В моих глазах стояли слезы, когда я постучал в дверь с разноцветными стеклами.
Ответом было долгое молчание. Я понял, что сделал что-то не так. Мальчишки, когда зовут других мальчишек играть, не стучат в двери. Я снова спустился во двор, нашел камешек и со всей силы кинул его в стену.
Тишина.
Дом тихо стоял в лучах ноябрьского солнца.
— Что? — спросил я, обращаясь к высокому окну. — Ты и впрямь умер?
И тут дверь отворилась. Кто-то стоял в проеме и смотрел на меня.
— Это ты?! — прокричал я.
Спотыкаясь, я шагнул через порог, в распахнувшуюся дверь-ширму.
— Это ты?! — снова крикнул я.
И попал в объятия Элмо Крамли.
— Да, — сказал он, не выпуская меня, — если ты ищешь меня.
Я бормотал что-то нечленораздельное, пока он затаскивал меня внутрь, а затем закрыл дверь.
— Ладно, не переживай.
Он потряс меня за плечи.
Я едва мог разглядеть его сквозь свои помутневшие очки.
— Что ты делаешь здесь?
— Ты мне сам сказал. Поброди вокруг, посмотри, потом встретимся здесь, верно? Да нет, ты все забыл. Бог мой, и что такого хорошего ты находишь в этом месте?
Крамли пошарил в холодильнике, принес мне печенье с арахисовым маслом и стакан молока. Я сидел, жевал, глотал и повторял снова и снова: «Спасибо, что пришел».
— Заткнись, — сказал Крамли. — Я смотрю, ты совсем раскис. Что нам дальше-то делать, черт возьми? Сделаем вид, что ничего не произошло. Никто ведь не знает, что ты видел тело Роя или то, что принял за его тело? Какие у тебя планы?
— Вообще-то как раз сейчас мне надо представить отчет о новом проекте. Меня перевели. Кино с чудовищем накрылось. Теперь мои коллеги — Фриц и Иисус.
Крамли рассмеялся.
— Вот как им надо было назвать фильм. Ты хочешь, чтобы я еще немного послонялся здесь, как тупой турист?
— Найди его, Крамли. Если я действительно позволю себе поверить, что Роя нет в живых, то сойду с ума! А если Рой не умер, значит, прячется, он боится. Твоя задача — напугать его еще больше, чтобы он вышел из укрытия, пока его по-настоящему не укокошили. Или… если он и в самом деле мертв, значит, кто-то его убил, так? Сам он никогда бы не повесился. Значит, убийца тоже где-то рядом. Найди убийцу. Того, кто разбил глиняную голову чудовища, размозжил его красный глиняный череп, а потом наткнулся на Роя и повесил его, задушил до смерти. В любом случае, Крамли, найди Роя прежде, чем его убьют. А если он уже мертв, найди проклятого убийцу.
— Черт подери, хорошенький выбор.
— Может, походить по клубам собирателей автографов, а? Вдруг в одном из них знают Кларенса, его фамилию, его адрес. Кларенс. А потом попробуй зайти в «Браун-дерби». С такими, как я, этот метрдотель разговаривать не станет. Он наверняка знает, кто такой этот Человек-чудовище. Между ним и Кларенсом мы сможем вычислить убийцу или того, кто может стать убийцей в любую минуту!
— По крайней мере, есть зацепки, — сказал Крамли, понизив голос, надеясь, что и я буду говорить тише.
— Смотри, — сказал я, — со вчерашнего дня здесь кто-то живет. Все разбросано. Ни я, ни Рой не мусорили, когда работали здесь вместе.
Я открыл дверцу мини-холодильника.
— Конфеты. Ну кто еще положит шоколадные конфеты в холодильник?
— Ты, — фыркнул Крамли.
Я нехотя рассмеялся. И закрыл холодильник.
— Да, черт возьми, я. Но он сказал, что собирается спрятаться. А вдруг… а что, если ему это удалось? Что скажешь?
— Ладно. — Крамли сделал шаг к двери. — Так кого я должен искать?
— Долговязого крикливого журавля шести футов трех дюймов ростом, с длинными руками, длинными тощими пальцами, большим ястребиным носом и ранней лысиной; галстуки у него не сочетаются с рубашками, рубашки — с брюками и… — Я запнулся.
— Прости меня. — Крамли протянул мне платок. — Высморкайся.
29
Через минуту я уже выходил из сельских окраин Иллинойса, покидая дом своей бабушки.
Я прошел мимо павильона 13. Он был закрыт на три замка и опечатан. Постояв там, я представил, как должен был почувствовать себя Рой, когда вошел и увидел, что сам смысл его жизни уничтожен какими-то маньяками.
«Рой, — думал я, — вернись, наделай других чудовищ, еще лучше, живи вечно».
Как раз в этот момент мимо, печатая шаг, ускоренным маршем пробежала фаланга римских воинов; они смеялись. Они текли быстро, как поток, как сверкающая река золотых шлемов с малиновыми перьями. Гвардия Цезаря никогда не смотрелась лучше, никогда не двигалась быстрее. Пока они бежали, мой взгляд на лету выхватил последнего воина. Его длиннющие ноги дергались как-то странно. Локти хлопали о бока. И что-то смахивающее на ястребиный нос разрезало воздух. У меня вырвался приглушенный крик.
Отряд скрылся за углом.
Я помчался к перекрестку.
«Рой?!» — думал я.
Но я не мог окликнуть его — тогда бегущие увидели бы, что между ними прячется какой-то идиот.
«Проклятый дурак», — тихо произнес я. «Тупица», — бормотал я, входя в столовую.
— Придурок, — сказал я Фрицу, сидевшему с шестью чашками кофе за столом, за которым он обычно назначал встречи.
— Довольно лести! — воскликнул он. — Садись! У нас первая проблема: Иуда Искариот вычеркнут из нашего фильма!
— Иуда?! Уволен?
— Я слышал, в последний раз его видели в Ла-Холье пьяным в корягу и летящим на дельтаплане.
— Госсссподи!
И тут меня точно прорвало. Из груди изверглись громовые раскаты хохота.
Я представил себе Иуду, летящего на дельтаплане сквозь соленый ветер, Роя, бегущего в рядах римской фаланги, и самого себя, промокшего под проливным дождем, когда тело упало со стены, и снова Иуду — высоко в небе над Ла-Хольей, пьяного, на ветру, в полете.
Мой лающий смех встревожил Фрица. Думая, что я подавился своим собственным смущенным кашлем, он постучал меня по спине.
— Что-то не так?
— Все в порядке, — выдохнул я. — Все не так!
Мои всхлипы постепенно затихли.
И тут явился Христос в шуршащих одеждах.
— О Ирод Антипа, — обратился он к Фрицу, — ты призвал меня на суд?
Актер, высокий, как полотно Эль Греко, словно окутанный клубами серного дыма в разрывах молний и грозовыми облаками, пробегавшими по его бледному телу, медленно опустился на стул, даже не взглянув, куда садится. Само это действие было актом веры. Когда его незримое тело коснулось сиденья, он улыбнулся, гордый, что приземлился так точно.
Официантка немедленно поставила перед ним небольшую тарелку с лососем без соуса и бокал красного вина.
Иисус Христос, прикрыв глаза, прожевал кусочек рыбы.
— Старый режиссер, новый сценарист, — наконец произнес он. — Вы позвали меня, чтобы посоветоваться по поводу Библии? Спрашивайте. Я знаю ее всю, наизусть.
— Спасибо, что хоть кто-то знает ее, — сказал Фриц. — Большую часть нашего фильма ставил за границей один режиссер: мнит о себе много, а как что поставить надо, так ему и подъемный кран не поможет. Мэгги Ботуин сейчас в четвертом просмотровом зале. Через час приходи туда, — он подмигнул мне своим моноклем, — увидишь весь провал. Христос ходил по воде, а как насчет ямы с дерьмом? Иисус, ну-ка влей целительный бальзам в нечестивые уши этого парня. — Он тронул меня за плечо. — А ты, мальчик, реши проблему недостающего Иуды, напиши для фильма такую концовку, чтобы толпа не взбунтовалась, требуя вернуть деньги.
Дверь захлопнулась.
И я остался один под пристальным взглядом Иисуса Христа, в чьих глазах отражались голубые небеса Иерусалима.
Он спокойно жевал свою рыбу.
— Вижу, — сказал он, — ты хочешь спросить, почему я здесь. Я, истинный христианин. Кто я? Старый башмак. Мне удобно в компании Моисея, Магомета и пророков. Я об этом не думаю, я такой есть.
— Значит, ты всегда был Христом?
Иисус увидел, что я говорю искренне, и дожевал кусок.
— Действительно ли я Христос? Ну, это вроде как надеть удобную одежду и носить ее всю жизнь, не переодеваясь, всегда комфортно себя чувствовать. Я смотрю на свои стигматы и думаю: да. Я не бреюсь по утрам, но мне не мешает моя борода. Я не могу представить себе другой жизни. О, много лет назад, разумеется, я был любопытен. — Он прожевал еще кусочек. — Перепробовал все. Ходил к преподобной Вайолет Гринер на бульваре Креншоу. В храм Агабека.
— Я тоже там был!
— А какая программа, а? Спиритические сеансы, бубны. Никогда не брало. Я был на Норвелле. Он все еще там?
— Конечно! Тот, что все время мигал огромными коровьими глазами? А с ним были симпатичные мальчики, собиравшие монеты в бубны?
— Ты говоришь моими словами! А астрология? Нумерология? Трясуны?[111] Просто чума!
— Я тоже был на сеансах трясунов.
— А как они боролись в грязи, а как разговаривали на разных языках? Тебе нравилось?
— Еще бы! А как насчет негритянской баптистской церкви на Сентрал-авеню? По воскресеньям хор Холла Джонсона[112] прыгает и поет. Настоящее землетрясение!
— Черт возьми, парень, да ты прямо ходишь по моим следам! Как тебе удалось побывать во всех этих местах?
— В поисках ответов!
— Ты читал Талмуд? Коран?
— Они слишком поздно появились в моей жизни.
— Хочешь, скажу, что на самом деле появилось поздно?..
— Книга Мормона?![113] — фыркнул я.
— Ну и ну, точно!
— В двадцать лет я побывал на выступлении труппы Мормонского малого театра. Ангел Морони[114] меня усыпил!
Иисус захохотал и хлопнул себя по стигматам.
— Чума! А как насчет Эйми Сэмпл Макферсон?![115]
— Я поспорил со школьными приятелями, что выбегу на сцену, чтобы обрести «спасение». Я выбежал и встал перед ней на колени. Она похлопала рукой по моей голове. «Господи, спаси этого грешника!» — вскричала она. Слава! Аллилуйя! Я, спотыкаясь, спустился со сцены и упал в объятия друзей!
— Черт! — сказал Иисус. — Эйми дважды спасла меня! А потом ее похоронили. Помнишь, летом сорок четвертого? В большом бронзовом гробу? Чтобы втащить его на кладбищенский холм, потребовалось шестнадцать лошадей и бульдозер. Боже, у Эйми выросли фальшивые крылья, совсем как настоящие. Я до сих пор хожу в ее храм, по старой привычке. Господи, как мне ее не хватает! Она прикоснулась ко мне, как Христос, вся в этих оборочках, как принято у пятидесятников. Ну и смех!
— И вот теперь ты здесь, — сказал я, — работаешь Христом на полную ставку в «Максимусе». Еще со времен Арбутнота — золотые были деньки.
— Арбутнот?
Лицо Иисуса омрачилось воспоминанием. Он оттолкнул тарелку.
— Ладно, давай проверь меня. Спроси! Старый Завет. Новый.
— Книга Руфи.
Он две минуты читал на память из Руфи.
— Экклезиаст?
— Расскажу от начала до конца!
И рассказал.
— Евангелие от Иоанна?
— Отличная вещь! Последняя вечеря после Тайной вечери!
— Как это? — недоверчиво спросил я.
— Забывчивый христианин! Тайная вечеря была не последней! Она была предпоследней! Через несколько дней после распятия и погребения Симон Петр вместе с другими учениками на берегу Тивериадского моря были свидетелями чуда с рыбой. На побережье они заметили бледный свет. Подойдя, увидели человека, стоящего у разложенного огня, и рядом с ним — рыбу. Они заговорили с человеком и поняли, что это Христос. Он пригласил их рукой и сказал: «Возьмите эту рыбу и накормите братьев своих. Возьмите мою весть, разнесите ее по городам всего света и проповедуйте там прощение греха».
— Черт меня побери, — прошептал я.
— Чудесно, правда? — сказал Иисус. — Сначала Предпоследняя вечеря, потом вечеря да Винчи, а потом Самая Последняя Тайная вечеря, трапеза из рыбы, запеченной в углях на песке у берега Тивериадского моря, после которой Христос ушел, чтобы навеки поселиться в их крови, в их сердцах, умах и душах. Конец.
Иисус склонил голову, а затем добавил:
— Иди переписывай заново книги, в особенности Иоанна! Не я дающий, ты — берущий! Иди, пока я не взял назад свое благословение!
— Ты благословил меня?
— Всем нашим разговором, сын мой. Всем нашим разговором. Иди.
30
Я сунул голову в четвертый просмотровый зал и спросил:
— А где Иуда?
— Пароль верный! — вскричал Фриц Вонг. — Тут три бокала мартини! Выпей!
— Ненавижу мартини. Потом, мне надо еще вывести алкоголь из организма. Мисс Ботуин, — обратился я к ней.
— Мэгги, — сказала она, незаметно улыбнувшись, держа на коленях камеру.
— Я многие годы столько слышал о вас и всю жизнь вами восхищался. Я просто обязан сказать, как я рад, что у меня есть возможность поработать…
— Да-да, — добродушно отвечала она. — Только вы не правы. Я не гений. Я… как называются такие насекомые, которые бегают по поверхности пруда и выискивают добычу?
— Водомерки?
— Водомерки! Кажется, будто эти чертовы паучки вот-вот утонут, ан нет, бегают по тонкой пленке на поверхности воды. Поверхностное натяжение. Они распределяют свой вес, растягивая лапы в стороны, и пленка не рвется. Ну разве я не то же самое? Я просто распределяю свой вес, вытягиваю в стороны все четыре конечности, и пленка подо мной не рвется. Пока еще ни разу не потонула. Но я не чемпион, и никакого чуда здесь нет, просто-напросто мне очень рано повезло. И все же, молодой человек, спасибо за комплимент, выше голову и делайте все, что скажет Фриц. Мартини. Вот увидите: в том, что сейчас покажут, моей работы мало.
Она повернулась ко мне своим изящным профилем, чтобы негромко сказать в сторону проекторной:
— Джимми, давай!
Свет медленно потускнел, зажужжал экран, разъехался занавес. На экране замигал грубый монтаж под еще не завершенную музыку Миклоша Рожи.[116] Это мне нравилось.
Пока шел фильм, я украдкой бросал взгляды на Фрица и Мэгги. Они подскакивали так, будто объезжали дикую кобылу. Я тоже вскакивал и падал обратно в кресло под натиском образов, волной нахлынувших с экрана.
Моя рука незаметно взяла один из бокалов с мартини.
— Так-то лучше, парень, — шепнул Фриц.
Когда фильм закончился, мы еще некоторое время сидели молча, пока зажигался свет.
— Как получилось, — наконец спросил я, — что ты почти весь этот материал отснял в сумерках или в темноте?
— Терпеть не могу реализм. — Монокль Фрица ярко блеснул в сторону белого экрана. — Половина этого фильма по плану должна сниматься на закате. Значит, когда день переваливает через хребет. Когда заходит солнце, я вздыхаю с огромным облегчением: еще один день прошел! Каждую ночь я работаю до двух часов, мне не мешают люди, не мешает свет. Два года назад я сделал себе контактные линзы. А потом выкинул их в окно! Почему? Я стал видеть поры на лицах людей, на своем лице. Целые лунные кратеры. Ноздреватости. Черт возьми! Посмотри мои последние фильмы. Никаких людей под солнцем. «Полуночница». «Долгие сумерки». «Убийства в три часа пополуночи». «Смерть перед рассветом». Итак, мой мальчик, как насчет этой галилейской лажи — «Христос в Гефсиманском саду», «Цезарь в тупике»?!
Мэгги Ботуин уныло заерзала в полутьме и распаковала свою портативную камеру.
Я откашлялся.
— Мой текст должен прикрыть все дыры в этом сценарии?
— Прикрыть задницу Цезаря? Да!
Фриц Вонг рассмеялся и подлил еще в бокалы.
— И мы посылаем тебя к Мэнни Либеру, чтобы обсудить Иуду, — добавила Мэгги Ботуин.
— Что-о-о?!
— Иудейскому льву,[117] — сказал Фриц, — вероятно, будет приятно съесть иллинойского баптиста. А пока он будет выдергивать тебе ноги, ему придется тебя выслушать.
Я медленно влил в себя второй мартини.
— Что ж, — вздохнул я, — не так уж плохо.
И услышал какое-то жужжание.
Камера Мэгги Ботуин сфокусировалась на мне, чтобы уловить, как я начинаю пьянеть.
— Вы везде носите с собой камеру?
— Ага, — сказала она. — За сорок лет еще не было ни дня, чтобы я не поймала мышку среди слонов. Они не смеют меня вышвырнуть. Иначе я смонтирую вместе все девять часов пленки, на которой засняты эти кретины, и устрою премьерный показ в Китайском театре Граумана.[118] Любопытно? Приходи, посмотришь.
Фриц наполнил мой бокал.
— Я готов. Снимайте крупный план, — сказал я и выпил.
Камера зажужжала.
31
Мэнни Либер сидел на краю своего стола, обрезая огромную сигару с помощью одной из стодолларовых золотых гильотин от «Данхилл». Он хмуро наблюдал, как я расхаживаю взад-вперед по кабинету, внимательно осматривая разнообразные низкие диваны.
— Что тебе не нравится?
— Эти диваны, — ответил я. — Такие низкие, что с них трудно встать.
Я сел. И оказался примерно в футе от пола, глядя снизу вверх на Мэнни Либера, который возвышался надо мной, как Цезарь, покоривший весь мир.
Я выругался про себя и пошел за диванными подушками. Затем сложил три подушки одна на другую и сел сверху.
— Какого черта, что ты делаешь? — Мэнни вскочил со своего стола.
— Хочу смотреть вам в глаза, когда говорю. Не желаю ломать себе шею, выглядывая откуда-то из ямы.
Мэнни Либер закурил, откусил кусочек сигары и снова взгромоздился на край стола.
— Ну? — резко спросил он.
— Фриц только что показал мне черновой монтаж фильма. Там недостает Иуды Искариота. Кто его вырезал? — спросил я.
— Что?!
— Христос не бывает без Иуды. Почему Иуда вдруг стал невидимым учеником?
Я впервые увидел, как маленькая задница Мэнни Либера нервно заерзала по стеклянной крышке стола. Он затянулся потухшей сигарой, бросил на меня испепеляющий взгляд и вдруг заорал:
— Это я приказал вырезать Иуду! Не хочу делать антисемитский фильм!
— Что?! — взорвался я, подскакивая на месте. — Этот фильм должен выйти к ближайшей Пасхе, верно? Во время Пасхальной недели его увидят миллионы баптистов. Два миллиона лютеран?
— Несомненно.
— Десять миллионов католиков?
— Да!
— Два унитария?
— Два?..
— И когда все они в Пасхальное воскресенье, потрясенные, выйдут из кинозала и спросят: «Кто вырезал из фильма Иуду Искариота?» — ответ будет один: Мэнни Либер!
Наступила долгая пауза. Мэнни Либер бросил свою потухшую сигару. Я застыл, глядя, как он протягивает руку к белому телефону.
Он набрал местный трехзначный номер, подождал ответа и сказал:
— Билл?
Затем, набрав побольше воздуха:
— Примите Иуду обратно на работу.
Он с ненавистью наблюдал, как я раскладываю три подушки по трем отдельно стоящим стульям.
— Это все, о чем ты хотел со мной поговорить?
— Пока да.
Я повернул ручку двери.
— А что слышно о твоем друге Рое Холдстроме? — вдруг спросил он.
— Я думал, вы знаете! — воскликнул я и остановился.
«Осторожнее», — подумал я.
— Этот кретин просто сбежал, — выпалил я. — Забрал все вещи из квартиры и уехал из города. Несчастный придурок. Он мне больше не друг. Ни он, ни это проклятое глиняное чудовище, которое он состряпал!
Мэнни Либер внимательно посмотрел на меня.
— Тем лучше. С Вонгом тебе будет лучше работать.
— Конечно. Фриц и Иисус.
— Что?
— Иисус и Фриц.
И я вышел.
32
Я медленно брел, возвращаясь к дому моей бабушки, затерянному где-то в прошлом.
— Ты уверен, что час назад мимо тебя пробежал именно Рой? — спросил Крамли.
— Черт, нет, конечно. Да, нет, может быть. Не могу сказать членораздельно. Мартини посреди дня — это не по мне. Кроме того… — я взвесил в руке сценарий, — мне надо вырезать отсюда два фунта и добавить три унции. Помоги!
Мой взгляд упал на блокнот в руках Крамли.
— Ну что?
— Обзвонил три агентства, собирающие автографы. Они все знают Кларенса…
— Отлично!
— Не совсем. Везде говорят одно и то же. Параноик. Ни фамилии, ни телефона, ни адреса. Всем говорил, что боится. Не того, что ограбят, а того, что убьют. А потом ограбят. Пять тысяч фотографий, шесть тысяч автографов — вот его золотые яйца. Так что в ту ночь он мог и не узнать Человека-чудовище, но испугался, что чудовище узнает его, узнает его адрес и может прийти за ним.
— Нет-нет, совсем не сходится.
— Кларенс, не важно, как там его фамилия, по словам людей из агентств, всегда берет только наличными и платит наличные. Никаких чеков, так что по этой линии следов нет. Он никогда не связывался с ними по почте. Регулярно появлялся, делал дела, а потом исчезал на несколько месяцев. Тупик. В «Браун-дерби» тоже тупик. Я пытался зайти и так и эдак, но метрдотель и слушать меня не стал. Прости, малыш. Эй, смотри…
В этот момент, по расписанию, вдалеке снова показалась римская фаланга на ускоренном марше. Они приближались к нам с радостными выкриками и ругательствами.
Я изо всех сил вытянулся, затаив дыхание.
— Это та компашка, о которой ты говорил? — спросил Крамли. — Среди них был Рой?
— Ага.
— А сейчас он с ними?
— Мне не видно…
— Черт побери, — Крамли прорвало, — какого лешего этот тупой придурок бегает тут по студии? Почему он не делает ноги, не удирает отсюда, черт возьми?! Зачем он тут вертится, как привязанный?! Чтобы его убили?! У него был шанс убежать, вместо этого он выжимает из тебя и из меня все соки. Зачем?!
— Мстит, — ответил я. — За все убийства.
— Какие убийства?!
— Убийства всех его созданий, всех его самых близких друзей.
— Чушь.
— Послушай, Крам. Ты давно живешь в своем доме, в Венеции? Двадцать — двадцать пять лет. Все живые изгороди, каждый кустик посажен тобой, ты сам засеял лужайку, построил ротанговую хижину, установил звуковую аппаратуру, поливальные агрегаты, развел бамбук и орхидеи, посадил персиковые деревья, лимоны, абрикосы. Что, если за одну ночь я бы все это разломал и вырвал с корнем, срубил деревья, вытоптал розы, сжег хижину, выкинул на улицу аппаратуру, — что бы ты тогда сделал?
Крамли подумал, и лицо его вспыхнуло от гнева.
— Вот именно, — спокойно произнес я. — Не знаю, женится ли когда-нибудь Рой. Но сейчас, в эту минуту, его дети, вся его жизнь оказались втоптаны в грязь. Все, что он любил в жизни, убито. Может быть, он сейчас находится здесь, пытаясь выяснить причину этих убийств, пытаясь, как и мы, найти чудовище и убить его. Может быть, Рой ушел навсегда. Но будь я на месте Роя, я бы остался, спрятался и продолжал поиски, пока не закопаю убийцу в могилу вместе с его жертвой.
— Мои лимоны? — произнес Крамли, задумчиво глядя в сторону моря. — Мои орхидеи, мои джунгли? Кем-то уничтожены? Ладно.
Внизу в лучах закатного солнца пробежала римская фаланга, исчезнув в голубых сумерках.
Высокого неуклюжего воина с журавлиными повадками в ней не было.
Шаги и крики замерли вдали.
— Пошли домой, — сказал Крамли.
В полночь через африканский сад Крамли неожиданно пронесся ветер. Все деревья в округе перевернулись во сне.
Крамли задумчиво посмотрел на меня.
— Чувствую, что-то должно произойти.
И оно произошло.
— «Браун-дерби», — ошеломленный догадкой, произнес я. — Господи, как же я раньше не подумал?! В ту ночь, когда Кларенс удирал в панике. Он же обронил свою папку, он оставил ее лежать на тропинке у входа в «Браун-дерби»! Кто-то наверняка подобрал ее. А может, она еще там, ждет, когда Кларенс успокоится и осмелится тайком вернуться за ней. В папке наверняка есть его адрес.
— Хорошая ниточка, — одобрительно кивнул Крамли. — Я проверю.
Снова налетел ночной ветер, печально вздыхая в ветвях лимонных и апельсиновых деревьев.
— И еще…
— Еще?
— Еще про «Браун-дерби». Метрдотель, скорее всего, с нами разговаривать не будет, но я знаю одного человека, который многие годы обедал там каждую неделю, когда я был еще ребенком…
— Господи, — вздохнул Крамли, — Раттиган. Да она живьем тебя съест.
— Моя любовь будет мне защитой!
— Боже, только сунь этого в постель, и мы обеспечим детишками всю долину Сан-Фернандо.
— Дружба — это защита. Ты ведь не причинишь мне зла?
— И не рассчитывай.
— Нам надо что-то предпринять. Рой прячется. Если они, кто бы это ни был, найдут его, Рою конец.
— Тебе тоже, — заметил Крамли, — если будешь играть в детектива-любителя. Уже поздно. Двенадцать ночи.
— А Констанция как раз просыпается.
— Это она по трансильванскому времени? Черт! — Крамли сделал глубокий вдох. — Тебя отвезти?
Где-то во тьме сада с дерева упал персик и мягко стукнулся о землю.
— Хорошо! — согласился я.
33
— Утром, — сказал Крамли, — если запоешь сопрано, не звони.
И он уехал.
Дом Констанции был, как и прежде, безупречен: белый храм, возвышающийся над побережьем. Все окна и двери были широко распахнуты. Внутри, в огромной пустой белой гостиной, играла музыка: что-то из Бенни Гудмана.[119]
Я шел, как шагал тысячу ночей назад, вдоль кромки, окаймлявшей океан. Она была где-то там, катаясь верхом на дельфинах, перекликаясь с тюленями.
Я заглянул в гостиную на первом этаже, заваленную четырьмя дюжинами кричаще-ярких, разноцветных подушек, и посмотрел на белые стены, по которым поздно ночью, перед рассветом, проходили парады теней, ее старые фильмы выплывали из тех времен, когда меня еще не было на свете.
Я обернулся, потому что необычайно тяжелая волна с грохотом ударилась о берег…
…а из нее, словно из ковра, брошенного к ногам Цезаря, вышла…
…Констанция Раттиган.
Она вышла из волн, как быстрый тюлень, ее волосы были почти того же цвета: гладко-каштановые, приглаженные водой, а маленькое тело присыпано мускатным орехом и залито коричным маслом. Все оттенки осени окрашивали ее быстрые ноги, необузданные руки, запястья и ладони. Глаза были карие, как у забавного, но хитрого и злобного маленького зверька. Улыбающийся рот, казалось, был вымазан маслом грецкого ореха. Констанция выглядела шаловливым порождением ноябрьского прибоя, выплеснутым из холодного моря, но горячим на ощупь, как жареный каштан.
— Сукин сын, это ты! — воскликнула она.
— Это ты, Дочь Нила!
Она налетела на меня, как собака, чтобы стряхнуть с себя воду на кого-нибудь другого, схватила меня за уши, расцеловала в лоб, в нос и в губы, а потом повернулась кругом, демонстрируя себя со всех сторон.
— Я голая, как обычно.
— Я заметил, Констанция.
— А ты не изменился: смотришь на мои брови, а не на сиськи.
— И ты не изменилась. И сиськи, похоже, тугие.
— Неплохо для купающейся по ночам пятидесятишестилетней экс-кинодивы, а? Идем!
Она побежала по песку. К тому времени, как я добрался до ее открытого бассейна, она уже принесла сыр, крекеры и шампанское.
— Боже мой. — Она откупорила бутылку. — Сто лет прошло. Но я знала: однажды ты явишься снова. Достала семейная жизнь? Нужна любовница?
— Нет. Спасибо.
Мы выпили.
— Ты встречался с Крамли в последние восемь часов?
— С Крамли?
— Это видно по твоему лицу. Кто умер?
— Один человек двадцать лет назад, на студии «Максимус».
— Арбутнот! — воскликнула Констанция, осененная догадкой.
Тень пробежала по ее лицу. Она потянулась за халатом и завернулась в него, став вдруг совсем маленькой, как девочка, и, обернувшись, долго смотрела вдаль на кромку берега, словно это были не песок и волны, а сами годы.
— Арбутнот, — прошептала она. — Господи, как он был хорош! Какой талант. — Она помолчала. — Я рада, что он умер, — добавила она.
— Не совсем, — сказал я и осекся.
Потому что Констанция живо обернулась ко мне, словно от выстрела.
— Не может быть! — вскричала она.
— Нечто похожее на него. Кукла, прислоненная к стене, чтобы напугать меня, а теперь и ты меня пугаешь!
Слезы облегчения брызнули из ее глаз. Она ловила ртом воздух, будто ее ударили в живот.
— Чтоб тебя! Иди в дом, — приказала она. — Принеси водки.
Я принес водку и стакан. Я смотрел, как она, запрокинув голову, сделала два глотка. И внезапно понял, что больше никогда не буду пить, ибо устал видеть, как люди пьют, устал бояться наступления ночи.
Я не мог придумать, что сказать, поэтому подошел к краю бассейна, снял ботинки, носки, закатал брюки и сел, опустив ноги в воду и глядя вниз.
Наконец Констанция подошла ко мне и села рядом.
— Ты вернулась, — сказал я.
— Прости, — сказала она. — Старые воспоминания не так-то просто стереть.
— Ужасно трудно, — согласился я, в свою очередь устремляя взгляд на берег. — На этой неделе вся студия в панике. Почему все разбегаются, видя под дождем чучело, похожее на Арбутнота?
— Ах вот что случилось?
Я поведал ей остальное, все то, что я рассказывал Крамли, закончил случаем в «Браун-дерби» и прибавил, что теперь мне нужно появиться там вместе с ней. Когда я умолк, побледневшая Констанция осушила еще один стакан водки.
— Мне хотелось бы знать, чего я должен бояться! — сказал я. — Кто написал эту записку, чтобы я пришел на кладбище и представил фальшивого Арбутнота замершему в ожидании человечеству? Но я никому на студии не стал рассказывать об этой кукле, и тогда они, едва не обезумев от страха, нашли его и попытались спрятать. Неужели после стольких лет, прошедших с его кончины, память об Арбутноте так ужасна?
— Да. — Констанция положила дрожащую ладонь мне на запястье. — О да.
— И что же это? Шантаж? Кто-то пишет Мэнни Либеру и требует денег, иначе последуют другие записки, которые раскроют нечто из прошлого студии и жизни Арбутнота? Но что раскроют? Какой-нибудь старый ролик двадцатилетней давности, снятый в ночь гибели Арбутнота? Может, это пленка, где снят момент аварии, и, если ее показать, запылают Константинополь, Токио, Берлин и вся остальная натура?
— Да! — словно из глубины времен донесся голос Констанции. — А теперь уходи. Беги. Тебе никогда не снилось, как ночью приходит огромный черный двухтонный бульдог и пожирает тебя? Одному из моих друзей приснился такой сон. Большой черный бульдог сожрал его. Этого бульдога звали Вторая мировая война. Мой друг ушел навсегда. Я не хочу, чтобы и ты тоже ушел.
— Констанция, я не могу бросить это. Если Рой жив…
— Ты не знаешь наверняка.
— …я вытащу его из этой переделки и помогу вернуть работу. Это единственный правильный поступок, который я могу совершить. Я должен. Это несправедливо.
— Иди в море, побеседуй с акулами, будет больше пользы. Ты и впрямь хочешь вернуться на «Максимус» после всего, что рассказал мне сейчас? Господи! Знаешь, когда я была на студии в последний раз? После похорон Арбутнота.
Этими словами она пустила мой корабль ко дну. А потом вдогонку бросила якорь.
— Это был конец света. Я никогда не видела в одном месте столько больных и умирающих людей. Словно на моих глазах треснула и обрушилась статуя Свободы. Черт. Он был горой Рашмор[120] после землетрясения. В сорок раз величественнее, мощнее, значительнее, чем Гарри Кон,[121] Дэррил Занук,[122] Гарри Уорнер[123] и Ирвинг Талберг,[124] завернутые в один блин. Когда там, за стеной, захлопнулась крышка и гроб погрузился в могилу, трещины побежали по холму наверх, обрушив надпись Hollywoodland.[125] Это был Рузвельт, умерший задолго до своей кончины.
Констанция замолчала, услышав мое затрудненное дыхание.
Затем она сказала:
— Скажи, есть в моей голове хоть капля мозгов? Ты знал, что Шекспир и Сервантес умерли в один день? Представляешь! «Все красные леса мертвы, и гром небес не утихает. Слезами горя тают льды. Отверзлись вновь Христовы раны. И Бог молчит. Как призраки, шагают легионы, все с амазонками кровавыми в глазах». Я, шестнадцатилетняя зубрилка, написала это, когда узнала, что Джульетта и Дон Кихот умерли в один день, и проплакала тогда всю ночь. Ты единственный, кто слышал эти дурацкие строчки. Так вот, то же самое было, когда погиб Арбутнот. Мне снова было шестнадцать, и я не могла перестать плакать и писать всякую чепуху. Там были и луна, и планеты, и Санчо Панса, и Росинант, и Офелия. Половина женщин на его похоронах были его любовницами. Постельный фан-клуб, плюс племянницы, кузины и сумасшедшие тетушки. Проснувшись в тот день, мы увидели второе Джонстаунское наводнение.[126] Боже, я все еще плачу. Говорят, кресло Арбутнота по-прежнему стоит в его кабинете? Сидел ли в нем с тех пор кто-нибудь столь же толстозадый и столь же мозговитый?
Я вспомнил задницу Мэнни Либера. Констанция продолжала:
— Один бог знает, как студия выжила. Может, посредством спиритизма, получая советы от умершего. Не смейся. Это же Голливуд: тут читают астрологические прогнозы Лев-Дева-Телец, между дублями стараются не наступить на трещины. Студия? Сделай мне большую обзорную экскурсию. Дай старушке вдохнуть запах четырех ветров в пятидесяти пяти городах, посмотреть на безумцев, что теперь там работают, а потом поедем к метрдотелю в «Браун-дерби». Я переспала с ним однажды, девяносто лет назад. Вспомнит ли он старую ведьму с венецианского побережья, позволит ли нам посидеть за чашечкой чая с твоим чудовищем?
— А что ты ему скажешь?
Длинная волна набежала с моря и короткой волной с шуршанием разбилась о берег.
— Я скажу, — Констанция прикрыла глаза, — перестань пугать моего фантаста-динозавролюба, моего почетного внебрачного сына.
— Да уж, — сказал я, — пожалуйста.
34
Вначале был туман.
В шесть утра он, как Великая Китайская стена, надвигался на берег, на равнины и горы.
Во мне заговорили утренние голоса.
Я осторожно пробирался по гостиной Констанции, пытаясь нащупать где-то под слоновой грудой подушек свои очки, но потом оставил эту затею и на ощупь стал искать портативную пишущую машинку. Я сел и вслепую начал настукивать финал «Антипы и Мессии».
И этим финалом было чудо с рыбой.
И пришел Симон-Петр на берег, и встретил призрака у догорающего костра, и нашел рыбу, которую следовало раздать, возвещая при этом освобождение и вечное блаженство, и тихо стояли вкруг него ученики, и настал последний час прощания, и свершилось Вознесение, и произнесены прощальные слова, которые будут звучать еще две тысячи лет, и отзовутся на Марсе, и поплывут с космическими кораблями к Альфе Центавра.
И когда слова вышли из-под ленты пишущей машинки, я не мог даже разглядеть их, я приблизил их к своим увлажненным слепым глазам, а в это время Констанция вынырнула из волн, как еще одно чудо, облаченное в необыкновенную плоть, она склонилась над моим плечом и издала крик, в котором слышались печаль и радость, и затрясла меня, как щенка, радуясь моему успеху.
Я позвонил Фрицу.
— Где тебя носит, черт возьми?! — вскричал он.
— Заткнись, — мягко сказал я. И стал читать ему вслух.
И снова на углях костра жарилась рыба, и угли разлетались на ветру, и искры светлячками неслись над песком, и Христос говорил, и внимали Ему ученики, а когда рассвело, Его следы на песке исчезли, подобно ярким искрам, и Он ушел, а Его ученики разошлись во все концы земли, и теперь уже их следы были подхвачены ветрами, их следы исчезли с песка, и лишь тогда настал Новый День, и на этом закончился фильм.
На другом конце провода Фриц не проронил ни звука.
Наконец он прошептал:
— Ах… ты… сукин… сын.
А потом:
— Когда ты принесешь это?
— Через три часа.
— Приезжай через два, — прокричал Фриц, — и я тебя расцелую в четыре щеки. А пока выжму желчь из ливера Либера и найду урода Ирода!
Я повесил трубку, и тут же раздался звонок.
Звонил Крамли.
— Ну как, Бальзак, ты по-прежнему honore?[127] — спросил он. — Или, как большая рыба Хемингуэя, валяешься дохлый на причале, кости обглоданы добела?
— Крам, — вздохнул я.
— Я позвонил еще кое-куда. Положим, мы соберем всю информацию, которую ты ищешь, найдем Кларенса, узнаем, кто такой этот жуткий тип из «Браун-дерби»… но как мы свяжемся с твоим придурковатым дружком Роем — он ведь, похоже, в подержанной тоге нарезает круги по студии, — как мы дадим ему знать, что надо выметаться оттуда? Может, взять гигантский сачок для ловли бабочек?
— Крам, — произнес я.
— Ладно, ладно. У меня есть хорошая новость и есть плохая. Я пораскинул мозгами насчет этой папки, которую, как ты сказал, твой старина Кларенс выронил возле «Браун-дерби». Я позвонил в «Дерби» и сказал, что потерял папку. «Конечно, мистер Сопуит, — ответила девушка, — она здесь!»
Сопуит! Так вот, значит, фамилия Кларенса.
— «Я боялся, — сказал я, — что забыл положить в папку свой адрес».
— «Адрес здесь, — ответила девушка, — Бичвуд, тысяча семьсот восемьдесят восемь?» — «Да, — сказал я. — Я сейчас зайду и заберу ее».
— Крамли! Ты гений!
— Не совсем. Я звоню тебе из будки рядом с «Браун-дерби».
— Ну и что? — У меня екнуло сердце.
— Папки нет. Кому-то еще пришла в голову та же светлая идея. И этот кто-то меня опередил. Девушка описала мне его. Это не Кларенс, судя по твоим рассказам. Когда девушка попросила у него документ, подтверждающий личность, этот тип просто ушел вместе с папкой. Девушка, конечно, расстроилась, но ничего не попишешь.
— О господи! — проговорил я. — Значит, теперь они знают адрес Кларенса.
— Хочешь, чтобы я пошел к нему и все это рассказал?
— Нет-нет. У него будет сердечный приступ. Он боится меня, но я все-таки пойду. Предупрежу, чтобы он спрятался. Боже мой, что теперь будет? Бичвуд, тысяча семьсот восемьдесят восемь?
— Точно.
— Ты суперкрутой чувак, Крам.
— Всегда таким был, — ответил он, — всегда. Странно сказать, но час назад народ на вокзале Венис решил, что я снова взялся за старое. Коронер позвонил мне и сказал, что клиент долго не продержится. Пока я работаю, ты помогаешь. Кто еще на киностудии может знать то, что нас интересует? Я имею в виду человека, которому ты доверяешь? Кто-нибудь из старожилов студии?
— Ботуин, — не задумываясь, ответил я и недоуменно заморгал, сам удивившись своему ответу.
Мэгги со своей миниатюрной камерой, которая день за днем, год за годом, жужжа, запечатлевает события вокруг себя.
— Ботуин? — переспросил Крамли. — Спроси у нее. И все же, Бастер…
— Что?
— Береги свою задницу.
— Берегу.
Я повесил трубку и сказал:
— Раттиган?
— Я уже завела машину, — отозвалась она. — Ждет тебя на углу.
35
Уже под вечер мы как угорелые помчались на киностудию. Припрятав в своем родстере три бутылки шампанского, Констанция смачно ругалась на каждом перекрестке и снова мчалась, припав к рулю, как те собаки, что обожают ветер.
— Дорогу! — кричала она.
Мы с ревом неслись по середине бульвара Ларчмонт, прямо по разделительной полосе.
— Что ты творишь?! — прокричал я.
— Раньше по обеим сторонам этой улицы были трамвайные пути. А посередине — длинный ряд столбов с проводами. Гарольд Ллойд[128] катался туда и обратно, лавируя между столбами вот так!
Констанция резко свернула влево.
— И вот так, и так!
Мы объехали так полдюжины давно не существующих столбов-призраков, словно преследуемые трамваем-привидением.
— Раттиган, — позвал я.
Она взглянула на мое серьезное лицо.
— Бичвуд-авеню? — спросила она.
Было четыре часа. По улице, в северную сторону, шел последний почтальон. Я кивнул на него Констанции. Она затормозила прямо перед этим человеком, который устало тащился под все еще жарким солнцем. Он поприветствовал меня, как турист-попутчик, — вполне радушно, если принять во внимание весь тот почтовый хлам, который он выгружал у каждой двери.
Я всего лишь хотел проверить фамилию и адрес Кларенса, прежде чем постучаться к нему. Но почтальон болтал без умолку. Он рассказал, как Кларенс ходит, как он бегает, описал, как у него дрожат губы. Как нервно двигаются его уши. Его почти белые глаза.
Почтальон со смехом пихнул меня в локоть своей сумкой.
— Настоящий рождественский пирог десятилетней давности! Он подходит к своим дверям, завернутый в толстое верблюжье пальто, какое Адольф Менжу[129] носил в двадцать седьмом году. Мы, мальчишки, тогда бегали от слащавых сценок: забирались в верхние ряды, чтобы помочиться. Ну конечно. Старина Кларенс. Однажды я сказал ему «гав!», и он в испуге захлопнул дверь. Держу пари, он и в душе моется, не снимая пальто, боится увидеть себя голым. Пугливый Кларенс? Не стучите слишком громко…
Но меня уже и след простыл. Я быстро свернул на Вилла-Виста-Кортс и зашагал прямо к дому номер 1788.
Я не стал стучать в дверь, а поскреб ногтем по маленьким стеклышкам. Их было девять. Я не стал скрестись в каждое. Дверь с той стороны была зашторена, так что я не мог разглядеть, что делается внутри.
Поскольку ответа не было, я постучал пальцем чуть громче. Мне почудилось, будто я слышу, как гулко стучит сердце Кларенса там, за стеклом.
— Кларенс! — позвал я. Затем немного подождал. — Я знаю, что ты там!
И снова мне показалось, будто я слышу, как учащается его пульс.
— Позвони мне, черт побери, — закричал я наконец, — пока еще не поздно! Ты знаешь, кто я. Со студии, черт возьми! Кларенс, если я нашел тебя, значит, и они найдут!
Я забарабанил в дверь обоими кулаками. Одно из стекол треснуло.
— Кларенс! Твоя папка! Она была в «Браун-дерби»!
Это сработало. Я перестал барабанить, услышав звук, похожий то ли на блеяние, то ли на сдавленный крик. В замке зашуршало. Потом загремел второй замок, третий.
Наконец дверь приоткрылась, образовав щель, по размеру равную длине медной цепочки.
Затравленное лицо Кларенса глядело на меня из длинного туннеля лет, такое близкое и в то же время такое далекое, что мне даже показалось, будто я слышу эхо его голоса.
— Где? — умоляюще вопрошал он. — Где?
— В «Браун-дерби», — сказал я, устыдившись. — И кто-то ее украл.
— Украл? — Слезы брызнули из его глаз. — Мою папку?! О боже! — простонал он. — Это ты во всем виноват.
— Нет-нет, послушай…
— Если они попытаются сюда ворваться, я покончу с собой. Я им это не отдам!
Он обернулся и со слезами посмотрел на архивные полки, громоздившиеся, как я мог разглядеть, за его спиной, в книжных шкафах, и на стены, увешанные портретами с автографами.
«Мои чудовища, — произнес Рой на собственных похоронах. — Мои прекрасные, мои дорогие».
«Моя прелесть, — говорил Кларенс, — сердце мое, жизнь моя!»
— Я не хочу умирать, — плаксиво проговорил Кларенс и захлопнул дверь.
— Кларенс! — Я сделал последнюю попытку. — Кто они такие? Если бы я знал, я мог бы тебя спасти! Кларенс!
В глубине двора мелькнула чья-то тень.
В другом бунгало кто-то приоткрыл дверь.
Единственное, что я, измученный, мог сказать в тот момент, — это произнести полушепотом:
— Прощай…
Я вернулся к машине. Констанция сидела внутри и смотрела на Голливудские холмы, пытаясь насладиться чудесной погодой.
— Что все это значит? — спросила она.
— Один дурак — Кларенс. Другой — Рой. — Я повалился на сиденье рядом с ней. — Ладно, отвези меня на фабрику дураков.
Констанция нажала на педаль газа, и вскоре мы подлетели к воротам студии.
— Боже! — прошептала Констанция, поднимая глаза наверх. — Ненавижу больницы.
— Больницы?!
— Эти комнаты кишмя кишат недиагностированными случаями болезней. В этом заведении зачаты и рождены тысячи младенцев. Уютный домик, где бескровным делают переливание жадности. А этот герб над воротами? Стоящий на задних лапах лев со сломанной спиной. И еще слепой козел без яиц. А Соломон, перерубающий пополам живого ребенка? Добро пожаловать в покойницкую «Грин-Глейдс»!
От этих слов у меня по затылку пробежал ледяной холодок.
Мой пропуск открыл перед нами ворота. Никаких конфетти. Никакого духового оркестра.
— Надо было тебе сказать этому полицейскому, кто ты такая!
— Ты видел его лицо? Он же только родился в тот день, когда я удрала со студии в свой монастырь. Скажи «Раттиган», и — ничего, все затухло. Гляди!
Она указала на здание фильмофонда, когда мы проезжали мимо.
— Моя могила! Двадцать коробок в одном склепе! Фильмы, которые умерли в Пасадене, их привезли обратно с бирками на ноге. Вот так!
Мы затормозили посреди Гринтауна, штат Иллинойс.
Я взбежал на крыльцо и протянул руку Констанции.
— Дом моих бабушки с дедушкой. Добро пожаловать!
Констанция позволила мне провести ее вверх по ступеням и села на садовые качели, наслаждаясь их мерным движением.
— Господи, — вздохнула она. — Я столько лет не качалась на таких качелях! Сукин ты сын, — всхлипнула она, — что ты делаешь со старухой?
— Черт, не знал, что крокодилы тоже плачут.
Она пристально посмотрела на меня.
— Ты точно чокнутый. Неужели ты веришь во всю эту чепуху, о которой пишешь? Марс в две тысячи первом? Иллинойс в тысяча девятьсот двадцать восьмом?
— Ага.
— Боже. До чего же хорошо быть, как ты, чертовски наивным. Оставайся таким всегда. — Констанция взяла меня за руку. — Мы над тобой смеемся — проклятые, глупые вестники беды, циники, чудовища, — но ты нам нужен. Иначе Мерлин[130] умрет, или плотник, который чинит Круглый стол, увидит, что тот покосился от ветхости, а парень, что смазывает доспехи, заменит масло кошачьей мочой. Живи вечно. Обещаешь?
В доме зазвонил телефон.
Мы с Констанцией вскочили. Я помчался к трубке.
— Да? — Я сделал паузу. — Алло?!
Но оттуда доносился лишь звук ветра, дующего, казалось, где-то высоко-высоко. У меня по затылку, словно гусеница, пробежала волна мурашек.
— Рой?
В трубке завывал ветер, и где-то вдали поскрипывали стропила.
Мой взгляд инстинктивно обратился в небо.
В сотне ярдов отсюда я увидел… собор Парижской Богоматери. С его башнями-близнецами, статуями святых, горгульями.
На башнях соборов всегда гуляет ветер. Он вздымает тучи пыли, полощет красные флажки монтажных рабочих.
— Это внутренний телефон студии? — спросил я. — Ты там, где я думаю?
Мне почудилось, будто там, на самой вершине, одна из горгулий… пошевелилась.
«О Рой, — подумал я, — если это ты, забудь о мести. Уходи».
Но ветер стих, дыхание смолкло, и в трубке все умерло.
Я положил трубку и стал пристально вглядываться в башни собора. Констанция перехватила мой взгляд и отыскала глазами те же башни, с которых вновь налетевший порыв ветра срывал клубы пыли — серых дьяволов.
— Все, хватит заниматься ерундой!
Констанция не спеша вернулась на террасу и, подняв голову, посмотрела в сторону собора.
— Что, черт возьми, здесь все-таки происходит?! — воскликнула она.
— Тсс! — ответил я.
36
Фриц как раз был на съемках, посреди шумной массовки: он кричал, указывал, топал ногой, поднимая пыль. Из-под мышки у него торчала рукоятка кнута для верховой езды, но я ни разу не видел, чтобы Фриц им воспользовался. Камеры, три штуки, были уже практически готовы, и помрежи выстраивали статистов вдоль узкой улицы, ведущей на площадь, на которой вскоре, где-то между этим часом и рассветом, должен будет появиться Христос. Едва мы вошли, Фриц заметил нас среди всей этой суеты и махнул рукой своему секретарю. Тот подбежал к нам, и я протянул ему пять машинописных страниц, после чего секретарь помчался обратно сквозь толпу.
Я наблюдал, как Фриц листает мои бумаги, повернувшись ко мне спиной. Его голова вдруг втянулась в плечи. Прошло немало времени, прежде чем Фриц обернулся и, не встречаясь со мной взглядом, взял мегафон. Он закричал. И мгновенно воцарилась тишина.
— Всем молчать! Те, кто может сесть, — сядьте. Остальные встаньте — как вам удобно. До наступления завтрашнего дня Христос придет и уйдет. И вот как это будет нам представляться, когда мы закончим работу и вернемся домой. Слушайте.
И он стал читать страницы моего последнего эпизода, слово за словом, страница за страницей, тихим, но ясным голосом, и никто не отвернулся, никто не шаркнул ногой. Я не мог поверить, что все это происходит. Все это были мои слова о заре над морем, о чуде с рыбой, о странном бледном призраке Христа на берегу, о рыбе, разложенной на углях, что жаркими искрами разметались на ветру, об учениках, тихо слушающих, закрыв глаза, и о крови Спасителя, стекающей под шепот его прощальных слов из раненых запястий и каплями падающей на жаровню этой Тайной вечери, что была после Тайной вечери.
И вот Фриц Вонг дочитал последние слова.
Из толпы, из группы статистов, из римских фаланг донесся всего лишь тихий шепот, и в этой тишине Фриц наконец прошагал сквозь людскую толпу ко мне, уже почти ничего не видевшему от волнения.
Фриц с удивлением посмотрел на Констанцию, отрывисто кивнул ей, затем, немного помедлив, поднял руку, достал из своего глаза монокль, взял мою правую руку и вложил оптический прибор мне в ладонь, как награду, как медаль. Потом он сжал мою ладонь с моноклем в кулак.
— С сегодняшнего вечера, — тихо проговорил он, — ты будешь моими глазами.
Это был приказ, команда, благословение.
Затем он гордо удалился. Я стоял и смотрел ему вслед, сжимая в дрожащем кулаке его монокль. Выйдя на середину притихшей толпы, он схватил мегафон и прокричал:
— Так делайте же что-нибудь!
Больше он на меня не взглянул.
Констанция взяла меня под руку и увела.
37
По дороге в «Браун-дерби» Констанция, медленно ведя машину, посмотрела на полутемные улицы впереди и сказала:
— Господи, ты веришь во все на свете, да? Но как? Почему?
— Очень просто, — ответил я. — Я не делаю ничего, что я ненавижу, или то, во что не верю. Если бы ты предложила мне написать сценарий для фильма, скажем, о проституции или об алкоголизме, я не стал бы его писать. Я не стал бы платить проституткам, и пьяниц я тоже не понимаю. Я делаю то, что люблю делать. Сейчас, слава богу, это Христос в Галилее во время Его прощальной зари, Его следы на песке. Я закоренелый христианин, но когда я обнаружил эту сцену в Евангелии от Иоанна, или, вернее, когда Иисус открыл ее для меня, я был потрясен. Как я мог не написать об этом?
— М-да.
Констанция пристально смотрела на меня, так что мне даже пришлось наклонить голову и напомнить ей, показав на руль, что она ведет машину.
— Черт, Констанция, я не гоняюсь за деньгами. Если б ты предложила мне «Войну и мир», я бы отказался. Что, Толстой плох? Нет. Просто я его не понимаю. Это я убогий, не он. Но я, по крайней мере, знаю, что не могу сделать из него сценарий, потому что я в него не влюблен. Заказав мне сценарий, ты бы только потеряла деньги. Конец проповеди. А вот и «Браун-дерби»! — сказал я, когда мы плавно проехали мимо, так что нам пришлось возвращаться.
В этот вечер посетителей было мало. «Браун-дерби» почти пустовал, а в глубине зала не было никакой восточной ширмы.
— Черт! — пробормотал я.
Ибо мой блуждающий взгляд остановился на углублении слева. Там располагалась крохотная телефонная кабина, куда поступали звонки для резервирования столиков. Небольшая лампа для чтения горела на стойке, где, вероятно, всего несколько часов назад лежал альбом Кларенса с фотографиями.
Он лежал там и ждал, чтобы кто-то его украл, нашел адрес Кларенса и…
«Господи, — подумал я, — только не это!»
— Дитя мое, — сказала Констанция, — давай закажем тебе выпивку!
Метрдотель как раз выложил счет перед своими последними посетителями. Он увидел нас затылочным зрением и обернулся. Его лицо засветилось от удовольствия, когда он увидел Констанцию, но почти мгновенно потухло при виде меня. Как-никак, я был для него плохой новостью. Я был у ресторана в тот вечер, когда Кларенс заговорил с Человеком-чудовищем.
Метрдотель снова улыбнулся, бросился через весь зал, чтобы расстроить мои планы, и жадно расцеловал каждый пальчик на руке Констанции. Констанция откинула назад голову и рассмеялась.
— Не стоит, Рикардо. Я продала свои кольца много лет назад!
— Вы меня помните? — спросил он, потрясенный.
— Рикардо Лопес, известный также как Сэм Кан?
— Но кто же тогда Констанция Раттиган?
— Я сожгла свое свидетельство о рождении вместе со своими трусиками.
Констанция указала на меня:
— А это…
— Я знаю, знаю. — Лопес даже не взглянул на меня. Констанция снова рассмеялась, ибо он по-прежнему не выпускал ее руку.
— Вот Рикардо был раньше спасателем в бассейне на студии «Метро-Голдвин-Майер». Каждый день десятки девушек тонули там, чтобы он откачал их и вернул к жизни. Веди нас, Рикардо.
Нас усадили за столик. Я не мог оторвать глаз от дальней стены ресторана. Лопес поймал мой взгляд и злобно вкрутил штопор в пробку винной бутылки.
— Я был всего лишь зрителем, — сказал я тихо.
— Да-да, — пробормотал он, наливая Констанции вино на пробу. — Там был и второй придурок.
— Прекрасное вино, — сказала Констанция, сделав маленький глоток, — прекрасное, как ты.
Рикардо Лопес так и согнулся от смеха. Он едва сдержался, чтобы не расхохотаться.
— А кто такой этот второй придурок? — ввернула Констанция, пользуясь моментом.
— Да так, ерунда. — Лопес постарался вернуть себе прежнее выражение человека, страдающего несварением желудка. — Орали друг на друга, чуть не подрались. Мой лучший клиент и какой-то попрошайка с улицы.
«Ах вот как, — подумал я. — Бедный Кларенс, всю жизнь выпрашивавший себе хоть отсвет звездной славы».
— Твой лучший клиент, мой дорогой Рикардо? — переспросила Констанция, удивленно хлопая ресницами.
Рикардо метнул взгляд в глубину зала, где у стены стояла сложенная восточная ширма.
— Я разбит. Хотя из меня не так-то легко выжать слезы. Мы были так осторожны. В течение многих лет. Он всегда приходил поздно. Ждал на кухне, пока я не проверю, что здесь нет никого из его знакомых. Непростая задача, верно? В конце концов, я же не знаю всех его знакомых, а? И вот теперь из-за какой-то дурацкой ошибки, из-за какого-то случайного идиота, мой Великий Клиент, возможно, никогда больше не придет. Он найдет себе другой ресторан, который закрывается еще позже, где еще меньше народу.
— У этого Великого Клиента… — Констанция сунула в руки Рикардо еще один винный бокал и знаком показала, чтобы он сам налил себе, — у него есть имя?
— Нет. — Рикардо налил себе, хотя мой бокал по-прежнему оставался пустым. — И я никогда не спрашивал. Он приходил сюда много лет подряд, хотя бы раз в месяц, и платил наличными, заказывая лучшие блюда и лучшие вина. Но все это время мы обменивались с ним разве что тремя дюжинами слов за вечер.
Он молча читал меню, указывал, что ему хочется, и все это за ширмой. Потом он и его спутница разговаривали, пили и смеялись. То есть если с ним была спутница. Все это были странные спутницы. Одинокие…
— Слепые, — вставил я.
Лопес бросил на меня гневный взгляд.
— Может быть. Или даже хуже.
— Что может быть хуже?
Лопес посмотрел на свой бокал с вином и на свободный стул неподалеку.
— Садись, — предложила Констанция.
Лопес нервно огляделся вокруг в пустом ресторане. Наконец он сел, медленно отпил вина и кивнул.
— Больные, лучше сказать, — произнес он. — Его женщины. Странные. Печальные. Израненные? Да, с израненной душой, женщины, которые не умели смеяться. Но он смешил их. Так, словно для излечения от своей молчаливой, ужасной жизни ему приходилось веселить других, вызывать в них какую-то странную радость. Он доказывал, что жизнь — это шутка! Представляете? Доказать такое. А потом вслед за своим хохотом он выходил в ночь со своей дамой, слепой, немой или безумной, — все представляю себе, как те женщины радовались, — и они садились в такси или в лимузин. Причем лимузин арендовали каждый раз у другой компании, все оплачивалось наличными, никаких кредиток, никаких документов, — и уезжали в безмолвие. Я никогда не слышал, о чем они разговаривали. Если он выглянет и увидит меня ближе пятнадцати футов от ширмы — мне конец! Мои чаевые? Десять центов! В следующий раз стою в тридцати футах от ширмы. Мои чаевые? Две сотни долларов. Эх, ладно, выпьем за грусть.
Внезапный порыв ветра сотряс входные двери ресторана. Мы похолодели. Двери широко распахнулись, с шумом захлопнулись снова и замерли.
Спина Рикардо застыла неподвижно. Он перевел взгляд с двери на меня, словно это я был виноват в том, что в дверях не было никого, кроме ночного ветра.
— О черт, черт, черт побери, — сказал он негромко. — Он ушел навсегда.
— Человек-чудовище?
Рикардо удивленно уставился на меня.
— Вы так его называете? Что ж…
Констанция кивнула на мой бокал. Рикардо пожал плечами и плеснул мне немного вина.
— Что он за птица такая? Ты притащила его сюда, чтобы разрушить мою жизнь? До нынешней недели я был богат.
Констанция немедленно пошарила в своей сумочке, лежащей у нее на коленях. Ее рука, как мышка, скользнула через стул справа от нее и что-то положила. Рикардо ощупал предмет и отрицательно покачал головой.
— Ах нет, только не от вас, дорогая Констанция. Да, это он сделал меня богатым. Но однажды, много лет назад, вы сделали меня счастливейшим человеком на свете.
Констанция похлопала его ладонью по руке, а глаза ее засияли. Лопес поднялся и на пару минут зашел в кухню. Мы пили вино и ждали, глядя, как ветер распахивает входные двери и с тихим шепотом закрывает их в ночи. Вернувшись, Лопес окинул взглядом пустые столы и стулья, как будто они могли осудить его за плохие манеры, и сел. Он осторожно положил перед нами маленькую фотографию. Пока мы рассматривали ее, он допил свое вино.
— Это было снято на «Поляроид» в прошлом году. Один из наших глупых помощников захотел позабавить своих приятелей. Две фотографии, снятые с интервалом в три секунды. Они упали на пол. Человек-чудовище, как вы его называете, сломал камеру, порвал один снимок, думая, что он единственный, и ударил нашего официанта, которого я немедленно уволил. Мы предложили ужин за счет заведения и подарили последнюю бутылку нашего лучшего вина. Все улеглось. Позднее я нашел второй снимок под столом, куда он отлетел, когда Человек-чудовище с ревом полез в драку. Ну разве не горе?
Констанция была в слезах.
— Вот, значит, какой он?
— О боже, — произнес я, — да.
Рикардо кивнул:
— Мне часто хотелось спросить: «Сэр, зачем вы живете? Вам по ночам не снится, будто вы красивы? Кто ваша дама? Чем вы зарабатываете на жизнь, да и жизнь ли это?» Но ни разу не спросил. Я лишь неотрывно смотрел на его руки, подавал ему хлеб, наливал вино. Но бывали вечера, когда он заставлял меня посмотреть ему в лицо. Давая на чай, он всегда ждал, чтобы я поднял на него глаза. Тогда он улыбался улыбкой, похожей на бритвенный порез. Вы видали драки, когда один полоснет другого и плоть раскрывается, как красный рот? Его рот, рот несчастного монстра, благодарившего меня за вино, высоко поднимавшего деньги, чтобы я взглянул в его глаза. Загнанные на кровавую бойню лица, они мучительно пытались освободиться и тонули в море отчаяния.
Рикардо быстро заморгал и запихнул фотографию в карман.
Констанция еще долго смотрела на скатерть, туда, где недавно лежала фотография.
— Я пришла посмотреть, не узнаю ли я этого человека. Слава богу, нет. Но его голос? Может быть, в какой-нибудь другой вечер?..
Рикардо фыркнул:
— Нет-нет. Все кончено. Этот идиот, приставала, торчавший в тот вечер перед рестораном… Такая встреча бывает лишь раз за многие годы. Обычно в этот поздний час на улице пусто. Теперь, я уверен, он больше не придет. И я опять перееду в маленькую квартирку. Простите за такой эгоизм. Непросто расстаться с чаевыми в двести долларов.
Констанция шмыгнула носом, встала, схватила руку Лопеса и что-то в нее засунула.
— Никаких возражений! — заявила она. — Это был прекрасный год, тысяча девятьсот двадцать восьмой. Это времена, когда я платила за моего дорогого жиголо. Не надо! — сказала она, потому что он попытался сунуть ей деньги обратно. — Подлец!
Рикардо замотал головой и крепко прижал ее ладонь к своей щеке.
— Помнишь: Ла-Холья, море, чудесная погода?
— Бодисерфинг каждый день!
— О да, наши тела, теплый прибой.
Рикардо поцеловал каждый ее пальчик.
Констанция сказала:
— Вкус начинается с локтя!
Рикардо расхохотался. Констанция слегка ущипнула его за подбородок и убежала. Я открыл перед ней дверь и пропустил вперед.
Затем обернулся и посмотрел на нишу с маленькой лампой, стойкой и шкафом для документов.
Лопес увидел, куда я смотрю, и тоже поглядел в эту сторону.
Но папка с фотографиями Кларенса исчезла, пропала в ночи вместе с плохими парнями.
«Кто же теперь защитит Кларенса? — спрашивал я себя. — Кто спасет его от тьмы и будет хранить его жизнь до самого рассвета?
Я? Слабак, которого собственная кузина побеждала в драке?
Крамли? Смею ли я просить, чтобы он торчал всю ночь перед домом Кларенса? Пойти, что ли, крикнуть у дверей Кларенса: „Тебе конец! Беги!“»
Я не стал звонить Крамли. И не пошел кричать у крыльца Кларенса Сопуита. Я кивнул Рикардо Лопесу и вышел в ночь. Констанция стояла на улице и плакала.
— Черт, пошли отсюда, — сказала она.
Она размазала глаза не подходящим к случаю шелковым платочком.
— Проклятый Рикардо. Заставил меня почувствовать себя старухой. Да еще эта фотография несчастного, отчаявшегося человека.
— Да, это лицо, — произнес я и добавил: — Сопуит.
Ибо Констанция стояла на том самом месте, где несколько ночей назад стоял Кларенс Сопуит.
— Сопуит? — переспросила она.
38
Констанция вела машину, и ее голос резал воздух:
— Жизнь — как нижнее белье, ее надо менять дважды в день. Вечер закончился, я хочу его забыть.
Она стряхнула слезы с глаз и, скосив взгляд, проследила, как они дождем улетают прочь.
— Все, забыла, вот так просто. Так устроена моя память. Видишь, как легко?
— Нет.
— Помнишь кумушек с верхнего этажа того муравейника, где ты жил пару лет назад? Как после большой субботней попойки они швыряли с крыши новые платья, чтобы показать, какие они богатые, что им плевать, завтра они могут купить себе другое? Какая чудовищная ложь; платья летят в разные стороны, а они стоят — со своими жирными или тощими задами на крыше, в три часа ночи, и смотрят на этот сад из платьев, которые, словно шелковые лепестки, летят на ветру по пустырям и улицам. Помнишь?
— Да!
— Вот так и я. Я все выкидываю: сегодняшний вечер, «Браун-дерби», того беднягу вместе со всеми моими слезами — все вон.
— Сегодняшний вечер еще не закончился. Ты не можешь забыть это лицо. Ты узнала или не узнала Человека-чудовище?
— Боже мой! Мы с тобой на грани нашего первого серьезного боя в тяжелом весе. Берегись!
— Ты его узнала?
— Его невозможно узнать.
— У него остались глаза. Глаза не меняются.
— Берегись! — закричала она.
— Ладно, — проворчал я. — Умолкаю.
— Ну вот. — Слезы снова тонкими ручейками потекли из ее глаз. — Я опять тебя люблю.
Она улыбнулась овеянной ветром улыбкой, ее волосы сплетались и расплетались в потоке воздуха, обдувавшего нас холодной струей через ветровое стекло.
От этой улыбки все суставы в моем теле размякли. «Боже, — подумал я, — имея такие губы, такие зубы и такие огромные, якобы невинные глаза, она, наверное, всегда побеждала, каждый день, всю свою жизнь?»
— Ага! — засмеялась Констанция, прочитав мои мысли. — Смотри!
Она резко затормозила перед воротами киностудии и долго, пристально вглядывалась в них.
— О боже! — наконец произнесла она. — Это не больница. Сюда приходят умирать великие, гигантские идеи. Кладбище для безумцев.
— Кладбище за оградой, Констанция.
— Нет. Сначала ты умираешь здесь, а потом — там. Между ними… — Она обхватила руками голову, словно та могла улететь. — Безумие. Не ввязывайся в это, детка.
— Почему?
Констанция медленно поднялась и, встав за рулем, крикнула во всю глотку, обращаясь к еще не открытым воротам, наглухо запертым ночным окнам и ровным, бесстрастным стенам:
— Сначала они сводят тебя с ума! Потом, доведя до помешательства, начинают преследовать тебя за то, что ты без умолку болтаешь днем и впадаешь в истерику на закате. А с восходом луны превращаешься в беззубого оборотня… Когда ты доходишь до определенной стадии безумия, они выкидывают тебя вон и распространяют слухи, будто ты не умеешь мыслить здраво, не идешь на контакт и начисто лишен воображения. Твое имя печатают на туалетной бумаге и распространяют ее по всем студиям, чтобы великие могли распевать твои инициалы, поднимаясь на папский престол… А когда ты умрешь, они будут трясти тебя, чтобы разбудить, а потом убить еще раз. Затем они подвешивают твою тушку в Бэд-Роке, в О. К. Коррале или в Версале на десятой натурной площадке, маринуют тебя в банке, как фальшивый эмбрион из средненького киношного музея уродов, покупают тебе дешевый склепик за углом, вырезают на могиле твое имя, с ошибками, и проливают крокодиловы слезы. А потом наступает безвестность: никто не вспомнит твоего имени в титрах всех этих фильмов, сделанных тобой в лучшие годы жизни. Кто помнит авторов сценария «Ребекки»?[131] А «Унесенных ветром»?[132] Кто помог Орсону Уэллсу стать гражданином Кейном?[133] Спроси любого на улице. Черт, да они даже не знают, кто был президентом при администрации Гувера… И вот ты победитель. Через день после предварительного показа все забыто. Ты боишься уехать из дому между фильмами. Кто-нибудь слышал, чтобы писатель-сценарист когда-нибудь съездил в Париж, Рим или Лондон? Они же все до смерти боятся, что, если уехать, большие шишки забудут о них. Забудут, черт возьми, да они их никогда и не знали. Пригласите на работу этого, как его там. Пусть ко мне зайдет этот, как его бишь. А как же имя перед названием фильма? Продюсер? Само собой. Режиссер? Может быть. Помнится, «Десять заповедей»[134] — это Демилль, а не Моисей. А «Великий Гэтсби»[135] — Френсис Скотт Фицджеральд? Перекури это в мужской уборной. Занюхай своим изъязвленным носом. Хочешь, чтобы твое имя написали большими буквами? Убей любовника своей жены и упади с лестницы вместе с его трупом. Говорю тебе, все это мерцающие картинки на белом экране. Помни, ты всего лишь пробел между каждым щелчком проектора. Ты заметил шесты для прыжков у дальней стены киностудии? Это чтобы прыгунам в высоту было легче перелетать на ту сторону, в карьер. Психопаты нанимают их, а потом выгоняют, ведь таких пруд пруди. А они покупаются, потому что они любят кино, а мы нет. Это дает нам власть. Заставь их напиться, потом отбери бутылку, найми катафалк, позаимствуй лопату. Повторяю: «Максимус филмз» — это кладбище. О да, кладбище для безумцев.
Закончив свою речь, Констанция продолжала стоять, будто стена киностудии была океанской волной, готовой вот-вот обрушиться.
— Не ввязывайся в это дело, — прибавила она в завершение.
Раздались негромкие аплодисменты. Ночной полицейский за фигурной испанской решеткой улыбался и хлопал в ладоши.
— Я недолго буду ввязываться в это дело, Констанция, — сказал я. — Еще с месяцок, а потом поеду на юг заканчивать свой роман.
— Можно, я поеду с тобой? Поедем в Мехикали, в Калехико, к югу от Сан-Диего, почти до самого Эрмосильо, будем купаться нагишом при луне, ну да ладно, ты — в заношенных шортах…
— Неплохо бы. Но теперь только я и Пег, Констанция. Пег и я.
— Ладно, черт. Поцелуй меня.
Я помедлил, и тогда она влепила мне такой поцелуй, от которого зарделись бы все пуленепробиваемые кумушки из многоквартирного муравейника, а лед превратился бы в пламя.
Ворота медленно открылись.
И мы, как два безумных лунатика, заехали внутрь.
Когда мы подкатили к огромной площади, запруженной толпами солдат и торговцев, Фриц Вонг тут же в несколько прыжков подскочил к нам.
— Проклятье! Мы все уже готовы к съемкам твоей сцены. А этот пьяница, этот баптист-унитарий как сквозь землю провалился. Ты не знаешь, где этот сукин сын может прятаться?
— Ты звонил в церковь Эйми Сэмпл Макферсон?
— Она умерла!
— Или трясунам. Или универсалистам Мэнли Палмера Холла.[136] Или…
— Господи! — заорал Фриц. — Уже полночь! Везде все закрыто.
— А на Голгофе не смотрел? — спросил я. — Это же его путь.
— Голгофа! — разбушевался Фриц. — Проверьте Голгофу! Гефсиманский сад! — молил Фриц звезды. — Господи, за что мне эта чаша отравленного манишевича?[137] Кто-нибудь! Раздобудьте два миллиона цикад для завтрашнего нашествия саранчи!
Всевозможные помощники забегали во все стороны. Я тоже бросился было бежать, но Констанция схватила меня за локоть.
Мой блуждающий взгляд остановился на фасаде собора Парижской Богоматери.
Констанция увидела, куда я смотрю.
— Не ходи туда, — шепнула она.
— Отличное место для Христа.
— Там одни фасады и ничего сзади. Споткнешься обо что-нибудь и упадешь, как те камни, что горбун кидал в толпу.
— Это же кино, Констанция!
— А это, думаешь, все настоящее?
Констанция вздрогнула. Мне так захотелось увидеть прежнюю Раттиган, ту, что все время смеялась.
— Я только что видела кого-то там, на колокольной башне.
— Может, это Иисус, — предположил я. — Пока остальные обшаривают Голгофу, почему бы мне не заглянуть туда?
— Я думала, ты боишься высоты.
Я посмотрел на тени, перебегающие по фасаду собора.
— Дурачок. Ну, давай же. Заставь этого Иисуса спуститься, — прошептала Констанция, — пока он не превратился в горгулью. Спаси Иисуса.
— Я спасу его!
Отбежав на сто футов, я обернулся. Констанция уже грела руки у костра римских легионеров.
39
В нерешительности я слонялся вокруг собора. Мне было страшно — войти внутрь, а потом еще забраться наверх! Вдруг, в ужасном волнении, я обернулся и втянул носом воздух. Затем вдохнул поглубже и выдохнул.
— Не может быть. Запах ладана! И свечного дыма! Кто-то там есть… Иисус?
Я прошел внутрь и остановился.
Где-то высоко на опорах шевельнулась огромная тень.
Прищурившись, я стал всматриваться сквозь холстину, натянутую на рейки, сквозь листы клееной фанеры и тени горгулий в вышине, пытаясь разглядеть, что могло шевелиться там, во мраке собора.
«Кто зажег благовония? — думал я. — Как давно ветер задул свечи?»
С высоты осыпалась струйка мелкой пыли.
«Иисус? — думал я. — Если ты упадешь, кто же спасет Спасителя?»
Молчание было ответом на мое молчание.
И все же…
Трусливейшему из всех трусов на свете пришлось взбираться вверх по лестнице, ступенька за ступенькой, сквозь тьму, боясь, что в любой момент грянут исполинские колокола и столкнут меня в свободное падение. Я зажмурился и полез дальше.
Добравшись до верха, я долго стоял, прижимая руки к бешено стучавшему сердцу, горько сожалея о том, что залез сюда, и страстно желая оказаться внизу, где светло и где пиво льется рекой, в толпе римлян, чтобы носиться по аллеям и улыбаться на бегу Раттиган, заезжей королеве.
«Если я сейчас умру, — подумал я, — никто из них даже не услышит».
— Иисус! — тихо позвал я в темноту.
Молчание.
Я обошел вокруг длинного листа фанеры. Там, под звездным небом, где когда-то, полжизни назад, сидел уродливый звонарь, свесив ноги над ажурным фасадом собора, виднелась чья-то неясная тень.
Человек-чудовище.
Он глядел на город, на миллионы огней, разбросанных на четыреста квадратных миль вокруг.
«Как ты сюда попал? — удивлялся я. — Как тебе удалось пройти мимо охраны у ворот, или… о нет! — ты перелез через стену! Ну конечно! Лестница, приставленная к ограде кладбища!»
Мне послышался стук плотницкого молотка. Я услышал, как волокут чье-то тело. Хлопнула крышка сундука. Вспыхнула спичка. Загудел мусоросжигатель.
Вдох замер в моей груди. Чудовище обернулось и посмотрело на меня.
Я покачнулся и едва не сорвался с карниза. Но схватился за одну из горгулий.
Вдруг Человек-чудовище вскочил.
Его рука схватила мою.
Мгновение мы балансировали на карнизе собора. В его глазах я прочел страх передо мной. В моих глазах он прочел страх перед ним.
Затем, пораженный, он отдернул руку, словно обжегся. Он живо отпрянул назад, и мы, полусогнутые, остановились.
Я взглянул в это страшное лицо, в его встревоженные и навечно пойманные в капкан глаза, посмотрел на отверстую рану рта и подумал:
«Почему? Почему ты меня не отпустил? Не столкнул? Ведь это ты, тот человек с молотком, да? Тот, кто нашел и уничтожил страшную глиняную голову, сделанную Роем? Никто больше не мог дойти до такой ярости! Почему ты спас меня? Почему я еще жив?»
На эти вопросы не могло быть ответов. Снизу раздался грохот. Кто-то поднимался по лестнице.
Человек-чудовище испустил тяжкий, стонущий вздох:
— Нет!
И бросился бежать по высокому балкону. Его ноги бухали по расхлябанным доскам. Пыль клубами сыпалась вниз, во тьму собора.
На лестнице снова послышался шорох. Я хотел было кинуться вслед за чудовищем к дальней лестнице. Он обернулся ко мне, в последний раз. Его глаза! Что же? Что же было такого в его глазах?
Они были разные и в то же время одинаковые, испуганные и смиренные, то внимательные, то растерянные.
Его рука взметнулась вверх, во тьму. На мгновение мне показалось, что он вот-вот окликнет, закричит, заорет на меня. Но с губ сорвался лишь странный, приглушенный вздох. Затем я услышал его шаги, он сбегал по ступеням, — прочь из этого нереального мира к еще более жуткому, нереальному миру внизу.
Я, спотыкаясь, бросился в погоню. Мои ноги взметали гипсовую пыль. Она текла, как песок в гигантских песочных часах, оседающий далеко внизу, рядом с купелью. Доски под моими ногами затрещали и покачнулись. Ветер затрепетал размашистыми крылами, хлопая вокруг меня брезентовыми стенами собора, и вот я уже скачу вниз по лестнице и с каждым скачком сжимаю зубы, чтобы с моих губ не сорвались тревожный крик или проклятие. «Господи, — думал я, — мы с этим существом, на одной лестнице, убегаем от чего?»
Я взглянул наверх и увидел горгулий, едва различимых во тьме; я был один и думал, спускаясь во мраке: «А вдруг он поджидает меня там, внизу?»
Я похолодел. И посмотрел вниз.
«Если я упаду, — думал я, — буду лететь до пола целый год». Мне был известен только один святой. Его имя внезапно сорвалось с моих губ: «Крамли!»
«Держись крепче, — сказал Крамли откуда-то из далекого далека. — Сделай шесть глубоких вдохов».
Я втянул в себя воздух, но тот никак не хотел выходить обратно изо рта. Задыхаясь, я бросил взгляд на огни Лос-Анджелеса, рассыпавшиеся четырехсотмильным одеялом фонарей и автомобильных фар: такое множество людей, разных и красивых, и никого рядом, чтобы помочь мне спуститься вниз, в эти огни! Улицы, улицы, все в огнях!
Далеко-далеко, на краю света, мне почудилось, будто длинная темная волна набегает на неосязаемый берег.
«Бодисерфинг» — шепнула Констанция.
Это подействовало. Я перепрыгнул еще на ступеньку вниз и продолжал спускаться с закрытыми глазами, больше не заглядывая в пропасть, пока не достиг пола, и остановился. Я ждал, что Человек-чудовище, уже занесший руку для убийства, а не для спасения, схватит меня и прикончит.
Но чудовища не было. Лишь пустая купель, в чаше которой лежало с полпинты соборной пыли, потухшие свечи да брошенные палочки ладана.
Я в последний раз взглянул вверх, на незаконченный фасад собора Парижской Богоматери. Тот, кто взбирался по лестнице, был уже наверху.
Вдали, чуть ли не на другом конце континента, толпа носилась по Голгофским холмам, как команда на воскресном футбольном матче.
«Иисус, — подумал я, — если тебя здесь нет, то где же ты?»
40
Те, кого послали обыскать Голгофу, искали не слишком старательно. Они пришли и ушли, а гора лежала, пустынная, под звездами. Над нею носился ветер, разметая впереди себя пыль, овевая подножия трех крестов, которые, казалось, выросли здесь задолго до того, как вокруг них построили киностудию.
Я подбежал к кресту. На вершине ничего не было видно, ночь была темной. Лишь мерцающие отблески света маячили вдалеке, там, где правил Ирод Антипа, где бесновался Фриц Вонг и где римляне в огромном пивном облаке маршировали от здания гримерной до Судной площади.
Я дотронулся до креста, покачнулся и невнятно позвал:
— Иисус!
Тишина.
Я снова попытался позвать, мой голос дрожал.
Небольшой комочек перекати-поля с шуршанием пронесся мимо.
— Иисус! — едва не завопил я.
Наконец откуда-то с небес раздался голос.
— На этой улице, на этом холме, на этом кресте нет никого с таким именем, — печально прошептал голос.
— Кто бы ты ни был, черт возьми, спускайся!
Я пошарил в темноте, стараясь отыскать лестницу и пугаясь окружающей меня тьмы.
— Как ты туда забрался?
— Тут есть лестница, я не прибит гвоздями. Просто держусь за колышки, а под ногами небольшая ступенечка. Здесь так покойно. Иногда я вишу здесь по девять часов, замаливаю грехи.
— Иисус! — позвал я. — Я не могу тут стоять. Мне страшно! Что ты делаешь?
— Вспоминаю все сеновалы и куриные перья, в которых валялся, — ответил голос Иисуса с небес. — Видишь, перья падают, как снежные хлопья? Когда я уйду отсюда, то буду исповедоваться каждый день! Мне надо снять с себя груз десяти тысяч женщин. Я буду описывать точные размеры: задница столько-то дюймов, грудь, как стонала, что у нее между ног, — пока священник не ухватит себя за вспотевшие подмышки! Раз уж я не могу обвить руками ножку в шелковом чулочке, то хоть вызову у церковника такое сердцебиение, что он начнет рвать на себе воротничок-стоечку. Во всяком случае, вот он я, на кресте, вдали от кривой дорожки. Гляжу на ночь, а ночь глядит на меня.
— На меня она тоже глядит, Иисус. Меня пугают темные дорожки и собор, я только что оттуда.
— Не суйся туда, — произнес Иисус, неожиданно придя в ярость.
— Почему? Ты ведь смотрел сегодня ночью на его башни? Ты что-нибудь видел?
— Просто не суйся туда, и все. Опасно.
«Знаю», — подумал я про себя.
И вдруг, оглянувшись вокруг, спросил:
— А что еще ты видишь, Иисус, вися там днем и ночью?
Христос окинул быстрым взглядом тьму.
— Ну что можно увидеть в пустой студии, ночью? — тихо проговорил он.
— Мало ли чего!
— Да! — Христос повертел головой, глядя то на юг, то на север. — Мало ли!
— В ночь Хеллоуина, — бросил я наобум, — ты, случайно, не видел… — я указал кивком в сторону севера, на то место, в пятидесяти ярдах отсюда, — приставную лестницу на вершине вон той стены? И человека, пытающегося по ней забраться?
Христос внимательно посмотрел на стену.
— В ту ночь шел дождь. — Иисус обратил лицо к небу, вдыхая бурю. — Найдется ли такой дурак, который полезет туда в грозу?
— Ты.
— Нет, — сказал Иисус. — Я даже сейчас не здесь!
Он расставил руки в стороны, ухватился за перекладины креста, склонил голову и закрыл глаза.
— Иисус, — позвал я. — Они ждут тебя на седьмой площадке.
— Пусть себе ждут.
— Христос пришел вовремя, черт побери! Мир позвал Его. И Он пришел!
— Ты что, веришь во всю эту галиматью?
— Да!
И сам удивился, с какой горячностью я выкрикнул это «да», взлетевшее по его ногам к голове в терновом венце.
— Дурак.
— Нет, я не дурак!
Я попытался представить себе, что бы сказал Фриц, если бы был здесь, но здесь был только я, поэтому я сказал:
— Пришли мы, Иисус. Мы, несчастные, глупые человеческие существа. Но это не важно: мы пришли или Христос. Миру или Богу мы были нужны, чтобы увидеть мир и познать его. И мы пришли! Но мы запутались, забыли, какие мы невероятные существа, и не смогли сами себя простить за то, что натворили. И тогда, после нас, явился Христос, чтобы сказать слово, которое мы и так наверняка знали: прости. Смирись, такая у тебя работа. Пришествие Христа снова и снова повторяется в нас. И две тысячи лет мы все приходили и приходили, нас становилось все больше и больше, в основном искавших прощения для самих себя. Я бы окаменел навеки, если бы не мог простить себе все те глупости, которые натворил. Вот сейчас ты висишь на этом столбе и ненавидишь себя, ты распят на кресте, потому что ты — исполненный жалости к самому себе, упертый, тупой, актерствующий бездельник. А теперь слезай, черт возьми, пока я не забрался наверх и не укусил тебя за грязные лодыжки!
Раздался такой звук, будто стая тюленей залаяла в ночи. Иисус, запрокинув назад голову, вдыхал в себя воздух, заполняя легкие для хохота.
— Вот так речь! Как раз для труса!
— Не бойся меня, мистер! Берегись самого себя, Святой Иисус Христос!
Я почувствовал, как одинокая капля дождя упала на мою щеку.
Не может быть. Я дотронулся до щеки и лизнул свои пальцы. Соленые.
Иисус склонился вперед, заглядывая вниз.
— Боже! — Он был по-настоящему поражен. — Ты неравнодушен!
— Да, черт побери. И если уйду я, придет Фриц Вонг со своим хлыстом!
— Я не боюсь его прихода. Боюсь только твоего ухода.
— Тогда давай! Спускайся. Ради меня!
— Ради тебя?! — тихо воскликнул он.
— Ты так высоко. Что ты там видишь, на седьмой площадке?
— Кажется, огонь. Да.
— Это разложен костер, Иисус. — Я протянул руку и коснулся основания креста, взывая вверх, к фигуре, поднявшей голову. — И ночь уже на излете, и лодка пристает к берегу после того, как свершилось чудо с рыбой, и Симон-Петр идет по песку вместе с Фомой, Марком, Лукой и всеми остальными, туда, где на углях жарится рыба. Это…
— …Вечеря после Тайной вечери, — прошептал Иисус с высоты, глядя на осенние созвездия. Я видел над его плечом плечо Ориона. — Ты это сделал?!
Он взволнованно зашевелился. Я же спокойно продолжал:
— Я сделал больше! Теперь у меня есть настоящий финал, для тебя, финал, какой никто никогда не снимал. Вознесение.
— Это невозможно сделать, — пробормотал Иисус.
— Слушай.
И я сказал:
— Когда настает время ухода, Христос прикасается к каждому из учеников, а затем идет вдоль берега, удаляясь от камеры. Установите камеру прямо на песок, и будет казаться, что он взбирается по длинному пологому холму. И по мере того как поднимается солнце и Христос удаляется к горизонту, над песком витает горячее марево. Как на шоссе или в пустыне, где воздух растворяется в миражах, возникают и исчезают воображаемые города. Так вот, когда Христос почти добрался до вершины дюн, воздух колышется от зноя. Христос рассыпается на мельчайшие частицы. И вот его уже нет. Ветер заметает его следы на песке. Это твое второе Вознесение вслед за вечерей после Тайной вечери. Ученики плачут и расходятся по всем городам земли, чтобы возвестить о прощении греха. И когда начинается новый день, теперь уже их следы заметает рассветный ветер. КОНЕЦ.
Я замолчал, прислушиваясь к своему дыханию и стуку сердца.
Иисус тоже помолчал, а затем тихо, с изумлением, произнес:
— Я спускаюсь.
41
Впереди ярко светилась съемочная площадка, где нас ждали статисты, костер с жареной рыбой и Безумный Фриц.
В начале аллеи мы с Иисусом, подходя, заметили женщину. Подсвеченный силуэт, всего лишь темный абрис.
Увидев нас, она бросилась навстречу и остановилась, заметив Иисуса.
— Вот так дела, — сказал Иисус. — Это же Раттиган собственной персоной!
Констанция почти испуганно переводила взгляд с Иисуса на меня и обратно.
— Что мне теперь делать? — спросила она.
— Что?..
— Такая безумная ночь. Час назад я плакала над этой ужасной фотографией, а теперь… — она внимательно посмотрела на Иисуса, и из глаз у нее ручьями потекли слезы, — всю жизнь мечтала встретить тебя. И вот ты здесь.
Под тяжестью собственных слов она опустилась на колени.
— Благослови меня, Иисусе, — прошептала она.
Иисус отпрянул, словно вызывая мертвых из могил.
— Встань, женщина! — прокричал он.
— Благослови меня, Иисусе, — проговорила Констанция. И добавила почти про себя: — О господи, мне снова семь лет, я стою в белом платье для первого причастия, в Пасхальное воскресенье, и мир хорош, еще не успев стать дурным.
— Встань, юная леди, — сказал Иисус, уже тише.
Но она не шелохнулась и в ожидании закрыла глаза.
Ее губы беззвучно прошептали: «Благослови меня».
И вот Иисус простер руку, смиряясь против воли и кротко покоряясь, и положил ладонь на ее макушку. От этого легкого прикосновения слезы еще сильнее брызнули из ее глаз, а губы задрожали. Ее руки взлетели вверх, чтобы удержать, еще на миг продлить это прикосновение к ее голове.
— Дитя, — тихо проговорил Иисус, — я благословляю тебя.
И, глядя на коленопреклоненную Констанцию Раттиган, я подумал: «Вот она, ирония этого пропащего мира. Католическое чувство вины плюс актерская наигранность».
Констанция встала, не поднимая глаз, обернулась к свету и направилась к ожидавшему нас костру с ярко пылающими углями.
Нам оставалось только последовать за ней.
Собралась толпа — все статисты, уже появлявшиеся этим вечером в других сценах, плюс администрация киностудии и зеваки. Когда мы приблизились к ним, Констанция отошла в сторону с грацией человека, только что потерявшего сорок фунтов. «Сколько же еще она будет оставаться маленькой девочкой?» — подумал я.
Но тут на противоположной стороне съемочной площадки, по ту сторону ямы с углем, я увидел, как из темноты на свет выступили Мэнни Либер, Док Филипс и Грок. Взгляд каждого был так прикован ко мне, что я попятился назад, боясь заработать штрафное очко за то, что разыскал Мессию, спас Спасителя и урезал бюджет на ночь.
Взгляд Мэнни был полон сомнений и подозрения, в глазах доктора читалась откровенная злоба, а зрачки Грока туманились от паров хорошего бренди. Может, они пришли посмотреть, как Христос и я будем зажарены на вертеле? Так или иначе, когда Иисус твердым шагом направился к краю горящей ямы, Фриц, просветлев после недавнего припадка гнева, близоруко прищурился на него и крикнул:
— Наконец-то! А мы уж хотели отменить барбекю. Монокль!
Никто не пошевелился. Все начали оглядываться.
— Монокль! — повторил Фриц.
И тут до меня дошло: он просит одолжить ему оптическое стекло, которое несколько часов назад с такой щедростью вручил мне.
Я бросился вперед, сунул монокль в его протянутую ладонь и отскочил назад, а Фриц забил его в глаз, как патрон. Бросив испепеляющий взгляд на Иисуса, он гаркнул, выпустив из легких весь воздух:
— И это вы называете Христом? Он больше похож на Мафусаила. Наложите тональный крем беж номер тридцать три и заострите линию подбородка. Боже святый, пора делать перерыв на ужин. Чем больше просчетов, тем длиннее сроки. Как ты смеешь опаздывать? Кем, черт возьми, ты себя возомнил?
— Христом, — как и полагается, скромно ответил Иисус. — И вам не следует это забывать.
— Уведите его отсюда! В гримерную! Перерыв на ужин! Сбор через час! — прокричал Фриц и едва не швырнул монокль, мою медаль, мне в руки, а сам остался стоять, с горечью глядя на пылающие угли, словно собираясь прыгнуть в огонь.
И за всем этим по-прежнему наблюдала волчья стая по ту сторону костра: Мэнни, считающий потерянные доллары, ибо они, как снежинки в бурю, каждое мгновение падали и таяли; добрый доктор, нетерпеливо сжимающий в кулаке спрятанный в кармане скальпель; и гример Ленина со своей вечной улыбочкой Конрада Вейдта, прорезанной в его бледно-дынной тонкой плоти где-то над подбородком. Но теперь их взгляды были устремлены не на меня; их глаза, в которых читался страшный и неотвратимый приговор, были прикованы к Иисусу.
Словно бригада смерти, производящая бесконечный расстрел.
Иисус споткнулся и покачнулся, точно его ударили.
Помощники Грока из гримерной уже готовы были увести Иисуса, как вдруг…
Случилось нечто.
Послышалось тихое шипение, как будто одинокая капля дождя упала на раскаленные угли.
Мы все посмотрели вниз, затем подняли глаза…
На Иисуса, который стоял, вытянув руки над костром. Он внимательно, с огромным любопытством рассматривал свои запястья.
Из них сочилась кровь.
— О господи! — выговорила Констанция. — Сделайте же что-нибудь!
— Что такое? — крикнул Фриц.
— Снимайте сцену, — спокойно сказал Иисус.
— Нет, черт побери! — закричал Фриц. — Иоанн Креститель с отрубленной головой выглядел лучше, чем ты!
— Тогда… — Иисус кивнул туда, где, словно забавный Петрушка с темным рыцарем Апокалипсиса, стояли Станислав Грок с доктором Филипсом, — тогда… пусть они зашьют и перевяжут меня, пока мы не будем готовы.
— Как ты это делаешь? — Констанция удивленно разглядывала его запястья.
— Это приходит вместе с текстом.
— Иди-ка займись чем-нибудь полезным, — велел мне Иисус.
— И прихвати с собой эту женщину, — приказал Фриц. — Я ее не знаю!
— Да знаешь, — отозвалась Констанция, — Лагуна-Бич, четвертое июля тысяча девятьсот двадцать шестого года.
— Это было в другой стране, в другое время, — отрезал Фриц, хлопнув воображаемой дверью.
— Да. — Констанция помолчала. Все сразу как-то потухло. — Да, все так.
Док Филипс подошел к левой руке Христа; Грок подошел к правой.
Иисус даже не взглянул на них — он устремил немигающий взгляд на далекое облачко тумана в небесах.
Затем перевернул руки запястьями вверх и вытянул их вперед, чтобы Филипс с Гроком могли видеть, как его жизнь вытекает из свежих стигматов.
— Осторожнее, — сказал он.
Я вышел из света во тьму. За мной последовала маленькая девочка, на ходу превращаясь в женщину.
42
— Куда мы идем? — спросила Констанция.
— Лично я — в прошлое. И даже знаю, кто для этого будет отматывать пленку назад. А ты? Останься здесь. Кофе с пончиками. Садись. Я сейчас вернусь.
— Если не найдешь меня здесь, — сказала Констанция, усаживаясь за один из столиков, расставленных для статистов прямо на улице, и беря в руку пончик, — ищи в мужском спортзале.
И я ушел один во тьму. Почти не осталось мест, куда я мог бы пойти, мест для исследования. И теперь я направлялся в сторону единственного места на студии, где еще ни разу не бывал. Там время текло по-другому. Там скрывался кинопризрак Арбутнота, а может, и меня самого, мальчишки, слоняющегося в полдень по территории киностудии.
Я шел.
И вдруг пожалел, что оставил позади смех Констанции Раттиган.
Поздней ночью киностудия разговаривает сама с собой. Если вы пройдетесь по темным аллеям мимо зданий, где на верхних этажах до двух-трех утра шуршат, скрежещут, грохочут и болтают в перерывах монтажные залы, то услышите, как в небесах гремят колесницы и ветер дует над населенной призраками пустыней «Красавчика Жеста»,[138] услышите гул машин на Елисейских Полях вперемежку со звуками валторн и руганью, или грохот Ниагары, низвергающейся со студийных башен в подвалы фильмофонда, или Барни Олдфилда[139] в его последнем заезде, с ревом проносящегося на гоночном автомобиле вокруг Индианаполиса под крики безликой толпы, а потом, пройдя чуть подальше сквозь мрак, услышите, как кто-то спускает с цепи псов войны, услышите, как открываются раны Цезаря, словно розовые бутоны, сквозь разрезы в его плаще, услышите бульдожий лай Черчилля на радиоволнах и вой собаки Баскервилей над болотами, а ночной народ в этот волчий час продолжает работать, ибо треск мувиол, и трепещущее мерцание экранов, и любовь крупным планом им милее густой толпы дневного народа по ту сторону стен, оглушенного реальностью. Здесь, далеко за полночь, сталкиваются приглушенные голоса и заблудшие отрывки музыки, попавшие в облако времени между каменных стен и летящие из распахнутых в вышине дверей и окон, а на бледных потолках маячат тени редакторов монтажа, что колдуют над столами, создавая чудо. Лишь на рассвете затихают голоса, и музыка замирает, когда улыбчивые люди с ножами расходятся по домам, не желая встречаться с первыми обитателями обычного мира, приезжающими на работу к шести часам. Лишь на закате вновь раздадутся голоса, и музыка зазвучит ласково или мятежно, а трепещущий свет экранов-светлячков снова будет омывать лица смотрящих, воспламенять их взгляды и подталкивать руку с занесенными ножницами.
И среди этих зданий, звуков и музыки я бежал теперь по аллее, никем не преследуемый, глядя вверх на окна, где неистовствовал Гитлер, продвигаясь на восток, а ветер с запада доносил сквозь теплую ночь пение русских солдат.
Вдруг я остановился как вкопанный и посмотрел на… монтажную Мэгги Ботуин. Дверь была распахнута.
— Мэгги! — крикнул я.
Молчание.
Я стал подниматься по лестнице туда, где виднелся трепещущий огонек светлячка и слышался заикающийся стрекот мувиолы, а на высоком потолке мерцали тени.
Я долго стоял в темноте, вглядываясь в это единственное на всем белом свете место, где жизнь нарезают ломтями, собирают, а затем вновь разрывают на части. Место, где ты переделываешь и перекраиваешь жизнь, пока она не станет такой, как нужно. Вглядываясь в крохотный экран мувиолы, ты заводишь мотор и мчишься, неистово шлепая по волнам, а кинопленка струится по желобкам и канавкам, замирает, ставит метку и устремляется дальше. После того как ты полдня проведешь в подвальном мраке, всматриваясь в экран мувиолы, начинает казаться, что стоит выйти на улицу, и сама жизнь соберется вновь, отбросит свою глупую изменчивость и пообещает вести себя хорошо. Несколько часов работы с мувиолой пробуждают оптимизм, потому что ты можешь еще раз прокрутить свои глупости и отрезать им ноги. Но со временем возникает соблазн никогда больше не выходить на свет божий.
И вот теперь у дверей Мэгги Ботуин, чувствуя за спиной ожидающую меня прохладную пещеру ночи, я наблюдал, как эта удивительная женщина склонилась над своей машиной, словно швея, сшивающая лоскутное одеяло из пятен света и тени, и пленка струилась сквозь ее тонкие пальцы.
Я поскребся в дверь-ширму.
Мэгги оторвала взгляд от своего светящегося колодца, исполняющего желания, и, прищурившись, попыталась разглядеть сквозь сетку, кто пришел, а затем вскрикнула от радости.
— Черт меня побери! В первый раз за сорок лет сюда явился сценарист. Думаешь, проклятым идиотам любопытно, как я подстригаю им челочку или укорачиваю рукав? Погоди-ка!
Она открыла дверь и затащила меня внутрь. Я, как лунатик, подошел к мувиоле и удивленно заглянул в экран.
— Помнишь его? — устроила мне проверку Мэгги.
— Эрих фон Штрогейм,[140] — выпалил я. — Фильм снят здесь, в двадцать первом году. Утерян.
— А я его нашла!
— А на студии знают?
— Эти сукины дети? Нет! Они никогда не ценят то, что имеют!
— У тебя весь фильм?
— Ага! Когда помру, он отправится в Музей современного искусства. Смотри!
Мэгги Ботуин повернула один из проекторов, прикрепленных к мувиоле, и изображение перешло на стену. Фон Штрогейм с важным видом вертелся и расхаживал вдоль стен, обшитых дубовыми панелями.
Мэгги быстро промотала фон Штрогейма и приготовилась заправить следующий ролик.
Когда она отошла, я внезапно наклонился. И увидел маленькую, не похожую на другие зеленую коробку с кинопленкой, лежащую на рабочем столе среди пары дюжин других коробок.
На ней не было печатной этикетки, лишь чернильный рисунок маленького динозавра на крышке.
Мэгги поймала мой взгляд.
— Что?
— Давно у тебя эта пленка?
— Хочешь ее? Это проба, которую твой приятель Рой закинул мне три дня назад для проявки.
— Ты ее смотрела?
— А ты нет? Студийные дураки уволили его. Что это за история? Никому ничего не сказали. В этой коробке всего тридцать секунд. Но это лучшие полминуты, какие я когда-либо видела. Лучше «Дракулы» и «Франкенштейна». Впрочем, черт, что я об этом знаю?
Мое сердце учащенно билось, коробка в моей руке дрожала, когда я засовывал пленку в карман пальто.
— Симпатичный этот Рой. — Мэгги заправила в мувиолу новую пленку. — Дай мне щетку, и я почищу ему ботинки. Ладно. Хочешь посмотреть единственную нетронутую копию «Сломанных побегов»?[141] А купюры из «Цирка»?[142] Зарубленная цензурой часть «Приветствуйте опасность»[143] Гарольда Ллойда? Черт, да тут еще куча всего. Я…
Мэгги Ботуин замолчала, опьяненная воспоминаниями и моим неотрывным вниманием.
— Да, думаю, тебе можно доверять. — Она помолчала. — Ну что же это я, все болтаю да болтаю. Ты ведь не затем пришел сюда, чтобы слушать, как старая курица болтает про свои яйца сорокалетней давности. Как получилось, что ты единственный из сценаристов заглянул ко мне сюда, наверх?
«Арбутнот, Кларенс, Рой и чудовище», — подумал я про себя, но ничего не сказал.
— Ты что, язык проглотил? Ладно, подождем. Так о чем это я? Ах да!
Мэгги отодвинула дверь огромного стенного шкафа. Там на пяти полках было расставлено по меньшей мере сорок коробок с пленкой, и на ободке каждой выведено название фильма.
Мэгги сунула мне в руки одну из коробок. Я посмотрел на крупную надпись: «Юные безумцы».
— Нет, посмотри, что написано мелким печатным шрифтом на маленькой наклейке, на крышке, — посоветовала Мэгги.
— «Нетерпимость»![144]
— Моя собственная, непорезанная версия, — улыбнувшись, сказала Мэгги. — Я помогала Гриффиту. Много отличных кусков вырезали. Я, в одиночку, отпечатала то, что было выкинуто. Это единственная полная версия «Нетерпимости», дошедшая до нас! А вот еще кое-что!
Прыская от смеха, как девчонка на дне рождения, Мэгги быстро наклонилась и выложила «Сироток бури»[145] и «Лондон после полуночи».[146]
— Я ассистировала на съемках этих фильмов или просто подрабатывала. А по ночам печатала купюры из них просто для себя! Готов? Смотри!
Она бросила мне в руки коробку с надписью «Алчность».[147]
— Даже у Штрогейма нет этой двадцатичасовой версии!
— Почему другим монтажерам не приходит в голову то же самое?
— Потому что они юнцы желторотые, а я опытная, хоть и немного ку-ку, — торжествующе пропела Мэгги Ботуин. — В будущем году я отправлю все это в музей вместе с письмом о передаче. Киностудии предъявят мне иск, это точно. Зато и через сорок лет пленки будут в целости.
Я сидел в темноте и в ошеломлении смотрел, как передо мной мелькали ролик за роликом.
— Боже, — не переставая повторял я, — как тебе удалось перехитрить этих сукиных детей?
— Легко! — ответила Мэгги с жесткой откровенностью, как генерал, предпочитающий говорить правду своим солдатам. — Они давят на режиссеров, на сценаристов, на всех. Но им нужен хотя бы один человек чтобы подтирать за ними, когда они обмочили всех, кто ниже. Поэтому они никогда не трогали меня, хотя всех остальных кроили по живому. Просто они думали, что достаточно любить. И, Бог свидетель, они действительно любили. Майер, братья Уорнеры, Голдфиш-Голдвин[148] ели и спали с мыслями о кино. Но этого было недостаточно. Я убеждала их, спорила, боролась, хлопала дверью. Они бегали за мной, зная, что я люблю кино больше, чем они сами. Я проиграла столько же битв, сколько и выиграла, поэтому и решила победить их всех. Один за другим я спасала утраченные эпизоды. Не все. Большинству фильмов следовало бы присуждать премии кошачьего туалета. Но пять-шесть раз в год то сценарист напишет что-нибудь эдакое, то Любич[149] приложит руку, и я это прятала. Так что за все эти годы я…
— Сохранила шедевры!
Мэгги засмеялась.
— Не преувеличивай. Просто достойные фильмы. Некоторые забавные, некоторые слезливые. И сегодня они все здесь. Вокруг тебя, — спокойно произнесла Мэгги.
Я впитывал в себя их присутствие, вдыхал их «призраки», и комок стоял у меня в горле.
— Запускай мувиолу, — сказал я. — Домой я сегодня не пойду.
— О'кей. — Мэгги раздвинула еще несколько дверец над своей головой. — Ты голоден? Ешь!
Я взглянул и увидел:
«Марш времени»,[150] 21 июня 1933 г.
«Марш времени», 20 июня 1930 г.
«Марш времени», 4 июля 1930 г.
— Не может быть, — произнес я.
Мэгги замерла на полпути.
— В тридцатом году не было еще никакого «Марша времени», — сказал я.
— Прямо в яблочко! А ты, парень, знаток!
— Значит, эти катушки не «Марш времени», — продолжал я. — Это просто прикрытие. Но для чего?
— Мое собственное домашнее кино, снятое восьмимиллиметровой камерой, переведенное в тридцатипятимиллиметровый формат и спрятанное под надписью «Марш времени».
Я сдерживался, чтобы не броситься скорее к этим коробкам.
— Значит, у тебя тут запечатлена вся история киностудии?
— Назови любой год: двадцать третий, двадцать седьмой, тридцатый! Френсис Скотт Фицджеральд пьяный в столовке. Бернард Шоу в тот день, когда он захватил студию. Лон Чейни в гримерной, в тот день, когда он показал братьям Уэстмор,[151] как надо менять лица! А месяц спустя он умер. Удивительный, теплый человек. Уильям Фолкнер, пьяница, но благовоспитанный и грустный сценарист, бедняжка. Старые фильмы. Старая история. Выбирай!
Мой блуждающий взгляд наконец остановился. Я услышал, как воздух с шумом вырвался из моих ноздрей.
15 октября 1934 года. За две недели до того, как погиб глава студии Арбутнот.
— Вот этот.
Мэгги поколебалась в нерешительности, сняла фильм с полки, заправила пленку в мувиолу и включила аппарат.
Перед нами появились входные двери студии «Максимус филмз» октябрьским днем 1934 года. Они были закрыты, но за стеклом виднелись какие-то тени. А затем двери открылись, и из них вышли два или три человека. Посередине — высокий, крепкий мужчина, который смеялся, прищурив глаза, запрокинув лицо к небесам, так что его плечи содрогались от этого веселого хохота. Глаза его превратились в узкие щелочки, так он был счастлив. Он дышал полной грудью, едва ли не последний раз в жизни.
— Ты его знаешь? — спросила Мэгги.
Я заглянул в тесную, полутемную-полуосвещенную пещерку экрана.
— Арбутнот.
Я прикоснулся к стеклу, словно это был магический кристалл, в котором читалось не будущее, а лишь потускневшие краски прошлого.
— Арбутнот. Он умер в тот месяц, когда ты снимала этот фильм.
Мэгги отмотала пленку назад и запустила снова. Трое людей опять, смеясь, вышли из дверей, и в конце концов Арбутнот начал гримасничать перед камерой, в тот невероятно счастливый и давно позабытый полдень.
Мэгги заметила что-то в моем лице.
— Ну что такое? Выкладывай.
— Я видел его на этой неделе, — сказал я.
— Глупости. Ты что, накурился веселящих сигар?
Мэгги прокрутила еще три кадра. Арбутнот поднял голову выше, обратив лицо к обещающим дождь небесам.
А вот Арбутнот зовет кого-то и машет ему за кадром.
Я решил рискнуть.
— В ночь Хеллоуина на кладбище было чучело из папье-маше, на проволочном каркасе, с лицом Арбутнота.
«Дюзенберг» Арбутнота стоял у края тротуара. Босс пожал руки Мэнни и Грока, посулив им счастливые годы. Мэгги больше не глядела на меня, она смотрела только на скачущие, словно через веревочку, черно-белые картинки.
— Ничему не верь в ночь Хеллоуина.
— Его видели еще несколько людей. Некоторые в ужасе убежали. Мэнни и остальные много дней ходили по минному полю.
— Опять глупости, — фыркнула Мэгги. — Что еще новенького? Ты ведь заметил: я пропадаю в просмотровом зале или здесь, где воздух настолько разрежен, что, если подняться сюда, кровь пойдет носом. Вот почему мне нравится полоумный Фриц. Он снимает до полуночи, я монтирую до рассвета. Потом мы впадаем в спячку. Наша ежедневная зимовка заканчивается в пять, мы встаем, сверяя часы по закату. Раз или два в неделю, как ты тоже уже заметил, мы совершаем паломничество в столовую, чтобы за обедом доказать Мэнни Либеру, что мы еще живы.
— А он действительно руководит студией?
— А кто же еще?
— Не знаю. Просто у меня возникло странное впечатление от его кабинета. Мебель выглядит совершенно нетронутой. Стол всегда чистый. Посреди стоит большой белый телефон, а возле стола — кресло, которое в два раза шире, чем зад Мэнни. В нем он смотрелся бы как Чарли Маккарти.[152]
— Он ведет себя как наемный помощник, верно? Полагаю, все дело в телефоне. Все думают, что фильмы делаются в Голливуде. А вот и нет. Этот телефон связан прямой линией с Нью-Йорком и тамошними пауками. Их паутина протянулась через всю страну, а здесь в нее попадаются мухи. Пауки никогда не приезжают на Запад. Боятся показать нам, какие они ничтожества, вроде Адольфа Цукора.[153]
— Проблема в том, — сказал я, — что я сам был там, на кладбище, под дождем, у подножия лестницы, на которой висел этот манекен или чучело, не важно.
Рука Мэгги Ботуин, крутившая ручку мувиолы, дрогнула. Арбутнот как-то слишком быстро помахал людям на другой стороне улицы. Камера последовала за его рукой, и в кадре появились существа из иного мира — толпа нечесаных собирателей автографов. Камера медленно прошла по их лицам.
— Подожди-ка минутку! — вскричал я. — Вот!
Мэгги прокрутила еще пару кадров, чтобы приблизить изображение тринадцатилетнего мальчишки на роликовых коньках.
Я прикоснулся к этой картинке с какой-то странной нежностью.
— Неужели это ты? Не может быть, — сказала Мэгги.
— Я, собственной своей глупой персоной.
Мэгги Ботуин перевела взгляд на меня, посмотрела с мгновение, а затем снова перенеслась туда, на двадцать лет назад, в октябрьский день, влажный от близкого дождя.
На картинке был оболтус из оболтусов, тупица из тупиц, самый сумасшедший из всех безумцев, вечно теряющий равновесие на своих роликах, падающий при столкновении с любым транспортом, включая идущих по тротуару женщин.
Мэгги отмотала немного назад. И вновь Арбутнот махал мне, стоящему за кадром, в один из осенних дней.
— Арбутнот, — тихо проговорила она, — и ты… почти вместе?
— Тот человек на лестнице под дождем? О да.
Мэгги вздохнула и продолжила крутить. Арбутнот сел в машину и укатил навстречу той страшной аварии, которая случится всего через несколько коротких недель.
Я смотрел на удаляющуюся машину, как, наверное, смотрел в тот далекий год мой младший двойник, стоявший на противоположной стороне улицы.
— Повторяй за мной, — тихо сказала Мэгги Ботуин. — Никто не стоял на лестнице, не было никакого дождя, и ты никогда там не был.
— …никогда там не был, — пробормотал я.
Мэгги прищурила глаза:
— А что это за смешной придурок рядом с тобой, в широком верблюжьем пальто, со всклокоченными волосами и огромным фотоальбомом?
— Кларенс, — сказал я и добавил: — Интересно, жив ли он еще сейчас, в эту минуту?
Раздался телефонный звонок.
Это звонил Фриц, он был на грани истерики.
— Быстро беги сюда. Стигматы у Христа все еще открыты. Нам надо заканчивать, пока он не истек кровью!
Мы помчались на съемочную площадку.
Иисус ждал, стоя у края длинной ямы с горящими углями. Увидев меня, он прикрыл свои красивые глаза, улыбнулся и показал мне запястья.
— Кровь совсем как настоящая! — воскликнула Мэгги.
— Еще бы, — сказал я.
Грок взял на себя работу по наложению грима на лицо Мессии. Христос стал выглядеть на тридцать лет моложе, когда Грок нанес на его закрытые глаза последний слой пудры и отступил с победной улыбкой, любуясь на свое творение.
Я посмотрел в лицо Христа, ясное в свете тлеющего костра, между тем как на его ладони с запястий медленно стекал густой, темный сироп. «Безумие! — думал я. — Он умрет посреди эпизода!»
Но ради того, чтобы не выйти из бюджета, — почему бы нет? Толпа снова собиралась, Док Филипс подскочил проверить, льется ли еще святая кровь, и кивнул Мэнни: «Да». В этих святых конечностях еще теплилась жизнь, кое-какие соки еще оставались: «Начинаем!»
— Готовы? — крикнул Фриц.
Грок отступил назад, в марево, поднимавшееся от углей, и встал между двумя статистками в нарядах девственных весталок.
Доктор был похож на волка, поднявшегося на задние лапы: его язык был между зубов, а глаза метались и рыскали по сторонам.
«Док? — думал я. — Или Грок? Неужели это они — истинные руководители студии? Неужели это они сидят в кресле Мэнни?»
Мэнни неподвижно смотрел на костер, страстно желая пройти по углям и доказать, что он Царь.
Иисус стоял среди нас такой одинокий, погруженный в самую глубь себя, его лицо было таким трогательно бледным, что у меня разрывалось сердце. Его тонкие губы шевелились, затверживая прекрасные слова, которые поведал мне Иоанн, чтобы я передал их Иисусу и он проповедовал их сегодня ночью.
И перед тем как заговорить, Иисус поднял глаза, и его взгляд, устремленный сквозь студийные города, скользнул вверх вдоль фасада собора Парижской Богоматери и остановился на самой вершине его башен. Я всмотрелся в них вслед за ним, а затем быстро огляделся вокруг и увидел:
Грок застыл на месте, неотрывно глядя на собор. Док Филипс тоже. А стоявший между ними Мэнни сперва переводил взгляд с одного на другого, затем посмотрел на Иисуса и наконец взглянул туда, куда смотрели остальные: на горгулий…
Но никакого движения там не было.
Или Иисус все же заметил какое-то тайное шевеление, условный сигнал?
Иисус что-то видел. Остальные это заметили. Я же разглядел лишь свет и тени на фальшивом мраморном фасаде.
Может быть, Человек-чудовище все еще там? Может, он увидел оттуда яму с горящими углями? Услышал слова Христа и ему захотелось подойти, поговорить о ненастьях прошлой недели и успокоить наши сердца?
— Тишина! — крикнул Фриц.
Наступила тишина.
— Мотор, — прошептал Фриц.
И вот наконец в полшестого утра, через несколько минут, прямо перед рассветом, мы сняли Последнюю Тайную вечерю после Тайной вечери.
43
Раздули затухавшие угли, уложили на них свежую рыбу, и с первым лучом света, показавшегося к востоку от Лос-Анджелеса, Иисус медленно открыл глаза, и в его взгляде было сострадание, способное утолить пыл и обожателей, и предателей и дать им поддержку, а он, скрыв свои раны, пошел вдоль берега, что будет снят через несколько дней в другой части Калифорнии; и встало солнце, и сцена была завершена безупречно, и у каждого на съемочной площадке увлажнились глаза, и долго еще стояла тишина, пока Иисус наконец не обернулся и не прокричал со слезами:
— Кто-нибудь крикнет наконец «снято»?!
— Снято, — тихо сказал Фриц.
— Ты только что нажил себе врага, — шепнула Мэгги у меня за спиной.
Я посмотрел на ту сторону съемочной площадки. Мэнни Либер сверлил меня огненным взглядом. Затем резко развернулся и гордо пошел прочь.
— Берегись, — предупредила Мэгги. — Ты совершил три ошибки за два дня. Заставил взять обратно Иуду. Нашел решение для концовки фильма. Нашел Иисуса и привел его обратно на съемочную площадку. Такое не прощают.
— Боже мой! — вздохнул я.
Иисус зашагал прочь сквозь толпу статистов, не дожидаясь похвал. Я догнал его.
«Ты куда?» — мысленно спросил я.
«Отдохну немного», — так же молча ответил он.
Я посмотрел на его запястья. Кровотечение прекратилось.
Когда мы дошли до пересечения аллей киностудии, Иисус взял меня за руки и долгим взглядом посмотрел на натурные площадки вдали.
— Сынок…
— Что?
— Помнишь, мы говорили? Дождь? И человек на приставной лестнице?
— Конечно помню!
— Я его видел, — сказал Иисус.
— Боже мой, Иисус! Но как он выглядел? Как…
— Тсс! — добавил он, прикладывая палец к своим безмятежным губам.
И вернулся на Голгофу.
С рассветом Констанция отвезла меня домой.
Похоже, на улице не было никаких подозрительных машин, и шпионы меня в них не поджидали.
Перед дверью Констанция набросилась на меня и стиснула в объятиях.
— Констанция! Соседи!
— Что нам соседи, мой милый! — Она поцеловала меня так крепко, что у меня остановились часы. — Спорим, твоя жена не умеет так целоваться!
— Если б умела, я бы умер еще полгода назад!
— Держи себя в руках, когда я хлопну дверью!
Я собрался и взял себя в руки. Она хлопнула дверью и уехала. Почти тут же меня наполнило чувство одиночества. Словно Рождество ушло от меня навсегда.
Лежа в постели, я подумал: «Иисус, черт тебя подери! Почему ты не мог сказать мне больше?»
А потом:
«Кларенс! Дождись меня! Я приду! Еще одна, последняя, попытка!»
44
В полдень я отправился на Бичвуд-авеню.
Кларенс меня не дождался.
Я понял это, когда толкнул полуоткрытую дверь его квартиры. Кружилась метель из обрывков бумаг, измятые книги и изрезанные фотографии валялись прямо у двери: точь-в-точь бойня в павильоне 13, где повсюду лежали разбитые и растоптанные динозавры Роя.
— Кларенс?
Я распахнул дверь пошире.
Это был настоящий кошмар геолога.
На полу лежал футовый слой писем и записок с автографами Роберта Тейлора,[154] Бесси Лав[155] и Энн Хардинг:[156] середина тридцатых, начало тридцатых… И это был лишь верхний слой.
Под ним глянцевитым одеялом рассыпались тысячи фотографий, сделанных Кларенсом, моментальных снимков Эла Джолсона,[157] Джона Гарфилда,[158] Лоуэлла Шермана[159] и мадам Шуман-Хайнк.[160] Десять тысяч лиц смотрели на меня. Большинства из этих людей уже не было в живых.
Под многочисленными слоями лежали книги автографов, истории фильмов, афиши более сотни картин, начиная с Бронко Билли Андерсона[161] и Чаплина, перескакивая через те годы, когда букетик лилий, известных под именем сестер Гиш,[162] являл на экране их бледные лица, которые заставляли обливаться слезами иммигрантские сердца. И наконец, под «Кинг-Конгом», «Затерянным миром», «Смейся, паяц!»[163] и прочими гигантскими пауками, танцовщицами на пуантах и затерянными городами я увидел…
Ботинок.
Ботинок был надет на ступню. Ступня, вывернутая неестественным образом, соединялась со щиколоткой. Щиколотка продолжалась лодыжкой. И так далее, пока я, скользя взглядом вдоль тела, не увидел лица, искаженного предсмертной истерикой. Кларенс лежал, зажатый между сотен тысяч росчерков, тонущий в потоках старых афиш и иллюстрированных страстей, способных раздавить его, смыть бесследно, не будь он уже мертв.
Судя по его виду, он мог умереть от сердечного приступа, от простой встречи со смертью. Его глаза были широко распахнуты, как от фотовспышки, рот застыл в крике: «Что вы делаете с моим галстуком, с моим горлом, с моим сердцем?! Кто вы такие?»
Я где-то читал, что в момент смерти на глазной сетчатке жертвы остается образ убийцы. Если снять эту сетчатку и погрузить в эмульсию, лицо убийцы всплывет из тьмы.
Безумные глаза Кларенса так и умоляли: «Снимите сетчатку!» В каждом глазу застыло лицо убийцы.
Я стоял в этом половодье хлама и с удивлением смотрел вокруг. Это уж слишком! Каждая папка разворочена, сотни снимков измяты. Афиши сорваны со стен, книжные шкафы вывернуты. Карманы Кларенса торчали наизнанку. Ни один грабитель никогда так не бесчинствовал.
Кларенс, который боялся попасть под колеса, стоял у светофора, пока все машины не остановятся, и только потом перебегал улицу, бережно неся своих истинных друзей, свои драгоценные альбомы, наполненные любимыми лицами.
Кларенс.
Я огляделся, отчаянно надеясь найти хоть какую-нибудь зацепку для Крамли.
Ящики письменного стола были выдвинуты наружу, а их содержимое высыпано.
На стенах осталось лишь несколько фотографий. Мои глаза, бесцельно блуждая, остановились на одной из них.
Иисус Христос в сцене на Голгофе.
На фотографии была подпись: «Кларенсу. От единственного на свете Иисуса с пожеланием МИРА».
Я выдрал фотографию из рамки и засунул в карман.
С бешено стучащим сердцем я уже повернулся, чтобы бежать отсюда, как вдруг увидел еще один, последний, предмет. И прихватил его.
Спичечный коробок с эмблемой «Браун-дерби».
Что еще?
«Я, — произнес уже остывший труп Кларенса. — Помоги мне».
«О Кларенс, — подумал я, — если б я только мог!»
Мое сердце колотилось в груди. Боясь, как бы меня не услышали, я вышел из квартиры.
И побежал прочь от этого дома.
«Стой! — сказал я себе и остановился. — Если тебя увидят бегущим, значит, преступник ты! Иди медленно, спокойно. Как будто тебе плохо». Я попытался, но выдавил из себя лишь рвотный позыв и старые воспоминания.
Взрыв в 1929-м.
Рядом с моим домом из искореженной машины вышвырнуло человека, и он истошно кричал: «Я не хочу умирать!»
А я стоял на крыльце со своей тетей, зарывшись головой в ее грудь, чтобы не слышать этого.
Или когда мне было пятнадцать. Машина, врезавшаяся в телефонный столб, люди, расплющенные о стены, пожарные гидранты, головоломка из растерзанных тел и разбросанных кусков плоти…
Или…
Останки сгоревшей машины с обуглившимся силуэтом, гротескно выпрямившимся за рулем, невозмутимым под своей обезображенной черно-угольной маской, а руки, сморщенные, как сушеные фиги, оплавились на рулевом колесе…
Или…
Вдруг я почувствовал, что задыхаюсь среди этих книг, фотографий и открыток с автографами.
Я, как слепой, наткнулся на какую-то стену и ощупью пошел вдоль нее по пустынной улице, благодаря Бога за то, что вокруг ни души. Наконец я нашел то, что показалось мне телефонной будкой, и две минуты обшаривал карманы в поисках пятицентовика, который все это время лежал в одном из них. Я сунул монету в прорезь и набрал номер.
Как раз в тот момент, когда я набирал номер Крамли, появились те самые люди с метлами. Они приехали на двух фургонах, принадлежащих киностудии, и старом потрепанном «линкольне» и промчались мимо меня в сторону Бичвуд-авеню. Они повернули за угол, к дому Кларенса. От одного их вида я весь сжался, сложился, как гармошка, в своей будке. Человек, сидевший в потрепанном «линкольне», смахивал на Дока Филипса, но я так хотел получше спрятаться, приседая, что не разглядел.
— Дай угадаю, — прозвучал в трубке голос Крамли. — Кто-то умер по-настоящему?
— Как ты узнал?
— Успокойся. К тому времени, как я туда доберусь, будет слишком поздно, все улики уничтожат? Ты где?
Я сказал ему:
— Там есть ирландский паб чуть дальше по улице. Иди и сядь там. Не надо светиться снаружи, раз дела так плохи, как ты говоришь. Ты в порядке?
— Я умираю.
— Не надо! Чем мне заняться, если тебя не будет?
Через полчаса, едва толкнув дверь ирландского паба, Крамли сразу отыскал меня и посмотрел с тем глубоким отчаянием и отеческой нежностью во взгляде, которые, словно облака над летними полями, пробегали по его лицу.
— Так, — проворчал он, — где труп?
Войдя во двор, мы увидели, что дверь бунгало Кларенса приоткрыта, словно кто-то нарочно оставил ее незапертой.
Мы толкнули дверь.
И остановились посреди квартиры Кларенса.
Однако она вовсе не была пустой, выпотрошенной, как квартира Роя.
Все книги стояли на своих полках, пол был убран, ни одного разорванного письма. Даже фотографии в рамках — большинство их — снова висели на стенах.
— Ну и, — вздохнул Крамли, — где весь тот кавардак, о котором ты говорил?
— Погоди.
Я открыл один из ящиков четырехуровневого архива. Там были фотографии: измятые, разорванные, запихнутые туда кое-как.
Я открыл шесть ящиков, показывая Крамли, что мне это не приснилось.
Каждый был переполнен истоптанными письмами.
Не хватало только одной детали.
Кларенса.
Крамли вопросительно посмотрел на меня.
— Не надо! — сказал я. — Он лежал на том самом месте, где ты сейчас стоишь.
Крамли перешагнул через невидимое тело. Последовав моему примеру, он внимательно осмотрел другие ящики и увидел там разорванные открытки, разбитые и расколоченные фотографии, засунутые подальше от глаз. Издав тяжелый, как наковальня, вздох, он покачал головой.
— Однажды, — сказал он, — ты наткнешься на что-нибудь стоящее. Тела нет, так что я могу сделать? Откуда нам знать, что он не уехал куда-нибудь в отпуск?
— Он никогда не вернется.
— Откуда ты знаешь? Хочешь пойти в ближайший участок, подать жалобу? Они придут, посмотрят на обрывки в ящиках, пожмут плечами, скажут: «Еще один придурок, свалился со старого голливудского дуба», сообщат домовладельцу и…
— Домовладельцу? — раздался голос за нашими спинами.
В дверях стоял пожилой человек.
— Где Кларенс? — спросил он.
Я говорил быстро. Бессвязно, сбивчиво я описал полностью 1934-й и 1935 годы, как я бесцельно гонялся на роликах, как меня, словно маньяк, преследовал, размахивая тростью, Уильям Клод Филдс,[164] как Джин Харлоу поцеловала меня в щеку перед рестораном «Вандом». Когда она меня поцеловала, из моих роликов выскочили подшипники. И я, хромая, поковылял домой, не обращая внимания на машины, не слыша, что говорили мне школьные товарищи.
— Ладно, ладно, я понял! — Старик окинул взглядом комнату. — На воришек вы не похожи. Но Кларенс все время ждет, что на него вот-вот нападет шайка разбойников и отнимет его фотографии. Так что…
Крамли протянул ему свою визитку. Старик удивленно посмотрел на нее и примолк, зажав свои фальшивые зубы между десен.
— Мне не нужны здесь неприятности! — жалобно проговорил он.
— Не беспокойтесь. Кларенс сам вызвал нас, он боится. Вот мы и приехали.
Крамли огляделся вокруг.
— Пусть Сопуит мне позвонит, хорошо?
Старик, прищурившись, посмотрел на визитку.
— Полиция Вениса? Когда же наконец их вычистят?
— Кого?
— Каналы! Помойка, а не каналы!
Крамли вытащил меня на улицу.
— Я этим займусь.
— Чем? — удивленно спросил старик.
— Каналами, — ответил Крамли. — Помойкой.
— Ах да, — произнес старик.
И мы ушли.
45
Мы стояли на тротуаре и пристально наблюдали за домом, будто он мог внезапно съехать со стапелей, как корабль, спускаемый на воду.
Крамли не смотрел на меня.
— Все так же криво, как было. Ты в отчаянии, потому что видел тело. Я — потому что не видел. Бред. Думаю, мы можем подождать здесь, пока Кларенс не вернется.
— Мертвый?
— Ты что, хочешь подать заявление об исчезновении человека? Что ты намерен делать дальше?
— Мы имеем две вещи. Кто-то растоптал фигурки чудовищ Роя и разрушил его гипсовую скульптуру. Затем кто-то другой все убрал. Кто-то напугал до смерти или задушил Кларенса. Затем кто-то другой все убрал. Значит, мы имеем дело с двумя группами людей или с двумя людьми: теми, кто разрушает, и теми, кто приносит сундуки, швабры и пылесосы. Пока что мне приходит в голову только одно: Человек-чудовище перелез через стену, своими руками разломал все в мастерской Роя и убежал, чтобы потом другие люди обнаружили следы разрушений, все убрали или спрятали. То же самое здесь. Человек-чудовище спустился с собора…
— Спустился?
— Я столкнулся с ним лицом к лицу.
Крамли впервые слегка побледнел.
— Ты доиграешься до того, что тебя убьют, черт побери. Держись подальше от высоких точек. Кстати, может, нам не стоит торчать здесь и трепаться у всех на виду? Что, если эти чистильщики вернутся?
— Верно.
Я зашагал прочь.
— Тебя подбросить?
— Тут всего один квартал до студии.
— Я отправляюсь в центр, в газетный архив. Там должно быть что-нибудь, чего мы еще не знаем, об Арбутноте и о тридцать четвертом годе. Хочешь, поищу заодно что-нибудь про Кларенса?
— О Крам, — сказал я, оборачиваясь, — мы оба знаем, что его уже сожгли и пепел развеяли. Мы что, заберемся в мусоросжигатель на задворках студии и будем перетряхивать золу? Я возвращаюсь в Гефсиманский сад.
— Там безопасно?
— Безопасней, чем на Голгофе.
— Сиди там. Позвони мне.
— Ты и так услышишь меня на другом конце города, даже без телефона, — сказал я.
46
Но сначала я остановился у Голгофы.
Все три креста были пусты.
— Иисус, — прошептал я, трогая в кармане его смятую фотографию, и вдруг понял, что уже некоторое время меня преследует ощущение чьего-то могущественного присутствия.
Я оглянулся и увидел, что за моей спиной неслышно крадется туманное облако Мэнни, его темно-серый, как китайский лаковый ларец, похоронный «роллс-ройс». Я услышал, как задняя дверь чмокнула резиновыми деснами и бесшумно распахнулась, выдохнув холодное облачко кондиционированного воздуха. Сам размером с эскимо на палочке, Мэнни Либер выглянул из своего элегантного холодильника.
— Эй, ты! — позвал он.
Стоял жаркий день. Я заглянул в прохладный салон «роллс-ройса», чтобы освежить лицо, одновременно затачивая разум.
— У меня для тебя новость. — Я видел, как в искусственном морозном воздухе изо рта Мэнни выходит облачко пара. — Мы закрываем студию на два дня. Генеральная уборка. Подкраска. Ломка старого.
— Как вы можете? Такие затраты…
— Каждому заплатят как за полный рабочий день. Это давно надо было сделать. Так что мы закрываемся…
«Зачем? — думал я. — Чтобы убрать всех с площадки. Они знают или подозревают, что Рой до сих пор жив и кто-то пообещал им найти его и убить?»
— Это самая большая глупость, какую я слышал в жизни.
Мне показалось, что оскорбление будет лучшим ответом. Никто ни в чем тебя не заподозрит, если ты, в свою очередь, будешь настолько глуп, чтобы грубить.
— И чья это дурацкая идея? — спросил я.
— Что ты имеешь в виду? — вскричал Мэнни, откидываясь назад в своем холодильнике. Его дыхание вырывалось клубами морозного пара. — Моя!
— Вы не настолько глупы, — продолжал я. — Вы бы никогда такого не сделали. Вы слишком заботитесь о деньгах. Кто-то другой приказал вам это сделать. Кто-то, кто выше вас?
— Нет никого выше меня!
Но пока губы произносили эту двусмысленную ложь, его взгляд скользнул в сторону.
— Вы отдаете себе отчет, что это может стоить где-то полмиллиона в неделю?
— Предположим, — уклончиво согласился Мэнни.
— Наверняка все идет из Нью-Йорка, — выпалил я. — Вам звонили эти пигмеи с Манхэттена. Безумные макаки. Осталось всего два дня до окончания съемок «Цезаря и Христа». А что, если Иисус опять запьет, пока вы там подкрашиваете павильоны?
— Сцена с костром была последней. Мы вычеркиваем его из нашей Библии. Ты вычеркиваешь. И еще: как только студия откроется, ты возвращаешься на «Смерть несется вскачь».
Его слова обдали мое лицо холодом. Мурашки побежали у меня по спине.
— Это невозможно без Роя Холдстрома. — Я решил разыграть из себя еще более наивного и тупого. — А Рой умер.
— Что? — Мэнни подался вперед, отчаянно пытаясь обрести над собой контроль, затем, прищурившись, посмотрел на меня. — Почему ты так говоришь?
— Он покончил с собой, — ответил я.
Подозрительность Мэнни еще более усилилась. Я представил себе, как он выслушивает отчет доктора Филипса: «Рой повесился в павильоне 13, тело срезано с веревки, вывезено, сожжено».
Я продолжал как можно наивнее:
— Его чудовища по-прежнему в павильоне тринадцать, под замком?
— Э-э-э, да, — солгал Мэнни.
— Рой жить не может без своих чудовищ. На другой день я пришел к нему в квартиру. Она была пуста. Кто-то украл все его фотокамеры и миниатюры. Без них Рой тоже не может жить. К тому же он не сбежал бы просто так, не сказав мне. После двадцати лет дружбы. Так что, черт возьми, Рой мертв.
Мэнни внимательно вгляделся в мое лицо, проверяя, можно ли мне верить. Я напустил на себя самый грустный вид.
— Найди его, — наконец сказал Мэнни, глядя немигающим взглядом.
— Я же говорю…
— Найди его, — повторил Мэнни, — или я вышвырну тебя вон и ты больше никогда в жизни не будешь работать ни на одной киностудии. Этот глупый сопляк не умер. Его видели на студии вчера. Может быть, он болтается тут, чтобы пробраться в тринадцатый павильон и заполучить обратно своих проклятых монстров. Скажи ему, что все забыто. Он вернется с прибавкой к зарплате. Пора признать, что мы были не правы и что он нам нужен. Найди его и тоже получишь прибавку. О'кей?
— Вы думаете, Рой использовал маску, голову, сделанную им из глины?
Мэнни побледнел еще больше.
— О боже, конечно нет! Мы поищем еще. Повесим объявления.
— Не думаю, что Рой захочет вернуться, если он не сможет создать свое чудовище.
— Вернется, если понимает свою выгоду.
«И его убьют через час после того, как он переступит порог?» — подумал я.
— Нет, — сказал я. — Он по-настоящему умер. Навсегда.
Я забил все гвозди в гроб Роя, надеясь, что Мэнни поверит и не станет закрывать студию, чтобы завершить поиски. Глупая идея. Но безумцы никогда не бывают умны.
— Найди его, — проговорил Мэнни и откинулся на спинку сиденья; воздух застыл от его молчания.
Я захлопнул дверцу холодильника на колесах. И «роллс» отплыл, исчезнув в облаке своего шелестящего выхлопа, как холодная улыбка.
Весь дрожа, я совершил большое турне. Пересек Гринтаун, прошел через Нью-Йорк к египетским сфинксам и римскому форуму. Только мухи жужжали, колотясь о сетку входной двери в доме моей бабушки. Только пыль кружилась между лап сфинксов.
Я стоял у огромного камня, приваленного к могиле Христа.
И пришел я к камню: дай укрытье мне!
— Рой, — прошептал я.
Камень задрожал от моего прикосновения.
И камень возопил: здесь не спрятаться тебе![165]
«Боже, Рой, — думал я. — Ты наконец нужен им — во всяком случае, на десять секунд, пока они не втопчут тебя в глину».
Камень безмолвствовал. Пыльный вихрь заметался по раскинувшемуся невдалеке невадскому городишке с фальшивыми фасадами, а затем, утомленный, улегся, как непоседливый кот, заснувший у кормушки старого коня.
Откуда-то с небес вдруг раздался голос:
— Не там ищешь! Сюда!
Я бросил взгляд на другой холм в сотне ярдов от меня, закрывавший собой очертания города на горизонте: пологий склон, покрытый дерном из вечнозеленой искусственной травы, которую можно свернуть в рулон.
Там стоял человек с накладной бородой и в развевающихся белых одеждах.
— Иисус! — Задыхаясь и спотыкаясь, я стал карабкаться вверх по холму.
— Как тебе это нравится? — Когда до вершины осталось несколько ярдов, Иисус втащил меня на холм, протянув руку с серьезной и грустной улыбкой. — Здесь я произношу Нагорную проповедь. Хочешь послушать?
— Нет времени, Иисус.
— А как же все эти люди две тысячи лет назад слушали и ничего?
— У них не было часов, Иисус.
— Верно. — Он внимательно посмотрел на небо. — Лишь солнце, медленно плывущее по небосклону, и бесконечные дни, чтобы сказать самое важное.
Я кивнул. Имя Кларенса застряло у меня в горле.
— Садись, сын мой.
Рядом лежал большой камень. Иисус сел на него, а я, как пастух, примостился у его ног. Почти с нежностью глядя на меня сверху вниз, он сказал:
— Я сегодня не пил.
— Отлично!
— Бывают такие дни. Боже, я провел здесь большую часть дня, любуясь на облака, мечтая о вечной жизни, и все благодаря прошлой ночи, благодаря тем словам, благодаря тебе.
Он, наверное, почувствовал, как я с трудом сглотнул слюну от волнения, потому что посмотрел вниз и дотронулся до моей головы.
— Ох, ох, — вздохнул он. — Ты собираешься сказать мне что-то такое, отчего я опять запью?
— Надеюсь, нет, Иисус. Это касается твоего друга Кларенса.
Он отдернул руку, словно обжегся.
На солнце набежала тучка, и на удивление заморосил мелкий дождик, прямо как гром посреди ясного, солнечного дня. Я сидел неподвижно, подставляя лицо под капли дождя, и то же самое сделал Иисус, подняв лицо к небу, чтобы немного освежиться.
— Кларенс, — прошептал он. — Я знаю его целую вечность. Он крутился поблизости, когда мы снимали настоящих индейцев. Кларенс стоял у ворот — мальчишка лет девяти-десяти. Огромные очки, светлые волосы, ясное лицо, большой альбом с рисунками или снимками, приготовленными для автографов. В мой первый день, когда я пришел на рассвете, он уже стоял там, и в полночь, когда я уходил. Я был одним из четырех Всадников Апокалипсиса!
— Смертью?
— А ты догадлив, чертенок, — засмеялся Иисус. — Смертью. Высокий, с костлявым задом, на тощей лошади.
Мы оба взглянули на небо: не скачет ли там по-прежнему его Смерть.
Дождь прекратился. Иисус вытер лицо и продолжил:
— Кларенс, бедный, глупый, зависимый, одинокий, безжизненный, бессемейный сукин сын. Ни жены, ни любовницы, ни друга, ни любовника, ни собаки, ни свиньи, ни картинок с девчонками, ни мужских журналов. Ничего! Даже плавки никогда не носил! Все лето в длинных трусах! Кларенс. Господи.
Наконец я почувствовал, как мои губы зашевелились.
— Ты общался с Кларенсом… в последнее время?
— Он звонил мне вчера…
— В котором часу?
— В полпятого. А что?
«Сразу после того, как я постучал к нему в дверь», — подумалось мне.
— Когда он звонил, он был совершенно вне себя. «Все кончено! — кричал он. — Они придут за мной! Не читай мне нотаций!» У меня кровь застыла в жилах. Как будто десять тысяч статистов уволены, сорок продюсеров покончили с собой, девяносто девять восходящих звезд изнасилованы: закрой глаза и выживай как знаешь. Его последние слова были: «Помоги мне! Спаси меня!» Представь себе меня, Иисуса Христа, на том конце провода, Христа на привязи. Как я мог помочь, если сам был причиной, а не спасением? Я велел Кларенсу принять две таблетки аспирина и перезвонить утром. А надо было броситься к нему на помощь. Ты бы бросился к нему на моем месте?
Я вспомнил Кларенса, лежащего в этом огромном свадебном пироге из книг, открыток, фотографий — слой за слоем, — и истерический пот, склеивший все эти кипы слоев.
Иисус посмотрел, как я отрицательно покачал головой.
— Его больше нет, верно? А ты, — прибавил он, помолчав, — ты бросился ему на помощь?
Я кивнул.
— Он умер не своей смертью?
Я покачал головой.
— Кларенс!
От этого крика мог бы встрепенуться скот, пасущийся на лугу, и спящие пастухи. Это было началом проповеди о мраке.
Иисус вскочил на ноги, запрокинув голову. Слезы брызнули из его глаз.
— …Кларенс…
И он, закрыв глаза, стал спускаться с горы, прочь от напрасных проповедей, шагая в сторону другой горы, Голгофы, где его ждал крест. Я пошел следом.
Не останавливаясь, Иисус спросил:
— У тебя нет, случайно, с собой ничего такого? Спиртное, выпивка? Черт! День так хорошо начинался! Кларенс, ты идиот!
Мы подошли к кресту, Христос пошарил за ним и с горьким смешком облегчения достал пакетик, внутри которого что-то булькало.
— Кровь Христова в коричневом пакете и незаметной бутылке. Как там должна проходить вся эта церемония? — Он сделал глоток, потом еще. — Что мне сейчас делать? Залезть, прибить себя гвоздями и ждать, когда они придут?
— Они?!
— Господи, парень, это же вопрос времени! Потом мне воткнут гвозди в запястья и подвесят за грудки! Кларенс умер! Как это произошло?
— Задохнулся под своими фотографиями.
— Кто тебе сказал? — напрягся Иисус.
— Я сам видел, Иисус, но никому не рассказывал. Он что-то знал, и его убили. А что знаешь ты?!
— Ничего! — Иисус яростно затряс головой. — Ничего!
— Два дня назад, ночью, у входа в «Браун-дерби» Кларенс узнал одного человека. Этот человек полез на него с кулаками! Кларенс убежал! Почему?
— И не пытайся узнать! — сказал Иисус. — Брось это. Я не хочу, чтобы ты погубил себя вместе со мной. Пока что я ничего не могу сделать, но погоди… — Голос Иисуса дрогнул. — Раз Кларенса убили, скоро они догадаются, что это я уговорил его отправиться в «Браун-дерби»…
— Так это был ты?!
«А я? — подумал я. — Мне ты тоже написал, чтобы я туда явился?!»
— Кто это был, Иисус? Они, кто такие они?! Люди вокруг умирают. Возможно, мой друг Рой тоже!
— Рой? — Иисус помолчал. — Умер? Тогда он счастливчик. Прячется? Бесполезно! Они его найдут. Как и меня. Я уже давно слишком много знаю.
— Как давно?
— А что?
— Меня тоже могут убить. Я случайно во что-то оказался замешан, но черт меня побери, если я знаю во что. Рой тоже во что-то вмешался, и теперь он мертв или в бегах. Господи, кто-то убил Кларенса, потому что он во что-то случайно вмешался. Они вычислят, это вопрос времени. Черт, может быть, я слишком хорошо знаю Кларенса и меня убьют на всякий случай. Проклятье, Иисус, Мэнни закрывает студию на два дня. Для ремонта, подкраски. Чепуха! Это все из-за Роя! Подумай! Выкинуть в окно десятки тысяч долларов, чтобы найти одного сумасшедшего кретина, а его единственное преступление — в том, что он жил десять миллионов лет назад. Он пришел в бешенство из-за своего глиняного чудовища, и за его голову назначили награду. Что за важная птица этот Рой? Почему он, как Кларенс, должен умереть? А ты? Прошлой ночью. Ты сказал, что был там, на Голгофе. Ты видел стену, лестницу, мертвеца на лестнице. Ты разглядел лицо этого мертвеца?
— Он был слишком далеко.
Голос Иисуса дрогнул.
— Ты видел лицо человека, который поставил труп на лестницу?
— Было темно…
— Это был Человек-чудовище?
— Кто?
— Человек с расплавленным, как розовый воск, лицом, вывороченным правым глазом и ужасным ртом? Это он затащил этот фальшивый труп на лестницу, чтобы перепугать всю киностудию — тебя, меня — и чтобы каким-то образом зачем-то всех шантажировать? Если я должен умереть, Иисус, почему я не могу узнать за что? Назови его. Человек-чудовище?
— Назвать и подписать тебе смертный приговор? Нет!
Из-за угла, с задворок студии, вырулил грузовик. Он проехал мимо Голгофы, поднимая пыль и гудя.
— Смотри, куда едешь, идиот! — крикнул я.
Грузовик растворился в клубах пыли.
А вместе с ним и Христос.
Человек на тридцать лет старше меня удирал во все лопатки. Смех! Иисус, галопом, в развевающихся на пыльном ветру длинных одеждах, мчался, словно желая взмыть вверх, улететь, и что-то бессвязно выкрикивал в небеса.
«Не ходи к дому Кларенса!» — едва не прокричал я вслед ему.
«Дурак, — подумал я затем. — Кларенс обскакал тебя. Тебе до него далеко!!»
47
Фриц вместе с Мэгги ждал меня в просмотровом зале номер десять.
— Где тебя носит? — закричал он. — Представляешь? Теперь у нас нет середины фильма!
Это было как бальзам на душу — поговорить о чем-нибудь дурацком, бессмысленном, нелепом: безумие, вышибающее из меня мое собственное крепчающее безумие. «Боже, — думал я, — снимать фильм — все равно что заниматься любовью с горгульей. Просыпаясь, видишь, что вцепился в спинной хребет мраморного кошмара, и думаешь: „Что я здесь делаю?“ Лжешь, кривляешься. И все ради того, чтобы двадцать миллионов людей валом валили на сеанс или, наоборот, с сеанса.
И все это делается руками чокнутых фанатиков — они сидят в просмотровых комнатах и бредят персонажами, которых никогда не было в жизни..
Поэтому так здорово спрятаться здесь с Фрицем и Мэгги, слушать, как они мелют чепуху, валяют дурака».
Но эта чепуха мне не помогла.
В полпятого я извинился и побежал в уборную. Там, в вомитории,[166] с моих щек сошел последний румянец. Вомиторий. Так все писатели называют уборную, после того как выслушают гениальные идеи своих продюсеров.
Я попытался вернуть румянец своим щекам, растерев их водой с мылом. Пять минут я простоял, склонившись над умывальником и смывая с себя грусть и тревогу, исчезавшие в водостоке. После последней очереди рвотных позывов я снова умылся и пошел обратно к Фрицу и Мэгги, шатаясь, благодаря Бога за темноту зала.
— А, это ты! — сказал Фриц. — Стоит изменить одну сцену, и рушится все остальное. Сегодня днем я показал твою Последнюю Тайную вечерю Мэнни. Теперь из-за твоего гениального финала, будь он неладен, Мэнни наперекор своему лучшему «я» говорит, что придется переснять кое-что из уже оплаченного материала, иначе фильм выглядит как дохлая змея с живым хвостом. Он не стал говорить это тебе лично; казалось, что он проглотил собственные внутренности на обед или твои потроха в кастрюльке. Он называл тебя такими словами, какими даже я не пользуюсь, но в конце концов сказал: пусть этот ублюдок займется сценами номер девять, четырнадцать, девятнадцать, двадцать пять и тридцать. Переписать и переснять через одну. А если мы переснимем и все остальные сцены, люди подумают, что у нас получился супергениальный фильм.
Я почувствовал, как теплые краски снова вспыхивают на моем лице.
— Это же просто подарок для начинающего сценариста! — воскликнул я. — Устройство для выдержки времени!
— Все нужно сделать за три дня! Мы задержали съемочную группу. Я звоню в Общество анонимных алкоголиков, чтобы натравить их на Иисуса, хотя бы на семьдесят два часа, ведь мы теперь знаем, где он прячется…
Я спокойно смотрел на них, но не мог сказать, что спугнул Иисуса, и тот сбежал со съемочной площадки.
— Похоже, за эту неделю я стал виновником кучи всяких бед, — наконец сказал я.
— Сизиф, останься! — Фриц хлопнул меня по плечу ладонями. — Пока я не дам тебе камень побольше, чтобы ты тащил его на проклятую гору. Ты же не еврей, не ищи своей вины.
Он сунул мне пачку страниц.
— Пиши, переписывай. Переписывай!
— Мэнни хочет, чтобы именно я этим занимался? Ты уверен?
— Да он скорее привязал бы тебя к двум лошадям и выпалил из пистолета, но жизнь есть жизнь. Капля ненависти. Потом море ненависти.
— А как насчет фильма «Смерть несется вскачь»? Он хочет, чтобы я вернулся к работе над ним!
— Когда это ему приспичило? — Фриц вскочил на ноги.
— Полчаса назад.
— Но он не может снимать этот фильм без…
— Правильно, без Роя. А Рой пропал. И мне поручено найти его. А студия закрывается на двое суток для ремонта и подкраски, хотя никакой подкраски не требуется.
— Ничтожества. Тупые задницы. Никто мне ничего не сказал. Ладно, не нужна нам их дурацкая студия. Мы можем переписать Иисуса у меня дома.
Раздался телефонный звонок. Фриц чуть не задушил трубку в кулаке, а затем передал ее мне.
Звонили из храма Ангела.[167] Эйми Сэмпл Макферсон.
— Простите, сэр, — произнес явно приглушенный женский голос, — вы, случайно, не знакомы с человеком, который называет себя Иисус?
— Иисус?
Фриц выхватил у меня трубку. Я снова ее отобрал. Мы оба приникли к ней ухом.
— Заявляет, что он призрак Христа воскресшего и заново раскаявшегося…
— Дайте-ка мне! — прокричал другой, мужской, голос. — Преподобный Кемпо у телефона! Вы знаете этого ужасного Антихриста? Мы могли бы вызвать полицию, но если бы газеты узнали, что Христа вышвырнули из нашей церкви… В общем, даю вам полчаса, чтобы спасти этого безбожника от гнева Господа! И моего!
Я выронил трубку.
— Христос, — простонал я, обращаясь к Фрицу, — воскресе!
48
Мое такси подкатило к воротам храма Ангела как раз в тот момент, когда последние заблудшие овечки выходили из многочисленных дверей, покидая затянувшиеся допоздна занятия в приходской школе.
Преподобный Кемпо ждал перед входом, заламывая свои грубые руки и расхаживая с таким видом, будто в зад ему вставили динамитную шашку.
— Слава богу! — вскричал он, бросаясь ко мне. Вдруг он остановился в ужасе. — Так это вы юный друг этого мерзкого типа, да?
— Иисуса?
— Иисуса! Что за чудовищная мерзость! Да, Иисуса!
— Я его друг.
— Жаль. Ладно, поторапливайтесь!
Он взял меня под руку и потащил в тот придел, где располагалась главная аудитория. Там не было ни души. Откуда-то сверху доносился мягкий шелест перьев, взмах ангельских крыльев. Кто-то проверял звуковую аппаратуру, издавая различные небесные шепоты.
— И где же?.. — осекся я.
Ибо там, посреди алтаря, на сверкающем Господнем престоле из чистопробнейшего золота восседал Иисус Христос.
Он сидел прямо, устремив взгляд куда-то сквозь церковные стены, положив руки на подлокотники, ладонями вверх.
— Иисус! — Я побежал через проход и вдруг остановился.
Потому что из обеих ран на открытых запястьях капала свежая кровь.
— Ну разве не кошмар? — завывал преподобный за моей спиной. — Ужасный человек! Прочь!
— Это христианская церковь? — осведомился я.
— Да как вы смеете спрашивать?!
— Вам не кажется, что в такой момент, возможно, сам Христос проявляет к вам милость? — поинтересовался я.
— Милость?! — вскричал преподобный. — Он ворвался во время мессы с криком: «Я истинный Христос! Я боюсь за свою жизнь. Прочь с дороги!» Подбежал к алтарю и выставил напоказ свои раны. С тем же успехом он мог бы взорвать самого себя. Прощение? Всеобщий шок, чуть ли не бунт. Наша паства никогда от этого не оправится. А если люди расскажут, если начнут звонить из газет, вы понимаете? Он превратил нас в посмешище. Твой друг!
— Мой друг…
Однако голосу моему не хватало блеска, он срывался в фальцет, как у переигрывающего актера в пьесе Шекспира.
— Иисус! — воззвал я из бездны.
Глаза Иисуса, устремленные в вечность, заморгали и обратились на меня.
— О, привет, юнга, — сказал он. — В чем дело?
— В чем дело?! — закричал я. — Ты тут только что устроил вокруг себя адский кавардак!
— О нет, нет! — Иисус вдруг осознал, где находится, и посмотрел на свои руки. Он рассматривал их так, словно кто-то подсунул ему двух тарантулов. — Меня снова бичевали? Меня выследили? Мне конец. Защити меня! Ты принес бутылку?
Я похлопал по карманам, как будто все время носил с собой подобные вещи, и отрицательно покачал головой. Затем обернулся к преподобному, и тот, изрыгая проклятия, прошмыгнул за спинку престола и сунул мне в руку бутылку красного вина. Иисус рванулся к бутылке, но я выхватил ее и стал держать как приманку.
— Иди сюда. Тогда откупорю.
— Как ты смеешь говорить с Христом в таком тоне!
— Как ты смеешь называть себя Христом?! — воскликнул преподобный.
Иисус отступил назад.
— Я не смею, сэр. Я и есть Христос.
Он поднялся в жалкой попытке изобразить надменность и упал со ступенек.
Преподобный выругался, словно готов был собственноручно убить его.
Я поднял Иисуса, благополучно провел его между скамьями, помахивая бутылкой, и вывел из церкви.
Такси все еще ждало у входа. Прежде чем сесть в машину, Иисус обернулся и увидел его преподобие, стоявшего в дверях, с пылающими от ненависти щеками. Иисус поднял вверх свои кровавые лапищи.
— Святое прибежище! Да? Прибежище?
— Даже ад, — прокричал преподобный, — не станет тебе прибежищем!
Бах! Дверь захлопнулась.
Я представил, как внутри храма вспорхнули тысячи ангельских крыльев, со свистом рассекая лишенный святости воздух.
Иисус ввалился в такси, схватил бутылку вина и, наклонившись вперед, прошептал на ухо таксисту:
— В Гефсимань!
Мы поехали. Водитель одним глазом заглянул в свой дорожный атлас.
— Гефсимань, — пробормотал он. — Что это: улица, проспект или площадь?
49
— Даже крест не спасет, даже крест не спасет теперь, — бормотал Иисус, пока мы ехали по городу, неподвижно глядя на свои израненные запястья, словно не мог поверить, что это его руки. — Куда катится мир?
Он поглядел через окно такси на проплывающие мимо дома.
— Христос страдал маниакально-депрессивным психозом? Как и я?
— Нет, — запинаясь, ответил я, — он не такой дурак. А вот ты точно из породы придурков и тупиц. Что тебя туда занесло?
— За мной гнались. Они преследуют меня. Я — Светоч мира. — Но последнее было сказано с горькой иронией. — Господи, лучше бы я не знал так много.
— Расскажи мне. Исповедуйся.
— Тогда они начнут преследовать и тебя тоже! Кларенс, — прошептал он. — Ведь он тоже не умел быстро бегать, верно?
— Я тоже знал Кларенса, — сказал я, — много лет назад…
Мои слова испугали Иисуса еще больше.
— Никому не говори! От меня они этого не услышат.
Одним залпом он выпил полбутылки вина, затем подмигнул и сказал:
— Я нем как рыба.
— Нет уж, сэр Иисус! Вы должны рассказать мне, хотя бы на тот случай, если…
— Если не доживу до завтрашнего утра? Не доживу! Но я не хочу, чтобы мы погибли оба. Ты славный придурок. Придите ко мне, дети мои, и через Господа да вознесетесь на Небеса!
Он выпил, и улыбка пропала с его лица.
По пути мы остановились. Иисус отчаянно пытался выскочить из машины, чтобы купить джина. Я пригрозил ударить его и купил бутылку сам.
Машина медленно вплыла в ворота киностудии и замедлила ход у дома моих бабушки с дедушкой.
— Э, — сказал Христос, — да это смахивает на негритянскую баптистскую церковь на Сентрал-авеню! Я не могу туда войти! Я не черный и не баптист. Просто Христос, иудей! Скажи ему, куда ехать!
На закате такси остановилось у подножия Голгофы. Иисус посмотрел вверх, на свой старый знакомый насест.
— Разве это настоящий крест? — Он пожал плечами. — Не более, чем я настоящий Христос.
Я внимательно посмотрел на крест.
— Ты не можешь здесь спрятаться, Иисус. Теперь все знают, куда ты ходишь. Надо найти для тебя действительно тайное местечко, если вдруг позовут на пересъемки.
— Ты не понимаешь, — сказал Христос. — Небеса закрыты, ад тоже. Они найдут меня даже в крысиной норе или в заднице бегемота. Голгофа, плюс вино, — единственное место. Ну-ка, убери ноги с моей тоги.
Он вылил в глотку остатки вина и стал подниматься на холм.
— Слава богу, я успел сняться в своих основных эпизодах, — сказал Иисус. — Все кончено, сынок.
Иисус взял мои руки в свои. Свалившись некогда с горних вершин в пропасть и теперь задержавшись где-то посредине, он был невероятно спокоен.
— Я не должен был убегать. И никто не должен был видеть, как ты со мной разговариваешь здесь. Они принесут еще молотков и гвоздей, и ты сыграешь второго вора-статиста по левую руку от меня. Или Иуду. Принесут веревку, и вот ты — Искариот.
Он обернулся и положил руки на крест, а одну ногу поставил на маленький колышек, приделанный сбоку, чтобы легче было забираться.
— Можно последний вопрос? — попросил я. — Ты и вправду знаешь Человека-чудовище?
— Боже, да я был там в ту ночь, когда он родился!
— Родился?
— Да, черт возьми, родился, а что, это звучит странно?
— Объясни, Иисус. Я должен это знать!
— И умереть за то, что ты это знаешь, болван? — сказал Иисус. — Почему ты хочешь умереть? Иисус спасет, да? Но если я Иисус и мне конец, то и вам всем конец! Посмотри на Кларенса: бедный ублюдок. Парни, которые его брали, в страхе разбежались. А когда им страшно, они паникуют, а когда они паникуют, они ненавидят. Ты знаешь, что такое настоящая ненависть, мой мальчик? Так вот, это она: никаких любительских вечеринок, никаких скидок за хорошее поведение. Кто-то говорит «убей!», и тебя убивают. А ты ходишь вокруг да около со своими глупыми, наивными представлениями о людях. Господи, да ты не сможешь познать настоящую шлюху, если она укусит тебя, и настоящего убийцу, если он пырнет тебя ножом. Ты будешь умирать и, умирая, скажешь: «Так вот какой он», — но будет уже поздно. Так что послушайся старого Иисуса, дурачок.
— Подходящий дурак, полезный идиот. Как говорил Ленин.
— Ленин?! Вот видишь! В такой момент, как сейчас, когда я кричу: «Впереди Ниагарский водопад! Где твоя бочка?!»[168] — ты прыгаешь с обрыва без парашюта. Ленин?! Ха! Где тут ближайший сумасшедший дом?
Иисус дрожал, допивая вино.
— Полезный… — он сглотнул, — идиот. — Ладно, слушай, — добавил он, ибо на сей раз его здорово задело. — Я не стану повторять это дважды. Если останешься со мной, тебя раздавят. Если будешь знать то, что знаю я, они закопают тебя в десяти разных могилах по ту сторону стенки. Разрежут на куски, по одному в каждую яму. Если бы твои родители были живы, их сожгли бы живьем. А твою жену…
Я скрестил руки на груди. Иисус отпрянул.
— Прости. А ты чувствительный. Черт, я все еще трезв. Я сказал «вучствительный». Когда возвращается твоя жена?
— Скоро.
Это слово прозвучало как звон похоронного колокола в разгар дня. Скоро.
— Тогда слушай последнюю Книгу Иова. Все кончено. Они не остановятся, пока не убьют всех. На этой неделе все полетит в тартарары. Этот труп на стене, который ты видел. Его повесили туда, чтобы…
— Шантажировать киностудию? — сказал я словами Крамли. — Они боятся Арбутнота по прошествии стольких лет?
— Трусливые твари! Иногда у мертвецов в могилах больше власти, чем у живых. Вспомни Наполеона, он умер сто пятьдесят лет назад и до сих пор живет в сотнях книг! Его именем называют улицы и младенцев! Он потерял все и, потеряв все, победил! А Гитлер? Он будет жить еще десять тысяч лет. Муссолини? Он будет висеть вверх ногами, подвешенный в газовой камере, до конца наших дней! Даже Иисус. — Он внимательно посмотрел на свои стигматы. — Я не сделал ничего плохого. А теперь снова должен умереть. Но, начиная с воскресенья, меня будут иметь во все дыры, если я заберу с собой такого славного придурка, как ты. Так что заткнись. Где вторая бутылка?
Я показал ему бутыль с джином.
Он схватил ее.
— А теперь помоги мне забраться на крест и убирайся к черту!
— Я не могу оставить тебя здесь, Иисус.
— А где еще меня можно оставить?
Он выпил больше половины пинты.
— Эта штука убьет тебя! — забеспокоился я.
— Эта штука убивает боль, детка. Когда они придут за мной, меня здесь уже не будет.
Иисус полез на крест.
Я вцепился руками в почерневшее дерево креста, ударил по нему кулаками, задрав вверх лицо.
— Черт возьми, Иисус! Проклятье! Если это твоя последняя ночь на земле… ты чист?!
Он замедлил движение.
— Что?
— Когда ты последний раз исповедовался? — выпалил я вдруг. — Когда, когда?
Он резко повернул голову на север, обратив лицо в сторону кладбищенской ограды, и посмотрел за нее.
— Когда? Когда ты исповедовался? — допытывался я, удивляясь самому себе.
Его лицо неподвижно, как у загипнотизированного, было обращено на север, и это заставило меня подскочить и начать карабкаться вверх, нащупывая ногами колышки и опираясь на них.
— Что ты делаешь? — закричал Иисус. — Это мое место!
— Теперь уже нет, так, так и вот так!
Я повис, раскачиваясь, прямо за его спиной, так что ему пришлось обернуться, чтобы прокричать:
— Слезай!
— Когда ты исповедовался, Иисус?
Он уставился на меня, но взгляд его упрямо соскальзывал в сторону севера. Я тоже быстро перевел взгляд и посмотрел туда, вдоль поперечной балки креста, достаточно длинной, чтобы пригвоздить и ладонь, и запястье, и всю руку.
— Господи, вот! — сказал я.
Ибо там, словно на линии ружейного прицела, была видна стена и то место на этой стене, где висела кукла из воска и папье-маше, а еще дальше, за лужайкой с надгробиями, виднелся фасад и распахнутые в ожидании двери церкви Святого Себастьяна!
— Точно! — выдохнул я. — Спасибо, Иисус.
— Слезай!
— Уже слезаю.
Я отвел взгляд от стены, но не раньше чем увидел, как Иисус снова обращает лицо в сторону страны мертвых и церкви.
Я спустился.
— Куда ты собрался?! — прокричал Иисус.
— Туда, куда должен был отправиться еще несколько дней назад…
— Безмозглый тупица. Держись подальше от этой Церкви! Опасное место.
— Церковь — опасное место?
Я остановился и поглядел наверх.
— Нет, не церковь! Но она стоит на том конце кладбища и поздно ночью поджидает всяких тупых олухов, которые заскочат в нее!
— И он туда заскакивает, верно?
— Он?
— Черт! — Меня пробила дрожь. — По ночам, прежде чем идти на кладбище, он сперва заходит исповедоваться, так?
— Будь ты проклят! — взвизгнул Иисус. — Все, теперь тебе конец!
Он закрыл глаза, что-то проворчал и начал в последний раз устраиваться на темном столбе среди сумерек и надвигающейся ночной темноты.
— Давай продолжай! Ты хочешь ужаса? Ты хочешь испытать страх? Иди послушай настоящую исповедь. Спрячься, и, когда он придет ночью — о, глухой, глухой ночью, — ты услышишь его, твоя душа содрогнется, сгорит и умрет!
От этих слов мои руки так сильно вцепились в крест, что занозы жалами впились в ладони.
— Иисус, тебе ведь известно все, верно? Расскажи мне, во имя Господа Иисуса Христа, Иисус, расскажи мне, пока не поздно. Ты знаешь, почему это тело повесили на стену, а может, это сделал Человек-чудовище, чтобы всех напугать, и кто такой этот Человек-чудовище? Скажи. Скажи.
— Бедное, невинное дитя, несчастный сукин сын. Боже мой, сынок. — Иисус посмотрел на меня сверху. — Ты умрешь и даже не узнаешь за что.
Он развел руки, протянув одну на север, другую на юг, и обхватил поперечную балку креста, словно собираясь взлететь. Но вместо этого к моим ногам упала пустая бутылка и разбилась.
— Бедный, милый мой сукин сын, — прошептал он Небесам.
Я отпустил крест и спрыгнул. Когда мои ноги коснулись земли, я в последний раз устало позвал:
— Иисус!
— Убирайся в ад, — грустно сказал он. — Потому что я не знаю, где Небеса…
Невдалеке послышался шум машин и голоса.
— Беги, — прошептал Иисус из поднебесья.
Но бежать я не мог. Я просто побрел прочь.
50
У собора Парижской Богоматери я встретил выходящего оттуда Дока Филипса. Он тащил пластиковый мешок и смахивал на одного из тех, кто бродит по паркам и скверам, собирая мусор острой палкой в мешок, чтобы сжечь. Он изумленно посмотрел на меня, когда я занес ногу на ступеньку, словно желая попасть на мессу.
— Так-так, — сказал он несколько поспешно и с наигранным воодушевлением. — Вот он, наш кудесник, который учит Христа ходить по воде и возвращает Иуду Искариота в ряды преступников!
— Это не я, — возразил я. — Это четверо апостолов. Я лишь иду по следам их сандалий.
— Что ты здесь делаешь? — напрямик спросил он, быстро оглядывая меня с ног до головы и нервно теребя пальцами мусорный мешок.
Я почувствовал запах ладана и одеколона Дока.
И решил идти напролом.
— Закат. Лучшее время для прогулки. Боже, как мне нравится это место. Я даже подумываю приобрести его однажды. Не беспокойтесь. Я позволю вам остаться. Когда все это будет мое, я снесу все офисы и сделаю все это по-настоящему живой историей. Пусть Мэнни работает на Десятой авеню, в Нью-Йорке, вон там! А Фрица поселим здесь, в Берлине. Я буду в Гринтауне. А Рой? Если он когда-нибудь вернется, дурачок, вон там построим ему ферму для динозавров. Я бы распутничал. Вместо сорока фильмов в год снимал бы двенадцать, зато шедевров! Я сделал бы Мэгги Ботуин вице-президентом киностудии, она просто блеск, и вытащил бы Луиса Майера с пенсии. И…
Тут я выдохся.
Док Филипс стоял, открыв рот, словно я протягивал ему тикающую бомбу.
— Никто не возражает, если я войду в собор? Мне хочется забраться наверх и представить, будто я Квазимодо. Здесь безопасно?
— Нет! — чересчур поспешно вскричал доктор, обходя меня кругом, как пес обходит пожарный гидрант. — Опасно. Мы проводим ремонт. Думаем вообще снести эту штуковину.
Он повернулся и направился прочь.
— Дураки. Вы дураки! — крикнул он и исчез в двери собора.
Секунд десять я стоял и смотрел на открытую дверь, затем мурашки побежали у меня по коже.
Ибо из собора донеслось какое-то ворчание, затем стон, а потом что-то похожее на провод или веревку защелкало о стену.
— Док?!
Я подошел к входной двери, но ничего не разглядел.
— Док?
Где-то в вышине собора промелькнула тень — как будто огромный мешок с песком затаскивали наверх, во мрак.
Я вспомнил, как тело Роя раскачивалось под потолком павильона 13.
— Док!
Но доктора и след простыл.
Я вглядывался в темноту, стараясь рассмотреть то, что напоминало подошвы его ботинок, уплывавших все выше и выше.
— Док!
И тут случилось.
Что-то ударилось о пол собора.
Одинокая черная туфля.
— Боже! — вскрикнул я.
Я отступил назад и увидел, как длинная тень унеслась под крышу собора.
— Док? — проговорил я.
51
— Держи!
Крамли бросил десятидолларовую бумажку моему таксисту, тот довольно хмыкнул и уехал.
— Прямо как в кино! — сказал Крамли. — Парни швыряют деньги таксисту и не берут сдачу. Скажи спасибо.
— Спасибо!
— Боже! — Крамли внимательно посмотрел на мое лицо. — Выпей. Выпей это.
Крамли протянул мне пиво.
Я выпил и рассказал Крамли про собор, про Дока Филипса, про то, как я услышал что-то вроде крика, и про тень, скользящую вверх, во тьму. И еще про одинокую черную туфлю, упавшую на пыльный пол собора.
— Я видел. Но кто может это подтвердить? — закончил я. — Киностудия закрывается наглухо. Я думал, Док Филипс — злодей. Наверное, его убил какой-то другой злодей. Но трупа нет. Бедный доктор. Что я говорю? Ведь я даже не испытывал к нему приязни!
— Христос всемогущий, — сказал Крамли, — ты приносишь мне кроссворд из «Нью-Йорк таймс», хотя прекрасно знаешь, что мне по зубам только головоломки из «Дейли ньюс». Ты таскаешь мертвецов через мой дом по поводу и без повода, как кот, гордый своей добычей. Любой адвокат вышвырнул бы тебя в окно. Любой судья размозжил бы тебе голову своим молотком. Психиатры отказали бы тебе в привилегии лечиться электрошоком. Ты мог бы гонять на автомобиле по Голливудскому бульвару, делая отвлекающие маневры, и никто не арестует тебя за загрязнение окружающей среды.
— Ага, — ответил я, погружаясь в депрессию.
Зазвонил телефон. Крамли передал мне трубку. Я услышал голос:
— Его ищут повсюду, его ищут везде, ищут негодника по всей земле. В раю его нет, в аду его нет?..
— Неуловимый Первоцвет![169] — вскричал я.
Трубка вылетела из моих рук, словно отброшенная взрывной волной разорвавшейся бомбы. Затем я снова схватил ее.
— Где ты сейчас? — прокричал я.
Пи-пи-пи-пи…
Крамли быстро прижал трубку к своему уху и отрицательно покачал головой.
— Это Рой? — спросил он.
Я, пошатываясь, кивнул.
Закусив кулак, я старался мысленно отгородиться воображаемой стеной от происходящего.
На глаза навернулись слезы.
— Он жив, он и правда жив!
— Спокойно! — Крамли сунул мне в руку следующий стакан. — Наклони голову.
Я наклонился, чтобы Крамли мог помассировать мне затылок и шею. Слезы капали с моего носа.
— Он жив. Слава богу.
— Почему он не позвонил раньше?
— Может, боялся, — произнес я, тупо уставившись в пол. — Я же говорил — они все закрывают, запирают студию на замок. Может, он хотел, чтобы я думал, будто он мертв, тогда меня не тронут. А может, он знает о чудовище больше, чем мы.
Я резко повернул голову.
— Ничего не вижу, ничего никому не скажу. — Крамли работал над моим затылком.
— Господи, он в ловушке, не может выбраться. Или не хочет. Прячется. Мы должны спасти его!
— Спаси мою задницу, — ответил Крамли. — В каком он городе? В Бостоне или на натурных площадках? В Уганде, в какой-нибудь глухой деревне? В театре Форда?[170] Хочешь, чтобы нас подстрелили? Да там тысяча мест, где он может прятаться, а мы будем бегать вокруг, как белые вороны, распевая на все голоса: «Выйди, выйди!» — пока нас не убьют? Иди-ка ты сам на студию и ищи его!
— Трусливый Крам.
— А то как же!
— Ты сломаешь мне шею!
— Не рыпайся!
Опустив голову, я позволил ему месить все мои сухожилия и мышцы, разминать в теплое желе. Откуда-то из тьмы, царившей у меня под черепом, донеслись слова:
— Ну так что?
— Дай мне подумать, черт возьми!
Крамли с силой сдавил мою шею.
— Без паники, — пробормотал он. — Если Рой там, надо очистить эту чертову луковицу слой за слоем и найти его в нужном месте в нужное время. Никаких криков, иначе лавина обрушится на нас.
Теперь руки Крамли нежно поглаживали меня за ушами, по-отечески.
— Все дело, должно быть, в том, чтобы запугать студию Арбутнотом.
— Арбутнот, — задумчиво отозвался Крамли. — Хотел бы я посмотреть на его могилу. Может, там что-то есть, какой-нибудь ключик. Ты уверен, что Арбутнот все еще там?
Я сел и уставился на Крамли.
— Ты хочешь сказать: «Кто лежит в могиле Гранта?»[171]
— Да, это старая шутка. Но откуда мы знаем, что Грант все еще там?
— Мы не знаем. Грабители дважды выкрадывали тело Линкольна.[172] Семьдесят лет назад они уже вытаскивали его через кладбищенские ворота, когда их поймали.
— Может, так оно и есть?
— Может быть.
— Может быть?! — воскликнул Крамли. — Господи, пусть у меня вырастут волосы, чтобы я мог рвать их на себе! Мы пойдем проверять могилу Арбутнота?
— Ну…
— Не говори мне «ну», черт возьми! — Крамли в ярости, сверкая глазами, потер свою лысую макушку. — Ты же сам кричал, что человек на лестнице под дождем был Арбутнот. Может быть! А может, кто-то прослышал об убийстве и выкрал тело, чтобы получить доказательства. Почему бы нет? А эта авария — может, никто ничего не пил, а просто водитель умер за рулем? И тот, кто двадцать лет спустя проводит вскрытие, получает доказательство убийства, материал для шантажа, и тогда этот «кто-то» делает фальшивый труп, чтобы напугать всю студию и огрести денег.
— Крам, это чудовищно.
— Нет, это только догадки, теория, черт возьми. Есть лишь один способ проверить. — Крамли бросил взгляд на часы. — Сегодня ночью. Мы постучимся в дверь к Арбутноту. Посмотрим, дома он или кто-то вытащил его, чтобы читать знамения по кишкам и напугать полуразгромленных легионеров Цезаря, чтоб те мочились кровью.
Я подумал о кладбище. И наконец сказал:
— Нет смысла идти туда без хорошей ищейки.
— Хорошей ищейки? — Крамли удивленно отступил назад.
— Собаки-поводыря.
— Поводыря? — Крамли внимательно посмотрел мне в глаза. — Этот пес живет, случайно, не на углу Темпл и Фигероа? Четвертый этаж?
— В полночь на кладбище не важно, что ты видишь, тут нужен нюх. А у него он есть.
— Генри? Величайший слепой в мире?
— На все времена, — подтвердил я.
52
Я постоял перед дверью Крамли, и она открылась.
Я постоял на берегу возле дома Констанции Раттиган, и она вышла из моря.
И вот теперь я шел, стараясь быть незамеченным, по бесковровым половицам старой многоэтажки, где сам когда-то жил без гроша в кармане, глядел в потолок, прозревая свои будущие фантазии, и где меня ждал чистый лист, заправленный в портативную «Смит-Корону».[173]
Я остановился перед дверью Генри и почувствовал, как быстро забилось мое сердце, потому что там, за дверью, была комната, где умерла моя дорогая Фанни; и вот теперь я вернулся сюда впервые с тех далеких печальных дней, когда нам, закадычным друзьям, казалось, что мы будем вечно жить вместе.
Я постучался.
И услышал постукивание трости и приглушенное покашливание. Заскрипели половицы.
Я услышал, как Генри коснулся своим темным лбом внутренней стороны двери.
— Я узнаю этот стук, — прошептал он.
Я снова постучал.
— Черт меня подери!
Дверь резко распахнулась.
Невидящие глаза Генри смотрели в никуда.
— Дай-ка мне сделать глубокий вдох.
Он вдохнул. Я выдохнул.
— Господи боже! — Голос Генри дрожал, как пламя свечи при легком ветерке. — Мятная жвачка. Это ты!
— Это я, Генри, — с нежностью проговорил я.
Его руки ощупью потянулись вперед. Я схватил его за обе ладони.
— Господи, сынок, как хорошо, что ты зашел! — вскричал он.
Он схватил и сжал меня в объятиях, потом вдруг опомнился и отступил.
— Прости…
— Что ты, Генри! Обними меня снова.
И он снова стиснул меня в долгих объятиях.
— Где ты был, мой мальчик, о, где ты был так долго, а Генри тут один, в этом проклятом огромном доме, который скоро пойдет под снос.
Он повернулся, подошел к креслу, сел, нашел и ощупал руками два стакана.
— Этот, кажется, чистый, а?
Я посмотрел и кивнул, потом спохватился и сказал:
— Ага.
— Не хочу передавать тебе микробы, сынок. Ну-ка посмотрим. Ага!
Он резко выдвинул ящик стола и извлек оттуда большую бутылку отличного виски.
— Ты это пьешь?
— С тобой — да.
— Вот это дружба!
Он налил и протянул стакан в пустоту. Но стакан почему-то попал прямо мне в руку.
Мы подняли стаканы навстречу друг другу, и по черным щекам Генри потекли слезы.
— А ты и не знал, что черный слепой может плакать, верно?
— Теперь знаю, Генри.
— Дай-ка взглянуть. — Он наклонился и провел рукой по моей щеке. Затем облизал палец. — Соленая водичка. Черт! Да ты такой же слюнтяй, как и я.
— На все времена.
— Оставайся таким, сынок. Так где же ты был? Жизнь била тебя? Что привело тебя сюда?.. — Он внезапно замолк. — О, какие-то неприятности?
— И да и нет.
— Но в основном да? Это нормально. Когда ты вылетел на волю, я знал, что скоро ты не вернешься. То есть если рассматривать слона с головы, а?
— Если рассматривать слона с хвоста — тоже.
— Почти угадал. — Генри засмеялся. — Господи, как хорошо слышать твой голос, сынок. Я всегда считал, что от тебя хорошо пахнет. Я хочу сказать, если и существовало когда-нибудь воплощение невинности, то это был ты, жевавший по две мятные пластинки сразу. Что же ты стоишь? Присядь. Позволь рассказать о моих тревогах, потом расскажешь мне о своих. Венисовский причал снесли, трамвайные пути убрали, все уничтожили. На следующей неделе снесут и этот дом. Куда бегут крысы? Как нам покинуть корабль без спасательных шлюпок?
— Ты серьезно?
— Они наняли термитов, работающих там, внизу, круглосуточно. На крыше — динамитная команда, в стены вгрызаются гоферы и бобры, а шайка трубачей, разучивающих «Иерихон, Иерихон»,[174] репетируют рядом с домом, чтобы все это поскорее рухнуло. Куда мы катимся? Мало нас осталось. После смерти Фанни Сэм спился и умер, а Джимми утонул в ванне, и почти сразу все почувствовали, что их обвела вокруг пальца — как ты бы сказал, подтолкнула под локоток — старушка Смерть. Незаметно подкралась печаль, и этого хватило, чтобы в одно мгновение опустошить многолюдный дом. Стоит запустить одну больную мышь, и начнется мор, это уж точно.
— Неужели все так плохо, Генри?
— Все хуже и хуже, но ничего. В любом случае пора двигаться дальше. Я всегда говорил: каждые пять лет бери зубную щетку, покупай новые носки — и вперед. У тебя нет на примете местечка для меня? Знаю, знаю. Там вокруг одни белые. Но я же слепой, черт возьми, так какая им разница?
— Есть свободный уголок в гараже, где я стучу на машинке. Он твой!
— Бог, Иисус и Святой Дух явились мне разом.
Генри откинулся в кресле и ощупал свои губы.
— Это улыбка или улыбка? Я останусь всего на пару деньков! — добавил он быстро. — Потом этот негодяй, муж моей сестры, приедет за мной из Нового Орлеана и отвезет домой. Так что я избавлю тебя от своей персоны…
Он перестал улыбаться и наклонился ко мне.
— Опять попал в дурные места? Там, в большом мире?
— Не совсем, Генри, но что-то вроде того.
— Надеюсь, не совсем дурные.
— Хуже, — сказал я, выдержав паузу. — Ты не мог бы пойти со мной прямо сейчас? Мне очень неприятно дергать тебя, Генри. И прости, что вытаскиваю тебя на улицу среди ночи.
— Ничего, сынок, — тихо усмехнулся Генри, — ночь, день: я что-то слышал об этом в детстве.
Он встал и пошарил вокруг рукой.
— Погоди, — сказал он, — найду палку. Чтобы видеть.
53
Крамли, слепой Генри и я пришли на кладбище в полночь.
Я в нерешительности остановился, внимательно глядя на ворота.
— Он там. — Я кивнул в сторону могил. — В ту ночь Человек-чудовище побежал туда. Что делать, если встретим его?
— Не имею ни малейшего понятия.
Крамли зашел в ворота.
— Черт! — произнес Генри, — Почему бы нет?
И тоже пошел, оставив меня позади, во тьме, на пустынном тротуаре. Я догнал их.
— Подождите-ка, дайте принюхаться. — Генри сделал глубокий вдох и выдохнул. — Ага. Точно, кладбище!
— Это тебя беспокоит, Генри?
— Черт возьми, — сказал Генри, — мертвые не кусаются. Это из-за живых я теряю сон. Хочешь знать, откуда мне известно, что это не просто старый сад? В садах полно разных цветов, смесь запахов. А на кладбищах? В основном туберозы. С похорон. Всегда ненавидел похороны из-за этого запаха. Ну как я вам, детектив?
— Класс, но… — Крамли отвел нас подальше от света. — Если торчать здесь, кто-нибудь решит, что мы торопимся в могилу, и сделает свое дело. Шевелитесь!
И Крамли быстро зашагал среди тысяч молочно-белых надгробий.
«Человек-чудовище, — подумал я, — где ты?»
Я оглянулся и посмотрел на машину Крамли: она показалась мне дорогим другом, от которого я уходил за тысячи миль.
— Ты еще не сказал, — заговорил Генри, — зачем притащил слепого на кладбище. Тебе нужен мой нюх?
— Ты просто собака Баскервилей, — ответил Крамли. — Сюда.
— Не трогай за живое. У меня собачий нюх, но гордость, как у кошки. Берегись, Смерть.
И он пошел, ведя нас между надгробиями, постукивая тростью направо и налево, словно прогоняя ночь, отбивая от нее большие куски или высекая искры там, где никогда не было ни единой искры.
— Ну как я вам? — прошептал он.
Я стоял рядом с Генри посреди всех этих мраморных плит с именами и датами, понемногу зарастающих травой.
Генри принюхался.
— Кажется, я чую большущий камень. Так. Что тут за азбука Брайля?
Он переложил трость в левую руку, а правая, дрожа, нащупала имя, высеченное над дверью склепа в греческом стиле.
Его пальцы с дрожью очертили «А» и застыли на конечном «Т».
— Знакомое имя. — В его белых, как бильярдные шары, глазах защелкали листки картотеки. — Не покоится ли здесь великий и давно почивший владелец киностудии, той самой, что находится за стеной?
— Да.
— Крикливый тип, сидевший на всех заседаниях, так что никому уже не оставалось места? Тот, что сам готовил себе бутылочки, сам менял себе пеленки, в два с половиной года купил песочницу, в три уволил детсадовскую воспитательницу, в семь отправил десяток мальчишек прямиком к медсестре, в восемь ухаживал за девочками, в девять их имел, в десять приобрел автостоянку, а в двенадцать — киностудию, когда умер его отец, оставив сыну Лондон, Рим и Бомбей? Этот?!
— Генри, — вздохнул я, — ты чудо.
— Жить от этого не легче, — тихо признался Генри. — Что ж.
Он протянул руку, чтобы еще раз нащупать имя и дату под ним.
— Тридцать первое октября тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Хеллоуин! Прошло двадцать лет. Интересно, каково это — так долго быть в мертвецах? Черт. Давайте спросим! Кто-нибудь прихватил инструмент?
— Я взял лом из машины, — сказал Крамли.
— Хорошо… — Генри вытянул вперед руку. — Если только эта дьявольская штуковина не…
Его пальцы дотронулись до двери склепа.
— Святые угодники! — воскликнул он.
Дверь медленно отворилась на смазанных петлях. Никакой ржавчины! Никакого скрипа! Они смазаны маслом!
— Господи Иисусе! Заходи кто хочешь! — Генри живо отошел в сторону. — Раз ты зрячий… иди первым, ладно?
Я коснулся рукой двери, и та открылась, мягко скользнув во тьму.
— Сюда.
Крамли подскочил ко мне, зажег карманный фонарь и ступил в кромешную мглу.
Я пошел за ним.
— Не оставляйте меня здесь, — попросил Генри.
Крамли показал на вход:
— Закрой дверь. Мы же не хотим, чтобы кто-то увидел наш фонарь…
Я помедлил. Столько раз я видел в кино, как двери склепа захлопываются и люди оказываются в ловушке навсегда — кричи не кричи. А что, если там, внутри, стоит Человек-чудовище?..
— Боже! Смотрите! — Крамли толкнул дверь, оставив лишь узкую щелку для воздуха. — Вот.
Он обернулся.
Комната была пуста, если не считать большого каменного саркофага, стоящего посредине. На нем не было крышки. Внутри должен был находиться гроб.
— Черт! — сказал Крамли.
Мы заглянули внутрь. Гроба не было.
— Не говорите мне ничего! — сказал Генри. — Надену-ка я мои черные очки, так лучше чувствуется запах! Вот так!
И пока мы смотрели, Генри наклонился, глубоко втянул в себя воздух, задумался, задержав мысль за темными очками, потом выдохнул, потряс головой, сделал еще один вдох. И просиял.
— Дудки! Нет тут ничего! Верно?
— Верно.
— Арбутнот, где ты? — прошептал Крамли.
— Здесь его нет, — сказал я.
— И никогда не было, — добавил Генри.
Мы быстро взглянули на него. Он кивнул, чрезвычайно довольный собой.
— Никого с таким именем или с любым другим никогда здесь не было. Если б был, я бы почуял, понимаете? Ни чешуйки перхоти, ни ногтя, ни волоска из носа. Здесь нет даже запаха туберозы или ладана. В этом месте, друзья, никогда не лежал мертвец, ни часа не лежал. Нос даю на отсечение!
Ледяной пот заструился у меня по спине, затекая в ботинки.
— Боже, — пробормотал Крамли, — зачем они построили склеп и никого туда не положили, а только сделали вид?
— Может быть, и трупа никогда не было? — предположил Генри. — Что, если Арбутнот не умирал?
— Нет-нет, — сказал я. — Газеты трубили об этом по всему миру, пять тысяч людей пришли на похороны. Я сам там был. Я видел катафалк.
— Что же они тогда сделали с телом? — спросил Крамли. — И для чего?
— Я…
И тут дверь склепа с грохотом захлопнулась!
Генри, Крамли и я закричали от испуга. Я схватился за Генри, Крамли схватил нас обоих. Фонарь упал. Мы с проклятиями наклонились, стукнувшись головами, и у нас перехватило дыхание, ибо мы услышали, как в двери поворачивается ключ: нас заперли. Мы стали обшаривать пол, чуть не подрались из-за фонаря и наконец направили дрожащий луч на дверь в жажде жить, видеть свет, дышать ночным воздухом.
Все втроем мы навалились на дверь.
И — о боже! — она действительно была заперта!
— Господи, как мы выберемся отсюда?
— Нет, только не это, — повторял я.
— Заткнись, — велел Крамли, — дай подумать.
— Думай скорее, — сказал Генри. — Тот, кто нас запер, пошел за подмогой.
— Может, это всего лишь сторож? — предположил я.
«Нет, — подумал я тут же, — это был Человек-чудовище».
— Нет, дай-ка мне фонарь. Ага. Черт! — Крамли посветил фонарем вверх, вокруг. — Все петли снаружи, до них не добраться.
— Что ж, вряд ли здесь есть другие двери, а? — высказался вслух Генри.
Крамли резко направил луч фонаря на его лицо.
— Что я такого сказал? — спросил Генри.
Крамли отвел луч света от его лица и стал обходить склеп, держа перед собой фонарь. Он светил то вверх, то вниз, освещая то потолок, то стены, затем провел лучом вдоль швов каменной кладки и вокруг маленького окошка, такого крохотного, что даже кошка не смогла бы в него пролезть.
— Может, покричать в окно?
— Не хотел бы я встретиться с тем, кто откликнется, — заметил Генри.
Крамли ходил кругами, размахивая фонарем.
— Другая дверь, — бормотал он. — Должна быть другая дверь!
— Должна! — вскрикнул я.
Я почувствовал, как в глазах закипают слезы, а горло пересохло от жестокой засухи. Я представил, как среди могил звучат тяжелые торопливые шаги, как они приближаются, чтобы убить меня, как стремительно надвигаются тени, чтобы задушить меня, они называют меня Кларенсом, они желают мне смерти. Я представил, как распахивается дверь и нас накрывает, захлестывает многотонная волна книг, фотографий и открыток с автографами.
— Крамли! — Я выхватил у него фонарь. — Дай-ка мне!
Осталось только одно место, где мы еще не смотрели. Я заглянул в саркофаг. Вглядевшись, я так и ахнул.
— Смотрите! — сказал я. — Там. Боже, что это? Ямки, зубчики, бугорки. Никогда не видел ничего подобного в могилах. А там, смотрите, на стыке: уж не свет ли оттуда пробивается? Точно, черт! Погодите!
Я вскочил на край саркофага и, удерживая равновесие, взглянул на одинаковые, равномерно расположенные зубцы на дне.
— Будь осторожен! — крикнул мне Крамли.
— Сам будь осторожен!
Я спрыгнул на дно саркофага.
Послышался скрип смазанного механизма. Подо мной пришел в движение какой-то противовес, и комната вокруг закачалась.
Я начал опускаться вниз вместе с полом. Мои ступни утонули во тьме, затем и колени. Крышка стала наклоняться вместе со мной и вдруг остановилась.
— Ступеньки! — воскликнул я. — Лестница!
— Что? — Генри потыкал палкой дно. — Да!
Дно саркофага в горизонтальном положении было похоже на ряд пирамидальных зубцов. Теперь же, когда дно наклонилось, они превратились в удобные ступени, ведущие под могилу.
Я начал торопливо спускаться вниз.
— Пошли!
— Пошли?! — переспросил Крамли. — Ты хоть знаешь, черт возьми, что там внизу?
— А там что, черт возьми! — показал я на захлопнувшуюся входную дверь.
— Проклятье!
Крамли залез на саркофаг и подал руку Генри. Тот подпрыгнул, как кошка.
Я медленно спускался по лестнице, дрожа, и водил фонарем. Генри и Крамли, чертыхаясь и пыхтя, шли следом.
Крышка саркофага плавно переходила внизу в следующий пролет лестницы, уводящий еще на десять футов в глубь катакомбы. Когда Крамли, шедший последним, переступил эту грань, крышка с шорохом поднялась и захлопнулась. Я бросил взгляд на закрывшийся над нами потолок и увидел висящий в полумраке противовес. С обратной стороны исчезнувшей лестницы торчало огромное железное кольцо. Отсюда, снизу, можно было схватиться за кольцо и, используя свой вес, опустить лестницу.
Все это я увидел в одно мгновение.
— Не нравится мне это место! — сказал Генри.
— Тебе-то откуда знать, что это за место? — спросил Крамли.
— И все равно не нравится. Слышишь? — сказал Генри.
Наверху ветер — или что-то другое — бился о входную дверь.
Крамли схватил фонарь и посветил им во все стороны.
— Теперь и мне не нравится это место.
В десяти футах от нас в стене виднелась дверь. Крамли дернул за ручку и что-то проворчал. Дверь открылась. Пропустив Генри между нами, мы с Крамли протиснулись в нее. Дверь захлопнулась за нашими спинами. И мы побежали.
«Прочь от чудовища, — думал я, — или прямо к нему в лапы?!»
— Не смотри! — крикнул Крамли.
— Что ты имеешь в виду: не смотри? — Генри молотил по воздуху своей тростью, стуча ботинками по каменному полу и мечась от стены к стене между нами.
Крамли, бежавший впереди, крикнул:
— Просто не смотри, и все!
Но я, пока мы мчались, натыкаясь на стены, все же разглядел груды костей и пирамиды черепов, разбитых гробов и разбросанных венков, через которые мы с шумом пробирались; загробное побоище; расколотые урны для благовоний, осколки статуй, растерзанные иконы, словно в разгар долгих похоронных торжеств смерть выпустила, прогоняя нас, шрапнель как раз в тот момент, когда мы убегали с одним-единственным фонариком, луч которого отскакивал от зеленовато-замшелых потолков и втыкался в квадратные дыры, где разлагалась плоть и улыбались оскалы черепов.
«Не смотреть? — думал я. — Нет, не останавливаться!» Я едва не толкнул Генри в бок, опьяненный страхом. Он осадил меня, хлестнув тростью, и припустил вперед, как изобличенный злодей.
Мы вслепую переносились из одной страны в другую, от груды костей к грудам жестянок, от мраморных сводов к бетонным, и вдруг очутились на территории старого, немого, черно-белого. Повсюду громоздились коробки с пленками, мелькали имена и названия фильмов.
— Черт, где это мы? — проговорил Крамли, задыхаясь.
— Раттиган! — услышал я свой собственный задыхающийся голос. — Ботуин! Боже мой! Мы же… на «Максимус филмз»! По ту сторону, мы прошли под стеной, сквозь стену!
В самом деле, мы оказались в подземном кинофонде Мэгги Ботуин и преисподней Констанции Раттиган, среди плохо освещенных фотопейзажей, по которым они бродили в 1920-м, в 22-м и 25-м. Это были уже не захоронения костей, а старые подвалы синематеки, о которой говорила мне Констанция во время наших прогулок. Я оглянулся во тьме и увидел, как настоящие мертвецы исчезают, а из мрака выступают призраки фильмов. Мимо проплывали названия: «Муж индианки»,[175] «Коварный доктор Фу Маньчжу»,[176] «Черный пират».[177] Здесь были не только фильмы, снятые на «Максимусе», но и ленты других киностудий, одолженные или украденные.
Меня словно разрывали на части. Одна половинка рвалась прочь из мрачных подземелий. Другой хотелось потрогать, прикоснуться, увидеть эти древние призрачные тени, преследовавшие меня все детство, заставлявшие меня скрываться от света на нескончаемых дневных сеансах.
«Боже! — воскликнул я про себя. — Не уходите! Чейни! Фэрбенкс! Человек в этой чертовой железной маске! Подводный капитан Немо! Д'Артаньян! Подождите меня! Я вернусь. Вернусь, если останусь жив! До скорого!»
Все это — лишь испуганный и отчаянный лепет, внезапно накатившая волна любви и страха, погасившая мое глупое бормотание.
«Не заглядывайся на красоток, — сказал я себе. — Помни о мраке. Беги. И ради бога, не останавливайся!»
Мы в панике бежали, быстрее и быстрее, подстегиваемые эхом собственных шагов. Хором крича, единой массой мы промчались последние ярдов тридцать, и наконец я и слепой Генри вслед за Крамли, размахивавшим, как обезумевшая макака, своим фонариком, врезались в последнюю дверь.
— Господи! Если она заперта…
Мы ухватились за дверную ручку.
Я похолодел, вспомнив старые фильмы. Дверь со скрипом открывается: Нью-Йорк затоплен, соленые волны над ним затягивают тебя туда, в глубину. Дверь со скрипом открывается, и адский огонь испепеляет тебя, превращая в мумифицированные останки. Дверь со скрипом открывается, монстры из будущего хватают тебя своими ядерными когтистыми лапами и швыряют в бездонный колодец. И ты с криком падаешь в вечность.
Вспотевшей рукой я взялся за ручку. Из-за двери доносились шорохи Гуанахуато.[178] Меня снова ждал тот длинный туннель в Мексике, где я однажды уже проходил сквозь ужасный строй: 110 мужчин, женщин и детей, высохших, как табачный лист, мумий выскакивали из своих могил и выстраивались в ряд в ожидании туристов и Судного дня.
«Гуанахуато? Здесь? — подумал я. — Не может быть!»
Я толкнул дверь. Она отворилась, совершенно бесшумно повернувшись на смазанных петлях.
На мгновение мы испытали шок. Мы вошли, открыв рот от удивления, и захлопнули за собой дверь.
Мы огляделись вокруг.
Рядом стояло большое кресло.
И пустой письменный стол.
С белым телефоном посередине.
— Где мы? — спросил Крамли.
— Судя по его дыханию, наш малыш знает, где мы, — заметил Генри.
Луч от фонаря Крамли запрыгал по комнате.
— Пресвятая Дева Богородица, Цезарь и Христос, — вздохнул я.
Передо мной были…
Кресло Мэнни Либера.
Стол Мэнни Либера.
Телефон Мэнни Либера.
Кабинет Мэнни Либера.
Я обернулся и увидел зеркало, прятавшее ныне невидимую дверь.
Полупьяный от истощения, я уставился на свое отражение в этом холодном стекле.
И вдруг увидел…
Двадцать шестой год. Оперная певица в своей гримерной, голос из Зазеркалья зовет, поучает, подсказывает, желает, чтобы она прошла сквозь зеркало, как Алиса шагнула в страшное Зазеркалье… растворенная в отражениях, спускаясь и исчезая в преисподней, она идет вслед за человеком в черном плаще и белой маске, который ведет ее к гондоле, покачивающейся на темных волнах канала, и везет в свое тайное убежище, где стоит кровать в форме гроба.
Зеркало Призрака.
Дверь, через которую Призрак выходит из страны мертвых.
И вот передо мной…
Его кресло, его стол, его кабинет.
Но он не призрак. Он — Человек-чудовище.
Я оттолкнул кресло.
Человек-чудовище… приходит повидаться с Мэнни Либером?
Я пошатнулся и отступил назад.
«Мэнни, — думал я. — Он никогда по-настоящему не отдавал приказы, только получал. Он лишь тень, а не суть. Интермедия, а не гвоздь программы. Управлял ли он студией? Нет. Был лишь телефонным проводом, по которому передавались голоса? Да. Мальчик на посылках. Рассыльный, что приносит шампанское и сигареты, точно! Однако он сидит в этом кресле? Он никогда в нем не сидел. Потому что…»
Крамли подтолкнул Генри:
— Шевелись!
— Что? — в оцепенении проговорил я.
— Кто-нибудь ворвется сюда через зеркало с минуты на минуту!
— Зеркало?! — вскричал я.
Я протянул руку.
— Нет! — закричал Крамли.
— Что он задумал? — спросил Генри.
— Хочу посмотреть назад, — сказал я.
Я не мог оторваться, глядя в длинный туннель, поражаясь, насколько долго мы по нему бежали, от страны к стране, от тайны к тайне, через двадцать лет — от Хеллоуина до Хеллоуина. Туннель уходил под землю и через хранилища жестянок с пленками вел к безымянной гробнице. Мог ли я пробежать весь этот путь без Крамли и Генри, разгоняя тени своим гулким дыханием, которое эхом отдавалось в стенах?
Я прислушался.
Мне показалось или там, вдалеке, распахнулась и захлопнулась дверь? Бросилось ли за мной в погоню темное войско или всего лишь Человек-чудовище? Неужели орудие смерти вот-вот начнет крошить черепа, промчится вихрем сквозь туннель и со страшной силой отбросит меня прочь от зеркала? Неужели…
— Проклятье! — чертыхнулся Крамли. — Идиот! Уходи!
Он ударил меня по руке. Зеркало закрылось.
Я схватил телефонную трубку и набрал номер.
— Констанция! — прокричал я. — В Гринтауне.
Констанция что-то крикнула мне в ответ.
— Что она сказала? — Крамли пристально заглянул мне в глаза. — Не важно, — добавил он, — потому что…
Зеркало дрогнуло. Мы бросились бежать.
54
Киностудия была так же темна и пустынна, как и кладбище за стеной.
Два города смотрели друг на друга сквозь ночной воздух и притворялись одинаково мертвыми. Мы были единственными живыми и теплыми существами на этих улицах. Наверное, где-то Фриц просматривал ночные пленки, на них мелькали Галилея, разложенные угли, навевающий воспоминания Христос и рассветный ветер, стирающий следы на песке. Где-то Мэгги Ботуин склонилась над своим телескопом, рассматривая закоулки китайской глубинки. Где-то рыскал Человек-чудовище, а может, и нет.
— Плюнь ты на все! — сказал Крамли.
— За нами никто не гонится, — отозвался Генри. — Послушай меня, это тебе слепой говорит. Куда мы теперь?
— К моим бабушке с дедушкой.
— Что ж, звучит неплохо, особенно теперь, — сказал Генри.
Мы торопливо зашагали.
— Боже, боже, — перешептывались мы, — знает ли кто-нибудь на студии об этом потайном ходе?
— Если и знает, то никогда не скажет.
— Только представь. Если никто ничего не знал и Человек-чудовище приходил каждую ночь или каждый день и слушал из-за стены, то через какое-то время ему все уже было известно. Все дела, все входы и выходы, все аферы с бумагами, все женщины. Накопи побольше информации, и можно собирать дань. Потрясти Гаем у всех перед носом, забрать деньги и деру.
— Гаем?
— Куклой Гая Фокса,[179] чучелом для фейерверков, тем самым Гаем, которого швыряют в огонь каждый год пятого ноября в День Гая Фокса в Англии. Это вроде нашего Хеллоуина, только с религиозно-политическим уклоном. Фокс когда-то чуть не поджег парламент. Его поймали и повесили. И у нас тут что-то похожее. Человек-чудовище задумал взорвать «Максимус». Не в буквальном смысле, а расколоть студию подозрениями. Напугать всех. Потрясти перед ними этим жупелом. Может, он вытряхивал из них деньги годами. Никто другой не додумался. Он как тайный маклер, использующий секретную информацию.
— Хо-хо! — воскликнул Крамли. — Слишком складно все выходит. Мне не нравится. Ты думаешь, никто не знает, что Человек-чудовище прячется за стеной, за зеркалом?
— Ага.
— Тогда почему же сотрудники студии или некоторые из них, например твой босс Мэнни, бьются в истерике при виде роевской глиняной куклы с лицом чудовища?
— Ну…
— А может, Мэнни знает, что чудовище здесь, и боится его? Может, Человек-чудовище ночью пришел на студию, увидел работу Роя и в гневе уничтожил ее? А теперь Мэнни боится, что Рой будет шантажировать его, потому что Рой знает о существовании Человека-чудовища, а все остальные не знают? Ну же, ну, ну? Ответь же!
— Боже мой, Крамли, заткнись!
— «Заткнись»! Что за грубый тон?
— Я думаю.
— Ага, слышу, как вертятся шестеренки. Кто он? Неужели никто не знает, кто прячется за зеркалом и подслушивает? Значит, они боятся неведомого? Или они знают и боятся еще больше, потому что за многие годы Человек-чудовище накопил про всех столько гадостей, что может разгуливать, где ему вздумается, собирать дань и восвояси убегать, ныряя под стену? Они не смеют перечить ему. Возможно, он заготовил письма и какой-нибудь адвокат разошлет их, как только с Человеком-чудовищем случится несчастье. Ты же видел, как Мэнни паникует, как по десять раз на дню бегает стирать трусы? Ну так что же? Кто он такой? Или у тебя есть третья версия?
— Не пугай меня. Я впаду в панику.
— Черт, малыш, я совсем не хотел тебя пугать, — сказал Крамли, горько скривив губы, словно проглотил лимон. — Прости, что перепугал тебя, но я не могу тратить время на твои половинчатые, недоделанные умозаключения. Я только что пробежал через туннель, и за мной гнался целый рой преступников, чей улей ты разворошил. Мы и впрямь потревожили гнездо мафии или всего лишь ловкого маньяка-одиночку? Догадки, сплошные догадки! Где Рой? Где Кларенс? Где чудовище? Покажи мне хотя бы один труп! Что скажешь?
— Погоди.
Я остановился, повернулся и пошел в другую сторону.
— Куда собрался? — проворчал Крамли.
Вслед за мной он забрался на невысокий холм.
— Где мы, черт возьми?
Он огляделся, напряженно всматриваясь во тьму.
— На Голгофе.
— Что это там наверху?
— Три креста. Ты жаловался, что у тебя нет трупов?
— Ну и что?
— У меня ужасное предчувствие.
Я протянул руку и дотронулся до основания креста. Рука покрылась чем-то липким и пахла чем-то грубым, как сама жизнь.
Крамли сделал то же самое. Он понюхал пальцы и кивнул, определив, что это за запах.
Мы посмотрели наверх, на крест, уходящий в небо. Через некоторое время наши глаза привыкли к темноте.
— Там нет никакого тела, — сказал Крамли.
— Нет, хотя…
— Вполне логично, — произнес Крамли и, спотыкаясь, побрел в сторону Гринтауна.
— Иисус? — прошептал я. — Иисус…
У подножия холма Крамли окликнул меня:
— Не стой там как истукан!
— А я и не стою тут как истукан!
Медленно досчитав до десяти, я крепко вытер кулаками глаза, шмыгнул носом и сбежал вниз.
Я повел Генри и Крамли по дорожке, ведущей к дому моей бабушки.
— Пахнет геранью и лилиями.
Генри поднял голову.
— Да.
— А еще скошенной травой, мебельным лаком и огромным количеством кошек.
— Студии нужны крысоловы. Генри, здесь ступеньки, восемь ступенек вверх.
Мы стояли на крыльце, с трудом переводя дух.
— Боже мой! — Я посмотрел на Иерусалимские холмы за Гринтауном и на Галилейское море за Бруклином. — Как же я раньше этого не понял. Человек-чудовище пошел тогда не на кладбище, он вошел на студию! Ловко придумано. Если он входит через туннель, никто и не заподозрит, что он шпионит за жертвами своего шантажа. Видите, как он напугал всех этим трупом на стене, потом забрал деньги, потом напугал всех снова и опять собрал дань!
— Если только он действительно этим промышляет, — сказал Крамли.
Я судорожно набрал в грудь воздуха и наконец выдохнул.
— Есть еще одно мертвое тело, которое я тебе не смог продемонстрировать.
— Даже слышать об этом не желаю, — ответил Крамли.
— Тело Арбутнота.
— Черт, а ведь верно!
— Кто-то его выкрал, — сказал я. — Причем давно.
— Нет, позвольте, — вмешался слепой Генри. — Его никогда и не было. Там все чисто, в этой ледяной могилке.
— Так где же тело Арбутнота было все эти годы? — спросил Крамли.
— Ты детектив, вот и расследуй.
— Ладно, — сказал Крамли, — как вам такая версия? Пьянка по случаю Хеллоуина. Кто-то подмешивает яд в выпивку и дает ее Арбутноту в последний момент перед его уходом. Арбутнот умирает прямо за рулем, врезается в другую машину и вылетает с дороги. Вот тебе и прикрытие. Вскрытие показывает, что яда в его теле хватило бы, чтобы завалить даже слона. Перед похоронами, вместо того чтобы закопать улику, ее сжигают. Арбутнот густыми клубами дыма вылетает в трубу. А пустой саркофаг по-прежнему ждет его в склепе, где все и раскрылось благодаря присутствующему здесь слепому Генри.
— О да, это я раскрыл, точно, — подтвердил Генри.
— Человек-чудовище, зная, что могила пуста, а может, даже зная, почему она пуста, использует склеп как базу, вешает куклу, похожую на Арбутнота, на лестницу и смотрит, как вся эта компания за стеной бегает в ужасе, как ошпаренные муравьи. Ну как?
— И все равно это не поможет нам найти ни Роя, ни Иисуса, ни Кларенса, ни чудовище, — сказал я.
— Господи, избавь меня от этого парня! — взмолился Крамли, обращаясь к Небесам.
И Небеса его услышали.
Издалека на аллеях студии донесся страшный грохот, послышались взрывы выхлопных газов, гудки и крик.
— Это Констанция Раттиган, — заметил Генри.
Констанция припарковала машину напротив старого дома и выключила мотор.
— Даже когда она выключает зажигание, — сказал Генри, — я все равно слышу гудение ее мотора.
Мы встретили ее у входа.
— Констанция! — воскликнул я. — Как тебе удалось проехать мимо охранника?
— Легко, — улыбнулась она. — Он оказался здешним старожилом. Я напомнила, как однажды атаковала его в мужском спортзале. Пока он краснел, я с ревом влетела в ворота! Лопни мои глаза, да ведь передо мной величайший слепой в мире!
— А ты по-прежнему работаешь на маяке, указываешь путь кораблям? — спросил Генри.
— Обними меня.
— Ты просто пышечка.
— А это Элмо Крамли, старый сукин сын!
— Она никогда не ошибается, — сказал Крамли, когда Констанция сжала его в объятиях, едва не поломав ему все ребра.
— Пойдемте-ка отсюда подальше, — сказала Констанция. — Генри, веди нас!
— Уже веду! — отозвался Генри.
Когда мы выезжали со студии, я шепнул:
— Голгофа.
Проезжая мимо древнего холма, Констанция замедлила ход.
Тьма была кромешная. Ни луны. Ни звезд. Это была одна из тех ночей, когда туман очень рано приходит с моря, накрывая весь Лос-Анджелес и поднимаясь на высоту около пятисот футов. Самолеты глушат моторы, аэропорты закрываются.
Я напряженно вглядывался в верхушку этого маленького холма, надеясь увидеть, как пьяный Христос совершает прощальное Вознесение.
— Иисус! — шепотом позвал я.
Но облака немного рассеялись. И я увидел, что на крестах никого нет.
«Трое ушли из жизни, — думал я. — Кларенс захлебнулся в бумагах, Дока Филипса средь бела дня утащила мгла собора, оставив лишь один башмак. И вот теперь…»
— Ты что-нибудь видишь? — спросил Крамли.
— Может быть, завтра.
«Когда я отодвину Камень. Если только у меня хватит духу».
Все сидящие в машине замолкли в ожидании.
— Прочь отсюда, — подсказал Крамли.
— Прочь, — тихо согласился я.
У ворот Констанция прокричала охраннику что-то нецензурное, и тот отшатнулся.
Мы поехали в сторону моря, к дому Крамли.
55
Мы остановились возле моего дома. Когда я забежал, чтобы взять свой восьмимиллиметровый проектор, зазвонил телефон.
После двенадцатого звонка я схватил трубку.
— Ну? — спросила Пег. — Почему ты ждешь двенадцать звонков, держа руку на телефоне?
— Надо же, женская интуиция.
— Что стряслось? Кто пропал? Кто спит в мамочкиной кроватке? Ты не звонил. Будь я там, я бы выгнала тебя из дома. На расстоянии это сделать трудновато, но я попробую: убирайся!
— Ладно.
Этого удара ее сердце не выдержало.
— Подожди! — встревожилась она.
— Ты же сама сказала: убирайся!
— Да, но…
— Крамли ждет меня на улице.
— Крамли! — взвизгнула она. — Святые угодники! Крамли?!
— Он меня защитит, Пег.
— Защитит от твоих панических припадков? Он что, может сделать тебе искусственное дыхание рот в рот? Проследить, чтобы ты съел завтрак, обед и ужин? Запереть от тебя холодильник, когда ты отрастишь пузо? Он что, заставляет тебя менять нижнее белье?
— Пег!
И мы оба немного посмеялись.
— Ты правда собираешься уходить? Мамочка прилетает домой в пятницу, рейс шестьдесят семь, авиакомпания «Пан Америкэн». Будь дома! Чтобы все убийства были раскрыты, трупы захоронены, а от хищниц-любовниц даже духу не осталось! Если не сможешь встретить меня в аэропорту, будь в постели, когда мамочка хлопнет входной дверью. Ты еще не сказал: «Я люблю тебя».
— Я люблю тебя, Пег.
— И последнее… скажи напоследок: кто умер?
У края тротуара меня ждали Генри, Крамли и Констанция.
— Жена не хочет, чтобы меня видели с вами, — сказал я.
— Залезай в машину, — вздохнул Крамли.
56
Пока мы ехали на запад по пустынному бульвару, где вокруг не виднелось даже тени другой машины, Генри пересказывал все, что было с нами под землей, под стеной и снаружи. Было даже приятно слушать о нашем стремительном бегстве из уст слепого, который яростно кивал головой, с шумом втягивал носом воздух и рисовал на ветру черными пальцами: вот здесь был Крамли, здесь он сам, дальше я, а позади чудовище. Или как нечто за дверями гробницы, словно тесто, наползает, запечатывая нам выход. Бред! Но Генри рассказывал так, что нас дрожь пробрала, и мы закрыли все окна. Не помогло: ведь у машины не было крыши.
— Вот почему, — заявил Генри, снимая в финале свои темные очки, — мы призвали на помощь вас, безумная леди из Вениса.
Констанция нервно взглянула в зеркало заднего вида.
— Черт, мы едем слишком медленно!
И она пришпорила машину. Наши головы откинулись назад.
Крамли отпер входную дверь своего дома.
— О'кей. Располагайтесь! — проворчал он. — Который час?
— Поздно, — сказал Генри. — Жасмин благоухает так, что голова идет кругом.
— Правда? — крикнул Крамли.
— Нет, но звучит неплохо. — Генри улыбнулся невидимым зрителям. — Сходи за пивком.
Крамли раздал всем по пиву.
— Неплохо было бы добавить туда джина, — сказала Констанция. — Черт! Да там уже есть джин!
Я включил проектор в розетку, заправил пленку Роя Холдстрома, и мы выключили свет.
— Ну что? — Я щелкнул включателем проектора. — Начинаем.
Пошел фильм.
На стене в доме Крамли замелькали картинки. Из того, что можно назвать фильмом, там было всего каких-то тридцать секунд, да и то довольно сумбурных, будто Рой снял анимацию со своей скульптурой всего за несколько часов, а не потратил на съемки несколько дней, как обычно: придать фигуре позу, сделать снимок, затем передвинуть бюст и снять еще кадр, потом еще один и так далее.
— Боже святый! — прошептал Крамли.
Мы все сидели и смотрели, открыв рот, на существо, скакавшее по стене.
Это была копия Человека-чудовища, тот самый тип из «Браун-дерби».
— Не могу на это смотреть, — сказала Констанция.
И все-таки она смотрела.
Я украдкой бросил взгляд на Крамли и почувствовал себя снова как в детстве, когда мы с братом сидели в темном кинозале, а на экране появлялся Призрак Оперы, или Горбун из собора Парижской Богоматери, или Летучая Мышь. У Крамли было такое же лицо, как у моего брата тридцать лет назад, — завороженное и испуганное одновременно: в нем читалась смесь любопытства и отвращения — такое выражение бывает у людей, когда они смотрят, сами не желая того, на последствия дорожной аварии.
Ибо там, на стене, реальный и такой близкий, был Человек-чудовище. Каждая черточка его деформированного лица, каждое поднятие его бровей, каждое подрагивание ноздрей, каждое движение губ — все было в нем безупречно, как те наброски, что делал Доре, приходя домой после долгой ночной прогулки по черным от печной угольной сажи закоулкам Лондона, пряча под веками глаз гротескные образы, и вот уже нетерпеливые пальцы тянутся к карандашу, к чернилам, к бумаге, и началось! Как Доре делал наброски лиц лишь по памяти, так и внутренний взор Роя запечатлел Человека-чудовище и воспроизвел малейшее шевеление волосков в ноздрях, каждую ресницу на моргающих веках, изогнутое ухо и вечно капающую из дьявольского рта слюну. А когда Человек-чудовище в упор уставился на нас с экрана, мы с Крамли отпрянули. Он увидел нас. Он заставил нас испустить крик ужаса. Он пришел, чтобы нас убить.
Стена в гостиной снова стала темной.
Я услышал невнятный звук, сорвавшийся с моих губ.
— Глаза, — прошептал я.
Пошарив рукой в темноте, я перемотал пленку и пустил заново.
— Смотри, смотри, о, смотри! — вскрикнул я.
Камера наехала крупным планом на лицо.
Дикие глаза неподвижно смотрели на нас в безумной конвульсии.
— Это не глиняная кукла!
— Нет? — удивился Крамли.
— Это Рой!
— Рой?!
— В гриме, как будто бы он — чудовище!
— Не может быть!
Лицо слегка повернулось, живые глаза покосились в сторону.
— Рой…
И вновь наступила темнота.
Так же как тогда, под куполом собора Парижской Богоматери, чудовище посмотрело на меня — тем же взглядом, а потом отступило назад и исчезло…
— Господи! — выговорил наконец Крамли, глядя на стену. — И эта штука свободно разгуливает ночью по кладбищу?
— Или Рой разгуливает.
— Но это же глупо! Зачем ему это делать?!
— Человек-чудовище стал причиной всех его несчастий, из-за него Роя уволили и чуть не убили. Что еще остается делать, как не притвориться чудовищем, стать им: вдруг кто увидит. Если Рой Холдстром в гриме и прячется, он перестает существовать.
— И все равно глупо!
— Вся жизнь его — сплошная глупость, это точно, — согласился я. — А теперь? Теперь все всерьез!
— И какая ему от этого выгода?
— Месть.
— Месть?!
— Чтобы чудовище погибло от рук чудовища, — сказал я.
— Нет-нет. — Крамли замотал головой, — Бред какой-то. Запусти еще раз пленку!
Я запустил. По нашим лицам пронеслась череда картин.
— Это не Рой! — воскликнул Крамли. — Это глиняная скульптура, анимация!
— Нет, — сказал я и выключил проектор.
Мы сидели в темноте.
Констанция издала какой-то странный звук.
— О, знаете, что это? — сказал Генри. — Плач.
57
— Я боюсь идти домой, — сказала Констанция.
— А кто сказал, что ты должна идти домой? — ответил Крамли. — Бери раскладушку, выбирай любую комнату или спи среди джунглей.
— Нет, — прошептала она. — Это его место.
Мы все посмотрели на белую стену, где, словно отпечаток на сетчатке глаза, медленно угасал образ чудовища.
— Он не стал нас преследовать, — сказал Крамли.
— А вдруг? — Констанция шмыгнула носом. — Я не хочу ночевать одна в чертовом пустом доме у чертова океана, полного монстров. Я уже стара. И еще знайте: я собираюсь попросить какого-нибудь хмыря — помоги ему Бог — взять меня в жены.
Она взглянула в окно на джунгли, туда, где ночной ветер шевелил пальмовые листья и высокую траву.
— Он там.
— Прекрати, — сказал Крамли. — Мы даже не знаем, гнался ли за нами вообще кто-нибудь по кладбищенскому туннелю до самого кабинета. Не знаем, кто захлопнул дверь склепа. Может, это был ветер.
— Всегда так… — Констанция дрожала, как человек, погружающийся в трясину долгого зимнего недуга. — И что теперь?
Она откинулась в кресле, дрожа и обхватив руками себя за локти.
— Вот.
Крамли выложил на кухонный стол подборку фотокопий газетных статей. Три дюжины заметок, больших и маленьких, о последнем дне октября и первой неделе ноября 1934 года.
«АРБУТНОТ, КИНОМАГНАТ, ПОГИБ В АВТОКАТАСТРОФЕ» — гласил первый заголовок. «К. Пек Слоун, первый помощник продюсера студии „Максимус“, погиб в той же аварии вместе со своей женой Эмили».
Крамли постучал пальцем по третьей статейке. «Слоуны похоронены в один день с Арбутнотом. Заупокойная служба прошла в той же церкви напротив кладбища. Все похоронены на одном кладбище за стеной студии».
— Когда произошла авария?
— В три утра. На пересечении бульваров Гувера и Санта-Моники!
— Боже мой! На углу возле кладбища! И примерно в квартале от киностудии!
— Потрясающе удобно, правда?
— Далеко ходить не надо. Умираешь прямо возле морга, им остается только затащить тебя внутрь.
Нахмурившийся Крамли бросил взгляд на другую газетную колонку.
— Похоже, у них была чумовая вечеринка в честь Хеллоуина.
— А Слоун и Арбутнот там были?
— Здесь сказано, что Док Филипс предложил отвезти их домой, но они были пьяны и отказались. Док поехал на своей машине впереди, расчищая путь их машинам, и промчался на желтый свет. Арбутнот и Слоун поехали за ним, но уже на красный. И в них едва не врезалась какая-то неизвестная машина. Единственный автомобиль на улице в три часа ночи! Арбутнот и Слоун резко свернули, потеряли управление и врезались в телефонный столб. Док Филипс тут же подоспел со своей аптечкой. Но было уже бесполезно. Все мертвы. Трупы отвезли в морг, в ста ярдах оттуда.
— Господи боже! — произнес я. — Чисто сработано, черт побери!
— М-да, — задумчиво проговорил Крамли. — Вот и возьми его теперь за задницу, этого таблеточного аналитика-предсказателя Дока Филипса. На месте аварии оказался случайно. А теперь заведует медпомощью на студии, а заодно и полицией! Это он отвез тела в морг. Он как распорядитель готовил их к погребению. Верно? У него на кладбище все схвачено. В начале двадцатых он помогал рыть первые могилы. Принимал роды, провожал в последний путь, а в промежутках — лечил.
«А мурашки и в самом деле ползают», — думал я, ощупывая свои верхние конечности.
— Кто подписывал свидетельства о смерти? Док Филипс?
— Я уж думал, ты никогда не спросишь.
Крамли кивнул.
Наконец Констанция, присев, как ледяной истукан, на краешек дивана и бессмысленно глядя на газетные вырезки, произнесла, едва шевеля губами:
— Где кровать?
Я отвел ее в соседнюю комнату и посадил на кровать. Она взяла мои руки, словно это была раскрытая Библия, и сделала глубокий вдох.
— Малыш, кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что твое тело пахнет как кукурузные хлопья, а твое дыхание как мед?
— Таким был Герберт Уэллс. Он сводил женщин с ума.
— Меня уже поздно сводить с ума. Боже, какая она счастливая, твоя жена: ночью в кровати ее ждет здоровая пища.
Она со вздохом легла. Я сел на пол, ожидая, что она закроет глаза.
— Как тебе удалось, — прошептала она, — за три года нисколько не постареть, в то время как я состарилась на тысячу лет?
Она тихонько засмеялась. Большая слеза скатилась из ее правого глаза и растаяла на подушке.
— О черт! — горько произнесла она.
— Расскажи мне, — стал нашептывать я. — Скажи, что ты хочешь сказать?
— Я была там, — прошептала Констанция. — Двадцать лет назад. На студии. В ночь Хеллоуина.
Я затаил дыхание. За моей спиной в дверном проеме шевельнулась какая-то тень: это тихо прислушивался Крамли.
Констанция устремила неподвижный взгляд куда-то сквозь меня, в другой год и в другую ночь.
— Самая чумовая вечеринка из тех, что я видела. Все были в масках, никто не знал, кто тут, что он пьет, зачем и почему. В каждом съемочном павильоне разливали контрабандное пойло, а в аллеях слышался громкий хохот, и если бы Тара и Атланта были построены в ту ночь, их бы точно спалили. Там было около двух сотен статистов в костюмах и три сотни без костюмов, таскавших выпивку туда-сюда по этому кладбищенскому туннелю, как будто сухой закон все еще был в самом разгаре. Даже если спиртное легальное, думаю, трудно отказаться от такой забавы, верно? Тайные переходы среди могил и провалов, я имею в виду провальные ленты, пылящиеся на полках. Нам невдомек было тогда, что после автокатастрофы, всего через неделю проклятый туннель заложат кирпичом.
«Катастрофа года, — подумал я. — Арбутнот погиб, и людей на студии стало выкашивать, как слонов под ружейным огнем».
— Это не был несчастный случай, — шепнула Констанция.
Ее бледное лицо обрамляла, словно притягиваясь к нему, какая-то особенно густая темнота.
— Убийство, — проговорила она. — Самоубийство.
Пульс на моем запястье учащенно забился. Констанция взяла мою руку и крепко сжала.
— Да, — сказала она, — самоубийство и убийство. Мы так никогда и не узнали, как, почему и что произошло. Ты читал газеты. Поздно ночью, две машины на углу бульваров Гувера и Санта-Моники, и ни одного свидетеля. Все, кто был в масках, разбежались, так и не сняв их. Аллеи студии были похожи на рассветные венецианские каналы: пустые гондолы, причалы, усеянные оброненными серьгами и нижним бельем. Я тоже сбежала. Потом ходили слухи, что якобы Слоун застал Арбутнота со своей женой возле ограды или за оградой. А может, это Арбутнот застал Слоуна с его собственной женой. Господи, если любишь жену другого, а она занимается с мужем любовью на безумной вечеринке, неужели это может настолько свести с ума?! И вот одна машина на полном ходу преследует другую. Арбутнот гонится за Слоуном на скорости восемьдесят миль в час. На бульваре Гувера он врезается ему в зад и вбивает прямо в столб. Вся вечеринка тут же узнала новость! Док Филипс, Мэнни и Грок бросились туда, перенесли пострадавших в католическую церковь поблизости. Церковь Арбутнота. Он жертвовал ей деньги, чтобы не гореть в вечном огне, избежать геенны огненной, как он говорил. Но было слишком поздно. Они умерли, и тела отнесли в морг на другую сторону улицы. Я ушла задолго до этого. На следующий день у доктора и Грока был такой вид, будто они несли гроб на собственных похоронах. В полдень я закончила съемки последней сцены последнего в моей жизни фильма. Студия закрылась на неделю. На каждой съемочной площадке повесили траурные ленты, каждую улицу окутали искусственными облаками, туманом и моросью, а может, облака были настоящие? Газетные заголовки утверждали, что все трое были пьяны и счастливы, возвращаясь домой. Нет. Это была месть, настигшая и убившая любовь. Через два дня двух несчастных ублюдков и одну несчастную, жадную до любви сучку похоронили за стеной, там, где недавно рекой лилась выпивка. Туннель под кладбищем заложили кирпичом и… черт! — Она вздохнула. — Я думала, все кончилось. Но теперь — туннель открыт, фальшивый труп Арбутнота висит на стене, да еще этот ужасный человек в фильме с печальными, безумными глазами, — все начинается снова. К чему бы это?
Ее часы остановились, голос становился все тише, она засыпала. Ее губы еще шевелились. Слова, как призраки, еще слетали с губ, обрывками.
— Бедняжка, святой человек. Дурачок…
— Что за святой дурачок? — спросил я.
Крамли приник к двери.
Констанция, словно откуда-то из глубины, дала ответ:
— …священник. Бедная овечка. Его обманули. Ворвались люди с киностудии. В баптистерии кровь. Трупы, господи, трупы повсюду. Бедняга…
— Священник из церкви Святого Себастьяна? Этот бедняга?
— Конечно, конечно. Бедный он. И все бедные, — шептала Констанция. — Бедный Арби, глупый, печальный гений. Бедняга Слоун. Бедная его жена. Эмили Слоун. Что она такого сказала в ту ночь? Думала, будет жить вечно. Боже! Вот это сюрприз: проснуться в небытии. Бедная Эмили. Несчастный Холлихок-хаус.[180] Несчастная я.
— Что-что ты сказала? Кто несчастный?
— Хо… — невнятно бормотала Констанция, — ли… ок… хаус…
И она уснула.
— Холлихок-хаус? Не знаю фильма с таким названием, — прошептал я.
— Нет, — сказал Крамли, входя в комнату. — Это не фильм. Вот.
Он засунул руку под ночной столик, вытащил телефонный справочник и полистал страницы. Пробежав пальцем сверху вниз, он вслух прочел:
— Санаторий «Холлихок-хаус». Полквартала к северу от церкви Святого Себастьяна, так?
Крамли наклонился к самому уху Констанции.
— Констанция, — проговорил он. — Холлихок. Кого там держат?
Констанция застонала, прикрыла глаза рукой и отвернулась. Несколько последних слов о той далекой ночи были обращены к стене.
— …думала жить вечно… так мало знала… бедные все… бедный Арби… бедный священник… бедняга…
Крамли поднялся, бормоча:
— Черт! Проклятье! Ну конечно. Холлихок-хаус. Это же в двух шагах от…
— Церкви Святого Себастьяна, — закончил я. И добавил: — Отчего у меня такое чувство, что ты потащишь меня туда?
58
— Ты, — сказал мне Крамли за завтраком, — похож на умирающего. А ты, — он указал бутербродом с маслом на Констанцию, — на Справедливость без Милосердия.
— А я на кого похож? — спросил Генри.
— Тебя я не вижу.
— Вот ведь беда, — посетовал слепой.
— Скидывайте одежки, — скомандовала Констанция, неподвижно глядя в одну точку, словно читая какую-то идиотскую вывеску. — Пора искупаться. Едем ко мне!
И мы поехали к Констанции.
Позвонил Фриц.
— Ты мне сделал середину фильма, — прокричал он, — или это было начало? Теперь надо переделать Нагорную проповедь!
— А надо ли? — почти крикнул я.
— Ты в последнее время ее не перечитывал? — Фриц, судя по звукам, решил сделаться как Крамли, то есть рвал на себе последние остатки волос. — Так перечти! А потом напиши закадровый текст для всей нашей чертовой картины, чтобы он скрыл все десять тысяч рытвин, впадин и мозолей, оставшихся на заднице нашего эпоса. Ты что, за последнее время не перечитывал Библию целиком?
— Вообще-то нет.
Фриц вырвал у себя еще клок волос.
— Так давай пролистай по-быстрому!
— По-быстрому?!
— Через две страницы. Ровно в пять будь на студии с такой проповедью, которая бы сразила меня наповал, и таким закадровым текстом, чтобы Орсон Уэллс в штаны обмочился! Твой Unterseeboot Kapitan командует: погружение!
И он погрузился, повесив трубку.
— Одежду долой! — сказала Констанция, еще не совсем проснувшись. — Все в море!
Мы поплыли. Я плыл за Констанцией в прибойных волнах так далеко, как только мог; потом тюлени позвали ее с собой и унесли в океан.
— Боже! — сказал Генри, сидя по шею в воде. — Мое первое купание за многие годы!
К двум часам дня мы приговорили пять бутылок шампанского и вдруг почувствовали себя почти счастливыми.
Затем, не знаю как, я присел и написал свою Нагорную проповедь и прочел ее вслух под грохот волн. Когда я закончил, Констанция тихо сказала:
— Где бы мне записаться в воскресную школу?
— Иисус гордился бы, прочтя такую проповедь, — сказал слепой Генри.
— Я всегда знал, что ты… — Крамли налил мне в ухо шампанского, — гений.
— Черт возьми! — скромно произнес я.
Я вернулся в дом и добавил еще про то, как Иосиф с Марией въехали верхом в Вифлеем, нашли мудрых людей, положили Младенца на кучу соломы, а животные смотрели на них с недоверием, и среди всех этих полночных верблюжьих караванов, загадочных звезд и чудесных рождений я услышал за спиной голос Крамли:
— Святой бедняга.
Он набрал номер справочной.
— Голливуд? — сказал он. — Церковь Святого Себастьяна?
59
В полчетвертого Крамли подвез меня к церкви.
Он внимательно посмотрел мне в лицо, словно желая видеть не только мою башку, но и то, что болтается внутри.
— Перестань! — приказал он. — У тебя тупая самодовольная ухмылочка, приклеенная к губе, как цирковой билет. Как будто ты споткнулся, а с лестницы навернулся я!
— Крамли!
— Христос всемогущий, а как же вчерашняя погоня, когда мы кругами носились под стеной со скелетами, а Рой, который до сих пор скрывается, а слепой Генри, отгоняющий призраков своей палкой, а Констанция, которая к вечеру опять испугается и явится сдирать пластыри с моих незаживших ран? Это была моя идея — притащить тебя сюда! А теперь ты стоишь тут, как ученый клоун, готовый сигануть с обрыва!
— Святой бедняга. Дурачок. Бедный священник, — отозвался я.
— О нет, перестань!
И Крамли уехал.
60
Я бесцельно бродил по церкви, небольшой по размерам, но сверкавшей золотым убранством. Затем остановился перед алтарем, в котором было, наверное, золота и серебра, пожалуй, не меньше чем на пять миллионов долларов. Если отдать в переплавку возвышающееся посредине изображение Христа, можно было бы купить половину Монетного двора США. Как раз в тот момент, когда я стоял, ослепленный исходящим от креста светом, за спиной раздался голос отца Келли.
— Вы тот сценарист, что звонил по поводу своей проблемы? — негромко окликнул он из-за церковной кафедры.
Я не мог оторвать взгляд от ослепительного алтаря.
— У вас, наверное, много богатых прихожан, отец, — сказал я.
А про себя подумал: «Арбутнот».
— Нет, церковь пустует в пустые времена. — Отец Келли протиснулся через боковой проход и протянул мне свою широкую ручищу. Он был высок, шесть футов и пять дюймов ростом, атлетического телосложения. — Нам повезло, что есть несколько прихожан, которым совесть все время доставляет неприятности. Они силой заставляют церковь принимать их деньги.
— Вы говорите правду, отец.
— Будь я проклят, или забери меня Господь, если это не так. — Он рассмеялся. — Трудно брать деньги с прожженных грешников, но это все ж лучше, чем позволять им выкидывать эти деньги на скачках. Здесь у них больше шансов выиграть, ибо я через страх насаждаю в их души Христа. Пока психиатры занимаются болтовней, я попросту издаю вопль, от которого у половины паствы сердце уходит в пятки, а остальные обращаются в бегство. Давайте сядем. Вы любите шотландский виски? Я часто думаю: живи Христос в наше время, налил бы Он нам виски, смогли бы мы отказаться? Это ирландская логика. Идемте.
В кабинете он налил нам по рюмочке.
— По глазам вижу, эта штука вам не по вкусу, — заметил священник. — Оставьте. Так вы пришли по поводу той безумной картины, которую как раз заканчивают снимать на студии? Фриц Вонг действительно такой сумасшедший, как некоторые рассказывают?
— И такой же потрясающий.
— Приятно слышать, как сценарист хвалит своего босса. Я редко хвалил своего.
— Вы?! — воскликнул я.
Отец Келли засмеялся.
— В молодости я написал девять сценариев, и ни один не был снят, вернее сказать, снят и вынут из петли. До тридцати пяти лет я из кожи вон лез, чтобы как-то продать, сбыть, втереться, преуспеть. А потом послал все к черту и, хоть и поздновато, примкнул к священникам. Это было непросто. Церковь не берет легкомысленно с улицы таких, как я. Но я промчался через семинарию небрежным галопом, ибо незадолго до этого работал над кучей документальных фильмов о христианстве. А как насчет вас?
Я рассмеялся.
— Что смешного? — спросил отец Келли.
— Мне пришло в голову, что половина сценаристов с киностудии, зная о вашем писательском опыте, наверное, прибегают сюда не для того, чтобы исповедоваться, а чтобы задать вопросы! Как бы вы написали эту сцену, а как бы закончили ту, а как смонтировать, как…
— Вы протаранили лодку и утопили команду!
Священник залпом допил свой виски, затем, усмехаясь, налил еще, и мы, перебивая друг друга, стали говорить, говорить, как старые заядлые киноманы, обо всем, что касается киносценарных дел. Я рассказал ему про своего Мессию, он поведал про своего Христа.
Затем он сказал:
— Похоже, вы правильно сделали, что поставили заплатку на этот сценарий. Те парни, две тысячи лет назад, тоже латали дыры, если вы заметили разницу между Евангелиями от Матфея и от Иоанна.
Я вертелся в кресле, горя страстным желанием выложить ему все подчистую, но не осмелился выплеснуть на священника шипящее масло в тот момент, когда он лил на меня прохладные струи святого источника.
Я встал.
— Что ж, спасибо, святой отец.
Он посмотрел на протянутую ему для пожатия руку.
— У вас при себе пистолет, — сказал он просто, — но вы из него не выстрелили. Так что сядьте обратно.
— Неужели все священники так разговаривают?
— В Ирландии — да. Вы ходили вокруг дерева, но не сорвали яблоко. Так потрясите яблоню.
— Думаю, мне следует принять немного вот этого. — Я взял рюмку и сделал глоток. — Ну вот… Представьте, что я католик…
— Представил.
— Которому очень нужно исповедоваться.
— Им постоянно нужно исповедоваться.
— И я пришел сюда после полуночи…
— Неподходящее времечко.
Но в его глазах вспыхнули свечные огоньки.
— И постучался в дверь…
— Вы бы так сделали? — Он слегка наклонился ко мне. — Продолжайте.
— Вы бы впустили меня? — спросил я.
Эти слова, как резкий удар, повалили его в кресло.
— Разве церкви когда-то не были открыты в любое время дня и ночи? — продолжал я.
— Это было давно, — ответил он как-то слишком поспешно.
— Так что же, святой отец, если я приду как-нибудь ночью в крайней нужде, вы не откроете мне?
— Отчего ж не открыть? — Пламя свечей полыхало в его глазах, словно он выпрямил согнутый фитиль, чтобы горело ярче.
— Может, ради самого ужасного греха в истории человечества, а, святой отец?
— Нет такого существа…
Поздно, его язык замер, когда с него сорвалось это последнее, ужасное слово. Глаза забегали и заморгали. Он поправился, желая придать своим словам другое звучание.
— Нет такого человека.
— Но, — продолжал я, — что, если осужденный на вечные муки, сам Иуда явится с мольбой… — я сделал паузу, — поздно ночью?
— Искариот? Да, ради него я бы встал с постели.
— Святой отец, а что, если бы этот бесстыдный, ужасный человек с больной совестью стал стучаться к вам по ночам не раз в неделю, а почти каждую ночь, весь год? Вы встанете с постели или сделаете вид, что не слышите стука?
Эти слова попали в самую точку. Отец Келли вскочил, как будто я выдернул огромную пробку из бутылки. Румянец сошел с его щек, даже кожа у корней волос побледнела.
— Вам надо идти по своим делам. Не смею вас удерживать.
— Нет, святой отец. — Я изо всех сил старался казаться храбрым. — Это вам надо, чтобы я ушел. Двадцать лет назад, — я пошел напролом, — однажды поздней ночью в вашу дверь постучали. Сквозь сон вы услышали, как кто-то барабанит в дверь…
— Стойте, ни слова больше! Убирайтесь!
Это был крик ужаса, который издал Старбак, проклиная святотатство Ахава,[181] и последний негодующий взгляд, брошенный им на огромную тушу белого кита.
— Выйдите отсюда!
— Выйти? Это вы вышли тогда, святой отец. — Сердце прыгало в груди, выкручивая меня из собственной плоти. — И впустили внутрь треск, грохот и кровь. Может, вы даже слышали, как столкнулись машины. Потом шаги, а затем громкий стук в дверь и крики. Может быть, события вышли из-под контроля, жертвам несчастного случая понадобилась сторонняя помощь… если это был несчастный случай. Может быть, им нужен был подходящий ночной свидетель — тот, кто все увидит, но ничего не расскажет. Вы впустили сюда истину и с тех пор не выпускаете ее наружу.
Я встал и едва не упал в обморок. Когда я поднялся, священник, словно противоположная чаша весов, опустился, безвольно обмякнув, в кресло.
— Вы были очевидцем, святой отец, правда? Ведь это произошло всего в нескольких ярдах отсюда, и тогда, в ночь Хеллоуина тысяча девятьсот тридцать четвертого года, они притащили пострадавших сюда?
— Господи, помоги мне! — простонал священник. — Да.
Еще мгновение назад распираемый огненным гневом, отец Келли вдруг утратил свой воинственный пыл и стал постепенно, слой за слоем, погружаться в себя.
— Они все были мертвы, когда толпа внесла их сюда?
— Не все, — произнес пастор, выходя из оторопелой задумчивости.
— Спасибо, святой отец.
— За что? — Он закрыл глаза, словно от воспоминания у него разболелась голова, и внезапно снова широко открыл их, почувствовав прилив новой боли. — Вы хоть знаете, во что влезли?!
— Боюсь спрашивать.
— Тогда возвращайтесь домой, умойте лицо, а потом — греховный совет — напейтесь!
— Слишком поздно. Отец Келли, вы причащали кого-нибудь из них перед смертью?
Отец Келли затряс головой вперед-назад с таким остервенением, словно отгонял призраков.
— Вы еще сомневаетесь?!
— Человека по имени Слоун?
— Он был мертв. И все же я благословил его.
— А другой мужчина?..
— Великий, знаменитый и всемогущий?..
— Арбутнот, — закончил я.
— Его я осенил крестом, исповедовал и окропил святой водой. А потом он умер.
— Умер совсем и навсегда, протянул ноги, он действительно умер?
— Боже, как вы это говорите! — Он втянул в себя воздух, а затем с шумом выдохнул: — Черт, да!
— А женщина? — спросил я.
— С ней было хуже всего! — вскричал он, новая бледность залила и без того бледные щеки. — Она помешалась. Обезумела, даже больше чем обезумела. Сошла с ума, разум покинул тело, его уже не вернешь. Она застряла между двумя трупами. Господи, это напомнило мне спектакль, виденный в юности. Падающий снег. Офелия, внезапно объятая страшным, бескровным покоем, делает шаг в воду и не столько тонет, сколько растворяется в предсмертном безумии, в холодном безмолвии, которое не разрезать ножом, не разбудить криком. Даже смерть не могла нарушить обретенного этой женщиной ледяного покоя. Вы слышите? «Вечная зима», — сказал как-то один психиатр. Заснеженная страна, откуда редко кто возвращается. Жена Слоуна, как в ловушке, застряла между двумя бездыханными телами там, в пасторском доме, не зная, как вырваться из плена. Поэтому она ушла в себя, насовсем. Тела забрали те же люди со студии, которые перед этим на время затащили их сюда.
Он говорил, глядя в стену. Затем повернулся и внимательно посмотрел на меня, объятый внезапной тревогой и нарастающей ненавистью.
— Все это продолжалось — сколько? — может быть, час. И все эти годы меня преследовало воспоминание.
— А Эмили Слоун, она сошла с ума… и?..
— Ее увела какая-то женщина. Актриса. Я забыл ее имя. Эмили Слоун так и не поняла, что умирает. Я слышал, она скончалась через неделю или через две.
— Нет, — сказал я. — Через три дня хоронили всех троих. Арбутнота отдельно. А Слоунов, как говорят, вместе.
— Не важно, — подвел итог священник, — она умерла.
— Очень даже важно. — Я наклонился к нему. — Где она умерла?
— В морг напротив ее не привозили — это все, что мне известно.
— Значит, в больнице?
— Я рассказал вам все, что знаю.
— Не все, святой отец, а только часть…
Я подошел к окну пасторского дома и посмотрел на мощеный двор и ведущую к нему дорогу.
— Если я когда-нибудь вернусь, вы расскажете мне ту же историю?
— Я вообще не должен был вам ничего рассказывать! Я нарушил тайну исповеди!
— Нет, ничего из того, что вы рассказали, не было конфиденциальным. Это просто события. А вы были очевидцем. А теперь наконец вы облегчили душу, исповедавшись мне.
— Уходите!
Священник вздохнул, налил себе еще виски и выпил. Но румянец на его щеки не вернулся. Он лишь еще более обмяк.
— Я очень устал.
Я открыл дверь дома и посмотрел на церковь. В глубине ее виднелся алтарь, сверкавший драгоценными камнями, серебром и золотом.
— Откуда у такой маленькой церкви такое богатое убранство? — спросил я. — Да за один баптистерий можно было бы нанять кардинала и избрать Папу.
— Когда-нибудь, — произнес отец Келли, неподвижно глядя в пустой стакан, — я с радостью предам вас адскому пламени.
Стакан выпал из его руки. Но он даже не пошевельнулся, чтобы собрать осколки.
— Прощайте, — сказал я.
И вышел на улицу.
Два свободных участка и еще третий, к северу, позади от церкви, были сплошь покрыты сорной порослью, длинной травой, диким клевером и запоздалыми подсолнухами, кивающими на теплом ветру. Сразу за этими лугами стояло двухэтажное белое здание, на котором виднелась незажженная неоновая вывеска: «САНАТОРИЙ „ХОЛЛИХОК-ХАУС“».
Я увидел две призрачные фигуры, двигающиеся по тропинке среди травы. Одна женщина вела другую, они удалялись.
«Актриса, — сказал отец Келли. — Я забыл ее имя».
Травы с сухим шелестом ложились на тропинку.
Одна из женщин-призраков возвращалась той же дорогой в одиночестве, она плакала.
«Констанция?..» — беззвучно позвал я.
61
Я сделал круг по бульвару Гауэра, чтобы заглянуть в ворота киностудии.
«Гитлер в своем подземном бункере в последние дни Третьего рейха, — думалось мне. — Пылающий Рим и Нерон в поисках новых факелов.
Марк Аврелий в ванне вскрывает себе вены и наблюдает, как из них вытекает жизнь».
И все лишь потому, что кто-то откуда-то выкрикивал приказы, нанимал маляров с невероятным количеством краски, людей с огромными пылесосами, всасывающими подозрительную пыль.
На всей киностудии были открыты только одни ворота. Возле них три охранника впускали и выпускали маляров и уборщиков, вглядываясь в их лица.
В этот момент с внутренней стороны студии к воротам с ревом подкатил на своем ярко-красном «бритиш-моргане» Станислав Грок и, нажимая на газ, прокричал:
— Прочь с дороги!
— Нет, сэр, — спокойно сказал охранник. — Приказ начальства. Никто не может покинуть студию в ближайшие два часа.
— Но я гражданин города Лос-Анджелеса, а не этого проклятого герцогства!
— Значит ли это, — спросил я через решетку, — что если я войду внутрь, то не смогу выйти?
Охранник приложил руку к козырьку и назвал мое имя:
— Вы можете входить и выходить. Приказ.
— Странно, — сказал я. — Почему именно я?
— Проклятье! — Грок собрался было вылезти из своей машины.
Я прошел через небольшую калитку в решетчатых воротах и открыл дверцу «моргана» Грока.
— Вы не могли бы подбросить меня до монтажной Мэгги? К тому времени, когда вы вернетесь, глядишь, вас и выпустят.
— Нет. Мы в ловушке, — возразил Грок. — Этот корабль уже неделю идет ко дну, и ни одной спасательной шлюпки. И ты тоже беги, пока не утонул!
— Ладно, ладно, — спокойно сказал охранник. — Не психуйте.
— Ты только послушай его! — Лицо Грока побледнело как мел. — Тоже мне великий охранник-психиатр! Ладно, ты, залезай. Прокатись напоследок!
Я в нерешительности посмотрел в его лицо, все изрезанное штрихами эмоций. Обычно мужественное и надменное выражение на лице Грока расплывалось и таяло. Оно было похоже на тестовую таблицу на экране телевизора — смазанную, то появляющуюся, то пропадающую. Я сел и захлопнул дверцу машины, которая тут же рванула с места и понеслась с бешеной скоростью.
— Эй, к чему такая спешка?!
Мы с ревом мчались мимо съемочных павильонов. Все они были настежь распахнуты для проветривания. Наружные стены по крайней мере шести из них перекрашивали. Старые декорации ломались и выносились на улицу.
— В любой другой день это было бы классно! — орал Грок, стараясь перекричать шум мотора. — Мне бы это здорово понравилось! Хаос — моя стихия. На фондовых биржах крах? Где-то перевернулся паром? Отлично! В сорок шестом я вернулся в Дрезден только затем, чтобы посмотреть на разрушенные здания и людей, чьи души искалечила война.
— Не может быть!
— А ты разве не хотел бы на это взглянуть? Или на полыхающий Лондон в сороковом году. Каждый раз, когда люди ведут себя по-скотски, я счастлив!
— А что, хорошие вещи не делают вас счастливым? Артистические натуры, творческие люди, мужчины и женщины?
— Нет-нет. — Грок еще сильнее нажал на газ. — Это приводит меня в уныние. Баюкающее сюсюканье среди всеобщей тупости. Просто есть несколько наивных дурачков, портящих весь вид своими срезанными розами, и на фоне этих натюрмортов лишь еще больше становятся заметны обитатели трущоб, ничтожные червяки и ублюдочные гады, благодаря которым крутятся невидимые шестеренки и мир летит в пропасть. Я давно решил: раз уж континенты — всего лишь слежавшаяся грязь, куплю себе немереных размеров сапоги и вываляюсь в этой грязи всласть, как ребенок. Но это же смешно: нас заперли на этой дурацкой фабрике. Я хочу посмеяться над этой махиной, а не быть ею раздавленным. Держись!
Мы сделали вираж и помчались мимо Голгофы.
Я едва не вскрикнул.
Ибо Голгофы не было.
На той стороне из мусоросжигателя поднимались огромные клубы черного дыма.
— Наверное, это горят три креста, — сказал я.
— Хорошо! — одобрительно хмыкнул Грок. — Интересно, Иисус будет сегодня спать в ночлежке?
Я повернул голову и посмотрел на него.
— Вы хорошо знаете Иисуса?
— Этого портвейнового Мессию? Я сам его создал! Другим ведь я делал брови, грудь, почему бы не сделать руки для Христа?! Я срезал лишнюю плоть, чтобы пальцы казались тоньше: руки Спасителя. Почему бы нет? Разве религия не шутка? Люди думают, что они спасутся. Мы знаем, что это не так. А все эти отметины от тернового венца, стигматы!
Грок закрыл глаза и едва не врезался в телефонный столб, после чего резко повернул и остановился.
— Я догадывался, что это ваша работа, — сказал я наконец.
— «Если играешь Христа, будь Им! — сказал я Христу. — Я сделаю тебе такие раны от гвоздей, что хоть показывай на выставках искусства Ренессанса! Я пришью тебе стигматы Мазаччо, да Винчи, Микеланджело! С мраморной плоти микеланджеловской Pieta![182]» И как ты уже видел, в некоторые особые вечера…
— …стигматы кровоточат.
Я с шумом распахнул дверцу машины.
— Пожалуй, остаток пути я пройду пешком.
— Нет-нет, — извиняющимся тоном произнес Грок, издав пронзительный смешок. — Ты мне нужен. Какая ирония! Нужен, чтобы меня выпустили из ворот, после. Иди поговори с Ботуин, а потом мы умчимся отсюда как черти.
Я в нерешительности держал дверцу полуоткрытой. Казалось, Грок пребывает в какой-то развеселой тревоге, его ликование граничило с истерией, так что мне ничего не оставалось, как закрыть дверцу. Грок поехал дальше.
— Спрашивай, спрашивай, — сказал он.
— Ладно, — осторожно ответил я. — Что вы скажете про все эти лица, которые вы сделали красивыми?
Грок нажал на педаль газа.
— «Они останутся такими навечно», — сказал им я, и дурачки поверили. В любом случае я ухожу на покой, если только мне удастся выбраться за ворота. Я купил билет в кругосветный круиз на завтра. За тридцать лет мои шутки превратились в змеиные укусы. Мэнни Либер? Он может умереть в любой день. А где доктор? Ты не знаешь? Он куда-то пропал.
— Куда?
— Кто знает? — Но взгляд Грока скользнул в сторону стены, отделявшей киностудию от кладбища. — Отлучен от церкви?
Мы все еще ехали. Грок покачал головой.
— А вот Мэгги Ботуин мне нравится. Она хирург-виртуоз, как и я.
— Она не говорит таких слов, как вы.
— Если бы она когда-нибудь такое сказала, ей пришел бы конец. А ты? Что ж, избавление от иллюзий — долгий процесс. Тебе стукнет семьдесят, прежде чем ты поймешь, что шел по минному полю, крича отряду идиотов: «За мной!» Твои фильмы забудутся.
— Нет.
Грок бросил взгляд на мой решительный подбородок и упрямую нижнюю губу.
— Пусть так, — согласился он. — У тебя вид настоящего праведника-безумца. Нет, твои фильмы не забудутся.
Мы свернули за угол, и я спросил, кивнув головой на плотников, уборщиков и маляров:
— Кто приказал затеять все эти работы?
— Мэнни, разумеется.
— А кто приказал Мэнни? Кто на самом деле отдает здесь приказы? Тот, кто прячется за зеркалом? Приходит из стены?
Грок резко ударил по тормозам и неподвижно уставился вперед. Мне хорошо были видны следы швов вокруг его ушей, изящных и ясно очерченных.
— На этот вопрос нет ответа.
— Нет? — переспросил я. — Я гляжу вокруг — и что же я вижу? Студия, у которой в производстве восемь фильмов. Один из них — огромный проект, наше эпическое полотно об Иисусе, осталось всего два дня съемок. И вдруг, по какой-то прихоти, кто-то говорит: «Заприте двери». И начинается дурацкая покраска и уборка. Это безумие — закрывать студию с ежедневным бюджетом от девяноста до ста тысяч долларов. В чем же дело?
— Ну и в чем? — тихо спросил Грок.
— Ну, скажем, Док: по-моему, он просто медуза, ядовитая, но бесхребетная. Смотрю на Мэнни: с его задницей только на высоком стульчике сидеть. Вы? У вас под одной маской скрывается другая маска, а под той еще одна. Ни у кого из вас нет пороховой бочки или мощного электронасоса, чтобы разнести вдребезги всю студию. А она тем не менее летит в тартарары. Я представляю студию как большого белого кита. В него летят гарпуны. Значит, должен быть и безумный капитан.
— Тогда скажи мне, — сказал Грок, — кто здесь Ахав?
— Мертвец на кладбище. Он стоит на приставной лестнице, глядит поверх стены и отдает приказы. И вы все разбегаетесь.
Грок заморгал — медленно, словно игуана. Веки трижды опустились на его огромные темные глаза.
— Но не я, — сказал он, улыбаясь.
— Не вы? Почему не вы?
— Потому что, дурья ты башка! — Грок расплылся в улыбке, глядя на небо. — Подумай! Есть только два гения, способных смастерить такого мертвеца! Чтобы он стоял на лестнице под дождем, глядел поверх стены и у людей сердце останавливалось!
Тут Грока скрутил такой приступ смеха, что он чуть не помер.
— Кто мог слепить такое лицо?
— Рой Холдстром!
— Да! А еще?!
— Гример… — запнулся я, — гример Ленина?
Станислав Грок повернулся ко мне, сияя ослепительной улыбкой.
— Станислав Грок, — оцепенело произнес я. — Вы.
Он скромно склонил голову.
«Так это вы! — думал я. — Не чудовище, которое прячется в могилах и залезает на приставные лестницы, чтобы подвесить туда чучело Арбутнота и заморозить всю работу на студии! Нет, это Грок, человек, который смеется, маленький Конрад Вейдт с вечной улыбкой, пришитой к лицу!»
— Но зачем? — спросил я.
— Зачем? — Грок усмехнулся. — Господи, да чтобы расшевелить всех! Тут же годами царила скука! Док подсел на свои иголки. Мэнни разрывается пополам. Мне не хватало шуток на этом корабле дураков. Так пусть мертвые восстанут! Но ты все испортил: нашел труп, но никому не сказал. Я надеялся, что ты побежишь с криком по улице. Вместо этого на следующий день ты закрыл рот на замок. Мне пришлось сделать несколько анонимных звонков, чтобы позвать людей со студии на кладбище. И тут начались беспорядки! Скандал.
— Это вы послали второе письмо, чтобы заманить нас с Роем в «Браун-дерби» и показать Человека-чудовище?
— Я.
— И все это ради шутки? — оторопело спросил я.
— Не совсем. Киностудия, как ты уже заметил, расколота надвое и стоит над прожорливой расселиной, над разломом Сан-Андреас,[183] готовым вот-вот взорваться новым землетрясением. Я почувствовал толчки несколько месяцев назад. Тогда я прислонил к стене лестницу и поднял на нее мертвеца. А заодно, как ты можешь сказать, поднял и свои гонорары.
«Шантаж», — раздался шепот Крамли где-то в моем подсознании.
Грок скорчился от смеха, потешаясь над собственными словами:
— Запугать Мэнни, Дока, Иисуса, всех, включая чудовище!
— Чудовище? Вы хотели напугать его?!
— А почему бы нет? Толпу! Сборище! Заставить их всех платить, пока они не узнают, что за всем этим стою я. Поднять панику, собрать сливки и смотаться!
— Боже, но ведь это значит, — проговорил я, — что вы все знали о прошлом Арбутнота, о его смерти. Его отравили? Это так?
— Э, — отозвался Грок, — все это теории, домыслы.
— Сколько людей знает о том, что вы купили билет в кругосветное путешествие?
— Только ты, бедный, милый, печальный, обреченный мальчик. Но я думаю, кое-кто уже догадался. Иначе зачем было закрывать ворота и держать меня в ловушке?
— Да, — сказал я. — Они только что выбросили вместе с хламом гроб Христа. Им нужно, чтобы туда же последовало и тело.
— То есть я, — внезапно побледнев, сказал Грок.
Рядом с нами притормозила машина студийной охраны.
Из окна высунулся охранник:
— Мэнни Либер хочет вас видеть.
Грок как-то весь обмяк, плоть растворилась в жилах, кровь утекла в душу, а душа рассеялась в небытии.
— Это конец, — прошептал он.
Я представил кабинет Мэнни, зеркало позади его стола и лабиринт подземелий там, за зеркалом.
— Бросайте все и бегите, — посоветовал я.
— Дурак, — сказал Грок. — Далеко ли я убегу? — Он похлопал меня по руке дрожащей ладонью. — Ты придурок, но добрый придурок. Нет, отныне каждый, кого увидят со мной, отправится в тот же водоворот, когда они начнут дергать за ниточки. Смотри сюда.
Он бросил на сиденье свой портфель, открыл его и снова захлопнул. Я увидел пачку перевязанных стодолларовых купюр.
— Держи, — сказал Грок. — Они мне больше не нужны. Спрячь быстро. Тут хватит на всю оставшуюся жизнь.
— Нет, спасибо.
Он снова хлопнул меня — на этот раз по ноге. Я вырвался, будто мне в колено вонзили ледяной кинжал.
— Придурок, — сказал Грок. — Но добрый придурок.
Я вылез из машины.
Машина охраны медленно ехала впереди нас с еле слышно работающим двигателем. Водитель тихо просигналил один раз. Грок внимательно посмотрел на машину, потом перевел взгляд на меня, оглядел мои уши, веки, подбородок.
— Твоей коже не понадобятся подтяжки еще лет тридцать, плюс-минус год.
Его рот наполнила обильная слюна. Он отвел взгляд, взялся за руль цепкими, хваткими пальцами и уехал прочь.
Полицейская машина свернула за угол, за ней последовала машина Грока — небольшой похоронный кортеж направлялся к дальней стене студии.
62
Я поднялся по лестнице в террариум Мэгги Браун. Я назвал его так потому, что пленка с вырезанными эпизодами змеиными кольцами свивалась в мусорной корзине или расползалась по всему полу.
В маленькой комнатке не было ни души. Старые призраки разлетелись. Змеи уползли в свои норы или еще куда-то.
Я стоял посреди пустых полок, оглядываясь вокруг, пока не обнаружил записку, приклеенную к крышке молчащей мувиолы.
ДОРОГОЙ ГЕНИЙ! Я ПЫТАЛАСЬ ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ТЕБЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЧАСОВ. МЫ ОСТАВИЛИ ПОЛЕ БИТВЫ ПРИ ИЕРИХОНЕ И БЕЖАЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МЫ ДАДИМ В МОЕМ БУНКЕРЕ НА СКЛОНЕ ХОЛМА. ПОЗВОНИ. ПРИХОДИ! ЗИГ ХАЙЛЬ! ФРИЦ И ДЖЕКИ ПОТРОШИТЕЛЬНИЦА.
Я сложил записку, чтобы потом сунуть ее в свой дневник и перечитывать в старости. Затем спустился по лестнице и покинул студию.
Никаких штурмовых отрядов замечено не было.
63
Шагая по берегу, я рассказал Крамли о священнике, о тропинке в высокой траве и о двух женщинах, что когда-то давным-давно прогуливались по ней.
Мы нашли Констанцию Раттиган на пляже. Я впервые в жизни увидел ее лежащей на песке. Раньше она всегда плавала либо в бассейне, либо в море. А теперь лежала между тем и другим, словно была не в силах ни войти в воду, ни вернуться к дому. Она лежала, словно выброшенная на берег волной, такая безвольная и бледная, что больно было на нее смотреть.
Мы присели на песок рядом с ней и подождали, пока она не почувствует наше присутствие, потому что глаза ее были закрыты.
— Ты лгала нам, — сказал Крамли.
Глазные яблоки под ее веками повернулись.
— Лгала? Ты о чем?
— О том, что ты сбежала посреди той полуночной вечеринки, двадцать лет назад. Ты сама знаешь, что оставалась тогда до самого конца.
— И что же я делала?
Она отвернула голову. Мы не видели, куда она смотрела: может, на серое море, откуда надвигался послеполуденный туман, грозя испортить остаток дня.
— Они привели тебя к месту аварии. Твоей подруге нужна была помощь.
— У меня никогда не было никаких подруг.
— Брось, Констанция, — сказал Крамли, — у меня есть факты. Я собрал улики. В газетах писали, что трех человек похоронили в один и тот же день. А отец Келли из церкви, что стоит рядом с местом аварии, утверждает, что Эмили Слоун умерла уже после похорон. Что, если я получу судебное предписание — вскрыть могилу Слоунов? Сколько там будет тел: одно или два? Я думаю, одно; так куда же делась Эмили? И кто ее увел? Ты? По чьему приказу?
Констанция Раттиган дрожала всем телом. Не знаю точно, было ли тому причиной давнишнее горе, вдруг вспыхнувшее с новой силой, или просто туман, уже клубившийся вокруг нас.
— Вот ведь хрень. А ты чертовски умен, — заметила она.
— Нет, просто иногда мне удается упасть на гнездо с яйцами и ни одного не разбить. Отец Келли сказал нашему другу-сценаристу, что Эмили сошла с ума. Значит, пришлось ее увести. Это поручили тебе?
— Господи, помоги мне, — прошептала Констанция Раттиган. На берег накатила волна. Сгустившийся туман добрался до кромки прибоя. — Да…
Крамли спокойно кивнул и сказал:
— В этот трудный момент, чтобы скрыть правду, наверное, понадобилась большая, огромная, да что там, чудовищная сумма. Кто-нибудь набил деньгами церковную кружку? То есть я хочу сказать: киностудия обещала, скажем, ну, не знаю, отремонтировать алтарь, до скончания века жертвовать на вдов и сирот? А что пастор — получает еженедельно баснословные деньги, согласившись забыть, что ты увела оттуда Эмили Слоун?
— Это… — прошептала Констанция, уже сидя на песке и уставив широко открытые глаза в сторону горизонта, — только часть правды.
— Они пообещали еще больше денег, еще и еще больше, если пастор скажет, что авария произошла не перед его церковью, а дальше по улице, скажем, в ста ярдах. Поэтому он не видел, как Арбутнот протаранил другую машину, как он убил своего врага и как жена его врага сошла с ума, увидев их мертвыми. Так?
— Это… — прошептала Констанция Раттиган откуда-то из глубины лет, — почти вся правда.
— И через час ты вывела Эмили Слоун из церкви и, как ходячий труп, повела через пустырь, весь в подсолнухах и табличках «ПРОДАЕТСЯ»…
— Все было так близко, так удобно, даже смешно, — вспоминала Констанция без тени улыбки, с посеревшим лицом. — Кладбище, похоронное бюро, церковь, чтобы быстренько справить похороны, пустырь, тропинка, Эмили? Черт! Она унеслась далеко вперед, по крайней мере в своем воображении. Мне оставалось только направлять ее.
— Скажи, Констанция, — спросил Крамли, — Эмили Слоун еще жива?
Констанция медленно, кадр за кадром, как механическая кукла, с промежутками в десять секунд, стала поворачивать ко мне лицо, пока ее плохо сфокусированный взгляд не остановился, глядя куда-то сквозь меня.
— Когда в последний раз ты носила цветы мраморной статуе? — спросил я. — Статуе, не замечавшей цветов, не замечавшей тебя, жившей внутри своей мраморной оболочки, внутри своего молчания: когда это было в последний раз?
Из правого глаза Констанции Раттиган вытекла одинокая слеза.
— Я ходила к ней каждую неделю. Все время надеялась, что она выплывет из воды, как айсберг, а потом растает. Но в конце концов я больше не могла выносить ее молчание, без всякой благодарности. Из-за нее я чувствовала себя мертвой.
Ее голова вновь, кадр за кадром, повернулась в другом направлении, обратившись к воспоминаниям прошлого года или какого-то из предыдущих лет.
— По-моему, — сказал Крамли, — пришло время снова отнести цветы. Так?
— Не знаю.
— Знаешь. Как насчет… Холлихок-хауса?
Внезапно Констанция Раттиган вскочила на ноги, взглянула на море, рванулась к прибою и нырнула.
— Не надо! — крикнул я.
Меня вдруг охватил страх. Даже отличных пловцов море иногда забирает и не отдает обратно.
Я подбежал к кромке воды и уже стаскивал с себя ботинки, как вдруг Констанция, разбрызгивая воду, как тюлень, и отряхиваясь, как собака, вынырнула из волн и стала с трудом выбираться на берег. Почувствовав под собой твердую землю, сырой песок, она остановилась и выругалась. Ругательство выпрыгнуло из ее уст, как пробка. Она стояла, руки в боки, глядя на какой-то предмет в полосе прибоя, все дальше уносимый волной.
— Черт меня побери, — отчего-то сказала она. — Этот волосяной комок, наверное, плавал здесь все эти годы!
Она повернулась и оглядела меня с ног до головы, и на ее щеки вновь вернулся румянец. Она тряхнула на меня пальцами, оросив мое лицо морскими брызгами, словно желая меня освежить.
— Плавание всегда так хорошо действует на тебя? — спросил я, показывая на океан.
— Как только перестанет, я вообще не буду выходить из дома, — спокойно ответила она. — Быстро окунулся, быстро перепихнулся. Я ничем не могу помочь Арбутноту или Слоуну, они мертвы. Или Эмили Уикс…
Она застыла на месте, а затем поправилась:
— Эмили Слоун.
— Уикс — это ее новое имя, под которым она живет двадцать лет в Холлихок-хаусе? — спросил Крамли.
— Раз от меня оторвался этот комок волос, залью-ка в себя шампанского. Идем.
У бассейна, выложенного голубой плиткой, она открыла бутылку и наполнила наши бокалы до краев.
— Неужели вы настолько безумны, чтобы пытаться спасти Эмили Уикс-Слоун, не важно, жива она или мертва, по прошествии стольких лет?
— А кто нам может помешать? — спросил Крамли.
— Да вся студия! Или нет: три человека, которые знают, что она там. Нужно, чтобы кто-нибудь вас представил. Никто не может войти в Холлихок-хаус без Констанции Раттиган. Не смотрите на меня так. Я помогу вам.
Крамли выпил свое шампанское и сказал:
— Еще один, последний, вопрос. Кто в ту ночь, двадцать лет назад, руководил всем этим? Занятие, наверное, не из приятных. Кто…
— Режиссировал? Разумеется, кто-то был режиссером. Люди бегали, налетали друг на друга, кричали. Настоящее «Преступление и наказание» или «Война и мир». Кто-то должен был крикнуть: «Не сюда, туда!» Тогда, посреди ночи, среди всех этих криков и крови, слава богу, он спас эпизод, актеров, студию, причем без пленки и кинокамеры. Величайший немецкий режиссер из ныне живущих.
— Фриц Вонг?! — воскликнул я.
— Фриц, — подтвердила Констанция, — Вонг.
64
Из орлиного гнезда Фрица, что на полпути от отеля «Беверли-Хиллз» к Малхолланд-драйв, открывался вид на десяток миллионов огней простиравшегося внизу Лос-Анджелеса. Стоя на длинной, изящной мраморной террасе перед его виллой, вы могли наблюдать, как самолеты заходят на посадку в пятнадцати милях оттуда, как горят яркие фонари, как медленно летят метеоры, ежеминутно появляющиеся на небе.
Фриц Вонг пинком распахнул дверь дома и прищурился, притворяясь, будто не замечает меня.
Я достал из кармана его монокль и протянул ему. Фриц взял его и вставил в глаз.
— Нахальный сукин сын. — Монокль блеснул в его правом глазу, как лезвие гильотины. — Так это ты! Восходящая звезда пришла шпионить за догорающей. Король, всходящий на престол, стучится к потерявшему могущество принцу. Писатель, наказывающий львам, что говорить Даниилу,[184] приходит к дрессировщику, указывающему им, что делать. Зачем ты приехал? Фильму капут!
— Вот несколько страниц. — Я зашел в дом. — Мэгги? С тобой все в порядке?
Мэгги кивнула мне из дальнего угла гостиной, она была бледна, но, насколько я мог видеть, уже оправилась.
— Не обращай внимания на Фрица, — сказала она. — Он полон вздорных мыслей и ливерной колбасы.
— Сядь рядом с этой потрошительницей и замолчи, — сказал Фриц, прожигая моноклем дыры в моих листках.
— Слушаюсь… — я посмотрел на портрет Гитлера на стене и щелкнул каблуками, — сэр!
Фриц бросил на меня сердитый взгляд.
— Дурак! Этот портрет маньяка-мазилы висит здесь как напоминание, что я сбежал от больших ублюдков и попал сюда к мелким. Господи, фасад студии «Максимус филмз» — точная копия Бранденбургских ворот! Да опусти куда-нибудь свой Sitzfleischf![185]
Я опустил свой Sitzfleisch и открыл рот от удивления.
Ибо за спиной у Мэгги Ботуин оказался самый невероятный иконостас, какой я когда-либо видел в жизни. Он был ярче, больше и прекраснее, чем алтарь из серебра и золота в церкви Святого Себастьяна.
— Фриц! — воскликнул я.
Ибо весь этот алтарь был заполнен мятными ликерами, бренди, виски, коньяками, портвейнами, бургундским и бордо, которые лежали на полках слоями хрусталя и выпуклого сверкающего стекла. Все это переливалось, как подводная пещера, откуда косяками могли бы выплывать искрящиеся бутыли. Над нею и вокруг нее было развешано бессчетное множество резных скульптур из шведского хрусталя, стеклянные фигурки Лалика,[186] уотерфордские[187] штуки. Это был парадный трон, ложе, где появился на свет Людовик XIV, гробница Эхнатона, коронационная зала Наполеона. Это была витрина магазина игрушек в ночь Рождественского сочельника.
Это было…
— Как ты знаешь, — сказал я, — я пью редко…
У Фрица выпал монокль. Он поймал его и вставил на место.
— Что будешь пить? — рявкнул он.
Мне удалось избежать его презрительности, вспомнив вино, о котором он сам как-то упоминал при мне.
— «Кортон»,[188] — сказал я, — тридцать восьмого года.
— Ты действительно думаешь, что я открою свое лучшее вино для такого, как ты?
Я с трудом сглотнул слюну и кивнул.
Выждав момент, он подскочил ко мне и взметнул вверх свой кулак, словно собираясь одним ударом свалить меня на пол. Затем кулак опустился, с неким изяществом, рука Фрица открыла дверцу стеклянного шкафа и достала оттуда бутылку.
«Кортон», 1938 год.
Он стал закручивать штопор, скрипя зубами и поглядывая на меня.
— Я буду следить за каждым твоим глотком, — проворчал он. — И если замечу на твоем лице хоть малейший намек на то, что тебе не нравится… чпок!
Он красиво вытащил пробку и, поставив бутылку, вдохнул аромат.
— Ладно, — вздохнул он, — хотя фильму конец, посмотрим-ка, что натворил наш вундеркинд!
Он плюхнулся в кресло и пролистал мои новые страницы.
— Дай-ка почитаю твой несносный текст. Хотя к чему притворяться, будто мы снова вернемся на эту скотобойню, — бог его знает!
Фриц прикрыл левый глаз, а правый за сверкающим стеклом быстро забегал по строчкам. Закончив, он швырнул листки на пол и сердито кивнул Мэгги, чтобы та их подняла. Пока она это делала, Фриц наблюдал за ее лицом, наливая себе вино.
— Ну?! — крикнул он в нетерпении.
Мэгги взяла рукопись себе на колени и положила на нее руки, словно это было Евангелие.
— Я могу расплакаться. Ну вот! Я плачу.
— Перестань разыгрывать комедию! — Фриц залпом проглотил свое вино и застыл, сердясь на меня за то, что я заставил его выпить так поспешно. — Ты не мог написать это всего за несколько часов!
— Прости, — робко извинился я. — Хорошо получается только тогда, когда работаешь быстро. Стоит замедлиться, и ты начинаешь думать о том, что делаешь, и получается плохо.
— Думать вредно, так? — спросил Фриц. — Ты что, сидишь на своих мозгах, когда печатаешь?
— Понятия не имею. Э, неплохое винцо.
— Неплохое! — Фриц в гневе возвел глаза к потолку. — Это «Кортон» тридцать восьмого года, а он говорит «неплохое»! Да это лучше, чем все твои чертовы карамельки, которые ты жуешь все время на студии, я видел. Лучше, чем все женщины мира. Почти.
— Это вино, — быстро исправился я, — почти так же прекрасно, как твои фильмы.
— Великолепно. — Фриц, польщенный, улыбнулся. — А ты парень смышленый.
Фриц вновь наполнил мой бокал и вернул мне медаль почета, свой монокль.
— Ну что ж, юный знаток вин, зачем еще вы пожаловали?
Удобный момент настал.
— Фриц, — начал я, — тридцать первого октября тысяча девятьсот тридцать четвертого года ты был режиссером, оператором и монтажером фильма под названием «Безумная вечеринка».
Фриц лежал, откинувшись в своем кресле, вытянув ноги, держа в руке бокал с вином. Его левая рука потянулась к карману, где должен был лежать монокль.
Губы Фрица нехотя, невозмутимо приоткрылись:
— Повтори?
— Ночь Хеллоуина, тридцать четвертый год…
— Еще. — Фриц, закрыв глаза, протянул мне свой бокал.
Я налил.
— Если прольешь, я спущу тебя с лестницы.
Лицо Фрица было обращено в потолок. Почувствовав, что бокал отяжелел от вина, он кивнул и оторвался от кресла, чтобы наполнить мой.
— Откуда, — губы Фрица шевелились как будто отдельно от всего его невозмутимого лица, — ты узнал об этом идиотском фильме с таким дурацким названием?
— Он был снят, но не на пленку. Ты был его режиссером, наверное, часа два. Хочешь, перечислю актеров, игравших в ту ночь?
Фриц открыл один глаз и попытался без монокля сфокусировать взгляд на противоположной стороне комнаты.
— Констанция Раттиган, — по памяти стал перечислять я, — Иисус, Док Филипс, Мэнни Либер, Станислав Грок, Арбутнот, Слоун и его жена, Эмили Слоун.
— Черт, неплохой состав, — сказал Фриц.
— Не хочешь рассказать мне, как все было?
Фриц медленно поднялся в кресле, чертыхнулся, допил вино, затем, ссутулившись, сел над своим стаканом и долго смотрел в него. Потом прищурился и сказал:
— Что ж, рассказать наконец придется. Все эти годы я ждал случая, чтобы выплеснуть это из себя. Так вот… кто-то должен был взять на себя режиссуру. Сценария не было. Сплошное безумие. Меня пригласили в последний момент.
— И какая часть этого была твоей импровизацией? — спросил я.
— Большая часть, да нет, все от начала до конца, — сказал Фриц. — Повсюду были трупы. Вернее, не трупы. Люди и море крови. Я всю ночь не выпускал камеру из рук, ты же знаешь, такая вечеринка, к тому же всем нравится заставать людей врасплох, по крайней мере мне. Первая часть вечера прошла отлично. Люди кричали, бегали туда-сюда по студии и по туннелю, танцевали на кладбище под джаз-банд. Было безумно и потрясающе весело. Пока все не пошло вразнос. Я об аварии. К тому моменту, ты прав, у меня в шестнадцатимиллиметровой камере уже не было пленки. И я стал отдавать приказы. Бежать сюда. Бежать туда. Не звать полицию. Убрать машины. Наполнить церковную кружку.
— Я об этом догадался.
— Заткнись! Жалкий пасторишка, как девчонка, чуть с ума не сошел. Студия всегда держит под рукой кучу наличности на всякий пожарный. Прямо на глазах у священника мы наполнили купель монетой, как в День благодарения. В ту ночь я так и не понял, видел ли он вообще, что мы делаем, — он был в таком шоке. Я приказал увести оттуда жену Слоуна. Ее забрал кто-то из статистов.
— Нет, — сказал я, — это была актриса.
— Правда?! Она ушла. А мы тем временем собирали осколки и заметали следы. В то время это было легче сделать. В конце концов, киностудии правили городом. У нас было одно тело — Слоуна — для показа, мы сказали, что еще одно тело — Арбутнота — лежит в морге, и доктор подписал свидетельства о смерти. Никто так и не попросил предъявить все тела. Мы заплатили коронеру, чтобы он взял больничный на год. Вот как все это было состряпано.
Фриц поджал под себя ноги, устроил между ними бокал и подыскал выражение лица, соответствовавшее моему.
— К счастью, по случаю вечеринки Иисус, Док Филипс, Грок, Мэнни и прочие подхалимы были на студии. Я крикнул: «Выставьте охрану! Подгоните машины! Оцепите место аварии! Люди выходят из домов? Возьмите мегафоны, загоните их обратно!» К тому же на этой улице домов раз два и обчелся, да еще закрытая заправка. Что еще? Адвокатские конторы — там везде темно. Когда из дальних кварталов начала подтягиваться толпа людей в пижамах, я уже успел раздвинуть воды Красного моря, воскресить Лазаря и задал новую работенку каждому Фоме неверующему в далеких краях! Восхитительно, изумительно, превосходно! Еще вина?
— А это что за пойло?
— Коньяк «Наполеон». Столетней выдержки. Тебе не понравится!
Он налил.
— Скривишься — убью.
— А что стало с трупами?
— Поначалу был только один погибший, Слоун. Арбутнот был смят — о боже! — в кровавую лепешку, но все еще жив. Я сделал, что смог, перенес его на другую сторону улицы, в похоронную контору, и оставил там. Арбутнот умер позже. Док Филипс и Грок пытались его спасти в той самой комнате, где бальзамируют трупы, превратившейся тогда в отделение «скорой помощи». Какая ирония, не правда ли? Через два дня я режиссировал похороны. И снова все шито-крыто!
— А Эмили Слоун? Она в Холлихок-хаусе?
— Последний раз я видел, как ее вели через пустырь, заросший сорными цветами, к этому частному санаторию. На следующий день она умерла. Это все, что я знаю. Я просто был режиссером, которого позвали, чтобы спасти от гибели горящий «Гинденбург»,[189] или регулировщиком движения во время землетрясения в Сан-Франциско.[190] Вот и все мои заслуги. Но зачем, зачем, зачем ты спрашиваешь об этом?
Я глубоко вдохнул, глотнул немного коньяка, почувствовал, как из глаз моих, словно из крана, хлынули горячие потоки воды, и сказал:
— Арбутнот вернулся.
Фриц выпрямился в кресле и закричал:
— Ты что, рехнулся?!
— Или его подобие, — добавил я, почти переходя на визг. — Это Грок состряпал. Ради шутки, по его словам. Или ради денег. Сделал куклу из папье-маше и воска. А потом подбросил ее, чтобы напугать Мэнни и остальных, может, даже при помощи этих фактов, о которых ты знал, но до сих пор никому не рассказывал.
Фриц Вонг поднялся и зашагал кругами по комнате, впечатывая подошвы ботинок в ковер. Затем он остановился перед Мэгги, раскачиваясь взад-вперед, потрясая своей огромной головой.
— Ты знала об этом?!
— Этот молодой человек что-то говорил…
— Почему ты мне не рассказала?
— Потому, Фриц, — урезонила его Мэгги, — что во время работы над фильмом ты и слышать не желаешь ни от кого никаких новостей, ни плохих, ни хороших!
— Так вот, значит, что тут происходит! — проговорил Фриц. — Док Филипс третий день подряд напивается за обедом. Голос Мэнни Либера звучит как тридцатитрехоборотная пластинка, поставленная на ускоренное воспроизведение. Бог мой, я-то думал, что это я все делаю правильно, отчего он всегда бесился! Нет! Боже мой, господи, черт бы его побрал, этого пакостника Грока!
Он прервал тираду, чтобы обратиться ко мне.
— Тех, кто приносит королю плохие вести, казнят! — вскричал он. — Но прежде чем ты умрешь, расскажи, что ты еще знаешь!
— Могила Арбутнота пуста.
— Его тело… украдено?
— Его никогда и не было в могиле, никогда.
— Кто это сказал? — крикнул Фриц.
— Один слепой.
— Слепой!
Фриц снова сжал кулаки. Мне подумалось: вдруг все эти годы он управлял актерами, как беспомощными скотами, при помощи своих кулаков.
— Слепой?!
«Гинденбург» потонул в нем, охваченный последней вспышкой страшного огня. Остался… лишь пепел.
— Слепой… — Фриц медленно прохаживался вокруг комнаты, не замечая нас двоих, потягивая свой коньяк. — Рассказывай.
Я рассказал все, что до этого рассказывал Крамли. Когда я закончил, Фриц взял телефон и, держа его в двух дюймах от глаз, прищурившись, набрал номер.
— Алло, Грейс? Это Фриц Вонг. Закажи мне билеты на самолет в Нью-Йорк, Париж, Берлин. Когда? Сегодня! Остаюсь на линии!
Он обернулся и посмотрел в окно на Голливуд — за много миль от дома.
— Господи, всю неделю я чувствовал подземные толчки и думал, что это смерть Христа из какого-то гадкого сценария. Теперь все окончательно умерло. Мы уже никогда к нему не вернемся. Наш фильм пойдет на переработку и превратится в целлулоидные воротнички для ирландских священников. Скажи Констанции, чтоб бежала. И себе тоже возьми билет.
— Куда? — спросил я.
— Придумай куда! — завопил Фриц.
В разгар этого взрыва бомбы где-то внутри у Фрица лопнула какая-то лампочка. От его тела внезапно повеяло не теплом, а холодом. Его плохо видящий глаз начал подергиваться, и это подергивание переросло в чудовищный тик.
— Грейс, — закричал он в трубку, — не слушай этого идиота, который только что звонил! Отмени Нью-Йорк. Возьми билет до Лагуны![191] Что? На побережье, дура. Домик с видом на Тихий океан, чтобы я мог входить в воду на закате, как Норман Мейн,[192] даже если сам Фатум постучится в дверь. Зачем? Чтобы спрятаться. Париж — отличное место; но эти маньяки наверняка узнают. Но они никак не могут ожидать, что этот дурачок Unterseeboot Kapitan, ненавидящий солнечный свет, вдруг объявится в Сол-Сити, Южная Лагуна, среди всех этих бессмысленных голых задниц. Лимузин мне, немедленно! В девять я буду входить в ресторан «Виктор Гюго»,[193] и чтобы к этому моменту дом был готов. Выполняй!
Фриц с грохотом повесил трубку и метнул на Мэгги огненный взгляд:
— Ты едешь?
Мэгги Ботуин была любезна, как нетающее ванильное мороженое.
— Дорогой Фриц, — сказала она. — Я родилась в Глендейле в тысяча девятисотом году. Я могла бы вернуться туда и умереть от скуки или спрятаться в Лагуне, но от всех этих «задниц», как ты их называешь, у меня мурашки ползут по животу. Как бы то ни было, Фриц и ты, мой милый мальчик, весь тот год я каждую ночь качала педаль своей зингеровской машинки, сшивая кошмары, чтобы они чуть меньше смахивали на похотливые сны, стирая глупые ухмылки со рта грязных девчонок и выбрасывая все это в мусорные корзины за продавленными койками в мужском гимнастическом зале. Я никогда не любила ни вечеринок, ни воскресных послеполуденных коктейлей, ни боев сумо субботними вечерами. Что бы там ни случилось в ту ночь Хеллоуина, я ждала, что кто-нибудь, хоть кто-то, принесет мне пленку. Но ее не принесли. Была эта авария за стеной или нет, не знаю, я не слышала. Не важно, были на следующей неделе одни похороны или тысяча, — я отвергла все приглашения и резала увядшие цветы здесь. Я никогда не спускалась, чтобы увидеться с Арбутнотом при его жизни, так зачем мне смотреть на него мертвого? Обычно он сам забирался наверх и стоял за прозрачной дверью. Заметив его, такого высокого в лучах солнца, я говорила: «Тебе нужно сделать монтаж!» И он смеялся и никогда не входил, просто говорил портнихе, что ему хотелось бы такое-то лицо, крупным или общим планом, в кадре или за кадром, и уходил. Как мне удавалось оставаться одной на студии? Это был новый бизнес, и в городе была всего одна портниха — я. Остальные были гладильщиками брюк, искателями работы, цыганами, сценаристами-гадалками, которые не могли предсказывать даже по чаинкам. Однажды на Рождество Арби прислал мне прялку с острым веретеном и латунной табличкой на педали: «БЕРЕГИ, ЧТОБЫ СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА НЕ УКОЛОЛА ПАЛЬЧИКИ И НЕ ЗАСНУЛА». Жаль, что я не знала его лично, но он был лишь еще одной тенью за прозрачной дверью, а мне и здесь хватало теней. Я видела только толпы людей, шедших попрощаться с ним, они шли мимо моих окон в конец квартала и заворачивали за угол, к холодным упокоительным угодьям. Как и все в жизни, эта надгробная проповедь тоже слишком затянута.
Она опустила голову на грудь, словно хотела взять невидимые четки, повешенные специально для ее неугомонных пальцев.
После долгого молчания Фриц сказал:
— Мэгги Ботуин теперь будет отдыхать целый год!
— Ну нет. — Мэгги Ботуин испытующе посмотрела на меня. — У тебя есть какие-нибудь замечания по тем эпизодам, которые мы отсмотрели за последние несколько дней? Кто знает, может, завтра нас всех снова возьмут на работу за треть жалованья.
— Нет, — неуверенно проговорил я.
— К черту все это! — объявил Фриц. — Я собираю вещи!
Мое такси все еще ждало, накручивая на счетчик астрономические суммы. Фриц с презрением поглядел на него.
— Почему ты не научишься водить, идиот?
— Чтобы давить людей на улицах, как Фриц Вонг? Ну что, прощай, Роммель?[194]
— Только до тех пор, пока союзники не захватят Нормандию.
Я сел в такси и ощупал карман пальто.
— А что делать с моноклем?
— Вставь себе в глаз на следующей церемонии вручения «Оскаров». Я устрою тебе место на балконе. Чего ты еще ждешь, объятий? На, получай!
Он сердито прижал меня к себе:
— Outen zee ass![195]
Когда я отъезжал, Фриц крикнул:
— Опять забыл сказать, как я тебя ненавижу!
— Лжец! — крикнул я в ответ.
— Да, — кивнул Фриц и поднял руку в медленном, усталом приветствии, — я лгу.
— Я как раз думал о Холлихок-хаусе, — сказал Крамли, — и о твоей подруге Эмили Слоун.
— Она мне не подруга, но продолжай.
— Сумасшедшие вселяют в меня надежду.
— Что?! — Я чуть не выронил свое пиво.
— Сумасшедшие — это те, кто решил остаться в этой жизни, — сказал Крамли. — Они настолько любят жизнь, что не разрушают ее, а возводят для себя стену и прячутся за ней. Они притворяются, будто не слышат, но они слышат. Притворяются, будто не видят, но они видят. Их сумасшествие говорит: «Я ненавижу жить, но люблю жизнь. Я не люблю правила, но люблю себя. Поэтому, чем ложиться в могилу, я лучше найду себе убежище. Не в алкоголе, не в кровати под одеялами, не в шприцах и не в дорожках белого порошка, а в безумии. В собственном доме, среди своих стен, под своей безмолвной крышей». Поэтому сумасшедшие, да, они вселяют в меня надежду. Смелость оставаться живым и здоровым, а если устанешь и нужна будет помощь, лекарство всегда под рукой — безумие.
— Дай-ка мне свое пиво! — Я схватил его стакан. — Сколько таких ты уже выпил?
— Всего восемь.
— Господи! — Я сунул ему стакан обратно. — Это что, войдет в твой новый роман?
— Может быть. — Изо рта Крамли послышался негромкий звук легкой самодовольной отрыжки, и он продолжил: — Если бы тебе пришлось выбирать между триллионами лет жизни во тьме без единого луча солнца и кататонией, разве ты не выбрал бы последнее? Ты по-прежнему мог бы наслаждаться зеленой травой и воздухом, пахнущим разрезанным арбузом. Прикасаться к своему колену, когда никто не видит. И все это время ты бы притворялся, что тебе все равно. Но тебе настолько не все равно, что ты выстроил себе хрустальный гроб и собственноручно его запечатал.
— Боже мой! Продолжай!
— Я спрашиваю себя: зачем выбирать безумие? Чтобы не умереть, — отвечаю я. Любовь — вот ответ. Все наши чувства — это проявления любви. Мы любим жизнь, но боимся того, что она с нами делает. Итак, почему бы не дать безумию шанс?
Повисло долгое молчание, затем я спросил:
— До чего, черт побери, нас доведут такие разговоры?
— До сумасшедшего дома.
— Пойдем разговаривать с кататоничкой?
— Однажды это сработало, верно? Пару лет назад, когда я тебя загипнотизировал, так что в конце концов ты почти вспомнил убийцу?
— Ага, только я не был помешанным!
— Кто сказал?
Я замолчал, а Крамли заговорил:
— Ладно, а что, если мы отведем Эмили Слоун в церковь?
— Черт побери!
— Не чертыхайся на меня. Мы все были наслышаны о ее пожертвованиях церкви Святой Девы Мари на бульваре Сансет. Как она два года подряд на Пасху раздавала по двести серебряных распятий. Уж если ты католик, то это на всю жизнь.
— Даже если она сумасшедшая?
— Но она будет все осознавать. Внутри, за своими стенами, она будет чувствовать, что присутствует на мессе, и… заговорит.
— Начнет что-нибудь выкрикивать, бредить, может быть…
— Может быть. Но она знает все. Поэтому-то она и сошла с ума, чтобы не думать, не говорить об этом. Она единственная, кто выжил, все остальные умерли или прячутся прямо у нас под носом, держа рот на замке за хорошие деньги.
— И ты думаешь, она может в достаточной мере чувствовать, ощущать, знать и помнить? А вдруг мы только усугубим ее безумие?
— Господи, да откуда я знаю! Это последняя наша зацепка. Никто другой не станет с нами откровенничать. Половину истории тебе рассказала Констанция, еще четверть — Фриц, есть еще священник. Это головоломка, а Эмили — рамка, внутри которой нужно собрать все части. Зажгите свечи, воскурите ладан. Пусть зазвонит алтарный колокол. Может быть, она очнется после семи тысяч дней молчания и заговорит.
Целую минуту Крамли молча сидел, медленно и тяжело потягивая пиво. Затем он наклонился вперед и произнес:
— Ну что, пойдем вытащим ее?
65
Мы не привели Эмили Слоун в церковь.
Мы привели церковь к Эмили Слоун.
Констанция все устроила.
Мы с Крамли принесли свечи, ладан и медный колокол, сделанный в Индии. Затем расставили и зажгли свечи в одной из полутемных комнат санатория «Елисейские Поля» в Холлихок-хаусе. Я приколол на колени булавками несколько кусков хлопчатобумажной ткани.
— А это еще зачем? — проворчал Крамли.
— Звуковые эффекты. Они шуршат. Как полы сутаны.
— Господи!
— Да-да, именно.
Потом, когда свечи были зажжены, мы с Крамли, спрятавшись в укромной нише, развеяли в воздухе запах ладана и проверили колокол. Он издал чистый, приятный звон.
— Констанция! — тихо позвал Крамли. — Веди!
И вот вошла Эмили Слоун.
Она двигалась не по своей воле, она не шла; ее голова была неподвижна, неподвижный взгляд неподвижных глаз замер на ее лице, словно выточенном из мрамора. Сперва из темноты показался ее профиль, затем недвижное тело и руки, в безмятежности надгробной статуи застывшие на девственных от времени коленях. Она сидела в кресле на колесиках, подталкиваемом сзади почти невидимой рукой ассистентки режиссера, Констанции Раттиган, одетой в черное, как на репетиции сцены старинных похорон. Как только бледное лицо и ужасающе неподвижное тело Эмили Слоун выплыли из темноты холла, послышался шорох, словно шумно взлетела стайка птиц; мы стали разгонять веерами ладанный дым и негромко звонить в колокол.
Я кашлянул.
— Тсс, она же слушает! — шепнул мне Крамли.
И правда она слушала.
Когда Эмили Слоун оказалась в лучах мягкого света, слабое движение — легкая дрожь — промелькнуло под ее веками, а неуловимое колебание свечного пламени отзывалось на тишину и меняло изгибы теней.
Я помахал веером.
И ударил в колокол.
При этих звуках само тело Эмили Слоун словно унеслось прочь. Как невесомый воздушный змей, подхваченный невидимым ветерком, она качнулась, будто плоть ее растаяла.
Снова ударил колокол, и ладанный дым заставил вздрогнуть ее ноздри.
Констанция отступила назад, во тьму.
Голова Эмили Слоун повернулась к свету.
— Боже мой, — прошептал я.
«Это она», — подумал я.
Слепая женщина, которая пришла в «Браун-дерби» и ушла вместе с чудовищем в ту далекую ночь, за тысячу, казалось, ночей назад.
Значит, она не слепая.
Всего лишь кататоничка.
Но не просто кататоничка.
Она восстала из могилы и плыла по комнате в аромате и дыму благовоний, под звуки колокола.
Эмили Слоун.
Десять минут Эмили сидела, не говоря ни слова. Мы ждали, считая удары своих сердец. Мы смотрели, как пламя пожирает свечи и рассеивается дым.
И вот настало то прекрасное мгновение, когда голова ее склонилась, а глаза широко распахнулись.
Она сидела еще, наверное, минут десять, жадно впитывая воспоминания о тех далеких днях, задолго до того, как страшный удар выбросил ее, словно обломок кораблекрушения, на калифорнийский берег.
Я увидел, как губы ее дрогнули, а язык шевельнулся во рту.
Она словно водила пером по внутренней стороне своих век, а затем воплощала это в словах:
— Никто… — прошептала она, — не пони… мает…
И продолжила:
— Никто… никогда не понимал…
Пауза.
— Он был… — наконец произнесла она и остановилась.
Клубился дым благовоний. Колокол издал тихий звон.
— …студия… он… любил…
Я прикусил запястье и ждал, что она скажет.
— …место… для… игр. Съемочные… площадки…
Тишина. Ее зрачки подергивались, она вспоминала.
— Площадки… игрушки… электрические… поезда. Мальчишки, да. Десятилетние… — Она перевела дыхание. — Одиннадцатилетние…
Пламя свечей всколыхнулось.
— …он… всегда говорил… Рождество… всегда… никогда не уходит… Он бы… умер… если бы не Рождество… глупец. Но… двенадцать… он сказал… родителям не покупать ему… носки… галстуки… свитера. На Рождество. Покупать игрушки. Иначе он не станет… разговаривать.
Ее голос постепенно угасал.
Я взглянул на Крамли. Его глаза вылезали из орбит, так ему хотелось слушать еще и еще. Поплыл дым от ладана. Я тихонько ударил в колокол.
— А потом?.. — впервые за все это время прошептал он. — Потом?..
— Потом… — эхом отозвалась она. Она читала строчки на внутренней стороне своих век. — Вот так… он… стал управлять… студией.
Ее тело вновь стало обретать плоть. Она вновь возникала в своем кресле, как будто воспоминание задело какие-то струны и былая сила, утраченная живость и само ее существо стали понемногу возвращаться на место. Даже кости лица, казалось, двигаются, меняя очертания щек и подбородка. Теперь она говорила быстрее. И наконец ее прорвало.
— Игра. Да. Он не работал… играл. В киностудию. Когда его отец… умер.
И по мере того, как она рассказывала, с ее уст уже слетало по три, по четыре слова, и наконец они стали выплескиваться десятками, а потом это были уже тугие струи, и ручьи, и реки. Румянец коснулся щек, блеск появился в глазах. Она начала подниматься. Словно лифт из темной шахты, поднимающийся к свету, ее душа выплывала из тьмы, а следом и она сама начала вставать на ноги.
Это напомнило мне те вечера 1925–1926 годов, когда где-то вдали, сквозь шум радиопомех, играла музыка или пели голоса и ты, пытаясь их поймать, крутил семь или восемь ручек настройки на своем супергетеродине,[196] чтобы услышать далекий город Скенектади, где несколько чертовых безумцев играли музыку, которую тебе совсем не хотелось слушать. Но ты все равно продолжал настраивать, пока наконец не удавалось установить одну за другой все ручки, и тогда шум исчезал, и голоса выстреливали из большого и круглого, как пластинка, динамика, и ты победно смеялся, хотя тебе нужны были одни лишь звуки, а не смысл. И то же самое было в тот вечер, в этом месте, где ладан, колокол и пламя свечей постепенно вызывали Эмили Слоун из тьмы к свету. А она вся была одним бесплотным воспоминанием, так слушай, слушай, колокол, колокол и голос, голос, а за спиной бледной статуи стояла Констанция, готовая подхватить ее, если та упадет, а статуя говорила:
— Студия. С иголочки, в Рождество. Каждый день. Он всегда. Приходил сюда в семь. Утра. Энергичный. Нетерпеливый. Если он видел людей. С закрытыми ртами. Он говорил: откройте! Смейтесь. Никогда не понимал. Кто-то в унынии, а жизнь всего одна. Надо жить. Многое еще не сделано…
Она снова стала уплывать, распускаться, словно эта длинная тирада лишила ее всех сил. С дюжину ударов сердца она ждала, пока кровь не будет спокойнее течь в жилах, затем наполнила воздухом легкие и спешно, словно за ней гнались, продолжила свою речь:
— Я… в тот же год, с ним. Двадцать пять, только что из Иллинойса. Помешанная на кино. Он увидел, что я помешанная. Держал меня… рядом.
Молчание. Затем:
— Чудесно. Все первые года… Студия развивалась. Он строил. Чертежи. Сам себя называл Первооткрывателем. Картографом. К тридцати пяти. Сказал. Хочет, чтобы весь мир был внутри… стен. Никогда не путешествовал. Ненавидел поезда. Только машины. Машины убили его отца. Страсть. Вот, понимаете, он жил в маленьком мире. Мир становился тем меньше, чем больше городов и стран он строил на съемочной площадке. Галлия! У его ног. Затем… Мексика. Острова у берегов Африки. Потом… Африка! Он говорил. К чему путешествовать? Просто запер себя внутри. Он приглашал людей. Вы бывали в Найроби? Пожалуйста! Лондон? Париж? Прошу! На каждой площадке выстроил специальные гостиницы. Ночи: в Нью-Йорке. Выходные: на Рив-Гош… очнуться на римских развалинах. Возложить цветы. К могиле Клеопатры. За фронтонами каждого из городов постелил ковры, поставил кровати, водопровод. Работники студии смеялись над ним. Ему было плевать. Молодой, горячий. Он продолжал строить. В двадцать девятом, в тридцатом, тридцать первом, тридцать втором!
Крамли на противоположном конце комнаты поднял брови и посмотрел на меня.
Господи! А я-то думал, что изобрел что-то новое, когда поселился и стал писать в гринтаунском доме моей бабушки!
— Даже такое место, — прошептала Эмили Слоун, — как собор Парижской Богоматери. Спальный мешок. Высоко-высоко над Парижем. Просыпался с восходом солнца. Безумец? Нет. Он смеялся. Заставлял вас смеяться. Не был безумен… это потом, позже…
Она погрузилась в молчание.
Это длилось долго, и мы уже думали, что Эмили утонула в нем навеки.
Но тут я снова тихо ударил в колокол, и она, опустив голову на грудь, посмотрела на узор, вывязываемый ее пальцами, и вновь подобрала невидимую нить.
— Позже… действительно… безумен. Я вышла замуж за Слоуна. Бросила работу секретарши. Никогда себе не простила. Он по-прежнему играл в большие игрушки… сказал, что все еще любит меня. И вот в ту ночь… авария. Это. Это. Это случилось. И я… умерла.
Долгую минуту мы с Крамли ждали. Одна из свечей погасла.
— Знаете, он иногда приходит, — сказала наконец Эмили под замирающее потрескивание мерцающих и гаснущих свечей.
— Он? — осмелился прошептать я.
— Да. О, два… три… раза… в год.
«Знаешь ли ты, сколько лет прошло с тех пор?» — подумал я.
— Он меня забирает с собой, забирает с собой, — вздохнула она.
— Вы разговариваете? — шепотом спросил я.
— Он говорит. Я только смеюсь. Он говорит… Он говорит, что…
— Что?
— Что даже спустя все эти годы любит меня.
— А вы?
— Ничего. Это неправда. Я причинила… горе.
— Вы ясно видите его?
— О нет. Он сидит далеко, где нет света. Или стоит за спинкой моего стула, говорит о любви. Приятный голос. Все тот же. Хотя он мертв, и я мертва.
— Но чей это голос, Эмили?
— Как… — Она помедлила с ответом. Затем ее лицо озарилось. — Арби, конечно.
— Арби?..
— Арби, — ответила она и покачнулась, неподвижно глядя на последнюю непогасшую свечу. — Арби. Он создал ее от начала до конца. Он так думает. Есть ради чего жить. Студия. Игрушки. Не важно, что я ушла. Он жил ради того, чтобы снова вернуться в единственное место, которое он любил. Поэтому он делал это даже после смерти. Молоток. Кровь. О боже! Он убил меня. Меня! — пронзительно вскрикнула она и упала в свое кресло.
Ее веки и губы крепко сомкнулись. Она сидела без сил, безмолвная, вновь превратившись в статую, навеки. Никакие колокола, никакие благовония уже не сотрут с нее эту маску.
Я тихо позвал ее по имени.
Но она уже выстроила для себя новый стеклянный гроб и закрыла крышку.
— Боже! — произнес Крамли. — Что мы наделали?
— Доказали два убийства, а может быть, три, — ответил я.
— Пойдемте домой, — сказал Крамли.
Но Эмили не услышала. Ей было хорошо там, где она была.
66
И вот наконец оба города слились воедино.
Чем больше света было в городе мрака, тем больше мрака было в городе света.
Туман и таинственная дымка начали переливаться через высокие стены кладбища. Надгробные камни задвигались, словно тектонические плиты. В сухие подземные туннели стали просачиваться холодные ветры. Сама память захлестнула подземелья фильмофондов. Черви и термиты, обитавшие раньше в цветущих садах каменных надгробий, ныне подкапывались под яблочные сады Иллинойса, вишневые деревья Вашингтона и геометрически подстриженные кустарники вокруг французских замков. Огромные павильоны пустели один за другим, с грохотом захлопывая свои ворота. Дощатые домики, бревенчатые хижины и просторные усадьбы Луизианы начали ронять с крыш куски дранки, распахнули зияющие дыры своих дверей, затрепетали от свалившихся на них напастей и обрушились.
Ночью две сотни старинных автомобилей, стоявших на натурных площадках, взревели моторами, выпустили клубы дыма и, взметая гравий и пыль, тайными тропами помчались в родной Детройт.
В зданиях постепенно, этаж за этажом, погас свет, захлебнулись кондиционеры, последние тоги, словно призраки Рима, на грузовиках вернулись в «Вестерн костьюм», что всего в квартале от Аппиевой дороги, а полководцы и цари ушли вместе с последними сторожами.
Нас оттесняли в море.
Границы, как мне казалось, день ото дня все сужались.
Все больше вещей, по слухам, рассыпалось и исчезало. Вслед за миниатюрными городами и доисторическими животными исчезли нью-йоркские дома из бурого песчаника и небоскребы, а вслед за давно пропавшим крестом на Голгофе отправился в печь и в отворенный на рассвете Гроб Господень.
В любой момент само кладбище могло затрещать по швам. Его растрепанные жильцы, лишенные крова, выставленные в полночь на улицу, вот-вот пойдут в поисках нового пристанища на другой конец города, в «Форест лон»;[197] они будут останавливать в два ночи автобусы и пугать водителей, и захлопнутся последние ворота, и подземные туннели-склепы, где хранятся бутылки с виски и коробки с фильмами, до краев заполнятся багровыми потоками холодной жижи, а церковь на другой стороне улицы наглухо заколотит все двери, и пьяный пастор с метрдотелем из «Браун-дерби» будут спасаться бегством среди темных холмов у надписи «Голливуд», в то время как скрытая угроза и невидимая армия будут теснить нас все дальше и дальше на запад, выгоняя меня из дома, а Крамли — с его поляны в джунглях, пока наконец здесь, в арабском гетто, где почти нет еды, зато шампанское льется рекой, мы не найдем свое последнее пристанище, и тогда армия мертвецов во главе с чудовищем под дикие крики хлынет с песчаных дюн, чтобы швырнуть нас на обед тюленям Констанции Раттиган и натолкнуться на призрак Эйми Сэмпл Макферсон, сквозь прибой выбирающейся на берег, изумленной, но возрожденной на христианской заре.
Так все и было.
С поправкой на метафоричность.
67
Крамли пришел в полдень и застал меня у телефона.
— Собираюсь позвонить на студию и договориться о встрече, — сказал я.
— С кем?
— С тем, кто окажется в кабинете Мэнни Либера, когда зазвонит белый телефон на огромном столе.
— А потом?
— А потом пойду сдаваться.
Крамли посмотрел на холодные волны прибоя за окном.
— Иди-ка освежи голову, — сказал он.
— Так что же нам делать?! — воскликнул я. — Сидеть и ждать, пока они не выломают дверь или не выйдут из моря? Я не могу сидеть без дела. По мне, так лучше умереть.
— Дай-ка мне!
Крамли схватил трубку и набрал номер. Дождавшись ответа, он едва сдержался, чтобы не перейти на крик:
— Я вполне здоров. Закрой мой больничный. Вечером буду на работе!
— И это в тот момент, когда ты мне так нужен, — сказал я. — Предатель.
— Предатель, черта с два! — Он с грохотом бросил трубку на рычаг. — Я — стремянный!
— Кто-о-о?
— Вот кем я был всю неделю. Ждал, когда ты пролезешь в дымоход или свалишься с лестницы. Стремянный. Парень, который держал поводья, когда генерал Грант спрыгивал со своей лошади. Тайком пробираться на заупокойные службы и читать подшивки старых газет — это все равно что спать с русалкой. Пора помочь моему коронеру.
— А ты знаешь, что слово «коронер» означает всего лишь «при короне»? Парень, который выполнял поручения короля или королевы. Корона. Король. Коронер.
— Черт побери! Мне надо позвонить в телеграфное агентство. Дай-ка трубку!
Раздался телефонный звонок. Мы оба вздрогнули.
— Не поднимай, — сказал Крамли.
…Восьмой звонок. Десятый. Наконец я не выдержал. И снял трубку.
Сперва в ней слышался только шум электрических волн, накатывающих на берег где-то на другом конце города, где невидимые капли дождя падали на неумолимые плиты надгробий. А затем…
Я услышал тяжелое дыхание. Словно где-то, за много миль отсюда, хлюпала огромная черная квашня.
— Алло, — отозвался я.
Молчание.
Наконец тягучий, вязкий голос, голос, идущий из глубин искореженной плоти, произнес:
— Почему ты не здесь?
— Никто не звал меня, — ответил я дрожащим голосом.
Я слышал тяжелое дыхание, словно доносящееся из-под толщи воды, как будто кто-то тонул в своей собственной ужасной плоти.
— Сегодня вечером. — Голос становился все тише. — В семь. Ты знаешь где?
Я кивнул. Глупец! Я кивнул!
— Хорошо… — медленно проговорил голос из глубины, — это было так давно, так далеко… отсюда… поэтому… — Голос стал печален. — Прежде чем я уйду навсегда, мы должны, о, мы должны… поговорить…
Послышался шумный вздох, и голос исчез. Я сел, не выпуская из руки трубку, крепко зажмурив глаза.
— Кто это был, черт возьми? — спросил Крамли у меня за спиной.
— Не я ему позвонил, — проговорили мои губы. — Он сам позвонил мне!
— Дай-ка мне!
Крамли набрал номер.
— Я по поводу больничного… — начал он.
68
Студия была наглухо закрыта: там царили опустошение, темнота и смерть.
Впервые за тридцать пять лет у ворот стоял всего один охранник. Ни в одном из зданий не горел свет. Лишь несколько фонарей освещали перекрестки аллей, которые вели к собору Парижской Богоматери, если он все еще стоял на месте, мимо исчезнувшей навсегда Голгофы, и упирались в ограду кладбища.
«Господи, — подумал я, — вот они, мои два города. Только ныне они оба холодны, оба темны, между ними нет никакой разницы. Стоят бок о бок, города-близнецы: в одном царят лужайки и холодный мрамор, в другом, по эту сторону, — человек: мрачный, жестокий, все презирающий, как сама Смерть. Он повелевает мэрами и шерифами, полицией с ее ночными псами, телефонными сетями, протянувшимся к банкам Восточного побережья».
Наверное, я был единственным живым существом на всем пути, по которому я шел, дрожа от страха, из одного мертвого города в другой.
Я подошел к воротам.
— Ради бога, — произнес за моей спиной Крамли, — не делай этого!
— Я должен, — ответил я. — Чудовищу известно, где находится каждый из нас. Он мог бы прийти в дом к тебе, или к Констанции, или к Генри и нас уничтожить. Но теперь, мне кажется, он этого не сделает. Кто-то окончательно выследил нас и сделал это для него. Согласись, нет никакого способа его остановить. Ни одного доказательства. Никакого закона, чтобы его арестовать. Нет такого суда, который бы выслушал нас. И нет такой тюрьмы, которая бы его приняла. Но я не хочу, чтобы меня вышвырнули на улицу или прибили в собственной постели. Господи, Крамли, я не могу томиться и ждать. В конце концов, ты же слышал его голос. Не думаю, что он может отправиться куда-либо, кроме как на тот свет. Его постигло что-то страшное, и ему нужно поговорить.
— Поговорить! — вскричал Крамли. — Что-то вроде «Сиди смирно, пока я не трахну тебя по башке»?!
— Поговорить.
Я стоял в воротах и смотрел на длинную улицу впереди.
Стояния Крестного пути:
Стена, от которой я убегал в канун Дня всех святых.
Гринтаун, где мы с Роем по-настоящему жили.
Павильон 13, где была создана и разрушена фигура чудовища.
Столярная мастерская, где был спрятан гроб, а позже сожжен.
Комната Мэгги Ботуин, по стене которой скользил силуэт Арбутнота.
Столовая, где апостолы от кино преломляли черствый хлеб и пили Христово вино.
Голгофа, которой ныне нет, и звездный круг, вращающийся над нею, и Христос, давным-давно второй раз сошедший в могилу, так что чудо с рыбой уже не повторится.
— К черту все, — сказал Крамли у меня за спиной. — Пойду с тобой.
Я отрицательно покачал головой:
— Нет. Ты что, хочешь неделями и месяцами бродить кругом в поисках чудовища? Он будет прятаться от тебя. Сейчас он открылся мне, быть может, затем, чтобы рассказать о пропавших людях. Ты что, намерен получить разрешение на вскрытие сотни могил за этой стеной? Думаешь, город даст тебе в руки лопату и позволит откопать Иисуса, Кларенса, Грока и Дока Филипса?! Мы никогда их больше не увидим, если только Человек-чудовище не покажет нам. Так что подожди у входа на кладбище. Обойди вокруг квартала раз восемь—десять. Может, я выскочу с криками из каких-нибудь ворот, а может, просто выйду.
— Ладно. — Голос Крамли звучал тоскливо. — Иди, пусть тебя убьют! — Он вздохнул. — Эх! Черт! Держи.
— Пистолет? — воскликнул я. — Я боюсь оружия!
— Возьми. Положи пистолет в один карман, а пули в другой.
— Нет!
— Бери! — Крамли сунул мне пистолет в руку. Я взял.
— Возвращайся целым и невредимым!
— Слушаюсь, сэр, — ответил я.
Я вошел внутрь. Киностудия приняла на себя мой груз. Я почувствовал, как она прогнулась в ночи под моей тяжестью.
В любое мгновение последние из оставшихся зданий могли, словно подстреленные слоны, рухнуть на колени; их гниющее мясо достанется собакам, кости — ночным птицам.
Я пошел по улице, все еще надеясь, что Крамли окликнет меня. Тишина.
У третьей аллеи я остановился. Мне захотелось взглянуть в сторону, туда, где был Гринтаун, штат Иллинойс. Но не стал. Если его башенки, эркеры, игрушечные мансарда и винные погреба уже срыты экскаваторами и пожраны термитами, я не буду на это смотреть.
На здании администрации горел всего один маленький фонарь.
Дверь была не заперта.
Я сделал глубокий вдох и вошел.
Дурак. Идиот. Кретин. Маразматик.
Я бормотал эту литанию, поднимаясь наверх.
Я взялся за ручку двери. Заперто.
— Слава богу!
Я уже собрался было бежать, как вдруг…
Щелкнули механизмы.
Дверь кабинета медленно распахнулась.
«Пистолет», — подумал я. И нащупал в одном кармане оружие, в другом — патроны.
Я сделал полшага вперед.
Кабинет освещала лишь лампа над картиной, висящей на противоположной от меня, западной стене. Я пошел вперед, бесшумно ступая по полу.
Вокруг были все те же пустые диваны, кресла и огромный пустой стол с единственным телефоном.
И большое кресло, которое на сей раз не пустовало.
Я слышал его дыхание во тьме — долгое, медленное и тяжелое, как дыхание громадного животного.
И смутно различимая, массивная фигура человека, сидящего в этом кресле.
Я споткнулся о стул. От этого удара мое сердце едва не остановилось.
Я украдкой взглянул на фигуру в дальнем конце комнаты и ничего не разглядел. Его голова была опущена, лицо оставалось в тени, большие руки и огромные, как лапы, ладони были вытянуты вперед и покоились на столе. Вздох. Вдох-выдох.
Голова и лицо Человека-чудовища поднялись, обратившись к свету.
На меня уставились горящие глаза.
Он колыхался, как огромное черное тесто под паром.
Массивная плоть стонала, когда фигура поворачивалась.
Я протянул руку к выключателю. Рана-которая-была-ртом растянулась и обнажилась.
— Не надо! — Огромная тень протянула свою длинную руку.
Я услышал, как повернулся телефонный диск: один раз, два. Затем жужжание, щелканье. Я повернул выключатель. Света не было. Запоры двери снова вернулись на место.
Молчание. А дальше…
…раздался шум втягиваемого воздуха, затем столь же шумный выдох:
— Ты пришел… устраиваться на работу?
«Что?» — подумал я.
Огромная тень подалась вперед и исчезла в темноте. Я смотрел на нее, но не видел глаз.
— Ты пришел, — прошелестел голос, — чтобы встать во главе студии?
«Я?!» — подумал я. А голос продолжал, выговаривая слог за слогом:
— …Нет теперь никого, кто годится для этой работы. Это целый мир, который ищет своего хозяина. Целый мир на нескольких акрах земли. Когда-то здесь росли апельсины, лимоны, пасся скот. Скоты и теперь здесь. Ну да бог с ними. Все это твое. Я дарю этот мир тебе…
Безумие.
— Подойди, взгляни, чем ты теперь владеешь!
Он сделал жест своей длинной рукой. Прикоснулся к невидимому диску телефона. Зеркало позади стола отодвинулось, распахнув широкий проход, откуда потянуло подземным холодком, и я увидел туннель, ведущий вниз, в пещеру.
— Сюда! — прошептал голос.
Тень вытянулась и повернулась. Вращающееся кресло пронзительно скрипнуло, и вдруг тень исчезла — ее не было теперь ни в кресле, ни за креслом. Передо мной простирался стол, пустой, как палуба гигантского корабля. Тяжелое зеркало начало медленно закрываться. Я бросился вперед, испугавшись, что, когда оно закроется, тусклые огни погаснут совсем и меня поглотит темнота.
Зеркало продолжало скользить. Я увидел в нем свое лицо, искаженное паникой.
— Я не могу идти за вами! — крикнул я. — Мне страшно!
Зеркало застыло на месте.
— Ты же был там, на прошлой неделе, — прошелестел голос. — Что же сегодня? Вскрыл могилу. Мою могилу.
Теперь его голос был похож на голос моего отца, когда он таял на смертном одре: отец жаждал смерти как подарка, но ему пришлось томиться не один месяц, прежде чем умереть.
— Переступи порог, — спокойно произнес голос.
«Господи, — подумал я, — эта фраза знакома мне с шести лет. Призрак, манящий из Зазеркалья. И вот певица, привлеченная мягкостью голоса, прислушивается к нему, касается зеркала, и оттуда появляется рука, которая поведет ее вниз, в подземелья, и похоронная гондола покачивается на черной воде канала, и Смерть стоит у руля. Зеркало, шепот, пустынное здание оперы, и где-то вдали слышится пение».
— Я не могу двинуться, — сказал я. И это было правдой. — Я боюсь. — Мой рот словно наполнился песком. — Вы ведь давно умерли…
Он — силуэт по ту сторону зеркала — покачал головой:
— Не так-то легко быть мертвым и при этом жить под сводами киноархива, уходящего в глубь могил. Содержать людей, которые знают ничтожно мало, платить им много и убивать их, если не справились с работой. Смерть после полудня в павильоне тринадцать. Или смерть в бессонную ночь по ту сторону ограды. Или здесь, в этом кабинете, где я часто спал в широком кресле. Так что же…
Зеркало задрожало — то ли от его дыхания, то ли от прикосновения, я не знаю. Кровь застучала у меня в ушах. Стекло отразило эхо моего голоса, мальчишеского голоса:
— А нельзя ли нам поговорить здесь?
И снова послышался печальный полувздох-полусмех:
— Нет. Нам предстоит большая экскурсия. Ты должен знать все, если собираешься занять мое место.
— Но я не хочу! Кто сказал, что я собираюсь?
— Я сказал. Я это говорю. Послушай, мне лучше быть мертвым.
Потянуло сыростью, пахнущей целлулоидом старой кинопленки и влажной землей могил.
Зеркало, скользя, вновь отодвинулось в сторону. Послышался звук тихо удаляющихся шагов.
Я напряженно вгляделся внутрь, в туннель, слабо освещенный тусклыми аварийными лампами на потолке.
Человек-чудовище, словно огромная тень, медленно сходил вниз по наклонному полу и вдруг обернулся.
Он пристально посмотрел на меня своими до невозможности безумными, невероятно печальными глазами.
Он кивнул головой в сторону наклонного коридора, теряющегося в темноте.
— Что ж, если не можешь идти, беги, — прошептал он.
— Бежать от кого?
Его губы влажно причмокнули, и наконец он произнес:
— От меня! Я всю жизнь бегал! Что, думаешь, я не могу догнать тебя? Господи! Притворись! Вообрази, что я по-прежнему силен, что обладаю все той же властью. Что я могу убить тебя! Сыграй, будто тебе страшно!
— Но мне страшно!
— Так беги! Черт тебя побери!
Он поднял кулак и ударил по стене, стряхнув с нее тени.
Я побежал.
А он за мной.
69
Это была жуткая притворная погоня, сквозь подземелья, где покоились коробки с фильмами, к каменным склепам, где покоились кинозвезды из всех этих фильмов, под стеной и сквозь стену, и вот стена уже позади, а я все мечусь по катакомбам, убегая от чудовища, чьи избыточные телеса вот-вот хлынут мне на пятки, я мчусь к могиле, где никогда не лежал Дж. Ч. Арбутнот.
И, убегая, я знал: да никакая это не экскурсия, мой путь имеет конечную цель. Меня не преследовали, меня гнали, как скотину. Но куда?
На самое дно подземелья, где тысячу лет назад стояли мы: Крамли, слепой Генри и я. Я резко остановился, словно ударившись о стену.
Лестница, бывшая основанием саркофага, ждала на месте; вокруг — никого.
Я слышал, как позади в темном туннеле дробно стучат шаги и бушует огненный рев погони.
Я прыгнул на ступеньки, зацепившись за что-то, чтобы туда залезть. Скользя, бормоча жалкие молитвы, я со стоном поднялся наверх, издал крик облегчения и, выскочив из саркофага, с воплем спрыгнул на пол.
Я навалился на дверь склепа, и та широко распахнулась. Выпав из нее и очутившись на кладбище, я стал напряженно всматриваться сквозь лес могил туда, где был бульвар, бесконечно далекий и безлюдный.
— Крамли! — заорал я.
Ни одной проезжающей машины, ни одного припаркованного авто.
— О господи! — простонал я. — Крамли! Где ты?
У меня за спиной, у самого входа в склеп, бешено стучали шаги. Я в отчаянии обернулся.
Человек-чудовище вынырнул из темноты.
Луна освещала в проеме его фигуру. Он стоял, как надгробная статуя, воздвигнутая в память самой себя, под своим же именем, высеченным на камне. На мгновение он показался мне призраком английского лорда, стоящего на пороге сторожки у ворот старинного поместья: он словно просился, чтобы его запечатлели на пленке, а затем в темной комнате погрузили в кислотный раствор, и тогда, по мере проявления, вновь возникнут его неясные очертания — одна рука опирается на дверные петли справа, другая поднята, словно в стремлении отмахнуться от Судьбы, швырнув ее, как шар, через холодное мраморное поле для игры. Вверху, над дверью из холодного мрамора, я снова прочел:
АРБУТНОТ
Наверное, я едва не выкрикнул вслух это имя.
При этом слове он бросился вперед, точно кто-то выстрелил из стартового пистолета. Его крик заставил меня рвануть к воротам. Дюжину раз я натыкался на могилы, отскакивал, опрокидывал вазы с цветами и, крича, бежал дальше с удвоенной скоростью. Одна половинка меня чувствовала себя затравленным зверем, другая видела во всем фарс в духе кистонских фильмов. На одной картинке могучие волны захлестывали одинокого беглеца. На другой за Чарли Чейзом[198] неслось стадо обезумевших слонов. То дико хохоча, то погибая от отчаяния, я промчался по кирпичным дорожкам между могилами и вдруг обнаружил, что…
Крамли не было. Бульвар безлюден.
На другой стороне улицы стояла, распахнув настежь двери, церковь Святого Себастьяна, в ней горел свет.
«Иисус, — подумал я, — если бы только ты был со мной!»
Я бросился туда, ощущая кровь на губах.
Сзади слышался тяжкий грохот неуклюжих шагов и затрудненное дыхание полуслепого, изуродованного человека.
Я примчался к дверям.
Святое прибежище!
Но в церкви не было ни души.
На золотом алтаре горели свечи. Они горели в пещерах, где Христос уступил Деве Марии почетное место среди ярких огней, сочащихся слезами любви.
Двери исповедальни были открыты.
Послышался грохот приближающихся шагов.
Я нырнул в кабинку, захлопнул за собой дверь и, дрожа как лист, погрузился во тьму, в этот темный колодец.
Грохот шагов…
…стал стихать, будто ураган. Словно буря, шаги постепенно улеглись, а затем, среди наступившего штиля, приблизились ко мне.
Я почувствовал, как лапа чудовища легла на ручку двери. Дверь не заперта.
Но ведь я пастор, не так ли?
Кто бы ни прятался здесь, за закрытой дверью, он был святейшим человеком, с мнением которого надо считаться, с кем можно поговорить и остаться… в живых?
Из-за двери я услыхал это ужасное ворчание изможденного человека, самого себя обрекшего на смерть. Меня била дрожь. Я разжал зубы, чтобы помолиться о самых простых вещах. Я просил один час, чтобы провести его с Пег. Оставить после себя ребенка. Мелочи. Пустяки, заслоняющие собой ночь, огромные, как надежда увидеть рассвет…
Мои ноздри, наверное, источали сладкий запах жизни. Он просачивался наружу вместе с моими молитвами.
В последний раз послышалось ворчание и…
Господи!
Человек-чудовище неуклюже ввалился в соседнюю кабинку исповедальни!
Отчаянная ярость, с которой он втиснулся внутрь, заставила меня содрогнуться больше, нежели страх, что его ужасающее дыхание испепелит решетку и выжжет мне глаза.
Но его огромная туша плюхнулась на сиденье, словно обширные кузнечные мехи, вздыхающие всеми своими складками.
Я понял: странная погоня закончилась, начался последний раунд.
Я слышал, как Человек-чудовище шумно вздохнул один раз, другой, третий, будто набираясь смелости, чтобы заговорить, или боясь заговорить, словно все еще хотел убить меня, но устал — о господи, — наконец-то он устал.
Вот он тяжко вздохнул, словно ветер зашумел в печной трубе, и произнес:
— Благослови меня, отче, ибо я согрешил!
«Боже, — подумал я, — господи боже, что же отвечали пасторы во всех этих старых фильмах, которые я смотрел полжизни назад? Вот глупая память, что?!» У меня возникло безумное желание выскочить вон и что есть духу мчаться куда глаза глядят, чувствуя, как чудовище дышит мне в спину.
Но едва я овладел своим дыханием, послышался его ужасающий вздох:
— Благослови меня, отче…
— Я не твой отче! — крикнул я.
— Нет, — прошептал Человек-чудовище. И после секундной тишины добавил:
— Ты мой сын.
Я так и подпрыгнул на месте, сердце мое провалилось в холодный и мрачный туннель. Человек-чудовище зашевелился.
— Кто… — (пауза), — как ты думаешь… — (пауза), — нанял тебя на работу?
«Господи боже!»
— Я, — произнес тот, чье лицо скрывала решетка.
«Так это был не Грок?» — подумал я.
И Человек-чудовище начал читать страшную молитву, перебирая черные четки, а я потихоньку невольно откидывался назад, пока голова не коснулась стенки исповедальни, и тогда я повернул ее и прошептал:
— Почему ты меня не убил?
— Я никогда этого не хотел. Твой друг случайно на меня наткнулся. Он сделал этот бюст. Безумие. Да, я хотел его убить, но прежде он сам убил себя. Или сделал вид, будто покончил с собой. Он жив, он ждет тебя…
«Где?!» — хотелось мне крикнуть. Но вместо этого я спросил:
— Зачем ты меня спас?
— Зачем?.. Я хочу, чтобы однажды кто-нибудь рассказал мою историю. Ты единственный… — он помолчал, — кто может ее рассказать, рассказать… правильно. На студии нет ничего, что было бы мне неизвестно, да и в мире не найдется ничего, о чем бы я не знал. Всю ночь я читал, спал урывками и снова читал, и однажды — о, совсем недавно, несколько недель назад, — я прошептал сквозь стену твое имя. «Он сделает это, — сказал я себе. — Найди его. Вот он, мой летописец. Мой сын».
Так и вышло.
Его шепот из-за зеркала стал причиной моего назначения.
И этот шепот теперь был здесь, меньше чем в четырнадцати дюймах от меня, воздух между нами дрожал от его дыхания, как от работы кузнечных мехов.
— Милые, выбеленные, как кости, холмы Иерусалима, — произнес его слабый голос. — Тысячи дней я нанимал, увольнял всех и вся. Кто другой мог бы это сделать? Что еще мне оставалось, кроме моего уродства и желания умереть? Работа — вот что связывало меня с жизнью. Когда я нанял тебя, это стало еще одной странной связью.
«Может, надо поблагодарить его?» — подумал я.
Вскоре послышалось что-то похожее на вздох. И он снова заговорил:
— Сперва я руководил всем опосредованно, из-за зеркала. Мой голос стучал в барабанных перепонках Мэнни Либера: я предсказывал поведение рынков, правил сценарии, сидя в могиле, а потом подсовывал ему, когда он в два часа ночи приникал щекой к стене. Вот это были свидания! Вот это двойники! Эго и суперэго. Горн и трубач. Танцор был плох. Но я стал его зазеркальным хореографом. Господи, мы делили с ним один кабинет. Он кроил недовольные рожи и заявлял о своих великих решениях, а я ждал каждую ночь, чтобы выйти на первый план, сесть в кресло за пустым столом с единственным телефоном и диктовать Либеру, моему секретарю.
— Я знаю, — прошептал я.
— Откуда ты знаешь?!
— Я догадался.
— Догадался?! Что? Обо всем этом страшном безумии? О Хеллоуине? О том, что случилось двадцать, о боже, двадцать лет назад?!
Он тяжко задышал, ожидая ответа.
— Да, — прошептал я.
— Да-да. — Человек-чудовище начал вспоминать. — Сухой закон уже был отменен, но мы таскали выпивку с бульвара Санта-Моники через склеп, по туннелю, просто так, ради смеха. Половина вечеринки на кладбище, половина — под сводами киноархива! Черт! Пять павильонов, заполненных кричащими людьми, девушками, кинозвездами, статистами. Я с трудом припоминаю ту ночь. Знаешь ли ты, сколько людей, сколько безумцев занимается любовью на кладбище? Тишина! Прикинь!
Я молчал, пока он мысленно возвращался в те далекие годы. Затем Человек-чудовище сказал:
— Он нас застукал. Господи, застукал там, среди могил. Молотком кладбищенского сторожа он бил меня по голове, по щекам, по глазам! Избивал! А потом убежал вместе с ней. Я с криком погнался за ними. Они сели в машину и уехали. Я… боже, я поехал следом. И вот — бах, машины вдребезги, а потом…
Он перевел дух, сделав паузу, чтобы умерить биение сердца.
— Помню, Док тащит меня в церковь — первым делом! — священник обезумел от ужаса, потом — в морг. Да исцелит тебя могила! Да восстановит тебя сыра земля! А на соседний стол бухнули Слоуна — оттрясся! А Грок! Как он пытался исправить то, что исправить уже невозможно. Бедняга Грок. Ленину повезло больше! Я пошевелил губами, пытаясь сказать: «Скрой правду, давай! Час поздний. Улицы пусты. Солги! Скажи, что я мертв! Господи, мое лицо! Тут ничего не поправишь! Лицо! Так скажи всем, что я мертв! А что с Эмили? Что? Она сошла с ума? Спрячь ее! Все шито-крыто. Деньги, разумеется. Сколько хотите. Пусть все выглядит правдоподобно. Кто узнает? Похороны в закрытом гробу, а я тут же, рядом, в покойницкой, но не покойник, — Док неделями выхаживал меня! Господи, что за безумие. Я увидел Фрица и почувствовал, что мое лицо, моя голова может крикнуть: „Фриц! Ты! Распорядись!“ И Фриц стал распоряжаться. Маньяк по части работы. Слоун — мертв, унесите! Эмили, бедняжка, — все кончено, сошла с ума. Констанция! И Констанция увела ее прочь, в „Елисейские Поля“. Так называют эти больницы, санатории для выздоравливающих алкоголиков / шизофреников / наркоманов, где они никогда не выздоравливают, да их и не лечат, но они отправились туда, Эмили ушла в никуда, и я сошел с ума. Фриц приказал всем заткнуться, а они все плакали и плакали, глядя на мое лицо, словно это было нечто, вынутое из мясорубки. Я читал свой ужас в их глазах. Их взгляды говорили: ты умираешь, — но я сказал: черта с два! Там были мясник Док и косметолог Грок, пытавшийся поправить мое лицо, и еще Иисус, а Фриц наконец сказал: „Все! Я сделал все, что мог. Позовите священника!“ — „К черту! — закричал я. — Устройте похороны, но меня там не будет!“ Как побелели их лица! Они знали, что я имею в виду. Из моего рта, из этой кровавой раны, они услышали безумный план. И подумали: „Умрет он, и нам конец“. Ибо, Христос Вседержитель тому свидетель, это был лучший год в истории студии. В разгар Депрессии мы заработали двести миллионов, а потом еще триста — больше, чем все остальные студии, вместе взятые. Они просто не могли позволить мне умереть. Я был на три головы выше всех остальных. Где они нашли бы мне замену? Среди этих глупцов, ничтожеств, придурков и бездельников? „Ты его спасешь, а я подлатаю!“ — сказал Грок мяснику Доку Филипсу. И они помогли мне родиться заново, воскреснуть, чтобы больше не видеть солнца, никогда!»
Слушая, я вспомнил слова Иисуса: «Человек-чудовище? Я был там в ту ночь, когда он родился!»
— И вот Док спас мне жизнь, Грок меня подлатал. Боже! Но чем быстрее он латал, тем быстрее лопались мои швы, а эти только и думали: «Если он умрет, нам крышка». И вот тогда я возжелал смерти всей душой! Но мое лицо, рыло с вывороченными костями, плавающее в кетчупе, страстно желало победить. И после того, как я несколько часов то стремительно падал в объятия смерти, то выкарабкивался, боясь даже прикоснуться к своему лицу, я сказал: «Объявите поминки. Скажите, что я умер! Спрячьте меня здесь, подлечите! Оставьте туннель открытым, похороните Слоуна! Похороните меня вместе с ним, „заочно“, с заголовками в газетах. В понедельник утром, господи, в понедельник я вернусь к работе. Что? И отныне буду на рабочем месте каждый понедельник. И чтоб никто не знал! Я не хочу, чтобы меня видели. Убийца с расквашенным лицом? Устройте кабинет, стол, кресло, и я потихоньку, потихоньку, месяц за месяцем, буду приходить туда в те часы, когда кто-нибудь будет сидеть там один и слушать голос из-за зеркала… Мэнни! Где Мэнни? Ты будешь слушать! Я буду говорить сквозь стены, нашептывать сквозь трещины, бродить тенью в зеркальном стекле, а ты, ты будешь открывать свой рот, мой голос будет проходить через твои уши, через твой рот. Ты понял меня? — Понял! — Оформляйте бумаги. Подписывайте свидетельства о смерти. Слоуна — в ящик. Меня — в морг, хочу отдохнуть, поспать, прийти в чувство. Мэнни! — Я здесь! — Устрой кабинет. Живо!» И все эти дни до моих похорон я орал, а моя небольшая команда слушала, молчала, кивала и исполняла… Итак, Док спас мне жизнь, Грок подправил лицо, которое уже невозможно было подправить, Мэнни стал руководить студией, но по моей указке, а Иисус просто оказался там в ту ночь и был первым, кто нашел меня, истекающего кровью, переставил машины и сделал так, что авария стала похожа на несчастный случай. Обо мне знали только четверо. Фриц и Констанция? Им поручили замести следы, но так и не рассказали, что я остался жив. Те четверо стали пожизненно получать по пять тысяч в неделю. Подумать только! Пять тысяч в неделю, это в тридцать четвертом году! В те годы средний заработок составлял пятнадцать вшивых баксов. Так что Док, Мэнни, Иисус и Грок стали богачами, верно? За деньги, ей-богу, можно купить все! Долгие годы молчания! Так что все было замечательно, все прекрасно. Фильмы, студия, отныне все работало, прибыли росли, я прятался, никто обо мне не знал. Акции поднимались в цене, в Нью-Йорке все были довольны, пока…
Его речь прервал тяжкий стон отчаяния.
— Кое-кто не сделал одно страшное открытие.
Молчание.
— Кто же? — осмелился я спросить из темноты.
— Док. Старый добрый хирург Док. Обнаружилось, что мои дни сочтены.
Снова воцарилось молчание, затем он произнес:
— Рак.
Я молчал, ожидая, пока он снова наберется сил и заговорит.
— Рак. Кто знает, кому из остальных Док рассказал об этом. Один из них хотел бежать. Забрать наличность и исчезнуть. Начались запугивания. Угрозы раскрыть правду. Потом — шантаж, потом требовали денег.
«Это Грок», — подумал я, но вслух спросил:
— Вы знаете, кто это был?
А потом я еще спросил:
— Кто поставил труп на лестницу? Кто написал письмо, чтобы я пришел на кладбище? Кто сказал Кларенсу, чтобы он ждал у выхода из «Браун-дерби» и смог вас увидеть? Кто внушил Рою Холдстрому сделать бюст настоящего чудовища для ненастоящего фильма? Кто спаивал Иисуса лошадиными дозами виски в надежде, что он потеряет рассудок и все разболтает? Кто?
При каждом вопросе гигантская тень за тонкой перегородкой вздрагивала, шевелилась, жадно вдыхала воздух и с шумом выдыхала, словно каждый вдох был надеждой на спасение, а каждый выдох — покорностью перед неизбежным.
Наступило молчание, а затем он сказал:
— Когда все это началось, эта канитель с трупом на стене, я подозревал всех подряд. Ситуация усугублялась. Я пришел в ярость. «Док, — думал я. — Нет. Он трус, да и слишком очевидно. В конце концов, это он обнаружил мою болезнь и рассказал мне о ней. Иисус? Этот еще трусливей, к тому же каждый вечер топит свой разум в бутылке. Это не он».
— А где сейчас Иисус?
— В какой-то могиле. Я бы и сам его закопал. Я решил закопать их всех, одного за другим, избавиться от всех, кто пытался причинить мне боль. Я хотел задушить Иисуса, как сделал это с Кларенсом. Убить его, как хотел убить Роя, который, как я думал, сам убил себя. Но Рой остался жив. Это он убил и закопал Иисуса.
— Не может быть! — вскричал я.
— Могил много. Рой спрятал его в одной из них. Бедняга Иисус.
— Только не Рой!
— Почему нет? Мы бы все убивали, будь у нас такая возможность. Убийство — вот то, о чем мы мечтаем, но никогда не осуществляем. Уже поздно, позволь мне закончить. Док, Иисус, Мэнни, перебирал я, кто из них попытался бы ужалить меня, а затем сбежать? Мэнни Либер? Нет. Он — пластинка, которую я могу в любое время вставить в патефон и услышу всегда одну и ту же мелодию. Кто ж тогда, наконец? Грок! Это он взял на работу Роя, но я-то думал, он взял Роя, чтобы втянуть в большую охоту тебя. Откуда же мне было знать, что охота велась в конечном счете на меня самого?! Что в конце концов меня изваяют в гипсе! О, я был просто вне себя от ярости. Но теперь — все.
Я бегал, кричал, безумствовал и вдруг подумал: хватит. Я устал, я так устал за все эти годы, столько крови, столько смертей, и вот все кончено, и у меня рак. И вдруг в туннеле, вблизи могил я встретил другое чудовище.
— Другое чудовище?
— Да, — вздохнул он, прислонив голову к стенке исповедальни. — Иди и поймай его. Ты же знал, что там не только я, верно?
— Еще одно?..
— Твой друг. Да, тот самый, чью скульптуру я разрушил, когда увидел, что он скопировал мое лицо. Тот, чьи города я растоптал ногами. Тот, чьих динозавров я распотрошил… Это он правит студией!
— Этого… этого не может быть!
— Дурак! Он всех нас обвел вокруг пальца. И тебя тоже. Увидев, что я сделал с его чудовищами, городами, гипсовым бюстом, он потерял рассудок. Он превратился в ходячий ужас. Эта ужасная маска…
— Маска… — шевельнулись мои губы.
Я давно догадывался, но не хотел в это верить. Я видел лицо чудовища на стене у Крамли. Это был не глиняный бюст в покадровой анимации, а Рой — отныне отец разрушения, дитя хаоса, родной сын истребления.
Рой снялся в фильме, сыграл роль чудовища.
— Твой друг, — снова и снова со вздохом повторял человек за решетчатой перегородкой. — Боже, какой актер. Голос в точности мой. Он говорил через стену позади письменного стола Мэнни и…
— Принял меня обратно на работу, — услышал я собственный голос. — И принял обратно на работу самого себя?!
— Да! Как смешно! Вручите ему «Оскара»!
Мои пальцы крепко сжали решетку.
— Как же он…
— Захватил власть? А где грань, где черта, где граница? Я встретился с ним под стеной, среди могильных сводов, лицом к лицу! О, он чертовски хитер, этот сукин сын. Многие годы я не гляделся в зеркало. И вдруг — вот он я, стою у самого себя на дороге! Да еще и ухмыляюсь! Я хотел разбить это зеркало! Я думал, это обман зрения. Призрачный отблеск на стекле. Вне себя, я закричал и нанес удар. Отражение подняло свой кулак и ударило меня. Я очнулся в подземелье, в каком-то склепе, за решеткой, я бушевал, а он смотрел. «Кто ты такой?!» — кричал я. Но я уже знал. Сладкая месть! Я уничтожил его творения, разрушил города, я пытался убить его самого. И вот теперь — сладкий миг победы! Он бросился ко мне с криком: «Послушай! Я ухожу, чтобы принять обратно на работу самого себя! И даже — о да! — повысить себя в должности!» Он приходил дважды в день, приносил шоколад и кормил умирающего. Пока не понял, что я и в самом деле умираю, и тогда это перестало его забавлять, так же как и меня. Может быть, он понял, что власть — это не всегда так здорово, замечательно, хорошо и весело. Может, она стала пугать его, может, наскучила. Несколько часов спустя он отпер решетку и отвел меня наверх, чтобы я позвонил тебе. Он оставил меня дожидаться. Мне можно было не говорить, что надо делать. Он просто указал вниз, на туннель, ведущий к церкви. «Пришла пора исповедоваться», — сказал он. Вот так. А теперь он ждет тебя в конечной точке этого путешествия.
— Где это?
— Черт побери! А где находится единственное место для таких, как я, и для таких, как он?
— Я понял, — кивнул я, и слезы полились из моих глаз. — Я уже бывал там.
Человек-чудовище грузно зашевелился в исповедальне.
— Теперь все, — вздохнул он. — За эту неделю я причинил боль многим людям. Некоторых убил я, остальных — твой друг. Спроси его. Он обезумел, так же как и я. Когда все кончится и тебя будет допрашивать полиция, вали все на меня. Зачем нужны два чудовища, если достаточно одного? Верно?
Я молчал.
— Говори!
— Да.
— Хорошо. Когда он увидел, что я умираю, действительно умираю в этой могиле, и что он тоже умирает от рака, заразившись от меня, и что игра не стоит свеч, ему хватило порядочности отпустить меня. Студия, которой он правил, я правил, начала буксовать и встала намертво. Нам обоим пришлось запускать ее вновь. И вот теперь, со следующей недели, она заработает в полную силу. Возобнови съемки картины «Мертвец несется вскачь».
— Нет, — прошептал я.
— Черт побери! Да я со смертного одра встану, чтобы придушить тебя. Скажи: «Будет сделано!»
— Будет… сделано, — выдавил я наконец.
— И последнее. То, о чем я уже говорил. Мое предложение. Студия. Если хочешь, она твоя.
— Не надо…
— Других претендентов нет! Не отказывайся так поспешно. Большинство людей бились бы насмерть, лишь бы унаследовать…
— Насмерть, точно. Меня убили бы через месяц: пьяная авария и — смерть.
— Ты не понимаешь. У меня один-единственный сын — ты.
— Мне жаль, что так вышло. Но почему я?
— Потому что ты настоящий, самый что ни на есть чудаковатый гений. Истинный безумец, не подделка. Вроде болтун болтуном, а потом, глядишь, говорит-то дело. И ты ничего не можешь с собой поделать. Все доброе утекает из твоих рук, обращаясь в слова.
— Да, но ведь я не сидел, прижавшись к зеркалу, и не слушал вас годами, как Мэнни.
— Мэнни говорит, но слова его ничего не значат.
— Но он многому научился. Должно быть, теперь он уже знает, как надо руководить. Позвольте мне работать на него!
— Последний шанс? Последнее предложение? — Его голос звучал все слабее.
— И вы оставите в покое мою жену, мои книги и мою жизнь?
— О! — вздохнул голос. И наконец произнес: — Да… — А потом добавил: — Ну вот, наконец-то. Благослови меня, святой отец, ибо я грешен.
— Не могу.
— Можешь, ты можешь. И отпусти мне грехи. Это работа священника. Отпусти мне грехи и благослови меня. Еще немного — и будет поздно. Не посылай меня на вечные муки в ад!
Я закрыл глаза и произнес:
— Благословляю тебя.
А потом сказал:
— Я отпускаю тебе грехи, хотя, видит Бог, я тебя не понимаю!
— А кто меня понимал? — вздохнул он. — Я сам себя не понимал. — Его голова стукнулась о стенку исповедальни. — Благодарю.
Его глаза закрылись, словно в безвоздушном пространстве, беззвучно.
Звуковую дорожку добавил я сам. Грохот массивных ворот, замкнутых печатью забвения, звук захлопнувшейся двери склепа.
— Я прощаю тебе! — крикнул я страшной маске.
— …прощаю тебе… — мой голос эхом отозвался под куполом пустой церкви.
На улице — ни души.
«Крамли, — подумал я, — где же ты?»
И я побежал.
70
Мне оставалось отправиться всего в одно место.
Я вскарабкался наверх по темным внутренностям собора Парижской Богоматери.
И увидел кого-то, неподвижно сидящего на краешке верхнего карниза левой башни рядом с горгульей, положившей хищный подбородок на костлявые лапы и устремившей неподвижный взор вдаль, на Париж, которого там никогда не было.
Я осторожно подошел к краю, сделал глубокий вдох и позвал:
— Это ты?.. — Я осекся.
Сидящий, чье лицо было скрыто в тени, не шелохнулся.
Я снова набрал в легкие побольше воздуха и произнес:
— Эй!
Человек настороженно выпрямился. Его голова, его лицо осветились слабым отблеском городских огней.
Я в последний раз сделал глубокий вдох и спокойно позвал:
— Рой?
Чудовище повернуло ко мне свою голову, точную копию той, что всего несколько минут назад, упав, прислонилась к стенке исповедальни.
Я увидел ужасное лицо, вперившее в меня свой ужасный, безумный взгляд, от которого кровь застывала в жилах. Страшная рана на месте рта раскрылась, раздвинулась, втянула в себя воздух и выдавила одно-единственное слово:
— Дааааааа.
— Все кончилось, — сказал я прерывающимся голосом. — Господи, Рой. Спускайся отсюда.
Человек-чудовище молча кивнул. Он поднял правую руку и сорвал с себя лицо, стал сдирать воск, стирать грим — маску, повергавшую в ужас и оторопь. Он раздирал свое кошмарное лицо, соскребая его ногтями и пальцами. И вот из-под ошметков проступили черты моего старого школьного друга, он снова смотрел на меня.
— Ну как, похож я был на него? — спросил Рой.
— О господи, Рой! — Я едва мог разглядеть его от слез. — Еще как!
— Еще бы, — пробормотал Рой. — Я так и думал.
— Господи, Рой, — выдохнул я, — сними с себя все это! У меня такое ужасное чувство, что, если ты это оставишь, оно прирастет к тебе и я никогда больше тебя не увижу!
Правая рука Роя импульсивно потянулась вверх и сорвала ненавистную щеку.
— Странно, — прошептал он, — но мне кажется то же самое.
— Как тебе удалось так изменить свое лицо?
— Ты хочешь две исповеди? Одну ты уже выслушал. Хочешь другую?
— Да.
— Ты что же, заделался священником?
— Похоже на то. Хочешь, отлучу?
— От чего?
— От нашей дружбы.
Его глаза метнули на меня быстрый взгляд.
— Ты этого не сделаешь!
— Могу.
— Друзья не шантажируют друг друга своей дружбой.
— Тем более ты должен все рассказать. Давай.
Из-под наполовину сорванной маски послышался тихий голос Роя:
— Это все из-за моих зверей. Никто никогда не трогал моих драгоценных, моих любимых тварей, никогда. Я всю свою жизнь отдал, выдумывая их, создавая их. Они были совершенны. Я был Богом. Что было у меня, кроме них? Я что, хоть раз пригласил на свидание девчонку из класса, какую-нибудь гимнастку и бейсбольную фанатку? Была у меня хоть одна женщина за все эти годы? Черта с два. Я ложился спать со своим бронтозавром. По ночам я летал со своими птеродактилями. Представь, каково было мне, когда кто-то уничтожил моих невинных созданий, разрушил мой мир, погубил тех, с кем я когда-то делил постель. Я не просто обезумел. Я помешался.
Рой замолчал, так и не сняв с себя ужасную плоть. А потом сказал:
— Черт, все было так просто. Все стало ясно практически с самого начала, но я не сказал об этом. Помнишь ту ночь, когда я погнался за чудовищем на кладбище? Я так влюбился в этого проклятого монстра. И боялся, что ты испортишь шутку. Шутка?! Из-за этой шутки погибли люди! Так вот, когда я увидел, как он зашел в свою могилу и не вышел оттуда, я промолчал. Я знал, что ты постараешься помешать, а мне так нужно было это лицо: потрясающая страшная маска для нашего эпического шедевра! И тогда я закрыл рот на замок и слепил глиняный бюст. И что же? Тебя чуть не уволили. Меня — долой со съемок! А что потом? Мои динозавры порушены, декорации растоптаны, а изваяние страшилища разбито вдребезги. Я пришел в бешенство. Но тут меня осенило: есть только один человек, который мог это разрушить. Это не Мэнни и не кто-то из наших знакомых. Это сам Человек-чудовище! Тот самый, из «Браун-дерби». Но как он узнал о моем глиняном бюсте? Может, кто-то ему сказал? Нет! Я вспомнил ночь, когда преследовал его на кладбище рядом со студией. Господи, ну конечно! Он вошел в склеп, каким-то образом прошел под стеной, глухой ночью пробрался на студию и там — о боже! — он увидел своего глиняного двойника и пришел в ярость. Черт, в тот момент в моей голове возникло множество невероятных планов. Я знал, что, если чудовище найдет меня, мне конец. И тогда я сам «убил» себя! Направил его по ложному следу. Я знал: если он будет считать меня мертвым, я смогу отыскать Человека-чудовище и отомстить! Я повесил куклу, похожую на меня. Ты ее обнаружил. А потом ее нашли они и сожгли, а я в ту ночь перебрался через стену. Ты сам знаешь, что я там обнаружил. Я дернул ручку двери склепа, она оказалась не заперта, я вошел, спустился вниз и стал подслушивать, стоя за зеркалом в кабинете Мэнни! Я был потрясен! Все так здорово складывалось. Человек-чудовище, никем не видимый, управлял студией. Так зачем убивать сукина сына — надо подождать и захватить власть, которая ему принадлежит. Не убивать чудовище, а самому стать чудовищем, жить в его образе! И взять под свою власть двадцать семь, двадцать восемь стран, господи, править всем миром. А потом, когда придет время, разумеется, выйти вновь на свет, воскреснуть, сказать: у меня была амнезия, или наплести еще какую-нибудь чепуху, не знаю, придумал бы что-нибудь — все равно Человек-чудовище не жилец. Я это видел. Он умирал прямо на ногах. Я спрятался, наблюдал, слушал, а затем сразил его наповал в подземельях студии на полпути к кладбищу. Вот она, сила грима! Увидев меня там, под сводами, он был настолько поражен, что я успел оглушить его и запереть в подвале. Потом я поднялся наверх, чтобы проверить свой давний талант, проверить, как будет звучать мой голос из-за зеркала. Я слышал, как говорил Человек-чудовище в «Браун-дерби», а потом на улице, и еще в туннеле, и за стеной кабинета. Я стал нашептывать, бормотать, и — вот черт! — «Мертвец несется вскачь» снова вставили в план съемок. А нас с тобой приняли обратно на работу! Я уже был готов сорвать с себя грим и вернуться на студию в своем обличье, но тут со мной что-то произошло.
— Что же?
— Я понял, что мне нравится власть.
— Что-о-о?!
— Власть. Я полюбил власть. Биржевые воротилы, владельцы огромных корпораций, вся эта чепуха. Уму непостижимо. Я словно опьянел! Мне нравилось заправлять студией, принимать решения, и никаких тебе совещаний. Все через зеркала, эхо, тени. Запустить в работу все фильмы, которые давно надо было снять, но их не снимали! Заново выстроить себя, свой мир! Заново придумать, воссоздать моих друзей, мои творения. Заставить киностудию расплачиваться наличными, а не только плотью, кровью и жизнями. Вычислить главных виновников того, что моя жизнь оказалась выброшенной на помойку, а затем — затем раздавить этих ничтожеств одного за другим, размазать по стенке весь этот рой бездарей и тех, кто поддакивает тупицам. Раньше студия правила мной, теперь я правил студией. Господи, неудивительно, что Луис Б. Майер был несносен, а братья Уорнеры каждую ночь кололи себе в вены воду с растолченными в порошок отрывками фильмов. Пока не попробуешь управлять киностудией, парень, тебе не понять, что такое власть. Ты не просто управляешь городом, страной: ты правишь миром за пределами этого мира. «Замедлить!» — приказываешь ты, и все бегут медленнее. Командуешь: «Быстрее!» — и люди перескакивают через Гималаи, с размаху шлепаются в собственные могилы. И все потому, что ты вырезал некоторые сцены, дал указания актерам, обозначил начало, угадал конец. С тех пор я каждую ночь поднимался на башни собора и хохотал над мирянами, я превращал в карликов тех самых гигантов, что некогда причиняли боль моим товарищам, тех, кто сломал гироскоп, когда-то вращавшийся в моей груди. И вот теперь этот гироскоп снова начал вращаться в безумном ритме, соскочив со своей оси. Взгляни на то, что я сделал: сплошные руины. Человек-чудовище начал, а я закончил. Я знал: если не остановлюсь, меня заберут в психдоильник, чтобы выдоить всю паранойю. А тут еще умирающий Человек-чудовище умоляет дать ему последнюю попытку со священником, колоколами, свечами, исповедью и — прощением грехов. Мне пришлось вернуть ему студию, чтобы он мог передать ее тебе.
Рой говорил все медленнее, затем облизнул свои ужасные губы и умолк.
— Есть один момент, даже несколько моментов, которые мне не совсем ясны… — сказал я.
— Назови.
— Скольких человек убил Арбутнот за последние дни? И скольких убил… — Я осекся, не в силах произнести это слово.
Рой произнес его за меня:
— Рой Холдстром, чудовище номер два?
Я кивнул.
— Я не убивал Кларенса, если ты этого боишься.
— Слава богу.
Я проглотил стоявший в горле комок и наконец выдавил:
— В какой момент… о боже! — когда?..
— Что — когда?
— В каком часу… в какой день… Арбутнот перестал… и ты взял бразды в свои руки?
Настал черед Роя, под маской изуродованного лица, сглотнуть подступивший к горлу ком.
— Конечно, после Кларенса. Там, в подземелье, я слышал голоса в телефонных трубках, на каждом перекрестке между могил. Голоса в самих туннелях. Так или иначе, то поднимая телефонные трубки, то в панике прячась, я иногда подглядывал издали, иногда шел вслед за темными фигурами, двигавшимися в сторону кладбища. Я знал, что Кларенсу суждено стать покойником, уже через пять минут после того, как Человек-чудовище в ярости перевернул всю его квартиру. Я смотрел и слушал издалека, как Док с шуршанием тащит Кларенса по туннелям к какой-то заброшенной могиле. Тогда я уже знал: скоро они поймут, что я жив, если еще не догадались об этом. Интересно, заглядывали они в мусоросжигатель? Там они нашли бы вместо моих настоящих костей поддельный скелет. Кто же следующий? Ты! Ты знал Кларенса. Они могли видеть тебя у него дома или у меня в квартире. Если бы они сопоставили все факты, они бы тебя живьем закопали. Так что, сам видишь, мне пришлось взять власть в свои руки. Я вынужден был стать чудовищем. И не только это: я закрыл студию, чтобы испытать свою власть, посмотреть, будут ли они танцевать под мою дудочку, делать так, как сказал я. К тому же, если студия опустеет, мне будет легче расправиться со злодеями, вплотную заняться теми, кто, вероятно, убил меня.
— Станиславом Гроком? — спросил я.
— Грок?.. Ах да. Он первый втянул нас в это дело. Для начала нанял меня, потому что я умел освежить лица манекенов, так же как он когда-то прихорашивал покойного Ленина. Может быть, Грок даже шепнул на ухо Арбутноту, чтобы тот взял тебя на работу. Потом он состряпал куклу-мертвеца и водрузил на стену, чтобы напугать всю студию, а заодно и Арбутнота, потом пригласил нас в «Браун-дерби», чтобы познакомить с Человеком-чудовищем. А потом, когда я слепил бюст чудовища и всех напугал, вытряс кое из кого денежки.
— Так значит, это ты убил Грока?
— Не совсем. Я приказал арестовать его у ворот. Когда они притащили его в пустой кабинет Мэнни и оставили одного, зеркало отодвинулось и он, увидев меня, умер. А теперь Док Филипс, спроси про него.
— Док Филипс?
— В конце концов, это ведь он уничтожил мой, так сказать, труп, чтобы замести следы, верно? Он и его вечные приспешники, подбирающие за ним какашки. Я столкнулся с ним случайно в соборе. Док даже не пытался бежать. Я привязал его к веревке и поднял наверх, к колоколам. Я просто хотел попугать его. Поднять повыше и трясти до тех пор, пока его сердце не остановится, как у Грока. Непредумышленное убийство, ничего больше. Но когда я потащил его наверх, он пытался вырваться, начал безумно дергаться и задушил сам себя. Кто его убил, я? Виноват ли я в его смерти?
«Виноват», — подумал я. А потом подумал: «Нет».
— А Иисус? — спросил я, затаив дыхание.
— Нет-нет. Просто пару дней назад, ночью, он забрался на крест, и его раны так и не закрылись. Жизнь вытекла из его запястий. Он умер на кресте, бедняга, несчастный пьянчужка Христос, упокой Господи его душу. Я нашел его и предал земле, как подобает.
— Где же они все лежат? Грок, Док Филипс, Иисус?
— Не важно. Где-то там. Какая разница? Там сплошь мертвецы, их миллионы. Но я рад, что среди них нет… — он слегка помедлил, — тебя.
— Меня?
— Именно это заставило меня наконец остановиться и все прекратить. Примерно двенадцать часов назад. Я обнаружил, что ты в моем списке.
— Что-о-о?!
— Я поймал себя на мысли: «Если он перейдет мне дорогу, он умрет». Эта мысль положила конец всему.
— Господи, надеюсь, что так!
— Я подумал: «Постой, он ведь не имеет никакого отношения ко всей этой дурацкой комедии. Не он раскрутил эту сумасшедшую карусель. Это твой лучший товарищ, твой закадычный друг, твой старый приятель. Он — все, что у тебя осталось в жизни». Это был переломный момент. Первый шаг к выздоровлению, возвращению из безумия, — это осознание того, что ты безумен. Возвращение означает, что впереди больше нет прямой дороги и у тебя только один путь — назад. Я любил тебя. Я люблю тебя. Поэтому я вернулся. Открыл могильную темницу и выпустил на волю настоящее чудовище.
Рой повернул голову и посмотрел на меня. Его пристальный взгляд словно вопрошал: «Достоин ли я наказания? Причинишь ли ты мне боль за ту боль, которую я причинял? Остались ли мы друзьями? Что заставило меня сделать все то, что я сделал? Нужно ли заявить в полицию? И кто заявит? Надо ли меня наказывать? Разве сумасшедшие должны расплачиваться за свои поступки? Не было ли все это сплошным безумием? Безумные декорации, безумные реплики, безумные актеры? Спектакль окончен? Или он только начинается? Что нам теперь делать: смеяться или плакать? Над чем?»
Его лицо, казалось, говорило: «Очень скоро встанет солнце, оба города очнутся от сна, один живее другого. О да, мертвые так и останутся мертвыми, а живые будут повторять заученные фразы, те же, что и вчера. Позволить им говорить? Или мы должны вместе переписать их реплики? Если я изваяю Смерть, которая несется вскачь, то, когда она откроет рот, будут ли в ее устах твои слова?»
Что?..
Рой молча ждал.
— Ты и вправду снова со мной? — спросил я.
Я перевел дыхание и продолжил:
— Ты и вправду снова стал Роем Холдстромом, и останешься таким, и всегда будешь моим другом и никем иным, отныне и навсегда? Рой?
Рой опустил голову. И наконец протянул мне руку. Я схватился за нее так, словно мог сорваться и упасть вниз, на улицы Парижа, в лапы чудовища.
Мы крепко обнялись.
Свободной рукой Рой содрал с себя остатки маски. Он скатал в кулаке вязкую субстанцию — содранный воск, пудру, шрам из серо-зеленой глазури — и швырнул все это с высоты собора. Мы не слышали звука падения. Зато снизу раздался удивленный возглас:
— Черт побери! Эй!
Мы посмотрели вниз.
Это оказался Крамли, простой селянин на паперти собора Парижской Богоматери.
— У меня закончился бензин! — крикнул он. — Я все ездил и ездил вокруг квартала. И вдруг — нет бензина. Что, черт подери, там у вас происходит? — прокричал он, ладонью прикрывая глаза от солнца.
71
Арбутнота похоронили через два дня.
Или, точнее, перезахоронили. Точнее даже, положили в могилу, после того как несколько друзей церкви, не знавшие, кого, почему и зачем они несут, перетащили его туда перед рассветом.
Отец Келли отслужил похоронную службу по мертворожденному младенцу, безымянному и, следовательно, некрещеному.
Я присутствовал на отпевании вместе с Крамли, Констанцией, Генри, Фрицем и Мэгги. Рой стоял далеко позади нас.
— Зачем мы сюда пришли? — пробормотал я.
— Просто чтобы удостовериться, что он похоронен окончательно, — заметил Крамли.
— Чтобы дать прощение бедному сукину сыну, — тихо сказала Констанция.
— О, если бы только эти люди знали, что здесь происходило сегодня, — сказал я, — представляете, сколько народу пришло бы убедиться, что все наконец-то закончилось. Прощание с Наполеоном.
— Он не был Наполеоном, — сказала Констанция.
— Не был?
Я посмотрел вдаль, туда, где за оградой кладбища простирались города мира и где не было места ни для Кинг-Конга, хватающего лапами бипланы, ни для овеваемой пыльными бурями белой гробницы, в которой когда-то покоился Христос, ни для креста, где распята чья-то вера или чье-то будущее, ни для…
«Нет, — подумал я, — может быть, он был не Наполеоном, а Барнумом,[199] Ганди и Иисусом. Иродом, Эдисоном и Гриффитом. Муссолини, Чингисханом и Томом Миксом. Бертраном Расселом, Человеком, который мог творить чудеса,[200] Человеком-невидимкой, Франкенштейном, Малюткой Тимом[201] и Драку…»
Наверное, я сказал это вслух.
— Тише, — вполголоса проговорил Крамли.
И ворота склепа Арбутнота, где стояли цветы и лежало тело чудовища, с лязгом захлопнулись.
72
Я пошел проведать Мэнни Либера.
Он по-прежнему миниатюрной горгульей сидел на краешке своего стола. Я перевел взгляд с Мэнни на большое кресло за его спиной.
— Ну что ж, — сказал он. — «Цезарь и Христос» отснят. Мэгги как раз монтирует эту штуковину.
Кажется, ему хотелось пожать мне руку, но он не знал, как подойти. Тогда я обошел комнату кругом, собрал диванные подушки, как в старые добрые времена, сложил их одну на другую и уселся сверху.
Мэнни Либеру ничего не оставалось, как улыбнуться:
— Ты когда-нибудь перестанешь дурачиться?
— Если бы я не дурачился, ты давно съел бы меня живьем.
Я посмотрел на стену за его спиной.
— Проход закрыт?
Мэнни соскользнул со стола, подошел к зеркалу и снял его с крюков. Там, где раньше была дверь, оказалась свежеоштукатуренная и покрашенная стена.
— Даже не верится, что вот тут каждый день, год за годом, в комнату проникал монстр, — сказал я.
— Он не был монстром, — произнес Мэнни. — И он здесь руководил. Без него все бы давным-давно погибло. Он сошел с ума только в самом конце. Все остальное время он был Богом, который прячется за стеклом.
— Он не мог привыкнуть к тому, что люди на него пялятся?
— А ты привык бы? И что удивительного в том, что он прятался, а поздно ночью выходил из туннеля и сидел в этом кресле? Это не глупее и не умнее того, что показывается на киноэкранах по всему миру. В каждом захудалом городишке Европы люди начинают походить на нас, сумасшедших американцев, одеваться как мы, выглядеть как мы, разговаривать, танцевать как мы. Благодаря кино мы завоевали весь мир, но так глупы, что не замечаем этого. А раз так, то что, я спрашиваю, удивительного, если человек, вынужденный скрываться, имеет наклонности к творчеству?!
Я помог ему снова повесить зеркало на свежую штукатурку.
— Скоро, когда все успокоится, — сказал Мэнни, — мы позовем тебя и Роя обратно и будем строить Марс.
— Только никаких чудовищ.
Мэнни помолчал в нерешительности.
— Поговорим об этом потом.
— Хм.
Я бросил взгляд на кресло.
— Найдешь ему замену?
Мэнни задумался.
— Лучше отращу задницу. Раньше я все откладывал. Думаю, в этом году будет самое то.
— Достаточно большой зад, чтобы оседлать нью-йоркский головной офис?
— Ну, если я приложу мозги в то же место, куда и зад, — конечно. После его ухода у меня грандиозные планы. Не хочешь примериться?
Я долго рассматривал кресло.
— Нет уж.
— Боишься, что сядешь и больше не встанешь? Все, проваливай. Придешь через четыре недели.
— Когда тебе понадобится новая концовка для «Иисуса и Пилата», или «Христа и Константина», или…
Прежде чем он успел увернуться, я пожал его руку:
— Удачи!
— Надеюсь, он говорит это искренне, — проговорил Мэнни, закатывая глаза в потолок. — Черт побери!
Он отошел и сел в кресло.
— Ну как ощущения? — спросил я.
— Неплохо. — Закрыв глаза, он почувствовал, как все его тело утопает в этом кресле. — Можно привыкнуть.
У двери я обернулся и еще раз посмотрел на ничтожную фигурку, застывшую среди огромного величия.
— Ты по-прежнему ненавидишь меня? — спросил он, не открывая глаз.
— Да. А ты меня?
— Еще как.
Я вышел и закрыл за собой дверь.
73
Выйдя из дома-муравейника, я зашагал через дорогу, а за мной след в след шел Генри, прислушиваясь к моим шагам и звуку чемодана, подрагивающего у меня в руке.
— Мы все взяли, Генри? — спросил я.
— Всю мою жизнь в одном чемодане? Конечно.
На противоположной стороне мы остановились у края тротуара и обернулись. Кто-то где-то выстрелил из невидимой и беззвучной пушки. От этого выстрела половина здания обрушилась.
— Звучит так, словно взорвали причал Вениса, — сказал Генри.
— Точно.
— Или будто развалились «американские горки».
— Точно.
— Или как в тот день, когда выдирали рельсы большого красного трамвая.
— Точно.
Затем рухнула оставшаяся часть дома.
— Пошли, Генри, — сказал я. — Пойдем-ка домой.
— Домой, — произнес слепой Генри и радостно кивнул. — У меня никогда не было дома. Хорошо звучит.
74
Я пригласил Крамли, Роя, Фрица, Мэгги и Констанцию на прощальную вечеринку, перед тем как родственники Генри приедут и увезут его в Новый Орлеан.
Громко играла музыка, пиво лилось рекой, слепой Генри в четырнадцатый раз торжественно пересказывал историю с обнаружением пустой могилы, а Констанция, полупьяная и полураздетая, кусала меня за ушко, и тут дверь моей убогой хижины распахнулась.
Послышался голос:
— Я прилетела ранним рейсом! Пробки на дороге чудовищные. А, вот вы где! Тебя я знаю, и тебя, и тебя.
И тут Пэг встала в дверях, указывая пальцем.
— А это что еще за полуголая дамочка?! — закричала она.