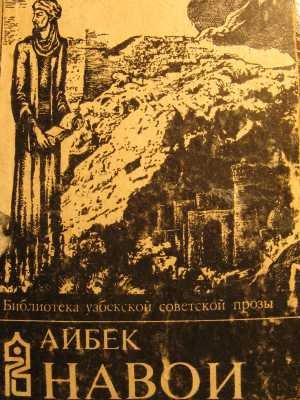
Глава первая
Весеннее солнце ярко сияет над величественным куполом медресе[1] Гаухар-Шад в Герате. Словно живой воздушный цветник сверкают, взблескивают мириадами красок узоры на высоком портале. Над куполом весело кружатся голуби, то взмывая ввысь, то опускаясь в скользящем полете. Над широким квадратным двором медресе после прошедшего накануне ливня клу бится еле видимый пар.
Двор замкнут с одной стороны обителью для дервишей[2] — ханакой, — с трех других — комнатами-клетушками для студентов — худжрами. Медресе живет своей обычной жизнью. Радуясь солнечному дню, студенты вышли во двор, разостлали циновки на дорожках, выложенных плоским кирпичом, и готовятся к занятиям. Кто изучает «Шамсию», кто — «Кафию», а кто — «Хашию».[3] Вот студент положил книгу на колени и зубрит арабскую грамматику, бормоча себе под нос, покачивая головой в огромной чалме и зажмурив глаза. А вон трое молодых людей, усевшись треугольником на циновке, горячо обсуждают какой-то, видимо, сложный и важный для них вопрос. Один из студентов — худощавый, бледный, с густой бородой — изо всех сил старается одолеть других неумолимой логикой и склонить «весы истины» на свою сторону. Но младшие товарищи отнюдь не уступают ему в упорстве. Крича и жестикулируя, они в один миг воздвигают недоступную крепость из новых аргументов и соображений. Нередко спорщики уклоняются от основного предмета; увлекшись новой мыслью, всплывшей во время прений, они блуждают в чаще слов, усеянной терниями трудных вопросов, и, продираясь сквозь нее, возвращаются к первоначальной проблеме.
Иногда, в пылу спора, противники забываются я осыпают друг друга грубостями; порою, нахохлившись, как орлята, они на мгновенье застывают в забавных позах, словно готовые вцепиться один в другого.
В жизни медресе такие споры — самое обычное дело, и окружающие не обращают внимания на возбужденные крики будущих ученых мужей.
Кажется, что в этот солнечный день полутемные худжры должны быть совершенно пустыми, однако в одной из них, приткнувшейся к ханаке, сидят и беседуют четыре человека. В худжра тесно и сыро; Хотя дверь распахнута настежь и во дворе от яркого весен него солнца рябит в глазах, в комнате царит полутьма. Это обычная студенческая келья, как все другие во всех медресе на Востоке. Может — быть, люди, когда-то, решив подтвердить на ярком примере правильность древней мысли: «Наука — это рытье иглой колодца», установили для воспитания терпения такие стиснутые, темные худжры.
Среди собеседников трое — студенты. По учености, возрасту, характеру они резко отличаются друг от друга, но все они — самые бедные студенты медресе. Следуя правилу: «Сложи две половины — и выйдет целая», они сходятся, чтобы вместе готовить пищу.
Самый старший — хозяин худжры Ала-ад-дин Мешхеди — маленький человек с худощавым, заросшим жесткой черной бородой лицом, густыми сходящимися бровями и полузакрытыми тусклыми глазами. — Вот уже пятнадцать лет, как он живет в медресе Гаухар-Шад, в этой самой худжре, и даже не представляет себе, что когда-нибудь ему придется покинуть ее. Хотя Ала-ад-дин Мешхеди десять лет учился у самых выдающихся мударрисов[4] своего времени, он не сумел выдвинуться ни одной области знания. Несколько лет тому назад он охладел к науке и теперь редко посещает лекции.
Однако счастье или, может быть, несчастье быть поэтом, доставшееся на долю многим его современникам, не миновало и Ала-ад-дина. Он упражняет свой калам[5] во всех родах поэзии. Проводя ночи без сна, он даже составил сборник стихов — диван, а в области стихотворных загадок и шарад — муамма[6] — считает себя если не совершенным, то во всяком случае очень искусным мастером. Но его поэтический талант, как и его диван, не получили признания в мире поэтов. Это очень огорчает Ала-ад-дина. Горе терзает его сердце, отчаяние и уныние ни на минуту не покидают его. В поисках славы и покровительства поэт, не отваживаясь обращаться к царям, пишет и подносит хвалебные оды — касыды — бекам, везирам и даже менее высокопоставленным лицам. Безграмотного бека он величает «вместилищем наук», «сокровищницей глубоких мыслей», «покровителем ученых и поэтов», о его отце и деде, служивших простыми нукерами[7] в войсках султанов и беков, он говорит, что, «с тех пор как светит солнце, их счастье не знает конца», и награждает их пустыми, но пышными титулами, вроде: «высокородный» или «светило на небе власти»;
Ала-ад-дин Мешхеди—человек нервный и вспыльчивый; из-за пустяка он может поссориться с кем угодно. Обидевшись, он берется за калам, и тут уж худо приходится врагу — ядовитый стих сатиры смешивает врага с грязью.
Другого студента зовут Зейн-ад-дин. Это молодой гератец двадцати-двадцати одного года из семьи среднего достатка. У него стройный стан изысканные манеры: он остроумен, беззаботен, приятен как собеседник. Зейн-ад-дин начал учиться четыре-пять лет тому назад и значительно преуспел в некоторых науках. Он прекрасно владеет арабским и персидским языками. Однако легкомыслие и любовь к роскоши и развлечем ни ям мешают ему достаточно усердно заниматься науками. Большую часть своего времени он посвящает искусствам. Среди обитателей медресе Зейн-ад-дин славится красивым почерком. К тому же он хорошо поет и прекрасно играет на гиджаке.[8] В последнее время, с тех пор как у Зейн-ад-дина испортились отношенния с отцом, он впал в бедность. Бывая на пирушках у богатых и знатных студентов — сыновей беков и везиров, — Зейн-ад-дин развлекает собравшихся пением и музыкой и, пользуясь случаем, наедается досыта.
Третий студент, Султанмурад, — восемнадцатилетний юноша крепкого сложения с широким лбом и большими выразительными глазами. Уже два года как он учится в Герате. Султанмурад — сын знаменитого шахрисябского мастера-каменотеса. Когда его отец разбился, упав с высокой постройки, Султанмураду было всего три года. Его мать, женщина образованная, уделяла много внимания воспитанию сына. Он учился сначала в родном городе, потом в Самарканде. Наконец, благодаря поддержке родственников, Султанмураду удалось переехать в Герат, и он поселился в этом медресе. Выдающиеся способности принесли Султанмураду известность не только среди обитателей медресе — на него обратили внимание гератские ученые. Султанмурад постиг не только вопросы вероучения, но и приобрел основательные познания в математике, астрономии, логике, литературе. Когда Султанмураду было четырнадцать лет, один из его самаркандских учителей как-то сказал ему: «В древние времена был некий ученый. Он говорил: «Если бы у всех мудрецов обитаемои части земли вдруг исчезли из памяти все науки и знания, то я бы мог восстановить их полностью. Сын мой, в тебе я вижу такой же ум и способности. Будь же всегда усерден и прилежен». Султанмурад мечтал сравняться в знании с этим легендарным ученным.
Постигнув все основные отрасли наук своего времени, он хочет стать «светилом науки», вождем ученых своего времени.
Резко отличается от студентов четвертый собеседник, гость Ала-ад-дина Мешхеди, самаркандец Туганбек. Это толстый, широкоплечий человек с редкими рыжеватыми усами, смуглым скуластым лицом и лукавый ни, беспокойно бегающими глазками.
Хотя наступили жаркие дни, на плечах Туганбека тяжелая, потертая шуба, на голове — Огромная бобровая шапка. Предки Туганбека во времена Тимура занимали высокие должности. Среди них были знаменитые военачальники, государственные деятели, тарханы.[9] Но в дальнейшем, когда государство Тимура распалось и между его сыновьями разгорелась борьба за власть, слава семьи Туганбека начала меркнуть. Отец его, Фирузбек, пропал без вести во время одного из походов; влиятельные родичи с отцовской и материнской стороны один за другим лишились высокого положения. Некоторые погибли во время междоусобных войн; другие, из страха перед врагами или в поисках счастья, переселились в дальние края. С семнадцатилетнего возраста Туганбек с головой окунулся в политическую борьбу, охватившую Мавераннахр, Хорасан, Ирак, Дешт-и-Кипчак[10] и другие страны, когда-то покоренные мечом Хромого Тимура. Добиваясь славы и счастья, Туганбек пресмыкался у порогов кипчакских ханов и туркменских беков и служил то одному, то другому; обманывал — и его обманывали, грабил — и его грабили. Наконец два месяца тому назад, двадцати пяти лет от роду, Туганбек оказался в Герате. Хотя его встреча с Ала-ад-дином Мешхеди была случайной, они крепко подружились, и Туганбек постоянно торчал в комнате своего товарища.
Туганбек был не силен в грамоте, но знал цену науки и просвещению. Прислушиваясь к спорам и диспутам студентов, считал область эту для себя чуждой: «заниматься науками — дело тихих, спокойных, непритязательных людей». А мысли Туганбека постоянно витают в мире битв. Он любит рубиться мечом, носясь, как молния, на быстром коне; изумлять всех силой и искусством в стрельбе из лука; совершать набеги на города; подкрадываться с отрядом храбрых молодцов к возвышающейся, как гора, крепостной стене и, приставив к ней лестницы, врываться в крепость, сея страх и смятение среди ее обитателей; делать набеги на зимовья кочевников и угонять тысячи баранов…
В сердце Туганбека всегда живет мечта: вдруг его назначат беком какого-нибудь округа; он соберет кучку проворных, сильных удальцов, хитростью, обманом, угрозами и насилием отдалит от трона других беков и правителей, затем прогонит и самого государяи возложит венец на себя. А может быть, он посадит на престол какого-нибудь простачка-царевича и возьмет поводья власти в свои руки… Ради этого он и боролся. Что же поделать, если до сих пор не удавалось осуществить эту мечту. Но когда-нибудь… Несколько раз его коварство было разгадано. С трудом унеся голову от меча, поднятого, чтобы отсечь ее вместе с безумными мечтами, Туганбек был вынужден свить себе гнездо в Герате под сенью этого медресе. Но его вера в свое счастье по-прежнему тверда: внуков и правнуков у Тимура много, они плодятся, как кролики, и грызутся за власть: сын воюет против отца, отец против сына, брат против брата, дядя против племянника. В этой стране междоусобицы стали обычаем. К тому же в больших и маленьких городах и областях сидят беки и правители. Все они стремятся к славе, власти и богатству. Туганбек знает, что кровавые распри и столкновения протянутся еще долго. В Герате, найдя приют в медресе, он только выжидает удобного случая и подходящей обстановки.
Студентам, живущим на средства вакфа,[11] приходится туго. Всю полученную «наличность» давно — проглотила зима, теперь нет возможности варить пищу даже раз или два в неделю. Ничего подходящего для продажи тоже нет. Когда студенты ломают голову, как бы раздобыть еду, Туганбек бурчит себе под нос:
— Что-нибудь да придумаем! В таком большом городе, как Герат, это не хитро.
Он уходит, переваливаясь, и вскоре возвращается с припасами для обеда. Товарищи Туганбека знают, что его кошелек давно пуст, но не спрашивают, откуда и как он достал деньги.
Однако сегодня разговор на эту тему тянется уже добрый час, а Туганбек не подает голоса. Он забился в угол комнаты и сидит, уставившись своими узкими глазками в одну точку, как будто чем-то расстроенный.
А в носу щекочет приятный запах мяса, поджариваемого на сале: во многих худжрах два раза в день готовят вкусные кушанья. Обитатели этих худжр не живут на пожертвования. Они — сыновья знатных родителей, кошельки их полны серебра и золота. По вечерам они устраивают пирушки. Собираются друзья приятели, пьют вино, всю ночь развлекаются музыкой и плясками…
Когда после долгого совещания не было найден но никакого подходящего способа достать чего-нибудь съестного, Ала-ад-дин Мешхеди сидевший в переднем углу комнаты на гладкой, вытертой, твердой, как дерево, овчине, слегка приподнял свое маленькое тело, покачал головой в широкой чалме с длинными свисающими концами. Испустив горестный вздох, он принялся жаловаться на изменчивость судьбы и тонким голосом нараспев произнес:
Зейн-ад-дин предложил средство, уже оправдавшее себя не раз — обратиться к кому-нибудь из щедрых вельмож Герата или к одному из царевичей и поднести ему касыду. Хотя все нашли эту мысль удачной, Ала-ад-дину она не понравилась. Он считал, что писать стихи может только он сам, и не желал допустить участия других в этом деле. Как знать, может быть, его Мешхеди, отшлифованные стихи с их цветистым слогом до того пленят сердце благодетеля, что тот пожалует, кроме денег, несколько баранов и пурпурный халат из драгоценной ткани — и тогда все это пойдет не ему, а в общую пользу. Правда, ни один богач ила вельможа до сей поры не удостаивал Ала-ад-дина таким вниманием, но, предаваясь несбыточным мечтам наш поэт не хотел ни с кем делиться своим возможным успехом.
Желая смягчить Ала-ад-дина, Зейн-ад-дин многозначительно сдвинул свои тонкие брови и сказал:
— Если бы я был поэтом и писал касыды, то преподнес бы несравненную поэму его величеству хакану, сыну хакана, султану Хусейну Байкаре[12] и был бы облачен в дорогую одежду с головы до пят.
Прошло всего две недели, как на благословенную главу его величества опустилась птица царской власти, и его сердце успокоилось. Я уверен, что он откроет перед поэтами врата щедрости.
— Герат — удивительный город, — заметил Туганбек, покачивая головой. — Кондитер — поэт, шашлычник — тоже поэт. Ну, ступайте! Вас ждут невыразительные газели, но его сласти, несомненно, будут вкусны.
— Кондитер маулана[13] Тураби — превосходный человек! — с сердцем возразил Зейн-ад-дин. — Если хотите, пойдемте с нами. Вы сами увидите, какой это человек.
Туганбек не заставил себя уговаривать. Ала-ад-дин Мешхеди предпочел гордое, голодное одиночество чужим стихам, он слегка приоткрыл глаза и отвернулся.
Совершив послеполуденную молитву, товарищи вышли из медресе. Студенты были в старых, „но чистых халатах из пестрядевой полосатой ткани. Головы их обвивали белоснежные тюрбаны, лица хранили смиренное и вместе с тем полное достоинства выражение, приличествующее ученикам медресе. Между ними шел, переваливаясь на кривых ногах наездника, широкоплечий Туганбек в потертой шубе и огромной шапке.
По дороге Зейн-ад-дин, по своему обыкновению, то и дело заявлял, что ему необходимо зайти то в одно, то в другое место, и тащил за собой товарищей. Туганбек недовольно ворчал, Султанмурад многозначительно улыбался. Если пойдешь куда-нибудь с Зейн-ад-дином, то, наверное, вернешься домой без ног! На каждом шагу ему попадались знакомые, приятели и друзья. От одного Зейн-ад-дин узнавал о каком-либо неведомом ему до сих пор событии — чаще всего интересном происшествии или таинственном преступлении, — с другим обменивался шуткой, остротой, с третьим затевал спор по какому-нибудь отвлеченному вопросу. Стоя посреди улицы, он слушал новую газель или касыду какого-нибудь поэта, или только что сочиненную песню, музыканта. Попутно он успевал высмеять едким стихом дремлющего толстобрюхого мясника, издевался над скрягой-лавочником с его погнутыми весами, потешался над лекарем, крикливо расхваливающим свой товар. С Зейн-ад-дином можно было незаметно пройти весь город из конца в конец, например от северных ворот Мульк до южных Фирузабадских ворот.
Легко и весело шагал Султанмурад, держа под руку Туганбека, который все время упирался и норовил улизнуть. Почти неделю юноша не выходил из медресе и все время читал в полутемной, затхлой худжре. Теперь, выйдя на чистый теплый воздух, он чувствовал себя бодрым и сильным.
Вокруг расстилается весенний Герат. Чистые улицы, дома, старые и новые, красивые и невзрачные, большей частью одноэтажные, изредка двухэтажные, украшенные разноцветной узорной росписью; площади, полные народа; сады, покрытые изумрудной зеленью, — все залито солнцем…
Зейн-ад-дин смешит своих спутников, рассказывая забавные истории.
Султанмурад с улыбкой слушает болтовню товарищу. Он любуется чудесными видами Герата, вновь ожившими с приходом весны. Он влюблен в Герат. В этом огромном городе, со всех сторон обнесенном высокими зубчатыми стенами, много больших медресе, мечетей, возносящих к лазурному небу свои высокие минареты, роскошных дворцов, украшенных всеми чудесами искусства, садов, легких воздушных беседок, среди кипарисовых аллей блистают широкие серебристые водоемы — хаузы.
В Герате немало красивых гробниц и усыпальниц великих людей и почитаемых святых, вокруг которых всегда царит торжественное безмолвие. Султанмурад часто посещает эти места и с наслаждением гуляет в одиночестве, предаваясь размышлениям. Увлекшись историей Герата, юноша разыскал в старых рукописях, документах и легендах сведения о древних постройках, площадях, базарах, мостах прекрасного города. За год или полтора Султанмураду удалось собрать десятки четверостиший — рубай[14] — и других стихотворений, воспевающих прекрасные здания Герата, построенного, как гласили летописи и легенды, самим Искандером Двурогим.[15]
Зейн-ад-дин задержался, чтобы перекинуться словом со знаменитым гератским живописцем, похожим с виду на дервиша. Его спутники остановились на возвышенном месте, с которого было хорошо видно величественное строение, диво Герата — крепость Ихтияр-ад-дин.
Окруженная рядом высоких, вздымавшихся, словно горы, зубчатых стен и холмами земляных насыпей, крепость властвовала над; Гератом. Туганбек, за свею полную приключений жизнь видевший и бравший приступом много больших крепостей, не отрываясь, с восхищением смотрел на Ихтияр-ад-дин, щуря свои маленькие раскосые глаза. Султанмурад с интересом разглядывал базар.
Базар раскинулся на перекрёстке трех больших улиц! Там можно было увидеть и надменных беков в расшитых халатах, сдерживавших своих породистых коней, и щеголеватых сыновей баев — байбачей — в шелковых кафтанах и узорчатых сафьяновых сапожках, и дехканина, едва прикрытого лохмотьями, верхом на осле, и ремесленника, и суровых нукеров, которые водили по улицам «для позора» какого-нибудь преступника, и спокойного, задумчивого дервиша в грубом домотканом халате, словно не замечавшего шума и криков.
Подошедший Зейн-ад-дин толкнул Султанмурада под локоть.
— Смотри-ка, — сказал он, указывая на одною человека, — вон тот великан — борец Хайдар. Муфрид каландар[16] из Ирака победил его на состязании в Хауз-и-Махиане,[17] и ноги у него стали, словно мешки с бабками. Шейх Хусейн, костоправ, зарыл ему ноги в землю и в сорок дней вылечил их. А вон, видишь, слоняется франт — это внук поэта, написавшего пятьсот тысяч стихов. Он сам — тоже поэт, но только платит за то, чтобы слушали его газели. Старик с козлиной бородкой и вывихнутым плечом, что стоит возле бакалейщика, — Уста-Ариф из Бухары. Он знает сотню ремесел и все — бесподобно. Уста-Ариф и живописец, и золотильщик, и алхимик, и переплетчик, и массажист. Несравненный человек! А тот вельможа, что восседает на иноходце с белой отметиной на лбу, — племянник начальника города. Не вздумайте подходить к нему, юноши, остерегайтесь этого сластолюбца.
Султанмурад и Туганбек смеялись, слушая пояснения Зейн-ад-дина. Спустившись вниз, они смешались с толпой и, пройдя немного, оказались у сада Баг-и-За-ган — Сада ворон, — близ большого дворца султана. Перед воротами собралось больше, чем обычно, беков, высших сановников и вооруженных нукеров.
— Или султан куда-нибудь выезжает, или ждут прибытия посла, — заметил Зейн-ад-дин.
— Похоже на то… — Туганбек с завистью глядел на дворец.
— Подождем? — предложил Зейн-ад-дин, взглянув на Султанмурада.
— Идем, идем! У меня ноги подкашиваются, — взмолился Султанмурад.
Подойдя к базару, где пестрела толпа, Туганбек вдруг остановился. Не обращая внимания на уговоры своих спутников, он оставил их и исчез в водовороте базара.
— Убежал, чтобы не слушать стихов, степной могол, — со смехом сказал Султанмурад.
— Ничего, — махнул рукой Зейн-ад-дин. — Может быть, он найдет и принесет бедному Ала-ад-дину что нибудь поесть.
Тураби, сорокалетний человек с мягкими движениями и веселыми глазами, сидел в маленькой ветхой лавчонке, заставленной большими круглыми блюдами со всевозможными сластями. Радостно поздоровавшись с друзьями, он, словно после долгой разлуки, осведомим ся об их здоровье и расспросил, как идут дела и занятия приятелей и знакомых. Наконец, исчерпав запас вежливых вопросов, Тураби проводил гостей в верхнее помещение — балахану. Зейн-ад-дин отворил окошко, выходившее на улицу. В комнату ворвался свет и легкий весенний ветер. Ветхая балахана,[18] украшенная цветистыми кусками материи, служила кондитеру приемной. Проводя жизнь в труде, за изготовлением сластей которые он с утра до вечера расхваливал перед покупателями, этот человек, не взирая на скучные повседневные заботы, сумел сохранить в душе любовь к искусству. В его комнатке собирались гератские ученые и поэты. Здесь читали выдающиеся произведения на арабском, персидском и тюркском языках, вели горячие споры; здесь иногда происходили поэтические состязания и научные диспуты.
Книги, теснившиеся на полках, были известны гостям кондитера. Бегло окинув их взглядом, чтобы посмотреть, нет ли чего нового, Зейн-ад-дин и Султан-мурад присели возле открытого окна.
Тураби принес пару лепешек, только что вынутых из тандыра,[19] и кусок халвы на небольшом медном подносе превосходной работы. Разостлав скатерть, он разломил лепешки и предложил друзьям перекусить.
Заедая горячими лепешками тающую во рту халву, студенты в один миг покончили с угощением, похвалив халву, так искусно приготовленную хозяином.
— Вы наполнили нам рот сладостью, — сказал Зейн-ад-дин, вытирая жидковатые холеные усы, — теперь усладите наши сердца своими поэтическими творениями.
— Достойная вашего внимания газель еще не написана, — ответил поэт-кондитер, поглаживая седеющую бороду. — Есть несколько необработанных вещей, но, думаю, они не доставят вам удовольствия. Я пригласил вас потому, что жаждал приятной беседы с вами.
— Раз уж мы здесь, — решительно возразил Султанмурад, — то сделайте милость, прочитайте ваши газели. Живя в Герате, городе поэтов, мы целую неделю ничего не слышали, кроме нескольких вымученных стихов Ала-ад-дина.
Кондитер не спеша поднялся со своего, места. Раскрыв толстую книгу, стоявшую на полке, он вынул из нее несколько листов шуршащей бумаги и передал Зейн-ад-дину. Зейн-ад-дин пробежал их глазами и положил на колени Султанмураду.
— Я не ошибусь, если скажу, что во всех семи поясах не найдется человека, который читал бы газели так же хорошо, как ты. Пожалуйста!
Султанмурад действительно искусно читал стихи. В его устах начинали ярко сверкать даже невыразим тельные, лишенные поэтического огня строки. Желая затушевать некоторые недостатки в стихах своего друга, сразу бросившиеся ему в глаза, он старался читать как можно задушевнее и выразительнее.
Зейн-ад-дин, ценивший газели прежде всего за музыкальность стиха, медленно, с наслаждением покачивал головой в такт ритму. Когда чтение закончилось, он похвалил поэта за краски и силу воображения, восхитился отдельными сравнениями и метафорами. Одну из газелей, написанную в честь какого-то красавца, Зейн-ад-дин попросил разрешения взять с собой, чтобы спеть ее под музыку в веселой компании. Сложив бумагу вчетверо, он засунул ее в складки своей большой чалмы.
Султанмурад похвалил только одну газель, написанную в суфийском духе. Он сопоставил отдельные ее строки со стихами Хафиза Шираз и и своего сое ремень ника всеми почитаемого Джами, давших лучшие образцы лирики подобного рода. В связи с этим он начал говорить на философские темы и прочитал и разъяснил, газели и рубаи десятков поэтов, читанные им в разное время и сохраненные его замечательной памятью.
Когда он кончил, хозяин, извинившись перед гостями, спустился в лавку посмотреть, что делает подмастерье. Но разговоры о стихах и поэтах не прекратились. Зейн-ад-дин сыпал как из рога изобилия веселые истории о жизни, поступках и привычках знаменитых поэтов Слушая рассказы о забавных шутках и остротах, которыми обменивались почтенный Джами и многоуважаемый Сагари, Султанмурад надрывался от хохота.
— Довольно, дорогой, довольно! — говорил он, стараясь сдержать смех и перевести дыхание.
В это время вошел Тураби.
— Вы сказали, что только спуститесь в лавку, а сами, кажется, обошли весь город, — сказал Зейн-ад-дин, делая серьезное лицо.
— Жаль, что вас не было, — проговорил Султанмурад, вытирая влажные глаза. — Вы лишились удовольствия послушать удивительные рассказы Зейн-ад-дина.
— Я принес известие о человеке, " каждое слово которого — бесценная жемчужина, — ответил кондитер
— Что такое? — разом спросили оба студента
— Алишер Навои вернулся в Герат.
— Правда?
— Конечно! Весь город не будет лгать.
— Надо пойти его встретить, — поднялся Султанмурад.
— Поздно, он уже проехал домой, — сказал кондитер, движением руки удерживая его. — Зейн-ад-дин, вы бывали на собраниях у господина Алишера?
— Не бывал. Но господин Алишер несколько раз заходил к нам в медресе. Он хорошо знаком с нашим наставником.
— Как бабочка кружится над цветником роз, так и его светлость с детства вращается среди людей науки и искусства, поэтов и мыслителей, — сказал кондитер.
— Ваш покорный слуга не видел Алишера Навои, — взволнованно сказал Султанмурад, — но с самого приезда в Герат столько слышал об этом необыкновенном человеке, знатоке драгоценностей нашего родного языка, что жаждет увидеть его. Слава аллаху, теперь мы его увидим. Пожалуйста, расскажите нам о жизни его светлости; я много слышал о его достоинствах, но почти ничего не знаю о его жизни.
Тураби опустил голову на грудь и некоторое время размышлял, полузакрыв глаза. Потом он медленно заговорил:
— Хотя у меня, ничтожного, нет никаких особых связей и отношений с господином Алишером, но, как всякий гератец, я кое-что знаю о его жизни; Алишер родился в семье одного из вельмож нашего города — человека высокопоставленного, благородного. Его предки оказали бесчисленные услуги сыновьям Тимура. Отец Алишера Гияс-ад-дин, знал цену наукам и искусствам. При Абу-ль-Касиме Бабуре[20] он некоторое время состоял правителем Себзевара.[21] Своему сыну Гияс-ад-дин с детства дал хорошее воспитание и привил прекрасные нравственные качества. Алишер обнаружил большие способности во всех областях знания; ко всем наукам он питал беспредельную любовь. Интересно, что Алишер и султан Хусейн Байкара — теперешний государь — друзья детства и учились в одной школе.
Алишер — мы это хорошо знаем — с отроческих лет сочинял стихи на двух языках и был известен под прозвищем Двуязычный. Когда Алишер служил при дворе ныне покойного Абу-ль-Касима Бабура, ему было, видимо, лет пятнадцать. В это время его стихи на тюркском и персидском языках уже ценились в народе и среди поэтов. Приняв в персидских стихах псевдоним Фани — Тленный, Преходящий, — а в тюркских — Навои — Мелодичный, — этот отрок рассыпал такие дивные жемчужины из моря слов, что самые искусные стихотворцы немели в удивлении. Выдающиеся поэты Герата уже в то время на собраниях разбирали его газели.
— Говорят, — перебил Султанмурад, — почтенный старый поэт Лутфи заявил однажды, что за один стих молодого Навои на тюркском языке он готов отдать все свои газели, написанные за долгую жизнь, Что вы скажете об этом? — Без сомнения, это истина. Сам почтенный Лутфи при мне много раз восхвалял волшебное перо Алишера, — ответил Тураби. — Действительно, чудесный калам юного Навои открыл неисчерпаемые сокровища тюркского языка. О том, насколько Алишер силен и сведущ во всех науках, вы сами можете спросить у ваших почтенных наставников, великих ученых нашего времени. Алишер много лет учился в Герате и Мешхеде.
— Мударрис Фасых-ад-дин говорит, что Алишер обладает широкими познаниями во всех сферах человеческой мысли, — задумчиво проговорил Султанмурад, — от истории, философии, логики и музыки до стрельбы из лука — он не пренебрегает никакой отраслью знания.
— У Алишера Навои прекрасный почерк, — вставил Зейн-ад-дин, — а его музыкальные сочинения свидетельствуют о большом искусстве в музыке. Незнание музыки он считает величайшим недостатком поэта.
— Как это правильно! — заметил Султанмурад. — Поэт должен глубоко вникать не только в музыку слова, но и в музыку мысли. Ну хорошо. А что же, Алишер Навои ездил в Самарканд со служебным поручением?
— Нет, учиться наукам, — кратко ответил Тураби.
— Учиться? — недоверчиво переспросил Султанмурад. — Во времена Мирзы Улугбека[22] Самарканд действительно был сокровищницей знаний, но нынешнему Самарканду далеко до этого! Теперь в благословенном городе поселилось несколько невежественных шейхов. Вместо книг, наук и искусств там занимаются молитвами, чудесами и радениями. Солнце науки переселилось из Самарканда на небеса Герата. В любом гератском медресе можно найти выдающихся ученых из Самарканда.
— Погодите, друг мой, — прервал его Тураби. — Знатные люди, вернувшиеся из подобного раю Самарканда, и друзья, которые ездили туда для торговли или других дел, рассказывали вашему покорному слуге, что Алишер учился там у знаменитого правоведа Ходжи Фазлуллы Абу-ль-Лейси. Этот ученый относился к Алишеру, как отец к сыну. Правитель Самарканда Ахмед-Ходжи-бек, тоже хороший поэт, поддерживал с Алишером дружеские отношения. Я даже слышал некоторые подробности об образе жизни Алишера. Бывали дни, когда у него не оставалось ни теньги[23] на расходы.
Гордость и щепетильность мешали ему просить помощи у Ахмед-Ходжи-бека. Это знают все близкие к Алишеру люди. Почему бы этому быть неправдой?
— Верно, — живо ответил Зейн-ад-дин. — Если бы спросить самого господина Алишера, он, может быть, ответил бы так же, как вы, что он брал уроки у Ходжи Фазлуллы Абу-ль-Лейси. Но это лишь внешняя сторона событий.
— В чем же истина? — спросил Тураби.
— Как передают некоторые лица, достойные доверия, между покойным государем Абу-Саидом-мирзой[24] и Алишером установились довольно холодные отношения. Абу-Саиду-мирзе не нравилось пребывание Алишера в Герате. Поэтому года три тому назад Алишер был вынужден оставить Герат и отправиться в Самарканд. Истинные же причины вражды между государем и поэтом, несомненно, политического характера. Подождите друзья мои, я кое-что расскажу. Известно, что злейшим врагом покойного султана был наш теперешний Государь, его светлость султан Хусейн Байкера. Между его величеством и Алишером давно возникли Дружба и приязнь. Кроме того, дяди Алишера по матери были близки к Хусейну Байкаре, помогали ему в его борьбе за престол. Думается, что теперь вполне понятно, почему Абу-Саид-мирза недоверчиво и подозрительно относился к Алишеру?
Тураби кивнул головой в знак согласия. Султанмурад, который с глубоким интересом прислушивался в их спору, сказал, многозначительно взглянув на своего товарища:
«— В словах Зейн-аддина разум находит больше истины. Мой друг, — со смехом продолжал он, — может сделать ошибку даже в молитве, которую повторяет пять раз в день, но он безошибочно знает подноготную гератских событий.
Все засмеялись. В это время к кондитеру пришли новые гости, и у всех на устах было одно имя: Алишер!
Туганбек долго ходил по базару. Запах свежих лепешек и всевозможных яств, доносившийся из харчевен, крепко бил в нос и наполнял рот слюной. В кишках урчало от голода, во всем теле чувствовалась, слабость.
Три месяца назад, когда Туганбек после долгих скитаний пришел в этот город, при нем было двадцать пять динаров.[25] Благодаря величайшей бережливости ему удалось на некоторое время растянуть эти деньги. Но вот теперь он уже две недели бедствовал: у него не осталось ни одной теньги. Густо рассыпая обещания, он выудил несколько динаров в долг у мясника, хлебника. Из вещей, годных для продажи, у него остался только кинжал с рукояткой из слоновой кости, отделанной серебром. Но он предпочел бы умереть с голоду, чем расстаться этим клинком: он верил в волшебную силу своего клинка, как многие верят в могущество молитвы и ладанки. Притом, его кинжал — наследство отцов и дедов; он был спутником счастья могущественных предков.
Туганбек не искал на базаре какого-либо заработка. Мысль о работе ни разу не приходила ему в голову. В своей заносчивости он всякую работу считал для себя унизительной. В то же время ему не казалось трудным неделями носиться в снежные бураны верхом на коне, переплывать грозные потоки, переваливать через горы, в знойные летние месяцы терпеть голод и жажду, борясь с песчаными заносами — в бескрайних азиатских степях.
Бродя по пестрому, шумному, крикливому гератскому базару, Туганбек жадными глазами глядел на лавки, набитые индийскими, персидскими, китайскими и египетскими товарами. При виде пышно одетых беков, пролетавших на быстрых, как молния, конях, в его глазах вспыхивала зависть.
Под вечер голод одолел его — он остановился перед лавкой торговца оружием. Крепкий, бодрый старик встретил его ласково:
— Что нужно, бек-джигит?
— Старик, выручите меня из беды. Я вовек не забуду вашей милости, буду вспоминать вас, словно отца.
Старик был искусен в своем деле и знал сталь, как никто другой. Он не только умел определить качество клинка, но мог сказать, где клинок изготовлен — в Багдаде ли, в Исфагане, или в Самарканде.
Оружейник мельком взглянул на кинжал, и глаза его заблестели; но, желая приобрести товар подешевле, он сказал равнодушно:
— Бек-джигит, я только продавец. Я ищу покупателей, способных оценить по достоинству хорошую вещь, но, если ты сейчас в беспомощном положении, я готов выручить тебя. Ведь я никогда в жизни не строил мечети или медресе, не воздвигал усыпальниц в честь великих святых, не бывал в благородной Мекке и не прикладывал к глазам земли, по которой ступал наш пророк. С чем же я приду в чертоги аллаха?
— Отец, — сказал Туганбек, потирая лоб, — я не намерен продавать кинжал.
— Так что же тебе нужно? — спросил старик, захватывая в горсть свою длинную остроконечную бороду.
— Пусть кинжал останется вам в залог, — ответил Туганбек, присаживаясь в углу лавки. — Дайте мне пять динаров. Ровно через месяц я принесу вам шесть динаров и возьму свою вещь обратно. Если судьба не пошлет мне удачи, мы сторгуемся. Вы оцените кинжал по справедливости.
Старик некоторое время молчал, пряча глаза под густыми бровями. Потом нерешительно сказал:
— Ты поставил меня в затруднительное положение, джигит. Что мне делать?..
— Я пришел к вам с отчаяния, — проговорил Туганбек просительно. — Мой покойный отец положил этот кинжал в колыбель под подушку. С тех пор как я себя помню, он всегда при мне.
— Верно, джигит. Этот стальной клинок охранял тебя от бедствий, с ним у тебя связаны дорогие воспоминания. Потому ты и ценишь его. Но не думай, что я буду показывать твой клинок всякому покупателю. Нет, я отдам его такому же любителю оружия, как ты. Тот человек хороший клинок ценит больше, чем прелестную возлюбленную. Он — сын бека из рода Барласов.
Надежды Туганбека рухнули. Он протянул руку за кинжалом. Но старику не хотелось упустить драгоценную вещь. Надеясь приобрести ее через месяц за бесценок, он порылся в кошельке и сказал:
— Хорошо, сын мой. Не дело мужа отказывать в просьбе джигиту.
Туганбек взял пять динаров, завязал их в пояс и, попрощавшись, поднялся с места. Он испытывал глубокое страданье. Вопрос, сумеет ли он получить обрат, но кинжал, упорно сверлил, его мозг. Долго еще он бесцельно бродил по базару. Потом махнул рукой, пошел в харчевню и наелся досыта.
В вечерней тьме Туганбек направился к медресе. На большой дороге, ведущей к Фирузабадским воротам, он зашел в питейный дом. Спросив у жирного кабатчика, сидевшего на низенькой скамейке позади кувшинов, чашу виноградного вина, Туганбек тяжело опустился в углу большой комнаты, освещенной двумя свечами. В питейной было много народу. Одни, сидя в одиночестве, задумчиво пили, другие веселились в компании, время от времени с криками подливая друг другу вина. В кругу седобородых гуляк кто-то сиплым слабым голосом распевал персидскую газель — остальные под звуки песни медленно раскачивали чалмами, огромными, как корзины. Известные в городе шалопаи тоже были здесь. Словно соревнуясь друг с другом, они опрокидывали в горло одну чашу вина за другой. Какой-то поэт, с трудом державшийся на ногах, заикаясь, восхвалял самого себя. От шумного говора — смеси персидского и тюркского языков — звенело в ушах.
Две чаши вина не подействовали на Туганбека: он привык пить вино так, как казахи пьют кумыс. Истомленный жаждой верблюд омочил губы в воде — и только! Обыкновенно Туганбек не жалел денег на вино. Но в Герате, городе, где было особенно приятно выпить, он отступил от этого правила.
Боясь промотать деньги, полученные за дорогой его сердцу кинжал, Туганбек поднялся с места. Но, выходя, он услышал знакомый голос:
— Эй, Туган, собачий сын!
Туганбек обернулся, и его взор упал на богатырского вида юношу, одиноко сидевшего позади группы седобородых. Это был Тукли-Мерген, с которым они когда-то вместе служили у бадахшанского правителя. Туганбек так обрадовался, словно встретил самого Хызра,[26] но не подал вида; надменно поздоровавшись, он уселся подле юноши, скрестив ноги.
Тукли-Мерген смеялся, расправляя свои могучие плечи.
— Ну-ка, возьми, опрокинь одну, как бывало, — сказал он и протянул Туганбеку чашу, потребовав для себя другую.
Потягивая вино, они расспрашивали друг друга о делах, вспоминали старых приятелей. Тукли-Мерген неделю тому назад приехал из Ирака и поступил на службу в крепость Ихтияр-ад-дин. Он знал Туганбека как храброго, воина и сожалел, что тот сейчас бедствует.
— Придет время, и птица счастья — опустится тебе на руку, — говорил он, наклоняясь к своему другу. — Ты ведь достоин быть предводителем сотен тысяч воинов. Но помни одно: не надо спешить. Случается, что и неброшенный камень тоже попадает в голову. А пока придумай способ, чтобы прожить.
— Что ты говоришь? — недовольно проворчал Туганбек. — Что же мне, поступить в мечеть муэдзином или учеником к горшечнику?
— У меня есть один покровитель, мой дальний родственник — ты знаешь, я ведь родом гератец, — этот человек щедр, как Хатам Тайский,[27] и пользуется большим влиянием при дворе. Клянусь честью джигита, он вчера встретил меня и говорит: «Найди мужественного и смелого юношу, пусть поступит к нам на службу». Я сам с его помощью попал в крепость. Если хочешь, мы сейчас же сходим к нему.
Туганбек опорожнил чашу, обтер рукавом шубы длинные жидкие усы, закусил толстые губы и сидел, размышляя.
— Я знаю, гордость не позволяет тебе согласиться, — укоризненно сказал Тукли-Мерген. — Напрасно. В палатах этого человека ты будешь жить только для того, чтобы придать им блеск, и пышность. Понимав ешь?
Туганбек взглянул на своего друга. Не увидев в его живых, сверкающих глазах ничего, кроме искреннего расположения, он выразил согласие. Оба выпили еще по чаше и поднялись.
У ворот большого дома их встретил старый невольник с фонарем в руке. Он с приветливыми словами провел пришедших во двор и тотчас же куда-то скрылся. Через некоторое время заскрипела дверь и послышался голос старика:
— Пожалуйте!
Туганбек вслед за своим другом вошел в комнату. Он увидел человека средних лет, сидевшего, скрестив ноги, на широком ковре. Глаза человека светились лукавством, во всем его облике чувствовалась надменность, самонадеянность. Это был Маджд-ад-дин Мухаммед, сын Гияс-ад-дина Пир Ахмеда Хавафи, занимавшего высокие должности в правление Шахруха.[28] Сам Маджд-ад-дин при Абу-Сайде был мелким служащим в диване,[29] теперь же состоял визирем у «малого мирзы» Myхаммед-Султана, племянника Хусейна Байкары.
Туганбек поздоровался с хозяином и пожал протянутые ему кончики пальцев. Когда Тукли-Мерген сел, Туганбек откинул полы своей старой Шубы и тоже опустился на корточки. Маджд-ад-дин отодвинул стоявший перед ним большой медный светильник и в интересом смотрел на Туганбека, переводя взгляд с шубы своего гостя на его лицо. Статный, высокий Тукли-Мерген сидел смирно, как овца; Туганбек же в своей потертой шубе казался воплощением надменности и грубой силы.
Маджд-ад-дин многозначительно взглянул на Тукли-Мергена и сказал, нарочно употребляя простонародные выражения:
— Ты и вправду поверил моим вчерашним словам, Мерген! Знаешь ли ты этого молодца, как пятно на лбу своей лошади? Похоже, он дельный парень. Придется взять его. — Тукли-Мерген начал расхваливать Туганбека, но тот, нахмурившись, оборвал его. Обращение Маджд-ад-дина сильно его задело.
Маджд-ад-дин, видимо, понял это и изменил обхождение.
— Поступай к нам на службу, брат, — сказал он просто, — от нас никогда не увидишь плохого.
— А что за служба? — пробурчал Туганбек.
— Ха-ха-ха! — засмеялся Маджд-ад-дин, поглаживая густую черную бороду. — Будь спокоен, брат, служба будет подходящая. Если ты пришел в добрый час, то степень твоя возвысится.
— Под тобой будет конь, как ветер, — вмешался Тукли-Мерген, — будешь одет-обут. Угощение всегда готово… Я знаю… Ведь так, господин?
Маджд-ад-дин, улыбаясь, кивнул в знак согласия Туганбек с облегчением выпрямился и, попросив разрешения явиться на следующее утро, вышел вместе со своим другом.
Глава вторая
Султанмурад, войдя в комнату мударриса Фасых-ад-дина, остановился в удивлении. Учитель в новехоньком шелковом халате тщательно навертывал чалму на новую тюбетейку. Его неизменно кроткое, открытое лицо с благообразной бородой и вся его величавая фигура выдавали радостное волнение. Султанмурад решил, что почтенный Фасых-ад-дин направляется в какой-нибудь знатный дом.
Мударрис, намотав чалму, расправил обеими руками складки халата и с улыбкой сказал Султанмураду:
— Сегодня вы свободны. Преславный Алишер Навои назначен хранителем печати его величества султана. В дни молодости господин Алишер учился некоторое время у меня. Наша обязанность поздравить его с высоким назначением.
Хотя Султанмурад слышал, что Алишер связан с государем старинной дружбой, он не предполагал, что поэт столь скоро получит такую высокую должность. Поэтическое дарование Навои было известно юноше: он читал его произведения, которые ходили по рукам; об Алишере как человеке и ученом он слышал много интересного и удивительного ото всех, особенно в последнее время. Весть о том, что подобный человек возведен на высокую ступень при дворе, искренне обрадовала Султанмурада.
— Вас, учитель, тоже, значит, можно поздравить, раз господин Алишер некогда пользовался светом ваших знаний, — почтительно сказал Султанмурад.
Глаза Фасых-ад-дина засветились радостью.
— Ваш недостойный ученик, — продолжал Султанмурад, — хотел бы высказать одно свое сердечное желание.
— Какое желание? — взглянул на него Фасых-ад-дин.
— Мое желание, — ответил Султанмурад, — последовать за вами, как тень, в покои великого поэта.
Почтенный Фасых-ад-дин помолчал, устремив глаза в землю. Он любил своего одаренного ученика, хвалил его за знания и прилежание. Но этот юноша всегда причинял ему много забот. Чтобы дать Султанмураду двухчасовой урок, ему иногда приходилось по неделям читать дома книги. Подняв глаза, он с улыбкой посмотрел на Султанмурада.
— Пришло время вам встретиться со всеми великими особами Хорасана. Хорошо, сопутствуйте мне.
Учитель и ученик вышли из медресе.
В доме, где жил Алишер, царило торжественное настроение. Слуги пригласили уважаемого мударриса и никому неведомого ученика в большую комнату в передней части дома. В комнате, устланной ярко-красными коврами, с расписным потолком, стенами и полками, украшенными цветами из ганча, уже собрались гости. Мударриса Фасых-ад-дина усадили на почетное место. Султанмурад присел у дверей. С большинством гостей Султанмурад был знаком; здесь собрались известные представители всех отраслей науки и выдающиеся гератские поэты; среди них гордо восседали несколько высших должностных лиц, разодетых в расшитые золотом халаты.
Алишера в зале не было, поэт еще не вернулся из дворца. Султанмурад сидел молча, прислушиваясь к негромким разговорам, и из уважения к собравшимся не вмешивался в беседу. Через некоторое время кто-то сообщил, что поэт прибыл; Султанмурад тотчас же направился на террасу. Гости, в том числе и Фасых-ад-дин, тоже вышли. Среди надменных царедворцев, одетых в шитые золотом халаты, Султанмурад сразу узнал поэта, словно уже видел его раньше. На голове Алишера возвышалась чалма, тщательно, со вкусом намотанная на остроконечную синюю тюбетейку. На плечи был накинут неяркий шелковый халат, а поверх него — чекмень[30] из простого темно-серого сукна.
Навои было не больше тридцати лет. Он был выше среднего роста, тонкий, но крепкий; черная короткая борода и усы были тщательно подстрижены. На широком лице с несколько выдающимися скулами лежал благородный отпечаток большой духовной силы. В раскосых глазах под припухшими веками светилась глубокая мысль, мечтательность и сила волн.
Навои, с улыбкой в глазах и в уголках губ, по очереди здоровался с присутствующими. Фасых-ад-дин, поздоровавшись с поэтом и принеся ему искренние поздравления, взволнованно указал на Султанмурад. Султанмурад, побледнев от смущения, приблизился к Алишеру. Сложив руки на груди, он отвесил низкий поклон и тотчас же сделал шаг назад.
— Ученик вашего покорного слуги, — с гордость сказал Фасых-ад-дин. — Редкие способности. Я нисколько не сомневаюсь, что он — будущий Абу-Али-Ибн-Сина.[31]
— Мой уважаемый наставник чрезмерно превозносит своего недостойного ученика, — проговорил Султанмурад, снова почтительно складывая на груди руки.
Навои с дружеской улыбкой обратился к студенту, расспрашивая, откуда он родом и какие проходил науки. Султанмурад скромно, но с достоинством перечислил науки, которыми основательно овладел. Собравшиеся вокруг мударрисы, знавшие Султанмурада, считали своим долгом сказать о нем что-либо похвальное.
— Будьте всегда старательны и прилежны, — удовлетворенно проговорил Навои. — Страна нуждается в таких людях, как вы. Терпеливо выращивая древо науки, мы должны укреплять его корни в родной земле собирать с него обильные плоды. Надеюсь, вы часто будете нас навещать.
— От всего сердца благодарю вас за внимание, — произнес Султанмурад дрожащим голосом.
— Черпать из моря вашего знания — такое великое счастье, что большего представить себе нельзя!
Навои повел Султанмурада в комнату, Он указал юноше почетное место, но Султанмурад, извинившись, сел пониже.
Он ясно читал в глазах присутствующих недоуменный вопрос: «Зачем оказывать такое внимание этому бедному молодому студенту в грубом халате?»
Поэт, хранитель печати, потому ли, что он был хозяином дома, или из скромности, сел ниже всех. Он завел речь о положении гератских медресе, о жизни студентов и преподавателей, о вакфах, внимательно слушая, что говорят другие. Потом Навои принялся подробно расспрашивать о научных произведениях и поэтических диванах, написанных в Хорасане за последние годы. Даже если речь шла о рубаи, стихе или шараде какого-нибудь безыменного поэта, Навои внимательно осведомлялся об этом. У всех присутствующих просветлели лица. Беседа оживилась.
Султанмурад не отводил взгляда от Навои, словно боясь, что ему больше не выпадет счастья увидеть этого замечательного человека. Облик Навои, наряду со скромностью, являл подлинно величавую гордость, свободную от высокомерия и самомнения; движения рук были исполнены изящества, улыбка и голос поэта чаровали своей мягкостью.
Слуги разостлали дастархан. Гостям были предложены в величайшем изобилии всякие сласти, фисташки, миндаль, сушеные фрукты. Затем принесли суп в красивых фарфоровых чашках, мясо на блюдах и мягкие лепешки.
После угощения старейший из присутствующих прочитал молитву фатиху,[32] пожелал счастья поэту, и собравшиеся простились с хозяином дома.
Пламя свечи на полке и лунные блики, приникающие сквозь приоткрытую дверь, переливаются на узоpax ковров, рисуя зыбкие фантастические картины время от времени порыв ветра колеблет пламя; шелестят листы большой книги, раскрытой на низенькой, скамеечке; поэт, играющий на тамбуре, отдыхает, наслаждаясь мелодией… Не отделяя музыку от стиха Навои знает и любит науку прекрасных напевов.
С легким вздохом Навои прислонил тамбур к полке. Снял с пальца плектр. Сел у окошка. В саду тишина; только деревья шелестят, играя с ветром. Поэт задумался. Вот он снова в Герате, у себя дома. Как хочется верить, что теперь ему уже не придется расставаться с любимым городом, с родным домом. Здесь каждая вещь ему близка, знакома, любима; любовь и нежность его покойных родителей запечатлелась в этих вещах. Разве Гияс-ад-дин Кичкина не ласкал его когда-то на этом самом месте, у этой двери? Когда Алишеру было четыре года — теперь помнилось это очень смутно, — он уже четко декламировал стихи поэта Касим-и Анвара, как радовался его отец. А покойница мать? Воплощение любви и кротости. Она всегда болела душой за детей и сердечно относилась к соседям и близким. Когда он, пятилетний мальчик, прибегал домой из школы, мать обнимала его, давала молока, пресных лепешек и сладостей, радуясь, что ее сын в школе хорошо отвечал уроки, заданные почтенным домуллой,[33] она в мечтах уже видела своего сына великим ученым.
Непрерывной чередой проносятся перед взором Алишера воспоминания. Переселение всей семьей в Ирак во время политических беспорядков в Хорасане после смерти Шахруха-мирзы, когда его родители боялись за свою жизнь; трудности дороги; развлечения и радости в пути; встреча с историком Шараф-ад-дином Йезди, автором «Зафар-намэ».
На всю жизнь запомнилось, как на обратном пути он, заснув на коне, свалился на землю. Утром, проснувшись, Алишер увидел, что лежит один в голой безлюдной пустыне. Поймав свою смирную лошадь, которая бродила неподалеку, пощипывая траву, он с трудом взобрался на нее и, томимый жаждой, долго разыскивал в знойной пустыне свой караван. Как обрадовались его едва не умершие от горя родители, когда Алишер наконец был найден…
Вместе с Хусейном Байкарой он учился в школе, восьми-девяти лет читал «Беседу птиц» Ферид-ад-дина Аттара, увлекался его загадочными пламенными мыслями и постепенно забывал игры, забавы, сон и даже еду. Встревоженные родители запретили Алишеру чтение этой книги, отняли и спрятали ее. Но мальчик выучил книгу наизусть и повторял ее строки про себя…
Такие удивительные, то сладкие, то горькие воспоминания приходят теперь на ум поэту. Он как будто снова переживает дни первых мук творчества и сладостных волнений. Восхищение любящего отца сыном-поэтом, единодушные похвалы и поощрения крупных стихотворцев, избрание, после долгих раздумий, поэтических прозвищ Навои и Фани, встреча с престарелым Лутфи и его неожиданно высокая оценка — разве можно забыть все это?
Годы странствий на чужбине… Восемь лет жизни в — Мешхеде… Чтение книг в холодной тесной каморке медресе, где днем не увидишь солнечного луча, ночами не сомкнешь век…
Встречи по книгам, через столетия и тысячелетия, с древними философами, учеными, поэтами… Алишер вспоминает наставников, товарищей, великих людей, ученых, с которыми посчастливилось говорить, своего последнего учителя, самаркандца Ходжи Фазлуллу Абу-ль-Лейси, и снова мысленно вступает в беседу с ними…
Во дворе послышались шаги. Поэт поднял голову. Дверь со скрипом отворилась, и, попросив разрешения, вошел младший брат Алишера, Дервиш Али. Этот образованный человек характером резко отличался от брата: беспечный и неразумный, он вел легкомысленный образ жизни.
Навои взглянул в его припухшие слезящиеся глаза и насмешливо улыбнулся:
— Расскажите, брат, что нового в городе?
— Кроме раздоров между шиитами и суннитами,[34] в эти дни ничего важного не случилось, — ответил Дервиш Али, неторопливо усаживаясь. — Сунниты везде и всюду ропщут: «Государь — шиит, ишаны — шииты. Можно ли это дальше терпеть?»
— Жаль, что эти бессмысленные распри возникли из-за указа государя, — сказал Навои, недовольно покачивая головой. — Неужели нет другого дела, как сеять рознь между людьми? В каком состоянии государственная казна, каково положение войска, как живут в медресе студенты, учителя и ученые, как обращаются с народом в столице, туманах[35] и вилайетах[36] должностные лица; как идет хозяйство у дехканина, как работает ремесленник? Вот вопросы, которые надо было бы рассмотреть оком рассудка и разрешить разумно и справедливо. Брат мой, следует быть выше мелких религиозных свар.
Дервиш Али внимательно слушал, тихо покачивая склоненной головой. К брату и его идеям он относился глубоким уважением.
— Только бы не усилились эти религиозные распри, — сказал, наконец, Дервиш Али.
— Хорошо, постараемся устранить эти смуты, — решительно произнес Навои. — Мы не отдаем предпочтения какому-либо религиозному толку. Брат мой, в мире нет более приятного занятия, чем читать книги; размышлять и складывать стихи. По природе я более-всего склонен к этому. Мне хотелось бы жить где-нибудь в тихом месте и плавать в этом море наслаждения. Но мне, как вы знаете, дана должность при дворе. Я принял назначение ради блага народа и государства. В нашей стране предстоит сделать бесконечно много дел. Каждое из этих дел народ ждет веками. Я мечтаю, между прочим, построить здание для библиотеки. Вы теперь состоите заведующим государевым книгохранилищем, значит вопрос этот имеет отношение и к вам.
— Я буду, как раб, служить всем вашим намерениям, — сказал Дервиш Али, сложив руки на груди.
Мы построим такое книгохранилище, — с увлечением продолжал Навои, — какого еще не видел мир. Все перлы человеческой мысли, созданные с древнейших времен до наших дней и воплощенные в книгах, должны стать украшением нашей библиотеки. Я, недостойный, искренне желал бы, чтобы все ученые, образованные люди и поэты Герата и других стран ислама пользовались книгами из этой сокровищницы. Пусть сократы, платоны и аристотели философии, пифагоры математики, улугбеки астрономии, фирдоуси и низами поэзии спокойно занимаются здесь. Пусть создают все новые и новые сокровища мысли, пусть трудятся ради процветания открытые ими светила истины озарят своим блеском небо нашей страны, если наш народ воспользуется этим, то моя цель будет достигнута. Дервиш Али, ваше сердце всякий час должно быть полно любви к народу. Принимаясь за какое-либо дело, избирайте мерилом пользу и необходимость для народа.
— Конечно, так и должно быть, — сказал Дервиш Али, поглаживая свою жидковатую бороду. — Служение народу возвышает человека…
Навои выразительно посмотрел на брата.
— Оставить после себя хорошую славу добрыми деяниями — само по себе великая награда, — кратко ответил он. — Да не покроется никогда тучами небо вашего усердия, брат мой!
Дервиш Али опустил глаза и перевел разговор на библиотеку. Бросив взгляд на свечу, стоявшую на полке, Алишер поднялся было с места, но Дервиш Али с возгласом «я… я!..» быстро вскочил, схватил свечу, поставил ее на середину комнаты и обрезал ножницам» кончик фитиля. Поэт взял шуршащий лист бумаги я положил его на раскрытую книгу. Обмакнув перо в медную чернильницу, он принялся медленно и осторожно водить им по бумаге. Дервиш Али следил, как красивая рука его брата то останавливалась, то делала легкие движения. Бумага покрывалась какими-то причудливыми линиями. Наконец Навои положил перец выпрямился и с улыбкой взглянул на Дервиша Али.
— Посмотрите внимательно на этот чертеж, — сказал он, пододвигая лист к брату. — Мы не очень сведущи в строительном искусстве. В этой области совершенный мастер, несомненно, еще скажет свое слово. Но здание, о котором мы думали, должно иметь приблизительно такой вид.
На листке был план книгохранилища. Дервиш Али с интересом рассматривал рисунок. Величественное строение как будто рисовалось перед глазами поэта во всех подробностях; отвечая на вопросы брата, Навои описывал его внутреннее устройство и внешний вод, вплоть до росписей и раскраски.
Потом Алишер заговорил с Дервишем Али о подборе книг; заботясь о распространении рукописей драгоценных сочинений, он расспрашивал о лучших писцах и переплетчиках Герата.
Когда петухи второй раз нарушили безмолвие ночи. Дервиш Али, у которого слипались глаза, отправились в свою комнату. Поэт чувствовал себя легко и бодро. Охваченный мягкой ночной тишиной, он сидел, мечтательно глядя перед собой, потом взял чистый лист бумаги и задумался, держа перо в руке. Слова нанизывались на золотую нить мыслей, рифмы протягивали руки, призывая одна другую. Перо забегало по гладкой странице;
Поэт прочитал рубай про себя; лицо его озарилось улыбкой. Высушив чернила, он вложил листок в кожаный бумажник, украшенный тиснением, и принялся перелистывать толстую арабскую книгу..
Когда утром, с восходом солнца, Алишер вышел за дверь, перед ним уже стоял слуга, держа в поводу невысокого смирного рыжего иноходца. Поэт поставил ногу в стремя, конь медленно двинулся вперед.
По случаю базарного дня на улицах было людно. Дехкане верхом на лошадях и ослах, вереницы медлительных верблюдов, позванивающих колокольчиками, старухи с полными пряжи корзинами на головах, ткачи со своим товаром под мышкой, — вся эта пестрая толпа народа текла к базару.
Поэт миновал шумный хийябан[38] и подъехал к большим воротам сада Баг-и-Заган. Нукеры приветствовали хранителя печати и тотчас же взяли его коня под уздцы. Алишер спешился, не прибегая к их помощи.
Чудесные аллеи вели к дворцам. Пройдя по дорожке, пестревшей пятнами солнечного света, Алишер очутился в большом цветнике. Казалось, что здесь собраны цветы со всего мира. Как и каждый день, Навои остановился, любуясь цветами; потом направился к возвышавшемуся напротив цветника дому, стены и двери которого были украшены рукой живописца. Отворив резную дверь, Алишер вошел в небольшую, роскошно убранную комнату. Там поэта встретил его друг, Ходжа Афзаль. Это был низенький человек с живыми глазами и приятными манерами, почти ровесник Алишера. Ходжа Афзаль, весьма опытный в канцелярском, счетном и письменном деле, был рассудительным и добросовестным чиновником, искушенным в делах Управления.
— Я счастлив приветствовать вас! Пожалуйте, — поднялся Ходжа Афзаль, приглашая Алишера сесть. — В диване сейчас никого нет. Вероятно, его величество хакан еще не изволил выйти из гарема.
Навои осведомился о личных делах своего друга. Затем разговор, как всегда, перешел к общим вопросам, касающимся государства и народа. Навои говорил о том, какой должна быть справедливая власть, об отношении государя к народу и народа к государю, о том, что власть имущие — от бека и везира до самого мелкого должностного лица — во всяком деле ответственны перед законом, о мерах, необходимых для улучшения жизни народа. Ходжа Афзаль неизменно одобрял поэта и выражал желание видеть его высокие стремления осуществленными.
— В Хорасане нужно создать такую жизнь, которая была бы примером для других народов, — с увлечением говорил Навои, — Доколе люди будут пребывать в пустыне дикости? Слово «человек»—высокое, великое слово! Человек должен жить благородной, чистой, красивой жизнью. Если люди, облеченные властью, сделают своим девизом разум и справедливость, станут заботиться о народе, то ржавчину жизни можно превратить в золото.
— Превосходная мысль, превосходная мысль! — воскликнул Ходжа Афзаль. — Но в нашей стране насилие и притеснение народа должностными лицами стало вековым обычаем. Вот в чем великое несчастье!
— Необходимо сломать меч насилия, — решительно сказал Навои. — Жить в мире с насильниками — преступление. Если мы сами не можем сломать этот меч, нам следует обратиться к государю, призвать его к справедливости.
Вошел слуга и доложил Навои, что государь справлялся о нем. Поэт вышел и направился к стоявшему справа дворцу с сорока мраморными колоннами. Оставив кавуши[39] в прихожей, отделанной цветным фарфором. Навои отворил позолоченную дверь и вошел.
Стены и потолок большой светлой комнаты с окнами, выходящими в прекрасный сад, блистали серебром и золотом. Яркие цветы орнамента — подлинное чудо. Они приковывали взоры своими живыми, гармоничными красками. Шелковые ковры, разостланные на полу, казались цветущей лужайкой. С высокого потолка спускались золотые светильники, полки и ниши были уставлены китайской посудой.
В глубине комнаты на престоле восседал Хусейн Бай-кара. Это был широкоплечий, плотно сложенный чело век с выпуклой грудью. В больших раскосых глазах, наряду с силой воли, читалось непостоянство, живость и веселость характера. На голове у хакана была каракулевая шапка, унизанная крупным жемчугом, на плечах — красный парчовый халат с воротником, расшитым золотом и ярко сверкающими драгоценными камнями. На широком поясе горели золотые вышивки, крупные жемчужины, бесценные бадахшанские рубины и яхонты.
Отвесив троекратный поклон, Навои, испросив разрешения, сел. Как человек, постоянно бывающий у государя, он непринужденно осведомился о здоровье султана. Хусейн Байкара при встречах с поэтом старался держать себя как старый друг. Он обменялся с Навои мнениями о назначении правителей в некоторые туманы и вилайеты, спросил, какие следует поддерживать отношения с султаном Махмудом, сыном Абу-Саида-мирзы. Навои высказал мысль, что на все должности — отправителя до квартального караульщика — необходимо назначить людей, думающих только о пользе государства, справедливых, пекущихся о судьбе народа. С султаном Махмудом надо поддерживать дружеские отношения, но если он, не довольствуясь Мавераннахром, обнажит меч и поднимет смуту, чтобы захватить Хорасан, — обойтись с ним беспощадно.
Хусейн Байкара ничего не возразил на это. Помолчав немного, он вдруг спросили — Вы знакомы с Мадждад-дином Мухаммедом? — Знаком, — ответил Навои, — но что он за человек?
— В высшей степени дельный человек, — сказал Хусейн Байкара. — Верно служит Кичику-мирзе. Его преданность и усердие велики. Мне стало завидно, и я пришел к мысли, что ему следует поручить составление султанских указов — возвести в должность парваначи.[40]
— Если его преданность искренна, — с сомнением сказал Навои, — и если ваше величество его испытали, то возражения вашего покорного слуги были бы неуместны.
Сунув руку под сафьяновую подушку, Хусейн Байкара вынул сложенный лист бумаги и с улыбкой протянул поэту. Навои развернул мягкую, как шелк, дорогую бумагу и, улыбаясь, посмотрел на государя. То была газель, написанная самим Хусейном.
Хусейн Байкара с малых лет любил стихи. Еще в школьные годы они вместе с Навои увлекались персидскими и тюркскими поэтами, много говорили о стихотворстве, заучивали наизусть целые касыды и газели. Но в юности, вероятно потому, что мысли и мечты будущего государя долгое время были устремлены на завоевание престола и власти, он уделял мало внимания поэзии и только изредка писал газели.
Навои сначала пробежал глазами газель, потом, возвысив голос, красиво продекламировал её вслух! Как и другие газели Хусейна Байкары, это было музыкальное, плавное любовное стихотворение. Навои похвалил следующие строки:
Произнеся эти строки, Навои отметил в них свойственную поэту оригинальность мысли, образов и красок и, словно возражая кому-то, с горячностью заговорил:
— Как богат и гибок наш язык! Им можно выразить любое чувство, любую мысль! Как легко позволяет он нанизывать жемчужины мысли на нить стихов. Что осмелятся сказать, читая такие газели, персидские риторы и наши поклонники персидского языка?!
— Этот язык защищает сам лев поэзии,[41] какой же храбрец станет доказывать противоположное? — засмеялся Хусейн Байкара.
— Своими бесподобными творениями вы показали знатокам всю силу и красоту нашего языка. Помните, с какой любовью в дни юности вы старались привлечь мое внимание к нашему языку? Именно тогда вы и внушили мне любовь к родному слову. Эта любовь и сейчас у меня в сердце.
Навои слушал, скромно опустив голову. Хусейн Байкара сказал, что намерен дать эту газель для разбора нескольким поэтам и попросить их написать на нее «ответы».
— Предположим, — смеясь, сказал Навои, — что, разобрав газель, сто поэтов возьмутся за перо; тогда возникнет сто газелей. На одном кусте распустится сто бутонов.
Ишик-ага[42] доложил, что прибыли «столпы державы». Хусейн Байкара разрешил им войти. Вошли беки, высшие должностные лица и постоянные собеседники и приближенные государя, разодетые в парчу и китайские шелка. Каждый уселся на свое обычное место.
«Бек беков», Музаффар Барлас, занял самое почетное место, возле государя. Когда Хусейн Байкара, борясь за власть, оспаривал у своих соперников венец и престол, этот бек вместе с юным наследником престола носился по горам и степям и оказал ему большие услуги. Поэтому теперь гордости его не было пределов. Он держал себя так, словно был соправителем государя.
Склонности и чудачества этих людей, считавшихся опорой государства, общеизвестны. Мухаммед Бурундук Барлас, происходивший из древней семьи беков, знающий военачальник, так любит охоту и охотничьих птиц, что если какой-нибудь сокол издыхал, бек оплакивал его по всем правилам и говорил: «Отчего вместо него не умер мой сын!»
Зу-н-нун Аргун, удивительный рубака и богатырь, целыми днями с увлечением играет в шахматы. Ислим Барлас — простодушный смельчак, знаток науки об охоте и соколах. С силой натянув специально изготовленный для него лук, он пробивал стрелой толстую доску. Могол-бек — заядлый игрок; Бедр-ад-дин — такой ловкий прыгун, что перескакивал через семь лошадей, поставленных в ряд. Сейид Бедр славится легкими и изящными движениями. Он удивительно пляшет и сам изобретает новые танцы. Ходжа Абдулла Мерварид сведущ во всех науках… Он прекрасно играет на гиджаке, сочиняет стихи, у него красивый почерк, с необыкновенным вкусом и тонкостью он отбирает стихи для сборников; но при этом он величайший пьяница и развратник.
Любивший торжественность и пышность, Хусейн Байкара гордо оглядел почтительную, чинно сидевшую перед ним пеструю толпу. Он немного поговорил с беками о войске, осведомился у везиров об известиях, пришедших из вилайетов, спросил шейх-уль-ислама,[43] как понимать один вопрос, относящийся к шариату.[44] Законовед заговорил протяжно и внушительно. Султан старался быть внимательным, но чувствовалось, что его разбирает нетерпение. Когда шейх, наконец, закончил, Хусейн Байкара завел речь об охоте и охотничьих птицах. Ислим Барлас тотчас оживился. Наклонив свое огромнее тело к государю и поглаживая могучими руками редкие жесткие усы, он начал рассказывать интересные вещи о привычках и повадках соколов. Мухаммед Бурундук Барлас тоже принял участие в разговоре. Государь слушал то с улыбкой, то с серьезным лицом. Наконец Хусейн Байкара приказал Ислиму Барласу распорядиться о приготовлениях к большой, продолжительной охоте и поручил ему все дела, относящиеся к этому; после чего движением руки закрыл собрание.
Все присутствующие были приглашены к царскому столу и с поклонами поднялись со своих мест. Хусейн Байкара торжественно проследовал в соседнюю комнату.
Глава третья
Темным вечером Маджд-ад-дин вернулся домой. На внутреннем дворе его встретила с обычным, застенчивым поклоном шестнадцатилетняя невольница Бустан. Она сообщила, что из дворца только что приходила рабыня и увела ее хозяйку на прием к главной жене государя Вики Султан-бегим. Хотя Маджд-ад-дин относился к числу ревнивых мужей, эта весть его обрадовала: его имя и положение привлекли к себе высокое внимание дворцовых женщин. Значит, не сегодня-завтра его жена сможет пригласить к себе в дом царицу со всеми ее рабынями и подругами и женщин из знатных гератских семей. Обязательно следует подхлестнуть коня счастья и поскорее перейти из малого дворца, Кичика-мирзы в большой — султана Хусейна.
Маджд-ад-дин вошел в богато убранную комнату и прилег на подушку. Он приказал невольнице снять свечу с полки, и поставить подле него. Не взглянув на принесенное Бустан блюдо ковурдака,[45] он потребовал вина. Бустан наполнила цветную чашу прозрачной влагой и смиренно стала перед хозяином. Но заметив в глазах Маджд-ад-дина огонек вожделения, девушка испуганно метнулась к дверям.
— Останься здесь! Сядь! — сердито приказал Маджд-ад-дин.
— Рабыня в страхе приблизилась и опустилась на корточки, смущенно потупив взор. Два года тому назад, четырнадцати лет отроду, девушка была продана в наложницы Маджд-ад-дину. Бустан, хотя была с малых лет брошена судьбой в жестокие лапы жизни, стремилась сохранить свою чистоту. С первого взгляда на хозяина девушка невзлюбила его. Встречаясь с ним наедине, она несмела взглянуть ему в глаза.
Маджд-ад-дин опорожнил чашу, обтер бороду и усы шелковым платком и пристально посмотрел на девушку. Глядя на ее рубаху из грубой бязи, он подумал: «Если ее одеть в шелк и бархат, она станет во сто крат красивее». Поэтому, хотя минута казалась подходящей для разговора о любви, Маджд-ад-дин все же решил в благоприятный день послать Бустан в баню, одеть в дорогие одежды и лишь после этого заключить в свои объятия. Он протянул руку и махнул платком у самого лица девушки, поддразнивая ее.
— Мой цветок, я скоро найду тебе подруг. Что ты на это скажешь?
Невольница, которую от обращения хозяина бросило в дрожь, ничего не ответила и отвела глаза в сторону.
— Почему ты молчишь? Я приведу несколько красивых девушек, твоих ровесниц. Ты станешь главной над ними. Вы будете ходить разодетые, как девы из сада Ирема.
Страх и беспокойство девушки усилились, и она еще ниже склонила голову. На ее счастье в это время постучали в ворота. Бустан, словно птица, выпорхнула из комнаты и метнулась во двор, второпях надевая кавуши не на ту ногу. Вскоре она вернулась и доложила хозяину, что его кто-то спрашивает. Маджд-ад-дин поднялся и нехотя вышел во двор. Услышав в темноте знакомый голос Абу-з-эия, одного из крупнейших хорасанских богачей, он, хотя и обрадовался, принял еще более надменный вид. Поздоровавшись с гостей Маджд-ад-дин повел его в комнату.
Абу-з-зия сел на шелковый палас и, словно читая про себя фатиху, принялся гладить густую черную бороду, обрамлявшую его тонкое, худое лицо.
— Его величество султан оказывает вашей почтеннной особе большое внимание, — сказал Абу-з-зия, сдвигая свои густые, сходящиеся брови. — Если захочет бог, мы скоро поздравим вас с новой высокой должностью.
— Откуда вы это слышали? — пожал плечами Маджд-ад-дин, делая вид, что ничего не знает.
— Государь на одном из собраний вспомнил о вас. Я слышал об этом от друзей, бывших там.
— Такие слухи доходили и до нас… Государь не отказывает в доверии своим верным рабам, — сказал Маджд-ад-дин и тотчас же начал расспрашивать гостя о его делах. Купец ни словом не обмолвился о своих огромных караванах, которые вереницей тянулись от Индии до Китая, о блестящем положении своих дел и ожидаемых прибылях; он преувеличивал убытки и говорил только о неудачах.
Маджд-ад-дин знаком подозвал Бустан и приказал подать угощение, но гость решительно отказался.
— Мы только что были на пиру, — сказал он, иг-рая драгоценными перстнями, украшавшими его паль-цы. — Мы пришли к вам разрешить один вопрос. Не знаем, как вы на это посмотрите.
— Мы искренне намерены верно служить нашим друзьям, — сказал Маджд-ад-дин, складывая руки на груди.
Абу-з-зия наморщил узкий лоб. Прищурив по привычке один глаз, он пристально посмотрел на свечу. Потом наклонился к Маджд-ад-дину.
— Велика ли нужда казны в серебре и золоте? Маджд-ад-дин усмехнулся.
— Казну государя можно уподобить реке. Но есть и различие. Если вода прибывает, река выходит из берегов. А казна никогда не может насытиться драгоценностями.
— Очень верная мысль, — сказал Абу-з-зия. — В особенности у такого владыки, как государь ислама, — по щедрости своей он подобен Хатаму Тайскому: казна его никогда не будет достаточно полной. Благословенная природа нашего государя, кажется, склонна к пышности. Каждый день он, подобно Джемшиду,[46] устраивает пиршества и угощения, которые бессилен описать язык. Я, ничтожный, имею намерение потрудиться для пользы казны.
— Каким образом? — заинтересовался Маджд-ад-дин.
— Вашему достоинству ясно, что деньги приходят в казну от народа по капле. Ваш покорный слуга намерен всыпать их туда мешками, а потом понемногу собрать с народа.
— Понял, понял, — нетерпеливо сказал Мадж-ад дин. — Налоги, имеющие поступить от народа через соответствующих должностных лиц, на определенных условиях передаются государством вам на откуп. Вы это имеете в виду?
— Да, — ответил Абу-з-зия. — Если вы окажете мне в этом деле содействие, оно разрешится скорее. Можно также действовать через царевича Кичика-мирзу. Вы сами знаете, как лучше это устроить.
Маджд-ад-дин слегка наклонился и, полузакрыв глаза, размышлял. Он знал, как полезно поддерживать связи с торговыми людьми, и был убежден, что ему удастся устроить это дело. Однако он медлил с ответом, делая вид, что разрешает трудный вопрос.
— Вы, разумеется, не пойдете к государю с пустыми руками, — настойчиво продолжал Абу-з-зия. — Я приготовил большие подарки. Вам я тоже рад послужить.
Маджд-ад-дин и тут невыдал своих мыслей. Он заговорил о том, что государь или кто-нибудь из везиров могут, пожалуй, не согласиться.
— В этих делах у меня нет никакого опыта, — сказал Абу-з-зия.
— Поэтому пока будет достаточно одной гератской области. Я знаю, в нынешние времена государю нужно много денег.
— Хорошо, все затруднения я беру на себя, — сказал, лукаво улыбаясь, Маджд-ад-дин. — Но я тоже хочу участвовать в этом добром деле. Пусть и мне достанется маленькая доля.
Совершенно не ожидавший такого предложения Абу-з-зия почесал узкий морщинистый лоб и сказал с деланным смехом:
— Ваше счастье — в должности везира, там, в высоком диване. К чему вам утруждать себя такими делами?
— А что? Разве мало среди везиров и беков людей, занимающихся торговыми делами?
— Хорошо, мы согласны и на это условие, — вынужден был ответить Абу-з-зия.
Маджд-ад-дин обещал, что постарается устроить дело на самых выгодных условиях. Он объяснил, что при этом будет упоминаться только имя Абу-з-зия, а сам Маджд-ад-дин должен остаться в тени.
Абу-з-зия вынул из-за пазухи тяжелый шелковый мешочек и, развязав его, со звоном поставил перед Маджд-ад-дином. Глаза везира засияли от радости.
Поблагодарив богача, он тотчас же сунул мешочек под подушку.
По уходе гостя Маджд-ад-дин высыпал монеты. С удовольствием пересчитав блестевшие на свету золотые, от которых рябило в глазах, он сложил их в сундук. Мечтая, как он поднесет государю подарки этого богача от своего имени и легко исполнит задуманное через своего покровителя Кичика-мирзу, Маджд-ад-дин долго не мог заснуть.
Туганбек каждый день садился на одного из породистых коней своего хозяина и разъезжал по городу. На плечах у него был новый широкий чекмень, на голове — новая шапка, кошелек теперь не бывал пустым. Уже на следующее утро после поступления на службу к Маджд-ад-дину он выкупил свой драгоценный кинжал — подарок отца. Плотно поев, Туганбек направился в питейный дом. Он успел уже подружиться с видавшими виды молодцами, известными в городе пьяницами, борцами, наездниками, стрелками из лука. В первые дни Туганбек редко виделся со своим хозяином, но, познакомившись поближе со своим джигитом, Маджд-ад-дин стал чаще требовать его к себе и подолгу с ним беседовал. Туганбек не был перегружен, делами: за два-три месяца он всего несколько раз съездил в поле проверить, как идут сельские работы в больших поместьях, доставшихся Маджд-ад-дину от отца.
Однажды утром, после завтрака, Туганбек, собираясь выезжать, чистил темно-гнедого быстрого коня… Подошел седобородый раб Нурбобо и сказал, что его зовет хозяин. Туганбек, словно, не слыша, некоторое время ходил вокруг коня, тщательно наводя на него блеск, потом вробурчал: — Не бросай дела посредине, старый шантан! Возьми метлу, подмети как следует!
Выйдя из конюшни и отряхнув одежду, Туганбек вошел в комнату, опустился на колени и устремил на хозяина маленькие лукавые глаза.
— Есть дело, джигит, — весело сказал Маджд-ад-дин.
— Приказывайте!
Маджд-ад-дин рассказал, что сбор налогов в Гератской области поручен Абу-з-зия, что он сам участвует в этом деле. В последнее время он порядком потратился и нуждается в деньгах. Нужно с сегодняшнего дня приступить к взысканию некоторых налогов.
— Прекрасная работа, — сказал Туганбек, наклоняя к хозяину свое грузное тело. — Собирать налоги — не плохое занятие, но объясните мне, как это делается.
Маджд-ад-дин долго и подробно говорил с Туганбеком о различных формах землевладения в Хорасане, о налоговом обложении земель, о том, как и когда собираются те или иные налоги. Теперь пришло время собирать «пахотные» деньги, и Маджд-ад-дин особо остановился на этом налоге. Затем он подсчитал, сколько туманов приходится на его долю и, вынув из тетради лежавшей на полке, лист бумаги с печатью, сказал:
— Вот вам бумага, берегите ее.
Туганбек, не читая, сложил бумагу и сунул в кошель.
— Пожелайте мне счастливого пути, — сказал он и, попрощавшись, вышел во двор.
Сев на коня, которого оседлал Нурбобо, Туганбек отправился в путь. В кишлак он приехал в самую жаркую пору дня. Нахлестывая коня и озираясь по сторож нам, Туганбек остановился перед чьим-то садом. Накоротко привязав к дереву запыленного, покрытого грязной пеной коня, он вошел в прохладную рощицу Под развесистым деревом на берегу журчащего арыка пряла старуха. Туганбек крикнул:
— Здорово, мать!
Старуха из-за жужжания прялки и плеска воды но расслышала его голоса. Туганбек ручкой плетки ткнул ее в костлявое плечо. Женщина вздрогнула и повернула к нему морщинистое худое лицо с глубоко ввалившимися глазами.
— Что тебе нужно, сынок? — спросила она.
— Встань! Принеси айрану,[47] — сурово приказал Туганбек.
Старуха кивнула седой головой, повязанной тряпкой.
— Хорошо, сынок.
Не двигаясь с места, она крикнула: — Дильдор! Эй, Дильдор!
Из-за низкой, полуразвалившейся стены выбежала девушка. При виде Туганбека она вспыхнула, замедлила шаги и остановилась поодаль. Это была девушка шестнадцати-семнадцати лет, высокого роста, с изящной стройной фигурой, чистым, белым лицом, тонкими бровями.
Туганбек внимательно оглядел Дильдор с ног до головы.
«Вот красивейшая из девушек», — подумал он. Ему вспомнился бейт[48] из книги, которую недавно читали на одном собрании в Герате. Среди других прекрасных стихов он понравился ему больше всего:
«Поэт как будто имел в виду именно эту красавицу», — мысленно восхитился девушкой Туганбек.
— Бабушка, вы зачем звали? — спросила Дильдор, не поднимая глаз.
— Принеси беку айрана, дочка.
Дильдор вскинула глаза на Туганбека и тотчас же, не говоря ни слова, пошла назад. Старуха остановила ее.
— Постели там палас, — мягко сказала она, указывая рукой на яблони. — Не хочешь ли передохнуть, молодец?
Туганбек, смотревший вслед девушке, машинально кивнул головой. Дильдор в мгновение ока вынесла старый палас, чистое одеяло и подушку и проворно приготовила место для отдыха. Она принесла айран в окрашенной деревянной чашке и, глядя в землю, подала Туганбеку. Затем она отошла в сторону и принялась что-то толочь в ступке.
Туганбек жадно выпил весь айран до последнее капли, обтер свои жидкие усы и глубоко вздохнул. Бросив шапку и плеть на землю, он опустился на одеяло. Взгляд его не отрывался от девушки. Дильдор, поднимая пест, с силой ударяла им о дно ступки; ее округлая грудь колыхалась под бязевым платьем.
Туганбек бывал в разных странах, вращался среди разных людей и встречал во дворцах беков и ханов немало красавиц, но эта девушка поразила его. Он, всегда мечтал пышно и торжественно отпраздновать свадьбу с дочерью какого-нибудь именитого бека или правителя; глядя же на Дильдор, он думал, что она очень подошла бы для любовных забав.
Старуха убрала прялку и, сильно горбясь, подошла к Туганбеку.
— У какого бека ты служишь, куда едешь, джигит? — с интересом спросила она.
— Я сам себе хозяин, — грубо ответил Туганбек. — У вас в семье есть мужчины? Где они?
Старуха, которая за долгую жизнь повидала немало всяких людей, ответила спокойно:
— У меня всего один сын, отец этой девушки. Он ушел на поле старосты. А наш посев остался без призора. Старосте до этого дела нет, он всегда найдет для человека какую-нибудь работу. У тебя есть к моему сыну дело?
— Мое дело — деньги. Уплатите — и все! Старуха даже оторопела от неожиданности.
— Ты сборщик податей? — спросила она и, будто ослабев, присела на край паласа.
Туганбек кивнул головой.
— Сынок, — сказала старуха с мольбой в голосе, — да возвысит бог твою степень! — Окажи нам милость и снисхождение. Нечем нам платить подати. Все, что у нас было, мы отдали. Мы никак не можем расплатиться с налогами. Сегодня — «птичий» налог, потом «пахотный», завтра — начальнику войска, потом мирабу, потом «подушная»… Считаешь, и конца нет…
Туганбек молчал, обмахивая платком широкую волосатую грудь и шумно сплевывая во все стороны. На конец он мрачно прикрикнул на старуху:
— Не болтай зря! Бог создал женщин, чтобы болтать!
— Кого просить, кому жаловаться? Послушай меня, сынок, — опять просительно начала старуха.
— Много слов — бремя для осла… Ставь котел, положи побольше мяса. Если нет вина, принеси бузы Поторопись! Я здорово проголодался!
— Мы никогда не видим мяса, — ответила старуха. — Благородный джигит, если прикажешь каши или мучной похлебки, подам с радостью.
— А там что, коза? — указал Туганбек на пасущуюся вдали тощую козу.
— Сынок, это соседская, — попыталась урезонить его старуха.
— Что за беда? И чужую можно, — ехидно засмей ялся Туганбек.
Старуха втянула голову в костлявые плечи и молча уставилась в землю тусклыми, полными слез глазами, С дерева сорвалось красное, как сердолик, яблоко и с глухим стуком упало возле Туганбека. Туганбек поднял яблоко, поднес к плоскому, бесформенному носу, понюхал его и со смехом протянул Дильдор:
— Подойди сюда, красавица! Возьми свое счастье у меня из рук. Пусть бог отдаст тебя мне, как это яблоко.
Дильдор, не поднимая глаз, бросила пестик и убежала. Рука Туганбека, державшая яблоко, повисла в воздухе. Он гневно отшвырнул яблоко далеко в сторону. Маленькие косые глаза его злобно вспыхнули, толстые губы под редкими усами задрожали.
Старуха испуганно посмотрела на него.
— Не сердись, бек! Дильдор — девушка стыдливая, да к тому же — невеста. Я сейчас приготовлю что нибудь вкусненькое. Если найдется у соседей, принесу чашку или две бузы, — сказала она и заковыляла по двору.
— Позови, старосту, — буркнул Туганбек. — Сегодня я буду собирать пахотные деньги.
Старуха пошла, оглядываясь и шепча: «Этот палач — отродье самого Джучи.[49] Господи, пошли беду на все служилое племя!»
Она направилась было на выгон, где паслась коза, собираясь укрыть ее от глаз волка, но, побоявшись еще больше разозлить сборщика налогов, отказалась от этой мысли и пошла к дому.
Туганбек глядел сквозь деревья на синее прозрачное небе, то задремывая, то снова просыпаясь. Пыхтя и отдуваясь, прибежал толстобрюхий, круглый, как шар, староста кишлака. Туганбек, предъявив свою бумагу, объяснил, кто он такой и зачем приехал. Староста охотно помогал сборщикам податей, так как сам никогда не платил налогов. Но, зная настроения своих односельчан, он счел небесполезным намекнуть Туганбеку на необходимость быть осторожным.
— Благородный джигит, — сказал он, отирая пот со лба, — крестьяне только недавно разделались с подушней». По «десятинной» за плательщиками, кажется, не осталось никаких долгов. Время «пахотных» еще не пришло. Для каждого налога — своя пора. Ваш недостойный слуга знает все обычаи, правила и порядки, относящиеся к налогам, как свои пять пальцев. Если приедете вовремя, — соберете, не сходя с коня.
— Говори дело, староста! — крикнул Туганбек. — Мы поступаем так, как приказал наш хозяин.
— Теперь дехканин действительно совсем голый, благородный джигит. Пока не снимут урожай, с него ничего нельзя спрашивать.
— Так с кого же нам собирать?! — сердито закричал Туганбек. — Не с тех же земель которые принадлежат тарханам и вакфам.
Староста некоторое время молча обмахивался платком, потом, как будто про себя, сказал:
— Если станут требовать не вовремя, боюсь, не начались бы беспорядки…
— Ты что, пришел нас пугать, староста? — насмешливо воскликнул Туганбек. — Благодарение богу, мы бывали в боях.
— Брат, — возразил староста — я как увидал, вас издали, сразу понял что богатырь и смельчак. Пусть ваше сердце на этот счет успокоится, брат мой! Но наши крестьяне — народ горячий! Они собирались идти в столицу с жалобой на неправильные действия сборщиков. Если вы будете действовать осторожно и рассудительно, то, возможно, избежите недовольства и соберете деньги.
Туганбек, выйдя из терпения, вскочил.
— Ступай! Я сам найду способ собрать деньги, — сердито сказал он. — Я хорошо знаю, в какой яме зарыт ячмень, в какой — пшеница.
Староста тяжело дыша поднялся. Туганбек приказал старухе, которая собирала хворост под деревьями, попасти его лошадь.
Послав старосту вперед, он зашагал за ним следом. Старуха позвала Дильдор.
— Куда девался проклятый могол?[50] — спросила девушка.
Старуха сказала, что он ушел собирать налог с дехкан, и велела пустить его лошадь попастись. Девушка подошла к лошади. Она с завистью поглядела на серебряные цветы, украшавшие сбрую, потом не торопясь выбрала место, где деревья были редки, а трава густа, привязала лошадь и, вернувшись к старухе, принялась ей помогать.
С детства оставшись сиротою, Дильдор выросла под присмотром своей бабки и любила ее, как мать.
— Что вы собираетесь стряпать? — спросила она.
— Хотела изжарить для этого нечестивца яичницу, — ответила старуха.
— Напрасно трудитесь, бабушка, — с досадой сказала Дильдор. — Собака полает и перестанет. Нужен ли ей котел бедняка?
Старуха промолчала. Захватив под мышку вязанку хвороста, она пошла, но вдруг остановилась.
— Ты тут не вертись, дочка, — боязливо сказала она, устремив на Дильдор глубоко запавшие глаза, — Бери козу и ступай подальше с глаз, поняла?
На алых, как черешни, губах Дильдор заиграла улыбка. Она кивнула головой и, обвязав тощую шею козы веревкой, повела её за собой.
Девушка дошла до конца тихой рощицы. Дальше начиналось широкое поле золотившейся на солнце пшеницы. Привязав козу к дереву, Дильдор опустила свои стройные ноги в журчащую воду арыка и тихо сидела, наслаждаясь прохладой. Ей было скучно. На деревьях время от времени раздавалось щебетанье птиц, потом опять наступала глубокая тишина. Вдруг девушка услышала сзади шорох. Быстро подняв голову, она испуганно огляделась. За деревьями стоял Арсланкул. Глаза Дильдор загорелись радостью. Поправив на голове платок, она пригладила пальцами волосы на висках.
Арсланкул был рослый простодушный восемнадцатилетний парень. Уроженец этого кишлака, он с детства пас стада, убирал урожай землевладельцев, пахал землю. Уже три или четыре года он работал батраком на землях одного из хорасанских тарханов. Девушка и юноша любили друг друга. Старуха и отец Дильдор без малейшего колебания согласились принять юношу в качестве зятя, но, следуя пословице «с хорошим делом не опоздаешь», они пока не назначили дня свадьбы.
Арсланкул опустился на траву возле девушки, вытянул свои сильные ноги и обтер катившийся с лица пот. Обмахивая полой халата широкую обнаженную грудь, он со смехом сказал, пристально глядя на Дильдор:
— Хорошо, что вы отвели козу пастись в укромное местечко. Волк от голода становится злым.
— Бабушка встретилась вам? — спросила Дильдор, протягивая Арсланкулу букетик мелких цветов, перевязанный крепкой тоненькой травинкой.
— Я ее встретил. Но и без нее все известно, — ответил Арсланкул.
— Видали того нечестивца? Среди сборщиков налога я не встречала ни одного, в котором было бы хоть зернышко справедливости.
— На весь кишлак орет, — печально ответил кул. — Совсем взбесился!
— Что будем делать, если он потребует с нас налог? У нас денег и на свечку нет, — с тревогой сказала Дильдор.
— Он еще долго будет шататься в наших краях. Если получим отсрочку, как-нибудь вывернемся. Что нам, впервые платить, что ли?
Дильдор облегченно вздохнула. Арсланкул обрадовался, что тревога девушки рассеялась. Он пододвинулся к Дильдор поближе, погладил ее пышные волосы Дильдор, оглянувшись по сторонам, шутливо ударила юношу по руке. Арсланкул положил ее красивую головку к себе на грудь и взволнованно прижался губами к ее просящим поцелуя красным, как коралл губам…
Девушка высвободилась из объятий юноши и по правила волосы. Со смущенным видом она села подальше от любимого. Арсланкул, смеясь, пододвинулся, Дильдор проворно пересела еще дальше и звонко за смеялась. Арсланкул обещал сидеть смирно, и Дильдор снова придвинулась. Юноша заговорил о своих планах. Осенью, после сбора урожая, он получит у хозяина деньги и пойдет в Герат покупать наряды Дильдор и себе. Дильдор стала расспрашивать о Гератском базаре, и Арсланкул, который побывал в огромном городе два раза, долго рассказывал про Кашмирские шали, китайские шелка и другие товары, которыми торгуют в Герате.
Оставив козу пастись, молодые люди направились к дому. Арсланкул шел шагов на пятнадцать-двадцать впереди. Дильдор еще издали увидела Туганбека, который сидел на прежнем месте, и рядом с ним старосту. Поодаль, низко опустив голову, сидело несколько дехкан.
Чтобы не попадаться на глаза Туганбеку, девушка прошла за стеною. Арсланкул подошел к сидевшим и опустился на траву в стороне от других, у арыка.
К деревьям было привязано несколько тощих коров, телят и овец. Юноша понял, что сборщик отобрал у дехкан этих животных в уплату налога. Ярость сдавила горла Арсланкулу.
Дехкане, надеясь смягчить сборщика, принесли из дома разные яства. Туганбек, вместе со старостой углубившийся в составление списка, даже не взглянул на дастархан. Наконец, закончив считать, он отведал угощение и сейчас же поднялся. Коров и телят Туганбек передал старосте, поручив последнему собрать недоимки ко времени его возвращения ив кишлака Фарьян. Он потрепал по шее своего коня, вскочил в седло и умчался, подымая клубы пыли.
Староста, ухватавшись за края халата на груди и выкатив белки глаз, хрипло сказал?
— Молитесь, чтобы аллах свалил этого человека с коня и он сломал бы себе шею!
Люди протягивали вперед руки с крепко сжатыми кулаками и гневно говорили:
— Надо жаловаться государю, надо жаловаться!
Глава четвертая
Большая площадь перед главными воротами сада Баг-и-Заган полна воинов. Со всех сторон кучками съезжаются конные бойцы и дружинники. Брыкаются и ржут лошади, плещут знамена. Сверкают на солнце шлемы и кольчуги. Ослепительно блестят плетки беков с серебряными ручками, серебряные украшения конской сбруи, золото, бирюза и изумруды на ножнах мечей. Среди дружинников попадаются и старики с белоснежными бородами, покрывающими всю грудь, и надменные богатыри, закаленные в боях, которым страшный шум битвы кажется приятной музыкой, и неопытные, безусые юнцы.
Несмотря на торжество, город живет своей обычной, повседневной жизнью. Герат видывал немало таких дней. Только дети бегают, оживленно перекликаясь, среди брыкающихся лошадей; взрослые же, услышав, что государь выступает в поход на Ядгара Мухаммеда, говорят: «Дай ему бог счастливого пути. Страна давно жаждет покоя», — и продолжают заниматься своими делами.
Вот квадратный, надменный Ислим Барлас вешает на плечо специально для него изготовленный лук и, поднимая тучи пыли, пускается в путь во главе передового отряда.
Из ворот сада выезжает, сдерживая коня, Хусейн Байкара.
Сбpyя породистого вороного коня, нетерпеливо грызущего серебряные удила, еще более великолепна, чем одежда самого султана. Хусейн Байкара натянул поводья и гордо красуется в седле. За ним следуют беки, военачальники, члены царствующего дома, приближенные и собеседники султана. Тут же группами едут изящные юноши в бархатных шапках и суконных кафтанах, перетянутых дорогими поясами, — отпрыски знатных хорасанских семей, взятые на службу, чтобы украсить дворец и придать больше блеска и пышности царским собраниям и приемам.
Несколько есаулов носятся взад и вперед, размахивая плетками и молниеносно опуская их на спины и головы зевак. Тех, кто едет на коне или на осле, они заставляют сойти на землю, пеших оттесняют к стенам. Пышный кортеж, сверкая золотом нарядов и серебром конской упряжи, движется по улицам Герата. Торговцы и цеховые старшины, стоя у дверей своих запертых лавок, с достоинством, сложив руки на груди, приветствуют государя.
Жмутся к стенам группы людей в домотканых поношенных халатах. Это ремесленники — ткачи, красильщики, гончары, вышедшие полюбоваться великолепием царского выезда.
Возле медресе Гаухар-Шад-бегим под высоким порталом стоит толпа студентов. Они горячо спорят о том, кто такой Ядгар-мирза, поднявший восстание в окрестностях Астрабада, какая ветвь его родословной восходит к Тимуру. Имена живых и мертвых, знаменитых и безвестных, царствовавших и нецарствовавших царевичей то и дело слетают с их уст. Султанмурад с Зейн-ад-дином весело болтают, обмениваясь шутками, вызывающими у всех взрывы смеха.
Вот мимо проскакал, яростно размахивая плетью, какой-то важный, косой на один глаз есаул. Зейн-ад-дин увидя его, кричит:
— Если бы у осла были рога, как у быка, он никого не подпустил бы к себе близко. Друзья его с минуту молчат, крепко сжав губы; когда же есаул, не поняв насмешки, удаляется, они разражаются хохотом. Султанмурад хлопает товарища по плечу и говорит:
— Если бы не ты, мы совсем разучились бы смеяться в этой унылой жизни.
Приблизился окруженный пышной свитой Хусейн Байкара, и студенты, сложив руки на груди, низко склонились перед ним. Когда они подняли головы, государь был уже далеко. Мимо ворот медресе проезжал Навои. Ответив улыбкой студентам, приветствовавшим его с искренней любовью и почтением, Навои проехал дальше.
Жизнь и движение на улицах вошли в обычную колею. Студенты скрылись в каменном лоне медресе. Султанмурад вернулся в худжру, но читать ему не хотелось. Он вспомнил, что давно хотел повидать знаменитого алхимика Абд-аль-Ахада. Быстро собравшись, он вышел из медресе и направился к Кипчакским воротам.
Султанмурад остановился возле полуразрушенного дома на окраине города, против рощицы карагачей и огромных древних чинар, где находилась могила какого-то святого. Ворота домика — когда-то образец искусной резьбы по дереву — под влиянием медленного, но безжалостного разрушителя — времени — утратили красоту и блеск. Султанмурад постучался сначала негромко. Не услышав в ответ ни звука, он начал стучать сильнее. Кто-то из прохожих с улыбкой сказал, указывая на уши:
— Глухой, как пень! Зайдите во двор.
Султанмурад вошел в ворота. На минуту он остановился посреди большого двора, поросшего сорной травой и как будто заброшенного. Во дворе царила глубокая тишина. Оглянувшись по сторонам, Султанмурад направился к старому высокому, точно крепость, дому с торчавшей на крыше трубой, из которой шел дым. В это время в доме открылась маленькая дверка, не соответствовавшая величественному виду здания, и из нее вышел человек с кувшином в руке. Это и был алхимик Абд-аль-Ахад. На его большой круглой голове возвышалась грязная чалма, на плечи был накинут старый, во многих местах прожженный, испещренный всевозможными пятнами халат. Глаза старика были красны, суровое лицо, казалось, обожжено огнем, седина когда-то красивой бороды приобрела грязно-желтый оттенок.
Добрую половину своей пятидесятилетней жизни этот человек посвятил уединенным занятиям алхимией. Раскаливая, расплавляя, смешивая и разделяя различные вещества, он с удивительным терпением, настойчивостью и усердием изучал их глубокие тайны. Увидев незнакомого юношу, алхимик застыл на месте, словно настигнутый неожиданным бедствием; на суровом лице его отразилось сильнейшее неудовольствие. Султанмурад почувствовал себя неловко. Однако, зная странности ученых, отрешившихся от мира, он смело подошел к старику. Скрестив руки на груди, юноша поклонился. Алхимик окинул его с ног до головы испытующим взглядом и выразил свои чувства глубоким вздохом.
— С какой целью ступили вы на порог бедняка? — спокойным, но недовольным тоном спросил алхимик.
Чтобы снискать расположение упрямого мудреца, Султанмурад пустил в ход все свое красноречие. Начав с многочисленных восхвалений его достоинств, юноша затем представился ученому и заговорил о цели своего прихода.
Я боюсь дружить с теми, кто мешает моим занятиям, — резко сказал ученый.
— Господин, — почтительно произнес Султанмурад, — я принадлежу к тем людям, для которых терпеть лишения ради науки — величайшее счастье. Вы, господин, — Джафар[51] нашего времени. Каждое ваше слово для нас, нищих науки, дороже серебра и золота. Господь одарил вас несметным сокровищем, и я, ваш ничтожный ученик, надеюсь на вашу щедрость.
Абд-аль-Ахад нахмурил поредевшие от ожогов брови и удалился, не сказав ни слова. Султанмурад с отчаянием посмотрел вслед упрямому алхимику. Ученый вылил из кувшина в яму, вырытую посреди двора, какую-то чёрную зловонную жидкость и, глядя в землю, медленно подошел к юноше:
— Твои намерения чисты? Любовь твоя к алхимии и вера в истину тверды?
— Где найти слова, чтобы выразить это! — воскликнул Султанмурад.
— Ступай за мной.
Обрадованный Султанмурад вошел вслед за ученым в дом.
Лаборатория представляла собой огромное помещение без окон, со столбом посредине, вроде ханаки при мечети. На закопченном потолке в двух местах были проделаны большие отверстия, затянутые прозрачной бумагой, так что в комнате было не очень темно. В нишах, на полу стояли разной величины и формы глиняные кувшины, медные и железные сосуды, необыкновенного вида бутыли, большие и маленькие ступки, лежали куски железа. Высокие и низкие очаги, выстроившиеся в ряд в возвышенной части лаборатории совсем не походили на обычные печи. В некоторых из них ярко пылал огонь. В сосуде, похожем на котелок, дымилось что-то пахучее.
Султанмураду казалось, что его окружает какое-то колдовство. Как ни сильно было его желание скорее постигнуть тайны алхимии, как ни любил он таинственные опыты, юноша не осмелился дотронуться до какого-нибудь сосуда. Сам же Абд-аль-Ахад как будто со всем забыл о Султанмураде. Не произнося ни звука, старик усердно занимался своим делом: следил за огнем, доставал из печей пахучие вещества, кипевшие в сосудах, иногда смешивал их. Порой он отходил в глубину комнаты, потом снова возвращался и принимался что-то толочь в ступке.
Проведя часа два в молчании, Абд-аль-Ахад подошел к юноше, который, забившись в угол, следил каждым движением ученого. Улыбаясь на этот раз без иронии, старик посмотрел на Султанмурада.
— Наука алхимия, — полушепотом заговорил он, — наука о сокровенном, наука о тайнах невидимого и взоры непосвященного могут помешать раскрытию ее загадок.
— Уважаемый наставник — умоляюще схавал Султанмурад, — можете ни капли не сомневаться в чистоте намерений вашего слуги. Ваш ничтожный раб желает одного — знания. Ничто кроме этого, не бросает тени на зеркало его души. В нашей жизни три основные вещи не могут существовать без других трех вещей: товар без торговли, государство без твердой власти, наука без обмена мнений. Господин, при обмене мнений от столкновения мыслей вспыхивает огонь истины!
Алхимик как будто немного смягчился. Побеседовав с Султанмурадом, он не мог скрыть, что изумлен остротой ума и обширными познаниями юноши. Видимо сочтя неудобным отказать столь достойному человеку в просьбе, ученый принялся раскрывать перед Султанмурадом тайны своей науки. Изложив теорию древнегреческих и арабских мудрецов о строении мира и знаменитых «четырех элементах», Абд-аль-Ахад повел речь о том, что в основе этих элементов лежит нечто единое, некая субстанция, входящая в состав всех тел; что существует семь веществ, соответствующих семи планетам; золото соответствует солнцу, серебро — луне, медь — Венере и так далее. Но чем больше говорил алхимик, тем плотнее опускалась завеса тайны. Он делил металлы на две группы. Первую группу он называл «больными», страдающими пороками веществами. Со страстным волнением говорил он о том, что недостатки этих металлов можно устранить химическим путем и при помощи вещества, которое он назвал «эликсиром», возвести в высшую степень: ртуть превратить в серебро, медь — в золото. Напряженно слушая, Султанмурад устал до изнеможения. Наконец, когда из одного очага потянуло резким удушливым запахом, алхимик быстро поднялся и, подбежав к очагу, начал возиться с какими-то веществами.
Вечером Абд-аль-Ахад вскипятил в кувшине воду и разостлал дастархан. В той же комнате, где производились бесчисленные опыты, при мерцающем пламени свечи они ели хлеб с урюковыми косточками, рассуждая то о химии, то о стихосложении.
Со следующего дня молодой ученый со страстным воодушевлением отдался алхимии. Работая с различными веществами, юноша то и дело обжигал себе руки, прожигал одежду. Часами рассуждали они с Абд-аль-Ахадом о превращении веществ, иногда спорили. Принимаясь с рассветом за работу, Султанмурад не замечал заката солнца. Так он занимался пятнадцать дней подряд.
Тепло, точно ласковый сын, простился он с ученым и вышел за ворота его дома. Время было за полдень. Подходя к центру города, Султанмурад заметил в поведении встречных служилых людей и нукеров, в глазах прохожих, в суетливой беготне детей что-то необычное. Остановив красильщика, который быстро шел мимо, решительно размахивая окрашенными в синий цвет руками, Султанмурад начал было его расспрашивать Красильщик нетерпеливо ответил:
— Мулла,[52] у народа много бед. О какой тебе рассказать? — и почти бегом устремился дальше. Султанмурад быстро пошел следом за красильщиком. Перед зданием дивана на площади собралась огромная толпа. Больше всего там было городских ремесленников всевозможных профессий и оборванных дехкан из окрестных кишлаков. Люди были без оружия, но гнев, горевший в их глазах, сосредоточенное, суровое выражение лиц говорили, что это — страшная сила, вот-вот готовая взорваться.
Нукеры, охранявшие диван, были бледны и напуганы. Воровато оглядываясь, они жались по сторонам.
Султанмурад, как осторожный человек, который сначала нащупывает мели в страшном потоке, а потом устремляется в глубокие воды, стал прислушиваться к разговорам. Люди жаловались друг другу на несправедливость сборщиков податей, на тяжесть налогов; во весь голос ругали чиновников.
— Пусть они выйдут к нам, эти жирные собаки жрущие наш хлеб, наше мясо! — кричали сотни голосов.
Робкий на вид седобородый старик с плачем сетовал Султанмураду:
— Султан — мусульманин, везиры — мусульмане. Но даже иноверец не станет так притеснять свой народ. В стране исчезли справедливость и правосудие. Нас разоряют налогами, а пожаловаться некому.
Какой-то оборванный дехканин с перекошенным от злобы лицом прокричал над ухом Султанмурада:
— Не уйдем отсюда, пока не выдадут Туганбека!
— Какого Туганбека, брат? — спросил Султанмурад, трогая его за плечо
— Еще новая собака объявилась — Туганбек, знаем мы eгo, — отмахнулся дехканин и исчез в человеческом норе.
Султанмурад долго толкался среди возбужденных людей. Из отрывочных фраз, полных ярости и горя, он понял основную причину возмущения.
После того, как государь и многие везиры покинули Герат, Ходжа Абдулла, Ходжа Кутб-ад-дин, Низам-ад-дин Бахтияр и другие ведавшие налогами чиновники самовольно ввели новую подать. Пользуясь бесконтрольностью, они старались как можно скорее собрать деньги, но не в казну, а в свои карманы. Они применяли самые гнусные средства, всячески притесняли и обижали население, попирали его права. Султанмурад, посвятивший свою жизнь служению науке, обычно держался вдали от народа. Все мысли молодого ученого витали в небесах научных теорий, среди толстых книг, в области ученых словопрений. Что такое народ, чем он живет, о чем думает, чем болеет, — подобные вопросы не приходили Султанмураду в голову. Он считал народ скопищем людей, чуждых науке. Убежденный, что человек может стать совершенным только через науку, Султанмурад полагал, что бедствия народные, не видеть которых он не мог, являются только результатом невежества. Теперь же, став свидетелем бури народного гнева, он понял всю вздорность своих взглядов и идей. Ведь высшие чиновники, вроде Ходжи Абдуллы и Ходжи Кутб-ад-дина, тоже пользовались плодами науки; между тем они ради удовлетворения своей жадности и корыстолюбивых стремлений подвергали население непереносимым насилиям и обидам. Значит, дело не в одних знаниях! Чтобы управлять народом, чтобы сделать его жизнь сносной, нужно, кроме знаний, еще много других качеств.
Внезапно толпа двинулась, словно море, разбушевавшееся от сильного ветра. Султанмурад хотел было отойти в сторону, но людской поток увлек его за собой. У ворот дивана произошла свалка. Толпа с криками устремилась внутрь и разлилась по широкому, обсаженному деревьями двору В окна налогового управления со свистом полетели сотни камней… Ходжа Абдулла выскочил из окна, побежал к деревьям. Ему вслед засвистели камни. Вот он на мгновение остановился и схватился за голову, — белая чалма окрасилась кровью. Люди разразились радостными воплями; раненый сановник укрылся за деревьями. Люди принялись искать Ходжу Низам-ад-дина, осыпая его проклятиями, но выяснилось, что Низам-ад-дин, как только начались беспорядки, успел ускользнуть.
К предзакатной молитве ярость народа начала понемногу остывать и часть собравшихся разошлась. Остальные толпой двинулись к дому какого-то другого чиновника.
Султанмурад, устав от давки, криков и волнения, побрел домой. Совершив по дороге предзакатную молитву, он после наступления темноты вернулся в медресе. Горя желанием поделиться впечатлениями, юноша зашел в комнату Зейн-ад-дина, но не нашел там своего друга и отправился к Ала-ад-дину Мешхеди. Поэт при тусклом свете свечи, величиной с палец, сидел, как всегда, на пестром ковре и что-то рассказывал Туганбеку, торчавшему в углу, точно пень. В очаге ярко пылал огонь, в котле варилось мясо, возле Туганбека стояла несколько бутылок с вином. Поздоровавшись, Султанмурад взволнованно спросил:
— Слышали?
— О чем? — осведомился Ала-ад-дин.
— Происходят необычайные вещи. Народ требует справедливости, его голос потрясает Герат, — возбужденно сказал Султанмурад.
— Слышали, — ответил Ала-ад-дин, с жадность поглядывая на котел. — Это не народ, это ревущие дикие звери.
Султанмурад понял, что с этим жалким существом спорить бесполезно; он язвительно обратился к Туганбеку:
— Вы занимаете какую-то должность, — сказал он, насмешливо улыбаясь, — но скрываете от нас? В чем заключается ваша работа. Слава богу, теперь мы это знаем. Мой вам совет — сегодня же ночью уезжайте куда-нибудь подальше.
— Что же плохого я сделал людям? — спокойно спросил Туганбек.
Люди разбили голову Ходже-Абдулле Хатыбу, — сказал Султанмурад, — В ваше имя метали камни проклятий.
Туганбек не изменился в лице, но прикусил язык, Ала-ад-дин недовольно прищурился:
— Туганбек — сам гора, а за ним стоит целый горный хребет, — сердито выкрикнул он.
— Верно, но против бури народного гнева не устоит никакая гора, — ответил Султанмурад и вышел из комнаты.
Глава пятая
Войска Хусейна Байкары стояли лагерем между Хабушаном и Исфараином. Здесь собирал силы Мирза Ядгар в надежде захватить власть в Хорасане.
Ядгар Мухаммед, молодой отпрыск рода Тимура, не походил на других тимуридов — этих воинственных царевичей, которые, едва став на ноги, овладевали военным искусством, не отрастив еще усов, носились на конях во главе тысяч молодцов и, закалившись в борьбе за власть, находили наслаждение в тяготах походов и шуме битв.
Мирза Ядгар вырос в холе и неге. Он отдавался наслаждениям жизни, безмятежно плавая в море вина, любви и музыки. Его не терзало стремление к власти. Оно, правда, таилось в его сердце, но лишь как отдаленная сладостная мечта. Воля царевича была в руках его беков и видавших виды воспитателей, которые стремились возбудить в нежном, мечтательном сердце юноши страсть к кровавым битвам, к славе и могуществу. Опытная в государственных делах, тетка царевича Пайянде-Султан-бегим, тоже подстрекала его к борьбе за хорасанский престол. К тому же он получил значительную подмогу от туркменского султана Хасанбека. Тщеславный царевич пошел походом против правителя Джур-джана и без особого труда одержал победу. Захватив Джурджан, он возымел надежду овладеть столицей Хорасана и возложить на себя венец.
Хусейн Байкара готовился к решительной битве. Чтобы обезопасить себя от неожиданного нападения врага, он, хотя и не окружил своего лагеря рвом, все же со всех сторон надежно оградил его усиленными караулами. Почти каждый день недалеко от лагеря показывались наездники Ядгара. В течение часа они метали стрелы по направлению лагеря, затем исчезали так же неожиданно, как и появлялись. Иногда передовые отряды воюющих сталкивались, громко крича, стреляли друг в друга или схватывались врукопашную. После этих коротких, но жестоких стычек противники, — потеряв несколько человек и пролив немало горячей крови, возвращались в лагерь…
Навои, живший одиноко в скромной палатке, был печален и озабочен. Почти каждый день ему приходилось видеть десятки отрубленных голов. Кто сложил головы во имя интересов людей, сеющих смуту в государстве, еще не окрепшем от «прежних междоусобных войн? Ради чего народ, единый по крови, плоти и образу жизни, происхождению, языку и всему своему прошлому, разделившись на два враждебных стана, истребляет друг друга?
Поэт окидывал умственным взором историю своего народа. Перед его глазами тянулась нескончаемая вереница страшных картин. Едва закрылись навеки глаза Тимура, не успели еще предать земле тело завоевателя, как меж его сыновьями начались раздоры. Единственным последствием, единственным результатом борьбы за власть было распыление государства, бессмысленное истребление людей. Навои пылал гневом: Мирза Ядгар занес топор над единственной ветвью постепенно хиреющего дерева, по-видимому еще способной жить и расти.
Когда в Герат пришли вести о восстании Мирзы Ядгара, Навои убеждал Хусейна Байкару немедленно выступить в поход. Навои желал укрепления власти Султана Хусейна в Хорасане, конечно, не только из-за дружбы, связывавшей их с детских лет. В султане Хусейне он видел талантливого поэта и покровителя наук. Хусейн Байкара хорошо знал военное дело, Прекрасно сражаясь на поле битвы, он не раз показывал в бою богатырскую отвагу и мужество. Навои, который жаждал видеть в стране справедливую власть, справедливого государя, ожидал от Хусейна Байкары очень многого.
Поэт, казалось спокойно живший в своем скромном шатре, на самом деле прилежно трудился над укреплением войска: собирал сведения о силах врага, о намерениях Мирзы Ядгара.
Наконец, наступили решающие дни. Хусейн Байкара созвал совет.
В просторном шелковом шатре, освещенном свечами в золотых подсвечниках, государь беседовал о правилах войны с Навои и несколькими опытными в военных дедах беками. Эти правила войны, сложившиеся в непрестанных битвах времен Чингисхана, когда буря огня и море крови затопили материки и царства, уточнились в кровавых походах Тимура как плод его военного опыта. Беки высказывали свои соображения о том, как повести наступление, кого назначить начальниками отдельных отрядов. Более внимательный и сосредоточенный, чем обычно, Хусейн Байкара утверждал намеченные мероприятия.
— Теперь следует обратиться к книге неба. Не так ли? — И государь обвел взглядом присутствующих.
Широкоплечий, неуклюжий Ислим Барлас утвердительно кивнул головой. Подняв суровые глаза к потолку шелкового шатра, покрытому позументом с бахромой, он раздумчиво произнес:
— Конечно… Что скажут звезды.
Государь внимательно посмотрел на своего везира.
— Позовем сюда звездочета. Может быть, он объявит, что взошла благоприятная звезда для похода, — сказал султан.
— А что сделает ваше величество, если звездочёт скажет противоположное? — с улыбкой спросил Навои.
— Нам останется только ожидать благоприятного часа, — не колеблясь, ответил Хусейн Байкара. — В день, когда взойдет наша звезда, мы сядем на коней.
Беки, переводя взоры с Навои на государя, хранили молчание.
— Великий государь, — осторожно сказал Навои, — по нашему мнению, во всяком деле следует руководствоваться указаниями разума. Все подготовлено для нашей победы, и нет нужды советоваться со звездами. Вы знаете, я не военный человек, но я долго изучал положение обеих сторон и сложившуюся обстановку и считаю, что настал благоприятный момент. Утром, когда поднимется, знамя солнца, нам следует поднять наше победное знамя.
— Но всем нам известно, — серьезно и убежденно возразил Хусейн Байкара, — что, если час битвы не назначен свыше, победа отвращает свое лицо. Поэтому военачальники считают обязательным накануне битвы советоваться со звездочетами.
— История показывает, — сказал Навои, — что многие походы, предпринятые в согласии с предсказаниями звездочетов, закончились трагически. В соображениях звездочетов больше фантазии, чем здравого смысла. Повторяю еще раз: с рассветом надо напасть на врага.
Немногословный простодушный Зун-н-нун Аргун-бек молча расчесывал толстыми пальцами густую бороду. Ему, по-видимому, надоели споры. Выпрямившись, он глубоко вздохнул и, как всегда, резко и повелительно заговорил:
— В словах господина везира много смысла. Мы неоднократно убеждались, что в языке звезд нет постоянства. Часто предсказания радости оборачиваются плачем.
Другие беки, вынужденные согласиться с соображениями Навои, всячески ободряли колебавшегося государя.
— С помощью всевышнего надо сегодня же разбить врага, — говорили они.
Хусейн Байкара, наконец, решился.
Совещание закончилось. Слуги помогли Хусейну Байкаре надеть кольчугу и шлем, подвязали к его поясу меч в золотых ножнах, украшенных драгоценными камнями, подвесили колчан и лук. Государь твердыми шагами вышел из шатра. До рассвета оставалось недолго. Вдали над дремлющими горами, окутанными синим туманом, мерцали редкие звезды. Прохладный степной ветер слегка шевелил полы шатров. Воины просыпались. В полутьме заметны были спешные приготовления к большому бою.
Падишаху подвели резвого коня в украшенной золотом и драгоценными камнями сбруе.
Приближенные, поддерживая султана под руки, помогли ему сесть в седло. Окруженный беками, Хусейн Байкара объезжал войска. Начальниками правого крыла были назначены Валибек, Мирза-и-Кичик и Ислим Барлас, во главе левого — встал эмир Бадр-ад-дин. В середину поставили самых опытных и мужественных воинов; командование ими было поручено шейху Тимуру и Зун-н-нун Аргун-беку.
С восходом сольца отряды, выстроенные в боевом порядке, медленно двинулись навстречу врагу. Мечи, кольчуги, пики, секиры сверкали в золотистом воздухе. Кони нетерпеливо мотали головами и ржали, порываясь вперед. Лица нукеров и беков были суровы.
Хусейн Байкара ехал в центре войска, «подобный душе в теле человека», как выразился знаменитый историк того времени. Верные военачальники и джигиты окружали его.
Стрелой подлетели дозорные и сообщили, что Мирза Ядгар спешно перестраивает свои войска, видимо готовясь оказать сопротивление. Хусейн Байкара приказал начать наступление. Карнаи, сурнаи, барабаны огласили воздух.
Когда вдали показалось вражеское войско, Ислим Барлас и Валибек с громкими криками пустили коней на левый фланг Мирзы Ядгара. Шейх Тимур и Зун-н-нун Аргун-бек, руководившие центральным отрядом, вскачь помчались по дороге. Эмир Бадр-ад-дин смело повел войска против правого крыла противника. Отряды Мирзы Ядгара, которыми командовал Эмир Ахмед Али Барлас, пытались отразить наступление джигитов Валибека и Ислима Барласа: стрелы сыпались непрерывно. Но искусный в рубке Валибек и сражавшийся, как лев, Ислим Барлас стали теснить противника. Крики станов вились все громче. Эмир Ахмед-Али Барлас всячески ободрял своих воинов, но они стояли, сбившись в кучу, и не решались двинуться вперед. Десятки всадников в передних рядах были убиты, их кони пали, смятение и беспорядок усилились.
На правом фланге войск Мирзы Ядгара пыль стояла столбом, там шел горячий бой. Эмир Бадр-ад-дин, легкий, как синица, и цепкий, как ястреб, постепенно теснил неприятеля.
Неожиданно туркменские всадники из войска Мирзы Ядгара бросились к самому центру, где находился Хусейн Байкара. Их осыпали градом стрел. Но тысячи свистящих стрел не остановили богатырей. Туркмены, размахивая мечами и непрерывно пуская стрелы, нападали на передние ряды неприятеля. Группа туркмен прорвалась к султану Хусейну. Богатыри, окружавшие государя, действуя мечами и пиками, оказывали врагам сопротивление. Люди падали, мечи ломались, кони без всадников, со съехавшими набок седлами и болтающимися поводьями мчались в разные стороны.
Хусейн Байкара тревожно глядел по сторонам. Пыль мешала ему следить за ходом сражения. Наконец, не выдержав, он выхватил меч и бросился на врага во главе своих личных телохранителей. Его огромный конь ворвался в самую сечу.
Хусейн Байкара умел драться. Борясь за власть, он годами вел непрерывные войны и довел до совершенства свое искусство боя на мечах. Одетый в кольчугу с головы до ног, он превосходно рубился мечом. Его богатыри, не замечая павших, храбро сражались подле государя. Им удалось оттеснить врага. Но исход битвы решился не здесь. Правое и левое крыло войск Мирзы Ядгара бы ли разбиты и беспорядочно отступали. Это подорвало боевой дух туркмен. Теперь они уже не рвались в бой. Джигиты Байкары, опьяненные победой, с громкими криками бросились вслед побежавшему врагу. Облака удушливой, слепящей глаза пыли поднялись в воздухе.
Воины Хусейна Байкары, прогнав рассеянные отряды Мирзы Ядгара на расстояние нескольких фарсахов,[53] к ночи вернулись с добычей и пленными. Часть пленных, преимущественно военачальники, были тут же убиты! И тотчас же карнаи и сурнаи огласили небо звуками победного гимна.
Поэт вошел в роскошный шелковый шатер, который окружала стража. При первом взгляде на Хусейна Байкару, сидевшего на вышитой золотом подушке, Навои заметил, что султан чем-то обеспокоен. Отвесив официальный поклон, он по знаку султана, сел с ним рядом.
Верных беков и везиров в шатре не было. Поэт Хасан Али Джалаир сидел неподалеку от султана, положив на колени книгу в красивом переплете. Маджд-ад-дин Мухаммед, стремившийся под любым предлогом проникнуть к султану, восседал поодаль. Несколько собеседников, обязанных постоянно находиться при султане и развлекать его шутками и анекдотами, старались не встречаться с гневным взором Хусейна.
Хусейн Байкара не долго радовался победе над Мирзой Ядгаром. Последнее время в лагерь султана начали приходить все белее и более неприятные вести Мирза Ядгар снова собрал большое войско, эмир Хасанбек привел ему на помощь несколько тысяч нукеров Султан Махмуд стоит с войском на берегу Аму, собираясь напасть на Хорасан. Многие беки и джигиты, сговорившись с Мирзой Ядгаром, тайком ушли из лагеря Хусейна Байкары.
Навои осведомился о здоровье султана. Хусейн Байкара сообщил, что из Герата прибыл гонец и привез тяжелые вести. Он вынул из-под подушки письмо и протянул его Навои. Поэт внимательно перечел письмо, потом положил его подле себя на атласный ковер и поднял глаза на султана. В его взгляде не чувствовалось страха, растерянности или удивления: глаза его сохраняли обычную уверенность и задумчивость. Не в силах скрыть волнения, султан с горечью заговорил:
— Что нам предпринять, чтобы подавить взбунтовавшуюся кучку бродяг в столице? Мнение наших эмиров на этот счет нам известно. Может быть, услышим от вас какой-нибудь хороший совет.
Навои, с присущей ему величавой изысканностью и мягкостью, ответил:
— Великий Государь, судьба и жизнь Хорасана ваших руках. Какие мысли рождаются в вашем благословенном сердце в связи с этим печальным событием?
— Мы захватили венец и власть мечом, — после минутного молчания резко ответил Хусейн Байкара. — Тем же мечом мы и должны действовать, чтобы ее укрепить.
Ответ государя не смутил поэта. Потомок хромого миродержца, покорившего полмира, умел хорошо владеть мечом и любил похваляться этим, но больше, чем меч, он любил вино, больше, чем поле битвы, — веселые пиры. Поэт верил, что султана Хусейна можно направить добрым советом на верный путь, хотя ничтожная причина иногда могла раздуть его гнев, как ветер — огонь. Навои неторопливо заговорил:
— Хакан, вам надлежит быть искусным врачом и уметь исцелять раненое сердце. По мнению вашего покорного слуги, меч здесь не нужен.
Хусейн Байкара не ответил. Собеседники сидели, опустив головы, словно чем-то придавленные. Тягостное молчание нарушил Маджд-ад-дин Мухаммед.
— Поистине, — сказал он, надменно взглянув на Навои, — план его величества государя мира — плод здравого ума. Чтобы воспитывать грубый народ, нужен меч или, по крайней мере, палка. Народ не достоин снисхождения и милости.
— Народ требует истины и справедливости? — ответил Навои, стараясь сдержать свой гнев. — Не следует разбивать камнем уста, изрекающие истину, — нужно отрубить руки, стремящиеся поколебать устои правды. Право султана собирать налоги, но они не должны быть источником обогащения нескольких гнусных людей. Налоги следует взыскивать по определенным законам и установлениям, необходимо приспособить их к имущественному положению населения. Повторяю, ярость народа обоснованна. Наш, долг внять его голосу, терпеливо выслушать его жалобу.
— Дело зашло слишком, далеко, — резко возразил Хусейн Байкара — Когда людей, состоящих у нас на службе, забрасывают камнями, — это оскорбление венца. Пусть подают прошения и жалобы. Неужели: нужно поднимать бунт в столице?
— По нашему мнению, это вовсе не так, — возразил Навои. — Венец власти подобен солнцу в небе. Имеет ли отношение к власти камень, брошенный в голову какого-нибудь ненасытного дракона, вроде Ходжи Абдуллы Хатыба? Если люди берут в руки камень, значит, у них на сердце горе. Необходимо узнать, в чем это горе, и смыть его водой справедливости.
Хусейн Байкара промолчал. Он колебался. Подняв на поэта узкие, бегающие глаза, он печально сказал:
— Неблагодарных людей, вроде Ходжи Абдуллы, мы намерены наказать, можете нисколько в этом не сомневаться. Но бунтовщики, которые нарушили спокойствие в столице, тоже не должны остаться безнаказанными. Если, хотя бы для устрашения, мы не подвергнем их какой-либо каре, они, чего доброго, и в будущем осмелятся поднять бунт.
Навои обрадовался. Чтобы окончательно сломить упрямство султана, он сказал:
— Государь, если жизнь и достояние людей отданы на растерзание волкам и если люди стонут в лапах этих кровожадных тварей, то не прислушаться к их стонам — несправедливо. Тут нужны не угрозы и устрашения, а мягкость. В отношениях с народом следует опираться не на меч, а на справедливость, необходимо избавить народ от насилия и притеснения. Народ — это широкое море: если оно выйдет из берегов, то не пощадит ни царского дворца, ни хижины бедняка. Это огонь: от одной его искры сгорит и трава, и самое небо. Надо действовать добром. Если страна и народ счастливы, — власть в безопасности.
Султан колебался. Он не решался поступить вопреки мнению беков и советников; с другой стороны, плохо сложившаяся военная обстановка диктовала необходимость быстрейшего подавления мятежа в сердце государства — Герате. Хусейн Байкара, наконец, решился:
— Мы принимаем ваши соображения. Поручаем вам исполнить это тонкое дело. По воле аллаха, такой опытный и находчивый человек, как вы, скоро восстановит тишину и спокойствие в нашей столице. Разрешаем вам немедленно начать приготовления к путешествию.
Навои, как всегда, не возражая, принял поручение, которое считал полезным для народа и страны. Поклонившись в знак согласия, он спросил:
— Какой подарок привезет сей бедняк многострадальным жителям столицы? Каким лекарством вылечит ее обитателей?
— Всему миру известно, что я государь, а не лекарь, — пошутил Хусейн Байкара.
Навои любил веселую остроумную речь. Он мог бы красноречиво ответить султану, но на сей раз только улыбнулся и продолжал серьезным голосом:
— Когда ваш слуга прибудет в столицу, он должен порадовать горожан. Я хотел бы, чтобы вы почтили меня высочайшим указом.
— Каково бы могло быть его содержание? — спросил государь.
— Таково, чтобы каждое слово указа, как солнце, давало сердцу жизнь, — ответил Навои. — Каждая буква этого указа да будет морем справедливости! В нем могли бы заключаться обещания, что на головы жестоких, лицемерных чиновников, расхитителей народного добра, обрушится град камней.
Хусейн Байкара, не отвечая, лукаво улыбнулся. Потом он заговорил о других делах, которые следовало исполнить в Герате.
Когда поэт поднялся, собираясь уходить, султан сказал:
— Готовьтесь в дорогу. Мы скоро составим и вручим вам указ.
Навои медленно направился к своему шатру. Всем существом своим он был уже в Герате. В голове его теснились всевозможные мысли и планы.
Слуга принес кушанье из общего котла. Поев немного мяса, поэт отставил блюдо в сторону. Вместо шербета он потребовал чашку холодного айрана. Потом собрал шахматные фигуры, разбросанные на ковре. Ему очень хотелось пригласить кого-нибудь из шахматистов, живших в соседних шатрах, но он боялся увлечься игрой. Подобрав шуршащие листки белой и цветной бумаги, лежавшие на низеньком, заваленном книгами столике, поэт сложил их в небольшую разрисованную шкатулку из слоновой кости. Это были газели, муамма и туюги,[54] сочиненные в походе, — но еще не переписанные набело.
Сборы в дорогу были окончены. Пробежав глазами присланный султаном указ, поэт остался доволен. Он свернул бумагу в трубочку, запечатал ее сверху и спрятал в складки тюрбана. Слуги подвели к палатке стройного иноходца. Спутники поэта тоже были готовы. Среди них находился его верный нукер, Баба-Али, крепко сложенный, умный, обходительный юноша; Навои сел в седло, покрытое бархатным ковриком, и конь тронулся, легко помахивая головой. За ним двинулись Баба-Али и еще несколько дворцовых слуг и чиновников.
Поэт любил ездить верхом, любуясь тихими полями. Иногда в пути он даже сочинял газели.
Вдали, в нежной синей дымке тумана, виднелись спокойные горы; в воздухе тусклыми тенями высились деревья. Ветер быстро бежал по песку; прозрачные потоки журчали среди скал. Все это волновало поэта, во всем он видел прекрасное, гармоничное проявление единой великой силы.
Навои внимательно оглядывал посевы и сады. С радостью смотрел он на стада коз, которые прыгали, дощипывая траву, по головокружительным скалам и горным вершинам. Любовался шатрами кочевников, подмечая особенности простой степной жизни, беседовал со своими спутниками об их языке, быте и обычаях.
На огромной скале, горделиво вздымавшейся на берегу реки, Навои заметил следы каких-то рисунков. Остановив коня, он осмотрел скалу сверху донизу и убедился, что почти стертый дыханием времени рисунок изображает вооруженного всадника. Навои подозвал спутников. Он высказал предположение, что этот рисунок сохранился со времени искандера Зу-ль-Карнайна и заговорил о значении исторических памятников. В Навои поднялась буря мыслей о вечном течении времени, о краткости земной жизни, вспыхивающей на мгновение, как молния угасающей в вечности, о смысле и тайне бытия. Поэт печально отвел глаза от скалы и долго молчал, отдаваясь своим мыслям. Только когда путники остановились в одном из рабатов[55] покормить коней и немного отдохнуть, поэт снова оживился. Сев в кружок со своими спутниками, он начал говорить о необходимости улучшения дорог и возведения новых рабатов. После ужина Навои прочитал несколько своих и чужих муамма, предлагая разгадать скрытые в них имена. Его спутники рассказывали забавные истории.
Не успел Навои приехать в Герат, как по городу молнией разнеслась весть, что поэт привез особый указ. Все горели желанием поскорее его услышать. В Герате внешне царило обычное спокойствие. Все, как будто, занимались своими делами, но гнев народа не остыл… Мятеж каждую минуту готов был вспыхнуть снова, еще более грозный, чем прежде.
Поэт направился в диван. Подробно ознакомившись со всеми событиями, происшедшими в Герате за время отсутствия государя, он отменил налог, введенный Ходжой Абдуллой и другими чиновниками, сместил должностных лиц, виновных в преступлениях.
У дверей дивана толпились бедняки с прошениями в руках. Кто бы то ни был — старик, юноша, женщина, таджик, тюрк, — Навои терпеливо выслушивал каждого. Он расспрашивал жалобщиков о делах, утешал их; разрешал их споры. Входившие к поэту в слезах, выходили успокоенные, согбенные выпрямляли стан.
В ханаке большой гератской мечети, на расписных айванах[56] с толстыми, в обхват, столбами, на широком и ровном дворе, на минаретах, на кровлях зданий, со всех сторон окружавших мечеть, — везде были люди. Даже гератские бродяги, которые, не взирая на преследования; блюстителей нравов — мухтасибов,[57] — обычно пренебрегали молитвой, в этот день кое-как накрутили на головы чалмы и явились в мечеть.
Навои медленно, величаво поднялся на возвышение — мимбар.[58] Все встали. Никто не произнес ни слова; все взоры были устремлены на поэта. Стоя на мимбаре, Навои обвел глазами толпу, охваченную мыслью, единой надеждой. Глубокие чувства волновали поэта. Держа указ в чуть заметно дрожавших руках, слегка повысив голос. Навои читал. Люди выражали теснившиеся в сердце чувства выкриками: «Справедливо!», «Дай-то бог!», «Проклятие злодеям!».
Содержание указа передавалось из уст в уста. Оно мгновенно стало известно в задних рядах и даже на крышах. Поэт, волнуясь, произнес краткую, глубоко прочувствованную речь. Когда он кончил, в воздух поднялись тысячи рук — шершавые мощные ладони дехкан, зеленые руки красильщиков, тонкие, костлявые пальцы ткачей. Молитвы и благословения огласили высокие своды мечети.
Люди с радостным облегчением выходили на улицу. Поэт остался в мечети побеседовать с гератскими учеными и мударрисами о положении студентов. Избегая всякого поклонения себе, Навои в одиночестве вернулся в диван. Здесь он составил длинный список чиновников, обижавших и притеснявших народ, решив наказать каждого сообразно его вине и проступкам. Весь Герат только и говорил о поэте. За неделю Навои завершил дела и возвратился в лагерь Хусейна Байкары.
После первого поражения Мирза Ядгар снова собрал большие силы и занял Астрабад. Теперь он направил взоры на Герат. Его отряды уже действовали в окрестностях города. Хусейн Байкара встревожился. Навои советовал как можно скорее возвращаться в Герат, чтобы собрать там новые силы и окончательно расправиться с мятежником. Хусейн Байкара поспешил с войском к столице.
События разворачивались с быстротой молнии.
Хусейн Байкара шел днем и ночью. В одном или двух переходах от столицы он остановился. Султан ожидал, что вельможи Герата, по обычаю, устроят ему торжественную встречу, но в столице, казалось, и не подозревали о его приближении. Герат был глух и холоден. В войске началось брожение. Люди, посланные, чтобы выяснить положение, вернулись в унынии. Они сообщили, что путь к столице закрыт и что беки, Начальники крепости, перешли на сторону Мирзы Ядгара. Волнение и растерянность в войске усилились. Навои вошел в шатер султана.
— Какое низкое предательство! — твердил Хусейн Байкара, горестно покачивая головой. — Вероломные неблагодарные люди закрыли ворота крепости перед своим султаном!
— Обманщик сам упадет в яму, которую вырыл для другого, — убежденно сказал Навои. — Не следует терять веры в себя. Конечно, дело крайне осложнилось, но, действуя решительно и уверенно, можно преодолеть любое затруднение. Надо только присматривать за войском. Постарайтесь не портить отношений с оставшимися при вас нукерами. Будьте всегда заодно с ними — горе правителю, который оторвался от войска.
— Как вы думаете, что нужно предпринять? — спросил Хусейн Байкара, задумчиво глядя на поэта.
— Сейчас необходимо уйти отсюда, — не колеблясь, ответил Навои. — В столице много верных людей. С их помощью вы будете знать обо всем. Когда наступит удобный момент, можно будет решительными действиями покончить с врагом.
Полузакрыв глаза, Хусейн Байкара молча думал. Он обтер платком лоб, покрытый холодным потом. Затем со вздохом поднялся и дрожащим голосом приказал бекам садиться на коней.
Не прерывая похода ни днем, ни ночью, Хусейн Байкара пришел в местность Уленг-и Сер-и-так.
И тут были получены сведения, что мятеж, поднятый Султаном Махмудом в окрестностях Балха, постепенно расширяется. Хусейн Байкара в своем собственном царстве оказался между двух огней. Встреча с врагом в открытом бою пугала султана. Не видя нигде надежного места, Хусейн, словно птица без гнезда, блуждал по стране. Из Уленг-и Сер-и-така он перешел в Дешт-и-Сакильман. Оттуда с отрядом воинов направился к Неретагу. Эту неприступную крепость он рассчитывал удержать в своих руках. Однако вскоре выяснилось, что и на нее нельзя рассчитывать. Наконец султан Хусейн остановился в Меймене.
Глава шестая
Сторонники Мирзы Ядгара вели свои дела очень ловко. Тетка Мирзы Ядгара, влиятельная Пайенде Султан-бегам, по совету эмира Ферид-ад-дина Барласа и других беков, переехала из своего загородного жилища в Герат. Подкупив видных людей столицы — беков и чиновников, — она объявила своего племянника государем Хорасана. На крепостных валах играла торжественная музыка. Султан-бегим даже приказала упоминать имя Мирзы Ядгара как правителя Хорасана в мечетях во время молитвы — хутбы.[59] Мирза Ядгар, находившийся в области Туса, стремительно двинулся в Герат.
Народ, не видавший от государей добра и привыкший к частой смене правителей, относился к этим событиям равнодушно. Что же касается вельмож и знатных граждан Герата, то они благосклонно взирали на молодого государя и с нетерпением ожидали его прибытия, рассчитывая на новые назначения и наделы землей. Наконец, разодевшись в шелка и бархат, они выехали на породистых конях встречать Мирзу Ядгара. Поклонившись девять раз, вельможи облобызали стремя молодого царевича. После торжественной молитвы дождавшись благоприятного часа, указанного звездочетами, новый государь въехал в Герат и остановился в Баг-и-Загане.
Мирза Ядгар ничего не понимал в управлении государством да и не стремился чему-либо научиться. Беспечный царевич не задумывался над тем, где теперь его враг Хусейн Байкара и что он собирается делать, Баг-н-Заган наполнился красивыми девушками, пиршества и попойки не прекращались.
Пайенде-Султан-бегим заправляла делами государства. Энергично действуя в пользу племянника, она, разумеется, старалась поднять свой престиж и как будто достигла цели. Её считали разумной, деловой женщиной; Ала-ад-дин Мешхеди и некоторые другие поэты писали в ее честь касыды. Однако Пайенде-Султан-бегим не в силах, была сломить гордость и своеволие туркменских военачальников. Царице приходилось с ними ладить. Ведь военная сила была в их руках. Они возвели Мирзу Ядгара на вершину власти, они же должны были защищать его от соперников. Туркменские военачальники злоупотребляли своим положением. В Герате и в окрестностях города усиливались бесчинства. Народ подвергался насилиям и притеснениям.
В эти тревожные дни Султанмурад почти не выходил на улицу. За высокими каменными стенами медресе, словно в неприступной крепости, проводил он дни и ночи за чтением в своей тесной, полутемной худжре Иногда Зейн-ад-дин приносил ему свежие новости. Слушая его, молодой ученый проклинал бунтовщиков нарушивших спокойствие в стране.
Однажды вечером, через два дня после торжественного въезда Мирзы Ядгара в столицу, Султанмурад печально сидел один у мерцающей свечи. Голоса людей, гулко разносившиеся под высокими сводами мед ресе, затихли, всюду царило безмолвие. Студенты ушли на торжественный праздник в честь молодого царевича.
В комнату ощупью пробираясь в темноте, вошел Ала-ад-дин Мешхеди. Он, предложил Султанмураду пойти с ним к Туганбеку. Султанмурад извинился — он не может оторваться от работы.
— Я видел в нашем городе людей, которые так много читали, что сошли с ума, — недовольно сказал Ала-ад-дин. — Лишиться ума, желая развить ум, — хуже беды нет. Пойдем, проводи меня.
— Книги — мое утешение, — грустно ответил Султанмурад. — Не будь их, я бы, наверное, помешался от всего того, что делается в стране.
— Горевать не к чему. Жизнь — это старый хамелеон. Пользуйся минутой, старайся провести день повеселей. Туганбек, наверное, развлечет нас. В последнее время его звезда взошла высоко.
— Как так? — заинтересовался Султанмурад.
— А ты не знаешь? Туганбек — один из героев времени Мирзы Ядгара, — с гордостью ответил Ала ад-дин Мешхеди.
Султанмурад пожелал узнать подробности последнях событий. Не сомневаясь, что Навои на стороне Хусейна Байкары, он особенно интересовался положением дел султана. Он решил поговорить с Туганбеком и раздобыть у него кое-какие сведения. К удивлению Ала-ад-дина Мешхеди, он неожиданно поднялся с места.
— Идем, только ненадолго.
На улицах было темно и пусто. Несмотря на ранний вечер, прохожие попадались лишь изредка. Только конные нукеры, как мрачный вихрь, ежеминутно пролетали мимо.
Ала-ад-дин Мешхеди то и дело спотыкался, так что Султанмураду приходилось идти очень медленно. У ворот дома Маджд-ад-дина их встретил старый Нурбобо. Он сказал, что Туганбек не возвращался домой со вчерашнего дня. Султанмурад повернулся, чтобы уйти, но Ала-ад-дин Мешхеди схватил его за руку:
— Отдохнем немного, — может быть Туганбек и подойдет, — сказал он и приказал рабу отпереть комнату для гостей.
Нурбобо отпер дверь, зажег свечу и ввел молодых людей в дом. Они распахнули окна. В душное помещение ворвалась свежесть вечера. Султанмурад хмурился, жалея, что пришел. Ала-ад-дин Мешхеди заговорил о поэзии. Он пытался опровергнуть мнение Навои о богатстве и красоте тюркского языка. Это все больше раздражало Султанмурада. Чтобы заткнуть рот болтуну, ему пришлось заговорить самому. Он очень легко доказал, что девять десятых современных поэтов Герата, пишущих по-персидски, — жалкие рифмоплеты, а остальные — слабые подражатели великих древних стихотворцев. Ала-ад-дин Мешхеди, по обыкновению, произнес несколько ядовитых слов, потом закрыл глаза и умолк. Когда Нурбобо разостлал дастархан и принес фрукты, поэт немного оживился. Непрерывно щелкая миндаль и фисташки, он усердно расхваливал природу и воздух Бадгиса.[60] Дастархан убрали, и Султанмурад предложил Ала-ад-дину уйти. Вдруг у ворот послышался топот коней. Обрадованный Ала-ад-дин снова усадил Султанмурада. В комнату вошел Туганбек. Глаза его пьяно поблескивали. Увидев гостей, он обрадовался и тотчас же приказал Нурбобо подать кушанья и напитки. Наполнив чаши до краев, он протянул их гостям. Ала-ад-дин Мешхеди опьянел от первой же чаши и принялся бессвязно болтать. После второй он порылся в кармане и, вынув длинную касыду в честь Пайенде-Султан-бегим, начал читать ее вслух. Он поручил Туганбеку передать «Сокровищу эпохи»— так прозвали эту женщину—посвященное ей произведение.
— Что вы думаете об уме и проницательности этой женщины? — спросил Туганбека Султанмурад.
— Все считают ее сокровищницей ума, — лукаво улыбаясь, ответил Туганбек. — Она удивительно красива, но я до сих пор не заметил у нее даже признака разума.
Ала-ад-дин Мешхеди стал горячо возражать, но Туганбек не пожелал даже ответить ему и заговорил о другом. Султанмурад спросил его, какое он сейчас занимает положение и насколько велики силы Хусейна Байкары. Насчет своей должности Туганбек ответил кратко: «Состою при молодом царевиче», — и сообщил, что положение Хусейна Байкары тяжелое. Его джигиты перебегают к Мирзе Ядгару. В заключение он убежденно сказал:
— Однако при Хусейне находится Алишер Навои. Мирза Ядгар должен больше всего опасаться этого человека.
— Можно ли так преувеличивать! — рассердился Ала-ад-дин Мешхеди. — Алишер — совсем смирный человек. Вы его совершенно не знаете.
— Нет, Навои — большая сила. Он прекрасный политик. Это человек большого ума, и в народе его уважают. Верно, я с ним незнаком. Может быть, мне даже придется от него прятаться. Но «искусство ткача видно по сделанной им ткани»; человека узнают по его делам. Не будь ваши касыды так красивы, никто не назвал бы вас поэтом.
Султанмурад кивком головы подтверждал слова Туганбека.
— Мы надеемся, — сказал он, — что Навои в скором времени избавит страну от опасностей и бедствий. Туганбек мрачно потупился.
— Стране не грозит никакая опасность, — медленно сказал он. — В жилах Мирзы Ядгара тоже течет кровь Тимура. Он добивается своих прав.
Считая излишним спорить с Туганбеком, Султанмурад промолчал.
Туганбек пил много. Ала-ад-дин, не желая от него отставать, выпил еще несколько чаш и в конце концов растянулся на полу. Султанмурад был навеселе. Оставив Ала-ад-дина отсыпаться, он поднялся, намереваясь уйти. Туганбек пошел проводить его до ворот. Большой, усаженный деревьями двор мирно спал, залитый лунным светом.
— Нурбобо, подай свечу! — крикнул Туганбек. — Не нужно, — сказал Султанмурад.
— Не спеши, успеешь еще вернуться в свою худжру. Сначала пойди поклониться красоте.
Султанмурад, ничего не понимая, пожал плечами и пошел за Туганбеком. Старик принес свечу. Туганбек отпер дверь одного из домиков, тянувшихся в ряд за деревьями, и сказал:
— Пожалуйста!
В комнате Султанмурад увидел девушку; она сидела перед запертым окошком, низко опустив голову, «Совершенная, совершенная красота!»— подумал Султанмурад и, несколько смущенный, отступил. Туганбек взглянул на блюдо, стоявшее на полке, и подошел к девушке.
— Дильдорхон, — мягко сказал он, слегка наклоняясь над нею, — почему ты не ешь? Принести чего-нибудь другого?
— Не еды, а яду принеси, яду! — горестно воскликнула девушка и выпрямилась.
— Нурбобо, державший в трясущихся руках свечу, вдруг заговорил:
Молись аллаху, дочка. У него одного проси спасения.
Туганбек гордо подошел к Султанмураду и шепнула — Красивая? Нравится?
Султанмурад промолчал. Он с сочувствием взглянул на девушку, и вышел. Через минуту Туганбек догнал его.
— Кто это? — задумчиво спросил Султанмурад.
— Вчера ночью увез из кишлака, — ответил Туганбек. — Удивительно изящна и красива!
— Разве такие дела не опасны?
— Друг мой, брось разговоры! Украсть девушку — очень приятное дело. Полночь. Она сладко спит на супе, волосы разметались по подушке. Рядом похрапывает старуха. Мы с двумя джигитами подошли к ней на цыпочках. Прежде всего я слегка поцеловал девушку в лоб. Потом завязал ей рот, поднял ее, и мы побежали. Легко перепрыгнули через стену — словно розу в саду сорвали. Бросили девушку на конями помчались во весь опор. Очень — приятное дело! Да… Под утро прискакали к городу. Передохнули в саду одного знакомого, возле самых городских ворот, а теперь привезли ее сюда. Во всем этом есть какое-то особое наслаждение.
— Но как должна себя чувствовать несчастная девушка? Может ли быть что-нибудь ужаснее для ее родителей? — дрожащим голосом произнес Султанмурад..
— Чтобы играть в любовь, нужно взаимное желание. Я это хорошо знаю, — спокойно и серьезно сказал. Туганбек. — Если она не захочет, я и пальцем до нее не дотронусь. Подарю моему хозяину. В сущности, эта девушка может служить украшением дворца самого султана!
— Верните несчастную в ее семью. Человек не должен, служить игрушкой для мимолетных желаний.
— Ладно, посмотрим. Прощайте! — и Туганбек удалился. Султанмурад долго стоял, глядя на запертую дверь. Затем печально побрел домой.
Город спал. В спокойствии лунной ночи семиглавая гератская мечеть казалась еще огромней, крепость Ихтияр-ад-дин — еще грознее. Султанмурад, полный ненависти к Туганбеку и всем насильникам в мире, шел по улицам, ничего не замечая вокруг. В худжре, не зажигая свечи, он кое-как постлал себе постель. Сон бежал от него, грудь теснила сладкая боль. Беззвучно шевеля губами, он несколько раз повторил стихи:
Глава седьмая
Хусейн Байкара томился в большом саду городка Меймене. Царственные приемы, пышные, шумные пиры — где они? Султан большей частью сидел один в просторном, украшенном выцветшей росписью доме и даже не писал стихов. Разве правитель, лишившийся власти, может вздыхать о каких-то девушках с бровями, как лук, и глазами газели? Жажда власти впитана им вместе с молоком матери. Всю силу, всю боль этого чувства Хусейн Байкара ощущал теперь мучительней и острей, чем когда-либо.
За спиной тоскующего султана, в отдаленном углу сада, слышались шум и крики: нукеры, забыв о своих обязанностях, боролись, чтобы хоть чем-нибудь развлечься. Хусейн Байкара тяжело вздыхал; он нетерпеливо дожидался кого-то. Вошел ишик-ага и доложил:
— Прибыли. Разрешите им войти? Хусейн Байкара кивком головы выразил согласие.
Вошел Навои и отвесил установленный обычаем поклон. Государь торопливо указал ему место подле себя и тотчас же заговорил:
— У нас появилась одна мысль. Прежде всего нам хочется тут, наедине, выслушать вас. Мы знаем, что эти печальные события очень вас тревожат.
— Благодарю вас за внимание. Я пришел, чтобы услышать от вашего величества добрые вести, — сказал Навои.
Хотя в комнате никого не было, Хусейн Байкара понизил голос и заговорил о новостях, которые узнал через своих осведомителей. По их словам, положение Мирзы Ядгара было непрочным.
Навои спросил:
— К какому же решению вы пришли?
— Вся трудность именно в том, чтобы принять решение.
Хусейн Байкара на мгновение смолк, потом продолжал:
— Если мы с нашими наличными силами пойдем к столице и неожиданно, с быстротой молнии, нападем на Ядгар-бека, как, по-вашему, достигнем мы цели? Поэт не торопился с ответом. Он многозначительно прищурил глаза, лицо его вдруг осветилось тонкой улыбкой. Потом он очень серьезным тоном сказал:
— Если бы вы не высказали мне эту мысль, было бы еще лучше!
— Почему? — беспокойно спросил Хусейн Байкара. Навои не мог удержаться от смеха.
— Потому что план этот следует держать в большой тайне.
Хусейн Байкара заулыбался.
— Нельзя же не советоваться с военными людьми! — возразил он.
— Конечно. Без совета дела не сделаешь, — уже серьезно сказал Навои. — Но надо защитить себя от одной опасности: кто-нибудь может сообщить врагу об этом плане, тогда Мирза Ядтар, его эмиры и беки очнутся от беспечного сна. Надо действовать решительно и молниеносно. В Герате живет Мирахур. Пусть он соберет нужные нам сведения. После этого, когда день наступления будет определен, вы посвятите в тайну военачальников.
— Можно ли считать, что вы разделяете наше мнение в этом вопросе? — взглянул на Навои Хусейн Байкара.
— Ради победы ваш скромный раб — приложит все возможные старания и усилия. Пошли, господь, стране и народу мир и покой! — сказал Навои.
— Аминь! — погладил бороду Хусейн Байкара.
Некоторое время велась тайная подготовка к осуществлению плана. Потом, совершенно неожиданно, войска выступили из Меймене к Мургабу. В местности Тог-Кун Хусейн Байкара устроил большой прием, напоминавший о былых днях его славы и могущества. Приветливо встретив беков, он предложил им на обсуждение свой план. Наиболее дальновидные, знающие военное дело беки, хотя и не осмелились высказаться определенно, приняли решение султана с явным удовлетворением.
После угощения Хусейн Байкара со своими воинами под покровом темноты выступил в поход. В местности Пиль-Паян к нему присоединились Мухаммед Арлат, эмир Сарбан несколько других влиятельных вельмож. Хусейн Байкара во главе восьмиста пятидесяти всадников двинулся вдоль берега Мургаба, совершая переходы и днем, и ночью. По выражению знаменитого историка того времени, «каждый из всадников султана Хусейна Байкары срывал острием камнедробящего копья завесу с лика луны». Под утро войска делали привал и после недолгого отдыха выступали.
В тех местах, в одной из горных пещер, жил знаменитый дервиш по имени Баба-Хаки. С юных лет он «отряхнул полы от праха мирских дел» и предавался благочестию в своем каменном жилище вдали от людей. Хусейн Байкара в те тяжелые дни счел необходимым получить его благословение. Султан опасался, что Ба-ба-Хаки, следуя своему обыкновению может его не принять. Это опасение, оказалось, однако, совершенно неосновательным. Услышав о приближении султана, обычно избегавший людей дервиш сам вышел встречать его на дорогу.
Хусейн Байкара сошел с коня, поклонился и, подойдя, к дервишу, поцеловал его маленькую высохшую руку. Баба-Хаки пригласил государя в свое обиталище-, Султан дорожил каждой минутой, но, не смея перечить дервишу, принял его предложение. Почти девяностолетний, сухой, как чиллак,[61] невысокий, узкогрудый Баба-Хаки был еще очень бодр. Потряхивая козлиной бородкой, он быстро шел среди огромных камней, показывая дорогу Хусейну.
— С потолка пещеры, словно готовые сорваться, свисали обломки скалы. В пещере не было никакой утвари, кроме трех-четырех циновок из тростника. Потрескавшиеся каменные стены почернели от копоти. На земле, покрытой соломой, лежал старый палас и потертая телячья шкура вместо подстилки; в углу было сложено одеяло, из которого торчала вата.
Местность вокруг была открытая. Прохладный ветер мимоходом залетал под своды, трепал бороды и разбрасывал жемчужные капельки воды, сверкавшие на огромных камнях серебряными блестками. Гряды скал, широкие долины, волнистые линии холмов и пригорков, видневшиеся в нежно-голубой дали, приковывали взоры, пробуждая смутные, сладостные надежды.
Государю хотелось завоевать сердце дервиша. Он смиренно уселся на жидкую подстилку. Хусейн Байкара, всем существом своим стремившийся к власти, жаждавший на всю жизнь погрузиться в безбрежное море наслаждения, прикинулся дервишем. Он говорил о святой жизни факира, удалившегося от людей, о горестях и тяготах земного существования, созданных самим сатаной, о поэтической красоте уединенного жилища отшельника. Баба-Хаки заговорил о величии «высшего существа». Потом разостлал перед государем кусок грязной бязи, разломил черствую лепешку и до краев наполнил глиняную чашку кислым молоком из пестрой тыквенной бутыли. Двум слугам, которые сопровождали государя, но не вошли под своды пещеры и стояли в стороне, дервиш тоже поднес по пиале кислого молока. Хусейн Байкара поднял чашу и шумно, с непритворным удовольствием выпил молоко. Дервиш, присев у входа в пещеру, невнятно бормотал:
— Хотя в этом жилище так же темно, как в моем многогрешном сердце, я все же предпочитаю его золотым дворцам шахиншахов. Здесь я беседую с птицами, изливаю свои скорби камням. О боже! Весенние потоки — бурное излияние твоей красоты — не увлекли меня в море твоего милосердия. Зимние бураны не возвратили меня к твоей первосущности, порвав ржавые цепи, сковывающие мое бытие… Яху!
Дождавшись, пока дервиш кончит говорить, Хусейн Байкара попросил разрешения удалиться, выразив желание, чтобы Баба-Хаки за него помолился. Старец поднялся, раскинул руки и повернулся лицом в сторону Мекки. Государь встал позади дервиша скрестив руки и опустив голову.
Помолившись, старик знаком предложил султану немного подождать. Он достал из-под кучи хвороста старое копье, с заржавленным концом и вышел из пещеры. Словно копьеносец, он замахнулся им в сторону Герата и сверкая глазами, трижды проколол воздух, как бы поражая врага. Затем передал копье султану Хусейну.
Все это произвело на государя сильное впечатление. Опустив глаза, едва сдерживая слезы, он приложил костлявую руку старца к своим губам.
Пустив вскачь коней, Хусейн Байкара и его слуги возвратились к войску.
Крепко сжимая в руке копье дервиша, словно драгоценнейшую вещь в мире, султан Хусейн направился к Герату. К полуночи он уже достиг местности Джуздук-Чешме, близ Герата, и стал там лагерем. Ущербный месяц тускло светил в небе, словно подчеркивая убогость хижин полуразрушенного кишлака. Иногда вдали слышался лай собак.
Сердце государя было неспокойно. Здесь, перед самым Гератом, лучшей жемчужиной его венца, доставшейся врагу им снова овладели беспокойство и сомнения. Что-то будет? А если враг настороже и встретит его войска боевым кличем? Неужели снова позор?
Воины надевали панцири и готовились к бою. Навои на коне подъехал к государю. Он посоветовал послать людей за «языком». Поэт казался утомленным, но голос его звучал уверенно.
Хусейн Байкара подозвал Ширима Караула, ловкого и пронырливого лазутчика. Взяв с собой двух расторопных молодцов, тот в одно мгновение скрылся во мраке. Готовые к бою воины ждали приказа. Казалось, что никогда не наступит рассвет. Кони были утомлены, люди волновались.
Ширим Караул вернулся, ведя за собой какого-то пьяного воина, одного из людей Мирзы Ядгара. Беки напрасно пытались добыть от этого насмерть перепуганного человека какие-нибудь существенные сведения.
— В Герате царит полная беспечность, — доложил Ширим Караул.
Хусейн Байкара тотчас же отобрал сто человек во главе с Музаффаром Барласом и приказал им открыть большие ворота Баг-и-Загана. Убедившись, что со стороны Герата не слышно ни звука, султан, Хусейн с остальным войском двинулся вперед. Выехав на хийябан и достигнув могилы Имама Фахри, Хусейн Байкара послал Султан-Ходжу-Узбека с его всадниками к другим воротам Баг-и-Загана, примыкавшим к медресе Гаухар-Щад. Направив небольшие отряды нукеров ко всем воротам, султан Хусейн с оставшимися при нем воинами двинулся туда, где действовал Музаффар Барлас. Навстречу ему спешил Мирахур, верный его приверженец, все это время находившийся в стане неприятеля. Мирахур сообщил, что ворота взломаны и есть возможность проникнуть в сад. Хусейн Байкара с облегченным сердцем погнал коня и въехал прямо в Баг-и-Заган.
Джигиты султана Хусейна принялись бесшумно рыскать по саду, разыскивая в полутьме в рощах и аллеях воинов неприятеля. Но их и след простыл.
Затем Хусейн Байкара с небольшим отрядом проник в Баг-и-Шамаль — место ночного отдыха Мирзы. Внезапно разбуженные нукеры даже не пробовали сопротивляться.
Джигиты искали царевича. Вот великолепный дворец, похожий на крепость. Подле дворца — шатер. В шатре—никого. Хусейн Байкара приказал окружить высокий пригорок. Он предполагал, что Мирза Ядгар находится в павильоне позади холма. Чтобы проникнуть в него, надо было перейти холм. Но здесь таилась опасность. Быть может, враг укрылся под защитой холма со значительными силами, готовясь к последней решительной битве. Зловещее безмолвие дворца, мрачные очертания холма в полумраке, — все, казалось, было полно угрозы.
Снедаемый нетерпением, Хусейн Байкара приказал нескольким с ног до головы закованным в латы воинам перейти холм и проникнуть в беседку. Но никто не двинулся с места. Тогда Алишер быстро соскочил с коня, передал поводья своему нукеру Баба-Али и подойдя к государю, смело сказал:
— Разрешите мне!
Ни один бек, ни один воин не ожидали этого от Навои. Многие опустили от стыда голову. Но теперь было уже поздно доказывать свою храбрость.
Хусейн Байкара посмотрел на воинов, стоявших вокруг с мрачным видом, и после некоторого колебания кивнул поэту в знак согласия. Навои (он первый раз в своей жизни вынул меч из ножен) смело двинулся к холму. Кто-то зажег пучок свечей и высоко поднял, их над головой. Все глаза были прикованы к поэту, который медленно поднимался на холм. Когда фигура Навои почти скрылась от взоров, нукер Баба-Али, обнажив меч, последовал за ним. Тотчас же десятки джигитов быстро взбежали на холм по дороге, выбранной поэтом.
Опираясь на меч, как на посох, Навои спустился с пологого холма. Навстречу ему бежали несколько вооруженных нукеров. Один из них грозно закричал: — Кто идет?
Остальные подняли мечи, готовясь к нападению. Навои, не поднимая меча, но готовый отразить удар, остановился и повелительно произнес:
— Мечи в ножны! Сдавайтесь немедленно!
Другой нукер подошел ближе и, вытянув шею, пристально вглядывался в Навои.
— Кто вы такой? Чего ради нам сдаваться? — спросил он.
— Я — Алишер Навои, — спокойно произнес поэт и, резко повернувшись, направился ко дворцу.
Ошеломленные нукеры не пытались остановить его. Нащупывая дорогу в темной передней, Навои дошел до двери; тут его нагнал Баба-Али и другие войны. Бесшумно отворив дверь, они вошли один за другим.
Посреди большой комнаты, на мягких коврах под бархатными одеялами, лежали в разных позах четыре человека. Под самым окошком, на белом тюфяке, тихо спала молодая женщина с распущенными волосами. Навои, наклонившись над спящими, негромко сказал:
— Возьмите вот этого.
Под ногами Баба-Али захрустели осколки чаш и кувшинов. Схватив царевича за руки, он потянул его и заставил встать. Двое нукеров, которые спали вскочили. В комнате поднялось смятение и шум. Молодая женщина с криком «Ах!» вскочила на ноги и выпрыгнула в окно Мирза Ядгар извивался в железных руках Баба-Али и, задыхаясь, бормотал какую-то бессмыслицу. Комната и передняя наполнились воинами. Навои, приказав увести Мирзу Ядгара, насмешливо произнес ему вслед:
Джигиты спустились с холма, волоча за собой Мирзу Ядгара. Когда юношу в царственных одеждах, еще не протрезвившегося после вчерашней попойки, бросили у ног коня Хусейна Байкары, он долго бессмысленно водил по сторонам мутными глазами. Сообразив, наконец, что с ним случилось, он с трудом поднялся и, дрожа от страха, уставился на своего врага. Хусейн Байкара бросил пленнику несколько гневных слов и движением руки приказал нукерам увести его.
Герат проснулся от звуков карнаев и сурнаев. Мирзе Ядгару отрубили голову. Его приверженцы, дрожа за свою жизнь, попрятались в свои норы.
Глава восьмая
Туганбек, мрачный и угрюмый, сидел в своей хорошо обставленной комнате, не смея показаться на улицу. Гордость не позволяла ему пойти к хозяину, возвратившемуся вместе с государем, признаться в измене и покаяться. Мог ли он думать, что яркое солнце Мирзы Ядгара так быстро померкнет! Он ругал «глупую размалеванную, кокетку Пайенде-Султан-бегим, проклинал, туркменских беков, которые проглядели наступление Хусейна Байкары. Его план заключался в том, чтобы в одну прекрасную ночь отрубить головы туркменским начальникам и, запугав Мирзу Ядгара, назначить себя главным везиром. Теперь он горько сожалел, что не убежал из Герата в разгар смуты и беспорядка, и строил всевозможные планы бегства в дальние края. Но сердце его не могло оторваться от гератской жизни, и в каждом своем проекте, он находил какой-нибудь недостаток или затруднение.
Почувствовав, что — задыхается в своей просторной комнате, Туганбек резко распахнул створки окна. В конату полился желтый шелк солнечного света, Туганбек шумно плюнул в окно и поднялся. В это время дверь приотворилась и показалась белая борода и кроткое, как всегда, унылое лицо Нурбобо. Туганбек вопросительно взглянул на него. Старик доложил, что хозяин зовет Туганбека, и скрылся. Некоторое время Туганбек мрачно размышлял, потом нехотя поднялся и развалистой походкой вышел.
Маджд-ад-дин принял его в комнате для гостей — михманхане. Туганбек почтительно пожал руку хозяина и сел поодаль. Маджд-ад-дин начал выговаривать ему за его дурные поступки. Туганбек, пристально глядя в одну точку, угрюмо молчал. Наконец хозяин, досадливо щелкнув тонкими пальцами, умолк. Туганбек медленно сказал:
— Я не сделал ничего такого, о чем бы стоило говорить. Жители Герата — мастера преувеличивать.
— Хорошо. Ну, а как вы ускользнете от Алишера Навои? Народ на вас жаловался. Кое-кто сообщил мне об этом.
— Я от чистого сердца усердно служил вам. Такая уж у меня привычка, — не люблю делать что-нибудь наполовину. Тем, кто без разговоров отдавал деньги, я, бог свидетель, и слова не сказал. Ну, а если слова не действовали тут уж я пускал в ход плетку. Вы сами знаете, что, когда имеешь дело с народом, без плетки не обойтись. Но пусть ваше сердце будет спокойно, господин, ваше имя осталось незапятнанным. Я работал, как доверенный Абу-з-Зия. Ваш Навои прислушивался ко всем сплетням и поднял здесь большую кутерьму. Ойой! Хоть называют его поэтом, тут он крепко действовал и натворил дел… Дивлюсь я на этого человека! Но я ему не поддамся. Завернусь в свою старую шубу и буду день и ночь сидеть в кабаке. Пусть-ка попробуют найти Туганбека!
Высокая оценка, данная поэту, не понравилась самолюбивому Маджд-ад-дину. Отвернувшись, он недовольно пробормотал:
— Навои хотел поднять себя в глазах народа. Это политика, смысл которой должен быть вам понятен.
— Вы хотите сказать, что за любовью к народу, кроется что другое. Да, уж это неспроста, — ответил Туганбек, лукаво взглянув на своего хозяина.
— Туганбек, если хотите стать большим человеком, будьте осторожны, следите за каждым своим шагом, — миролюбиво сказал Маджд-ад-дин. — Для меня расстаться с таким молодцом и богатырем, как вы, — большое огорчение. Держитесь за полы моего халата, и я вас переведу даже через Сырат.[62] Теперь ненадолго, месяца на два, поезжайте куда-нибудь в глубь страны. Пусть забудутся последние события. В разговорах придерживайте язык за зубами. Вот и все.
Туганбек поблагодарил. Но его мрачное настроение не рассеялось. Ведь Маджд-ад-дин говорил только о неправильном сборе налога. Эта вина, по сравнению с другими его провинностями, казалась Туганбеку не столь значительной. За такие грехи можно отделаться штрафом, и только. А вот участие в мятеже Мирзы Ядгара — другое дело. За несколько дней блеска Туганбек может поплатиться головой или многие годы будет гнить, как слепая мышь, в грязной тюремной яме. В этом проступке Туганбек не решался признаться Маджд-ад-дину. «Этот человек — верный раб Хусейна Байкары, — думал он. — Чтобы доказать свою преданность, он меня арестует и предаст палачам или, в лучшем случае, выбросит на улицу. Он скажет: «Сумеешь — доплывешь по морю опасности до берега спасения, не сумеешь — пойдешь ко дну».
В эту минуту Туганбек мечтал об одном: вскочить на коня, махнуть плеткой и бежать, куда угодно, — в Ирак, в Азербайджан, в далекие Кипчакские степи или в Китай. Некоторое время он сидел молча, надеясь, что Маджд-ад-дин сам заговорит о мятеже. Но хозяин принялся расспрашивать его о налогах. Туганбек не торопясь рассказал, сколько поступило денег, сколько, в каком тумане осталось недоимок, и добавил, что взысканные деньги он, согласно приказу Маджд-ад-дина, вручил Абу-з-Зия.
— Прекрасно! — воскликнул Маджд-ад-дин, потирая руки. — Будь у меня семь таких молодцов, как вы, я бы завоевал все семь поясов[63] земли. Захочет аллах — мы с вами совершим еще немало славных дел, Глаза Туганбека заблестели.
— Господин, — сказал он, лукаво прищурившись, — ваш невежественный раб совершил один проступок, но язык не поворачивается сказать о нем.
— Без ночи нет дня, без пятна нет тюльпана. В чем же дело?
— Среди людей, — заговорил Туганбек, понизив голос, — распространились слухи, будто султан Хусейн, лишившись войск, бежал с горсткой молодцов в Хиндустан, чтобы не попасть в руки неприятеля. Все его эмиры и беки будто бы присягнули Мирзе Ядгару. Я, простодушный, поверил этим россказням и поступил на службу к Мирзе Ядгару. Пять-десять дней мы скакали на конях и орали во все горло. В конце концов оказалось, что это враки…
Туганбек исподлобья взглянул на Маджд-ад-дина. В глазах хозяина он заметил не гнев, а большое беспокойство.
— Джигит, может ли быть что-нибудь позорнее этого! — сурово оказал Маджд-ад-дин.
— Господин, поверьте, бог свидетель, я ни на минуту не забывал о вас. У меня были свои расчеты. Но что поделаешь, не повезло.
Маджд-ад-дин тотчас понял значение этих слов. Нахмурившись, он сказал гневным голосом:
— Что это значит? Всему миру известно, что я верный пес хакана. До самой смерти я хотел бы служить его величеству и высокому семейству государя. Не вздумайте повторить что-либо в этом роде.
Туганбек сразу потерял все надежды. Сегодня или завтра он наденет свою старую шубу и убежит куда-нибудь подальше. Другого выхода нет.
Некоторое время он молчал, — пощипывая усы. Потом поднялся с места и угрюмо проговорил: — Нет мне больше ни хлеба, ни доли в Хорасане…
— Сядьте! Вы что же, хотите убежать? — иронически глянул на него Маджд-ад-дин.
Туганбек снова тяжело опустился на пол и произнес:
— Если бог даст силу, копытам моего коня, я найду себе постоянное спокойное место.
— Незачем — так волноваться, — сказал Маджд-ад-дин. — В городе есть и другие люди, которые поддерживали Мирзу Ядгара и помогали ему. Его сотрапезники и собутыльники тоже остались здесь. Я же сказал вам: держитесь пока подальше от людей. Всюду, как можно красноречивей, заявляйте о своей преданности государю. Потом мы дадим вам какую-нибудь должность. Исполняйте добросовестно свои обязанности. Чего еще нужно!
Туганбек поблагодарил, теперь уже от всей души. Поднимаясь с места, он сказал:
— У меня для вас маленький подарок. Маджд-ад-дин внимательно посмотрел на него:.
— Ну что ж, принесите! За время царствования Мирзы Ядгара из сада Баг-и-Заган украли много редких вещей..
— Мой подарок придет к вам сам. — Туганбек улыбнулся и вышел.
У двери маленькой комнаты возле конюшни он остановился.
— Эй, где ты, хромая ворона, давай ключ! — крикнул он.
Нурбобо вышел из конюшни. Подозрительно поглядывая на Туганбека, он вынул из-за пояса ключ и подал ему. Туганбек торопливо открыл дверь. Из дальнего угла; комнаты сверкнули гневные, глаза Дильдор.
— Пойди сюда, красавица, помиримся, — мягко сказал Туганбек.
— Убирайся, не подходи ко мне, да поразит тебя беда! — закричала девушка, вскакивая.
— Не гневайся, душа моя, — просительно сказал Туганбек. — Я же пальцем до тебя не дотронулся. Нанеся только хорошее слово, я слышу в ответ тысячу проклятий. Когда ты видишь меня, то хмуришься, словно филин. Если я приношу тебе фисташки, ты бросаешь их, точно овечий навоз. Идем я выведу тебя из этой тюрьмы.
Туганбек схватил Дильдор за руку и потащил за собой.
Старый Нурбобо, задыхаясь от гнева, крикнул: — Руку ей сломаешь, руку!.. Не бойся, доченька, — ласково продолжал он, похлопывая Дильдор по плечу, — Тебе не грозит никакая опасность.
Отец! — с плачем взмолилась Дильдор. — Скажите мне, куда ведет меня этот злодей? Не хочу я с вами разлучаться, страшно мне, отец!
— Верь мне, дочка; не захочет аллах — тебе не сделают ничего плохого.
Туганбек, то упрашивая, то угрожая, повел девушку за собой. У дверей михманханы он шепнул ей на ухо: — Сейчас тебя будет смотреть большой везир. Брось плакать. Разгневается — голову тебе отрубит. Поняла? Поздоровайся с ним вежливо.
Сердце Дильдор замерло. Туганбек отворил дверь и толкнул упиравшуюся девушку в комнату, а сам с безразличным видом остановился у порога. Сделав два-три шага, Дильдор присела на мягкий ковер. Она была готова лечь ничком на пол, чтобы скрыть свое горящее от стыда лицо, но, боясь «большого везира», старалась овладеть собой.
Маджд-ад-дин поднял голову и выпрямился. Словно любуясь прекрасной картиной или драгоценным камнем, он, прищурившись, всматривался в девушку, то поднимая, то опуская глаза. Затем подозвал Туганбека и шепнул ему:
— Вот редкая роза из цветников пери… Но цена за нее тоже, наверно, неслыханная?
Туганбек, улыбаясь, покачал головой.
— Цена? — шепотом переспросил он. — Ваш раб — торговец. При Мирзе Ядгаре у нас были такие длинные руки, что луну с, неба могли достать, не то что простую девушку.
— С этим надо покончить, джигит, — с притворной строгостью сказал Маджд-ад-дин, нахмурившись.
Дильдор кинула быстрый взгляд на Маджд-ад-дин. В ее груди пробудилась надежда на спасение. С глубокой мольбой в голосе, доверчиво, как дочь отцу, она сказала:
— Вы большой человек в стране. Мы все ваши дети. Да пошлет вам бог счастья и в этой и в другой жизни. Воротите меня к моим родным. Никогда не забуду я вашей милости…
Слезы брызнули у неё из глаз.
— Это не в моей воле, — мягко ответил Маджд-ад-дин. — Проси вот этого молодца. Да и что хорошего найдешь ты в своей семье? Если останешься у нас, будешь счастлива. Каждый твой день будет украшен новыми розами. У нас есть и другие девушки, твои сверстницы.
Дильдор низко опустила голову.
Маджд-ад-дин приказал отвести девушку к Нурбобо. Туганбек потянул Дильдор за пояс, и она испуганно вскочила. Еле ступая ослабевшими ногами, девушка пошла за Туганбеком.
Радостный и оживленный, Маджд-ад-дин поспешно поднялся. Надев длинный, шитый золотом халат и обмотав голову большой чалмой, он отправился во дворец.
Баг-и-Заган, как всегда, сверкал пышностью и великолепием. Слуги неторопливо, с величавой серьезностью исполняли свои обязанности, — соблюдая придворный церемониал. Воины, вооруженные копьями и мечами, с колчанами, полными стрел, медленно прохаживались взад и вперед. Старый привратник с белой бородой, покрывавшей всю грудь, опираясь на копье, с увлечением рассказывал младшим товарищам о былых походах.
Немного полюбовавшись издали на новых слонов, приведенных из Хиндустана, Маджд-ад-дин направился к дворцу с сорока колоннами. В легкой беседке, окруженной деревьями и цветущими лужайками, один из знаменитых — хорасанских ученых давал урок двум молодым царевичам. Мальчики, одетые в дорогие китайские шелка, с нетерпением ждали конца урока: может быть, их чересчур долго заставляли повторять нараспев непонятные слова корана. Время от времени дети поглядывали на таких же нарядных, как они сами, павлинов, которые мелькали среди деревьев, переливаясь всеми цветами радуги, или на белоснежных гусей, похожих издали, в лучах солнца, на снежные холмики.
Подойдя к дворцу, Маджд-ад-дин убедился, что ни государя, ни царедворцев там нет. Побродив по аллеям, он медленно поднялся на пригорок. Сзади холма, на широкой, ровной площади, наследник престола, первенец Хусейна Байкары от его старшей жены Мики-Султан-бегим, Бади-аз-Заман, не то играя, не то всерьез, занимался военными упражнениями. Сорок-пятьдесят прекрасно одетых молодых людей, сыновей беков и других знатнейших людей Герата, участвовали в игре.
Бади-аз-Заман — изящный, рослый, хорошо сложенный мальчик двенадцати — тринадцати лет — был одет в сверкающий, шитый золотом и серебром халат; стан его перехватывал пояс, украшенный яркими драгоценными камнями, у пояса ослепительно блестели разноцветными огнями ножны кинжала. Над белой шелковой чалмой царевича колыхалась небольшая корона с золотым ободком; искусно прикрепленные к тюрбану дорогие камни озаряли сиянием лоб мальчика; на ногах его красовались изящные цветные сапожки.
Бади-аз-Заман встречался со своим отцом только на официальных приемах. У него была своя казна, свои воины, поэты, собеседники. Он учился у величайших ученых Герата, но не проявлял особой склонности к какой-либо из наук. Юноша любил музыку и поэзию и сам иногда сочинял стихи. Он устраивал пышные приемы и угощения, знал толк в винах. Несмотря на свою молодость, Бади-аз-Заман умел устраивать царственные торжества. Живя в мире наслаждений и радостей, наследник мечтал о великом дне своей жизни, том дне, когда, по обычаю отцов и дедов, он воссядет на белый войлок и наденет на голову венец.
Маджд-ад-дин, довольно улыбаясь, смотрел на игру. Он думал о вельможах и воспитателях, которые окружали царевича. Его очень занимала мысль об укреплении связей с царскими сыновьями. Он спустился с пригорка.
Увидев вдали Хусейна Байкару, который гулял в цветнике, окруженный, как всегда, собеседниками, приближенными и беками, Маджд-ад-дин взволновался. Он поспешно, прошел пятнадцать — двадцать шагов и склонился в почтительном поклоне. Затем с новым поклоном подошел ближе и передал государю привет от Кичика-Мирзы.
Хусейн Банкара был в прекрасном настроении. — Оставайтесь с нами, — сказал он улыбаясь. Маджд-ад-дин, чувствуя на себе насмешливые взгляды присутствующих, поклонился чуть не до земли и униженно поблагодарил.
По тенистой аллее, усеянной пляшущими золотыми пятнами солнечного света, султан направился к голубятне. Каждый из сопровождающих старался придумать какое-нибудь словечко или фразу, которая могла бы понравиться государю. Маджд-ад-дин, сознавая свою полную неспособность к остротам и ярким, неожиданным сравнениям, молчал; но всем своим видом он старался выразить преданность государю.
Из комнатки, прилегающей к голубятне, вышел, почтительно кланяясь, красивый старик с лицом наркомана и подведенными сурьмой глазами. В детстве султан часто бегал к этому старику покупать голубей и до сих пор сохранил к нему почтительную любовь.
Хусейн Байкара сел в тени фруктовых деревьев на край супы, покрытой шелковым ковриком. Старик вынес большую деревянную чашку с просом и рассыпал его по земле; затем он отворил все три дверцы голубятни. Десятки птиц с шумом вылетели на широкий двор и бросились подбирать зерна. Пестрые, сизые, белые голуби с торопливой жадностью клевали просо.
Следя за птицами — и прислушиваясь к рассказам старого голубятника о их повадках, Хусейн Байкара радовался, как ребенок.
Когда проса больше не осталось, старик издал какой-то странный звук и стал слегка помахивать длинной веткой. Пестрая стайка взметнулась в воздух. Хлопая в ладоши, старик заставил взлететь и птиц, искавших зерно на земле.
Султан Хусейн, заложив руки за спину и выпятив широкую грудь, поднял голову к небу и смотрел, не отрывая взгляда, на воздушную пляску голубей, весело носившихся в прозрачном горячем небе. Губы государя шептали:
— Эти птицы уносят в полете мое сердце…
В это время кто-то из присутствующих громким голосом прочитал строку о голубях из «Беседы птиц» Ферид-ад-дина Аттара. Строка очень понравилась Хусейну Байкаре. Покачивая головой, он несколько раз повторил слова.
Крылатые плясуны спустились с небесной сцены и стали возвращаться в свое жилье. Государь, потирая затекшую шею, удалился. Слуги доложили, что приготовления к пиру закончены.
Пирушка, как всегда, происходила в самом большем здании Баг-и-Загана. В центре, на груде шитых золотом подушек, восседал, поджав ноги, Хусейн Байкара. Подле него полукругом сидели красивые юноши, одинаково одетые и почти одного возраста. Они пребывали во дворце для придания большей пышности собраниям государя.
Справа и слева от Хусейна Байкары расположились вельможи, связанные родством с царствующим домом, и несколько неудачливых, царевичей, нашедших приют в чертогах султана. Беки, высшие чиновники, прочие гости и собутыльники занимали места, соответствовавшие их положению. Среди присутствующих было много ученых, поэтов, знаменитых гератских музыкантов и певцов. Все они часто бывали на подобных приемах и превосходно знали их распорядок.
Начавшись, как всегда, чинно и торжественно, собрание понемногу оживлялось. Хусейн Байкара предложил вниманию присутствующих свою новую газель. Ходжа Абдулла Мерварид, важный чиновник, который прекрасно декламировал стихи и тонко в них разбирался, прочитал ее. Поклонники и тюркской, и персидской поэзии возвели это стихотворение — газель на тюркском языке — в разряд высоких художественных произведений. Даже люди, мало понимавшие в поэзии, начали повторять отдельные строки и обсуждать их. Хусейн Байкара попросил поэтов изучить газель и написать на нее ответ. Затем стали рассказывать веселые анекдоты. Собравшиеся неумолчно хохотали. Особенно отличался знаменитый сатирик и остряк Абд-аль-Васи. Его слова и жесты смешили всех до упаду. После Абд-аль-Васи не осмелился выступить ни один затейник.
Стольники, бегая на цыпочках, ловко разостлали скатерти. Подали жареных гусей, баранину, манты[64] и другие кушанья. Яства сменялись одно другим. Личный стольник Хусейна Байкары подносил ему кушанья на особом блюде. Кравчие, расставив на серебряных подносах золотые кубки, с поклоном предлагали гостям вино. Хусейн Байкара первый взял в руки золотой кубок и подал знак собравшимся. Все опорожнили свои чаши в честь государя.
Хотя Хусейн Байкара в государственных делах редко вспоминал «установления» Тимура, в подобных собраниях он оставался верен традициям своего великого предка. Однако как ни старался султан Хусейн следовать Тимуру, время и среда внесли большие перемены. На пирах хромого завоевателя простота кочевника соединялась с необыкновенной пышностью. В те времена повара на огромных блюдах приносили зажаренные целиком жирные конские туши и громоздили их посреди комнаты, словно горы. Затем стольники руками, до самых локтей затянутыми в кожу, тут же на глазах присутствующих отрывали куски и раздавали гостям. Каждый должен был унести часть своей доли домой; считалось принятым растаскивать кости с блюда и грызть их. Но вино было не всегда; попойки устраивались не часто. Зато если принимались пить, то пили без меры, как пьют кумыс на летовках. Огромные, грубые, неуклюжие, простодушные богатыри, большей частью в монгольских одеждах, требовали на пиру друг от друга бесстрашия, выносливости и благородства. У кого оставалась в чаше хоть капля вина, тот должен был выпить одну за другой девять чаш не перевода духа. Если же из последней чаши можно было выцедить хоть одну каплю, — пей еще девять чаш.
У Хусейна Байкары тоже считалось, непреложным правилом пить, не оставляя ни капли, но правило это зачастую не соблюдалось. Наказанию подвергали только изредка, ради увеселения присутствующих.
Вино развязало языки и оживило пирующих. Время от времени поэты вставали с мест и, торжественно подняв чаши, декламировали стихи, сочиненные тут же или приготовленные заранее специально для данного случая. Оркестры, состоявшие из гиджака, тамбура, ная, лютни, бубна и других инструментов, исполняли арабские, персидские, турецкие, тюркские мелодии. Певцы пели песни, плясуны в праздничных одеждах летали среди широкого круга зрителей.
С наступлением сумерек зажгли свечи в золотых подсвечниках. Ковры, кубки, рубиновое вино, росписи на стенах — все засверкало. Собрание оживилось еще больше. Любители выпить наполняли чаши, не давая виночерпиям передохнуть. Хусейн Байкара выпил очень много, но был совершенно трезв. Чтобы поднять настроение, он то и дело предлагал гостям пить, но при этом украдкой следил за поведением каждого. Следуя своему обычаю, он поднялся с места и вышел через заднюю дверь, чтобы немного подышать чистым воздухом; он исчез так внезапно, что многие сначала даже и не заметили его отсутствия.
Маджд-ад-дин как будто только и ждал этой минуты; проскользнув через другой выход, он быстро юркнул наружу. Среди деревьев при бледном свете луны Маджд-ад-дин увидел Хусейна Байкару; он смиренно приблизился к султану и почтительно попросил уделить ему минуту внимания.
— Пойдем, послушаем вашу просьбу, — равнодушно ответил Хусейн Байкара и направился к маленькому домику;.
В это время позади султана, шагах в десяти от него, возникли две огромные тени: Маджд-ад-дин вздрогнул и запнулся, не зная, идти ли ему дальше или остановиться. Это были два страшных телохранителя государя Дулана и Будана. Где бы ни находился султан Хусейн, они всегда, особенно по ночам, следовали за ним, ловко прячась от людских, глаз. Про Будану и Дулану с полным правом можно было сказать: «Семь дедов — палачи, семь бабок — ведьмы». Оба были живым воплощением грубой силы; при одном звуке их имен людей бросало в дрожь. Руками этих рабов государь вершил свои темные кровавые дела.
Хусейн Байкара насмешливо посмотрел на Маджд-ад-дина. Будана и Дулана мгновенно скрылись, словно тени!
Государь вошел в маленький, богато украшенный домик. У Маджд-ад-дина еще тряслись ноги; не спросив даже разрешения, он присел против государя на корточки.
Теперь Хусейн Байкара уже очень захмелел. Прищурив пьяные глаза, он начал бестолково болтать, перескакивая от государственных дел к своим личным, намекал на свое недовольство некоторыми из приближенных и без основания хвалил других.
Пьяная откровенность государя ободрила Маджд-ад-дина. Следуя пословице «Куй железо, пока горячо», он начал всячески восхвалять султана и несколько раз повторил, сложив руки на груди:
— Я — самый верный пес у высокого вашего порога.
— Верные люди всегда увидят от меня благо, но горе неблагодарным! — отвечал Хусейн Байкара.
Грудь Маджд-ад-дина, казалось, не вмещала его преданности, верности и любви.? Он поднялся на ноги и почтительно произнес:
— Великий хакан! У вашего презренного раба есть для вас подарок. Уповаю, что вы его примете, чем вознесете до небес сердце вашего слуги…
— Предлагать подарки и принимать их — превосходное дело, — с улыбкой сказал Хусейн Байкара.
— Дуновение судьбы принесло к нам свежую розу из сада красоты — таинственно заговорил Маджд-ад-дин. — Описать ее выше сил вашего раба. Как только мой глаз упал на эту пери, я понял, что она достойна хакана.
Глаза Хусейна Байкары засветились вожделением.
— Такой дар приятнее целого царства.
— Это, только маленький подарок вашего, раба, — скромно поклонился Маджд-ад-дин.
— Я нисколько не преувеличиваю. Вы помните знаменитую газель Хафиза Ширази?
— Нет, не помню, повелитель мира..
Хусейн Байкара, покачивая в такт головой, прочитал:
Маджд-ад-дин спросил, каким способом доставить его подарок в царский гарем. Хусейн Байкара помолчал, затеи вдруг поднялся и направился к выходу. Остановившись на минуту в дверях, он сказал:
— Я хочу взять вас от Кичика-Мирзы.
— Для меня великая честь не только служить у подножия вашего престола, но и быть простым нукером вашим, — ответил Маджд-ад-дин.
Когда они возвратились в зал, пир был в полном разгаре. Маджд-ад-дин гордо вошел вслед за государем и сел на прежнее место. Беки и чиновники многозначительно переглянулись.
Веселились до утра. Маджд-ад-дин, у которого от бессонной ночи и обильных возлияний слипались глаза, усталой походкой возвращался домой. С высоких минаретов мечетей звенели голоса муэдзинов. По большой дороге, ведущей к воротам Мульк, спешили на базар дехкане и садовники. Они вереницей тянулись от ворот, подгоняя нагруженных лошадей и ослов, а то и просто неся на головах большие корзины с виноградом и другими фруктами.
Придя домой, Маджд-ад-дин позвал свою жену, которая не успела еще умыться, и приказал ей нарядить Дильдор в лучшие платья и золотые украшения и сегодня же отослать ее в гарем государя. Затем он, не раздеваясь, бросился на постель. В полдень его разбудило приятное известие: высочайшим указом он был назначен на должность парваначи.
Глава девятая
После небольшого мороза выпал долгожданный снег и, покрыв белой пеленой деревья и кровли, не таял вот уже два дня. Во дворце государя готовились к зимним приемам, с их своеобразными удовольствиями и развлечениями.
Навои, согласно существовавшему среди гератской аристократии обычаю, написал одному из своих друзей «снежное письмо», в котором нарисовал поэтическую картину зимы и яркими, живыми красками изобразил переживания, вызванные в его сердце зимним пейзажем.
По случаю первого снега один из друзей Навои пригласил его сегодня в гости. Но Навои увлекся работой и забыл о приглашении. В минуты, свободные от государственных дел, поэт не оставался праздным: он читал, писал стихи, упражнялся в каллиграфии или же пробовал сочинять новые мелодии. Иногда он даже занимался рисованием, пытаясь выразить свои мысли красками. Размышления, книги, музыка — его всегдашние спутники. Он любит повторять изречение: «Час размышления лучше, чем год благочестия».
Окна накрепко заперты. Посреди комнаты, обставленной с тонким вкусом и какой-то внутренней гармонией, пылает мангал, наполненный ярко-красными угольями. На цветных стеклах в верхней части окон играют лучи зимнего солнца. Навои сидит возле мангала, на коленях у него книга, на книге листок цветной бумаги. Немного наклонив голову, покрытую остроконечной ермолкой, поэт пишет, легко водя, каламом.
Муки творчества сравнивают с муками деторождения. Когда в сердце Навои просыпаются муки творчества, эти страдания доставляют ему высочайшее наслаждение утешают, как песня матери, словно солнце, дают жизнь и радость: потому он и пишет так легко, с таким искренним радостным увлечением. Он — истинный волшебник слова. Любую мимолетную мысль, любое тончайшее, неуловимое душевное движение, волнение чувств в сердце умеет он воплотить в слова с поразительной яркостью: в капле изображает волнение моря, в одной искре — сияние многих светил, из повседневной жизни творит возвышенные, глубокие легенды. Он — поэт, усвоивший тысячелетнюю культуру, сокровища мысли многих веков. Гений его поэзии, пустив глубокие корни в почву искусства арабов, иранцев — и тюрков, расцвел, вспоенный их неумирающей силой. Навои знал наизусть десятки тысяч стихов. В четыре года он читал на память много стихов, в девять лет зачитывался научными, философскими произведениями; ребенком затевал дискуссии с опытными поэтами об искусстве стихосложения.
Перо плавно скользит по бумаге. Слова свободно нанизываются на золотую нить стиха. Они горят в строчках, словно жемчужины, сверкают новыми красками, новым блеском. Поэт радуется простой чистой красоте языка своих стихов. Строки заполнили страницу. Возник новый букет цветов на родном языке. Поэт отложил калам в сторону и прочитал про себя:
Поэт положил газель между страницами книги. Облегченно вздохнув, он поднялся с места и поставил чернильницу на полку. Его глаза остановились на шкатулке из слоновой кости китайской работы. Навои любил изящные вещи. Он подумал: «В Хорасане есть удивительные мастера во всех областях искусства. Среди ремесленников много способных, умелых, трудолюбивых людей. Почему, например, нельзя изготовлять в Герате китайский фарфор, китайские шелка, кашмирские шали? Следует развивать ремесло, надо поощрять людей, могущих поднять эти ремесла до высот искусства».
Навои вспомнил, какие изумительные вещи — изделия рук гератских мастеров — он недавно видел на празднике ремесленников. Он был убежден, что многие привозимые из дальних стран редкости можно было бы изготовлять в самом, Герате.
Навои озяб. Он сел перед мангалом и слегка помешал медными щипцами подернувшиеся пеплом угли. Потом сложил руки и снова предался поэтическим фантазиям. «Час размышения лучше, чем год благочестия!» Ему хотелось создать большие поэмы, образцы силы и красоты родного языка. Мысли его витали в прекрасных садах древних легенд. Почему золотые ворота этих садов закрыты для его народа? Разве его народ в чем-нибудь уступает арабам или иранцам? Нет! Он должен создать для своих современников неувядающие цветники поэзии.
Дверь медленно отворилась, и появился Шейх Бахлул, недавно поступивший на службу к поэту. Это был скромный, смиренный, образованный юноша, мягкого нрава. Ценя высокие достоинства своего хозяина, Шейх Бахлул считал для себя честью служить ему.
— Пожалуйте, что скажете? — рассеянно спросил Навои.
— Его величество султан справлялся о вас в Доме увеселений — ответил Шейх Бахлул.
Навои помолчал, опустив голову, потом недовольным голосом произнес:
— Скажите, что я скоро приду.
Шейх Бахлул кивнул головой и вышел. Поэт накинул поверх шелкового халата легкую шубу отороченную бобровым мехом. На улице, у ворот, он сел на коня и отправился во дворец.
В Доме увеселений дворцовые служители встретили Навои с обычным почтением.
Поэт поднялся на второй этаж. С четырех сторон на площадку лестницы выходили четыре комнаты, между ними находился обширный зал, на стенах которого были изображены картины битв и походов. Хусейн Байкара принял Навои в этом зале. После обычного поклона Навои осведомился о здоровье государя и, усевшись, устремил взор на роспись стен. Он внимательно рассматривал героев: они вздымали коней на дыбы и метали стрелы или защищаясь щитом от ударов, заносили меч над головой врага. В лицах людей не хватало живости, движения, они казались неестественными.
Хусейн Байкара начал жаловаться на некоторых правителей государства. Пользуясь случаем, Навои высказал свои наблюдения и пожелания, касающиеся государственных дел. Он говорил, что необходимо уделять внимание земледелию и ремеслам, способствующим процветанию страны, и особенно важно покровительствовать ученым, поэтам, художникам и музыкантам.
— Государь всегда должен быть осведомлен о том, что делается в столице и во всех областях страны, он должен тщательно следить за деятельностью своих чиновников, — говорил Навои.
Хусейн Байкара внимательно слушал поэта. Затем, слегка сдвинув на затылок большую шапку с каракулевым верхом, он с улыбкой объявил, что пригласил поэта с определенной целью: он предлагает Алишеру должность эмира в диване.
Это предложение взволновало Навои. — Вы опять поднимаете этот сложный вопрос, — сказал он. — А между тем, вам известно, что у вашего покорного слуги есть на этот счет возражения.
Хусейн Байкара нахмурился..
— Мы обдумали эти возражения, но сочли ваши доводы неубедительными. Наше сердце не успокоится, пока мы не возвысим на должность эмира человека которому нет равных в нашей стране. По воле аллаха, наше решение принесет хорошие плоды.
Я благодарю за высокую милость, но, если возможно, прошу освободить меня от какой бы то ни быль официальной должности, — решительно сказал Навои. — Быть эмиром и ставить печать в диване — почетное дело, но мое сердце более склонно к свободе. Я желал бы служить государству и народу с чистым сердцем. Быть может, мои возражения покажутся лишенными смысла, но, если вдуматься, — я уверен, они станут понятны. Ведь, если я приму должность эмира, многие знатные лица будут уязвлены. Душа человека не свободна от слабостей. Поднимутся лишние разговоры. Место дружбы займет лицемерие.
Хусейн Байкара махнул рукой, показывая, что вопрос решен.
— Если мы чего-либо пожелали, то возражений не переносим, — сказал он улыбаясь. — Мы отдали приказ, чтобы ни один эмир не садился в собраниях выше вас. Что же касается печати, то эмир Музаффар Барлас — и только он один — будет, если вы разрешите, ставить свою печать выше. Теперь дело за звездами. Как только звездочеты назначат счастливый час, вы приложите печать.
Навои попытался привести новые возражения, новые доказательства, но Хусейн Байкара не хотел ничего слышать. В конце концов Навои пришлось поблагодарить государя за непрошеную милость.
Хусейн Байкара пригласил его на вечернюю пирушку. Поэт спустился на нижний этаж Дома увеселений. Там, в одной из комнат, собрались друзья Навои: Пехлеван Мухаммед-Сайид, везир Ходжа Ата, Ходжа Абдулла Мерварид и другие. Все они поднялись и радушно приветствовали Навои.
Навои занял место среди своих друзей. Завязалась оживленная беседа. Мухаммед Сайид — искусный борец, музыкант и поэт — большой друг Навои, медленно цедя слова сквозь толстые губы, рассказал много интересного об искусстве борьбы. Он на время взял из медресе своего девятнадцатилетнего племянника, чтобы подготовить его к встрече со знаменитыми чужеземными борцами, которых ожидали в Герате, и рассказывал о том, как он его тренирует. Потом разговор перешел на поэзию, музыку, дервишскую философию и другие отвлеченные темы. Вошел Ходжа Афзаль и поздравил Навои с милостью султана. Друзья встретили весть о новом назначении Навои с большой радостью. Навои был удивлен тем, что так быстро распространился слух о его назначении. Пехлеван, улыбаясь своим широким бородатым лицом, взволнованно сказал:
Это — золотая страница в истории древнего Хорасана.
— Сегодня родилось счастье народа, — добавил Ходжа Афзаль.
Вошли Маджд-ад-дин, Низам-аль-Мульк, Эмир Могол и несколько беков. По их растерянным лицам было видно, что они осведомлены о случившемся. Парваначи Маджд-ад-дин старался держать себя как можно надменнее. Эмир Могол то и дело поглядывал на Маджд-ад-дина, многозначительно подмигивая своими пьяными глазками. Барласские беки хранили угрюмое молчание. Лишь хитрый Низам-аль-Мульк, как всегда разряженный и чванный, словно павлин, подошел к поэту и шепотом поздравил его с высокой должностью. Навои насмешливо улыбнулся и громко сказал:
— По моему мнению, не существует ни высоких, ни низких должностей. Для блага народа я бы с гордостью взял на себя обязанности простого нукера.
Низам-аль-Мульк отвел глаза. Он погладил унизанной сверкающими перстнями рукой свою красивую бороду и медленно покачал головой.
— Конечно, так оно и должно быть, — сказал он. Вскоре явились дворцовые слуги и пригласили на пир. Все шумно поднялись.
Через день в доме Навои состоялось большое торжество.
В просторном белом доме собралось много гостей. Хозяин дома приветливо встречает входящих. Вот он неслышно заходит на кухню, чтобы посмотреть, как работают повара; одному дает указание, другому напоминает о чем-нибудь и снова выходит. То заглянет в кладовые, чтобы справиться, готова ли халва и другие лакомства. Велит стряпать получше и побольше. Когда в его доме собирается народ, Навои всегда так хлопочет, стараясь как можно лучше принять гостей.
В большой, роскошно убранной комнате собрались беки, высшие чиновники, знаменитые поэты и ученые Герата, Ирака и Азербайджана. Общий разговор еще не ладится, каждый беседует со своим соседом. В переднем углу несколько беков толкуют о войне и охоте. Султанмурад тихо разговаривает по-арабски с иракским ученым. Огромный Мухаммед Сайид Пехлеван дружески беседует с суетливым маленьким старичком-астрологом. Верховный звездочет государя быстро и без труда угадывает по звездам, пользуясь их тайными даровыми советами, все, что угодно: счастье или несчастье, зло или благо, удачу или неудачу. Если Улугбек, по выражению Навои, низвел своими работами небо на землю, то есть сделал законы движения звезд понятными для людей, то этот старик отодвинул небесную даль еще дальше и окутал ее плотной, завесой тайн. Когда бедняку надлежит снимать, когда надевать штаны, в какой день и час государю садиться на золотой престол, когда писать любовное письмо милой, когда готовить яд; для врага, — на все это астролог дает по звездам советы. Во дворце исстари принято приурочивать важные дела и торжественные события ко времени, выбранному звездочетом. И сегодня он тоже выбрал для Навои час, когда поставить эмирскую печать.
— Согласно нашей науке, господь назначил звёзлды на каждый день. Одну звезду царём, другую — везиром, — говорит астролог; подкрепляя свои слова движениями руки. — Сегодня повелитель всего сущего — солнце, везир — луна. Всмотритесь внимательно в суть вещей — все знаменитые события происходили в такие дни. Вступление господина Алишера на — высокую должность пришлось на очень счастливый день. Для приложения печати мы назначили час Венеры. Это час всякого благого дела. Венера сегодня в апогее, то есть на седьмом кебе. Ее образ вполне соответствует основной цеди и естеству Алишера. Ибо Венеру изображают в виде пляшущей красавицы с чангом[65] и кеманчой[66] в руках, она знаменует красоту, искусство, радость и успех.
Мухаммед Сайид попросил старика продолжать, не в это время из дворца пришли личные слуги султана. Они принесли Навои эмирское платье, шитое золотом. Навои, развязав узел, со смущенной улыбкой облачился в роскошные одежды. Друзья радостно принялись его поздравлять. Только барласские беки, Маджд-ад-дин и некоторые чиновники, следовавшие за ними, как тень, ограничились официальными приветствиями, тщетно стараясь скрыть светившуюся в их глазах зависть. Один из прибывших взял в руку свиток, поднял его над головой и с почтительным поклоном передал Навои. Это был указ, начинавшийся формулой: «Абуль-Гази султан Хусейн Байкара — наше слово». Новый эмир должен был в первый раз приложить свою печать к официальной бумаге на этом торжественном собрании.
Все молчат. Все взволнованны. Все глаза — и как много различных мыслей и чувств выражают они, — устремлены на Навои. Поэт сидит, слегка склонив голову; он кажется взволнованным и смущенным. Многозначительные взоры беков и чиновников на мгновение встретились и тотчас же разошлись, словно испугавшись друг друга. Даже Музаффар Барлас — баловень султана, сильный своими прошлыми заслугами и нередко отказывавший султану в повиновении, — и тот побледнел: «Неужели этот поэт поставит свою печать выше всех эмиров?»
Когда Навои приложил печать к указу, вздох облегчения пронесся по залу. Новый эмир приложил печать в таком месте, что никто не мог поставить свою печать ниже.
Поэт Атаулла и знаменитый ученый Бурхан-ад-дин прочитали тарихи,[67] написанные ими по случаю этого важного события. Затем несколько поэтов взволнованно продекламировали касыды, посвященные Навои. В этот славный день друзья, близкие, представители простого народа один за другим приходили поздравить поэта. Приняв участие в большом радостном пире, собравшиеся разошлись.
Глава десятая
После пятничной молитвы в медресе Гаухар-Шад-бегим царило полнейшее безмолвие. Большинство обитателей медресе вышло в город — погулять или навестить друзей. Султанмурад сидел один в своей комнате. Теперь он встречался со знаменитыми хорасанскими учеными, принимал участие в научных диспутах. Его способности и широкие познания в разных областях науки день ото дня приносили ему все большую известность. Он часто виделся с Навои. Хотя многие молодые «искатели науки» обращались к молодому ученому с просьбой давать им уроки, Султанмурад еще не начинал читать лекций в медресе. Юноше очень хотелось получить должность мударриса, но в Герате было так много ученых, которые открыто враждовали между собой из-за права занять эту должность, что Султанмураду нелегко было осуществить свое желание. У него не хватало смелости состязаться со славными старцами, большей частью его учителями, преподававшими по тридцать, по сорок лет. Навои, который покровительствовал всем бедным гератским студентам, оказывал Султанмураду особое внимание и помощь, так что молодой ученый был совершенно избавлен от нужды. В безмолвном медресе, в своей маленькой комнате, юноша жестоко страдал. Он видел Дильдор всего один раз, вечером, несколько мгновений, но любовь к молодой пленнице, словно жестокий недуг, пылала в его сердце, усиливаясь с каждым днем. Султанмурад знал, что эта девушка для него недосягаема, но сердце его не слушало доводов разума. Чтобы забыться, он целыми сутками читал книги в своей худжре. Но, проглотив десятки томов, он снова отдавался бесконечным мучительным думам о своей любви.
И сейчас он тоже обратился к книгам, пытаясь отвлечься от грустных мыслей. Начав с легких, веселых газелей, Султанмурад перешел к самым сложным, головоломным сочинениям, но через минуту бросил их и, схватив перо и бумагу, принялся писать письмо Дильдор.
Печальные излияния покрывали один лист за другим. Любовное послание к простой деревенской девушке он украшал десятками прекраснейших стихов всевозможных поэтов, глубокомысленными рубаи, посвященными любви и страсти. От этих излияний стало легче на душе. Юноша перечитал письмо. Из глаз его накапали горячие слезы. Что пользы писать? Эти слова; никогда не дойдут до нее. Тиран сорвал эту розу, поэтом он бросит ее в объятия какому-нибудь придворному льстецу или грубому нукеру.
Юноша положил на полку листки бумаги и в изнеможении бросился на постель.
В комнату, весело напевая, вошел Зейн-ад-дин. Он был навеселе.
— Привет вам, почтеннейший ученый.
— Входи, о цветок моего сердца! — с облегчением воскликнул Султанмурад.
Зейн-ад-дин внимательно посмотрел на своего друга и присел возле него на постели. Он уже с неделю проводил время в обществе поэтов, каллиграфов и других выдающихся хорасанцев; сейчас он мимоходом заглянул в медресе, чтобы проведать друзей.
Зейн-ад-дин редко посещал теперь лекции: он стремился усовершенствоваться в каллиграфии и усиленно занимался музыкой.
Но если в Герате было много ценителей красивого почерка, то и хороших писцов там насчитывалось не мало. Этому резвому, как плясун, и легкому, как птица, юноше было крайне трудно заработать что-либо перепиской и создать себе репутацию среди профессиональных писцов, умевших красиво, без единой ошибки переписать в один день целый диван. Зейн-ад-дин иногда переписывал стихи известных поэтов, иногда снимал копии с различных сборников по заказу книгопродавцев.
— Ты болен? — с беспокойством спросил Зейн-ад-дин.
— Нет, только одинок, — с принужденной улыбкой ответил Султанмурад.
— Друг мой, — сочувственно сказал Зейн-ад-дин, — в твоем сердце поселилась печаль. Я давно это заметил, но не решался спрашивать. Сегодня внутренний огонь пылает у тебя на лице. Таиться бесполезно.
Султанмурад прикрыл глаза и тихонько вздохнул.
Зейн-ад-дин, взывая к его дружеским чувствам, требовал откровенности. Наконец Султанмурад, приподнявшись, достал с полки только что написанное письмо и подал его товарищу.
— Вот бледное отражение моих бесконечных страданий, — сказал он потупившись.
Зейн-ад-дин внимательно прочитал все восемь страниц. Руки его слегка дрожали, по лицу разлилась печаль. Кончив читать, он сочувственно взглянул на товарища.
— Отчего ты тогда же мне не открылся? — укоризненно произнес Зейн-ад-дин.
— Мог ли ты отвести от меня железную руку судьбы? — ответил Султанмурад после недолгого молчания.
— Да, мог! — решительно сказал Зейн-ад-дин. — Я был в состоянии вырвать степную красавицу из сетей насилия. — Туганбек в те времена выполнил бы любую мою просьбу. Я крутил этим дураком, как хотел.
— Увы! — печально воскликнул Султанмурад. — Роза моей любви вспоена и взлелеяна печалью. Этой чаши страдания мне хватит на всю жизнь.
— Это письмо станет священной книгой влюбленных, — сказал Зейн-ад-дин, глядя на листки, бумаги. — Ты намерен его послать?
— Это невозможно да и бесполезно, — ответил Султанмурад.
Зейн-ад-дин кивнул головой. Наступило тяжелое молчание. Потом Султанмурад спросил, что делается в Герате. Всякое новое событие, происшедшее среди простого ли народа или аристократии, сейчас же становилось известно Зейн-ад-дину. Зейн-ад-дин знал, что Султанмурада больше всего интересуют события из жизни ученых и поэтов, но на этот раз он решил рассказывать разные мелкие забавные случаи, чтобы развеселить товарища.
— Недаром говорят, что нет во всей обитаемой части земли другого такого города, как Герат, — сказал Зейн-ад-дин, пытаясь, принять обычный шутливый.
Ведь целой жизни не хватит, чтобы рассказать о самых выдающихся событиях за неделю. Недавно Бади-аз-Заман-мирза устроил в своем дворце великолепное собрание. Выдающиеся люди говорят, что ни один царевич, ни на Востоке ни на Западе, с тех пор как создан мир, не устраивал такого приема. Из музыкантов присутствовали Устад Кулмухаммед Уди и Шейх-наи. Шейх сыграл на нае прекрасную мелодию. Устад Кулмухаммед попытался сыграть ту же мелодию на гиджаке, но получилось не гладко. Кулмухаммед сказал, что гиджак не в порядке. Шейх-наи тотчас взял гиджак из рук Устада и исполнил эту мелодию с таким искусством, что присутствующие громкими возгласами выразили свое удовольствие.
— От игры Шейха не то что люди — звезды тают и падают с неба, — сказал, слегка оживляясь, Султанмурад. — Однако Устад Кулмухаммед тоже весьма искусный мастер. В музыке он — творец. Кто, как не он, пристроил к гиджаку третью струну? Покровительство господина Навои, его вкус и знания в музыке помогают Кулмухаммеду создавать великое множество удивительных вещей.
— Об этом нечего и говорить, — согласился Зейн-ад-дин.
— Рассказывай еще. Твои рассказы, словно теплый ветер, заставляют распускаться бутоны моего сердца.
— Знаешь ли ты мирзу Пирима? — спросил Зейн-ад-дин.
— Говорят, он бесподобен, но я его не видал, — ответил Султанмурад.
— Кроме красоты, у него еще много других достоинств. Ни один музыкант не может сравниться с ним в игре на кануне.[68] Мирза Пирим такой приятный собеседник, что кто хоть раз поговорит с ним, не захочет разговаривать ни с кем другим. Видишь ли, одна из жен покойного государя Абу-Саида-мирзы, Рукейя-бегим, взяла его к себе на службу. У Рукейи-бегим не осталось во рту ни одного зуба, а на голове ни одного черного волоса… Удивительная старуха. Она устраивает веселые пиры и живет в мире вина и музыки. Она декламирует стихи без покрывала. Говорят, что даже мужчины, и те смущаются и уходят с ее собраний. Рукейя-бегим влюбилась в Мирзу и потеряла покой. Надевает на себя всякие украшения и пытается высечь огонь изо льда. Мирза Пирим, который выше всего ставит юношескую красоту и душевную гордость, отклонил все заигрывания этой уродины. Чтобы не попасть в лапы коварной старухи, он бежал из Герата. Скрываясь, жил в Балхе, в Астрабаде, в Нишапуре. Разъяренная Рукейя-бегим послала за ним людей, и на днях несчастного юношу привезли в Герат. Она говорит, что Мирза Пирим растратил триста тысяч ее денег. Теперь он в очень трудном положении. Чем кончится это — неизвестно.
— Спаси бог! — удивленно воскликнул Султанмурад.
Зейн-ад-дин прочитал рубай одного поэта о Рукейе-бегим. Рубай было до того бесстыдно и так соответствовало качествам престарелой красавицы, что Султанмурад невольно расхохотался. Зейн-ад-дин тоже смеялся до слез. Утирая платком влажные глаза, он выглянул в окно.
Небо покрылось облаками, и трудно было определить время. Зейн-ад-дин спросил Султанмурада, который час.
— Я надеялся, что ты сегодня останешься со мной, — недовольно проговорил Султанмурад, удерживая приятеля за руку. — Расскажи, что еще нового.
— Хорошо, посижу еще минутку. Но зато ты потом пойдешь со мной.
Султанмурад сделал неопределенный жест, как бы говоря: «Посмотрим».
Рассказав еще несколько — новостей и анекдотов, Зейн-ад-дин наконец поднялся.
— Скорее одевай праздничный халат, наматывай чалму.
— Куда? — спросил Султанмурад, которому не хотелось двигаться с места.
— Если хочешь развеять горести, накопившиеся в сердце за всю жизнь, — Идем со мной.
— Веселые сборища меня не привлекают. Ты меня немного утешил, этого достаточно.
— Твоя пленительная красавица теперь покоряет сердца других. Смирись перед судьбой, — сказал Зейн ад-дин. — Забудь ее. Если хочешь, я тебя познакомлю с нашими гератскими волшебницами. Понюхай десять роз и выбери одну.
— О, если бы я мог забыть ее, — с горечью сказал Султанмурад. — Дильдор — солнце на небе красоты.
— Это солнце зашло за облака.
Глаза Султанмурада снова наполнились слезами Зейн-ад-дин потянул юношу за руку.
— Ты до сих пор не имеешь понятия о гератских увеселениях, — горячо заговорил он. — Старики утверждают, что наш современный Герат напоминает Самарканд эпохи эмира Тимура и Улугбека. Идем, я не веду тебя на какое-нибудь пиршество с разгулом страстей. Ты увидишь замечательное общество, познакомишься с мастерами шахматной игры.
Султанмурад поднялся. Он облачился в дорогой шелковый халат, недавно подаренный ему Навои, снял с колышка чалму и сказал, обматывая ею голову:
— В те времена в Самарканде даже шейх-уль-ислам приглашал на свои пиры красивых музыкантов и певцов, пили вино и играли в шахматы. Когда я учился в Самарканде, — то слышал удивительные рассказы об этом.
… На площади рядом с медресе большая толпа народа окружала знаменитого гератского юродивого — дивану — Дервиш-Шамриза.
Этот оборванный дервиш с распущенными, спадающими на плечи волосами и горящими глазами пользовался в народе большой славой. Многие преклонялись перед ним, считая чудотворцем и святым, другие любили его за веселые шутки, острые насмешки и афоризмы.
Дивана[69] громким голосом читал газели, потом переходил к забавным анекдотам и во всеуслышание отпускал непристойности, вызывая громкий смех присутствующих.
Султанмурад с Зейн-ад-дином немного постояли и толпе и двинулись дальше. Они вышли на дорогу, ведущую к Рыбьему пруду — Хауз-и-Махиан. По обеим сторонам дороги тянулись, тесно примыкая друг к другу, огороды, небольшие поля, фруктовые сады, цветники. Среди них, утопая в зелени деревьев, виднелись легкие двухэтажные дворцы с покрытыми яркой росписью стенами, огромные великолепные дома богачей и беков; рядом с ними, будто стесняясь своего убогого вида, прижимались к земле ветхие, покосившиеся хижины гератских ремесленников.
Пройдя с полфарсаха, Зейн-ад-дин свернул налево. В конце узкой кривой улицы, застроенной старыми одноэтажными домами, возвышались широкие, ярко раскрашенные ворота. Зейн-ад-дин и его спутник вошли в ворота и, пройдя между рядами стройных кипарисов, оказались в саду, прекрасном даже зимой. Из нового одноэтажного кирпичного дома с расписными стенами им навстречу вышел изысканно одетый юноша. Это был сын крупного гератского купца. Его отец, владелец многих лавок на базаре, был знаменит тем, что, пригласив к себе какого-то царевича, выставил дастархан из тысячи разных блюд, чем поверг своего гостя в немалое изумление. Молодой богач запросто поздоровался с Зейн-ад-дином, с которым он познакомился на каком-то собрании. Опасаясь, что юноша не окажет достаточного внимания Султанмураду Зейн-ад-дин тотчас же представил своего друга и принялся восхвалять его ученость. Султанмурад скромно приветствовал хозяина дома и, краснея, попытался обратить слова Зейн-ад-дина в шутку. Молодой человек, приветливо улыбаясь, повел их за собой в дом.
В комнате, богато убранной китайской посудой, иранскими и индийскими шелковыми тканями и всевозможными редкостями, было много народу. Здесь собрались сыновья беков, разодетые в шелковые и бархатные халаты, и молодые щеголи, принадлежавшие к богатым семьям столицы, а также много любителей шахмат. Разговор шел о всевозможных предмет: о новом строящемся дворце государя в саду Джехан-Ара, о последней газели Навои, положенной на музыку Ходжой Абдуллой Мерваридом, о поведении Ислима Барласа во время игры в шахматы.
Наконец наступила долгожданная минута. Посредине комнаты разостлали четырехугольный платок, на который положили шахматную доску, маленький бубен и кинжал. Знаменитые мастера — маулана Ходжа и Эмир-Халил уселись на корточки перед доской и начали расставлять фигуры из слоновой кости. Оба они достигли средних лет, но, тем не менее, были одеты франтовато, словно веселые молодые щеголи. Присутствующие широким кругом обступили игроков. Султанмурад толкнул Зейн-ад-дина коленом и с удивлением указал глазами на бубен и кинжал. Зейн-ад-дин, улыбаясь, шепнул ему на ухо:
— Не пытайся давать советы игрокам во время игры.
Султанмурад удивился еще больше.
— Они, правда, не кидаются на советчиков с кинжалом, но очень сердятся, — полушепотом проговорил Зейн-ад-дин.
— А бубен зачем? — не отставал Султанмурад.
— Потерпи, душа моя, увидишь.
Начало партии не представляло особого интереса, но так как играли знаменитые мастера, все, не отрываясь, смотрели на доску. Однако вскоре игра оживилась. Эмир-Халил перешел в атаку. Зрители побледнели от волнения, глаза их разгорелись. Наконец Эмир-Халилу удалось привести противника в замешательство. С чуть заметной улыбкой он гордо посмотрел по сторонам и приятным голосом прочитал подходящий к случаю стих.
Волнение зрителей усилилось. Ходжа наморщил сросшиеся брови: вот он наконец нашел выход из трудного положения. Султанмурад, который весь ушел в наблюдение за игрой, многозначительно посмотрел на своего друга и выразил восторг перед мастерством шахматистов. Сделав удачный ход, Ходжа произнес соответствующий стих, в котором говорилось об избавлении от опасности. Те, кто слышал этот стих впервые, с удовольствием повторяли его друг другу на ухо, стараясь запомнить. Пока Эмир-Халил сдвинув брови, обдумывал ход, Ходжа, вскочив с места звонко ударил в бубен, Зрители отодвинулись назад, расширив круг, Ходжа, сам себе подыгрывая на бубне, заплясал с таким увлечением, что присутствующие невольно разразились криками восторга. С комическими жестами, которых никто не мог бы повторить, маулана Ходжа сел на место.
Игра все более обострялась. Оба мастера так и сыпали стихами и четверостишиями. Забирая фигуру, каждый пускался в пляс и вдобавок произносил несколько стихов. Противники соперничали не только в игре в шахматы, но и в знании множества стихов о шахматах и умении вовремя сказать их. Большинство зрителей больше увлекалось этой стороной состязания, чем самой партией, и собралось главным образом ради поэтической части игры. Вот Эмир-Халил поднимает руки, бьет в бубен, декламирует и садится напротив Ходжи. При этом он до того смешно жестикулирует, что зрители надрываются от смеха. Наконец партия кончается вничью. Мастера с улыбкой пожимают друг другу руки. Все горячо их поздравляют.
После ужина гости начали понемногу расходиться. Султанмурад тоже поднялся. Попрощавшись с хозяином дома и Зейн-ад-дином, который остался еще посидеть с друзьями, юноша удалился.
В сумерках, когда Султанмурад безмолвно сидел у ворот медресе, к нему подошел простой деревенский парень.
— Господин, вы знаете человека по имени Туганбек? — застенчиво спросил он Султанмурада.
— Знаю, — ответил Султанмурад. — А откуда вам известно, что я с ним знаком? — подозрительно осведомился он.
— Люди говорят, что у него есть приятели в этом медресе. Где он теперь?
— А что вам нужно? Зачем вам понадобился Туганбек? — с интересом спросил Султанмурад, поднимаясь с места.
— Э, господин, это длинная история.
Интерес Султанмурада усилился. У него было достаточно времени, чтобы послушать «длинную историю». Он провел юношу в свою худжру; достав, с полки огниво, высек огонь и зажег свечу. С улыбкой сказал юноше, который смотрел то на него, то на большие толстые книги: — Слушаю вас. Начинайте.
Назвав себя Арсланкулом, молодой человек заговорил о своем кишлаке, о своей жизни и любви. И вдруг он произнес имя Дильдор. Султанмурад побледнел как полотно, его бросило, в дрожь. Арсланкул говорил, потупив глаза, и не заметил, как изменился в лице молодой ученый. Он рассказал, как в его кишлак приезжал сборщик налогов по имени Туганбек, как много горя он причинил крестьянам. Туганбек остановился в доме Дильдор и уж очень на нее заглядывался. А во время краткого царствования Мирзы Ядгара неизвестные люди однажды ночью похитили девушку. Догадавшись, что Дильдор похищена Туганбеком, Арсланкул пришел в Герат. Не найдя Туганбека здесь, он отправился по совету некоторых людей в Астрабад, оттуда в Балх. Рассказав о всех тяготах, которые он перенес в дороге, Арсланкул тяжело вздохнул и поднял голову.
— Господин, вам нехорошо? — испуганно спросил он. Султанмурад сильно смутился. Тщетно пытаясь скрыть свои страдания, он ответил;
— Ваша правда. Я нездоров.
Арсланкул помолчал немного. Поднимаясь с места, он спросил:
— Вы, видно, не знаете, где теперь Туганбек?
— Сидите, сидите, поговорим. Что вам нужно от Туганбека?
— Когда я найду этого пса, то узнаю, где девушка — жива она или умерла, или он ее продал в чужие края. За причиненное зло Туганбек увидит от меня только зло.
— Туганбек много месяцев назад бесследно исчез, — сказал Султанмурад, немного овладев собой. — Но недавно он снова появился в нашем городе. Он очень близок с большими людьми государства. Не знаю, удастся ли вам отомстить ему… Но только ваша любимая не у него.
— А вы не слышали, где она теперь? — дрожащим голосом спросил Арсланкул.
Султанмурад крепко сжал руками виски. Голова у него кружилась. Он долго молча размышлял и наконец решил открыть Арсланкулу правду, как бы горька она ни была.
— Девушку подарили султану, — сказал он с тяжелым вздохом.
Вся кровь отлила от лица Арсланкула. Глаза его затуманились.
— Горькая моя доля! — произнес он после долгого молчания. — Не видать мне больше Дильдор вовеки! — Я знаю, слышал, государю дарят красивых девушек и получают за это большие должности. Ладно… Придет время — мы с Туганбеком еще посчитаемся… — Он поднялся и направился к выходу. Султанмурад, провожая его, сказал:
— Теперь мы знакомы. Заходите проведать, буду рад.
Арсланкул поблагодарил и исчез во мраке. Султанмурад присел около свечи. Голова у него кружилась, в глазах темнело. «Откуда явился этот неведомый юноша? — Кто его прислал? Почему он любит мою Дильдор?» Все случившееся казалось Султанмураду сном, наваждением.
Зашел сосед по худжре и что-то сказал. Султанмурад посмотрел на него невидящим взглядом. Сосед сообщил, что после полудня приходил человек с приглашением от Навои. Султанмураду не хотелось, он боялся выдать свои чувства. Однако отказаться от приглашения Навои было бы слишком невежливо. К тому, же беседа с Алишером всегда облегчала душу. Выйдя из худжры, юноша, не обращая внимания на грязь, быстро зашагал в темноте.
Когда Султанмурад вошел в комнату, где обычно происходили приемы Алишера, собрание было в полном разгаре. Извинившись за опоздание, он поздоровался со всеми. Навои указал ему место возле себя и предложил дастархан из всевозможных яств, сладостен, отборных гранатов, яблок и груш. На собрании присутствовали великие ученые, известные в Хорасане и другое странах, постоянный собеседник Навои поэт Шейхим Сухейли, поэты Хафиз Аяри, Хилали, престарелый Хасан Ардашир, ведший образ жизни дервиша, и некоторые приближенные Алишера.
Золотое солнце на потолке, разноцветная живопись на стенах сверкали при свете парных свечей в больших подсвечниках и услаждали чувства, как поэзия, как музыка.
Присутствующие свободно говорили на трех языках — тюркском, персидском, арабском, — как кому удобнее. Почти все ученые обладали глубокими сведениями не только в своей отрасли знания, но и во многих других науках. Среди них были люди, соединявшие науку с искусством, — хорошие плясуны, композиторы, сочинявшие музыку для песен, искусные живописцы.
Навои, по своему обыкновению, сидел ниже гостей — спокойный, скромный, с изящными, благородными манерами. Хотя ученые восхищались его глубокими сведениями во всех отраслях науки и всюду говорили о них, сам Навои никогда не выставлял своих знаний напоказ. Терпеливо и внимательно выслушивая других, Навои не смеялся над чужими ошибками, чаще всего он говорил: «На взгляд вашего покорного слуги, этот вопрос следует понимать так-то».
Беседа, прерванная приходом молодого ученого, продолжалась. От этических учений Сократа и произведений Аристотеля разговор легко переходил к взглядам Ибн-Сины на медицину или к астрономическим таблицам Улугбека.
Султанмурад так рассказывал своим друзьям об этих собраниях: «Начиная с философии и логики и кончая толкованием снов и гаданием на песке — в любой области происходят весьма полезные дискуссии». Между тем в комнате появились новые гости. Пришел Шихаб-ад-дин, самый невежественный, но в то же время самый гордый из хорасанских ученых, который в мир науки проник исключительно благодаря своей наглости. Его сопровождал Беннаи, весьма способный поэт, но резкий и упрямый человек, интриган, не делавший в жизни различия между запретным и дозволенным.
Шихаб-ад-дин в чересчур просторном, ярком халате прошел в глубину комнаты и гордо уселся на почетном месте, словно учитель среди учеников. — Небрежно одетый Маленький, коренастый Беннаи с клочковатой бородой и беспокойно бегающими глазами насмешливо оглядел присутствующих. Он поклонился с притворным смирением и сел на первое попавшееся место. Навои встретил его с обычной вежливостью.
Беннаи, не интересуясь беседой, все внимание обратил на еду. Шихаб-ад-дин, наоборот, даже не взглянул на дастархан. С видом ученого, который один только и может разрешить спор, он безмолвно прислушивался к дискуссии. Но присутствующие обсуждали все новые и новые вопросы, а Шихаб-ад-дин не разжимал губ.
Поэты заговорили об изящной литературе. Кто-то прочитал несколько стихов из игривой музыкальной газели Лутфи и с похвалой отозвался о них. Кто-то похвалил новую мелодичную газель Навои, которую распевал весь Герат.
Шихаб-ад-дин широко открыл рот и зевнул.
— Мы не знаем, каково будущее тюркской поэзии, — заговорил он с усмешкой, поглаживая свою холеную, начинающую уже седеть бороду. — Во всяком случае, я не вижу большого смысла в деятельности некоторых поэтов на этом поприще. Черепок битого горшка и бадахшанский рубин — не одно и то же.
— Но, господин, — возразил ему скромный, похожий на дервиша Хасан Ардашир, — красноречие и совершенство тюркского языка проявились яснее солнца в газелях почтенного Лутфи и особенно господина Алишера. Волшебные звуки этого нового инструмента повергают в изумление пишущих по-персидски. Люди, одаренные вкусом и разумом, не могут отрицать эту истину.
— Язык Фирдоуси и Низами по самой своей сущности создан для вдохновения и поэзии. Об этом свидетельствует вся история прошлого, — весь мир восхищается их стихами. Впрочем, это утверждение никогда не нуждалось в доказательстве, — надменно заявил Шихаб-ад-дин.
Глаза Беннаи заискрились насмешкой. Он поднял голову в безобразно намотанном тюрбане.
— Великие господа, — обратился он к собранию, тщательно подбирая слова, — вам всем случалось проходить по улице наших искусных кузнецов, позади Чорсу. Каждый удар молота, словно гвоздь, впивался вам в уши. Когда я слушаю тюркские газели, то испытываю те же страдания.
Заклятый враг тюркского языка, Беннаи всегда говорил о тюркской поэзии в таком тоне, так что все слушали его с улыбкой, не придавая значения его словам. От него ожидали еще более грубых и неприличных выходок. Подобно другим ученым и поэтам Хорасана и Мавераннахра, девять десятых присутствующих были поклонниками персидского; тюркский язык, по их мнению, не годился для поэзии. Убеждение, что персидский язык — самый красивый, богатый и нежный язык в мире, впиталось в их кровь. Даже Султанмурад, который ставил газели Навои выше произведений любого персидского поэта и ярко чувствовал в звуках саза[70] Алишера музыку родного наречия, — и тот, когда брал в руки перо, невольно обращался к персидскому или арабскому языку.
Недавно приехавший в Герат и еще недостаточно знакомый с произведениями Навои, ученый Мадер-заде-и-мулла-Осман брезгливо взглянул на Беннаи, заискивающе поглядывавшего по сторонам, как бы ища в глазах присутствующих одобрения, и спросил, обращаясь к Навои:
— Господин Алишер, вы — двуязычный поэт. Кто любезнее вашему сердцу — Фани или Навои?
— Говоря по правде, — ответил серьезно Навои — нашему сердцу любезнее родной язык, а значит я Навои.
— Почему? — поспешно спросил мулла Мадер-заде. Фани лучше, Фани! — закричал Беннаи, роняя изо рта куски пищи.
Навои бросил на Беннаи насмешливый взгляд.
— Мы никогда не отрицали красоту и силу произведений, созданных на персидском языке. С самого раннего возраста мы писали также и по-персидски. Однако мы с детства заключили в свое сердце наш родной язык и сохраним эту любовь до самой кончины. В городах, в деревнях, в степях и горах живут наши земляки, наши родичи и соплеменники; у них свой ум, свой вкус, свои понятия. И мы пишем на языке нашего родного народа, — чтобы его сердце наполнилось цветами мысли; мы поем на тюркские напевы, чтобы пришла в волнение душа народа. Да будет и наш народ в ряду других народов счастливым хозяином в саду слова. До настоящего времени никто не уделял внимания сущности нашего языка, и его жемчужины, затмевающие звезды, остаются еще сокрытыми. Наши молодые поэты, в поисках более легкого пути, пишут только по-персидски, не замечая, что в родном языке есть множество слов и форм, выражающих тончайшие движения души. Пусть похваляются ираноязычные, — красота и богатство нашего языка все же заставят их умолкнуть.
Навои говорил с большим воодушевлением и с глубокой печалью. Он кончил, но гости, словно зачарованные, молчали, не отрывая от него глаз. Даже Беннаи, всегда резкий на язык, не осмелился произнести новую остроту, готовую сорваться с его губ. Стоит ли восхвалять красоту и сладость персидского языка перед Навои, который сам создал такие удивительные стихи на этом языке!
Хасан Ардашир поддержал Навои. После него Султанмурад на нескольких примерах доказал, что тюркские стихи ничуть не уступают произведениям великих персидских поэтов в красочности и тонкости мысли.
— Великий мастер персидской поэзии Джами, — закончил Султанмурад, — испытывает на себе очарование тюркских стихов. Он уделяет много внимания нашему языку и пленен им.
Чтобы предотвратить обострение спора и придать беседе более мирный характер, Навои искусно переменил тему разговора.
Он начал рассказывать занимательную историю о «мнимом каландаре». Навои знал бесчисленное количество таких рассказов. Происшествия обыденной жизни давали ему материал для веселых анекдотов и назидательных притч. Он так живо и тепло их рассказывал, что все слушали с глубоким интересом.
Мударрис Фасых-ад-дин рассказал случай из жизни суфиев: ученый врач вспомнил легенду про Ибн-Сину. Султанмурад — веселый анекдот об Искандере Двурогом, очень понравившийся Навои. Посыпались анекдоты и рассказы, один другого живее и интереснее. В зале то в дело раздавался громкий хохот.
После полуночи, когда гости начали расходиться, Навои задержал Султанмурада.
— Что вы скажете, если я предложу вам читать лекции в одном из медресе?
Султанмурад растерялся.
— Быть может, еще не пришло время для этого, — неуверенно произнес он.
— Самые способные студенты Герата желают учиться у вас.
— Если вы считаете это своевременным, то я не смею возражать, — сказал Султанмурад потупившись.
— Вот и прекрасно, — обрадовался Навои. — В ближайшие дни ждите назначения. Скажу вам одно: отдайтесь целиком работе, влагайте в сердца ваших учеников, любовь к науке, не продавайте знаний за власть и богатство. Сердце человека должно быть чистым. Давайте людям знания, старайтесь расширить науку размышлением и исследованием. Наука — не мертвое сокровище; это живое дерево. Надо, чтобы оно росло, расцветало, приносило плоды!
— Ваш покорный слуга только ради этого и живет, — взволнованно сказал Султанмурад.
После утренней молитвы Навои позавтракал со своими приближенными. Отдав распоряжения слугам, поэт отправился в Баг-и-Заган.
Сад окутан облаками. Печальная красота цветников и аллей, освещенных холодными лучами солнца, зеркальная гладь прудов, покрытых тонким темно-синим льдом, невольно привлекали взор. Подойдя к сорокаколонному дворцу, Навои заявил величественному Ишик-ага в парчовом халате, что желает пройти к султану. Ишик-ага тотчас же скрылся; заставив довольно долго ждать себя, он вышел и указал на одну из покрытых позолотой дверей, ведших в круглую прихожую. Из прихожей Навои прошел в небольшую четырехугольную комнату, стены которой были обтянуты темно-красным разрисованным шелком. Поэт отвесил поклон Хусейну Байкаре, восседавшему на груде шитых золотом подушек, и сел. Он несколько дней не видел султана, поэтому подробно доложил ему о важных — государственных мероприятиях, осуществленных за это время. Хусейн Байкара заговорил об Ираке. Навои посоветовал послать туда верных людей, чтобы собрать сведения о политических настроениях, царящих в этой провинции. Это предложение понравилось султану. Он также спросил у Навои, кого назначить на место недавно скончавшегося гератского казия. Поэт подчеркнул значение этой должности в народной жизни и назвал имена нескольких ученых, основательно изучивших шариат и пользовавшихся в народе хорошей славой.
— Человек, занимающий это место, — убежденно сказал Навои, — не должен за деньги называть белое черным. Если даже его собственный сын совершит преступление, пусть он накажет его по всей строгости закона.
Хусейн Байкара не осведомился подробнее ни об одном из названных лиц.
— Мы еще об этом подумаем, — сказал он. Навои заговорил, о везирах. В сущности, это было главной целью его прихода. Чтобы привести государственные дела в порядок, нужны были сведущие, опытные сановники. Двое везиров — Ходжа Ата и Абд-ал Халик, ведавших делами дивана, не могли справиться со своими, обязанностями. Считая, что Ходжа Афзаль подходящий человек для этой должности, Навои уже давно рекомендовал его государю. Теперь он хотел окончательно разрешить этот вопрос.
— А разве Низам-аль-Мульк-Хавафи не подходит для этого высокого поста? — испытующе взглянул на Навои Хусейн Байкара.
— Никто так не подходит для должности везира, как Ходжа Афзаль.
— В таком случае, мы возведем в звание везира их обоих, — решительно сказал султан — Большие достоинства Низам-аль-Мулька для меня совершенно очевидны.
Навои не стал возражать.
В это время вошел парваначи Маджд-ад-дин в сопровождении трех писцов, несших бумагу, калам и чернильницу. Навои попросил разрешения удалиться.
Маджд-ад-дин и писцы работали у султана часа два — закрепили на бумаге указы и письма. Затем Маджд-ад-дин отпустил их и, глядя на султана глазами верной собаки, сказал:
— О солнце мира, кто тот счастливец, что избран вашим благословенным умом на должность городского казия?[71]
— Пока еще никто.
— Ваш ничтожный раб желал бы предложить одного мудреца, достойного чести служить престолу, подобному раю.
— Кто это? — с интересом спросил Хусейн Байкара.
— Предводитель ученых Хорасана почтенный Шихаб-ад-дин, — ответил парваначи.
Хусейн Байкара удивленно поднял брови.
— Я знаю всех знаменитых ученых Хорасана, но не помню ни одного Шихаб-ад-дин а.
— Может быть, его имя ускользнуло из вашей благородной памяти, — сказал Маджд-ад-дин. — К тому же Шихаб-ад-дин — человек скромный и незаметный.
Хусейн Байкара промолчал, Маджд-ад-дин принялся восхвалять своего друга. Человека, известного среди ученых своим полным невежеством, он назвал Платоном своего времени, старого мошенника, который некогда, во времена Абу-Саида Мирзы, проел на десять тысяч динаров вакуфного имущества и опозорился на всю страну, он величал «воплощением честности, справедливости и совести». При этом Маджд-ад-дин подчеркнул, что, если государь хоть чуточку сомневается в его словах, можно обратиться за подтверждением к бекам Эмиру Моголу, Музаффару Барласу и Мухаммеду Бурундуку Барласу.
Хусейн Байкара, слушавший с закрытыми глазами, при этих словах оживился. Он спросил, каково происхождение Шихаб-ад-дина. Среди предков будущего казия было много выдающихся людей, и Маджд-ад-дину не пришлось прибегать к преувеличениям. Хусейн Байкара пообещал, если беки присоединятся к мнению Маджд-ад-дина, назначить Шихаб-ад-дина казием.
Алишер Навои пришел в помещение дивана. В просторных, тянувшихся в ряд комнатах начальники канцелярий и другие должностные лица занимались болтовней, явно пренебрегая делами. В каждой комнате сидело по пять, по десять писцов и секретарей, которые писали, низко склонившись над бумагой и дуя на окоченевшие пальцы. Места большинства беков, из которых каждый должен был нести определенные обязанности, были пусты. Навои нахмурился: «Наверное, где-нибудь пируют. Пьяницы!»
Сколько раз он пытался внушить султану, что всякий вельможа, управляющий страной, должен ежедневно бывать в диване и заниматься делами, не откладывая на завтра, то, что следует окончить сегодня.
«Государь не проявляет твердости в своих решениях и требованиях, никто не чувствует ответственности», — подумал Навои.
Он просмотрел дела, касавшиеся областей и отдельных селений. Направив прошения и жалобы к начальникам соответствующих управлений и напомнив о необходимости быстрого их разрешения, Навои принял простых людей и чиновников, приходивших по всевозможным делам.
В полдень, перед тем как отправиться домой, Навоя вспомнил о Султанмураде. Он написал письмо шейху-иль-исламу с предложением назначить молодого ученого преподавателем в медресе Шахрух; в случае, если бы возникли затруднения с жалованием, Навои выражал готовность выдавать Султанмураду содержание из своих средств.
Возвратившись домой, Алишер так и не смог отдохнуть. Его ожидали десятки людей из самых разнообразных слоев населения. У каждого была своя жалоба, просьба или ходатайство.
После ужина поэт сел около свечи и, взяв перо и бумагу, отдался вдохновению. Написал газель, потом туюг. Туюгом он остался очень доволен. В этом стихотворении ему удалось проявить богатство и безграничные возможности родного языка.
Время летело незаметно, шаги и голоса слуг на дворе затихли. За окном в третий раз зазвучали голоса гератских петухов.
Утром пришел Мирак Наккаш. Навои пригласил его для переговоров относительно росписи своего летнего дома в Саду фиалок.
Мирак Наккаш был одним из самых выдающихся живописцев среди сотен гератских мастеров живописи. Прекраснейшие рисунки на зданиях Герата принадлежали его кисти, в них чувствовалось искание нового, стремление создать нечто оригинальное.
В разговоре Мирак Наккаш упомянул об одном из своих учеников, необычайно одаренном юноше. Когда он с нескрываемой гордостью сказал, что ученик его более склонен к рисованию, чем к стенной живописи, Навои очень этим заинтересовался и принялся расспрашивать о молодом художнике.
Наш Кемаль-ад-дин Бехзад — сирота, — говорил Мирак. — Я из жалости взял его к себе в ученики. Я думал: — Если этот сирота вместе с другими учениками овладеет моим искусством, для мальчика откроется возможность зарабатывать средства к существованию. Голова у него на редкость светлая. Руки — золотые. Он очень быстро овладел своим ремеслом.
— Пойдемте, господин, познакомьте меня с вашим учеником, — поднялся Навои. — У нас, можно сказать, совсем нет настоящих мастеров в искусстве рисования.
Мирак Наккаш, широко раскрыв глаза, молча смотрел на поэта. Он знал, что Навои проявляет большую заботу и внимание к людям искусства, но все же был поражен интересом, проявленным великим поэтом, к молодому, никому не известному ученику. Навои недовольно спросил:
— То, что вы сейчас говорили, — правда?
— Разве господин когда-нибудь слышал, что его покорный слуга лжец?
— Если так, то почему вы колеблетесь?
Мирак Наккаш сдвинул на затылок свою остроконечную ермолку и почесал голову.
— Хорошо, я готов вас познакомить, — сказал, он улыбаясь. — Но вам незачем затрудняться. Я сам приведу Кемаль-ад-дина Бехзада. Быть принятым вами — для него великое счастье.
Навои попросил привести художника сегодня к вечеру.
Отправившись в диван, Навои приступил к исполнению своих каждодневных обязанностей. Он поздравил Ходжу Афзаля с высочайшим указом и услышал от него, что Шихаб-ад-дин назначен городским казием. Неожиданная новость очень рассердила Навои. Он даже не стал расспрашивать о подробностях этого назначения и вышел из дивана. Сев на коня, поэт отправился осмотреть внутреннюю отделку дворцов, которые Хусейн Байкара строил в саду Джехан-Ара. Когда он перед закатом солнца возвратился домой, Мирак Наккаш со своим учеником уже дожидался его. Навои ласково, как старший брат, поздоровался с Кемаль-ад-дином Бехзадом. Юный художник оказался рослым шестнадцатилетним юношей, одетым в домотканый халат. В его изящной фигуре гармонично сочетались красота и сила. Черные глаза, застенчивые и чистые, как у всех высоких душой людей, светились вдохновением. Увидя перед собой знаменитого поэта и великого государственного деятеля, юноша смутился.
Навои ввел обоих в комнату. Мирак Наккаш, раскрыв старенький кожаный футляр, один за другим подавал поэту рисунки своего ученика, исполненные каждый на отдельном листе. Навои взял в руки первый лист и с минуту внимательно разглядывал его. Потом он многозначительно посмотрел на Мирака. Прищурившись, поэт снова взглянул на рисунок и долго не отрывал от него глаз. Какая тонкая гармония красок, как прекрасны переливы лучей, разбегающихся по лазурному небу в час рассвета!
Взволнованный, и восхищенный Навои глубоко вздохнул. Он посмотрел на второй рисунок. Та же сила, но краски еще богаче, еще роскошнее. Вот изображение охоты. Газели как будто готовы соскочить с бумаги. Каждая точка на этом рисунке живет. Навои с бесконечным наслаждением любовался миниатюрой.
Взволнованный Кемаль-ад-дин переводил смущенный взгляд с поэта на своего учителя. Мирак Наккаш рассматривал рисунки с таким удовольствием, словно видел их в первый раз, хотя большинство миниатюр было создано у него на глазах. Ему не терпелось обменяться впечатлениями с Навои. Наконец поэт с искренней радостью поздравил молодого художника.
— В нашем старом мире, — с увлечением заговорил Алишер, — не было еще такого мастера, как вы. Достоинство вашего калама бесконечно выше всякой похвалы.
Кемаль-ад-дин Бехзад вспыхнул. Дрожащими губами он произнес:
— Не знаю, какими словами благодарить вас за ваше высокое внимание. Эти рисунки — лишь первые детские опыты ученика. Мое перо очень нуждается в указаниях учителей.
— Никогда не прекращайте учиться, — серьезно сказал Навои.
После вечерней молитвы поэт предложил Мираку Наккашу и его замечательному ученику угощение. За едой разговаривали о гератских художниках и их произведениях. Когда дастархан был убран, Навои снова принялся рассматривать рисунки Бехзада при свете свечи. Он внимательно вглядывался в каждую черточку, в тончайшие оттенки красок. При этом он указал Бехзаду на отдельные недостатки, которые мог заметить лишь человек, имеющий глубокие познания в живописи и одаренный тонким вкусом. Навои объяснял юноше, в чем сила и невиданная доселе красота его рисунка. Бехзад старался запомнить каждое слово поэта.
Стемнело, и живописец с молодым художником собрались уходить. Навои просил Бехзада почаще радовать его посещениями. Когда Мирак Наккаш был уже на пороге, Навои задержал его и шепотом сказал:
— Завтра непременно приходите ко мне; мы подробно обсудим, что нужно сделать, чтобы поддержать этот необыкновенный талант.
Глава одиннадцатая
Вокруг гарема царила тишина. Жены государя, обитавшие хотя и близко друг от друга, но в отдельных дворцах, отправились на той — торжественное пиршество — к одному из царевичей, связанному родством с царствующим домом. Большинство девушек-рабынь находились в Белом саду, в свите любимой жены султана, Хадичи-бегим; в гареме, не считая седоволосых старух, оставалось не больше двадцати женщин.
Расцвет весны. Высокие, стройные кипарисы, пышные фруктовые деревья, широкие лужайки, покрытые яркими цветами, узорная роспись зданий, словно соперничающая в сиянии солнца с цветущими лугами, — все это являло какую-то фантастическую картину.
Сказавшись больной, Дильдор не принимала участия в сегодняшнем торжественном выезде Хадичи-бегим. Она сидела одна у открытого окна. Зевая и потягиваясь с болезненной истомой, девушка предавалась мыслям о разлуке с любимым.
Посланная Маджд-ад-дином в царский дворец как подарок султану, Дильдор чувствовала себя одинокой, чужой в этом роскошном дворце. Среди увеселений и пиров, о которых ей раньше приходилось слышать только в сказках, она ни на минуту не была счастлива. Тоска по дому, страстное желание вернуться к своей бедной, но честной жизни ни на минуту не покидали девушку.
Есть женщины, для которых любовь столь же священна, как вера. Отдаваясь влечению сердца, такие женщины предпочитают развалившуюся хижину бедняка царскому дворцу; простого одетого в лохмотья пастуха они не променяют на царевича. Всем своим существом они стремятся к одной цели: если цель недостижима, — они на всю жизнь избирают себе другом страдание.
Дильдор была одной из таких женщин. Роскошь, вино, разврат, сплетни, наполнявшие гаремную жизнь, не задушили в ее сердце чистой любви.
Однажды вечером дворцовые служанки взяли Дильдор из дома Маджд-ад-дина и привели ее в красивую, богато убранную комнату. Роскошь, царившая в доме и обращение окружавших ее молодых девушек испугали Дильдор. «Сколько хлопот из-за простой рабыни. Нет, за этим скрывается что-то недоброе», — боязливо думала она. Хотя домашние Маджд-ад-дина нарядили Дильдор в самые богатые одежды, здесь, во дворце, девушки раздели ее и заставили надеть другое платье; голову Дильдор кокетливо обернули кашмирской шалью, на руки надели золотые браслеты, пальцы украсили сверкающими перстнями. Потом Дильдор усадили на груду шелковых подушек и разостлали перед ней дастархан. Чувствуя себя как бы приговоренной к смерти, Дильдор не притронулась к сладостям.
Таинственно пошептавшись между собой, девушки убрали дастархан. Смеркалось. Вдруг дверь отворилась и вошла женщина. Дильдор бросила на нее быстрый испуганный взгляд. Вошедшей было лет шестьдесят. Худощавое лицо ее прорезывали глубокие морщины, но разряжена она была, словно молодая, желающая нравиться красавица. Дильдор слышала, как девушки, разговаривая между собой, со страхом и уважением говорили: «Сама Гульчехра-биби[72] велела так сделать» или таинственно шептали: «Гульчехра-биби зовет». Поняв, что это и есть та самая особа, Дильдор невольно поднялась. Старуха подошла ближе и опытным взглядом окинула девушку с головы до пят. Поправив на ней кашмирскую шаль, старуха притворно мягким голосом спросила:
— Как тебя зовут?
— Дильдор, — тихо ответила девушка, потупившись.
— Ты из деревни?
— Да.
— У тебя приятное имя, но недостаточно хорошее для такой красавицы, — улыбаясь, сказала старуха. — Если кто-нибудь спросит, как тебя зовут, говори — Дильдорхон-бегим. Сядь, душа моя.
Дильдор и старуха сели друг против друга. Старуха заговорила о правилах поведения и порядках, принятых во дворце. Она рассказала девушке о том, как следует себя держать в обществе султана, чтобы доставить ему удовольствие тонким обращением. Дильдор молчала..
Грудь ее стеснилась, она слушала, почти ничего не сознавая. Старуха позвала невольницу и велела приготовить постель. Потом она поднялась и, уходя, сказала:
— Спи спокойно, дочка, и ничего не бойся. Кругом полно людей, если тебе что-нибудь понадобится, позови раба.
В эту ночь Дильдор не сомкнула глаз. Утром пришли девушки. Они спросили, как Дильдор себя чувствует, и, видя, что она бледна, начали ее утешать:
— Не тоскуйте! Скоро привыкнете! Мы тоже это пережили.
После завтрака Дильдор насильно повели в сад. Ни благоуханные цветники, ни роскошные здания, ни серебристые хаузы, ни птицы в нарядных клетках — ничто ее не веселило. Погуляв немного с девушками, она вернулась и больше не выходила. Каждую минуту она ждала чего-то ужасного и ее бросало в дрожь.
На третий день вечером пришла Гульчехра-биби. Она вымыла Дильдор волосы, опрыскала девушку розовой водой и, велев ей надеть легкую, тонкую шелковую рубашку, ушла. Дильдор сгорала от стыда. При каждом шорохе за дверью она начинала дрожать. Горячие слезы обжигали ей щеки. Но в полночь старуха снова явилась, недовольно бормоча:
— Его величество султан очень охмелел. На ногах еле держится, — и велела Дильдор ложиться спать.
Каждый день девушка с тоской ждала, вечера, однако, старухе так и не удалось уложить ее в постель султана. Через неделю прошел слух, что Хусейн Байкара надолго уезжает на охоту. Между тем Хадича-бегим, услышав о необыкновенной красоте Дильдор, призвала се к себе. Хадича-бегим была любимой женой султана и приобрела большую власть. Хитрая и ловкая, она через преданных ей везиров и беков проводила в политике свои планы и играла султаном, как хотела. Хадича-бегим еще не утратила красоты и была достаточно соблазнительна, но опасалась встреч султана с молодыми прекрасными девушками. Ведь и сама она была когда-то всего лишь красивой дворцовой служанкой. Теперь благодаря своим чарам, коварству и настойчивости она стала любимой женой государя. Другая тоже может достигнуть этого.
Вот почему, увидев Дильдор, она тотчас приказала включить ее в число своих личных невольниц.
Дильдор избавилась от страха, охватывавшего все ее существо. Правда, с этих пор ее положение во дворце изменилось. Ей уже не прислуживали больше девушки; она сама, как и другие рабыни, безмолвно исполняла приказания Хадичи-бегим. Теперь она не занимала отдельного помещения, как раньше, а жила с несколькими служанками в общей, просто обставленной комнате. Но такая перемена ее бесконечно радовала. Единственным желанием, единственным стремлением Дильдор было соединиться с Арсланкулом. Но что поделать? Убежать из дворца невозможно. Жены государя нисколько не считались со стражами гарема и евнухами и жили независимо. Но за каждым шагом, за каждым взглядом служанок гарема строго следили. Хадича-бегим на целые недели выезжала за город; служанки, в их числе Дильдор, обычно сопровождали ее. Но и за городом шелковые шатры днем и ночью окружала стража.
Где возлюбленный юноша? Жива ли ее дорогая бабушка? Дильдор могла только делиться своим горем с другими девушками, такими же одинокими и несчастными. Так она жила уже второй год.
Дильдор вышла в сад поговорить с кем-нибудь из оставшихся в городе подруг. На одной из аллей ей повстречался евнух; вероятно, ему — стало скучно в безмолвном дворце, и он тоже вышел в сад погулять. Хотя этому рабу с серьгой в ухе исполнилось не больше сорока лет, он представлял собой жалкое создание со старообразным морщинистым лицом и согнутыми плечами; во всей его фигуре, каждом движении чувствовался какой-то внутренний надлом. Как и у других евнухов, приставленных сторожить невольниц, в его тусклых глазах постоянно сверкала бессильная злоба.
Евнух остановился против Дильдор и, холодно улыбаясь, попробовал вступить с ней в разговор. Эти валкие люди были истинным бедствием для девушек — пленниц дворца, обманщики и сплетники, все они, и молодые и старые, ненавидели самое слово «любовь» и жестоко преследовали всякое естественное влечение.
Девушка, презиравшая своих стражей, не слушая, прошла мимо. Раб разозлился и, неуклюже ковыляя, загородил ей дорогу.
— Не переходи границ, девушка, — злобно заговорил он, — я знаю все твои тайны. Ты льешь из глаз слезы, горюешь, как девушка, которую оставили к празднику без нового платья, и вздыхаешь, подперев рукой щеку. Вот сейчас о чем ты думала, когда сидела перед окошком? От моих глаз никуда не скроешься!
— Уйди, дай хоть минуту покоя, — с отвращением сказала Дильдор.
— Ищешь любви на улицах, я знаю…
Дильдор гневно подняла голову и прошла мимо. Со стороны хауза до нее донеслись женские голоса. Она вошла вдоль лужайки.
— Иди сюда, или не нагоревалась? — встретили ее невольницы.
На супе сидела Давлат-Бахт, доверенная служанка Хадичи-бегим; с нею были две туркменские красавицы — Хумар и Асальхон, и прекрасная персианка Зульфизар. Давлат-Бахт осталась здесь для выполнения каких-то тайных поручений — Хадичи-бегим. Туркменские девушки, невольницы жены Хусейна Байкары Апак-бегим, жили в соседнем здании и часто приходили сюда. Одетые в шелка, невольницы с первого взгляда казались беспечными, довольными своей судьбой. Но в цвете их лиц было что-то болезненное, в глазах читалась вечная скука, в движениях заметна была вялость. Желания, кипевшие в их сердцах, неудовлетворенные стремления бросали тень на молодую сверкающую красоту. В часы досуга они чаще всего говорили о любви, о возлюбленных, похожих на героев древних сказок, о смелых воинах; по ночам горестно вздыхали.
— О ком еще вы тут шепчетесь? — спросила Дильдор.
— Садись, узнаешь, — ответила Хумар.
Дильдор села рядом с Зульфизар. Разговор шел о темных любовных историях жен государя, о ссорах между его супругами и наложницами, о беременности одной из наложниц — Зубейде-агача — и других событиях повседневной жизни гарема. Дильдор отвернулась от подруг.
— Бросьте! К чему эти пустые разговоры? Ах, у меня так тяжело на сердце.
— Горе проходит, только надо им поделиться, — сказала Давлат-Бахт, играя тонкими, словно выведенными пером, бровями.
— Нет, Давлат-Бахт, лучше поиграйте немного.
— О, я с радостью поиграю на гиджаке, — сказала иранская красавица, щуря свои огромные глаза.
Дильдор сбегала в комнаты Давлат-Бахт и принесла гиджак, тамбур и бубен. Давлат-Бахт взяла тамбур, изящная, мечтательная Асальхон — бубен, Зульфизар — гиджак. Девушки пели, тихо наигрывая на инструментах. В это время мимо них, хмурясь, прошел встретившийся Дильдор евнух. Давлат-Бахт с фальшивой улыбкой поманила его. Она что-то шепнула рабу на ухо, и раб смягчился. Он прилег под колышущимися кипарисами и задремал.
— Я слышала новую прекрасную газель господина Навои, — сказала Давлат-Бахт, перебирая струны тамбура. — Если бы я знала ее наизусть, то прочитала бы вам.
— Где вы ее слышали? — с интересом спросила Дильдор.
— Недавно я прислуживала на приеме у Хадичи-бегим. У нее были лучшие музыканты Герата, самые веселые молодые люди, сыновья беков. За один их взгляд я согласились бы на всю жизнь быть у них рабой. На этом собрании пели очень хорошие песни. Но газель господина Навои тронула мое сердце. Она начиналась так… Подождите!..
Давлат-Бахт сдвинула тонкие брови и задумалась. Потом она медленно, нежным голосом прочитала:
Давлат-Бахт мечтательно опустила большие прекрасные глаза.
— Ну, а дальше, дальше, — торопила Дильдор. Давлат-Бахт с сожалением покачала гладкой, черно полосой головой. Девушки очень огорчились. Чтобы заучить начало газели, каждая из них повторила ее несколько раз про себя.
Дильдор попросила Давлат-Бахт:
— Споем «Чтобы взглянуть на твою красоту…»
Нежные волны звуков поднимались все выше. Давлат-Бахт, игравшая на тамбуре, устремила больший темные глаза в пространство и теплым, чистым, как у соловья, голосом запела:
Девушки тихо покачивали головой в такт волшебным звукам. Пальцы, окрашенные хной, плясали по бубну. Закрыв печальные глаза, Дильдор незаметно присоединилась к пению.
Невольницы, собравшиеся послушать, подталкивали друг друга и шептали, указывая на Дильдор:
— Вот она какая!
Когда пение кончилось, они бросились обнимать Дильдор, которая иногда украдкой напевала про себя, но еще ни разу не пела с другими девушками.
Певиц становилось все больше и больше. Они пели одну за другой известные тюркские и персидские газели. Но вдруг появился главный евнух гарема и, словно туча, затмившая яркий, радостный день, нарушил веселье девушек.
— Хватит, хватит! Через край хватили, бесстыдницы, — злобно завизжал евнух, напрягая жилистую шею.
Перед этим старым сердитым рабом трепетали все обитательницы гарема. Не только рабыни и простые наложницы, но даже и любимицы и жены государя вынуждены были с ним считаться.
Девушки подобрали музыкальные инструменты и боязливо, не говоря ни слова, разбежались в разные стороны. Старик закричал:
— Приготовьтесь к встрече Хадичи-бегим.
Встревоженная Давлат-Бахт собрала невольниц и усадила их за работу.
Вошла Хадича-бегим, окруженная, как обычно, пышной свитой. Она была в ярко-красном, вышитом золотыми цветами платье из китайского шелка, очень длинном и широком. Несколько девушек поддерживали подол ее платья. Голову царицы украшал гладкий шелковый платок в виде чалмы; этот головной убор и длинное платье делали Хадичу-бегим выше ростом. Чалму украшали искусно подобранные яхонты, топазы и огромные жемчужины. Над чалмой покачивалась легкая корона. Лицо царицы было густо покрыто белилами и румянами, скрывавшими его естественный цвет.
Женщины гарема приветствовали Хадичу-бегим низкими поклонами. Царица, казалось, никого не замечала. Сопровождаемая толпой красивых рабов и рабынь и в пестрых одеждах, она надменно проследовала в роскошный дом, возвышавшийся — посреди сада.
После ужина у Хадичи-бегим начался прием. В верхней части комнаты, на возвышении из шелковых подушек, восседала сама царица. За ее спиной стояла группа невольниц, справа и слева сидели знатные женщины, связанные родством с царствующим домом. Поодаль разместились жены беков и везиров и красавицы из родовитых семей Герата… Золотая роспись стен, обтянутая шелком мебель — вся эта роскошь и пышность ошеломляли не только тех, кто впервые попадал в эту большую комнату, но и людей, видевших ее сотни раз. Здесь всегда можно было увидеть какую-нибудь редкость. Сегодня все взоры привлекало дерево в большой серебряной кадке, стоявшее на столике подле Хадичи-бегим. Это дерево, высотой в три аршина и толщиной в голень, было сплошь вылито из золота… От золотого ствола, возвышавшегося над серебряной кадкой, во все стороны тянулись ветви и, побеги. Листья были из зеленого изумруда, концы ветвей украшали десятки крупных, сверкающих плодов из яхонта и желтоватого жемчуга. На ветвях сидели маленькие хорошенькие птички. Они были покрыты драгоценными камнями, и казались живыми. Некоторые распростерли крылья и как будто готовились улететь, другие клевали сверкающие плоды.
Прислужницы внесли дастархан. Дильдор, Хумар и Асальхон исполняли обязанности кравчих. Разливая в золотые чаши вино из небольших кувшинов, украшенных крупным жемчугом, огненными рубинами, топазами и бирюзой, девушки расставляли их на золотых подносах. Прежде всего они подошли к Хадиче-бегим и, трижды преклонив колени, почтительно поднесли ей чашу. Затем, пятясь, медленно отошли. Другим гостям они подносили вино, не преклоняя колен, с изящным поклоном.
Хадича-бегим много выпила. Рассудительные старухи, состоявшие при ней, обменявшись взглядами, приказали унести вино и подали знак певицам и музыкантам. Знаменитые гератские музыкантши, среди которых были зрелые, полнотелые красотки и беззубые старые прелестницы, заиграли на своих инструментах. Зазвучали гиджак, тамбур, чанг, лютня, бубен. Певицы, со свойственной только женщинам легкостью и нежностью, пели тюркские и персидские газели. Плясуньи в пестрых одеждах исполняли тюркские, индийские, арабские и персидские танцы. Разгорелось веселье. Зрительницы дружно хлопали в ладоши. Некоторые женщины, возбужденные веселой пляской красавиц и крепким вином, держали себя вольно и любезничали друг с другом. Пьяный хохот наполнил комнату. Нарумяненные лица еще больше раскраснелись от вина, насурмленные глаза сверкали все ярче.
Но вот плясуньи, слегка прикусив раскрашенные хной кончики пальцев, щуря глаза, поводя бровями и подрагивая упругой грудью, отвесили поклон Хадиче-бегим и разлетелись по большой комнате, устланной шелковыми коврами.
По знаку Хадичи-бегим принесли несколько узлов со всевозможными нарядами. Музыкантши, плясуньи и другие женщины, сумевшие понравиться царице, с поклоном принимали подарки.
Пир окончился и неожиданно. «Хадича-бегим изволили утомиться, у Хадичи-бегим разболелась голова», — эти слова мгновенно облетели комнату. Гости поднялись с мест. Хадича-бегим сказала несколько милостивых слов знатным женщинам и, пожелав им «счастливо оставаться», величественной походкой направилась к дверям. Во дворе, выстроившись в два ряда, служанки освещали путь царице, высоко поднимая пучки зажженных свечей. Невольницы и гостьи с шумом разошлись по своим спальням.
В опочивальне девушки раздели Хадичу-бегим, и она облачилась в ночное платье. Царица прилегла на постель, а Дильдор принялась растирать ей ноги.
— Довольно, уходите — сказала Хадича-бегим окружающим. — А ты, Давлат-Бахт, останься. Девушки, пятясь, вышли.
По знаку царицы, Давлат-Бахт заперла окно и двери и села с ней рядом.
— Слыхала что-нибудь? — спросила Хадича-бегим. Давлат-Бахт шепотом сказала:
— Сердце его величества пленила новая наложница, султан бывает у нее каждый день.
От кого слышала? — строго спросила Хадича-бегим, поднимая голову.
— От Ханзаде-бегим.
— Что поделаешь… На счастье султана, в Хорасане еще много красавиц, — вздохнула Хадича-бегим. — Хорошо… А про меня там что говорят?
— Вас порицали. Говорили, что вы забрали в руки некоторых везиров.
Хадича-бегим прикусила губу и встревожено сказала.
— Говори ясней! Каких везиров упоминали?
— Не расслышала я, уж очень тихо говорили. Давлат-Бахт виновато перебирала бахрому платка.
Хадича-бегим снова опустила голову на подушку.
— Я же тебе все время повторяю: когда находишься среди врагов, притворяйся рассеянной, но не упускай ничего, — гневно сказала Хадича-бегим. — Где ночует Мирза?
У Папа-агача. — Хорошо, что ты это пронюхала, — засмеялась Хадича-бегим. — Теперь уходи, я немного отдохну. Ты не спи — сегодня ночью будет дело для тебя. Приходи, как только позову.
Глава двенадцатая
Сад фиалок купается в сиянии весны. Ветер с гор Гиндукуша носится в кипарисовой роще, овевая прохладой Гератскую область. Все цветет.
Навои один гуляет в саду. Он немного устал. Как и каждый день, ему сегодня пришлось принять много людей, ищущих у него помощи и совета.
Поэт медленно прошелся по пестрой дорожке, на которой игра света и теней создавала причудливые узоры, и, выйдя на лужайку, присел на покрытую шелковым ковром супу перед цветником. Золотые кружки солнечного света, струившегося между деревьями, играли на ковре. Лепестки яблонь и груш, точно снежинки, лениво падали на землю, на ковер и шелковый халат поэта. Горделиво расхаживали павлины, распустив веером хвосты.
Появился с охапкой книг Сахиб Даро, скромный, смиренный, весьма образованный старик. Он осторожно разложил перед Навои книги, переписанные самыми лучшими писцами Герата. Поэт хорошо знал содержание этих книг и теперь интересовался их внешним видом. Похвалив прочность и красоту цветных кожаных переплетов, он медленно перелистывал книги, любуясь почерком, горящей золотом рамкой, тщательно выполненными рисунками. Каждая страница ласкала взор, словно живой цветник; некоторые книги были украшены волшебными миниатюрами Бехзада.
По садовой дорожке приближался молодой человек. Это был Хайдар, сын покойного брата Навои; поэт относился к нему, как к своему сыну. Роскошно, но небрежно одетый, с томными, беспокойными глазами. Хайдар, как всегда почтительно, но без лишних церемоний, поздоровался с поэтом и принялся быстро просматривать книги.
— Что вы скажете об этих книгах? — с улыбкой спросил Навои.
Хайдар собрал книги и передал их Сахибу Даро. Подумав немного, он ответил: — Бехзад умеет оживить все. Но у писцов, которые писали эти книги, есть кое-какие недостатки. Когда возвращается из Мешхеда Султан-Али, султан каллиграфов? В эти дни в Герате только и говорят о его искусстве.
Сахиб Даро заметил, что и в Герате есть такие писцы, как Султан-Али. Не желая спорить с Хайдаром, он взял книги под мышку и ушел. Навои сказал, что Султан-Али уже вызван в Герат. Потом он спросил, как идут занятия Хайдара, и порекомендовал ему углубить свои знания в области музыки. Хайдар прочитал свои новые газели. Веселые любовные стихотворения понравились Навои. Однако он указал, что поэту нужны глубокие знания, а чтобы приобрести их, необходимо много читать. Хайдар неожиданно признался, что мечтает стать воином. Полагая, что это желание является следствием непостоянства юноши, Навои нахмурился и промолчал. Но Хайдар принялся уверять, что его сердце давно склонно к военному делу.
— Наши предки, — с увлечением заговорил он, — прекрасно умели сочетать поэзию и музыку с мечом и луком. Я избрал такой же путь. Разве это невозможно совместить?
— Почему же нет, — ответил Навои, пристально глядя на племянника. — Поле битвы украшает юношей. Разве есть для юноши добродетель выше отваги и геройства? Но за всякое дело, за всякое ремесло нужно браться с чистым сердцем и искренним влечением. Если вы чувствуете в сердце любовь к боевому делу, то будьте воином — я вас только поздравляю.
Хайдар обрадовался и горячо заговорил о смелых подвигах воинов-богатырей. Появилось несколько слуг. Юноша, поняв, что мешает Навои заниматься делами оборвал разговор и, простившись, исчез в глубине большого сада.
Пришедшие были управителями имений Навои, доставшихся ему после отца. Поэт долго и подробно расспрашивал их о пахоте, о посеве, о жизни дехкан и базарных ценах. Он выразил желание отдать часть оставшегося с прошлого года зерна войску, а другую часть пожертвовать неимущим и приказал поскорее вы полнить эти распоряжения.
После полудня к Алишеру пришли гости. Это были обычные собеседники Навои. Одни, на них удивительным образом сочетали в себе таланты ученого, поэта и музыканта, другие были представителями какой-либо одной из областей искусства.
Завязалась интересная беседа. Знаменитый хирург Шейх Хусейн рассказывал об одной удачной операции: ему удалось поставить на ноги дворцового борца, которому его соперник нанес восемнадцать ран.
Поэт Хилали прочитал новую газель. Прослушав ее со вниманием, Навои шутливо заметил:
— В поэзии вы не полумесяц, а полная луна.[73] — Эти слова понравились присутствующим.
— Хорошо сказано! — говорили все со смехом. Один за другим поэты читали газели, муамма, туюги, маснави,[74] старательно переписанные на цветной бумаге. Каждый ожидал от Навои решающей, окончательной оценки. Поэт в каждом произведении выше всего ценил оригинальность мысли и живость воображения. В то же время он сразу улавливал самые незаметные погрешности, мельчайшие недостатки размера, рифмы. Заметив ошибку, он мягко указывал на нее.
Поэт Айязи с гордым видом держал в руке лист бумаги и явно горел нетерпением прочесть свои стихи. Навои обратился к нему:
— Господин поэт, а вы какой нам принесли подарок?
Присутствующие с улыбкой посмотрели на Айязи; он свернул бумагу и положил ее на колени. Поэт Айязи перед тем, как читать свои стихи, обычно до того их расхваливал, что никто не решался потом критиковать даже самые очевидные их недостатки. И сейчас, по своему обыкновению, он неторопливо заговорил о художественных достоинствах своей газели.
— Не разрешите ли вы нам самим высказать свое мнение, — с некоторым нетерпением прервал его Навои.
— Потерпите немного, — небрежно ответил Айязи — Я считаю мои комментарии в высшей степени важными.
— Где мы находимся? На собрании поэтов или на базаре? — спросил какой-то шутник.
— Айязи воздвигает вал против ожидаемых нападений, — сказал один из музыкантов.
— Айязи, по обыкновению, строит вал на песке, — иронически заметил Навои.
Но поэт, не обращая внимания на нападки, продолжал подробные объяснения. Потом он выпрямился я тонким пронзительным голосом начал читать. Каждый стих газели грешил ошибкой.
Разостлали дастархан. Ярко раскрашенные чаши, пиалы и кубки напоминали весенние цветы на лугу. Вино придавало глазам блеск, речам живость. Устад Кул-Мухаммед и Шейх-наи взялись за инструменты. Воздух наполнился волшебными звуками. Из стройных кувшинов снова полилось вино, наполняя кубки. Поэты, читая стихи о вине и радостях жизни, с наслаждением потягивали рубиновую влагу. Пожилые ученые и мударрисы пили и повторяли лучшие стихи древних поэтов о вине и винограде. В цветнике стихов бессмертного Хайяма не осталось ни одной несорванной розы.
Посыпались шутки и остроты. Подобно своим гостям, Навои много пил и смеялся. Обращенные против него шутки он сразу же отражал острым мечом своего меткого слова. Ходжа Гияс-ад-дин показывал свои таланты: он изящно и легко плясал, словно резвый мальчик, пел персидские и тюркские песни. Затем принялся передразнивать различных важных особ и делал это до того мастерски, что присутствующие покатывались со смеху.
Гости разошлись. Вскоре после их ухода явился Ходжа Афзаль, Дервиш Али и несколько чиновников, близких к поэту. Навои повел их на открытую со всех сторон веранду. Он спросил друзей о здоровье и рассмешил их, рассказав некоторые подробности состоявшегося только что собрания. Потом пристально взглянув на Ходжу Афзаля и заметив в глазах его какую-то озабоченность, спросил серьезно:
— Вы, вероятно, желаете о чем-то поговорить со мной?
— Мы хотели обратить ваше внимание на некоторые весьма важные обстоятельства, хотя я убежден, что все тайны известны вам лучше, чем нам, — проговорил Ходжа Афзаль, наклоняясь в сторону Навои.
— Предупредить вовремя — долг друзей, — сказал Навои, настораживаясь.
Ходжа Афзаль рассказал о стараниях Маджд-ад-дина Мухаммеда парваначи добиться назначения своего друга Эмира Могола правителем Астрабада, о происках везира Низам-аль-Мулька, о гнусных делах казия Шихаб-ад-дина и воинского начальника города — даруги.
— Султан окружен негодными, честолюбивыми дельцами, — закончил свою речь Ходжа Афзаль.
— Правильнее будет сказать, что султана обступила стая бешеных собак! — гневно воскликнул Навои. — По ночам они развратничают и творят всякие мерзости, а днем шатаются по городам и деревням и грабят людей. Султан считает себя барсом среди этих собак, но участвует в их проделках.
Резкие слова поэта привели его друзей в замешательство. Молчание нарушил Дервиш Али.
— Его величество султан, видимо, пребывает в неведении, — неуверенно сказал он.
— Тогда мы должны вывести его из неведения и указать ему путь справедливости, — убежденно произнес Навои.
— Господин Алишер, — проговорил молодой человек, служащий дивана, — ваше сердце чисто, как солнце. Но враги хотят убедить султана, что яркие звезды темны, что чистые намерения грязны.
— Они всюду сеют семена смуты и беззакония, — вмешался в разговор пожилой чиновник с тусклыми, бесцветными глазами.
— У нашего народа есть хорошая поговорка, — улыбаясь, сказал Навои: —«Собака лает—караван проводит».
Дервиш Али, не ожидавший от брата такой мягкости в отношении к врагам, взволнованно заговорил:
— Они вам завидуют, ненавидят вас. Маджд-ад-дин парваначи на каждом шагу пытается очернить вас.
Навои насмешливо посмотрел на брата.
— Брат мой, неужели я не знаю, каковы намерения этой шайки, и кто такой Маджд-ад-дин Мухаммед? — горячо и сердечно заговорил он. — А ведь есть люди похуже его. Мы знаем предателей, которым хотелось бы разделить между собой родину. Но как бы высоко ни сверкала кривая молния, она непременно уйдет в землю. Свеча — прямая и ровная. Пусть она догорит, но и, догорая, она светит.
— Я хотел сказать, что не следует уступать врагам поле битвы, — возразил, краснея, Дервиш Али.
— Весьма правильная мысль, — движением руки подтверждая свои слова, проговорил Навои. — Но не будем переносить ее в область личной вражды. Нам нужно прогнать с неба родины черные тучи насилия; всякий, кто совершает насилие над народом, — наш злой враг. Хвала аллаху! Я изо всех сил стараюсь сломить меч притеснения. В этом священном деле нам всем надо объединиться и думать не о нашей выгоде, а только о благе родины. Для вашего покорного слуги это высшая истина.
Навои каждый день наблюдал в диване и других местах новые происки своих врагов. Он день ото дня все яснее видел, как разрастаются корни тайных заговоров против него самого и его мероприятий. В букете приятных слов и вежливого обхождения таился яд. Маджд-ад-дин с каждым днем поднимал голову все выше. Низам-аль-Мульк тайно сеял семена заговора. Все чаще важные государственные дела разрешались без участия Навои. Случалось, что чиновники, отстраненные Навои за какие-нибудь преступления, снова попадали на высокие должности.
Навои открыто порицал вредные для народа и государства действия своих врагов. Враги, хотя и были вынуждены считаться с ним, все же не слагали оружия.
Однажды, после резкого спора с Маджд-ад-дином по вопросу о подати в пользу бедных, Навои обратился к Хусейну Байкаре. Султан, как всегда, принял Навои очень милостиво. Поэт рассказал ему о гнусных делах, творимых от его имени, и советовал вырезать язву, пока она не распространилась по всему телу. Хусейн Байкара внимательно выслушал Алишера, но заметил, что с такими людьми следует считаться, а таких-то нельзя обижать.
Отказавшись от приглашения принять участие в пирушке, Навои сухо простился с султаном. Выйдя из дворца, он погнал коня к хийябану.
Подъехав к величавой гробнице Сад-ад-дина Кашгари, окруженной высокими деревьями, Навои остановил коня возле небольших ворот. На стук из дома выбежал слуга и почтительно взял поводья. Навои вошел в низенький невзрачный домик с двумя окнами, находившийся в конце двора. Бодрый старик лет за шестьдесят, несмотря на возражения Навои, поднялся с места и, собрав разбросанные повсюду книги, приветствовал гостя. Это был почтенный Абдурахман Джами.
Многие тысячи людей почитали его как шейха: знаменитый поэт, чьи стихи и научные сочинения пользовались славой далеко за пределами его родины, он был также ученым и мыслителем. Не только поэты, вельможи, знатные люди и ученые всей страны преклонялись перед ним, но даже султан и царевичи также искали его дружбы. Несмотря на это, старик был чрезвычайно прост и скромен. Он был дервишем, от покоробившихся ичигов,[75] до кончика простой чалмы. Люди, слышавшие о знаменитом поэте, представляли его себе величественным старцем в шитом золотом халате и немало бывали удивлены, встретив старика в одежде дервиша из грубой маты.[76]
Джами усадил гостя на мягкий тюфяк, а сам сел на прежнее место, среди книг.
— Поистине, мое сердце сегодня жаждало встречи с вами, — сказал он, поглаживая коротенькую бородку.
— Сердце всегда влечёт меня к этому жилищу. Но что ж поделать, если нельзя избавиться от жизненных тягот, — отвечал Навои.
— Не только мы, ничтожные, но и сам господь примет от вас оправдание. Преданно служить народу — дело совершенного человека. Подобные тяготы и трудности дают человеку удовлетворение.
Навои кратко рассказал о своих огорчениях в связи с беспорядками и несправедливостью, творящимися в государстве.
— Мы видим цветы вашей любви к народу, — мягко сказал Джами. — Дайте же народу и родине ее обильные плоды. Обо всех затруднениях следует говорить султану.
Двух поэтов, несмотря на разницу в возрасте, связывала неразрывная дружба. Навои с детства питал глубокую любовь к Джами за его безбрежные знания, сверкающие стихи и чистое, благородное сердце; он уважал его как духовного наставника. Джами тоже любил Навои.
Веками поэты считали тюркский язык сухой, поросшей колючками пустыней. Джами, сам писавший по-персидски, отдавал должное стихотворцу, который сумел создать на тюркском языке дивные цветники и целыми охапками собирать с них свежие яркие цветы. Он восхищался Навои, который непреклонно шел по тернистому пути, объединяя в себе множество дарований, и гордился его дружбой.
По обыкновению завязалась оживленная беседа; говорили о суфизме.[77] Джами не только глубоко знал эту философию, — его жизнь была ярким утверждением теорий суфизма. Беседа поэтов текла живо и красочно.
Навои предложил Джами написать книгу об известных суфийских шейхах, — их жизни, убеждениях, идеях и сложившихся о них легендах. Джами сказал, что такое желание у него возникло давно и что поддержка и помощь Навои позволяют ему написать такую книгу. Навои обрадовался. Как только это произведение будет докончено, его немедленно надо перевести с персидского языка на тюркский. Собеседники долго говорили о задуманной книге. Навои взглянул на молодую высокую чинару, росшую на дворе, против окошка. Вечерело. Он попросил разрешения удалиться. Джами протянул руку к верхней полке и снял с нее большую книгу. Он вынул один из заложенных в нее узких листов бумаги и, улыбаясь, сказал:
— Эмир, вы добыли из глубины моря вашего сердца бесценную жемчужину. Она пользуется в народе большой славой. Мы тоже изучили ее и попытались написать кое-что в этом же роде. Посмотрите, быть может, понравится, — и он протянул лист Навои.
Поэт пробежал глазами строчки. Это было персидское стихотворение, написанное Джами в том же размере, с той же рифмой и редифом, как и газель Навои, начинавшаяся словами:
Ах, если б не внесла ты в мир красу, всех роз нежней!
Навои взволнованно, громким голосом прочитал газель и посмотрел в мудрые глаза старца, как всегда спокойно сиявшие из-под нависших бровей.
— Ходят слухи, будто наша газель приобрела в народе некоторую славу, — скромно сказал Навои. — Слава вашего дивного произведения — этой прекрасной жемчужины — должна наполнить весь мир.
Глаза Джами засветились ласковой улыбкой.
— Разрешите мне переписать? — Навои поискал глазами калам и чернильницу.
— Не затрудняйте себя, — остановил его Джами легким движением руки. — Я переписал это именно для вас.
— Ценность вашего подарка для меня беспредельна.
Навои тщательно сложил листок, положил его в карман и простился. Джами проводил его до наружной двери.
Глава тринадцатая
В новом саду своего выпрошенного у государя имения, где только что распустились первые цветы среди молодых деревьев и роспись домов еще не была закончена, Маджд-ад-дин принимал гостей. Беки и чиновники, привыкшие пировать по целым неделям, много выпили, но были еще трезвы. Только бледный, бескровный, похожий на ящерицу Шихаб-ад-дин был уже навеселе. Не имея возможности пошутить с кем-нибудь из гостей, он сетовал, что сегодня не пригласили знаменитого острослова Абд-аль-Васи. Маджд-ад-дин парваначи лукава прищурил глаза.
— Господин кази, мы нарочно не пригласили Абд-аль-Васи. Нам надо кое-что обсудить.
— Вы ведь сами великий мастер шутить и острословить, начните-ка, — предложил Эмир Могол.
— Нет, господа, я навеки перестал шутить с вельможами и эмирами, — сказал Шихаб-ад-дин, потирая руки.
— Причина этого нам известна, — заметил, насмешливо улыбаясь, Маджд-ад-дин, — Алишер сделал вам выговор.
— Мы ничего не знаем. Как это было? — навострил уши старый щеголь, чиновник Ходжа Хатыб.
— В одном собрании Алишер пошутил на мой счет, и я тотчас же ему ответил. Он был очень недоволен, — хихикая, ответил Шихаб-ад-дин.
— Вы свалили поэта одной стрелой, как я — кулана,[78] — вмешался один из беков, любитель поохотиться.
Маджд-ад-дин обрадовался: путь к серьезней беседе открылся сам собой. Чтобы привлечь к себе внимание, он, понизив голос, словно готовясь сообщить о неожиданном бедствии, сказал:
— Благодарите бога, господин казий. То, что вы сейчас участвуете в наших собраниях, — великая милость аллаха. Удар лапы Алишера все еще угрожает вам. Если он вас выгонит из нашего подобного раю города, что вы тогда будете делать?
— Да буду я за вас жертвой! Какое же я преступление совершил? Да не пошлет аллах такой беды никому из своих рабов! — испуганно раскрыв глаза, воскликнул Шихаб-ад-дин.
Маджд-ад-дин засмеялся:
— Какая судьба постигла почтенного Беннаи, первого поэта Хорасана? Разве его не изгнали на чужбину?
— Почтенный Беннаи отправился путешествовать, — сказал один из гостей, игравший в стороне в шахматы.
— Вздор! Вы ничего не знаете, — нахмурился Маджд-ад-дин.
— Беннаи добился известности и — славы благодаря покровительству Алишера, — волнуясь, заговорил Шихаб-ад-дин. — А затем он всюду и везде смеялся над своим наставником. Перед отъездом он прошумел на весь Герат: придумал новой формы потник для осла и назвал его «потник Алишера». А я, разве я чем-либо навредил Алишеру? Мне только не нравится, что он сочиняет стихи по-тюркски, вот и все!
— За мауланой Беннаи тоже нет другой вины — вмешался Ходжа Хатыб. — Беннаи считает, что сочинять стихи по-тюркски — пустое дело. Потому он и смеялся над Алишером.
Почтенный Шихаб-ад-дин быстро опрокинул в рот чашу вина и расчесал пальцами длинную бороду.
— Да, мы тоже считаем, что истина на стороне Беннаи, — сказал он, гордо покачивая головой в синей чалме. — Фирдоуси, Низами, Шейх Саади, Хафиз и подобные им светила на небе поэзии наполняли сиянием весь мир, а темный светильник тюркских поэтов не может озарить даже хижины. Иран — сокровищница поэзии и науки, великий аллах орошает его язык водой из родника вдохновения. Следовательно, мы тоже должны писать на этом языке.
Эмир Могол, на лице которого ясно читались следы ночей, проведенных за вином и игрой, потряс руку Маджд-ад-дина и чокнулся с ним раскрашенной пиалой.
— Разумная мысль, — сказал он тяжело дыша. — Я-то лично не придаю значения этому вопросу, пусть кукушки тоже поют среди соловьев, и у них найдутся любители и слушатели…
— Насколько я слышал, молва о Навои достигла, с одной стороны, Казани, с другой — Хотана и Кашгара, — вставил один из присутствующих.
Эмир Могол злобно взглянул на перебившего его бека, выпил залпом чашу и продолжал:
— Меня тревожит другое. Вся беда в том, что Навои забрал Хорасан в свои руки. От него тянутся нити ко всем делам, ко всем должностям. Опора государства — беки, отцы и деды которых служили как верные рабы Тимуру и его потомкам, — не имеют теперь никакой, власти. Навои хочет уничтожить в государстве старые обычаи и установления, Правители городов и областей, со счетными книгами под мышкой, снуют туда и сюда, словно челнок ткача. Прикрываясь словами «народ», «справедливость», «закон», Навои еще неведомо что надумает.
Речь Эмира Могола произвела большое впечатление на присутствовавших: даже шахматисты постарались поскорее закончить игру и присоединиться к беседующим. Маджд-ад-дин слегка пощелкал пальцами, унизанными драгоценными перстнями, и горячо заговорил:
— Для всякого опытного государственного деятеля разглагольствования Навои о народе и справедливости — пустые слова. Народ—стадо. Чтобы погнать его, пастуху нужна только крепкая палка. Навои, желая подсурмить ресницы, выжигает глаза. Обвинив некоторых уважаемых казиев и должностных лиц в несправедливостях и притеснениях, он внушил эту мысль всему народу. Теперь на чиновников и даже на правителей областей каждый день поступает бесконечное количество жалоб. Это не политика, а глупость. Что делать — эта истина еще не открылась благословенным очам хакана.
— Мне жаль нашего султана, — сказал Ходжа Хатыб, печально покачивая головой. — Алишер Навои выставляет себя благодетелем государства и народа; государство стало игрушкой в руках его сторонников. Если не обуздают глупых людей, которые без причины забрасывают знатных людей камнями, они натворят ужасных вещей. За словами Навои о законе справедливости кроется насилие.
— Насилие! Насилие! — гневно закричал Шихаб-ад-дин, брызгая слюной. — Вы верно сказали, господин Хатыб. Нужны ли еще аргументы и доказательства? Вот одно из них, уважаемые господа: ваш покорный слуга, не жалея цветов драгоценной жизни и жемчужин мысли, создал произведение, которому в сущности нет равного на языке арабов, персов и индусов. В этом произведении я указал самые легкие способы находить нужные суры и стихи священного корана, что очень полезно для всякого мусульманина. И все же на мое рвение и усердие не обратили внимания. Двери медресе закрыты для вашего покорного слуги. Мударрисы, которые окружают Навои и читают в наших медресе, занимаются астрономией, математикой, логикой и подобными им науками, потрясающими основы религии и возбуждающими сомнения у чистых верой мусульман. Где вера и благочестие? Где справедливость?
— Об этом надо прямо говорить народу, господин кази, — сказал Маджд-ад-дин.
— Маджд-ад-дин подал знак кравчему — кокетливо одетому, изящному юноше. Перед каждым из гостей поставили чашу с рубиновым напитком. Опьянение раскрыло замкнутые сердца.
В самый разгар веселья вошел Туганбек. На плечах его красовался синий шелковый чекмень с вышитым воротником, на голове — монгольский колпак; стан перетягивал широкий пояс, усыпанный разноцветными камнями, в руке он держал плетку с серебряной ручкой.
С помощью Маджд-ад-дина Туганбеку удалось попасть в личную свиту любимого сына государя от Хадичи-бегим, юного Музаффара-мирзы.
Заняв предложенное хозяином место, Туганбек одним духом осушил большую чашу вина. Но пьяным бекам удалось выцедить из этой чаши несколько недопитых капель и, следуя древнему обычаю, они поставили перед Туганбеком девять чаш. Свято соблюдавший старые традиции, Туганбек не стал возражать. Он только проворчал, насмешливо улыбаясь:
— Неужели можно ублаготворить души предков, этим наперстком?
Слуги принесли фарфоровый горшок. Стройный виночерпий поставил в ряд несколько кувшинов. Туганбек присел возле них на корточки. Словно истомленный жаждой бычок, который наконец вырвался из хлева и жадно лакает из первого попавшегося арыка, он принялся пить большими глотками. Опорожнив первый горшок, Туганбек опрокинул его: в горшке не осталось ни капли. Беки, щуря пьяные глаза, с интересом наблюдали за происходящим. Если горшок наполняли не до краев, они кричали: «Лей, лей! Этот сумеет осушить весь Джейхун![79]»
Туганбек осушил девятый горшок и, перевернув его, обтер жидкие рыжеватые усы.
— Вот молодец, достойный быть полководцем у такого завоевателя, как Чингисхан! — воскликнул Ходжа Хатыб.
Беки хлопали Туганбека по плечу, называли его достойным потомком древних богатырей.
Пирушка стала еще оживленнее, почтенный Шихаб-ад-дин совсем охмелел и свалился замертво. Туганбек рассказывал о том, как Музаффар-мирза с сотней джигитов выехал на охоту и десять дней прекрасно охотился, как хорошо молодой царевич научился стрелять из лука. Он поспорил с некоторыми беками об охоте и охотничьих птицах. Видя, что пир кончится еще не скоро, Туганбек подмигнул Маджд-ад-дину и отошел в сторону. Среди молодых деревьев он увидел молчаливо работавшего невольника Нурбобо. Туганбек сначала поздоровался с ним и приветливо спросил старика о здоровье. Но вскоре вино оказало свое действие: Туганбек принял гордый вид и начал отпускать грубые шутки. Он схватил старика за мягкую красивую бороду и закричал:
— Это что такое? Сделай из своей бороды метлу и назови ее «метла Алишера». Разве плохо? Теперь в Герате всякий, кто делает какую-нибудь вещь, обязательно называет ее «Алишери», понимаешь, глупая твоя голова?
Морщинистое лицо старика задрожало от гнева. С усилием вырвавшись из рук Туганбека, он сердито сказал:
— Вы все еще точите язык на Алишера Навои. Видно, господин Алишер порядком вам насолил?
Туганбек одной рукой схватил старика за пояс и легко, словно ребенка, поднял его:
— Я бы швырнул тебя, как щенка, но уважаю вот эту твою метлу, — сказал он и осторожно опустил старика на землю.
Ясные глаза Нурбобо затуманились грустью.
— Бек-джигит, взгляни себе под ноги, тысячи глаз смотрят на тебя, я знаю, ты думаешь о должностях, о повышениях. На нас, несчастных, слабых, бессильных ты и уголком глаза не смотришь. Но знай, мы с тобой оба уйдем в одно место, наша доля — кусок холодной земли. Пока мы живы, между нами есть различие: я раб, ты — знатный, свободный джигит. Но в земле мы будем лежать рядом. Эх, каких только государей я не видел: Шахруха-мирзу, Абуль-Касима, Бабура-мирзу, Абу-Саида-мирзу. Все пошли по одной дороге. Скоро и я сам за ними пойду. И царю, и рабу последний путь — один.
Нурбобо отер полой старого чапана[80] слезы, струившиеся по его лицу, истомленному трудом и горем, и снова принялся за работу.
— Старик, — надменно сказал Туганбек, — в твоих словах есть смысл. Но жизнь коротка. Поднимай же пыль жизни как можно выше.
— В пыли можно и задохнуться, — тихо ответил Нурбобо, не глядя на Туганбека.
Увидев приближавшегося Маджд-ад-дина, Туганбек быстро направился к нему.
— Ну, что скажете? — спросил Маджд-ад-дин, тяжело опираясь рукой о ствол яблони.
— Хадича-бегим желает с вами поговорить сегодня вечером, — прошептал Туганбек.
Глаза Маджд-ад-дина широко раскрылись. Он сразу отрезвел.
— Она са… сама это говорила? — спросил он, заикаясь. — Где мы с ней увидимся? Во дворце?
— Говорила ее главная невольница. В новом дворце Музаффара-мирзы.
По лицу Маджд-ад-дина расплылась бессмысленная улыбка. Туганбек исподлобья взглянул на своего бывшего хозяина.
— Замолвите словечко и обо мне нашей царице.
— Увидим, братец, если это будет уместно.
После вечерней молитвы парваначи явился во дворец Музаффара-мирзы. Чтобы избежать подозрений, он заявил вышедшим навстречу слугам, что пришел повидаться с царевичем и прочесть за него молитву. Один из слуг движением руки указал вдаль. Маджд-ад-дин взглянул, и ему показалось, что засветился черный уголь ночи — вдали пламенели сотни факелов.
— Какое дивное зрелище, — выразил свое удовольствие парваначи, покачивая головой.
— Наш царевич каждый день изобретает новое увеселение, новую забаву, — сказал слуга.
В саду Маджд-ад-дина ждала главная невольница царицы. Она повела парваначи темным, пустынным путем к ярко освещенному двухэтажному дому. Маджд-ад-дин поднялся по лестнице на второй этаж. Пройдя прихожую, где сидели черные рабыни, он вошел в небольшую роскошно убранную комнату. На груде шелковых подушек полулежала женщина. Маджд-ад-дин дважды поклонился ей, затем, испросив разрешения и снова поклонившись, присел на корточки, поодаль от царицы. Невольницы поправили свечи в подсвечниках и, пятясь, вышли из комнаты.
Наряд и украшения царицы притягивали взгляды Маджд-ад-дина, но, опасаясь показаться нескромным, он старался смотреть в землю.
— Здоровье Высокой Колыбели благополучно? Ее сердце удовлетворено? — заговорил Маджд-ад-дин.
— Благодарение богу, — ответила Хадича-бегим, поправляя длинными пальцами волосы на висках. — Я не вовремя вас побеспокоила…
— Ваш раб всегда готов бежать на призыв Высокой Колыбели и считает для себя счастьем и честью пребывать в ее обществе.
Хадича-бегим, которая любила изображать из себя царицу, болеющую душой за родину, принялась расспрашивать о состоянии дел в государстве. Маджд-ад-дин в высокопарных выражениях заявил, что при единственном по справедливости государе и столь разумной царице, как Хадича-бегим, во всей стране царит изобилие, и сумел искусно и кстати подчеркнуть свои собственные заслуги. Хадича-бегим; слушала его рассеянно: то занималась своими украшениями и волосами, то смотрела в темный тихий сад.
— Я очень на вас полагаюсь и хотела с вами посоветоваться о некоторых делах, — приветливо сказала она,
— Раб ваш не в состоянии найти слов благодарности за оказанную ему великую милость.
— Наш сын Музаффар-мирза, слава богу, растет и с каждым днем становится все разумней… — Царица о чем-то задумалась и замолчала.
— Пошли, господь, нашему царевичу, бесценной жемчужине в венце Хорасана, престол Сулеймана[81] и долголетие Хызра, — погладил бороду парваначи.
На раскрашенном лице царицы мелькнула улыбка.
— Сердце матери ничему так не радуется, как счастью сына, — сказала она с притворной нежностью. — Если господь пошлет ему жизнь, Музаффар-мирза скоро вырастет… Его сердце наполнят всевозможные желания. Придет время, и он, подобно отцу и дедам, сядет на коня, — чтобы устраивать дела государства, чтобы вести войско.
Намерения Хадичи-бегим были теперь вполне ясны Маджд-ад-дину. Он улыбнулся и сказал:
— Сыну царя — народ и войско, сыну дервиша — обитель и мечеть.
— От вас ничего не утаишь, — с улыбкой сказала царица. — Пути для счастья моего сына нужно начинать готовить уже теперь. Я знаю, у каждого царевича есть желания и чаяния! Бади-аз-Заман—наследник престола. Музаффар-мирза далек от таких забот. Если я своей женской головой не подумаю о сыне… моя мысль вам ясна?
— Ясна, как солнце. Ваши слова — жемчужины логики. Они свидетельствуют о редком уме и возвышенных помыслах нашей царицы.
— Хорошо, что же вы об этом думаете?
— Что думает об этом ваш раб? — улыбнулся парваначи и продолжал с мудрым видом: — Во-первых, следует сказать, что я всецело присоединяюсь к мнению Высокой Колыбели. Ради счастья Музаффара-мирзы необходимо принять меры уже сейчас. Изменчивость судьбы бесконечна. Но спешить в этом деле или открыться кому-нибудь — не дай господь! Это повлечет за собой дурные последствия. Необходимо действовать тайно. Каждый шаг обсуждать. Преданность беков и джигитов, окружающих Музаффара-мирзу, должна быть выше всяких сомнений. Среди них есть джигиты испытанные и храбрые — например Туганбек. Пусть царевич возьмет на службу еще несколько зрелых и опытных людей.
— А если бы вы сами согласились давать указания царевичу?
Маджд-ад-дин ждал этого предложения. Чтобы хлопнуть в ладоши, нужны две руки; обещание за обещание.
— Как сей бедняк служит его величеству государю, так будет служить и царевичу, — сказал парваначи, складывая руки на груди. — В присутствии государя я всячески восхваляю достоинства царевича. Однако мои старания и усилия на этом пути зависят от моего положения в государстве, от места, которое я занимаю при дворе. Или я ошибаюсь?
— Вы совершенно правы, — ответила царица, многозначительно улыбаясь. — Мы обдумаем этот вопрос. Впредь нам следует через верных людей осведомлять друг друга обо всем. Больше мне нечего вам сказать.
Маджд-ад-дин поклонился, приложив руки к груди и вышел.
Глава четырнадцатая
В глубине Сада фиалок, в густой тени высоких деревьев Шейх Бахлул наблюдал за приготовлением пищи. Он деловито давал указания своим подручным, но в его движениях чувствовалась нервозность, глаза были печальны. Покончив с делом и словно не замечая сидевшего на коврике у арыка Сахиба Даро, Шейх Бахлул прислонился к стволу кипариса и безмолвно смотрел вдаль. Сахиб Даро, привыкший видеть преданного Алишеру слугу всегда спокойным и хорошо настроенным, удивился его мрачности.
— Подойди сюда, брат, побеседуем немного, — позвал он Шейха Бахлула.
Шейх Бахлул медленно, неохотно подошел.
— Я вижу в тебе какую-то перемену. Садись, — указал ему подле себя место Сахиб Даро. — Если есть какое горе на сердце, поделись.
Шейх Бахлул присел на край коврика и вдруг улыбнулся.
— Поверьте, в моем сердце нет ни капли страдания. А если что есть, то говорить об этом было бы неблагодарностью.
— Неблагодарностью? — с интересом спросил Сахиб Даро. — Наверное, какое-нибудь недоразумение с господином эмиром? Теперь-то ты уже обязан рассказать,
— Ваша милость совершенно правы, — улыбаясь заговорил Шейх Бахлул. — Вчера вечером эмир воротился из дивана и пошел в свою комнату. Через несколько минут он позвал меня. Я собрал письма, заявления и прошения, присланные эмиру, и вошел к нему. Эмир указал рукой на столик и сказал: «Убери». Я, по правде говоря, растерялся — на столике стояла свеча, чернильница с каламом и пиала с водой. Что убрать? Делать нечего, спрашиваю: «Что вы приказали убрать?» Поверите ли, эмир сердито посмотрел на меня и говорит: «Вот умник! Сколько лет у меня на службе, а порядка не знаешь. Тебе известно, что свеча горит у меня до утра. Нужны ли чернильница и калам — объяснять нечего. Что же, значит, здесь лишнее?» Я сейчас же взял пиалу и вышел.
Сахиб Даро ударил себя по колену и громко рассмеялся.
— Чего смеетесь? Вы посыпаете солью мою рану, — обиженно сказал Шейх Бахлул.
— Да простит меня аллах. Ладно, не буду больше смеяться. Ну и что же дальше? — спросил Сахиб Даро, вытирая платком глаза.
— Хуже всего то, что утром эмир просил извинения. Я от стыда не смел поднять глаза.
— Бахлул, ты напрасно тревожишься, — сказал Сахиб Даро. — Этот разговор между эмиром и его ученым слугой станет теперь известен всему Герату, всему Хорасану. Всюду, где упоминается имя Алишера, краснобаю станут рассказывать об этом случае, увеселяя сердца присутствующих. Однажды господин эмир давал большой пир в саду Фи гон. Присутствовали многие поэты, ученые и вельможи Столицы. Подавались всевозможные кушанья. Когда убрали дастархан эмир куда-то скрылся. Собравшиеся решили, что у эмира, видимо, нет времени для беседы, и разошлись. В это время пришел эмир и спросил меня: «Где гости?» Я объяснил. Эмир неожиданно рассердился на меня. Он нахмурил брови и сказал: «Разве дом Алишера — харчевня, что люди придут, поедят и разойдутся!» Я передал эти слова нескольким друзьям, и, поверишь ли, они с быстротой молнии распространились по всему Герату. Судя по рассказам людей, прибывших от Якуб-бека, этот случай и там тоже передавался из уст в уста.
— Ваши слова — истина, — сказал Шейх Бахлул. — Всякие рассказы о поэте с удовольствием слушают по всей стране. Но все-таки я прославлюсь как глупец.
— Нет, ты ошибаешься, — возразил Сахиб Даро. — Рассказывая этот случай, все будут начинать так: «У эмира есть слуга, бесподобный по уму и догадливости». Ведь люди всегда приписывают эмиру все великое и замечательное.
В особенности простой народ, — сказал Шейх Бахлул и, понизив голос, продолжал: — Среди других людей есть и такие, что выискивают у поэта всякие недостатки. Проведав о чем-нибудь подобном, они на девятом небе от счастья. Но простой народ — другое дело.
— Так чего же ты обижаешься на эмира? — с улыбкой спросил Сахиб Даро.
— Нет, я на себя обижаюсь, — ответил Шейх Бахлул, смущенно глядя в землю. Какие могут быть упреки! Ведь у господина тысяча тысяч дел — взвали их на гору, и та не выдержит. Если глаза у него иногда и блеснут гневом или обхождение станет грубей, удивляться — нечему. Это я, конечно, понимаю.
— Это надо было понять в самом начале. А то надул губы, как ребенок, — язвительно сказал Сахиб Даро.
— Человеческое сердце не лишено слабостей.
Шейх Бахлул отошел, чтобы поговорить с садовником, который показался из глубины сада. Сахиб Даро прилег на коврик. Он глядел на струи воды, которые, журча, текли вдоль лужаек, переливаясь, как серебряный позумент, и исчезали в глубине кипарисовых рощ, мирно дремавших в томном золотом воздухе. Невольно ему вспомнилась любимая газель:
Он начал было читать следующую строку, но вдруг чей-то голос произнес:
— Мир вам!
Сахиб Даро прищурил глаза, внимательно посмотрел на незнакомого парня, который стоял перед ним, приложив руку к груди.
— Чем могу служить?
С трудом преодолевая смущение, парень произнес:
— Господин, меня прислал сюда уважаемый Султанмурад. Вы должны знать этого человека.
— О да, я знаю господина Султанмурада, — ответил Сахиб Даро. — А к кому он послал вас? Ко мне или к господину эмиру?
Парень растерянно почесал лоб:
— Они сказали, что в этом доме можно найти работу. Может быть, надо обратиться к самому господину Навои?
— Не нужно, мы поняли, в чем дело, — перебил его Сахиб Даро. — Обождите минутку.
Парень присел на берегу арыка и, точно очарованный, смотрел на сад. Сахиб Даро лениво поднялся с места, поглаживая бороду. Он неторопливо надел чекмень, висевший на ветке яблони, тщательно обернул голову белоснежной чалмой и сказал юноше:
— Идемте, я поведу вас на берег канала Инджиль. Вы там бывали?
— Слышать о нем слышал, но видеть не пришлось.
— Герат сам по себе — целый мир, а Навои в нем воздвигает другой, новый мир. Да, как вас зовут? Вы родственник Султанмурада?
— Мое имя Арсланкул. Господин мударрис — мой знакомый.
На берегу Инджиля, среди шумной толпы, Арсланкул потерял своего спутника из вида. Некоторое время он смущенно озирался по сторонам, потом, подхваченный людской волной, невольно двинулся дальше. На берегу канала кипела работа. Грохот тяжело нагруженных арб, громкий рев упрямых верблюдов, величественная, развалистая поступь медлительных слонов, сердитые окрики мастеров и надсмотрщиков — все это ошеломило Арсланкула. Как очарованный, он остановился перед каменотесами. Некоторые из них тщательно обравнивали квадратные и продолговатые каменные глыбы всевозможных размеров; другие полировали до зеркального блеска шероховатую поверхность камней. Группа мастеров вырезала на отшлифованном граненом мраморе цветы. Живые цветы, постепенно возникавшие под резцом мастера, поразили Арсланкула.
— Я думал, что в мире нет более сложного дела, чем ремесло ювелира, но их работа, оказывается, еще труднее — говорил себе юноша.
Откуда-то привезли на слонах огромные глыбы камня. Уставившись хоботами в землю, слоны опускались на колени. Под крики надсмотрщиков юноши богатырского вида сгружали тяжелую ношу.
Арсланкул шел среди неустанно сновавших, как муравьи, людей, с любопытством посматривая по сторонам.
Напротив портала строящегося медресе он увидел Сахиба Даро, оживленно стоившего с юношей, — щеголевато одетым в халат с вышитым золотом воротником. Остановившись поодаль, Арсланкул изумленно смотрел на ловких, как канатоходцы, мастеров в чалмах и колпаках, которые работали на высоком портале медресе. Среди них попадались седобородые, согбенные старцы, которые, словно крепкие юноши, спокойно выполняли на лесах опасную работу. Десятки живописцев разрисовывали ворота и огромные стены, выходившие на улицу. Разноцветная роспись ослепительно сверкала на солнце. Чтобы снова не потерять случайно найденного в толпе Сахиба Даро, Арсланкул подошел и встал с ним рядом. Однако Сахиб Даро до того увлекся спором, что не заметил Арсланкула. Арсланкул с минуту слушал их разговор. Спорили о какой-то газели, и Арсланкул, ничего не поняв, стал терпеливо ждать, когда же с ни закончат.
— Опять газели! Опять муамма! Ах, Герат! Куда ни взглянешь, всюду увидишь поэта. В мечети, в медресе, на базаре, в харчевне — везде читают стихи и спорят о них. Наверное, эти двое тоже поэты, — думал Арсланкул.
Наконец нарядный поэт, видимо не убежденный доводами своего противника, довольно холодно попрощался с Сахибом Даро. Арсланкул кашлянул и встал против Сахиба.
— Господин, я вас потерял и долго разыскивал, — сказал он, почтительно складывая руки на груди.
— Э, брат, здесь нельзя не потеряться, — улыбаясь, сказал Сахиб Даро. — Ну, идем сюда.
Арсланкул пошел следом за Сахибом Даро. Тот подвел его к плотному, коренастому человеку средних лет, который сидел под деревом и зорко наблюдал за каждым движением группы работающих.
— Поручаю вам этого молодца, — сказал Сахиб Даро, указывая на Арсланкула. — Вот возьмите его на работу и платите ему столько, сколько другим.
Коренастый человек взглянул на Арсланкула:
— Ты, кажется, ладный парень, но если станешь лениться, горе тебе: я почешу тебе плечи палкой.
— Я не лентяй, дядюшка, — серьезно сказал Арсланкул.
— Ладно, подтяни пояс потуже и начинай работать, — он указал рукой вверх, на подносчиков кирпича.
Арсланкул взвалил на спину кучу кирпичей и, не сгибаясь, быстрым твердым шагом начал подниматься по наклонным лесам. Несколько рабочих закричали снизу:
— Эй, паренек, будешь зря напрягаться, поясницу сломаешь!.
Но чем выше Арсланкул поднимался, тем больше ему приходилось сгибаться; тем не менее, он быстро взбежал по лесам вверх. Сбросив кирпич, юноша осмотрелся по сторонам. Зеленые волны гератских садов, омытых лучами солнца, исчезали на голубом горизонте; они как будто размотали клубок боли, окутывавшей сердце Арсланкула.
После полудня работа на постройках прекратилась. Люди, вытирая пот и отряхивая одежду, усаживались в кружок на берегу канала. Арсланкул вымыл в мутной воде Инджиля руки и лицо и, подойдя к своим новым знакомым, присел на разостланную под деревьями циновку. Усталые люди, обмахиваясь платками, тихо говорили между собой по-тюркски, персидски и на других непонятных Арсланкулу языках. Все украдкой поглядывали на поставленные в сорока — пятидесяти шагах большие дымящиеся котлы, около которых сгрудились люди. Начальник постройки, не поднимая век, бросил на них взгляд и крикнул повару: «Начинай!» Старый дастарханчи[82] оделил каждого лепешкой, посыпанной тмином. Потом раздал похлебку в цветных глиняных чашках.
Арсланкул кончил есть раньше всех. Не будучи еще близок ни с кем из товарищей по работе, он не стал ждать их.
На постройке наступила тишина. Только дети бегали вокруг отдыхающих слонов и верблюдов и дразнили их. Кое-где бродили посторонние люди, пришедшие посмотреть на строительство.
Арсланкул поднялся к тому месту, где только что работал. Он прислонился к перекладинам лесов, окружавших купол, и устремил глаза вдаль. Древние медресе, прямые, как свечи, высокие минареты, покрытые разноцветной росписью дворцы царевичей, зубцы огромных крепостей — все это отчетливо вырисовывалось перед его глазами. Многие из этих зданий Арсланкул видел вблизи, но расстояние придавало им новую красоту. Глазам юноши открылась вдали большая площадь, опоясанная кипарисами. «Да это, никак, сад Дже-хан-Ара? Он самый. Вон там аллеи…»—мысленно произнес Арсланкул. Прислонившись головой к доске забыв обо всем на свете, он устремил глаза вдаль. «Кто знает, может быть, моя Дильдор живет там? Теперь она гуляет по этим аллеям разряженная, похожая на пери. Хоть она, может быть, и сотая жена государя, меня, наверное, совсем забыла». Юноша тяжело вздохнул. Сами собой полились слова песни:
Арсланкул снял шапку и безнадежно махнул ею в воздухе, словно хотел сказать себе: «Чего там, брось!» Сделав два-три шага, он смущенно остановился; перед ним стояло несколько человек. Кроме мастеров, уже знакомых Арсланкулу, здесь были и посторонние. Один из них, хорошо одетый человек, с улыбкой сказал:
— Почему ты перестал петь, добрый джигит? Мы тоже хотим послушать. Ведь правда? — Он посмотрел на окружавших его людей.
Пожилой мастер, державший в руке большой лист бумаги с планом какого-то здания, медленно произнес:
— Да, сынок, ты пел свою песню с чувством.
— Это верно, мы наслаждались искренним чувством, заключавшимся в песне, — снова заговорил незнакомец.
Простое обхождение знатного с виду человека ободрило Арсланкула. Овладев собой, он сказал, приложив руку к груди:
— Господин, не смущайте меня. Ваш покорный слуга не певец, я только так иногда напеваю для себя.
Арсланкул огляделся вокруг и, увидев, что работа возобновилась, быстро сбежал вниз.
Поднимаясь с грузом кирпичей, Арсланкул остановился удивленный: человек, с которым он только и разговаривал, подоткнув полы дорогого халата и засучив широкие рукава, трудился, как заправский подмастерье. Он подавал мастерам кирпичи и ганч. Юноша посмотрел на него уголком глаза и сказал про себя, пожав плечами: «По виду знатный господин, а нравом на них не похож».
Проходя мимо, Арсланкул каждый раз исподтишка поглядывал на него. Тот, видимо, не утомлялся. Наоборот, на его вспотевшем лице читалось все большее увлечение работой. Наконец Арсланкул не выдержал: он толкнул под бок шедшего рядом товарища и спросил, указывая рукой наверх:
— Кто этот господин? Очень уж здорово работает. Или, может, боится начальника? — Он весело рассмеялся своей шутке.
— Э, несчастный, ты что, до сих пор не знаешь этого — господина? — ответил его спутник, умеряя шаг.
— Нет, а кто это?
— Господин Навои. Он часто приходит сюда и всегда так усердно работает.
Глава пятнадцатая
Возле одной из канцелярий дивана собралась большая пестрая толпа. Старик сторож усердно подметал, не поднимая пыли, широкий, ровный, квадратный двор. Борода у него была гладкая, расчесанная, лицо жирное, бескровное, как у всех стариков, которые по утрам, чтобы легче было переносить дневные заботы, выкуривают трубку терьяка и к тому же едят много сладкого. Опершись на ручку метлы, старик исподлобья посматривал на собравшихся. Увидев знакомого, он подошел к нему, хлопнул его по плечу и сказал:
— Вот диво! Господин Алишер целую неделю пробыл в Чиль Духтаране — там строится новый рабат. Сегодня ночью он вернулся в Герат. Хорошо. Но кто же cказал об этом людям?
Ничего удивительного. Ведь сердца людей привязаны к Навои, — убежденно проговорил красильщик с синими руками.
В это время во дворе появился поэт в эмирском, шитом золотом кафтане. Все поклонились, приложив руки к груди. Навои ответил на приветствия и быстро прошел в помещение. Люди, столпившись перед дверью, начали искать в сумках и чалмах свои бумаги. Из смежной комнаты вышел молодой писец с надменным лицом.
— Терпение! Терпение! — сказал он, — окинув собравшихся пренебрежительным взглядом, потом скрылся в комнате, в которую вошел Навои.
— Сегодня очень много народу, — сказал он поздоровавшись с поэтом. — Можете ли вы принять некоторых из них?
— Не понимаю, что вы котите сказать.
— Если у вас мало времени, я скажу, чтобы остальные пришли в другой день…
— Похвальное усердие! — насмешливо воскликнул Навои.
Писец потупил глаза.
— Вы еще молодой человек, — сказал Навои более мягким тоном. — Вероятно, вам предстоит повыситься в должности. Пусть навеки запечатлеется в вашем сердце: так служить народу не дело разумных.
Писец не смел поднять головы. Попросив извинения, он хотел выйти. Навои остановил его. Он приказал молодому человеку посидеть здесь до прихода его обычных помощников. Писец ободрился и присел перед столиком, на котором стояли письменные принадлежности.
Первым вошёл оборванный, средних лет деревенский житель в грязной, нахлобученной на глаза шапке. Сложив руки на груди, он смущенно остановился.
— Садитесь, скажите, в чем ваша просьба? — приветливо проговорил Навои.
Дехканин присел на корточки перед дверью.
— Беда на меня свалилась. Из Исфизара я, — начал он и вдруг спросил: —Все ли говорить? Длинный разговор будет.
— Говорите, — с улыбкой ответил Навои.
— У меня всего-навсего один конь. Неплохой конь, подходящий для нашей работы. И вдруг к нам в кишлак приехал конный воин. Сзади него на лошади красивый мальчик. Я как раз чистил коня. Воин остановился возле меня и говорит: "Оседлай твоего коня, я посажу на него моего брата — вот этого. Скоро опять поеду в Герат, отдам коня», — говорит. Я упрашивал: «Бек джигит, сейчас самое горячее время, без коня не обойтись. Спроси у других, а если не найдешь, поезжай так. На твоем аргамаке доедешь и до Каспийского моря». «Нет, — говорит. — Я ездил на охоту, и мой конь очень утомился. Меня знает весь Герат. Я, — говорит, — сын казия».
Поставлять начальству коней искони в обычае. Я оседлал коня, отдал воину поводья. Ну вот, два месяца прошло, а о том проклятом сыне казия ни слуху ни духу. Десять дней назад сел я на осла и приехал в Герат. Не пропустил ни одной улицы, никого, без спросу не оставил. Где его найти? И коня не нашел, и еще беда на меня свалилась: три дня назад украли осла. Пойду в cуд — меня и слушать не станут. К вам с поклоном пришел, господин.
Дехканин тяжело вздохнул. Навои покачал головой.
— Брат, с вами случилась беда. Кто бы он ни был — сын ли казия, военный ли — беда одна. Таких охотников много. Они и собаки своей не стоят. Как его зовут, вы не знаете?
— Говорил, Тадж-ад-дин.
Навои взглянул на писца и приказал позвать Кылычбека. Потом, улыбаясь, обратился к дехканину,
— Ваш конь найдется. Свое настоящее имя военный скрыл, но вы скажите, каков он видом. А вот осла искать, должно быть, бесполезно: в каком он бурьяне, у кого в хлеве? Вы сможете доказать, что осла украли?
— Неужели ваш раб станет лгать? В караван-сарае сто человек подтвердят.
— Если так, мы вам уплатим стоимость вашего осла, — сказал Навои. — Но только впредь надо быть осторожней. У нас в городе говорят: «Смотри за своим домом — не лови вора у соседа».
Дехканин растерялся:
— Что вы говорите? Кто заплатит? Вы? Нет, я сам как-нибудь управлюсь с бедой, — говорил он, ударяя себя в грудь.
Вошел высокий, широкогрудый, горбоносый молодец — Кылычбек. Навои в нескольких словах изложил жалобу дехканина и повелительно сказал:
— Не успокаивайся, пока не удовлетворишь этого несчастного. Будь обидчик хоть в самой геенне, найди его и накажи.
Кылычбек успокоил дехканина:
— Этого человека здесь всякая собака знает. Пойдем со мной.
Навои остановил их и приказал из своей казны уплатить дехканину стоимость осла. Охваченный радостью и волнением дехканин вышел, рассыпаясь в благодарностях.
Просители, в большинстве со строительства и ремесленники, выходили один за другим. У каждого была какая-нибудь забота, докука, горесть. Навои терпеливо выслушивал, внимательно знакомился с содержанием прошений, которые читал ему секретарь. Его острая мысль распутывала все затруднения, он умел быстро отличить справедливое обвинение от клеветы, правду от лжи.
После полудня толпа поредела. Навои собрал несколько помощников и занялся канцелярскими делами. Люди работали в присутствии Навои старательно и серьезно, но держали себя независимо. Знаменитый везир между делом иногда даже шутил с ними.
Когда работа близилась к концу, в комнату торопливо вошел почтенный Алишах, один из выдающихся музыкантов Герата.
— Пожалуйте, пожалуйте, как ваши дела? — дружески встретил его Навои.
— Под сенью вашего счастья настроение у нас прекрасное, дела хороши, — ответил Алишах. — У вашего покорного слуги есть просьба. Если вам не наскучит, разрешите ее высказать?
— Говорите, мы слушаем, наше внимание принадлежит вам, — серьезно ответил Навои.
— Мы надеемся, что ваша милость прикажет управляющим вакфами выдать мне содержание за шесть месяцев вперед.
Когда-то давно Навои, впервые встретившись с Алишахом и высоко оценив его музыкальные способности, назначил ему содержание из средств своих вакфов.
— По какой причине? — с интересом спросил Навои
— Чтобы не обращаться каждый месяц к заведующему и не надоедать ему.
Навои молчал, опустив глаза. Скрипевшие перьями секретари приподняли головы и смотрели то на поэта, то на музыканта. На лице Навои появилась ироническая улыбка.
— Господин, — с неудовольствием сказал он, — мы не знаем, осталось ли нам с вами еще шесть дней жизни. Почему же вы, так полагаетесь на эту временную жизнь и просите содержание вперед за шесть месяцев?
— Вы только прикажите, а я возьму деньги, — по-прежнему смело сказал Алишах. — Если я умру, то деньги пойдут на саван и на прочие расходы по погребению.
— «И мертвый — беда, и живой — беда» — это про вас сказано, — недовольно проговорил Навои.
Писцы не могли удержаться от смеха, Алишах тоже рассмеялся.
Навои поднялся с места и положил руку на плечо Алишаха.
— Что делать? — мягко сказал он. — У вас большой талант… Из уважения к нему мы согласны исполнить, вашу просьбу.
Навои написал записку управляющему вакфами. Музыкант поблагодарил и ушел.
Поэт вышел, собираясь идти домой, но у порога столкнулся с Саидом Пехлеваном Мухаммедом.
— Зачем пожаловали? — спросил Навои, здороваясь.
— В Белом саду собрание поэтов. Все взгляды устремились на дорогу в ожидании вас. Если вы ничем не заняты, зайдите туда.
— Раз уж вы пришли, возражениям нет места.
У ворот слуги помогли поэту и Пехлевану сесть на коней. Миновав Чорсу, где, как всегда, сновала шумная толпа, и базар Мульк, они проехали с версту по вымощенной кирпичом дороге и увидели за высокими стенами огромные деревья Белого сада. Группа поэтов ожидала Навои у ворот. Они пошли по аллее между зелеными стенами громадных деревьев, сплетавшихся между собой макушками; по пути то и дело встречались поэты, которые почтительно здоровались с Навои. Усевшись на широкую супу, Навои попросил собравшихся почитать свои произведения.
В тени высоких деревьев собралось больше ста человек поэтов. Среди них были и крупные чиновники, и бедные студенты, и немало представителей разных профессий — медники, портные, мастера по шитью кошельков, гончары, вроде уважаемого Тахири. Тут были великие самохвалы, ни во что не ставившие даже таких знаменитых поэтов, как Низами или Фирдоуси. Были и рифмоплеты, вроде Самии, который с удивительной быстротой и легкостью сочинял тысячу стихов в день да еще успевал их красиво переписать. Были поэты, у которых от слишком усиленного чтения зашел ум за разум, или люди, вроде почтенного Мухаммеда, расстроившие свое здоровье чрезмерным пьянством и скитавшиеся по улицам босиком, с непокрытой головой.
На таких собраниях поэты читали и обсуждали касыды, газели, муамма. Некоторые, счастливцы удостаивались высоких похвал, другие позорно проваливались. Здесь друзья расхваливали друзей, враги не жалели яда, высмеивая друг друга. Здесь поэты подносили друг другу газели или даже целые диваны. Хорошая газель, искусно составленное муамма, строка, заключавшая в себе новый образ или мысль, переходили из рук в руки, заучивались наизусть, переписывались и прятались в складки чалмы.
Поэты, уверенные, что их произведения понравятся Навои, читали смело, с нескрываемой гордостью, отчеканивая ритм стихов. Большинство газелей, словно поддельные драгоценности, ослепляли внешним блеском.
Так много поэтов, но если бы хоть один саз зазвучал на родном языке! Жемчуга и перлы, нанизанные на нить стихов, казались Навои дешевыми, как стеклянные бусы, их блеск — холодным, как змеиная кожа.
«Стоило им немного потрудиться, и сколько они нашли бы в своем родном языке драгоценных жемчужин слова», — думал Навои.
Желая узнать мнение Алишера, некоторые поэты скромно подносили ему газели, точно ученики, предлагающие учителю первый опыт своего пера. Навои внимательно читал. В стихах он больше всего ценил оригинальные и глубокие мысли, оригинальные образы. Однако в том, что он теперь читал и слышал, меньше всего уделялось внимания именно этому. В одной газели Навои указал ошибку в рифме. Поэты тотчас же согласились с ним. В другой газели он отметил неестественность сравнения. Однако это замечание показалось другим не совсем справедливым. Некоторые даже нашли сравнение весьма красочным, блестящим. Навои отодвинулся в тень, подальше от лучей ослепительного солнца, и попросил подать калам и чернила. Собравшиеся с глубоким интересом устремили на него глаза. Внимательный наблюдатель мог бы заметить на лицах некоторых особенно самодовольных поэтов признаки иронии. Навои, обмакнув калам в чернильницу, пробежал им по бумаге и протянул газель автору. Поэт сначала прочитал газель про себя, потом обвел присутствующих быстрым взглядом и продекламировал ее вслух. Держа бумагу в протянутой руке, он взволнованно обратился к Навои:
— Я нахожу, — что мое сравнение можно уподобить почке. Вы, господин, своим дыханием, подобным весеннему ветерку, превратили почку в бутон и наполнили чашечку этой розы красками и светом.
Бумага переходила из рук в руки.
— А ну-ка, кто может что-нибудь возразить, — сказал престарелый поэт, сидевший на дальнем конце супы. Он близко поднес листок к глазам, потом передал его молодому человеку, сидевшему с ним рядом и слегка наклонившись к нему, промолвил:
— Алишер Навои одним росчерком своего волшебного калама создает из точки живые глаза.
— В то время, когда многие другие не могут высечь искру из камня, этот пишущий по-тюркски поэт добывает изо льда пламя, — вежливо ответил молодой человек.
Внезапно из дальней аллеи, где сидела веселая, подвыпившая компания, полились звуки музыки.
Волшебным мелодиям ная, чанга, лютни вторили певцы, исполнявшие тюркскую газель Лутфи. Навои опустил голову, прикрыл глаза. Как прекрасен Лутфи! Его газель, точно пламя, обжигала сердце, пленяя бесхитростной простотой степного языка, густыми свежими красками, оригинальностью мысли.
Последние волны музыки постепенно замирали в зелени. Навои поднял голову. Если бы он был один, то, вероятно, воскликнул бы: «Певец, приди, поиграй на тюркском сазе!»
На другой супе группа поэтов, усевшись в кружок, слушала газель Хусрави. Навои подошел и, остановившись сзади, тоже стал слушать. У Хусрави было слабое зрение. Не глядя на бумагу, он читал наизусть. И по форме, и по содержанию газель повторяла старые образцы. Подслеповатый поэт начал читать новую поэму. Первый стих оканчивался словом «гузар». При переходе ко второму стиху Навои, уловив стиль и смысл стихотворения, подсказал рифму: «хезар»; на слово «рой» он тоже угадал рифму «куной». С увлечением декламировавший свои стихи, Хусрави ничего не заметил. Слушатели, хихикая, поглядывали на Навои. Навои с улыбкой пошевелил губами, как бы говоря: «Тихо!» Для «сипохи буд» он нашел рифму «бамохи буд» и так далее. Наконец Хусрави оборвал чтение и, щуря глаза, с недоумением осмотрелся.
— Кто это? — с раздражением сказал он. Один из слушателей со смехом спросил:
— Вы не знаете этого человека? Вы раньше не видели его?
— Нет, не знаю, — ответил Хусрави. — Но мне помнится, что однажды, когда я читал газель на Пуль-и-Малан, этот человек тоже подсказывал наперед все мои рифмы.
Все расхохотались. Навои сел подле Хусрави и начал расспрашивать о его делах. Оба были довольны шуткой. Хусрави спросил мнение Навои о своих новых маснави; Алишер, желая ободрить поэта, похвалил отдельные стихи.
Несколько молодых поэтов, еще неизвестных в литературном мире, представились Навои. Алишер поинтересовался их знаниями; побранил кое-кого за невежество в области музыки. Побеседовав с поэтами — студентами медресе, — Навои обещал оказать им материальную помощь.
Под вечер из дворца пришел человек и сообщил, что государь справляется о Навои. Поэт простился с собранием и в сопровождении Мухаммеда Сайда отправился во дворец,
В ожидании государя, занятого голубями, Навои и Мухаммед Сайд Пехлеван прогуливались по широкой аллее сада. В глубине аллеи показался старший сын государя. Бади-аз-Заман. Он вел за руку, своего пятилетнего сына Мумина-мирзу. Как всегда изысканно одетый, красивый, вежливый, Бади-аз-Заман выпустил руку сына и поклонился Навои. Пехлевану он также оказал внимание. Навои погладил по голове Мумина-мирзу — хорошенького мальчика с умными глазами, одетого столь же щеголевато, как и его молодой отец, — спросил Бади-аз-Замана, хорошо ли он себя чувствует, осведомился о его занятиях. Они медленно пошли по аллее. Мумин-мирза, семеня ножками, обутыми в цветные сапожки, бежал впереди. Вот он быстро вынул из-под зеленого шелкового халата отделанный серебром игрушечный лук и, точно настоящий стрелок прицелился в голубей своего деда, которые то опускались до макушек деревьев, то, резко взмахнув крылом, взвивались в небо.
— Книги, которые вы мне послали, я получил, — заговорил Бади-аз-Заман. — Благодарю вас за внимание. Чтение ваших стихов и произведений господина Джами наполнило мое сердце радостью..
— Чтение — истинное наслаждение для души, — горячо заговорил Навои. — Но читать только стихи — недостаточно. А история? Вы не заглядывали в исторические сочинения?
— Мое сердце более склонно к стихам. Если будет время, примусь также и за историю, — ответил Бади-аз-Заман.
— Я умышленно прислал вам много книг по истории. Может быть, вы знаете, что и вашему отцу я тоже постоянно рекомендую читать летописи. Вся ответственность за народ и государство лежит на вас. Процветание или упадок страны зависят от ваших действий и поступков. Поэтому вы должны заглядывать в зеркало истории. Вам следует знать, в какое время и по каким причинам страны процветали и народы наслаждались радостью; в какие периоды истории и почему царства гибли и разрушались. Никакая наука не позволяет увидеть светлый день разума и справедливости и темную ночь невежества столь ясно, как история. Хотя ваш великий предок. Тимур-хан и был лишен дара грамотности, он все же прекрасно знал историю. Есть достоверные сведения, что лучшие летописцы Тимура дивились его знаниям.
Бади-аэ-Заман внимательно слушал поэта.
Угасли последние лучи солнца, тени сгущались. Навои и его спутники вошли во дворец. В огромном зале сидели беки, везиры и крупные чиновники. Бади-аз-Заман с сыном прошли в дальнюю часть зала и сели направо от места султана. Навои поместился подальше, бок о бок с Мухаммедом Саидом. Их приход внес замешательство: парваначи Маджд-ад-дин, слова которого, по-видимому, привлекали всеобщее внимание, резко оборвал речь и замолчал. Величавый, как подобает везиру, пышно одетый, лукавый Низам-аль-Мульк заметил это. Под его черными, сильно накрашенными усами пробежала улыбка. Хитрый царедворец, он всячески старался натравить враждующие стороны, рассчитывая в дальнейшем примкнуть к той, которая окажется сильнее.
— Господин парваначи, вы начали говорить что-то очень поучительное, — обратился он к Маджд-ад-дину, притворяясь, что не понял причины замешательства. — Было бы хорошо, если бы вы изволили продолжать. То, что вы говорили, относится также и, к господину Алишеру Навои.
Кое-кто из чиновников начал делать парваначи знаки, как бы говоря: «Не надо». Эмир Могол нахмурился и посмотрел исподлобья на Низам-аль-Мулька.
Мадж-ад-дину не хотелось начинать спор в присутствии Бади-аз-Замана. Однако слова Низам-ал-Мулька, которого он считал своим злейшим врагом, задели парваначи за живое.
— О чем тут спорить! Для всякого, кто обладает здравым умом, вопрос совершенно ясен, — резко сказал он.
— Если ваши слова относятся ко мне, я бы хотел их услышать, — сказал Навои, спокойно глядя на Маджд-ад-дина.
Не будучи в силах скрыть охватившей его дрожи, Маджд-ад-дин заговорил:
— Под сенью счастья и справедливости великого государя благосостояние нукеров должно было бы повыситься до никогда не виданных размеров. К сожалению, мы каждый день слышим их жалобы. Разумеется, ваше мудрое око видит это в тысячу раз лучше, чем мы, но нам кажется, что в то время, когда так много говорят о справедливости, не следовало бы притеснять несчастных нукеров.
— Мы тоже знаем, насколько войско необходимо государству, — спокойно ответил Навои. — Государь, который не заботится, словно родной отец, о войске, в конце концов потерпит поражение, хотя бы он и сражался на поле битвы, как Рустам.[83] Поэтому следует непрестанно думать о войске и прежде всего о том, чтобы обеспечить воинов всем необходимым. Однако нукеры, достойные такой заботы, должны быть верны, народу и государству. Печально, очень печально, что большинство нукеров уподобилось саранче, грызущей засеянное поле. В справедливом государстве подобным дурным поступкам не должно быть места.
— Не получая из казны достаточно золота и серебра, они поневоле протягивают руку к народному достоянию, — с напускной горячностью сказал Маджд-ад-дин.
— Руки, которые тянутся к народному достоянию, надо отрубить, чьи бы они ни были, — резко и решительно сказал Навои. — Если нукеры и чиновники превратятся в саранчу, народ скоро повесит на шею нищенскую суму, а в пустой казне станут справлять пир мыши.
— Раз жалобы поступают, надо принимать какие-то меры, — пробормотал Эмир Могол.
— У народа есть поговорка: «Сытый с жиру бесится», — сказал Навои тоном человека, убежденного в своей правоте. — Посоветуйте вашим джигитам не пить слишком много вина и не предаваться чрезмерно наслаждениям. Какой службы может ожидать государь от нукера, который обижается, если ему не дают шелкового халата?
Эмир Могол промолчал. Маджд-ад-дин, украдкой взглянув на Бади-аз-Замана, увидел по лицу царевича, что он согласен с поэтом. Это заставило парваначи прикусить язык. Неловкое молчание нарушил Валибек, выделявшийся среди прочих беков и военачальников своим простодушием. Этот бек жил вместе с простыми воинами, питался с ними из одного котла. Вспыльчивый и прямой, он заговорил, как всегда, резко и отрывисто:
— Наши отцы жертвовали собой за правдивое слово. В наше время почему-то не придерживаются этого хорошего старого обычая. Точно так же и наши джигиты не стараются следовать примеру древних богатырей. По моему мнению, господин Алишер, хоть и не военный, высказывает хорошие мысли. От молодцов он требует молодечества. Благодаря мероприятиям господина Алишера джигиты не испытывают никакой нужды. Поэтому я, сказать по правде, не понимаю причины вашего спора.
После Валибека заговорил Ходжа Афзаль и разнес Маджд-ад-дина в пух и прах. Тогда парваначи начал льстить. Приложив руку к груди, он твердил, что желает, чтобы усердие и рвение господина Алишера в этой области принесли еще более обильные плоды.
Вновь назначенный ишик-ага Баба-Али подал знак, что идет султан, и все поднялись. Хусейн Байкара гордо прошел по залу и опустился на бархатные подушки. Следом за ним ленивой походкой шел его любимец, двенадцатилетний царевич Музаффар-мирза в сопровождении нескольких беков и джигитов. Он сел слева от отца. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, как на лице Бади-аз-Замана промелькнула тень неудовольствия.
Хусейн Байкара был под хмельком. Он, как всегда, приветливо поздоровался с беками. К Навои государь отнесся с особенной теплотой. Он говорил с поэтом не только о его официальных обязанностях, но и о личных делах. Внимание, оказанное Навои, не понравилось приближенным государя. Поэт почувствовал, себя неловко, Хусейн Байкара посадил своего внука Мумина-мирзу к себе на колени. Поцеловав его в лоб, он полюбовался луком ребенка и игрушечным кинжалом, висевшим у него на поясе, потом, немного поговорив с мальчиком, отпустил его. Мумин-мирза вернулся к отцу и сидел молча, осматриваясь вокруг умными глазами. Хусейн Байкара обратился к Мухаммеду Пехлевану. Он осведомился: все ли готово к предстоящим состязаниям в борьбе и напомнил о необходимости уже сейчас готовить к ним Гератских силачей, чтобы не ударить лицом в грязь перед чужеземными борцами. Потом султан начал восхвалять Малана Пехлевана, который однажды боролся с пьяным слоном. Он дал указания, как встретить знаменитого египетского алхимика, прибывающего в Герат, выразил уверенность в возможности превращения меди в золото и сказал, что намерен лично присутствовать при таинственных опытах ученого. Собравшиеся с интересом беседовали на эту тему. Наконец Хусейн Байкара приказал позвать главу государева книгохранилища. Дервиш Али явился с большой пачкой книг под мышкой и почтительно сложил их перед султаном. Хусейн Байкара просматривал книги и одну за другой передавал присутствующим. Они были разной величины, одна другой красивее, эти книги являлись воплощением чудесного искусств знаменитого мешхедского писца Султана Али, художника Бехзада и мастера по переплету Шерали. Навои, который видывал немало роскошных книг и сам обладал целой сокровищницей драгоценных сочинений, был поражен этим совершенным искусством. Даже некоторые военачальники, равнодушные к произведениям изящных искусств, и те с интересом рассматривали книги, осторожно перевертывая грубыми пальцами тонкие мягкие листы. Все заинтересовались жизнью и личными качествами Султана Али и Бехзада. Пришедший вместе с беками Музаффара-мирзы Туганбек сидел в зале среди прочих вельмож. Он тоже бросил издали взгляд на одну из книг и сказал: «Да не отсохнет его рука! Диковинную вещь сделал!»
Когда книги были осмотрены, Хусейн Байкара пригласил гостей на пир. В разгар пирушки Навои, сославшись на усталость, ушел. С двумя нукерами, ожидавшими его у ворот, он отправился домой.
Безветренная, лунная ночь. Герат спит. То там, то здесь слышатся пьяные голоса. Ночную тишину нарушает унылый скрип чигириков — особых колес, поднимающих воду из арыка и прялок. В узкой кривой улице, застроенной домами с покосившимися крышами, конь Навои вдруг навострил уши и шарахнулся в сторону. В десяти шагах от него на земле лежала женщина. Нукеры, ехавшие в отдалении, подскакали к Навои. Спрыгнув с коня, один из них наклонился над лежавшей.
— Зарезали ножом, весь бок в крови! — воскликнул он, не поднимая головы.
Навои хотел было сойти с коня, но нукер удержал его.
— Не беспокойтесь напрасно, господин. Она уже не дышит, — сказал он, поворачивая голову мертвой к свету. — Я знал эту несчастную.
— Кто же она? — взволнованно спросил Навои.
— Дочь Мир Халима, ткача. Красавица была. Навои, горестно покачивая головой, молча смотрел на девушку. Наконец он спросил сдавленным голосом
— Как выдумаете, почему произошло это несчастье?
Нукер обтер о стену замаранные кровью пальцы и со вздохом сказал
— Гератские озорники, сыновья беков и чиновников, приволакивались за девушкой и ссорились из-за нее. Несчастная славилась красотой и хорошим голосом. Думаю, что она отдала свое сердце одному из джигитов, а другие затаили обиду. В конце концов она пала от руки одного из них.
— В Герате много дурных людей, господин, они не оставляют в покое красивых девушек, — сказал другой нукер.
— Оставайтесь здесь. Одному из вас следует осторожно известить родителей несчастной, не так ли? — грустно сказал Навои. — Потом сообщите обо всем юзбаши,[84] схватите преступников и немедленно бросьте их в тюрьму. Завтра жду от вас подробного доклада. Нукеры поклонились. Навои тихо поехал вперед. Поджидавший своего хозяина Шейх Бахлул, услышав стук копыт, зажег свечу и приготовил место перед низеньким столиком. Навои выглядел очень печальным. Он снял верхнее платье, повесил тюрбан на колышек и надев на голову легкую ермолку, присел к окошку. Неожиданный случай на дороге окутал его сердце тучами. Он попытался не думать об этом и посмотрел из окошка в сад.
Большой золотой круг луны как будто катился из-за деревьев ему навстречу. Лучи света переливались среди прямых стволов кипарисов. Венчики цветов чуть колебались, и тени их на земле казались живыми. Недавнее кровавое зрелище оживило в душе поэта далекое воспоминание. В глубине его сердца вспыхнула печаль. Он вспомнил мгновения, сверкнувшие, как молния, и канувшие в вечность, мгновения, которые он провел в столь же прекрасную ночь в маленьком, но полном фантастической красоты садике с одной девушкой — совершенным воплощением красоты, ума и воспитанности. В его ушах звучал нежный, как свирель, голос красавицы, он чувствовал поцелуи ее свежих, как розовый бутон, губ. Где эта девушка? Где она — неиссякаемый источник поэтического вдохновения? Увы, ее нигде не найдешь. Промчись вихрем по степи, прогреми, как весенняя туча, наполни слезами русло потоков — и все же не нападешь на ее след. Этот цветок сорвали безжалостные руки… Прощай, любовь, обратившаяся в великую тайну, в легенду!
Защелкал соловей. Казалось, он поет на дереве, ветви которого тянутся над самым окошком. Навои, забывшись, долго сидел у окна, печально глядя в сад. Потом с тяжелым вздохом поправил покосившуюся свечу и принялся перебирать бумаги, которые лежали на столике. Бросил взгляд на последнюю страницу: Фархад пробивает гору. Вынул из золотой чернильницы калам, немного разбавил тушь водой. Калам быстро забегал по бумаге. Словно Фархад, дробящий топором скалы, поэт одним ударом разбивал глыбы мысли, вкладывая их в стихи. Фантазия уносила его в мир сказок. Он писал, забыв о себе, полный боли. Вот Фархад кончил копать «источник жизни». Завтра он пустит в русло воду. Придет Ширин со своими прекрасными подругами. Тысячи людей под звуки карнаев и сурнаев устроят дивный праздник на берегу бурливого канала. Эта картина, картина победы жизни, доставила поэту облегчение. По его лицу пробежала мудрая улыбка. Когда он погасил свечу, уже светало. В воздухе шелестел утренний ветерок.
Когда пирующие были захвачены вихрем вина и плясок, Маджд-ад-дин, улучив момент, сделал знак Эмиру Моголу, Туганбеку и еще нескольким своим единомышленникам. Выйдя незаметно из зала, они собрались в одном из отдаленных помещений в глубине сада Джехан-Ара. Все были навеселе, только Маджд-ад-дин оставался трезвым. Он усадил всех на ковер, запер двери.
Приспешники Маджд-ад-дина с трудом приходили в себя, старались понять, зачем они пришли сюда.
— Как государь обошелся с Алишером? У меня чуть сердце не выскочило, — пробурчал Эмир Могол, покачиваясь.
— Теперь я понял, что государю ничего не втолкуешь. Столько наших жалоб пошло на ветер, — недовольно сказал один из барласских беков, потирая рукою лоб.
— Если мы поставили перед собой большую задачу и обещали друг другу ее осуществить, то дело необходимо довести до конца, — проговорил Маджд-ад-дин.
— Наша преданность султану очевидна для всех, поэтому не остается места для каких бы то ни было колебаний. До сих пор мы доводили до ушей султана только отдельные жалобы. Я думаю, что государь, хоть и не принимает никаких мер, не забыл наших слов. Теперь наступило время прибегнуть к более решительным действиям.
— Правильно, — сказал Туганбек, покручивая редкие усы. — Крепость врага очень сильна; нужно найти способ ее разрушить.
— Верно! — воскликнул Шихаб-ад-дин и потрепал Туганбека по плечу.
Эмир Могол сделал знак рукой. Распустив толстые губы, он помолчал с минутку, потом, как будто забыв о своем намерении говорить или страдая от неумения найти слова, повернулся к Маджд-ад-дину:
— Скажите вы…
— Нить нашего договора не разрубить мечом. Процветание государства зависит от нашего меча, — пробурчал один из беков.
— Вы — Сабудай-бахадур[85] нашего времени. Власть должна, находиться в ваших руках, — добавил Ходжа Абдулла-Хатыб.
Маджд-ад-дин попытался сократить разговоры.
— Если вы все согласны действовать единодушно, то прошу вас выслушать мои соображения.
— Говорите, — сказал один из слуг дворца, старый интриган.
— Что если написать султану безыменное письмо? Мы бы изложили в нем все наши соображения относительно Алишера и его людей.
— Не имеем никаких возражений! Это хорошая мысль! — тотчас же закричал Эмир Могол.
Кто-то высказал опасение, что письмо будет трудно передать султану. Маджд-ад-дин уверенно сказал:
— Во дворце у нас есть слуги, которые сумеют подбросить письмо и обратить на него благословенные взоры султана, а сами останутся необнаруженными. Если вы поручите это дело вашему покорному слуге, то, по воле аллаха, я его выполню.
Никто не стал возражать. Вскоре все вышли и с разных сторон, один за другим, вернулись во дворец. Маджд-ад-дин остался один. Он запер дверь, сел перед свечой и, потея от напряжения, принялся писать письмо
В полночь Хусейн Байкара вошел в гарем. Он провел ночь с красивыми девушками из знатных гератских семей. К утренней молитве султан поднялся с постели с тяжелой головой и ломотой в пояснице. В отдельной маленькой бане расторопный слуга вымыл султана, растер ему тело и старательно одел его. Хусейн Байкара почувствовал себя лучше. Он вернулся во дворец и позавтракал в обществе высокой, стройной красавицы с изогнутыми дугой бровями и миндалевидными глазами, только вчера предложенной султану в подарок. Прислужницы только что искупали ее, причесали и закутали в веселые китайские шелка. В новой обстановке, среди чужих людей, молодая женщина чувствовала страх и уныние. Ночь она провела, ничего не сознавая, и теперь, помня наставления и уговоры дворцовых женщин, старалась, пусть через силу, быть кокетливой и любезной. Хусейну Байкаре нравились томные глаза, прямой точеный нос, изящество движений молодой женщины. Он ласково сказал ей, чтобы она пришла вечером, и вышел из комнаты. В прихожей его, кланяясь, встретила Гульчехра-биби. У старой распутницы выпали все зубы и поседели волосы, но она все еще вешала себе на шею коралловые бусы. Ночью, когда султан отправлялся к какой-нибудь красавице, Гульчехра-биби, подготовив девушку, не смыкая глаз, ожидала возможного приказания повелителя и не отходила от дверей, словно верная собака, охраняющая своего хозяина.
Хусейн Байкара остановился и, улыбнувшись старухе, сунул руку в карман. Он вынул горсть золотых монет. К монетам пристала какая-то бумажка. Султан положил деньги в жадно протянутую руку старухи.
— Твоя служба достойна похвалы, мать.
— Единственное желание вашей ничтожной рабыни — находить новые цветы, радующие сердце султана, — ответила Гульчехра-биби, пряча в рукав звенящие монеты.
Выйдя в сад, Хусейн Байкара развернул мягкую, гладкую, как шелк, бумагу. Пробежав глазами первые несколько строчек, он вдруг остановился и, нахмурившись, осмотрелся по сторонам. Шагах в двадцати от себя он увидел огромные фигуры своих неизменных стражей Буданы и Дуланы. Прочитав еще несколько строк, государь сложил бумагу и быстро пошел по аллее. Не заходя в расписанный золотом зал, где стоял его трон, султан вышел в смежную небольшую комнату, стены которой были покрыты фарфором. Он сел на подушку и дочитал письмо до конца, потом дрожащими руками скомкал бумагу и сунул ее в карман.
— Такой человек, как Алишер Навои, столь злонамеренно настроен против меня, — гневно думал султан.
— Разве может человек стерпеть подобную неблагодарность! Я — тиран, я — заблудший венценосец, окруженный толпой пьяных дураков, я — злодей, грабящий народ… Хорошие слова! Вместо меня он посадит на престол Бади-аз-Замана. Посмотрим!.. Я пока еще не хочу отдавать венец и власть никому из сыновей. Неужели Алишер этого не понимает? Я и раньше слышал от многих приближенных жалобы на Алишера, но в сравнении с этим письмом они капля в море. Это письмо, несомненно, написали его враги, и оно далеко не свободно от преувеличений, однако, каким образом безыменное письмо попало ко мне в карман? Удивляюсь! — недоуменно покачал головой султан.
— Его написали большие люди, а маленькие, с искусством Камака Кайёни[86] пробрались в мои покои. Это, конечно, неплохо: это доказывает, что люди мне преданы…
Хусейн Байкара прилег на большую мягкую подушку. Долго и тревожно думал он, изнемогая под тяжестью размышлений. Потом задремал, но сон его был тревожным. Отдельные слова письма сверлили ему мозг. Внезапно султан открыл глаза и постучал в цветное стекло окна. Тотчас же с поклоном вошел ишик-ага Баба-Али.
— Знаете ли вы человека, которого зовут Мир-Кабиль?
— Конечно, знаю, — ответил Баба-Али.
— Видели его сегодня?
— Утром видел, у ворот.
— Найдите его поскорее и пришлите ко мне.
— Слушаюсь.
Вскоре дверь тихонько отворилась, и на цыпочках вошел Мир-Кабиль. Это был длинный, тощий парень с мутными глазами, казалось, боявшийся собственной тени. Поклонившись до земли, он выпрямился и сложил руки на груди. Хусейн Байкара, не глядя на него, сказал: — Ты оставишь того человека, за которым следил до сих пор.
— Оставлю, — поклонился Мир-Кабиль.
— Начиная с этой минуты, ты будешь всюду следовать за Алишером, — продолжал Хусейн Байкара. — Ни одно собрание, ни один прием в доме Алишера не пройдут без тебя. Все, что Алишер скажет среди своих друзей, гостей или близких, ты запомнишь и будешь передавать мне. Знай, что твоя душа и голова в моих руках.
— Презренный раб точно исполнит ваше приказание и все доведет до вашего сведения, не забыв ни одного слова, — дрожащим голосом сказал Мир-Кабиль.
— Хорошо, ступай, — махнул рукой султан.
Навои позавтракал и, как обычно, вышел прогуляться по Саду фиалок. Он попробовал спелых персиков, сорвал красное, как коралл, яблоко и полюбовался им, перебрасывая с руки на руку. Потом подошел к большой супе возле хауза. Сахиб Даро принес огромную пачку писем. Поэт развертывал бумаги одну за другой и читал их. Много писем пришло из дальних городов и стран, перевалив горы, переплыв моря. Далекие незнакомые ученые, стихотворцы и любители поэзии писали, что горят желанием прочесть его газели, заочно выражали ему свою любовь. Навои подумал, что им надо написать, послать приветы и подарки. Он попросил Сахиба Даро распорядиться, чтобы переписали побольше экземпляров сборника его газелей. Потом он, взяв перо, перешел к «Фархаду и Ширин». Но ему не удалось написать и одной страницы: пришли строители, живописцы, каменщики и обступили Навои, спрашивая совета относительно постройки медресе, ханаки, бань. Поэт долго беседовал с ними о сортах мрамора, красках, дверях, окнах, о размерах надписей на порталах. Когда мастера удалились, появился усталый нукер.
— Вы расследовали тот случай? Почему так поздно пришли? — спросил Навои, усадив нукера перед собой.
— Господин, я не отдыхал ни минуты, совсем выбилися из сил, — ответил нукер, облизывая пересохшие губы и обтирая темное от загара лицо. — В конце концов я узнал все в точности.
— Ну! Кто же убийцы? За что убили девушку? — взволнованно спросил Навои.
— Мои слова оказались правильными, — ответил нукер. — Несчастная дочь ткача ни в чем не виновата. Она любила молодого гератского флейтиста. Вчера вечером девушка возвращалась со свадьбы своей подруги и встретила двух джигитов, которые уже давно замышляли сбить ее с пути. Они заступили ей дорогу и хотели увести с собой. Девушка не соглашалась. Тогда один из джигитов, пьяный, ударил ее кинжалом.
— Но кто же убийцы? — нетерпеливо спросил Навои, нахмурив брови.
— Знатные особы, — покачал головой нукер. — Один — близкий родственник парваначи Мадждад-дина, другой — из свиты царевича Музаффара-мирзы. Мы не могли добиться, чтобы их задержали, хотя дошли до самого городского даруги. Теперь убийцы сидят и пьют в саду эмира Шуджа-ад-дина Барласа.
Навои разрешил нукеру пойти отдохнуть. Приказав Шейху Бахлулу унести письменные принадлежности, он быстро оделся и пешком отправился в диван.
Воздух был спертый и душный, земля горячая, как раскаленное железо. На пыльных улицах люди, задыхаясь от жары, искали айран. Ни малейшего ветерка. Запыленные, с обвисшими листьями деревья безмолвно дремали.
По пути в диван Навои зашел в управление даруги. Служащие, обмахиваясь веерами, разговаривали между собой; при виде Навои они шумно поднялись и сложили руки на груди, как будто ожидали его приказаний. Поэт выразил желание видеть даругу. Услышав, что тот только что куда-то вышел, Навои вступил в разговор со служащими, чтобы узнать что-нибудь о вчерашней трагедии. Подробности, которые они сообщили, совпадали с рассказом нукера.
Из управления Навои пошел в диван. В большом прохладном зале дивана сидели на шелковых коврах и чинно беседовали, закончив занятия, Маджд-ад-дин, парваначи, Низам-аль-Мульк, Эмир Могол, Туганбек и еще несколько вельмож и высших чиновников. Войдя в зал, Навои приветствовал всех со своей обычной вежливостью.
— Пожалуйте, господин эмир, — с напускным смирением сказал Маджд-ад-дин, — вы пришли в самую жаркую пору.
— Ничего, — спокойно сказал Навои, — я пришел, чтобы сделать важнее дело.
— Какое именно? Поделитесь с нами, — с принужденной улыбкой проговорил Маджд-ад-дин.
— Я думаю, что все присутствующие здесь должны знать об этом. По имеющимся у меня сведениям, существуют какие-то затруднения в задержании убийц дочери ткача. Я хотел бы знать о причинах этого.
— Действительно, это очень щекотливый вопрос, — ответил Маджд-ад-дин. — Дело в том, что нельзя поступить вопреки желанию царевича Музаффара-мирзы
— А кроме царевича, о ком вы еще беспокоитесь? — резко спросил Навои.
Маджд-ад-дин отвел глаза.
— Другие соображения не имеют значения, — сухо ответил он.
— Слава аллаху, в нашей стране есть правительство, — сурово сказал Навои, — есть султан, есть закон и права. Если кто-нибудь совершит преступление, он должен быть подвергнут соответствующему наказанию. Без этого невозможно наладить жизнь. И никто не может требовать для себя особых прав.
— Во всяком случае, необходимо испросить разрешение царевича Музаффара-мирзы, — с достоинством произнес Низам-аль-Мульк.
— Наш царевич будет очень обижен. Я знаю, что он думает, — сказал Туганбек, отворачивая лицо в сторону.
Навои неприязненно посмотрел на него и сказал Низам-аль-Мульку: «Царевич сам обязан отдать приказ о казни преступника, пролившего кровь невинного человека. Если Музаффар-мирза, по молодости лет не понимает этого, его надо научить. Нет большего преступления, нем покрывать преступников».
Лицо Навои пылало гневом. — Если тщательно расследовать этот случай, окажется, что все происшедшее — последствие опьянения. Есть ли смысл бросать из-за этого в тюрьму достойных людей? — нервно подергиваясь, возвысил голос Маджд-ад-дин.
— Достойных людей?! — иронически воскликнул Навои. — Какое может быть достоинство у хищников, обагривших руки невинной кровью? Друг мой, — обратился он к одному из писцов, — напишите приказ городскому даруге о немедленном задержании преступников.
Молодой, писец поклонился. Он немедленно написал приказ, внимательно перечитал его и подал поэту. Кроме Навои, подписались и приложили печати Низам-аль-Мульк и еще два бека. Поэт положил приказ в карман и уверенной поступью направился к выходу.
Глава шестнадцатая
Поздняя осень. Ленивая зима еще не дала себя почувствовать; время от времени перепадают дожди и наполняют желоба бурливыми потоками воды. Пешеходы вязнут в грязи на улицах «единственной в обитаемом мире столицы». Но небо снова быстро голубеет и снова солнце пригревает по-весеннему. В садах деревья переливаются золотом, листья безмолвно осыпаются, целуя влажную землю.
Навои бродил по аллеям, любуясь увядающей красотой осени и размышляя о переменах в природе и жизни. Появился нукер и сообщил, что конь для путешествия готов. Поэт словно впервые услышал, что нужно ехать в Мерв к султану. Он нерешительно сказал: «Сейчас иду», — и продолжал свою медленную прогулку. Поговорив с садовниками и другими слугами, погладив по голове кувыркавшихся в траве детишек, он вынул из кармана горсть золота и серебра и, по обычаю путешественников, оделил всех. Дети, обрадованные, прыгали по аллеям, сжимая деньги в руках и поддразнивая друг друга; взрослые с искренней любовью прощались с хозяином, желая ему счастливого пути.
Вернувшись в дом, Навои надел теплый чекмень, шапку. Он позвал Шейха Бахлула и Сахиба Даро и отдал им последние распоряжения, потом осведомился о поклаже и людях, которые должны были выехать за ним следом и сопровождать его в пути. Выйдя во двор, он увидел друзей, пришедших проводить его, — Асифи, Шейхима Сухейли, Мир Муртаза, Атауллу, Земани, Ходжу Фасых-ад-дина, Султанмурада, Пеклевана Мухаммеда Сайида. Друзья обступили поэта.
Навои было жаль разлучаться с близкими людьми. Он постоял несколько минут, разговаривая с ними и стараясь сказать каждому что-либо приятное; Мир Муртазу и Султанмурада поэт попросил прислать в Мерв рукопись своего нового труда, когда он будет закончен. Внимание друзей немного рассеяло его печаль.
Выехав из города, поэт направил коня не прямо на мервскую дорогу, а к гробнице Сад-ад-дина Кашгари.
Джами, как всегда, встретил, его радостно. Навои еще не успел сойти с коня, как великий старец сказал со свойственной ему мягкостью:
— Теперь вы заставляете нас обратить взоры к Мерву.
— Что поделаешь! Не поехать было невозможно. Но разве высокий господин знает уже об этом?
— Вчера у нас было несколько царевичей и сыновей беков, я слышал это от них, — ответил Джами и решительно добавил: —Приказ государя. Наш долг повиноваться.
— Еще более священная обязанность — охранять независимость сердца и ума, — проговорил Навои.
Джами, который был осведомлен о кознях Маджд-ад-дина и его приспешников, очень терзался этим. Мерзкие руки, стремившиеся запятнать чистый облик великого поэта, вызывали у него отвращение. Однако Джами, веря в светлый ум поэта и великое значение начатого им дела, был убежден, что Навои, находясь на высоком посту, может принести пользу народу, обуздать грубую силу, уменьшить угнетение. Поэтому он не одобрял его стремления отойти от государственных дел.
— Служить ради счастья и процветания народа — то же самое, что служить богу, — убежденно ответил Джами.
— Я тоже раб этой мысли, — проговорил Навои, прикладывая руки к груди, — но человек, который служит государю, должен быть немым и бессильным. От него требуют, чтобы он закрыл глаза на мерзости. Язык, который хочет выдать тайну, отрезают. Трудное положение у царедворца. Нет положения труднее.
Джами помолчал. Он думал о том, какой разврат и распущенность царят при дворе, как опустился султан. Вполне естественно, что Навои задыхается в этой среде. Джами сочувствовал поэту, но, как подобало суфию был твердо убежден в торжестве истины.
— По воле аллаха, вы одолеете всех злодеев и врагов истины, — горячо сказал Джами. — Мы всегда готовы бороться на этом пути.
Последние слова Джами особенно подчеркнул в его голосе звучала горячая вера.
Навои заговорил о том, что ему, вероятно, придется пробыть в Мерве всю зиму, что его сердце, особенно в последнее время, стремится к тишине и одиночеству, что он устал от общения с царедворцами.
Тихая, спокойная жизнь великого старца, слава которого покорила весь мир, среда, полная высокой нравственней чистоты и силы, пленяли Навои; дервиш по природе, он часто порывался освободиться от мирских цепей и отдаться духовным наслаждениям, но любовь к народу влекла его не в хижину отшельника, а призывала к исполнению долга перед народом и обществом, к служению во имя всеобщего счастья. Джами понимал, какие чувства двигали поэтом, и считал его достойным уважения и любви.
Когда Алишер Навои попросил разрешения тронуться в путь, старец знаком попросил его немного подождать и, порывшись в разложенных вокруг книгах, протянул поэту пачку листков — не переплетенных, но обрезанных В форме книги. Навои тут же перелистал их. «Море пречистых», — прочитал он. Пробежав глазами отдельные места, он увидел, что это ответ на поэму «Река пречистых» индийца Хосрова. Алишер бросил беглый взгляд на поэта. На лице Джами он увидел гордую, но не заносчивую, теплую улыбку. Навои вспомнил одну из своих бесед с Джами и снова устремил глаза на книгу: ему сделалось стыдно. Неделю или две назад в этой самой комнате беседуя с Джами, он заговорил о творчестве Хосрова. Навои искренне и горячо хвалил волшебное перо поэта. Особенно высоко он ставил его «Реку пречистых». В доказательство он привел слова самого поэта: «Если когда-нибудь времена изменятся и все мои произведения бесследно исчезнут из мира и останется только «Река пречистых», — этого достаточно. Тот, кто будет читать ее, узнает, какова сила и мощь моих стихов». Джами тогда промолчал. Теперь Навои понял, что означало это молчание. «Так неумеренно восхвалять Хосрова при Джами было ошибкой», — подумал он. Но вдруг лицо Навои осветилось улыбкой: его ошибка помогла созданию нового, давно желанного произведения. Навои выразил свою безграничную радость и поздравил старца с этим сочинением.
— Если будет время, почитайте и напишите мне ваше мнение. Ваша похвала для нас высокая награда, — сказал Джами.
Навои бережно взял книгу. Джами проводил его до дверей, и они дружески простились.
По обеим сторонам дороги тянулись бесконечные сады и огороды. Ветви деревьев, склонившись над дорогой, иногда задевали шапку поэта. По золотому ковру листьев бродили стада коз и овец. На огородах, где уже был собран урожай, торчали пугала. Чем дальше отъезжал поэт от города, тем безлюдней становилась дорога. Поселки, люди встречались все реже. Наконец дорога перешла в бесконечную степь. Вдали, на горах, сверкал первый снег. Лучи солнца озаряли тусклую чахлую равнину. То тут, то там проплывали сплошные тени облаков. Прохладный ветер приносил слегка прелый аромат степных растений. Коршун медленно описывал в небе широкие круги, зорко высматривая добычу.
Поэт достал книгу — подарок Джами. Ветер шевелил листы, мешая читать, но Навои не отрывался от черных строчек. Чтение доставляло ему величайшее наслаждение. Постукивание копыт коня по мягкой, но не пыльной дороге казалось созвучным дивной музыке природы и великолепным стихам. Отдельные, особенно понравившиеся строки Навои перечитывал по нескольку раз. Кончив, положил книгу за пазуху; он уже знал почти всю поэму наизусть.
«Хорошая касыда, — думал поэт. — Такая же красочная, как «Река пречистых». Надо и мне ответить на эту поэму, написанную в ответ Хосрову».
Захваченный величавым безмолвием степи, Навои ехал вперед, любуясь открывавшимися картинами и создавая в воображении ткань нового произведения. Неожиданно поэт произнес:
Это был первый бейт поэмы «Подарок размышлений». Он прекрасно выражал настроение и состояние души поэта. Конь, встряхивая головой и пофыркивая, несся через холмы и перевалы, фантазия поэта уносилась вдаль, создавая строки нового произведения.
Навои сдержал коня перед толстыми высокими стенами рабата. Поэт сошел на землю и, передав коня встретившему его прислужнику, выпрямился, смахнул с себя пыль. В рабате было много путешественников. Знавшие поэта в лицо тотчас же подошли и почтительными поклонами приветствовали его. Слуги принялись готовить пищу.
Навои вошел в одну из свободных комнат и прилег отдохнуть, вытянув затекшие ноги. Затем, потребовав калам и чернила, написал письмо Джами. Он дал высокую оценку новому произведению учителя и добавил, что ожидает новых и новых жемчужин поэзии, зародившихся в его великом сердце. В конце письма он сообщил, что по прибытии в Мерв собирается сам написать поэму, и привел ее первый бейт. Он попросил Джами высказать свое мнение о нем. Окончив писать, тщательно сложил листок и вышел на шумный двор рабата, чтобы передать письмо с кем-нибудь из едущих в Герат.
Друзья Навои, проводив его в путь, еще долго гуляли по саду и мирно, задушевно, без споров беседовали. Только заядлые шахматисты во главе с Мир Муртазом, разостлав на солнце коврик, сидели за игрой. Султанмурад, боясь увлечься шахматами и заставить ждать студентов, незаметно ушел из сада. Он направился в медресе Шахруха: там его ожидали четырнадцать постоянных учеников в возрасте от шестнадцати до тридцати лет. Разделив их по уровню знаний, Султанмурад до полудня преподавал им духовные и светские науки. Потом он удалился в свою комнату, сел на мягкий коврик среди книг и принялся размышлять о природе и происхождении человеческого знания. Накануне Султанмурад вел об этом оживленную беседу с Навои. Он продумал соображения, высказанные поэтом, сопоставил их с взглядами древних философов. В книге, которую он собирался написать, Султанмурад решил как можно шире осветить эти вопросы.
Заедая урюковые косточки хлебом, посыпанным кунжутом, юноша мысленно спорил с невидимым противником. Вошел Зейн-ад-дин. Султанмурад, который в последнее время редко видел своего друга и очень по нему соскучился, радостно обнял Зейн-ад-дина и усадил его рядом с собой.
Зейн-ад-дин посвятил себя каллиграфии, музыке и шахматам. Во всех этих областях его уже причисляли к выдающимся знатокам. К тому же он приобрел большое искусство в резьбе по камню и в писании надписей. Несмотря на такое множество занятий. Зейн-ад-дин находил время для забав и всевозможных проказ и производил впечатление бездельника.
После первых дружеских шуток и взаимных сетований молодые люди принялись весело болтать. Зейн-ад-дин посмотрел на обросшего бородой ученого и покачал головой.
— У тебя в сердце пылает любовь. Болезнь любви чем старее, тем острее.
— Ты заблуждаешься, — грустно сказал Султанмурад, — я могу преодолеть болезнь любви.
— Но скрыть ее невозможно. Когда господин Навои летом читал главу из «Фархада и Ширин», мы тоже присутствовали. Мне вспоминаются такие стихи:
— Неувядаемые цветы тюркской поэзии, — вздохнул Султанмурад.
— Не грусти, друг, мы найдем ключи твоего счастья, — смеясь, сказал Зейн-ад-дин. — Если желаешь, я сведу тебя в сад любви.
— Ты всемогущ, друг мой, — насмешливо улыбнулся Султанмурад.
— Слушай же! — рассердился Зейн-ад-дин. — Дильдор состоит простой служанкой у Хадичи-бегим. Завязать знакомство с дворцовыми девушками нетрудно.
— Что ты говоришь! — дрожащим голосом вскричал Султанмурад, побледнев.
— У меня есть приятель, большой озорник. Ему почему-то захотелось познакомиться с девушками из дворца. В Герате существует одна любопытная старуха гадалка. Хадича-бегим ее очень почитает. Эта старуха, кроме гаданья, еще кое-что умеет делать. Например, говорит на два голоса, через ноздри и даже через уши. Так вот, с помощью этой старухи он сумел познакомиться с одной из девушек. Раньше они беседовали письменно, Теперь изредка встречаются на несколько минут. Вчера я узнал через них о судьбе Дильдор. Ну, что скажешь? Если хочешь, мы возьмемся за гадалку. Не получится разговор — откроешь Дильдор свою любовь в письме. Можно будет повидаться… Потом примешь другие меры.
Султанмурад прижал дрожащие руки к вискам; лицо его исказилось от волнения. Вдруг он резко покачал головой.
— А как же Арсланкул? Как могу я растоптать счастье бедного влюбленного? Могу ли я вонзить кинжал в рану его сердца, которое живет только страданиями любви!
— Разве Арсланкул все еще здесь? — растерянно спросил Зейн-ад-дин.
Султанмурад вытер слезы и сказал, грустно покачивая головой:
— Он здесь, бедный влюбленный.
Глава семнадцатая
На берегу Инджиля не слышно былого шума и движения: постройки в основном завершены. Медресе, ханаки, больницы, бани возносят к небу свои великолепные порталы и купола. Теперь здесь работают сотни живописцев, каменщиков, столяров. Прилежно трудясь над внешней и внутренней отделкой зданий, они раскрывают еще неведомые миру тайны своего искусства. Сотни знаменитых садовников разбивают вокруг каждой постройки прекрасные сады.
Арсланкул теперь знает все здания как свои пять пальцев. Он так хорошо ознакомился с ними, как будто помогал Навои составлять план их расположения. Когда его спрашивают: «Каким делом вы заняты?»—он любит говорить: «Мы создаем рай в погрязшем в грехах Герате». Уже месяц Арсланкул работает с живописцами, которые украшают внутренние помещения ханаки, — строит для мастеров крепкие леса. Арсланкул полюбил это здание, предназначенное служить приютом для путешественников, тихим жилищем для ученых и поэтов. Он подолгу любовался законченными помещениями, просил прочитать ему надписи, искусно выведенные на стенах среди ярких цветов, и старался запомнить их. Работами живописцев руководил знаменитый Мирак Наккаш. Арсланкул больше всех почитал этого мастера, умевшего создавать при помощи красок такие дивные картины. Но характер у Мирака Наккаша был своеобразный. Иногда он совсем не являлся на работу, иногда в самый разгар занятий вдруг исчезал и отправлялся куда-то бродить. В такие минуты Арсланкул непритворно страдал. Он поднимал свои могучие руки и говорил: «Будь у этих лап искусство Мирака, я бы сам все сделал, я бы не позволил ему ступить сюда ногой».
В четверг живописцы рано закончили работу. В одной комнате украшения остались недоделанными, и Арсланкул был недоволен. Он с мрачным видом медленно скинул рабочее платье, вычистил его и пошел домой.
Простодушный парень пришел в Герат в поисках своей возлюбленной. Около года он прожил в чужом городе, боясь громко вздохнуть, потом, потеряв надежду на встречу с любимой, вернулся в кишлак. Но поселок, в котором он родился и вырос, где знал и любил каждый уголок, теперь показался ему тесным и душным, как тюрьма. Он проработал немного у старого хозяина, но любовь снова потянула его в город. В Герате его приветливо встретили бездетная тетка и ее муж. Этот семидесятилетний старик, когда-то знаменитый гончар, уже давно перестал работать. Тетка, моложе его на десять лет, была портнихой.
Арсланкул вошел в чистый двор с айваном, примыкавшим к крепкому, ладно построенному дому. Старик втянув голову в худые плечи, молчаливо перебирал четки; седая, гладко причесанная старуха с румяным лицом, засучив рукава, готовила тесто для вечерних лепешек. Юноша присел на край айвана. С соседнего двора слышалось неприятное, режущее уши жужжание прялок. Арсланкул нервно сказал:
— Куда бежать от этих прях?
— Светик, что им не работать, что ли? Разве ты только теперь их услышал? — возразила старуха.
— Пусть каждый прядет у себя дома.
— Когда прядешь с другими вместе, не соскучишься. Следишь друг за другом и работаешь, как див. Посмотри на меня, упрямый козел! — крикнула старуха, толкая Арсланкула концом скалки.
Парень повернулся и посмотрел в маленькие беспокойные глаза старухи.
— Придумай какой-нибудь предлог и пойди к ним или погляди через дувал,[87] — с улыбкой продолжала старуха, ловко разрывая руками тесто. — Сегодня там две новые девушки. Месяц разбился и упал на землю. Какие глаза, какие брови! Под стать сыну любого бека.
— Не нужны мне эти красавицы, — отвернулся от нее парень.
— Выбери которую-нибудь, завтра же сватать пойду.
— Тысячу раз говорил тебе — буду жить бобылем.
— Не обманывай себя пустыми мечтами. Довольно ты горевал по той степной девушке. Ну-ка, подымайся! — решительно приказала старуха.
Арсланкул, продолжая сидеть, грустно проговорил:
— Человек любит один раз в жизни.
— Хоть глазком взгляни. Если ты настоящий парень, если у тебя есть хоть немного жару в сердце, — сейчас же упадешь в ноги, будешь молить: просватай!
Арсланкул сердито поднялся и подошел к дувалу. Печально склонив свое могучее тело, он оперся о низенькую, осыпавшуюся сверху стену, разделявшую дворы.
На большой террасе он увидел соседку, крепкую, ворчливую женщину, двух ее миловидных дочерей и несколько пухленьких соседских девушек. Арсланкул принялся искать среди них красавиц, о которых говорила его тетка. Девушки в платьях из маты и коротких пестрядевых безрукавках без устали вертели колеса прялок. Не отрываясь от работы, они оживленно болтали и смеялись. Перед каждой лежали кучи ваты и увитые нитками веретена. Одну из незнакомых девушек можно было хорошо разглядеть. Ее белое, несколько полное лицо, смеющиеся коралловые губы, иссиня черные, вьющиеся на висках волосы, высокая грудь, мерно вздымавшаяся в такт движениям руки, действительно были привлекательны. Вторая красавица, которая сидела за столом, Арсланкулу не была видна.
Старик спустился во двор и совершил омовение. Выходя на улицу, чтобы отправиться на послеполуденную молитву, он взглянул на Арсланкула из-под густых бровей, погладил длинную бороду и покачал головой. На его серьезном, покрытом глубокими морщинами лице заиграла улыбка. Заметив его, Арсланкул лукаво прищурил глаза и крикнул:
— Эй, дядюшка, пожалуйте сюда, в цветник!
Старик, постукивая палкой, подошел к Арсланкулу.
— В моей жизни уже наступила осень, голубчик. А ты что же, выбрал себе розу? — спросил он, открывая в улыбке редкие зубы».
Арсланкул глубоко вздохнул и безнадежно махнул рукой.
— Огорчаешь ты тетку. Ей, бедной, хочется погулять на свадьбе.
— Горе у меня в сердце, дядюшка.
— Напрасно ты горюешь, — продолжал старик, по нижа я голос. — Я в молодые годы был соколом в таких делах. Другие поют соловьями над розой, а я сорву розу да и бежать. А время-то какое было! На престоле сидел Шахрух-мирза — благочестивый султан, блюститель закона. А теперешний, Хусейн Байкара, широко раскрыл ворота для всяких любовных утех.
Арсланкул ничего не ответил.
— Сердце молодца — повелитель. Я тебя не неволю, мой свет, — сказал старик, направляясь к воротам.
Жужжание прялок умолкло. Девушки, словно дети, выпущенные из школы, шумно поднялись с места. Они торопливо сложили в мешочки нитки и веретена и спустились во двор. Одни секретничали о чем-то, другие играли на чанге. Арсланкул, чтобы не смутить их, отошел от дувала. В воздухе зазвучала песня о разлуке, так соответствовавшая настроению Арсланкула:
Старуха разостлала дастархан. Она принесла мучную похлебку в цветных глиняных чашках и, еще не успев сесть, спросила:
— Ну что, правду я сказала? Девушки красивы, как месяц, да?
— Если скажете «как дочери пери», и то не ошибетесь, — ответил юноша.
— Да буду я жертвой за тебя! Выпустить из рук таких девушек — все равно, что упустить птицу счастья, когда она сядет тебе на голову. Это было бы неблагодарностью. К которой из них более склонно твое сердце? К той, белой и гладкой, как яйцо, или к другой, золотистой, как пшеница, стройной, как молодой побег? Сказать по правде, я и сама теряюсь: мое сердце тянется то к одной, то к другой. Выбирай сам.
Арсланкул положил ложку и молча поглядел в лицо тетке.
— Ну, чего уставился? Говори, успокой мое сердце.
— Тетушка, во всяком деле следует потерпеть и подождать, — мягко ответил Арсланкул чтобы но огорчать старуху. — Подумаем. За два-три дня никто их не унесет.
Ах, сынок, все — терпение да ожидание в мире досталось тебе на долю. — Обиженная старуха больше не раскрывала рта.
На следующий день Арсланкул в первый раз надел новые сапоги и шелковый халат, которым месяца два тому назад его наградил в числе прочих гостей Навои на пиру в честь мастеров и простых строителей. Принарядившись, юноша вышел на улицу. Он хотел разыскать своих приятелей, но потом раздумал: «Обязательно потащат в кабак».
Любуясь законченными и недостроенными домами, двухэтажными легкими зданиями и садами, которые тянулись вдоль длинного широкого хийябана, Арсланкул медленно шел по дороге, устланной золотым ковром облетевших листьев. Немного погуляв, юноша направился в медресе Шахруха: он давно уже не видел Султанмурада.
Темная, как всегда, комната в пасмурный день казалась еще мрачнее. Арсланкул увидел, что Султанмурад, окруженный книгами, лежит на подушках, словно больной.
— Ай-ай, что случилось, господин? — взволнованно спросил Арсланкул, присаживаясь возле Султанмурада.
Глаза Султанмурада ввалились, цвет лица был болезненный, бледный. Он поднял голову и сел, опираясь локтем на подушку.
Два-три дня назад я заболел, но сегодня жар спал и мне легче, — сказал он.
— Позвать лекаря? — с искренним сочувствием спросил Арсланкул.
— Нет, я уже обращался к врачу. А вас я очень ждал. Вчера, к вечеру, я посылал за вами одного мальчика. Он приходил?
— Нет, господин. Вчера я рано ушел с работы домой, — ответил Арсланкул. — Скажите, какое у вас дело, я исполню, — добавил он с виноватым видом.
По истощенному лицу Султанмурада скользнула, болезненная улыбка.
— Я получил верные сведения о вашей подруге, — заговорил он, поднимая голову. — Она состоит в числе личных служанок Хадичи-бегим. С султаном она еще не встречалась.
Лицо Арсланкула просияло.
— Господин, из чьих благословенных уст вы это слышали? — дрожащим голосом спросил Арсланкул. — И в этом, и в том мире я буду вашим рабом. Господин, скажите, это правда? Вы осветили весь мир для меня.
Султанмурад, разумеется, скрыл от юноши свою любовь. Он сообщил Арсланкулу, что как-то раз поведал своему другу Зейн-ад-дину эту, похожую на сказку историю; тот заинтересовался, стал расспрашивать и сообщил то, что узнал.
— Ваш друг служит во дворце?
— Нет, — ответил Султанмурад, — но если он захочет, то узнает любую тайну. Можете ему верить.
— Ладно. Дворец, гарем для нас, бедняков, все равно, что гора Каф.[90] Что же делать? — изнемогая от своего бессилия, спросил Арсланкул.
— Действительно, перед вами воздвигнут вал Искандера,[91] — сказал Султанмурад, кивая головой. — Но до сих пор на вашем пути была непроглядная ночь. Теперь вдали загорелся светоч надежды. Если захочет аллах, ваши усилия не останутся бесплодными. Я думаю, вот с чего следует начать: вам нужно связаться с вашей прекрасной возлюбленной, рассказать ей, как вы страдаете и тоскуете, и узнать, как она относится к вам. Вы ничего не имеете против?
— Сущая истина. Я ни капельки не сомневаюсь в чистоте и благородстве Дильдор. Однако прошло много лет. Кто знает, о чем она думает, — сказал Арсланкул, опуская глаза.
— Я советовался с моим другом, каким образом связаться с ней, и мы нашли способ.
Арсланкул внимательно посмотрел на ученого. Султанмурад рассказал про старуху гадалку.
— Эта хитрая старуха, конечно, жадная тварь, лишенная всякого человеческого чувства, — сказал он. — Я уверен, что она потребует много денег. Если у вас нет, скажите, не стесняйтесь. Мы как-нибудь найдем средства.
— Если дело коснется денег, я самого себя заложу, но найду их. Об этом не беспокойтесь.
Арсланкул поспешно поднялся, намереваясь тотчас же отправиться на розыски гадалки. Султанмурад напомнил ему, что дело следует вести очень осторожно.
В полуоткрытое окно он увидел могучую фигуру Арсланкула, который мчался по двору медресе, и глубоко вздохнул. Проклиная жестокую жизнь, отравившую сердце простодушного благородного парня, который годами хранил в груди чистое, светлое пламя любви, он пожелал ему счастья. Старая боль могучей волной поднялась в его сердце; однако это не была зависть. То были муки неразделенной любви. Пленительный облик Дильдор рисовался перед взором ученого так ясно, словно он видел ее только вчера. Чтобы отвлечься, Султанмурад протянул к полке руку и, взяв толстую книгу, рассеянно начал ее перелистывать.
Глава восемнадцатая
Когда Дильдор проснулась, в окна уже вливался свет утра. Подруги ее, лежавшие рядом на тюфяках, спокойно спали, прижавшись друг к другу.
— Вставайте, не копайтесь, будут ругать! — закричала Дильдор, поднимая голову с подушки.
Двое девушек лениво открыли глаза и снова капризно зажмурились. Дильдор, зевая и потягиваясь, поднялась с постели. Быстро оделась и открыла дверь. Влажный холодный ветер охватил тело. Девушка вздрогнула.
Сыпал мелкий, словно просеянный сквозь сито, снег. Сады, лужайки побелели, изящные стволы кипарисов покрылись серебром. Долгожданный снег. Опять зима. Сколько раз Дильдор встречала здесь первый снег… Она уже даже и не помнила. Отдаваясь, как всегда, печальным мечтам, девушка быстро пробежала по саду. Снег набился ей в кавуши, но она не чувствовала этого. Вороны и галки летали, хрипло каркая, вдали сновали тени — рабов-надсмотрщиков.
Дильдор присела на берегу медленно сочившегося словно обессиленного зимой, арыка и умылась, набирая воду горстью. Пригладив мокрыми пальцами — волосы, она направилась обратно в комнату и вдруг услышала издали взволнованный голос Давлат-Бахт.
— Дильдор, беги! Беги сюда! — Что случилось? Опять крысу поймали?
— Беда пришла! — крикнула Давлаг-Бахт. Дильдор, на ходу вытряхивая снег из кавуш, побежала в комнату, где жила Давлат-Бахт. Девушка дрожала мелкой дрожью; в лице у нее не было ни кровинки.
— Чего ты испугалась, сестричка? — спросила Дильдор, взволнованно прижимаясь к Давлат-Бахт.
— Посмотри на Гуль-Санам. — Давлат-Бахт указала на тюфяк, лежавший на полу.
Дильдор прошла в дальний конец комнаты, нагнулась над тюфяком, испуганно раскрыла глаза и вскрикнула. Тусклый, холодный свет зимнего дня отражался на мертвом лице девушки туркменки Гуль-Санам.
— Подружка моя милая, что ты сделала, зачем нас оставила?
Дильдор обняла любимую подругу, поверенную ее тайн и печалей, и горько зарыдала. Давлат-Бахт присела у изголовья мертвой девушки и, дрожа, заговорила сквозь слезы:
— Сегодня я не ночевала дома. Сейчас вошла, кричу: «Вставай!»— не отвечает. Подошла ближе, посмотрела, толкнула ее — она мертвая. Отравилась отравилась! Разве не видишь? Уже синяя. Пусть бы я умерла! Зачем я оставила тебя одну, почему не узнала твоей тайны!
— Ах, Давлат-Бахт, ты говоришь так, как будто не знаешь, какие язвы и раны у нас в сердце, — сказала Дильдор, заливаясь слезами. Разве легко жить вдали от отца и матери, от родных мест, в плену, похоронить в груди любовь и желания, пожелтеть и увянуть в девушках! Ах, моя Гуль-Санам, подружка моя любимая! Я знаю, ты всегда желала смерти, но так бросить нас! — Дильдор прижалась щекой к холодному лицу подруги и еще горше зарыдала.
Комната наполнилась плачущими девушками. Вошла Гульчехра-биби. Старуха холодно посмотрела на умершую, скривила губы, нахмурилась и отвернулась. Хотя девушки плакали беззвучно, она быстро заговорила:
— Довольно! Плачьте потише, не беспокойте Хадичу-бегим. Идите, делайте свое дело. Мы сами все устроим и похороним ее там, где велел бог.
Служанки расходились неохотно, словно кто-то тянул их за шею.
Во время полуденной молитвы тело Гуль-Санам положили на носилки и понесли на кладбище. Товарки умершей повязали головы черными платками и три дня носили по покойнице траур.
Дильдор больше всех горевала о подруге. Каждый вечер она зажигала свечу и читала единственную известную ей суру корана в поминовение души Гуль-Санам. Ночами сон бежал от ее глаз, от мрачных мыслей стыла кровь в жилах. Ее перестала пугать черная пропасть, разделяющая жизнь и смерть.
Но через две недели после страшного события в сердце и Дильдор неожиданно пробудилась жажда жизни.
Однажды, устав от беготни на большом приеме у Хадичи-бегим, Дильдор отдыхала одна в своей комнате. Вдруг в окне появилась физиономия старой гадалки, похожая на страшные лица, которые видишь в кошмаре.
— Это ты, Дильдор? — спросила старуха, пристально глядя на девушку воспаленными глазами.
— Да, я. Разве вы меня первый раз видите? — равнодушно ответила девушка.
Через минуту гадалка вошла в комнату и присела рядом с Дильдор.
— Дай руку, погадаю.
Дильдор удивилась любезности старухи. Эта ловкая женщина получала от Хадичи-бегим за каждое гадание целые узлы платьев, но никогда не гадала невольницам, несмотря на все их мольбы. «За каждое слово — динар», — говорила она, и все прикусывали языки.
Глаза девушки заблестели, она быстро протянула руку. Обычно старуха, гадая, таращила на человека воспаленные глаза, а прежде чем сказать что-либо понятное, болтала всякий вздор. Теперь же она схватила руку Дильдор и быстро зашептала:
— У моей доченьки есть возлюбленный, посланный богом. Богатырь, подобный Рустаму. Он, словно Меджнун, блуждает в нашем городе и ищет свою Лейли.
— Что вы говорите, бабушка! — бледнея, промолвила Дильдор.
— Помолчи. Ты знаешь Арсланкула? Дильдор, задрожав всем телом, вырвала свою руку.
— Опомнись, что случилось? — прохрипела старуха.
— Каждое ваше слово — правда, — прерывающимся голосом сказала Дильдор.
— Я всегда верно гадаю, — ответила старуха.
— Нет, бабушка, вы знаете Арсланкула. Это негадание.
— Говори тише, — испуганно вытаращила глава старуха.
— Когда вы видели Арсланкула? Где? Что он сказал? Он здоров? — Дильдор, вне себя от радости, готова была обнять отвратительную старуху.
— Ты с ума сошла! Где ты находишься? — Гадалка гневно встряхнула Дильдор и, поднявшись, прикрыта окошко.
Потом шепотом рассказала, что Арсланкул приходил к ней домой и со слезами просил ее сообщить Дильдор, — что он в Герате, живет в квартале Кудук-Баши, у своей тетки.
— Бабушка, дорогая! Будь у меня все сокровища мира, я бы не пожалела их для вас, — плача, говорила Дильдор. — А еще что он сказал? Моя бабушка, наверно, умерла… А про отца он ничего не говорил? Письмеца вам не дал?
— Письмеца? Язык в тюрьму приведет, письмо — на виселицу, дочка. Я остерегаюсь брать такие вещи. Не плачь. Вечное перо записало твою судьбу и судьбу твоего милого в разных книгах. Все это — воля аллаха.
Я тоже осталась на всю жизнь без пары. Прощай, красавица! — Старуха поднялась с места.
— Не уходите, бабушка. Я поведаю вам свое горе, а вы передайте Арсланкулу, — умоляла Дильдор, хватая крючковатую руку старухи-
Гадалка испуганно оглянулась и сердито сказала; — Довольно, довольно! Я и так знаю все твои горести. Решила раз в жизни сделать доброе дело — приняла на себя муку. Берегись, никому ни слова. — И старуха торопливо вышла.
Не в силах сдержать волнения, Дильдор с бьющимся сердцем опустила голову на подушку. «Не забыл! Дорогой мой! — думала она. — Будем ли мы когда-нибудь жить и страдать вместе? Сколько лет он был в этом городе, возле меня. Каким образом он встретился со старухой? Что он сейчас делает? Наверное, ищет способа повидаться со мной. Только бы он, по простоте, не пустился с горя на рискованное дело и не подверг свою жизнь опасности».
Добрые вести, принесенные старухой, развеяли мрачные мысли Дильдор. Теперь она уже не думала о смерти. Весь мир как будто стал иным — светлым» радостным. Даже гнусная, жадная гадалка казалась теперь Дильдор благородной, святой женщиной, точно Биби-Фатима,[92] дочь пророка, которая в день воскресения поведет всех женщин в рай.
Девушка каждый День ждала прихода старухи. Каждую минуту она с нетерпением ожидала новых вестей от своего милого. Но старуха бесследно исчезла. Дни тянулись, как годы.
О, если бы можно было подвязать крылья и полететь к возлюбленному! Иногда Дильдор радовалась, как ребенок, иногда сидела с бьющимся сердцем, отдавшись страшным мыслям.
На десятый день старуха появилась в гареме. Дильдор радостно встретила ее во дворе. Вокруг было много народу, и девушка уголком глаза поманила гадалку в сторону, но старуха, насмешливо скривив губы, направилась прямехонько ко дворцу Хадичи-бегим. У Дильдор упало сердце, но она попыталась утешить себя: «Старуха, наверно, хитрит». Дильдор решила подождать, пока гадалка выйдет из дворца. Через час она увидела вдали старуху. Несмело следуя за ней, Дильдор тихо спросила:
— Бабушка, вы видели его? Что он сказал?
— Видела. У него дурные мысли. Я не хочу переносить от вас вести и попасть в беду, — колючим, как шип, голосом ответила старуха, ускоряя шаги.
— Бабушка, — милая, что за дурные мысли? Скажите ради бога! — с тоской взмолилась девушка.
— Не спрашивай. Скорей камень заговорит, чем я, — не оглядываясь, бросила старуха.
Дильдор едва не лишилась чувств. «Дурные мысли… Что хочет сказать старуха? Арсланкул либо просил о свидании со мной, либо говорил, что хочет выкрасть меня отсюда». Дильдор испугалась за Арсланкула.
Она побежала вслед за удалявшейся старухой.
— Бабушка, — прошептала она, — если увидите его, скажите, — пусть не замышляет дурного.
Старуха оскалила зубы и кивнула головом. С этого дня одна мысль владела девушкой: «Или умереть, или соединиться с милым». По ночам она, не смыкая глаз, строила планы. Придумав что-либо, она через минуту уже отказывалась от своей мысли, ибо в осуществлении плана, казавшегося таким удобным, возникали непреодолимые препятствия. Наконец, устав думать, она приняла твердое решение.
Через несколько дней, ровно в полночь, Дильдор высунула из-под одеяла голову. Девушки крепка спали. Кроме их дыхания, не было слышно ни звука, ни вздоха. Дильдор бесшумно оделась в темноте. Достала кинжал, который положила под подушку вечером, когда стлала постель. Этот кинжал она нашла в покоях Хадичи-бегим после одного приёма, на котором присутствовали также и мужчины. «Наверное, его уронил какой-нибудь сын везира или бека», — подумала тогда Дильдор и на всякий случай припрятала кинжал.
Натыкаясь в темноте на стены, девушка дошла до дверей, но тут вдруг остановилась и оперлась о косяк. Сердце ее разрывалось. Она покидала подруг, с которыми столько лет вместе жила, вместе страдала. Страницы прожитой с ними жизни, записанные кровью её сердца, одна за другой проходили перед ее глазами, Дильдор могла поделиться своей тайной почти со всеми подругами. Она верила им, но боялась, что подруги будут удерживать ее от опасного шага. Теперь Дильдор с грустью думала: «Почему я не предупредила хотя бы некоторых из них? Жаль, нельзя зажечь свечу и перецеловать их всех». Горе душило девушку. "Прощайте, мои подружки, печальницы мои, — прошептала она. — Если умру, вспоминайте иногда. Дай вам господь долгую жизнь, пошли—вам светлые дни!»
Дильдор вытерла концом рукава горячие слезы и вышла из дому. Ночь была непроглядно-темная, дул холодный пронизывающий ветер. Дильдор быстро шла по грязи зимних дорожек через рощицу. В темноте ей казалось, что ее хватают чьи-то страшные руки; сердце билось, ноги подкашивались. У самых ворот Дильдор услышала пискливый голос: «Кто идет?» Это спрашивал раб, за свою злость прозванный Кусакой. Дильдор испуганно отступила. Потом, овладев собой, спрятала кинжал в рукав и, подбежав к рабу, смело сказала:
— Я, я, Аллаяр!
— Среди ночи? Посмотри на меня! — Аллаяр поднес к лицу девушки тускло светивший фонарь.
Дильдор, не скрывая своего волнения, задыхающимся голосом сказала:
— Отвори ворота! Пошли человека за лекарем Абд-аль-Хайем!
— А? Что ты говоришь? Объясни-ка толком!
— Хадича-бегим заболела. Ой, умрет, ей очень плохо! Язык отнялся.
— Где Давлат-Бахт? Почему она сама не пришла? — сердито спросил Аллаяр.
— Ах, как ты не понимаешь? Давлат-Бахт возле больной. За воротами есть сторож. Прикажи ему.
Аллаяр, бормоча что-то себе под нос, направился воротам. Он вынул из-за пояса ключ и вложил его в огромный замок. Затем, приоткрыв створку ворот, сердито закричал:
— Мирзаб, эй, Мирзаб!
Никто не отозвался.
Тогда Аллаяр вышел за ворота и, отойдя несколько шагов, еще раз позвал Мирзаба.
— Хоть бы он сдох, этот сторож! Каждый вечер пьян, — пробурчал Аллаяр.
Дильдор на это и рассчитывала. Она пошла за рабом.
— Скорей найди его и пошли! Какой ты беспечный! — торопливо говорила девушка.
— Иди обратно! — Аллаяр толкнул девушку назад и хотел закрыть ворота.
Дильдор решила не упускать удобного случая. Она бросилась на Аллаяра и ударила его кинжалом. Она метила в грудь, однако от волнения и неопытности попала рабу в плечо. Аллаяр уронил фонарь и громко вскрикнул. Дильдор, не оглядываясь, побежала изо всех сил. Аллаяр с воплями погнался за ней. Пробежав шагов пятьдесят, раб схватил Дильдор за волосы. Девушка обернулась и несколько раз торопливо, но сильно ударила его кинжалом куда попало, Аллаяр с ужасным криком упал на землю. Дильдор, крепка сжимая в руках кинжал, летела, как стрела. Со всех сторон послышались резкие, отрывистые крики: «Эй, держи!» Полная гнева, ничего не сознавая, Дильдор мчалась, пока не наткнулась на стену. Стена была невысокая, и девушка легко перескочила через нее. За стеной начиналась густая роща. На минуту Дильдор показалось, что она спасена, но кто-то, задыхаясь и хрипя, скатился со стены и помчался следом за Дильдор. Она почувствовала, что не убежит. Гнев охватил ее с новой силой. Подняв кинжал, она бросилась на преследователя. В ту же минуту удар тяжелого, как дубина, кулака повалил ее на землю.
Глава девятнадцатая
В одной из раззолоченных комнат Баг-и-Загана Туганбек, завернувшись в кунью шубу, завтракал с молодым царевичем Музаффаром-мирзой. Звезда Туганбека за последние годы поднялась очень высоко. Хадича-бегим, которая во всяким деле полагалась на силу, коварство и обман, ценила Туганбека. Он стал ближайшим другом и советникам молодого царевича Музаффара-мирзы. С каждым днем возрастало его значение при дворе. Хусейн Байкара оказывал ему такое же внимание, как бекам. С ним вынуждены были считаться самые высокопоставленные вельможи. Туганбек получил от царевича в подарок обширные земли и женился на дочери Абу-з-зия — знаменитого богача. У его ворот постоянно стояли парами нукеры, в доме прислуживали десятки невольниц.
Прикрываясь именем Музаффара-мирзы, Туганбек готов был покрыть любое преступление, оправдать какой угодно проступок. Мало-помалу он оттеснил родовитых влиятельных беков и приближенных, которые служили царевичу, и с утра до ночи внушал ему стремления своей лукавой души, жаждавшей неограниченной власти. Туганбек умел излагать свои мысли в простых словах, подкрепляя их наглядными яркими примерами, в понятной и в увлекательной для детей форме, так что Музаффар-мирза с удовольствием слушал его речи. Хадича-бегим после первой же встречи с Туганбеком возымела надежду, что в будущем он еще больше пригодится для сына.
За дастарханом, уставленным блюдами со всевозможными сластями, сушеными фруктами, жареными фазанами и куропатками, большими пиалами со сметаной и сливками, Туганбек, как всегда, плел тонкую сеть интриг. Он говорил о тайных замыслах и все более наполняющейся казне Бади-аз-Замана, Феридун Хусейна, Абу-аль-Мухсина-мирзы, Мухаммеда Хусейна-мирзы, Абу-Масума-мирзы и других царевичей, — родных и сводных братьев Музаффара. Внушал, что Музаффар-мирза, как любимый сын государя, должен во всем превзойти их. Наконец он предложил подослать к ним лазутчиков, чтобы быть осведомленным обо всех их тайнах. Эта мысль особенно понравилась Муэаффару-мирзе. Мальчик любил всякие таинственные дела. Гордо, с удовольствием, как взрослый, потягивая вино из красивого золотого кубка, он устремил на Туганбека свои посоловелые глаза и с ребячьей важностью сказал:
— Я хочу совершить вместе с вами такие дела,господин Туганбек, какие были не под силу ни одному царю в мире!
— Да, царевич, — отвечал Туганбек, многозначительно улыбаясь. — Завяжите потуже пояс стремлений к великим целям.
Они снова вернулись к вопросу о посылке лазутчиков. Это деликатное дело Туганбек решил взять на себя.
Когда слуга убрал дастархан, вошел один из джигитов царевича — песенник, плясун, острослов, полупоэт, полувоин. Поручения, связанные с угощениями и пирами, в большинстве случаев выполнял именно он. Джигит спросил, кого пригласить на сегодняшний прием и какое угощение приготовить. Туганбек перечислил гостей, музыкантов, плясунов, а также нужны кушанья и напитки. Джигит, поглаживая красивы холеные усы, сказал, с улыбкой обращаясь к присутствующим:
— Сегодня во дворце Хадичи-бегим произошел удивительный случай. Вы слышали?
— Какой? — одновременно спросили Туганбек и царевич.
— Из дворца, — продолжал джигит, — в полночь бежала невольница. Она тяжело ранила кинжалом одного раба.
— Молодец девчонка! Ну что же, поймали ее? — спросил Музаффар-мирза.
— Поймали.
— Где она сейчас? — В крепости Ихтияр-ад-дин.
— Вы знаете ее имя? — спросил Туганбек.
— Да. Ее зовут Дильдор.
Музаффар-мирза вышел в соседнюю комнату. Туганбек отпустил джигита и, оставшись один, задумался.
— Если на допросе выяснится, что девушку при Мирзе Ядгаре похитил я, могут подняться неприятные раpговоры, — размышлял Туганбек, — и Маджд-ад-дина, как нарочно, нет в Герате.
Необходимо было замести следы и обезопасить себя. Крепко надвинув на лоб бобровую шапку, Туганбек выбежал на улицу, вскочил на коня и, приказав трем нукерам следовать за собой, во весь опор помчался к крепости Ихтияр-ад-дин. В ту минуту, когда он сходил с коня перед караульным помещением, к нему подошел Зейн-ад-дин.
— Что это вы бродите в этих местах, мулла? — процедил сквозь зубы Туганбек.
— Сегодня один из наших родственников попал в тюрьму, — с притворным смирением ответил Зейн-ад-дин. — Я полагаю, что и у вас, господин бек, такая же работа на сердце?
Туганбек почувствовал в его словах скрытую насмешку, но притворился непонимающим.
— Не увлекайтесь подобными выдумками, мирза-джигит, ответил он и, передав лошадь нукеру, быстро вошел в караульную комнату.
Зейн-ад-дин выйдя на рассвете с затянувшейся пирушки, узнал от одного знакомого воина о случае во дворце. «Как бы она не оказалась возлюбленной Арсланкула», — подумал он и побежал к крепости. Предположения его оправдались. Он услышал, что первый допрос с девушки снимал Пирмат, сын палача Яр-Аля, что Дильдор не назвала никого по имени и держалась с достойной удивления смелостью.
Зейн-ад-дин дрожал от холода, но все же решил дождаться Туганбека. Он предполагал, что тот приехал по тому же делу. Вскоре Туганбек вышел из караульной комнаты. Он насмешливо улыбнулся Зейн-ад-дину.
«Собака, хочешь замутить истину! — подумал про себя Зейн-ад-дин. — Но нет! Поэт правильно сказал-: «Море не станет нечистым, если собака сунет в него морду».
Он подошел к Туганбеку.
Какие последствия будет иметь вчерашний случай, бек? — спросил Зейн-ад-дин, словно из праздного любопытства.
— Откуда мне знать? Что у меня других забот нет? — грубо ответил Туганбек.
Зейн-ад-дин резко повернулся и побежал в медресе.
В худжре Султанмурад с Арсланкулом горячо беседовали о чем-то.
— Султанмурад, как всегда, обрадовался приходу Зейн-ад-дина.
— Иди сюда, друг мой, помоги нам разрешить трудный вопрос! — воскликнул Султанмурад, указывая на место возле себя.
— Какой вопрос?
— Дильдор надо, наконец, освободить, — проговорил Султанмурад.
— Правильно, и притом как можно скорей. Но вы знаете, откуда освободить?
— Не откуда — это известно, а как проникнуть во дворец, вот что скажите, — проговорил Арсланкул, поправляя шапку и глядя на Зейн-ад-дина полными надежды глазами.
— Что? Да вы, наверное, не проснулись еще? Девушка из одной тюрьмы попала в другую;
— У Арсланкула и Султанмурада захватило дыхание. Они растерянно смотрели друг на друга.
Зейн-ад-дин рассказал о случившемся. В комнате воцарилась глубокая тишина. Из глаз Арсланкула закапали слезы. Султанмурад внезапно поднялся с места.
— Поистине, этой девушке нет подобной во всем мире, — сказал он, охваченный волнением. — Братья, пусть каждый из нас возьмет на себя определенную задачу. Будем беречь жизнь Дильдор, как свею. Ты, Зейн-ад-дин, постарайся разузнать о проделках Тугая-бека. Вы, Арсланкул, не отходите далеко от тюрьмы, но будьте очень осторожны. А мне что делать? Жаль, что господин везир Ходжа Афзаль вчера уехал в Мере. Что ж, попрошу помощи у справедливых гератских беков, у уважаемых людей.
Никто не возражал Султанмураду. Сговорившись встретиться у Зейн-ад-дина, друзья вышли из худжры.
Арсланкул громадными шагами мчался к крепости Ихтияр-ад-дин. Крепость походила на цепь гор, возвышающихся друг над другом. Грозное тяжелое здание вздымало к небу свои высокие зубцы, толстые стены, земляные насыпи. Тюрьма находилась здесь. Арсланкул грустно бродил между крепостью и конским базаром, расположенным к северу от крепости. Голова у него была тяжелая, словно ее сдавили железным обручем. Перед глазами вставали страшные картины. Ему не раз приходилось видеть здесь — обезглавленные трупы с отрубленными руками и ногами, повешенных, которые болтались на виселице, извиваясь в судорогах, и вскоре вытягивались, как арабская буква «алиф».[93] Внезапно ужас наполнил его сердце: «А вдруг Дильдор сейчас выведут и повесят! Что сделает он с пустыми руками?»
Не колеблясь ни минуты, юноша помчался домой. Тетка была на базаре. Арсланкул подошел к старику и тихонько хлопнул его по плечу.
— Дядюшка, вы говорили мне про какой-то меч. Покажите его мне.
— А, меч? Разве на Герат идут враги? — спросил старик, широко раскрывая глаза, затененные густыми бровями.
— Нет… Все спокойно… Но мне нужно… — торопливо говорил Арсланкул.
Старик вошел в дом и показал на большой сундук. Не найдя ключа, юноша ухватился за кольцо и, с силой потянув его, открыл крышку сундука. Из-под груды одежды он извлек меч, вынул его из ножен и внимательно осмотрел.
— Эй, красавец, что рассматриваешь? — спросил старик. — Исфаханская сталь… Мой отец был воином покойного эмира Тимура. Сколько этот меч видел стран, над сколькими головами его заносили! Этот меч видел Хиндустан, Дешт-и-Кипчак, Аравию, Иран, Кавказ, землю Румов. Живи я во времена Сахиб-Киран[94] Тимура, разве остался бы я на всю жизнь гончаром? Был бы правителем где-нибудь в Китае. Эх жизнь.
— Хороший меч, — сказал Арсланкул.
Он вложил меч в ножны и подвесил к поясу под длинным халатом. Потом взял с высокой, полки, завернутый в тряпку нож и сунул его за голенище сапога.
— Что, собрался воевать с Яджуджем и Маджуджем? На поясе меч, за сапогом нож. Смотри!, поднимать меч можно только за правое дело. Не проливай невинной крови, — сказал старик, загораживая Арсланкул у дорогу..
— Дядюшка, во времена Хусейна Байкары стало много дурных людей. Этот меч поднимется только против несправедливости.
Арсланкул прошел на берег Инджиля и, повидав там кое-кого из своих приятелей, снова отправился к крепости Ихтияр-ад-дин.
В час вечерней молитвы Арсланкул, как было условленно, постучал в ворота дома Зейн-ад-дина, Какая-то женщина открыла ему в темноте и пригласила в комнату, из окон которой струился свет. В комнате никого не было… На ковре лежали перья, пеналы для перьев, всевозможной формы чернильницы, листки чистой бумаги; на колышке висели тамбур и гиджак. Арсланкул сел в уголок, — положил шапку подле себя и устало закрыл глаза.
«Я оторвал этих благородных людей от дела, заставил расстаться с книгой, — печально думал юноша. — Один из них мудрец, который превзошел великого ученого Челеби, пришедшего к нам из земли Румов, а другой — замечательный писец. Ко мне чужому, неграмотному человеку, они проявили столько любви. Не будь таких честных, правдолюбивых людей, вся земля покрылась бы мраком. Они в хлопотах обо мне, а я сижу здесь».
В это время на дворе послышался шум. Арсланкул вскочил на ноги и пошел навстречу друзьям.
— Ну, что вы узнали за день? — спросил Султанмурад, глядя на усталого Арсланкула, под халат ом которого обрисовывался меч. Ничего не узнал. Если смотреть снаружи, похоже, что все благополучно.
— Да, до сих пор все спокойно. Что же вы надумали делать дальше? — спросил Зейн-ад-дин, собирая разбросанные по комнате письменные принадлежности.
— Сегодня ночью я, если вы одобрите, устрою одно дельце.
— Какое? — с интересом спросил Султанмурад.
— Что, если мы ночью нападем на тюрьму, зарежем сторожей и освободим невинную пленницу? — серьезно заговорил Арсланкул.
— Похвальная отвага, но где же сила? Это дело нелегкое, — нетерпеливо прервал Султанмурад.
— Не считая меня, есть еще пять молодцов, — ответил Арсланкул. — Все — отважные парни, любит подраться. Это мои хорошие товарищи, я с ними сдружился в Герате. Мы все — одно тело, одна душа. Теперь они ходят вокруг тюрьмы. Если вы разрешите, мы выберем время и устроим нападение.
Зейн-ад-дин и Султанмурад безмолвно посмотрели друг на друга.
— Как ты находишь это смелое намерение? — спросил, наконец, Султанмурад.
— Сказать по правде, я не ожидал от Арсланкула и его товарищей такой отваги. Их смелость достойна похвалы. Однако сколь отважным ни кажется нам этот план, я вынужден высказаться против.
— Почему? Вы не верите в успех нашего дела? — перебил его Арсланкул.
— Несомненно, — это решимость, достойная джигитов, — серьезно продолжал Зейн-ад-дин, сдвинув брови. — Десятки наших противников, конечно, погибнут, но из нас тоже никто не останется жив. А результат? Вероятно, никакого.
Наступило тягостное молчание.
Арсланкул сидел, низко склонив голову. Его богаырская спина согнулась, руки опустились. — По-моему, брат мой, — снова обратился Султанмурад к Арсланкулу, — ваше решение возможно будет осуществить в последнюю минуту, когда не останется никакого другого выхода. Тогда подобная храбрость приобретем быть может, особый, глубокий смысл. Но сейчас нет такой надобности. Мы говорили с некоторыми высокопоставленными людьми. Казнь Дильдор отложена. Надо постараться, чтобы об этом деле забыли.
— Можно не опасаться казни? — дрожащим голосом спросил Арсланкул.
— Трудно сказать, ведь существуют такие хищники, как Туганбек, — ответил Султанмурад.
— В нашей стране, хвала аллаху, найдутся люди, которые смогут призвать к ответственности и такого человека, как Туганбек, — убежденно сказал Зейн-ад-дин.
— Если так, я отправлюсь в Мерв к Алишеру Навои, — заговорил, выпрямившись, Арсланкул. — Открою поэту всю боль моего сердца. Эта мысль приходила мне в голову и раньше, но я думал, что времени мало, что каждая минута дорога. Если казни опасаться нечего, я поеду.
— Вот за эту мысль я готов отдать душу! — воскликнул Султанмурад. — Она приходила в голову и мне. Алишер — лев в борьбе с жестокостью, меч правды и справедливости.
Предложение Арсланкула понравилось и Зейн-ад-дину, Арсланкул оживился, у него как будто гора свалилась с плеч. Все трое принялись горячо обсуждать план. Прежде всего надо было найти сильную, быструю лошадь. Этот вопрос заставил молодых людей поломать голову. Наконец Султанмурад решил попросить коня у одного богатого человека, который брал у него частные уроки. Он собрался и быстро ушел. Арсланкул отправился к крепости Ихтияр-ад-дин. С ним пошел и Зейн-ад-дин. Он хотел на всякий случай познакомиться с товарищами Арсланкула.
На рассвете, когда раскрылись городские ворота, первым человеком, который выехал из Герата, был Арсланкул. Несчастный влюбленный редко останавливался в рабатах. Словно дух, ищущий жертвы, ом мчался по степи, даже по ночам не прерывая пути. Останавливаясь на постоялых дворах, Арсланкул перед выездом покупал на деньги, данные теткой, корм для коня, а сам садился а седло голодным. Разговоры спутников, отдыхавших в рабатах, не доходили до его ушей, сердце его непрестанно трепетало: а вдруг Дильдор сейчас казнят! А может быть ее теперь пытают, а может быть его товарищи-храбрецы были вынуждены совершить нападение на тюрьму, и все погибли. Эти мысли охватывали джигита, словно мрачная пучина.
На четвертый день, к вечеру, показались мервские укрепления. Арсланкулом вдруг овладела робость. Когда он достиг лагеря, широко раскинувшегося в степи, это настроение еще усилилось. Ослабев от волнения, он сошел с коня. Гордые вельможи в куньих шапках, в халатах, стянутых драгоценными поясами, грозные воины, пешие и конные, с подвешенными к поясу мечами и надетыми через плечо луками, — вся та пышность, а также необходимость предстать перед великим поэтом повергли Арсланкула в смятение. С помощью нукеров, которые приняли его за гонца — из столицы, юноша добрался до шатра Алишера. Глубоко переведя дух, он перешагнул порог.
В дальнем конце большого высокого шатра, приспособленного для зимы, при ярком свете свечей и светильниках, низко склонившись над листами бумага, сидел поэт. Арсланкул, сложив руки на груди, почтительно поклонялся. Алишер поднял голову и внимательно посмотрел на юношу.
— Подойди, брат мой, здоров ли ты? — сказал поэт, кладя перо и протягивая Арсланкулу руку.
Арсланкул почтительно пожал протянутую руку и опустился на указанное хозяином место. Поэт сел ниже того места, которое указал гостю. Потом заговорил приветливо, как с близким.
— Почему ты сюда приехал? Когда выехал из Герата? Скажи, как наши дела на берегу Инджиля?
Простота и приветливость великого поэта придал смелости Арсланкулу. Он подробно рассказал Навои о обложении дел на постройках. Пожаловался на Мира-Наккаша. Навои внимательно слушал. Ему нравилась простая речь Арсланкула, его прямота и природный ум.
Собравшись с духом, Арсланкул заговорил о цели своего приезда.
— Господин, мне хотелось как следует поработать с Мираком Наккашем на берегу Инджиля, но мне на голову свалилась беда, и я пришел с поклоном к вам.
— Какая беда? — тотчас же заинтересовался Навои. С глубоким волнением в голосе Арсланкул рассказал обо всем, с начала до конца. Не утаил ничего, даже случая с гадалкой.
— Вся моя надежда на вас. Не пожалейте для несчастного милости, на которую вы так щедры, — сказал он наконец и, вынув из-за пазухи письмо, написанное Султанмурадом, протянул его поэту.
Навои поднес письмо к свету и прочитал его, потом спросил о здоровье ученого. Услышав, что Султанмурад связан с Арсланкулом искренней дружбой, он от души обрадовался. Потом пожелал узнать побольше подробностей о любви Арсланкула и Дильдор, об их жизни в кишлаке. Теперь Арсланкул разговаривал с Навои не стесняясь, словно со своим лучшим другом. Горя желанием услышать из его уст слово надежды, он воскликнул:
— Господин, есть ли возможность спасти несчастную? Или…
Не в силах, продолжать, он замолчал и опустил глаза.
— Потерпи, джигит, — печально и серьезно сказал Навои. — Хотя жестокость и насилие перешли а нашей стране все пределы, искренняя любовь не должна страдать. Кто осмелился похитить дочь народа и превратить ее в рабыню? Раз уж ты посетил нас, мы постараемся найти лекарство от твоей болезни. Вероятно, мы доложим об этом государю. Твоя возлюбленная совершила слишком смелый поступок. Но самопожертвование в любви — великая добродетель. Ею можно оправдать действия твоей милой. Правда, для того чтобы найти для нее законное оправдание, надо немного подумать.
Арсланкул, радостный, взволнованный поднялся и попросил разрешения удалиться.
— Хорошо, отдохни, пусть тебе дадут поесть! Юноша в темноте ощупью отыскал своего коня. Потрепав его по спине, он задал ему корму, потом присоединился к нукерам, которые кучками сидели у зажженных костров и разговаривали. Арсланкул с большим аппетитом поел с ними шавли — рисовой каши с мясом, крепкими зубами основательно обглодал кости. В сумерках, когда шум в лагере стал стихать, он отправился в шатер нукеров, завернулся в свой чапан и заснул.
Утром Арсланкул долго был занят уходом за своим конем — напоил его, почистил, задал ему корму. В полдень ему сказали, что его зовет Навои. Не чувствуя под собой ног, юноша помчался в шатер. Алишер, закутанный в синий халат, сидел на том же самом месте, что и накануне. Около него лежали гиджак и тамбур.
— Твое желание исполнилось, джигит, — радостно сообщил Навои. — Вот приказ: лети быстрее ветра и передай его беку, начальнику крепости. Будь счастлив со своей милой узницей. Передай ей от нас привет. — При последних словах в глазах поэта засветилась добродушная улыбка.
Арсланкул осторожно положил бумагу за пазуху. С глазами, полными слез, дрожа от радости, он поблагодарил поэта.
— Мы только исполнили наш долг. Ваша радость для нас — великая награда, — сказал Навои, провожая юношу.
Арсланкул побежал к коню. Проворно приладил седло и узду. Он с тревогой подумал, что ему нечем кормить коня в дороге. Денег у него осталось мало. Подладившись к нукерам и конюхам, он набил полную торбу ячменем, вскочил на своего рыжего и быстро двинулся в путь.
После отъезда Арсланкула для Султанмурада с Зейн-ад-дином наступили тревожные дни. Приходилось быть настороже, на слова и обещания тюремщиков трудно было полагаться. Дня через два опасность усилилась. В Герате стали распространяться тревожные слухи: «Беглой рабыне вдуют в рот воздух, и ее разорвет», «Ее повесят и сдерут с нее кожу», «Ее перепилят пилой пополам, как бревно»… — рассказывали друг другу гератцы. К этому нельзя было спокойно относиться: за слухами чувствовалась черная кровожадная тень Туганбека.
Товарищи Арсланкула с утра до ночи бродили вокруг тюрьмы. Зейн-ад-дин уговаривал друга пойти к Туганбеку и просить его помощи. Султанмурад не хотел и слышать об этом.
— Брось, друг мой, видеть я его не могу. Его уши как будто налиты свинцом — они совершенно глухи к словам правды.
— Знаю. Я сам его ненавижу, — отвечал Зейн-ад-дин. — Но что делать? Мы вынуждены обратиться к нему, даже умолять его. Пойди к нему ты. Напомни о старом знакомстве. Мне кажется, он когда-то относился к тебе с уважением. Я помню, он говорил: «Султанмурад даже выше государей. У него в голове собраны сокровища всех государей мира».
— В те времена он был только низким, презренным изменником. А теперь — посмотри! — Султанмурад многозначительно поднял глаза к небу. — Знаешь, у Навои есть один хороший бейт, смысл его таков: «Ждать хорошего от дурных людей — все равно, что надеяться сорвать розу с рогов животного».
Зейн-ад-дин больше не настаивал. Он пошел повидать некоторых знакомых, имевших связи в высших кругах Герата. Отовсюду до него доходили страшные слухи. Он снова отправился к Султанмураду.
— Хадича-бегим очень разгневана поступком Дильдор, — встревоженное сказал он.
— Значит, дело плохо—бледнея, прошептал Султанмурад. — Туча, осенившая лицо этой женщины, не пройдет без грозы и бури.
Зейн-ад-дин в подтверждение этих слов кивнул головой. Султанмурад тяжело вздохнул. Он молча поднялся и отправился к Туганбеку.
У ворот роскошного дворца в северной части города Султанмурада встретили два нукера.
— Что угодно?
— Передайте господину Туганбеку, что его желает видеть Султанмурад.
Один из нукеров лениво, с видимой неохотой направился в дом. Вскоре он вышел и кивнул головой. Пройдя через большей сад, Султанмурад оказался перед рядом богато убранных комнат; не зная в которую из них войти, он был в некотором затруднении.
«О беспутное небо! Не будь судьба так слепа, она не послала бы счастье этому ослу!»—подумал Султанмурад.
Следуя указаниям раба с серьгой в ухе, он вошел в украшенное мрамором помещение в конце аллеи, усаженной высокими кипарисами. Посреди комнаты на широких подушках сидели Туганбек, Шихаб-ад-дин и несколько важных чиновников. Ала-ад-дин Мешкеди, поднеся бумагу к прищуренным главам, читал сатиры, написанные лишь для того, чтобы рассмешить хозяина.
Туганбек приветливо встретил Султанмурада. Стараясь держать себя как умный вельможа, защитник родины, который интересуется всеми сторонами жизни, Туганбек завел разговор о делах медресе. Султанмурад с насмешливой улыбкой кое-что рассказал ему, затем заговорил о цели своего прихода. Туганбек помолчал, почесывая редкую рыжеватую бородку, потом засмеялся деланным, холодным смехом.
В вы стали покровителем беглой невольницы, — сказал он, насмешливо вздергивая брови. — Может быть, вы собираетесь на ней жениться? Бросьте! Я найду вам красивую девушку, с грудью, как свежая дыня.
— Бек, меня привело к вам не желание жениться — гневно сказал Султанмурад. — Я беспокоюсь о счастье других. Делать людей счастливыми: —тоже большая радость.
Туганбек, откинувшись на подушку, глядел в раззолоченный потолок. Присутствующие, кроме Ала-ад-дина Мешхеди и Шихаб-ад-дина, услышав ответ Туганбека ученому, смущенно опустили глаза. Только на желтом, бескровном, как у наркомана, лице Шихаб-ад-дина отразилось нескрываемое удовлетворение.
— В стране есть правители, — надменно сказал он. — Им и следует предоставить это дело. Стоит кому-нибудь совершить преступление, как сейчас же появляются защитники, болтающие о справедливости.
— Да, — в стране есть правитель! — нервно воскликнул Султанмурад. — Но угнетение — тоже сила, произвол — тоже сила. Среди тех, кто занимает высокое положение в государстве, тоже есть злодеи. Мы пришли, чтобы снять черное пятно с лица истины.
— Брат, — сказал Туганбек, выпрямляясь и стараясь говорить мягко, — бог и пророк повелевают накалывать преступника. Вопрос разрешит шейх-аль ислам.
— Никто не имеет права называть ее преступницей! К чистой, благородной, смелой девушке нужно отнестись — с жалостью и милосердием.
— Здорово! Это из какой книги? — вскричал Шихаб-ад-дин.
— Вы найдете эту мысль во всех правдивых книгах, — ответил Султанмурад.
— Я не так сведущ, чтобы вас учить, — сказал Туганбек, хмуря брови, — однако несомненно одно: никакой государь не издавал закона, позволяющего объявлять черное белым.
Султанмурад пожалел, что пришел; он хотел спросить — кто же во время Мирзы Ядгара похитил девушку, но сдержался из опасения привести Туганбека в ярость. Он холодно, сквозь зубы попрощался и бросился к двери.
Султанмурад бежал по саду напрямик, по мягкой влажной земле, увязая ногами в грязи. Вдруг он услышал сзади голос: «Почтенный Султанмурад!» Учёный обернулся и увидел на лестнице дома Туганбека.
— Друг мой, вы на нас обиделись? — улыбнулся ему Туганбек.
— Я призывал вас сделать доброе дело.
— На людях я был вынужден дать вам такой от вет. Вы меня не поняли. Это дело меня не касается, но я все же постараюсь, чтобы ваша просьба не осталась без последствий.
Султанмурад с удивлением смотрел на приветливо улыбающегося Туганбека.
— Пусть ваше сердце не беспокоится, — убежденно сказал Туганбек. Султанмурад поблагодарил и, радостный, вернулся домой. В худжре он увидел Зейн-ад-дина, еще более грустного, чем прежде.
— Успокойся, друг мой, мы предупредили беду.
— Правда? — недоверчиво спросил Зейн-ад-дин. Султанмурад с довольным видом передал Зейн-ад-дину весь разговор.
Зейн-ад-дин, которого сначала терзали различные подозрения, в конце концов успокоился. На него повлияла уверенность Султанмурада. В этот вечер друзья даже отпустили вооруженных товарищей Арсланкула и спокойно заснули.
На заре, во время утренней молитвы, молодые люди вышли на улицу. Они зашли в переплетные ряды посмотреть новые книги. Там, как всегда, они встретили ученых, поэтов, каллиграфов, поговорили и поспорили с ними. Потом, по выработавшейся за последние дни привычке, направились к крепости Ихтияр-ад-дин. По дороге послушали знаменитого юродивого — дивану — Дервиша Шамриза. Окруженный толпой народа, дивана смешил всех забавными шутками.
Затем друзья зашли в харчевню, поели и посидели там, поглядывая на прохожих. Зейн-ад-дин, как всегда, пытался развлечь своего друга, рассказывая ему интересные подробности о каждом прохожем, будь то конный или пеший, старик или юноша.
Выйдя из харчевни шашлычника, молодые люди увидели вдали, возле тюрьмы, большую толпу народа. Подозревая недоброе, они побежали туда. У ворот караульного помещения важно стоял Туганбек.
— Что случилось? — бледнея, спросил Зейн-ад-дина Султанмурад. Тот гневно сжал губы и исчез. Через несколько минут он вернулся и, подтолкнув Султанмурада, отвел его в сторону.
— Знаешь, — сказал он прерывающимся голосом, — дело кончено. Туганбек от имени Музаффара-мирзы написал приказ и вручил его джигитам царевича. Сейчас приговор приведут в исполнение.
— Собака Туган! Вот как он провел нас! — воскликнул Султанмурад и, вне себя от гнева, бросился к Туганбеку. Зейн-ад-дин проворно схватил его за плечи.
— Друг мой, ты с ума сошел! Теперь ничего не поделаешь, — говорил он, таща Султанмурада назад.
— Ради бога, оставь меня! — закричал Султанмурад. — Я при всем народе дам этой собаке по морде! Пусть вешает и меня, если может.
— Не болтай вздор! — умолял его Зейн-ад-дин. — Когда-нибудь мы с ним рассчитаемся.
Толпа все увеличивалась. Всякий толковал по-своему: «Повесят!», «Разрубят!». Многие жалели: «В чем она виновата? Несчастная девушка! Хотела вырваться из клетки, вот и все!»
Туганбек вошел в караульную комнату. Стражников стало еще больше. Появились джигиты из личной свиты Музаффара-мирзы. С грозными криками они принялись ударами плетей разгонять народ.
— Что делать? Неужели у нас на глазах убьют невинную девушку! — закричал Султанмурад.
— Поздно! К кому теперь пойдешь с жалобой? Не у Туганбека же мы станем просить помощи!
Нукеры, разгоняя народ, начали приготовлять место для казни. Появилась зловещая фигура палача.
— Арсланкул! — вдруг закричал Султанмурад и побежал навстречу всаднику, на рыжем коне, который мчался в их сторону. Зейн-ад-дин поспешил за ним.
— Все ли спокойно?! — крикнул Арсланкул, не слезая с коня.
— Что ты привез? — тревожно спросил Султанмурад.
Арсланкул соскочил с коня. Вынув из-за пазухи бумагу, он подал ее Султанмураду. Все трое бросились к начальнику крепости.
Султанмурад с нескрываемой гордостью подал бумагу начальнику крепости — широкоплечему джигиту с неподвижными глазами и усами торчком. Тот развернул бумагу грубыми, толстыми пальцами и тупо уставился в нее. Потом закричал:
— И от смерти и от тюрьмы освобождена. Выведите ее, приказал он нукерам.
— Что это за бумага? От кого она? — злобно проговорил Туганбек. Подходя к начальнику крепости.
— От Алишера Навои. Вот и печати всех беков. Я подчиняюсь, — холодно ответил тот.
— Правда всегда возьмет верх, — она всегда победит! — резко бросил Туганбеку Султанмурад.
Лицо Туганбека зловеще искривилось. Он взял в руки шапку и молча вышел, переваливаясь с ноги на ногу.
Нукеры вывели Дильдор. Лицо ее покрылось болезненной желтизной, но смелые глаза ярко сверкали. Словно обессилев, она прислонилась к стене. Арсланкул, плача, гладил ее лоб и быстро принялся снимать с нее цепи.
— Куда меня привели? А вы почему здесь? — рассеянно спросила Дильдор.
— Ты свободна, душа моя? Совсем свободна! — со слезами в голосе говорил Арсланкул.
— Неужели правда? — сказала Дильдор, окидывая взглядом присутствующих, словно спрашивая у них ответа.
Султанмурад, стоявший в четырех — пяти шагах от нее, не смея взглянуть в глаза девушке опустил голову.
На улице толпа встретила их радостным шумом. Кто-то громко сказал:
— Навои из Мерва предотвратил гератскую беду!
— Дай ему бог долгую жизнь! — восклицали в народе.
Выбравшись из толпы, Арсланкул остановился и пригласил друзей к себе. Султанмурад сославшись на усталость, извинился и попросил. Зейн-ад-дина проводить их. Приятель согласился. Дильдор посмотрела на Султанмурада. Его лицо казалось ей знакомым, но она не могла вспомнить, где она его видела.
— Пойдемте с нами, — сказала она, смущенно улыбаясь, и потупилась, — такой радостный день…
— Спасибо, сестричка, — дрожащим голосом ответил Султанмурад, — я приду к вам на свадебный той. Да будет ваше счастье ярким, как солнце.
Проводив глазами друзей, летевших на крыльях радости, Султанмурад медленно направился к свою худжру. Буря, бушевавшая в его сердце, понемногу улеглась. Соединение двух любящих сердец, их счастье, как солнце, вышедшее из-за тучи, озарило душу ученого.
Глава двадцатая
Солнце с каждым днем припекало все ощутимей. Вместо колючего резкого ветра теперь веял живительный, бодрящий ветерок. Апрельские тучи сгущались на небе, и русла рек наполнялись могучим потоком. После дождей прозрачная синева неба слепила глаза. В степи молодежь играла в чавган;[95] за ушами у всех пламенели тюльпаны. Воины и слуги, набрав в подолы тюльпанов, украшали ими шатры.
Весна принесла поэту новые краски, новые звуки. Ржание коней, выпущенных в поле, песни джигитов звучали теперь по-иному.
Днем Навои обычно поднимал край палатки и сидел, любуясь сверкающими на солнце полями, далекими пригорками и холмами. Читал газели. Приглашал искусных шахматистов и, сняв с головы ермолку, отдавался игре.
Хусейн Байкара справлял весенние праздники. Собрав отовсюду самых драчливых баранов, он устраивал грандиозные зрелища. Несколько раз происходили кумысные пирушки. Наконец султан объявил о своем намерении возвратиться в столицу. Все начали готовиться к походу. К Навои явились нукеры. — Если разрешите, мы сложим шатер. — «Так скоро! — недовольно произнес Навои.
— Завтра поход.
— Теперь, когда я услышал весть о походе, передо мной встало неразрешимое затруднение, — задумчиво сказал Навои.
— Какое затруднение? — Нукеры, посмотрев по сторонам, с удивлением взглянули на поэта.
— Вот! — с улыбкой проговорил Навои и указал в угол шатра.
Там, на высоте человеческого роста, сидела в гнезде горлинка. Ничего не понимая, нукеры переглянулись.
— Если снимут шатер, этой несчастной будет причинено страдание. Вот что меня пугает, — сказал Навои.
Нукеры засмеялись. Один из них смело возразил:
— Господин, это крылатое создание улетит.
— Ее птенцам вы тоже привяжете крылья? — резко спросил Навои. — Позовите Ходжу Хасана.
Ходжа Хасан, маленький смирный человечек со смеющимися глазами, вошел в шатер. Навои, показав на горлинку, сказал:
— Мы не будем снимать шатра. Ты останешься здесь до тех пор, пока горлинка не выведет птенцов и не улетит из гнезда. Потом ты сложишь шатер и вернешься в Герат. Я тебе хорошо заплачу за это.
— Как сказали, так и сделаю. С горлинкой не случится ничего дурного. Нукеры, опустив головы, медленно вышли.
Утром все шатры, кроме шатра Навои, были убраны. Наполняя степь криками и шумом, все покинули стоянку.
На второй день после прибытия в Герат, Навои с группой приятелей отправился на берег Инджиля. На берегах канала возник большой красивый квартал. Постройки сверкали в прозрачном воздухе яркой живописью, затмевая друг друга красотой и великолепием.
Навои прежде всего зашел в медресе. Он оглядел четыре большие каменные супы, где должны были сидеть студенты во время лекций, побывал в комнатах, которые рядами тянулись вокруг квадратного, вымощенного кирпичом двора, и внимательно осмотрел их. Он обследовал все, начиная от книжных полок на стенах и маленьких очагов для варки пищи и кончая кольцами и замками на дверях.
Против медресе высилось внушительное здание, где должны были жить и работать ученые и поэты. Навои задумал сделать его прекраснейшим образцом архитектуры и живописи. Вместе с художниками и архитекторами он долго обсуждал стиль внутренних и внешних украшений и надписей. Поблагодарив живописцев за их работу, Алишер осмотрел большую библиотеку, баню и другие помещения.
Поэт погулял в маленьких садиках и цветниках, разбитых возле каждого здания. Глаза его наслаждались видом стройных молодых деревьев, покрытых редкой нежной листвой. Цветы в цветниках раскрывали свои первые смеющиеся бутоны. В группе садовников и цветоводов поэт встретил Арсланкула. Он спросил, как ему живется с Дильдор, не нуждаются ли они в чем-нибудь. Арсланкул радостно и обстоятельно отвечал на каждый вопрос. Навои рассказал друзьям о смелости Дильдор.
Вечером у себя дома поэт обсуждал с друзьями, родственниками и приближенными церемонию открытия новых зданий. Опытные люди высказывали мысли в том, сколько следует зарезать лошадей, баранов, козлов, сколько приготовить плодов и другой снеди, в каком порядке подавать кушанья. Навои разрешил начать приготовления со следующего дня.
В пятницу берега Инджиля стали свидетелями большого празднества. Сюда явились вельможи, царедворцы, ученые, поэты художники, представители разных ремесел — словом, люди из всех слоев населения, от везиров до гератских сирот. В десятках огромных котлов готовились кушанья. Мешок за мешком перед гостями рассыпали фисташки, миндаль, подавали тысячи блюд сластей. После угощения гости, разбившись на группы, осматривали постройки. Комплекс зданий, куда входили медресе и ханака, был назван Ихласия, больница и баня — Шифайя, библиотека и смежное с ней помещение получили название Унсия. Собравшиеся неустанно восхваляли эти постройки — великолепный тройной букет искусства, слава им звучала в песнях и касыдах, уносилась, как ветер, на крыльях живого слова в дальние с страны.
Чтобы превратить эти здания в очаг науки и культуры, источник творческой мысли, требовалось еще много энергии. В медресе Ихласия поэт назначил мударрисами самых выдающихся ученых своего времени, каждый из которых был «сокровищницей науки и знаний». В число их вошел и Султанмурад как преподаватель логики и математики. Для лечения больных Навои привлек в Шифайю лучших врачей Герата. Великий врачеватель Гияс-ад-дин Мухаммед был приглашен читать там лекции по медицине. Библиотеку, предназначенную для ученых, поэт старался пополнить драгоценнейшими сочинениями. Десятки писцов переписывали для нее самые дорогие и редкие книги. Часть доходов со своих земель Навои пожертвовал этим учреждениям в качестве постоянного вакфа.
Шли годы. Произведения чудесного пера поэта приобретали все большую славу… Сборники его газелей как драгоценнейшее сокровище, караваны везли в далекие страны, распространяли среди разных племен и народов.
Навои поставил перед собой задачу, которую до него ее было суждено осуществить поэту из его народа, — подняться на сверкающие вершины поэзии. Он хотел создать «Пятерицу»[96] на своем родном языке. Поэт, который во время литературных споров с особой гордостью и безграничной любовью говорил о бессмертных сокровищах иранского народа — «Шах-намэ» и «Пятерице»—часто с сожалением думал: «Почему мой народ не обладает такими же сокровищами? У моего народа есть глубокий разум, здоровый вкус, гордость, есть свои традиции… Есть прекрасный язык, звучащий в песнях и в народных хоровых напевах — лапарах».[97]
В сорок лет поэт поведал эти мысли, это страстное желание своему неизменному другу Джами. Джами, который почувствовал всю силу вдохновения Навои уже в самых первых его газелях и с гордостью писал им подражания, приветствовал намерение Алишера Навои, который жаждал спокойной творческой жизни. От официальных государственных обязанностей он почти освободился и решили направить всю силу мысли и энергии на «Пятерицу». Однако волны жизни родной страны захлестывали его с каждым днем все сильнее.
Занятие сельским хозяйством, плоды которого он раздавал беднякам вдовам и сиротам, постройка рабатов в пустыне, орошение и возрождение пустынной земли, чуткий отклик на жалобы и просьбы, оказание помощи, руководство людьми искусства,поглощали все его время и силы. Несмотря на это. Навои с необычайным упорством и энергией предался сочинению «Пятерицы».
В поэте бушевало море мыслей об исторических судьбах народа. Его пером овладели жизненно-острые, важные вопросы современности. Было необходимо обдумать их, отобрать самое важное, проникнуть в самую их суть и перевести на яркий язык поэзии.
«Хамса» подобна пятиярусной горе. Каждый пояс требует целой жизни. Навои великолепными взлетами вдохновения в два-три года поднялся на эти пять вершин.
Глава двадцать первая
Было раннее утро. Надев яркий длинный шелковый халат и почему-то особенно тщательно намотав большой белоснежный тюрбан, Султанмурад вышел из медресе Ихласия. Он, как обычно, побродил в благоуханных, залитых солнцем садах на берегу Инджиля. Ученый любил предаваться размышлениям, гуляя по чистым, прохладным, тенистым аллеям. В арыках весело журчала вода, перебегая из садов в цветники, из цветников на широкие аллеи. В кипарисовой роще кто-то печально играл на свирели. Иногда над самой головой Султанмурада раздавалось звонкое щебетание. На хийябане какой-то странствующий дервиш с большим чувством читал газели Ходжи Хафиза Ширази.
Когда Султанмурад вышел на большую дорогу, он увидел вдали человека, который вел на поводу осла Этот человек, будто путник, сбившийся с дороги, озирался по сторонам. Подойдя ближе, Султанмурад внимательно всмотрелся в незнакомца, — он оказался поэтом Беннаи. Ученый поспешил ему навстречу и почтительно поздоровался.
— Когда вы вернулись? — спросил он.
— Сегодня, — ответил Беннаи.
Прислонившись к ослу, он устремил глаза на зеленые сады, шумевшие вокруг.
— А где же пустынные берега Инджиля, которые мы знали?
— Руки господина Навои превращают голую землю в цветник, — ответил Султанмурад, тщательно подбирая слова.
— Прекрасное, благоуханное место, — сказал Беннаи, почесывая жесткую бороду, обрамлявшую его маленькое загорелое лицо. Но «Пятерица» Навои, о которой я наслышан, наверное, не так красива?
— Почему? — насмешливо улыбаясь, спросил Султанмурад.
— Мать поэзии — язык. В тюркском языке нет ни красок, ни звучности. Без этих двух вещей слагать стихи невозможно.
— Ошибаетесь, господин Беннаи, — серьезно сказал Султанмурад, увлекая Беннаи в тень. — «Пятерица» Навои оказалась прекрасным поэтическим произведением. Теперь поборники персидского будут вынуждены замолчать навсегда. Наш язык под пером Навои зазвучал с такой силой и красотой, что все мы, по правде, были поражены. Сейчас «Пятерица» Навои совершает победное шествие не только в Хорасане, но и Хиндустане, на Кавказе и в Китае. Нет сомнения, что она завоюет страны всех семи поясов земли.
Беннаи, нахмурившись, исподлобья посмотрел на ученого. Он обтер полой грязного халата вспотевшее лицо и спросил:
— Не проведете ли вы нас к дому господина Навои?
— Пожалуйста, это близко, — ответил Султанмурад.
По пути речь снова зашла о «Пятерице». Султанмурад с увлечением расхваливал это произведение. Он прочел прекрасные стихи Джами, превозносящие «Пятерицу» Навои. Беннаи стал зло острить. Но и тут Султанмурад не остался в долгу. Он начисто обрубил шипы слов Беннаи мечом своей мысли. Так они незаметно дошли до Унсии.
Навои находился в одной из многочисленных комнат Унсии — большом, прохладном помещении. Поэт с непокрытой головой играл в шахматы с друзьями, которые почти никогда не покидали его.
Увидев Беннаи, Алишер поднялся, дружески поздоровался с гостем и указал ему место подле себя. Спросил о делах и здоровье поэта, возвратившегося из далекого путешествия.
Вскоре подали дастархан. Завязалась общая беседа. Беннаи занятно рассказал о своих путевых впечатлениях и грубоватыми шутками смешил собрание. Навои обратился к нему:
— Вы были в Ираке, у Якуб-бека. Расскажите нам о нем. Вероятно — это человек, полный достоинств.
— Высшее достоинство Якуб-бека, — сказал Беннаи с лукавой улыбкой, — в том, что он не говорит ни слова по-тюркски.
Воцарилось неловкое молчание. Поэты Шейхим Сухейли, Хилали, Хафиз Яри, Пир-Муаммаи и другие в замешательстве опустили глаза. Сахиб Даро, не будучи в состоянии сдержать гнева, вышел из комнаты. Султанмурад с отвращением отвернулся от Беннаи. Только два человека остались вполне спокойны: Беннаи, который продолжал закусывать, и Навои, убежденный в своей правоте.
— Наш язык — жемчужина. — произнес после некоторого молчания Навои, подчеркивая каждое слово, — Якуб-бек хорошо знает языки, и он должен отличать жемчуг от камня.
Беннаи вновь начал сыпать грубыми шутками. Но все его утверждения, аргументы и попытки доказать превосходство персидского языка рассыпались в прах под ударами железной логики Навои.
Султанмурад начал говорить об истории языков, об изменениях их содержания. Он привел много примеров из арабского, персидского, индийского, тюркского языков.
Ученый возражал Беннаи, раскрывая гармонию этих языков. Султанмурада поддержали присутствующие.
— Здорово! Спасибо, — сказал Беннаи с удовлетворением. — Я слушал с наслаждением, вами были высказаны очень зрелые мысли. Но в чем суть вопроса? Почему вы его так выпячиваете?
В это время вошел Сахиб Даро и — сказал Беннаи:
— Ну хватит! — послушаем тамбур. — Эй ты, лысый, не понимающий шутки! — сказал Беннаи. — Ты или садись или убирайся куда-нибудь.
Все засмеялись, а Сахиб Даро, покраснев, сел у входа.
— Извините, ведь я по своему характеру шутник, — сказал Беннаи.
— Разве нельзя пошутить? На самом деле, шутка, анекдот, аския — все это очень живые, «приятные вещи. Остроумная шутка, анекдот — яркая роза, нюхая которую испытываешь наслаждение. Иногда я подбрасываю Алишеру шипы. Это в моем характере. Господин Навои не остается в долгу, он меня высмеивает так, что просто нет терпения. Но такие шутливые разговоры проходят, как — текучая вода. Главное — нужно всегда быть человечным, дружелюбным. Это не забудется.
Присутствующие легко вздохнули. Сахиб Даро и остальные с радостью оказали: «Дождь покапал и прошёл!».
— Эх, если не будет смеха, шутки, то куда же нам тогда деться?
Навои, улыбнувшись, ответил:
— Пока мы существуем, будут жить шутки. Может быть, иногда возражения, страсти, полемика переходили в оскорбления, может быть были и обиженные.
Но в конечном итоге Навои и Беннаи нельзя назвать врагами.
Пришел новый гость, и дискуссия оборвалась. Это был художник Бехзад. Одаренный юноша превратился в зрелого мужчину и знаменитого, слава о котором распространилась далеко за пределами Герата. Присутствующие встретили, живописца с искренней радостью. Навои провел его на почетное, место и всячески старался оказать ему внимание. Бехзад, раскрыв большую папку, вынул лист бумаги и скромно подал его Навои.
— Ваш ученик будет счастлив, если вы примете в подарок его маленькое произведение, — сказал художник, почтительно кланяясь.
На картине изображалась постройка одного из зданий, возведенных согласно мысли Навои. Алишер с волнением взял рисунок и долго рассматривал его. Он видел перед собой, как наяву, постройку медресе в самом разгаре. Надсмотрщики, каменщики, арбы, слоны, характерные позы и движения знакомых фигур — все это являло на листе бумаги верную, наглядную картину. Навои, взволнованно поблагодарил художника. Все склонились над рисунком.
Маджд-ад-дин парваначи каждое утро, придя в сад Джехан-Ара, первым делом выслушивал от своих дворцовых «ушей» сообщения о последних событиях, интригах, заговорах. Сегодня он встретил Ходжу Пира Бакаула — первого дворцового интригана. Тот рассказал ему, как о приятнейшей новости, что государь в кругу близких друзей жаловался на некоторых чиновников, приверженцев Навои. Маджд-ад-дин дал Ходже Пиру новое поручение и отправился в диван.
В диване его как всегда, встретили два главных везира — Ходжа Афзаль и Низам-аль-Мульк. Люто ненавидевшие друг друга, они на людях прикидывались задушевными друзьями.
Маджд-ад-дин не любил ни того, ни другого. Ходжу Афзаля он считал правой рукой Навои, а на Низам-аль-Мулька смотрел, как на змею, каждую минуту готовую его ужалить.
После официальные приветствий везиры вступили в беседу. Как обычно, их разговор, вначале казавшийся сладким, в конце стал похожим на горькое лекарство.
Вошел Хусейн Байкара и опустился на большую шитую золотом подушку. В его глазах, в морщинах рано состарившегося лица явственно видны были следы пьянства, бессонных ночей и беспутства.
Приказав парваначи послать несколько распоряжений в различные области страны, он обратился к везирам:
— Приготовьте нам два тумана денег.
Ходжа Афзаль бегло взглянул на Низам-аль-Мулька. Величественный, степенный везир молчал, спустив голову. Ходжа Афзаль почувствовал себя неловко. Не осмеливаясь заговорить об истинном положении дел. Ходжа Афзаль хранил молчание.
— Почему у вас язык прилип к нёбу? — недоуменно посмотрел на везиров Хусейн Байкара.
Ходжа Афзаль ответил, что такой суммы в казне сейчас нет, но что, если будет дана отсрочка, можно найти способ ее достать. Хусейн Байкара побледнел, глаза его засверкали.
— В казне повелителя Хорасана не найдется двух туманов! — гневно сказал он, отворачиваясь от везиров.
В диване воцарилось тягостное, гнетущее молчание. Парваначи перестал писать и вытянул шею, словно торжествующий боевой петух. Он многозначительно смотрел на султана, с грустным видом покачивая головой.
Везиры не могли обещать, что немедленно найдут деньги. Султан, любивший роскошь и пышность, быстро опорожнял свою казну. Пребывать под гневными взорами султана было тяжело; испросив разрешения удалиться, везиры, опустив головы, словно преступники, вышли из комнаты.
Хусейн Байкара начал жаловаться на беспомощных начальников. Парваначи понял, что настала подходящая минута для осуществления его планов. Особое внимание, которое за последнее время оказывал ему государь, придало Маджд-ад-дину смелости. Он принялся выкладывать накипевшие в сердце обиды. Все недостатки, наблюдаемые в управлении страной, он приписывая Навои и его людям, выдумывал все новые и новые упущения, доказывал, что причиной отсутствия денег в казне являются затраты на бесчисленные постройки, проводимые под руководством Навои. Султан внимательно слушал.
Наконец Маджд-ад-дин с убеждением и гордостью богатыря, который в трудную минуту обеспечивает своим вмешательством победу, произнес:
— Убежище мира! Вашу казну можно наполнить несметным множеством золота и серебра. Я, например, могу обещать, что с величайшей легкостью достану не только два тумана, но и две тысячи туманов.
— А этому можно верить? — недоверчиво спросил султан.
— Сомнениям нет места, — решительно ответил Маджд-ад-дин. — Но для этого хакан должен предоставить своему покорнейшему слуге соответствующие пост в государстве, необходимые права и возможности.
Хусейн Байкара ничего не ответил. Поглаживая начинавшую седеть бороду, он задумался.
Султан Хусейн считал Маджд-ад-дина одним на самых верных людей, был убежден в его способностях к государственной деятельности. Хадича-бегим также при всяком удобном случае расхваливала парваначи. Султан знал, что Маджд-ад-дин давно уже стремится занять высокое положение, что многие беки и царедворцы на его стороне. Однако парваначи всегда, и тайно и явно, высказывал неодобрение политике и мероприятвям Навои. Поэтому султан был вынужден положить предел его возвышению и участию в управлении государством.
Теперь положение изменилось. Былое доверие к Навои уступило место сомнениям и подозрениям. Навои упрекает его в жестокости, в деспотизме, не одобряет его политики, призывает покровительствовать простому народу, а не аристократам и богачам, «цвету государства».
Поэтому султан пришел к мысли, что Навои задумал недоброе.
Парваначи, обещавший без труда достать две тысячи туманов, сразу вырос в глазах султана. Но Навои, наверное, будет противодействовать возведению парваначи на вершину власти. Как поступить? Устало закрыв глаза, Хусейн Байкара размышлял. Он решил удовлетворить требования царедворцев и высших чиновников, которые уже давно звучали в его ушах.
— Маджд-ад-дин Мухаммед. — торжественно обратился султан Хусейн к парваначи, — вы займете высший пост в государстве. Приступайте сейчас же к изысканию средств, необходимых для исправления вашей высокой должности.
Парваначи рассыпался в благодарностях и призывал на государя благословение аллаха.
На следующий день Хусейн Байкара пригласил к себе Навои и принял его наедине,
— Мы позвали вас, — сказал султан с холодным и официальным видом, — чтобы высказать вам одно соображение, которое пришло нам в голову. Помолчав немного, он продолжал:
— Мы пришли к мысли назначить вас на новую должность. Уверен, что вы, как можно скорей и от чистого сердца, примете это назначение.
— Какая же это должность? — тревожно спросил Навои, предчувствуя недоброе.
— Мы назначили вас правителем Астрабада. Вам нужно готовиться к отъезду.
Эта новость была для Навои совершенно неожиданной. Глаза его смотрели скорбно, между бровями углубилась складка.
— Откройте вашему покорному слуге, каков смысл принятого вами решения. Я не в состоянии его постигнуть, — сказал Навои и пристально посмотрел на государя, как будто стараясь проникнуть в его помыслы.
Хусейн Байкара неуверенно заговорил о пользе народа и государства. Видя, что Навои этим не удовлетворяется, он весьма гуманно и неопределенно упомянул о каких-то других целях.
— Надо было сразу говорить откровенно, — сказал Навоя с насмешливой улыбкой. — Ведь я вижу ваши пели так же ясно, как огонь в фонаре. Если я не ошибаюсь, вы хотите удалить меня из столицы, чтобы открыть дорогу некоторым другим лицам? Не знаю, насколько это решение правильно. Если оно окажется полезным для народа и государства, ваш покорный слуга будет рад. Боюсь, однако, что это приведет к плохим последствиям.
Хусейн Байкара молчал. Лицо его нервно подергивалось. Он чувствовал себя неловко — его тайные намерения оказались разгаданными. Отбросив недомолвки, он прямо указал теперь на необходимость принять меры, чтобы удовлетворить желание нескольких вельмож государства и пополнить казну.
— Подле вас есть беки и военачальники с возвышенными помыслами, есть благородные, знающие дело слуги, — продолжал Навои, — но есть и такие люди, которые стремятся, подобно смертоносному вихрю, сорвать цветы с дерева государства. Все они устремили взоры на города и области; сердца их полны не любовью и преданностью народу, а страстью к золоту и серебру. Им недостаточно шитой золотом одежды, золотой и серебряной посуды — им нужно, чтобы и подковы на сапогах у них тоже были из золота. Деньги нужны государству, как кровь телу. Но если с одной стороны вкладывать, а с другой разбрасывать деньги, казны не наполнишь. Надо уметь быть щедрым, как Хатам Тайский, но ветер, срывающий листья с дерева, не следует принимать за Хатама. Облако, которое поливает дождем не высохший сад, а высокую гору, нельзя считать щедрым. Сокровища следует расходовать прежде всего на благо народа. Когда урожай наполнит амбар земледельца, ваша казна тоже наполнится золотом. Всякому ясно, что наполнять казну иным способом — неразумно.
Хусейн Байкара выслушал Навои спокойно и равнодушно. Потом, потирая обеими руками болевшую поясницу, он медленно поднялся. Навои тоже встал.
— Я счел необходимым послать вас в Астрабад, — сказал султан, повысив голос. — Не ищите отговорок, я не изменю своего решения.
— Не изгоняйте меня из Герата, позвольте мне жить в обществе моих книг и друзей. Я много раз заявлял вашему величеству, что не жажду никаких официальных должностей. Может быть, — вы это припомните?
— Другого выхода нет, — покачивая головой, сказал Хусейн Байкара.
— Хорошо, я готов поднять на свои плечи какую угодно гору несправедливости, — смело и резко сказал Навоя. — Но пусть эти низкие люди знают, что где бы я ни был, я буду защищать народ и постараюсь сломать меч, занесенный над его головой.
Хусейн Байкара помолчал. Затем он холодно простился с Навои и вышел в соседнюю комнату. Навои, волнуясь, прошел в прихожую. Бывший нукер поэта, а теперь ишик-ага Баба-Али поджидал его там.
— Господин, что за беда случилась? — тревожно прошептал он. — Неужели такой негодяй, как парваначи Маджд-ад-дин, возьмет в руки поводья власти и всем нам придется ему кланяться, как первому лицу после султана?
Навои положил руку на плечо старого Баба-Али и ласково принялся утешать его. Потом он направился на айван с сорока колоннами. Там находились чиновники, большей частью тайные и явные враги поэта.
Уверенность поэта в своей правоте придала спокойную твердость его шагам. Враги его, несколько смущенные, прикидывались ничего не подозревающими. Поэт почувствовал отвращение.
Из соседней комнаты вышел парваначи. Надменно вскинув назад голову, увенчанную большой чалмой, он окинул присутствующих высокомерным взглядом. Увидев Навои, Маджд-ад-дин изменился в лице. Он подошел к поэту и с притворной любезностью сказал:
— У хакана важное совещание. Вы в нем не участвуете?
— Нет, — ответил поэт.
— Каково ваше настроение, высокий господин? — Мое сердце всегда склонно к хорошему настроению, но сегодня моя радость достигла предела. — Почему? — спросил Маджд-ад-дин изменившимся голосом в украдкой взглянул на своих друзей.
Навои с улыбкой посмотрел на парваначи, насмешливо подняв брови. Ему вспомнились строки стихов:
Однако он выразил эту мысль иными словами:
— Я радуюсь тому, что господь скоро избавит меня от тяжелой необходимости видеть лица некоторых неприятных людей.
Маджд-ад-дин побледнел. Друзья его безмолвно отступили назад. Отвечать было поздно: Навои уже спокойно спускался с айвана по ступенькам лестницы.
Когда поэт вернулся домой, его обступила толпа мирабов.[98] Им было поручено провести воду на пустынные земли, лежащие между Чешме-и-Махиян и Мешхедом. Навои, решив осуществить это дело на собственные средства, пригласил их сегодня на совещание.
Знатоки орошения — эти простые люди — спешили высказать свои мысли. Поэт остро ощутил все неудобство своего положения.
Чтобы провести это дело в жизнь, ему необходимо было лично наблюдать за его выполнением. А теперь приходилось не сегодня-завтра отправиться изгнанником в Астрабад. Какие неожиданности готовит ему судьба?
Пригласив всех в комнату, Алишер приказал подать дастархан и за едой повел беседу. Мирабы с увлечением высказывали свои мысли, спорили между собой. Разгорелась оживленная дискуссия о том, какой ширины и глубины должен был быть канал, как изменить его направление в соответствии со строением почвы, как укрепить края канала. Поэт, который давно интересовался орошением земель и приобрел много сведений в этой области, внимательно выслушивал всякое соображение. По некоторым спорным вопросам он высказывал свое мнение, изумляя опытных мирабов своими познаниями. В заключение Навои сказал:
— Дорогие братья, очень благодарен вам за ваши советы. Мы обязательно осуществим это доброе дело, необходимое для блага родины Однако в настоящее время мы вынуждены несколько отложить его. Что делать, иногда наши благие желания встречают плотины на своем пути.
— Но ведь господин сам торопил нас, — заметил один простодушный мираб.
— Верно, мне очень хотелось поскорее выполнить это дело, — сказал Навои, пытаясь улыбнуться. — Однако на мою голову неожиданно свалилась иная забота. Потом, когда я от нее избавлюсь…
— Пословица говорит: с хорошим делом не опоздаешь, — обратился к собранию почтенный старик могучего телосложения. — Если господин Алишер будет жив и здоров, его любовь потечет к нашему народу многими реками.
— Правильно! Правильно! — закричали вокруг. Навои подарил некоторым участникам совещания дорогие халаты, остальных оделил деньгами. Все разошлись очень довольные.
Но сам Навои был глубоко огорчен невозможностью осуществить заветное желание. Долго просидел он один, не принимаясь ни за какое дело. Под вечер пришел Ходжа Афзаль. Он был очень печален. Приказом Хусейна Байхары Маджд-ад-дин был назначен главным везиром с присвоением ему громкого титула «Опоры царства и оплота государства».
После вечерней молитвы пришли близкие поэта. Все они были растеряны, все находили решение государя бессмысленным и тревожились, чувствуя, что над страной собираются черные тучи. Многие, прикрываясь завесой намеков, резко порицали государя и высмеивали Мадж-ад-дина.
Как ни старался скрыть Навои терзавшие его огорчения, по выражению его лица, по глазам, по всему было видно, что он страдает. После беседы, где против обыкновения не звучали горячие споры, шутки и смех, друзья поднялись, собираясь уходить. Прощаясь с Навои, все низко опускали головы, у всех глаза были полны слез.
Глава двадцать вторая
Время вечерней молитвы миновало. Глаза разгорелись от вина и игры. Вихрь азарта гонял по кругу звонкие груды золота. Счастье благоприятствовало Эмиру Моголу.
В Астрабаде только одни игроки были довольны этим правителем. Почти каждый вечер они являлись к нему с мешками золота и серебра и расходились под утро с душой, раскаленной, как сталь, щуря сонные глаза. Во всех прочих делах Эмир Могол предпочитал обман, насилие и проволочки, но правила и обычаи игры он уважал и, будучи в выигрыше, даже иногда проявлял великодушие. Эмир только что собрал кучу золота, когда его позвал из-за двери маленький слуга. Эмир Могол сердито обернулся и, нахмурив брови крикнул:
— Убирайся, ослиная парша! — Гонец из Герата, — почтительно сказал слуга.
Эмир Могол передал очередь соседу — своему новому помощнику, у которого чесались руки поиграть, — и направился к двери. Усталый, запыхавшийся гонец передал ему письмо. Эмир Могол вышел в другую комнату, поднес письмо к свету и нетерпеливо пробежал пьяными глазами. Лицо его озарилось радостью. Особенно ему нравился титул Маджд-ад-дина, проставленный в конце письма. Сложив бумагу, он сунул ее в карман и подумал: «Хорошее дело! Маджд-ад-дин — везир султана! Навои — правитель Астрабада».
В письме Маджд-ад-дин сообщил Эмиру Моголу о последних событиях и приглашал его явиться Герат.
— Пусть Навои, «звезда Хорасана», поскучает в этом печальном городе, — злобно прошептал Эмир Могол. — Как, бы там ни было, все вышло превосходна. Герат — наш, власть—наша.
Эмир Могол вернулся к игрокам. Размышляя письме и обдумывая причины происшедших событии, он долго сидел, не участвуя в игре. Только когда пьяный игрок, которому он поручил играть за себя, попался я плутовстве. Эмир оттолкнул его м углубился в игру.
Утром, несмотря на сильную головную боль, Эмир Могол стал готовиться к отъезду. Погрузив на верблюдов накопленные богатства, он отправил их в Герат. Через два дня, забрав жену и детей, он, не дожидаясь Алишера, выехал в Герат.
Весть в предстоящем приезде Навои взволновала астрабадцев. На базарах, в частных домах, в лавках с волнением обсуждали эту новость.
— По воле аллаха, мы избавились от этого пьяного верблюда, развратника, — говорили старики, вознося благодарения богу.
Местные поэты, сочиняя касыды в честь Навои, мучились в поисках рифм. Однако отдельные вдумчивые люди, углубляясь мыслью в дебри политики, приходили к выводу, что Навои не добром приезжает в город, что тут есть какая-то тайна.
Но вот настал долгожданный день. Люди шли по дальним и ближним, большим и малым дорогам, выливаясь из всех улиц мощной волной, — она начиналась у городских ворот и широко расходилась по равнине.
Увидев вдали Навои и его спутников, люди, под влиянием сильного волнения, с минуту простояли в молчании, выдающиеся ученые и поэты Астрабада, выступив вперед, поздравили Навои и его спутников с благополучным прибытием в город. Толпа народа все плотнее окружала Навои. Всюду слышались громкие приветствия, пожелания. Певцы распевали газели Навои. Женщины поднимали на руки сыновей и говорили: «Будь таким же, как Навои».
Навои окинул встречающих приветливым взором, приложил руку к груди и от души поблагодарил за радушный прием. Затем он направился в заранее приготовленное для него помещение, где принял знаменитых людей города, ученых и представителей народа.
На следующий день Навои приступил к исполнению своих обязанностей. Прежде всего он ознакомился со всеми учреждениями области и их начальниками. В Астрабадской области Навои не нашел никакого порядка ни в вакфах, ни в медресе, ни в налогах, ни в судебном ведомстве. Уже поверхностное ознакомление с этими учреждениями глубоко опечалило его:
«Ну и ну! От здешних дел можно прийти в ужас!» .Навои со свойственными ему энергией и усердием приступил к управлению областью. Он начал проводить в жизнь порядки и правила, существовавшие в Герате. Население радовалось. Народ слагал песни о замечательном правителе. Всякий, приходя к Навои со своими нуждами и просьбами, обращался к нему, как к защитнику и другу.
Свободное время Навои проводил с местными учеными, поэтами и людьми искусства. Друзья и близкие писали ему из столицы письма. Письма эти горели скорбью о разлуке, пламенели глубокой любовью к поэту. Были и стихотворные послания. В стихах Мухаммеда Пехлевана Саида рыдало могучее сердце:
Из самых отдаленных уголков Хорасана присылали Алишеру приветствия и поклоны. Таков был ответ чистых сердец и умов султану и его окружению.
… Навои работал один в изящно обставленной комнате. Вокруг него на ковре лежали пачки бумаги, папки из тисненой кожи, стопки тетрадей. Иные были покрыты пылью, у других загнулись концы, на коже кое-где выступили пятна. Это были газели Навои. Хотя часть их в виде отдельных небольших сборников была широко распространена, целой книги в которой были бы собраны все газели в определенном порядке, еще не существовало. В Астрабаде Навои решил осуществить намерение, которое возникло у него уже давно, но постоянно откладывалось за недосугом, — составить большой диван своих газелей. Он разделил газели на четыре периода, соответствовавшие ступеням жизни — детству, юности, зрелости и старости — и дал каждому разделу особое название.
Перебирая старые бумаги, Навои пробегал стихи глазами и распределял их по сборникам. Газелей бесконечное множество, в них мелькают невозвратные минуты прожитой жизни. Каждая связана с определенной датой, с определенным местом. Вот газели, написанные в Мешхеде, когда Навои шестнадцати — семнадцатилетним юношей жил на чужбине в уединенной худжре.
Вот стихи, сложенные в Самарканде в худжре ханаки Ходжи Фазлуллы Абу-ль-Лейси. А вот и первые газели, которые юный Алишер слагал, полный волшебного волнения, вернувшись из школы, в уединенном углу. Эти газели он читал своей матери, и как она радовалась, как целовала сына, прижимая его к груди! Поэт, казалось, и сейчас чувствовал на лице эти ласковые поцелуи. А разве его отец, Гияс-ад-дин Кичкина, не обнимал своего задумчивого, склонного к мечтам сына, читая его первые опыты? Разве не осыпал — он мальчика подарками?
Поэт перелистал другую тетрадь. Один бейт захватил его:
Навои вновь переживал волнующие, счастливые минуты жизни. Перед ним возникал величественный облик славного поэта, которого он всегда вспоминал с глубокой любовью и уважением. То был покойный Лутфи. Водоворот воспоминаний захватил Навои.
… Он снова ребенок.
Вот он неожиданно вскакивает с места, чтобы осуществить свое давнишнее желание, поспешно выбегает на улицу. Герат живет своими повседневными заботами, радостями и тяготами. Сверстники Алишера резвятся на улицах, на крышах: одни играют в орехи, другие стреляют из лука. Алишер тоже ребенок, но он не хочет играть, он быстро бежит к саду, носящему название Баг-и-Шималь. Поколебавшись с минуту, мальчик входит в ворота; его волнение и смущение увеличиваются с каждым шагом. В большом саду он издали видит седобородого старца. Он медленно шествует среди деревьев, опираясь на палку. Это великий поэт своего времени Лутфи. Едва взор поэта падает на мальчика, как Алишер, поклонившись издали, бежит к нему и в одно мгновение оказывается возле старца. Он не отводит от Лутфи простодушных глаз. Престарелый поэт из-под нависших бровей мягко и радушно смотрит на мальчика, спрашивает, кто он такой. Алишер называет себя и застенчиво сообщает о цели своего прихода.
— Молодец, сын Тияс-ад-дина! — улыбаясь, говорит Лутфи — Ты пришел повидать нас? Ну, иди сюда, я утешу свое сердце беседой с таким умным и вежливым мальчиком и почитаю тебе мои стихи.
Алишер следом за Лутфи входит в гостиную. На низеньких полках лежат, книги, свободное от книг место заставлено фарфоровой и медной утварью.
Лутфи, оставив посох в прихожей, усаживается на небольшом: коврике… Алишер садится рядом. Лутфи читает на память несколько газелей.
— Эти газели ты еще не слыхал? — улыбается старик.
— Большинство ваших стихов я знаю на память, но этих еще не слышал.
— Верно! Я их только недавно написал. Ну, теперь ты почитай, я послушаю.
Алишер смутился. Хотя он пришел главным образом с тем, чтобы представить свои стихи на суд старца, теперь ему почему-то захотелось отложить это дело. Лутфи настаивал.
— В Герате есть поэты, которые останавливают прохожих на улицах и базарах и читают им свои газели, — посмеиваясь, сказал он.
Алишер дрожащим голосом, не глядя на поэта, начал читать. После каждой газели Лутфи издавал возгласы одобрения: глаза мальчика засверкали от радости. Он чувствовал, что лицо у него раскраснелось я покрылось каплями пота.
Наконец Лутфи воскликнул:
— Прекрасно, сынок! — и погладил мальчика по волосам.
Удовлетворенно покачивая головой, старик повторил:
Но Лутфи, будто высказывая свое мнение равному и достойному уважения собеседнику, горячо произнес:
— Клянусь богом, будь это возможно, я обменял бы на твою газель двенадцать тысяч моих тюркских и персидских стихов и считал бы себя в выигрыше. Эта высокая похвала смутила Навои. — Вы преувеличиваете, — сказал он.
Потом они заговорили об особенностях тюркского и персидского языков, о прекрасных стихах, сложенных на тюркском языке. После долгой теплой беседы знаменитый поэт благословил мальчика и проводил его говоря, что теперь они знакомы и он всегда будет род видеть Алишера у себя.
… Навои долго отдавался радостным воспоминаниям детства. Потом взял другие исписанные листы. Газелей очень много. Каждая из них — страница его прошлого.
Дверь отворилась. Поэт, не поднимая головы, бросил беглый взгляд на вошедшего. — Пожалуйте, Сабухи!
— Господин Алишер, вы заняты… Я не хотел бы стеснять вас, — нерешительно сказал Хайдар.
— Садитесь! Таким делом можно заниматься и за беседой, — ответил Навои.
Он пристально посмотрел на Хайдара и с неудовольствием продолжал:
— Вы ни на один день не покидаете астрабадских кабаков. Поистине, вы удивительный юноша: и поэт, и воин, и любитель вина. В жизни нужно занять определенное положение. Достигнуть его можно только энергией и усердием. Какая польза бессмысленно разбрасывать лепестки жизни? Мы уже много раз говорили об этом, но вы не слушаетесь. Мне даже жаль, что я бросал жемчужины слов на ветер.
Хайдар, как обычно, выслушал своего покровителя без возражений. Сидя на дорогом туркменском ковре, он пробегал мутными глазами листки бумаги. Наконец он откровенно сказал:
— Тоску из сердца вымывают вином. Шум кабаков—лекарство от земной печали. После того как нас изгнали из прекраснейшего города на земле Герата, нам остается только пить с утра до вечера и с вечера до утра.
— Для вашего отъезда в Герат вряд ли есть непреодолимые препятствия, — улыбнулся Навои.
— Но без вас соскучишься и в раю. Я получаю от друзей одно письмо за другим. Все говорят: в осиротевшем Герате мы живем, как изгнанники. Я не могу больше этого выносить, — сказал Хайдар, повышая голос. — Этот великий город, который со времен Искандера Зу-ль-Карнайна никто не украшал так, как вы, теперь стал адом для наших друзей и раем для кучки злодеев и обманщиков.
— Истина восторжествует, — сказал Навои, не переставая работать. — Раз буря судьбы забросила нас сюда, приходится терпеть. Пустынную область нашей родины мы должны упорным, терпеливым трудом превратить в цветник. Бойтесь равнодушия к народному горю, юноша!
Хайдар некоторое время молчал, прикрыв пьяные глаза, потом, с разрешения Навои, принялся перебирать его бумаги. Большая часть газелей была ему известна: многие он переписал в тот самый день, когда они сошли с пера автора, другие читал в маленьких отдельных диванах, переписанных знаменитыми писцами. И однако теперь эти знакомые произведения вновь опьянили его душу, словно выдержанное вино. Юноша то читал про себя, то, забывая, что отвлекает внимание поэта, громко декламировал:
— Господин эмир, — сказал Хайдар, прочитав одну из последних газелей, — удивляюсь, почему эта газель входит, как плод пожилых лет в сборник «Полезные наставления старости»?
— А что?
— Ведь в этой газели звучат чувства, желания, радости юноши-воина, в жилах которого кипит молодая кровь. А вам, если не ошибаюсь, сорок седьмой год.
Навои улыбнулся и сказал, печально покачав головой:
— Сын мой! Солнце жизни перевалило за полдень и быстро бежит к закату. Джами тоже одобряет распределение написанных вещей по четырем периодам жизни.
— Ваш слуга в этом вопросе остается при своем мнении. Вы не старик, и пошли вам аллах счастья никогда не состариться.
Навои любил говорить о юности и старости. Его рассказы о весне и осени бытия были всегда полны яркими, оригинальными мыслями и образами. На этот раз Навои ограничился одним бейтом из «Хамсы»:
Потом он взглянул на Хайдара, как бы спрашивая: "Согласны? Что еще можете возразить?" Хайдар посмотрел на бороду поэта, где за последнее время значительно прибавилось седины, и промолчал. Навои поработал еще немного, потом поглядел в окно, чтобы определить время. Он аккуратно сложил стопки бумаг и, погладив себя по коленям, обратился к Хайдару: — Расскажите, есть ли какие новости? Хайдар махнул рукой, словно желая сказать: «Что может здесь случиться достойного внимания», — и беспорядочно принялся рассказывать о том, что слышал и видел в городе. Между прочим, он сообщил интересные сведения об одном, уже умершем, астрабадском поэте. Навои заинтересовался:
— А ну-ка, расскажите подробнее, — наклонился он к Хайдару.
Хайдар, не меняя позы, рассказал:
— У этого поэта много газелей и муамма. Говорят, что к этому роду поэзии у него были большие способности. Но поэт, из смирения и скромности, не собирал при жизни своих произведений: все, что он создал, разбросано и находится у разных людей.
— Сын мой, сколько талантов завяло и засохло в этой стране, не достигнув расцвета, словно лишенный солнца цветок! — воскликнул Навои, — В каждой худжре, медресе, о любом кишлаке можно найти замечательных, чистых душой людей, которые посвящают свою жизнь науке и поэзии. Сын мой, окажите мне услугу: воскресите для истории угасшую звезду. Ознакомьтесь с жизнью покойного поэта. Соберите произведения его пера, где и у кого бы они ни были, передайте их способному, добросовестному писцу и составьте из них книгу. Все расходы я оплачу сам. С завтрашнего же дня принимайтесь за дело.
Хайдар охотно согласился. Потом он взял гиджак и попросил у Навои разрешения поиграть. Навои в знак согласия опустил веки. Хайдар исполнил несколько своих любимых произведений. Навои, закрыв глаза, покачивал головой в такт чарующим звукам.
В это время поспешно вошел Шейх-Бахлул в доложил:
— Гость из Герата…,
— Кто? — сразу оживляясь, спросил Навоя.
— Ходжа Афзаль.
Навои вскочил и торопливо вышел во двор. Хайдар последовала за ним.
Хозяин и гость поздоровались посреди двора. Ходжа Афзаль, как человек, благополучно достигший берега бурного моря, был взволнован и полон радости. Но вместе с тем во всех его движениях чувствовались растерянность и неуверенность беглеца. После первых приветствий и расспросов все направились в дом. Расположившись на подушках, Ходжа Афзаль снова принялся расспрашивать Навои о его здоровье и настроении. Поэт задавал вопросы о трудностях дороги, о происшествиях в пути, Между тем слуга разостлал большой четырехугольный шелковый дастархан и подал только что испеченные дымящиеся лепёшки, всевозможные сласти, леденцы и сухие фрукты. За едой беседа стала спокойней, нить разговора разматывалась гладко. Ходжа Афзаль рассказывал: о событиях, происшедших после отъезда Навои из столицы.
Склонность султана к удовольствиям и наслаждениям достигла высшей точки. Подняли головы всевозможные смутьяны, притаившиеся как змеи, в каждом углу, в каждой дыре и не знающие, на ком сорвать накопившуюся в сердце черную злобу. В диване, во всех управлениях усилилось взяточничество. Захватив бразды правления в свои руки, Маджд-ад-дин, словно дракон, изрыгает огонь и яд на все благие начинания. Он считает себя наместником султана. Не только друзья и близкие Навои, но даже и те, кто хвалит его стихи или проявляет к поэту доброжелательность, подвергаются беспощадному гонению и притеснениям. Прикрываясь необходимостью пополнить казну, «наместник государя» разоряет народ непомерными поборами. Беки и должностные лица одним росчерком пера наделяются большими имениями. Целыми неделями они пьют и играют на пирах и празднествах. В свои гнусные, поганые вертепы они приводят мальчиков и девочек и душат их зловонным чадом распутства. Родители предпочитают теперь не выпускать детей на улицу и держат их днем и ночью взаперти.
— Господин Алишер, — со вздохом сказал наконец Ходжа Афзаль, — уста боятся даже рассказывать о страшных делах, которые творятся в Герате. Тысячу и тысячу раз благодарю великого аллаха за то, что мне снова выпало на долю увидеть ваш светлый облик. Мои враги, прогнав меня со службы, решили извести меня. Они отравляли мои дни всевозможными кознями и происками. Однако господь, который даровал мне жизнь, сохранил мою душу.
Навои молчал, перебирая пальцами бахрому скатерти.
— Друг мой, — сказал поэт, поднимая голову, — по некоторым дошедшим до моих ушей известиям я представлял себе те печальные картины, которые вы нарисовали. Но мне не могло прийти в голову, что люди, стоящие у власти, до такой степени погрязли во всяких мерзостях. Чтобы вспахать и засеять землю, надо быть крестьянином. Свиньи своим рылом только портят посевы. Мы не можем оставаться простыми зрителями таких дел. Во тьме ночи, окутавшей родину, мы снова высоко поднимем светильник разума.
— Будет ли от этого польза? — сказал Ходжа Афзаль, безнадежно пожимая плечами.
— Некоторые твари предпочитают мрак свету, — продолжал Навои. — Например, для летучей мыши жизнь начинается с наступлением ночи. Жаль, что среди людей, служащих в наше время украшением мира, так много врагов света. Как могучий поток уносит с земли отбросы, так торжество разума увлечет этих людей с арены жизни в небытие. Поэтому, где бы мы ни находились, мы должны сохранить для родины священный огонь разума. Мы подобны кузнецу. Расплавив цепи тьмы в горниле разума, мы создаем из них нужные для жизни орудия. Друг мой, нужна твердая вера.
Ходжа Афзаль не знал, что сказать. Мучения, которые он испытывал в Герате, внушили ему отвращение к жизни. К тому же он не мог себе представить, что его друзья когда-нибудь снова займут прежнее положение. Он думал, что поэтом в изгнании овладели такие же настроения. Проникнутые глубоким убеждением и верой, слова Алишера удивили Ходжу Афзаля. «Закованный лев еще сильнее духом, чем лев на свободе», — подумал он.
Ходжа Афзаль принялся расспрашивать об астрабадских делах. Навои кратко рассказал о царивших здесь до него порядках, о нуждах обитателей области и, улыбаясь, прибавил:
— Недаром говорится: «Если бубен цыгана сломается, он станет игрушкой для обезьяны». Здешние правители занимались глупыми, бессмысленными делами, точно действовали по этой пословице.
Ходжа Афзаль прищурив свои маленькие косые глаза, засмеялся:
— Скажите, больше напортили, чем поправили.
— Им как будто было приятно портить, — с гневом проговорил Навои. — И при таком положении дел они мечтали накопить горы золота для казны. Астрабад — большой торговый город, но он в запустении.
Приближалось время послеполуденной молитвы. Все поднялись, чтобы совершить омовение.
К ужину были приглашены некоторые ученые и должностные лица Астрабада. Вечер прошел в задушевной беседе.
На следующий день торжественно прибыли послы от Якуб-бека. Ржание коней, голоса слуг и нукеров наполнили двор.
Люди Якуб-бека очень сердечно приветствовали Навои и поднесли ему подарки. Пышно одетый туркмен почтительно вручил поэту письмо Якуб-бека. Навои выразил гостям благодарность и, расспросив каждого в отдельности о здоровье, пригласил садиться.
Поэт прочитал письмо про себя. Лицо его просияло. В письме правитель выражал ему свою любовь и уважение. Навои свернул бумагу, положил на колени и попросил посланных передать Якуб-беку его благодарность. Оживленная беседа продолжалась до поздней ночи.
Через несколько дней гости уехали, увозя с собой приветы и подарки. Ходжа Афзаль двинулся в путь, направляясь в Мекку.
Он не верил, что Дела в Герате наладятся, а враги потерпят поражение, и был грустен. Ему оставалось только покинуть родину — другого выхода он не видел. Поэтому, несмотря на просьбу Навои отложить отъезд, Ходжа Афзаль не согласился это сделать.
Навои снова остался один. Каждый день он лично разрешал всевозможные большие и малые вопросы, принимал горожан и окрестных жителей, приносивших жалобы и прошения. Все остальное время, чаще всего по ночам, он занимался «Чар-диваном».
Хотя все его время было заполнено работой, он все же иногда задумывался о своем положении; грудь его наполнялась гневом при мысли о причиненной ему несправедливости. Письма, приходившие от друзей, сообщали, что положение в столице день ото дня ухудшается.
Каждый день приносил поэту все новые подтверждения и доказательства тому, что в государстве начинается пора развала. Что делать? Отряхнуть прах суетной, жизни и вступить на путь аскетизма и отшельничества? Поэту были ненавистны «люди в рубищах», которые свили себе теплые гнезда в ханаках и чайханах для наркоманов и грабили народ, но он с глубоким уважением относился к настоящим дервишам, какие рисовались ему в воображении и изредка встречались в жизни. Навои понимал дервишество как любовь к истине, как источник мудрости. Но в тот час, когда судьба народа и родины подвергалась тяжким испытаниям, он не считал возможным удалиться от мира.
Часами поэт сидел один в своем доме, ища способе рассеять тучи беспорядка, затянувшие небо его родины. Но что он мог сделать вдали от сердца страны — Герата? Он считал, что голос истины не должен умолкать: если тот, кто восседает на троне, не может или не хочет внять этому голосу, то нет недостатка в сердцах, жаждущих услышать его звуки. Навои размышлял о том, каким способом укрепить власть, благоустроить государство, дать счастье народу. Не сомневаясь в своей правоте, не взирая на тысячи затруднений и препятствии, он еще глубже убеждался в правильности своих мыслей. Он до тонкостей продумал, каковы должны быть задачи, обязанности, достоинства каждого государственного служащего — от султана до квартального сторожа. Эти мысли, необходимые для создания единства между истиной и справедливостью, Навои тщательно записывал, эти мысли он выражал и в отдельных письмах, посылаемых в Герат.
Все чаще во время — этих размышлений поэта охватывала усталость. Тогда он слушал музыку и играл, сам. А иногда, взяв перо, возносился к облакам вдохновения и чувствовал себя освеженным, как человек, пробужденный утренним ветерком от живительного сна.
Глава двадцать третья
Во дворе, засучив рукава до локтей и отогнув ворот, Дильдор мыла голову. Вошел Арсланкул и, наклонившись над ней, воскликнул:
— А ну, поторапливайся! Куда положить провизию?
Он показал на два узла, ворчавшие у него под мышками.
Дильдор, отжимая сверкавшие на солнце гладкие, иссиня-черные волосы, удивленно посмотрела на мужа.
— Что вы? Ведь еще рано.
— Я пригласил гостей зайти с утра. После пятничного намаза они прямо придут к нам.
— Положите на кухне. Мяса купили? Ваши гости изысканные люди, угостить их надо как следует, — сказала Дильдор, сверкая жемчужными зубами.
Арсланкул, направляясь на кухню, обернулся.
— Сколько я тебе ни рассказываю; а ты все их не знаешь. Для них, что похлебка, что костный жир, — все равно. Вот какие это люди! — сказал он.
Одетая в клетчатую бязевую рубашку, Ойниса — четырехлетняя дочка Арсланкула, — переваливаясь спустилась с айвана и побежала за отцом.
— Ата,[99] дай сладкого!
Арсланкул развязал на кухне один из узлов и подал девочке кусок халвы. Потом, сев на пень для колки дров, принялся чистить лук. Сегодня ему особенно радостно, он даже напевает про себя.
После того как они с Дильдор нашли друг друга, Арсланкул уже не возвращался в свой кишлак. Прожив, несколько лет в Герате, он вкусил прелесть городской жизни, обзавелся приятелями, и ему было тяжело покинуть столицу. Дильдор, узнав, что ее отец и бабка умерли, поддержала решение мужа. К тому же тетке Арсланкула Зубейде тоже не хотелось расставаться с ними.
— Господь не послал нам сына. Будьте же теперь здесь хозяевами. Зажигайте после нас светильник — нашим душам будет радостно, — упрашивала она.
Для сильного, трудолюбивого Арсланкула в большом городе нашлась работа. Кроме того, Дильдор, считавшаяся хорошей швеей, обшивала богатые семьи. Поэтому муж и жена — работавшее, как два вола в одной упряжке, не знали нужды. Видя, как согласно они живут, соседи говорили: «Даже Хазрет-Али с Биби-Фатимой так не уважали один другого».
У них родились дочка и сын. Несколько дней тому назад сынишка начал уже ходить. Вчера вечером Дильдор в честь этого события собрала соседских женщин и устроила угощение. Согласно обычаю, старуха поджарила пшеницу. Хотя лопнувшие в котле зерна обжигали руки, женщины набирали полные горсти и сыпали мальчику на голову. Между пухлыми ножками ребенка катали специально испеченные маленькие, как донышко пиалы, лепешки. Девушки, собравшиеся у соседа-ткача, перебрались через стену и наполнили дом криками, шумом и смехом. Дильдор была счастлива.
А сегодня Арсланкул в свою очередь, пригласил гостей — Султанмурада и Зейн-ад-дина.
Старуха наскоро заплела Дильдор волосы, и молодая женщина, накормив ребенка, подошла к мужу.
— Нарежьте побольше луку: я буду делать манты, — сказала она и направилась на кухню. Тщательно осмотрев и отобрав мясо, сало, плоды и сласти, Дильдор снова вышла во двор. Арсланкул, вытирая руками слезившиеся от запаха лука глаза, взглянул на жену. Увидев по лицу Дильдор, что она довольна, Арсланкул с улыбкой сказал:
— Что, не мало, душа моя?
— Нет, как раз столько, сколько хотела, — ответила жена.
— Э, если бы я даже отдал за них душу, и то быль бы мало! — с чувством проговорил Арсланкул. — Да что тебе говорить, — ты и сама все знаешь!
— Пусть наш сын будет такой же ученый, наш Султанмурад, — с чувством сказала Дильдор.
— Сокровище ума, — сказал Арсланкул. — Однажды из какой-то страны, из какой бишь… да, из Руна, пришел один большой ученый, не помню, как звали, — что-то вроде Челеби. Все ученые, которые дают уроки в гератских медресе, стали на одну сторону, а тот ученый — на другую и начали спорить. Челеби то начинал говорить про звезды, то про мудреца Афлатуна,[100] который бог знает когда умер, то читал подряд стихи из корана, а то задавал задачи о том, как мерить землю. Ну-ка, ответьте на все это! На одни вопросы наши давали полный ответ, на другие — половину, а при каком-то трудном вопросе все заохали, — стоят, скребут в затылке, подталкивают друг друга: «Ты, мол, отвечай». Одним словом, опешили.
— Султанмурад тоже опешил? — взволнованно спросила Дильдор.
— Ах, душа моя, на самом интересном месте перебиваешь. Нет. Султанмурад уж не знаю почему, пришел после всех. Он ведь скромный человек. Пришел и сел напротив ученого — Арсланкул положил нож и поднялся. Все сидят молчком, уставились в землю. Тут Султанмурад напрямик задал один — два трудных-претрудных вопроса. Это задело Челеби за живое, и он сам тоже задал два вопроса, горячие, как огонь. Слово за слово, и поднялся такой спор, что борьба Пехлевана Мухаммеда с Малан-Пехлеваном в сравнении с этим — сущий пустяк.
— Кто же в конце концов победил? — нетерпеливо спросила Дильдор.
— В конце концов Челеби убежал в свою нору, словно мышь от кошки, — сказал Арсланкул и сделал такой забавный жест, что Дильдор невольно расхохоталась.
Старуха, раскатывавшая на айване тесто, укоризненно крикнула:
— Что случилось? Почему ты не рубишь мясо, дочка?
После утренней молитвы пришел Султанмурад. Арсланкул встретил его у ворот. Дильдор, возившаяся во дворе, слегка наклонила голову и, произнеся «салам», смущенно опустила глаза. Она заметила, что ученый опять, как и в прошлый раз, при виде ее переменился в лице. Первую встречу, когда Султанмурада привел в ее комнату Туганбек, Дильдор припоминала лишь смутно; во второй раз, при ее освобождении из тюрьмы в нем при виде ее произошла какая-то перемена. Теперь точь-в-точь то же самое. В голове Дильдор мгновенно вспыхнула мысль:» «Неужели его сердце привязалось ко мне?»
Султанмурад произнес дрожащим голосом: — Здравствуйте, сестра, живите долго, — и прошел дом вслед за Арсланкулом.
На его счастье, Арсланкул, не входя в комнату, остановился у двери и, проговорив: «Пожалуйте, господин, пожалуйте», тотчас же куда-то скрылся.
Султанмурад снял свою большую чалму, вытер лоб, покрытый холодным потом, и глубоко вздохнул. Усилием воли он пытался сдержать биение своего сердца.
Да и как было ему не волноваться! За эти годы красота Дильдор стала еще совершенней. Она пополнела, ее лицо и весь облик стали спокойнее, зрелее.
Сидя один в комнате, где жила любимая им женщина, Султанмурад рассматривал ряды полок, уставленные хозяйственной утварью. Самые обыкновенные вещи казались ему здесь чудесными.
Впервые полюбив, Султанмурад решил на всю жизнь сохранить верность своей несчастной любви. Однако настояния Зейн-ад-дина и соображения о том, что мелочи быта не должны мешать его занятиям, заставили юношу отказаться от этого намерения. Благодаря своему положению и репутации Султанмурад смог бы жениться на красивой девушке из богатой гератской семьи или взять в жены дочь какого-нибудь почтенного ученого. Вместо этого Султанмурад два года тому назад вступил в брак с простой девушкой, круглой сиротой; Но „образ Дильдор продолжал жить в его сердце.
Арсланкул, радостный и взволнованный, разостлал дастархан, разложил на нем лепешки, которые Дильдор напекла еще затемно, перед рассветом. Разломав лепешки, он выразил сожаление, что Зейн-ад-дин запаздывает. Султанмурад, который уже вполне овладел собой, успокоил его:
— Вы же знаете, что Зейн-ад-дину на каждом шагу попадаются знакомые. Наверное, стоит где-нибудь разговаривает.
При каждой встрече знаменитый ученый и простой деревенский парень находили общий язык и вели интересные беседы о самых обыкновенных вещах.
— Гостя надлежит угощать не одной вкусной пищей, но и интересными разговорами, — улыбаясь, сказал Султанмурад.
— Врата пищи и врата слова — одни. Начинайте вы, господин.
Заговорили о происшествиях последних дней. Вспоминали бой на дубинках между Муфридом Калан-даром из Ирака и Халилем, простым гератским бродягой; награды, которые им пожаловал султан; говорили о том, как Мухаммед Сайд Пехлеван готовит своего семнадцатилетнего племянника к состязанию со знаменитым приезжим борцом; изумлялись удивительной стеклянной бутыли, покрытой всевозможными рисунками, которую изготовили гератские ремесленники.
А вскоре пришел Зейн-ад-дин. Ожидая услышать увлекательные рассказы о «большом свете», Султанмурад с Арсланкулом навострили уши. Зейн-ад-дин с осведомленностью профессионала принялся рассказывать о новых книгах, переписанных знаменитым Султаном-Али, прозванным «Кыль-Калам»—«Перо-волосок». По словам Зейн-ад-дина, это были бесподобные образцы каллиграфического искусства.
Наконец Зейн-ад-дин умолк. Султанмурад украдкой взглянул на своего друга, покручивавшего тонкими, унизанными сверкающими перстнями пальцами кончики черных, блестящих, словно намазанных маслом, усов и почувствовал, что его тревожит какая-то забота.
— Конечно, Султан-Али в каллиграфии и Бехзад в живописи — богом благословенные таланты нашего времени, — сказал он, поднимая брови и как бы разговаривая сам с собой. — Не удивительно, что они создают бессмертные произведения искусства. Однако и твое перо время от времени проявляет такую волшебную силу, что я теряюсь и спрашиваю себя — человек ли движет этим пером?
Зейн-ад-дин пристально посмотрел на Султанмурада:
— Ты хочешь меня утешить?
— Совсем нет. Я просто высказываю свое мнение Если тебе нужны подтверждения и доказательства, позови художников всей страны, — решительно ответил Султанмурад.
Зейн-ад-дин засмеялся:
Простак ты и наивный человек к тому же. Когда дело касается тебя лично, твоя беспечность переходит все границы. Говоря по правде, мое огорчение вызвано именно этим.
Султанмурад пожал плечами.
— Это не беспечность, мой друг. Я считаю, что мне не подобает соперничать со всякими выродками.
Подумай минутку, рассуди: кто такой Шихаб-ад-дин? Любой из моих студентов может прочесть ему лекцию. Если он завидует моим успехам, — не моя вина.
— Но ведь они бросают тебе в лицо ужасные обвинения, — горячо сказал Зейн-ад-дин.
Султанмурад махнул рукой—«будь что будет!» — и промолчал. Зейн-ад-дин заговорил о том, что Султанмурада обвиняют в распространении вредных мыслей, Шихаб-ад-дин собрав вокруг себя таких же, как он, полуграмотных недоучек, всюду сеет клевету. Если Султанмурад сегодня или завтра не преградит путь своим врагам, он может попасть в беду.
Султанмурада вдруг прорвало. Небылицы, распространяемые его врагами, жалили его сердце, как змеи.
— Клевета! — вскричал он.
— Пусть эти люди называют подлинные жемчужины науки и философии «возмутительными» мыслями! Я преподаю не только богословские науки, я просвещаю сердца студентов логикой, математикой, астрономией, философией и другими светочами человеческого разума. О, если б познать эти предметы было так же легко, как читать коран. Читать тысячи книг, исследовать, сопоставлять мысли разных ученых, поправлять их ошибки и недосмотры — достаточно трудное дело. Но я люблю науку и все стерплю. Если не заниматься этим, зачем тогда нужны медресе? К тому же я преподаю в медресе господина Навои, получаю жалованье из средств его вакфа. Сам господин Навои указал мне, в каких пределах проходить со студентами те или иные науки.
— Твоя вина в том, — сказал Зейн-ад-дин, ударив себя рукой по колену, — что ты работаешь по плану, установленному Навои, посвящаешь ему свои произведения. При каждом удобном случае ты выдвигаешь идеи Навои, держишь его сторону. На шахматной доске политики Шихаб-ад-дин — простая пешка. Но за ним стоят сильные фигуры, беспощадные, как рок.
Арсланкул, слушавший своих друзей с широко раскрытыми глазами, неуверенно заговорил:
— Ушел Навои, и ушло из Герата благоденствие. Ни крестьяне, ни ремесленники не знают спокойной жизни. Пока Навои не придет и не возьмет дело в свои руки, у народа при теперешних правителях не будет ни хлеба вдоволь, ни надежной защиты.
Зейн-ад-дин и Султанмурад с улыбкой переглянулись, подтверждая слова Арсланкула. Зейн-ад-дтн сказал, что при дворе среди везиров интриги против Навои умножаются с каждым днем, и выразил сомнение в возможность скорого возвращения поэта. Арсланкул со вздохом поднялся и вышел. Султанмурад долго сидел молча. Наконец он обратился к другу и спросил, что он советует делать.
— Пойди к Маджд-ад-дину, расскажи ему о тех обвинениях, которые на тебя возводятся. Не откладывай, обратись к нему сегодня же, — убеждал Зейн-ад-дин товарища.
— Жаловаться волку на несправедливость! Клянусь аллахом, не понимаю, какой в этом смысл!
— Пусть Маджд-ад-дин узнает, что, как бы искусно он ни скрывал свои проделки, его гнусные дела не останутся тайной. Каждое слово, сказанное тобой о Шихаб-ад-дине, бьет и самого Маджд-ад-дина.
Султанмурад после некоторого колебания согласился с Зейн-ад-дином и решил, не откладывая, вечером отправиться к Маджд-ад-дину.
Арсланкул принес на большом блюде манты, приправленные кислым молоком и перцем. Потом снял с полки два больших глиняных кувшина и налил в маленькие изящные пиалы прозрачного красного вина, «чтобы разогнать тоску». Султанмурад поднес пиалу к губам, но вдруг, подняв голову, продекламировал:
Стихи очень понравились Арсланкулу. — Хорошо сказано о вине, — проговорил он с волнением в голосе.
Все трое опорожнили пиалы и принялись за еду. Вино было крепкое. У Султанмурада, который обычно мало пил, от одной пиалы разгорелись щеки и засверкали глаза. Так как он должен был отправиться к везиру, его не уговаривали пить больше. Зейн-ад-дин и Арсланкул выпили еще по две пиалы. Султанмурад читал рубай Хайяма и с большим красноречием разъяснял их смысл. Он привел много арабских, персидских, тюркских стихотворений о вине. Зейн-ад-дин рассказывал интересные анекдоты. Особенно насмешил всех рассказ про мударриса Фасых-ад-дина.
Однажды вечером старый мударрис Фасых-ад-дин устроил пирушку с несколькими юношами. Все были веселы; звучала музыка, пели песни. Когда пирушка была в самом разгаре, оказалось, что вина больше нет. Была полночь, достать откуда-нибудь вино, не расстроив пирушки, было невозможно. Собравшиеся решили процедить гущу, осевшую на дне бутылей. Фасых-ад-дин, который был сильно навеселе, взял в горсть свою белоснежную бороду и сказал юношам: «Уже сколько лет я каждый день подолгу мою мылом и расчесываю эту бороду. Если она сегодня не пригодится, её лучше вырвать и бросить, как сорную траву. Ну-ка, молодцы, поставьте на пол посудину и цедите винную гущу через мою бороду».
Присутствующие с веселыми криками — процедили вино сквозь белоснежную бороду мударриса.
Устав от смеха, все некоторое время молчалив Потом Зейн-ад-дин достал тамбур и, перебирая струны тонкими, как у девушки, проворными пальцами, запел печальную песню о любви и разлуке. Каждое слово песни обжигало сердце Султанмурада, как раскаленный уголь. Когда Зейн-ад-дин кончил, Султанмурад бросил на своего друга взгляд, полный глубокой печали. Зейн-ад-дин, видимо, понял, какую рану разбередил он в сердце ученого, и повесил тамбур на место.
Далеко за полдень гости, поблагодарив Арсланкула и пожелав его сынишке всяческого счастья, распростились и ушли.
Зейн-ад-дин пошел домой, а Султанмурад, обдумывая предстоящую встречу с везиром, решительно направился в северную часть Герата. Миновав узкие переулки, он вышел на большую дорогу.
Была пятница, улицы пестрели людьми. Несколько нукеров с обнаженными мечами в руках вели бродяг, которые подрались в кабаке. Их сопровождали дети и любители даровых зрелищ. Они хватали арестованных за полы халатов и осыпали их бранью. Нарядно одетые бекские сыновья, в халатах с расшитыми воротами в щегольских сапожках, похлестывая красивых туркменских коней, возвращались с поля после игры в чавган. Гератские нищие, по три, по четыре человека, бродили вдоль дороги под тенью деревьев, покрытых молодой просвечивавшей на солнце листвой. Вдали виднелись зубцы огромных крепостных стен и сверкавшие росписью минареты. Роскошные дворцы, окруженные большими садами, низенькие, покривившиеся, громоздившиеся друг над другом дома бедняков, породистые кони в позолоченной сбруе, тощие, костлявые ослы, покрытые грязными потниками, парчовые халаты и заплатанные, оборванные пестрядевые чапаны — все это создавало пеструю, причудливую картину.
Дойдя до нового сада «наместника султана», Султанмурад остановился у ворот, в которые то и дело входили нукеры и слуги. Под испытующими взглядами этих людей, рассматривавших его со всех сторон, простодушный ученый смутился, и у него будто язык прилип к нёбу. Мысленно он даже побранил Зейн-ад-дина, посоветовавшего ему прийти сюда. Наконец Султанмурад обратился к огромного роста джигиту, который по одежде и — манерам походил на начальствующее лицо.
— Я пришел повидать господина Маджд-ад-дина Мухаммеда. Будьте любезны, проводите меня к почтенному везиру.
— Скажите, кто вы такой. Я попробую. Может быть, на ваше счастье… — сказал слуга, равнодушно смотря куда-то в сторону.
Султанмурад сообщил свое имя и служебное положение в Ихласии. Не успел он окончить, как слуга куда-то исчез. Расхаживая взад и вперед возле ворот сада, Султанмурад увидел Туганбека, который прилетел, словно молния, в сопровождении двух красивых джигитов, одетых как приближенные царевичей. Нукеры взяли запыхавшихся коней под уздцы. Туганбек ловко соскочил на землю. Взгляд его покрасневших глаз упал на Султанмурада, и он улыбнулся во весь рот.
— Вы зачем пришли сюда, господин? Султанмурад, соблюдая вежливость, подошел к Туганбеку, крепко пожал его грубую, твердую, как железо, руку и сообщил о цели своего прихода.
— Идемте вместе. Я-то знаю, что вы настоящий ученый. Мы ведь старые товарищи, — весело сказал Туганбек.
Они вошли во двор. Нукеры и слуги с поклонами уступали им дорогу. Туганбек повел ученого по цветникам, пробудившимся с первым дыханием весны, по ровным кипарисовым аллеям. То тут, то там сверкали большие круглые зеркала хаузов. Султанмурад невольно залюбовался ими. Туганбек небрежно махнул рукой.
— Представьте хауз, полный вина, красного бархатного вина! Сегодня на пирушке у моего царевича Музаффара-мирзы мы пили вино из хауза. В конце концов мы бросили туда двух пьяниц. Они выкупались в вине…
Туганбек указал Султанмураду на большой, богато отделанный дом.
— Входите, не стесняйтесь, вас, наверное, примут. Движением руки он простился с Султанмурадом и повернул в другую сторону.
Высокий слуга указал Султанмураду на дверь, украшенную золотом.
Ученый вошел в комнату. В переднем углу, на покрытой китайским шелком подушке восседал Маджд-ад-дин Мухаммед в облачении везира. Словно надменный ишан, принимающий послушника, Мадж-ад-дин, не глядя на Султанмурада, протянул ему руку. Султанмурад, испросив разрешения, сел подальше, у стены. В комнате было так много красивых вещей, что даже у нашего ученого, который не придавал значения богатству и внешнему блеску, загорелись глаза. «Здесь не хватает только золотого престола», — подумал он.
Так как Маджд-ад-дин не начинал разговора, Султанмурад извинился, что пришел не вовремя и, может быть, обеспокоил благословенное сердце высокого господина. Везир, перебирая крупные жемчужные четки, с обычным высокомерием бросил:
— Изложите ваше дело.
Султанмурад заговорил о том, что некоторые люди распространяют порочащие его слухи, что все эти разговоры — бессмысленная клевета, что между ним и клеветниками нет ни соперничества, ни вражды.
— Какое это имеет отношение к нам? — насмешливо сказал Маджд-ад-дин. — Один лишь бог без греха. Раз про вас ходят такие разговоры, этому, наверное, должна быть причина. А подумали вы хоть раз о том, какие мысли вы внушаете вашим питомцам?
Султанмурад теперь уж не сомневался, что опасения его друга были вполне основательны. Однако он решил высказать всю правду:
— Высокий господин, — сказал он, я не хочу пасть напрасной жертвой невежественных людей. Если те мысли, которые я внушаю своим питомцам, возбуждают в вас сомнения, то мое положение, очевидно, опасно. Я призываю вас к справедливости. От справедливости зависит процветание народа, ею же измеряется степень совершенства человека.
Затем Султанмурад подробно рассказал, какими предметами ему уже много лет приходится заниматься, какие науки он преподает, сколько великих ученых Греции, Арабистана и Ирана посвятили этим наукам свою драгоценную жизнь, наконец, не в силах сдержать гнева, он вскричал:
— Всевозможные шихаб-ад-дины — это воплощение невежества, не что иное, как вредные насекомые, подтачивающие корни дерева науки. Жаль, очень жаль, что эти люди множатся и приобретают силу. Они наполняют своим ядом золотые чаши и подносят их другим, говоря, что это мед. Но истина бессмертна. Преступники, подобные Шихаб-ад-дину, предстанут перед потомством посрамленными и опозоренными.
Маджд-ад-дин побледнел. В глазах его появилось недоброе выражение. Поглаживая свою черную с проседью бороду, он устремил глаза на четки. Султанмурад внутренне ликовал, что его слова сильно задели везира.
— Господин, вам следовало бы помнить, где и перед кем вы находитесь, — гневно сказал он.
— Мне кажется, я не вышел из пределов вежливости, — ответил Султанмурад, слегка наклоняя голову
— Вражда и недовольство между нашими уважаемыми учеными и образованными людьми — чрезвычайно печальное явление, — продолжал Маджд-ад-дин беспристрастным тоном. — Его следует устранить. Я должен предупредить вас об одном: в стране ислама, в государстве, где правит защитник нашей веры, безупречный мусульманин: — наш падишах, — тому, кто следует учениям магов и идолопоклонников, не будет пощады. Никогда! Горе тем, кто не усвоил этой истины! Рекомендую вам больше заниматься богословскими науками.
Маджд-ад-дин отвернулся и сделал рукой жест, означающий: «разговор окончен!»
Султанмурад горел желанием прибить к земле доводами рассудка надменного везира, сославшись на великих ученых вроде Ибн-Сины, Фараби и Афлатуна, но то было невозможно. «Во всяком деле необходима умеренность и осмотрительность» — подумал он и с чинным поклоном направился к двери.
На круглой площадке перед домом Султанмурад увидел Абу-з-зия и еще нескольких знаменитых гератских богачей, которые ожидали приема. Купцы, одетые в дорогие китайские и египетские ткани, насмешливо и злобно посмотрели на Султанмурада и многозначительно переглянулись. Они, должно быть, подумали: «Вот какой жадный этот нищий мулла! Выпрашивая подачку, он сунулся даже в эти высокие чертоги». Султанмурад прошел мимо, высоко подняв голову.
Влажная прохлада весеннего вечера охватила грудь ученого. Он запахнул полы пестрого полушелкового халата.
Из большого цветника, разбитого перед домом, вели две широкие аллеи, которые терялись в саду; извилистые, как змеиный след, тропинки расходились от них во все стороны.
Занятый разговором с Туганбеком, Султанмурад не запомнил как следует направления, по которому шел. Он наугад повернул налево. Вдали, среди деревьев, виднелись наружные ворота и снующие нукеры. Внезапно на тропинке, пересекавшей аллею, показался Шихаб-ад-дин в большой чалме и ярком халате. Султанмурад хотел было ограничиться приветствием пройти мимо, но Шихаб-ад-дин мягко положил ему руку на плечо:
— Господин ученый, вероятно, пришел сюда с какой-нибудь просьбой. Не сообщите ли вашему покорному слуге, в чем она состоит? — любезно спросил.
«Избавился от волка — встретил лису», — подумал Султанмурад.
Хотя он был убежден, что Шихаб-ад-дин догадывается о цели его прихода, он, считая неудобным пререкаться здесь со своим врагом, сказал:
— У меня было небольшое дело…
Взглянув в расстроенное лицо Султанмурада, Шихаб-ад-дин подумал, что простодушный ученый смертельно напуган грубым обращением Маджд-ад-дина.
— Со всяким заявлением и жалобой при любом затруднении и беспокойстве обращайтесь прямо к вашему покорному слуге, — покровительственно сказал он. — Слава аллаху, господин великий везир со мной близок, и моя просьба никогда не останется тщетной.
Султанмурада передернуло.
— Благодарю вас за сочувствие, — сказал он. — Если я пожелаю, то могу довести мою просьбу и до самого султана.
Шихаб-ад-дин переменил разговор и стал жаловаться на сырость. Затем он провел руками по густой седеющей бороде и сказал:
— Очень уж горячий вы человек, брат мой. Идемте-ка сюда, идемте. — И он насильно повел за собой Султанмурада.
Они сели на краю летнего айвана. Солнце утопал в огненном море вечерней зари. Его мягкие прозрачные лучи придавали все новые и новые оттенки цветущему саду. Султанмурад опершись рукой о подбородок, молча любовался пейзажем. Шихаб-ад-дин слегка подтолкнул его:
— Настоящий рай, правда? Благость аллаха беспредельна. Если пошлет судьба, нам тоже достанется маленький, но пышный красивый сад.
— Господин, я не завидую, я наслаждаюсь, — сказал Султанмурад, отворачиваясь.
— Конечно, конечно! Да сгинет зависть!.
— Какое у вас ко мне дело? Может быть, скажете? Шихаб-ад-дин снова Положил руку на плечо Султанмурада и, принужденно улыбаясь, сказал:
— У вас в сердце затаена маленькая обида на вашего покорного слугу. Вы ничем этого не показали, но я с некоторых пор вижу это оком разума. Или я ошибаюсь?
— Нет, это правда и, должно быть, не без причины.
— Совершенно напрасно! Пусть в вашем сердце не будет на этот счет ни пылинки сомнения, брат мой. В наше время есть такие люди, которые занимаются только тем, что нарушают приязнь между друзьями. Никогда не слушайте таких людей. Хорошо?
— Господин! Я всегда могу отличить правду от лжи.
— А разве сатана не ввел в обман самого отца нашего Адама? — убеждающим тоном сказал Шихаб-ад-дин.
Султанмурад промолчал. Перемена в отношении к нему Шихаб-ад-дина была для него совершенно неожиданной. Султанмурад подумал, что в черной душе Шихаб-ад-дина еще сохранилась искра справедливости и что, признав свою вину, он решил обуздать свою неприязнь к нему.
Шихаб-ад-дин похвалил способности Султанмурада и заговорил о том, что может попросить для него награду от Маджд-ад-дина. Султанмурад решительно заявил, что доволен своим положением и не нуждается в наградах. Шихаб-ад-дин, коснувшись его аскетических привычек, дружески побранил Султанмурада. Заметив нетерпение молодого человека, он ударил его по колену и сказал:
— Посидите еще немножко? -
Затем Шихаб-ад-дин завел разговор о том, что цель его жизни — написать ценную научную книгу, что он уже десять лет втайне от всех читает и изучает различные сочинения.
— Прекрасное намерение. Пишите, господин, — сказал Султанмурад, улыбаясь. — Это самое достойное для ученого дело. Ведь книги собирают жемчужины человеческой мысли и передают их потомству. Мы с вам превратимся в горсть праха, а книги, словно памятник из железа и камня, сохранятся навеки.
— Однако, брат мой, — сказал Шихаб-ад-дин, — этому препятствует одно обстоятельство, и поэтому у меня на сердце темно, как ночью.
— Хорошим намерениям и великим целям не может воспрепятствовать ничто, господин.
— Говорить легко, но устранить препятствие невозможно. У вашего покорного слуги и сегодня много должностей, а завтра-послезавтра у него, вероятно, возникнут еще новые обязанности. Возражать великому везиру, разумеется, невозможно. Похоже, что жизнь пройдет, а мои произведения так и не порадуют вселенную.
Тут Шихаб-ад-дин взглянул на Султанмурада и умоляющим тоном продолжал:
— Брат мой, настоящий человек не считает позором признание в своих недостатках. От вас не останется скрытой ни одна моя тайна. Истина в том, что, хотя мои знания достигли степени совершенства, по недостатку опыта писать для меня затруднительно: перо не хочет переводить на бумагу мысли, переполняющие мою грудь. Вот у вас перо бегает, как быстрый конь. Если вы постараетесь, вы в несколько месяцев извлечете из сокровищницы вашего ума необыкновенное произведение. Напишите-ка для меня какую-нибудь книгу. Я собственными руками поднесу эту книгу султану, украшу ее благословенным именем его величества Кроме меня, да вас, да великого аллаха никто не узнает об этом. За ваши труды и знания вы будете получать от меня, пока я жив, неисчислимые награды. Согласны, брат мой? Слово едино, аллах един!
Султанмурад побледнел. Он встал и отряхнул полыхалата.
— Господин, чтобы прославиться ученостью, не обязательно писать книги, — сказал он дрожащим голосом. — Каждый человек должен знать себе цену. Неужели вы так низко пали? Я не торгую наукой, господин!
Шихаб-ад-дин, дрожа всем телом, пробормотал заплетающимся языком:
— Ай-ай, брат мой!
Султанмурад, не оборачиваясь, бросился к воротам.
После вечерней молитвы, проводив гератских баев, Маджд-ад-дин остался один. Он долго ходил по мягкому ковру, похожему при свете свечей на сверкающую лужайку, и тихонько напевал случайно вспомнившуюся старую песню.
Везир предоставил баям определенные льготы в отношении пошлин в некоторых необходимых правительству работ. Что из этого вышло? Убыток для государственной казны… Но зато я получил, в подарок от баев жемчуга и рубины в дивных шкатулках и ларцах из слоновой кости и редкие китайские, египетские и индийские ткани, владельцу которых позавидовал бы сам государь. Какая польза заботиться о ремесленниках и дехканах? Ровно никакой. А каждый из этих баев, если понадобится, будет для него надежной защитой. Вот краеугольный камень устойчивой политики.
Внезапно он вспомнил о девушке, которую ему сегодня предложили в подарок.
«Беда, а не девушка! Едва я ее увидел, кровь закипела у меня в жилах».
Маджд-ад-дин нетерпеливо повернулся. У двери послышался топот множества ног. Вошел Туганбек с группой живших при дворе высших чиновников и бездельников в шитых золотом халатах. Как только они уселись, Маджд-ад-дин приказал Шихаб-ад-дину запереть двери и окна. Оглядев присутствующих, он таинственно заговорил:
— Друзья мои, между нами нет тайн. Наши цели и стремления едины. Я хотел бы предложить вам на обсуждение один вопрос.
Все одновременно наклонились вперед, Туганбек, сопя, придвинулся поближе. Словно шайка воров, собравшихся на последнее совещание перед «делом», заговорщики в таинственном молчании навострили уши.
— Наш враг до сих пор не сложил оружия. Он зубами и ногтями роет нам яму. Поистине, это умный, расчетливый враг! Он очень, опасен. Правда, государь оказывает нам великое внимание и, — милость, его вера в нашу преданность непоколебима. Однако не будем забывать, что государь и Алишер — друзья детства. В последнее время Алишер шлет государю письма одно за другим; с содержанием некоторых из них мне удалось ознакомиться. Алишер указывает на причины оскудения страны и, объясняя их по-своему, советует изменить все порядки в государстве. По последним сведениям, он намерен прибыть в столицу. Если бы он мог, то, наверное, прилетел бы в город.
— На время? — испуганно спросил Шихаб-ад-дин.
— Он хочет умереть в родном городе, — насмешливо продолжал Маджд-ад-дин. — Если, не дай бог ему разрешат жить в Герате, он на следующий же день все здесь перевернет.
Маджд-ад-дин помолчал, желая выяснить настроение собравшихся. Один из молодых беков снял кунью шапку и почесал затылок. Он напомнил, что влияние Навои в городе возрастает с каждым днем, что ученые и поэты всей страны, вплоть до святейшего Джами; питают к нему глубокую любовь. Султан не сможет противостоять желаниям таких людей, и в конце концов его отношения с Алишером должны улучшиться. Поэтому следует принять решительные меры.
— Следует всячески чернить Навои перед государем, чтобы порвались узы прежней дружбы, — предложил Шихаб-ад-дин.
Туганбек возразил, что не стоит полагаться на это старое средство.
— Да у нас и нет новых доводов, могущих опорочить Навои, — медленно подбирая слова, сказал он, — Слова — не кожа башмачника, которую можно без конца мочить и растягивать…. Я пробыл месяц на охоте с его величеством. Вместе ездили, вместе пировали. Всем известно, какое он мне оказал внимание. За беседой я все время старался очернить Алишера. Не могу, однако, сказать, что мне удалось убедить государя. Читать в сердце его величества хакана — нелегко. Насколько я понимаю, шахиншах колеблется. Поэтому самое надежное средство — раз и навсегда убрать Алишера из этого мира.
Присутствующие подняли головы. Наступило тягостное молчание. Маджд-ад-дин, взглянув на своих сообщников, почувствовал, что в сердце их происходит борьба.
— Путь, предложенный Туганбеком, — самый верный путь, — решительно сказал Маджд-ад-дин. — Бесстрашный Туганбек высказал то, что я сам хотел предложить. Моя единственная просьба — не подвергать это предложение обсуждению. Все мы ищем средства в борьбе с врагом, а существует ли средство сильнее смерти?
— Это не шуточное дело. Каким образом его осуществить? — беспокойно проговорил старый враг Навои Ходжа Хатыб.
— Всесторонне обдумав и взвесив все, я решил, что нам следует послать в Астрабад одного из лучших дворцовых поваров, — откликнулся Маджд-ад-дин. — Он будет готовить для Алишера вкусные кушанья.
Этот способ всем показался приемлемым и единственно правильным. Никто ни слова не возразил и не предложил ничего другого.
Когда собравшиеся разошлись, Шихаб-ад-дин несколько задержался. Он обратился к Маджд-ад-дину с просьбой немедленно заключить Султанмурада в тюрьму или изгнать его из Хорасанской земли. Торопясь к своей красавице, везир раздраженно бросил:
— Не прыгайте выше головы, господин. Вы клевещете на Султанмурада.
— Он вольнодумец, вольнодумец! — пробормотал Шихаб-ад-дин, напуганный грубым обхождением везира.
— Обстановка не подходящая, — сказал Маджд-ад-дин, — заключение ученого в тюрьму может вызвать много недовольства. Если этот ученый вам насолил, мы запретим ему преподавать в медресе. Ладно?
Шихаб-ад-дин побледнел.
— Нет, пусть будет моя душа за вас жертвой, высокочтимый господин, — умоляюще сказал он. — Действительно, я прыгаю выше головы. Простите меня, я не обладаю государственной мудростью. Вы правильно говорите — обстановка тяжелая. И запрещать ему читать лекции тоже не надо. Талантливый юноша... Я уверен, что он послушается моих советов и вступит на правильный путь. Мы, наверное, даже переманим его на свою сторону. Прошу вас, господин, оставьте его в покое.
— У вас голова не в порядке. В ваших мыслях нет устойчивости. — Маджд-ад-дин направился к двери.
— Эти дни я действительно не в себе, — пробормотал ему вслед Шихаб-ад-дин.
После недавней встречи с Султанмурадом он и вправду потерял голову. Ведь Султанмурад, если пожелает, может опорочить его, сделать посмешищем, отравить ему жизнь.
Шихаб-ад-дин очень досадовал на себя за глупую поспешность в разговоре с молодым ученым. Ему следовало прежде всего улучшить отношения с Султанмурадом и хорошенько испытать его, ни в коем случае не открывая своих истинных намерений. От этих поздних сожалений страдания Шихаб-ад-дина стали невыносимыми.
«Не сегодня-завтра я брошу тебя в тюрьму, и ты станешь пищей для червей!»—думал он еще недавно, полный ярости. Но теперь, когда Маджд-ад-дин так решительно отверг его просьбу, ему оставалось только склониться перед Султанмурадом. Поэтому — Шихаб-ад-дин и возражал так горячо против изгнания молодого ученого из медресе.
Еле держась на ногах от горя и стыда, Шихаб-ад-дин вышел из сада. При свете луны он брел по сонным, безлюдным улицам, не обращая внимания на рытвины, ухабы и думая только об одном, — как бы помириться с Султанмурадом…
На следующий день, с восходом солнца, Султанмурад пришел в медресе Ихласия. Войдя в большую аудиторию, он сел на свое обычное место, ожидая прихода первых слушателей. Вошел племянник Шихаб-ад-дина, вежливый, застенчивый, как девушка, молодой человек. Два года тому назад Султанмурад в течение нескольких месяцев давал ему частные уроки арифметики и арабского языка. Приветливо поклонившись юноше, Султанмурад посадил его возле себя и принялся расспрашивать, как идут занятия. Молодой человек кратко ответил, потом сказал, — прикладывая руку к груди:
— Господин, сейчас соберутся студенты. Разрешите поговорить с вами наедине?
— Говорите.
— Между моим дядей и вами возникло какое-то недоразумение. Вашему недостойному ученику совершенно неизвестно, в чем его сущность, — заговорил юноша, подчеркивая свои слова изящными движениями руки. — Я знаю только, что мой дядя вас обидел. Он сам чрезвычайно огорчен этим. Но сознаться в преступлении тяжелее, чем совершить его. Раз мой дядя и признает, что вы правы…
— Все мы люди, — улыбаясь, прервал его. Султанмурад, — у всех есть недостатки. Будь это не так, мы бы были ангелами, а земля — раем. Отправляйтесь сейчас же к своему дяде и скажите, что я забыл обиду.
— У вас великое сердце, я это знаю! — обрадованно воскликнул юноша.
— Передайте ему еще, что я ненавижу мстительных людей. Пусть его сердце будет спокойно.
Юноша с почтительным поклоном удалился. С книгами под мышкой на цыпочках вошли пять студентов. До полудня Султанмурад занимался с ними. Когда он ожидал следующую группу студентов, в комнату вошел щегольски одетый человек средних лет в тщательно намотанном тюрбане и узорчатых сапогах. С холодным поклоном он подал Султанмураду какую-то бумагу и вышел. Султанмурад начал читать: это был приказ шейх-аль-ислама, гласивший: «Султанмурад, который в стране ислама в счастливые времена великого покровителя и защитника веры Мухаммеда внушает слушателям мысли, подрывающие основы религии…»— и так далее—«изгоняется из медресе!» У Султанмурада потемнело в глазах от ярости и досады. Взглянув на надменного посланца, он произнес дрожащим голосом:
— Господин шейх-аль-ислам может преследовать меня сколько угодно. Я всегда готов пожертвовать собой во имя истины.
Посланец поклонился и решительными шагами вышел из комнаты. Султанмурад вспомнил о своей вчерашней встрече с Маджд-ад-дином. Он подозревал, однако, что Шихаб-ад-дин и подобные ему невежды заранее, подготовили почву.
Султанмурад вскочил на ноги. Он скомкал приказ, бросил его в угол и вышел. Не отвечая на приветствия изумленных студентов, которые выходили из своих комнат, направляясь на занятия, ученый бросился на улицу. Придя в ханаку, он вошел в свою комнату и бессильно опустился на пол среди книг. Горе не позволяло ему ни читать, ни думать. После полуденной молитвы пришли обеспокоенные его отсутствием студенты. Среди них были и подростки с едва пробивающимися усиками, и солидные бородачи, жившие в медресе десятки лет. Султанмурад, стараясь держаться, как можно бодрее, попытался их успокоить. Один из студентов, вне себя от ярости, закричал:
— Такое положение нельзя дальше терпеть, господин! Если распространение идей таких философов и ученых, как Аристотель, Афлатун, Ибн-Сина, Фараби и Улугбек считается бесчестьем и вольнодумством, что же тогда называется в медресе наукой?
Такое невежество в столице государя, который славится как покровитель наук! — горячо воскликнул другой студент.
— Если господин шейх-аль-ислам не отменит своего приказа, мы уйдем из медресе! — воскликнул второй.
— Обязательно. Другого выхода нет, — в один голос подхватили остальные.
— Дорогие друзья, — спокойно обратился к ним Султанмурад, — подчиняясь приказу, я вынужден прекратить занятия в медресе. Я скорей умру, нежели соглашусь кривить душой. Прошу вас, служите науке с чистым сердцем, посвятите вашу жизнь ее распространению. В мире нет более высокого, более почетного дела, чем распространение науки, служение ей. Однако надо уметь отличать истинную науку от устарелых, ложных убеждений. Подлинная наука указывает пути к уяснению загадок неба и раскрытию тайного. Верьте в силу разума, пусть наука будет всегда вашим руководителем. Не уподобляйтесь тем, кто прочел пять — десять книг и мнит себя ученым. Еще одна просьба: не поднимайте шума и возвращайтесь к занятиям. В Герате много знатоков любой науки, большая часть их — мои учителя. Черпайте же из моря их знаний с подлинной преданностью и усердием. Я убежден, что как бы ни бесновалась буря невежества и насилия, ей не потушить светильника науки, зажженного господином Навои.
Студенты с глубоким вниманием выслушали своего учителя. Внимая просьбе Султанмурада, они постепенно, один за другим разошлись.
Вскоре пришли Зейн-ад-дин с Арсланкулом, запыхавшиеся, взволнованные. Ученый встретил их, как всегда спокойно и приветливо. Зейн-ад-дин осыпал проклятиями везира и шейх-аль-ислама. Арсланкул молчал, печально покачивая головой. Наконец он заговорил:
— Меня огорчает одно: когда-нибудь в наш великий город приедет из Рума, Индии или Китая ученый, подобный тому Челеби. Кто же тогда станет задавать ему вопросы?
— Шейх-аль-ислам собственной персоной! — со злостью ответил Зейн-ад-дин.
— Нет, он в науке слаб, как муравей, — возразил Арсланкул, не поняв шутки, и так многозначительно покачал головой, что друзья его не смогли удержаться от улыбки.
— В медресе для тебя нет места… Хорошо! Распространяй свои мысли письменно, — решительно предложил Зейн-ад-дин, немного успокоившись. — Бумага — неутомимые крылья мысли, она уносит их за моря и горы.
— Обязательно буду писать, обязательно! — решительно воскликнул Султанмурад.
Глава двадцать четвертая
Сад Джехан-Ара сверкал на солнце, которое с каждым днем грело все сильнее. Он переливался всеми цветами радуги, подобно крыльям павлинов, лениво расхаживавших парами возле хаузов. Казалось, его краски с каждым мгновением становятся все ярче.
В сверкающем золотом воздухе парили, описывая диковинные круги, воздушные плясуны — голуби. Хусейн Байкара, вытянув шею, любовался ими, пока глаза его не наполнились слезами. Появился слуга и сообщил, что, если султан прикажет, можно привести бойцовых баранов, недавно доставленных во дворец. Но Хусейн Байкара, накануне слишком много выпивший, чувствовал себя не совсем здоровым.
— Завтра устроим бой, — сказал султан и отослал слугу.
Потом он махнул рукой приближенным — «останьтесь здесь»— и пошел во дворец. Он приказал своему ишик-ага позвать главного врача Абд-аль-Хайи к опустился на золотой престол.
Султан Хусейн казался много старше своих лет. Зоркие, беспокойные глаза его ослабели, могучие руки, без промаха разившие врага мечом, по временам дрожали, прямая, как у льва, шея согнулась, спина сгорбилась. Правда, султан изо всех сил, старался держаться бодро.
Иногда к нему возвращалась прежняя энергия: он предпринимал походы против чужеземных ханов, протягивавших руки к его стране; или мятежников, желавших захватить власть в Хорасане; в нужную минуту он умел показать себя твердым и решительным. Но минуты слабости наступали все чаще, и врачи не всегда могли помочь государю.
Главный врач Абд-аль-Хайи с поклоном вошел в комнату. Тщательно соблюдавший предписание медицины, сделавший воздержанность одним из основных правил своей жизни, старик был крепок, как палка.
— Государь нездоров? Может быть, проверить биение благословенных жил? — проговорил, кланяясь, Абд-аль-Хайи приблизился к султану.
— Нет, дайте мне чего-нибудь возбуждающего.
— Я так и полагал, что вчерашнее не пройдет безнаказанно, — сказал врач и, пятясь, вышел из комнаты.
Когда возбуждающее средство начало оказывать действие, Хусейн Байкара принял главного везира. Маджд-ад-дин сел к нему ближе, чем обычно, и начал свой доклад. Он красноречиво доказывал, что население довольно, что все нужды войска удовлетворены. Потом он ознакомил султана с известиями, поступившими с границ, с письмами беков из туманов и вилайетов. Хусейн Байкара внимательно слушал, кивком головы выражая согласие. Он питал большое доверие к Маджд-ад-дину, сумевшему наполнить казну деньгами. Правда, везир, забрал в свои руки все дела и не допускал к управлению государством знатных беков. Только вчера его беки — Ибрахим Чегатай, Тенгри-Берди Саманчи и Ямгурчи — открыто выразили государю свое недовольство по этому поводу. Султан Хусейн кротко заметил своему везиру, — что с беками следует быть вежливым. Маджд-ад-дин ответил, что по нервности и вспыльчивости он может иногда, вопреки своей воле, кого-нибудь обидеть, но что преданность его государю от этого не уменьшается. Потом он таинственно понизил голос и сказал:
— Если позволите, я вас осведомлю об одном важном деле.
— Пожалуйста, говорите.
— Ходжа Афзаль, который здесь заявлял, что отправляется в Мекку, находится в Ираке, у Якуб бека. Его встретили с величайшим уважением и очень торжественно. Видите, какие козни строит ваш враг? Живя в Астрабаде, он широко расставляет сети коварства.
— Я нисколько не сомневаюсь в справедливости ваших слов, — недовольно сказал Хусейн Байкара. — Якуб-бек неискренен с нами. Он шлет послов к человеку, которого я изгнал из Герата, и оказывает ему внимание. Все это — проявление вражды.
— По полученным сведениям. — снова заговорил Маджд-ад-дин, — дела в Балхе тоже нехороши. Хотя власть находится в руках Феридуна-мирзы, брат Алишера Дервиш Али, пользуясь молодостью и неопытностью царевича, заправляет всеми делами. От младшего брата к старшему и обратно один за другим скачут гонцы. Я каждый день получаю донесения, об этом.
— Будьте начеку, чтобы не пришлось раскаяться, — нервно сказал Хусейн Байкара.
Маджд-ад-дин гордо выпрямился. Он заверил государя, что решительными мерами устранит зло, таящееся в Астрабаде.
Хусейн Байкара заговорил о событиях в Хисаре и новых происках Султана Махмуда. В разговоре он вдруг вспомнил о приказе шейх-аль-ислама.
— Что случилось? Все произошло без моего ведома. Студенты медресе и многие мударрисы очень взволнованы.
— Медресе и ханака Алишера Навои стали очагом смуты, — придав своему лицу скорбное выражение, заговорил Маджд-ад-дин. — Под именем науки и философам большинство мударрисов, назначенных Алишером, — поучают безбожию.
— Султанмурад, говорят, талантливый ученый, — с сожалением покачал головой Хусейн Байкара. — Жаль, что он сбился с пути истины.
— Да, он внушает студентам вредный вздор вроде того, что следует больше заботиться о судьбе дехкан и ремесленников, чем о государственной казне.
Хусейн Байкара предложил везиру усилить наблюдение за всеми медресе.
— В каждом медресе есть наши люди. В Ихласии их больше всего, — улыбаясь, сказал Маджд-ад-дин. Хусейн Байкара с облегчением поднялся. Он пригласил везира послушать с ним музыку и перешел в комнату, отделанную фарфором.
Глава двадцать пятая
Ветер толкнул створки резного окошка и с треском захлопнул их. Бумаги, лежавшие на низенькой скамеечке, с шумом разлетелись: Низам-ад-дин, спокойный и беззаботный, послушный начальству и исполнительный старый чиновник, с трудом поднялся на ноги. Поглаживая затекшие колени, он собрал разбросанные бумаги и снова сел. Потом тщательно очинил перо ножиком, украшенным мелкой бирюзой, и обмакнул его в чернильницу. Чтобы испытать перо, он вывел на клочке бумаги несколько букв, затем принялся писать приказ деревенским старостам.
Дверь из соседней комнаты с легким скрипом отворилась. Низам-ад-дин положил перо на скамеечку и устремил на своего начальника тусклые глаза старого, знающего свое дело слуги.
— Нет больше желающих меня видеть? — спросил Навои.
— Нет. Последним был этот хромой дехканин. В вашем присутствии он сидел смирно, но вышел, я чувствую, как на крыльях. Я усмехнулся, а он подошел и шепчет мне на ухо: «Почему этот человек не стал царем у себя в стране?» Я сказал: «Этот человек ставит бедность выше царского достоинства». Он покачал головой: «Оставьте, не смейтесь надо мной». Навои улыбнулся.
— Удивительно интересный человек. И хорошо говорит, — сказал он. — О всяком деле может сообщить верные сведения. Прекрасно поет старинные песни, рассказывает сказки, хорошо знает мудрые изречения предков. Сообщил мне такие подробности о повадках степных птиц, каких не найдешь ни в одной книге Благодарение богу, среди нашего народа много людей с чистым сердцем и острым умом.
— Верно, только проявляют они его довольно редко, — сказал Низам-ад-дин, встряхивая нечесаной бородой.
— Вся красота у них в сердце, — убедительно и гордо сказал Навои. — Одежда розы из сорока заплат, листья у нее в дырах, но разве она не красива?
— Правильно, господин, правильно! — поспешно согласился чиновник.
— Поручив Низам-ад-дину некоторые дела, Навои сунул под мышку небольшую книгу в изящном переплете и вышел из комнаты. Поэт отправился домой по пыльным неровным улицам. Дорогой он встретил группу, знакомых, направляющихся к нему. Здесь были два поэта — один из них недурно писал касыды, другой газели — и пожилой ученый, дервиш по призванию, занимавшийся алхимией и наукой о звездах. Величавый муфтий и два чиновника дополняли компанию.
Ученый торжественно обратился к поэту:
— Мы думали встретить вас в управлении. Счастливая звезда наша привлекла вас к нам. Надо разогнать тоску. Пожалуйте с нами!
В пригородном садике, принадлежавшем муфтию, они уселись на супе. Подали еду. Один из поэтов вынул из складок своей синей чалмы листок бумаги, поднёс его к глазам и начал читать. Это была новая касыда. Во время чтения он раз или два останавливался и говорил, покачивая головой:
— Внук переписывал, ошибок наделал. Эх, жизнь!
Навои, к великой радости старика, списал первые две строки касыды. Тогда ученый восторженно заговорил об астрологии. Он рассказал, что задолго до кровавого нашествия Чингисхана на Мавераннахр астрологи предвещали бедствие. Навои хотелось сказать, что астрологи — лжецы, и их наука совершенно неосновательна. Но не желая обидеть ученого, он только заметил, что предсказания звездочетов почти никогда не оправдываются, и шутливо начал спорить с упрямым стариком. Заговорили о жизни и произведениях древних астрабадских поэтов. Беседа постепенно стихала и, наконец, замерла, как родник, исчезающий в песках.
Становилось душно. Старый поэт опустил голову на грудь. С пыльных улиц доносился раздражающий скрип арбы. Небо покрылось облаками. Поднялся и с шумом налетел ветер, словно уснувшая собака, потревоженная приближением незнакомца. Клочки облаков, похожие на белых верблюдов, понеслись во все стороны. Вдруг резко сверкнуло солнце — так что зарябило в глазах. Сейчас же из редких туч брызнул дождь. Мутные капли закапали сквозь запыленные листья на людей и дастархан. Навои изумленно посмотрел на небо. Хозяин дома, муфтий, понял причину его удивления.
— Господин, — улыбаясь, сказал он, — наш город отличается тем, что здесь можно увидеть в один день, все четыре времени года.
— Верно, — кивнул головой Навои, — в вашем городе день тянется, словно год.
Ответ Навои вызвал общий смех. Задремавший было поэт проснулся и, протирая глаза, испуганно спросил:
— Что такое? Что случилось?
Под вечер Навои воротился домой. Во дворе его встретил Шейх Бахлул и сообщил, что из Герата приехал гость.
— Кто такой? По какому делу? — живо спросил Навои.
Шейх Бахлул тихо ответил:
— Один из поваров его величества. Абд-ас-Самад. Теперь у нас на кухне закипит работа.
Навои пожал плечами и, сдвинув брови, шепнул Бахлулу:
— Видимо, мало собак, чтобы следить за каждым моим шагом.
Бахлул, усмехаясь, сказал: — Привез, как всегда, подарки и поклоны. Из дома вышел Абд-ас-Самад. Увидев Навои, он развалистой походкой подбежал к нему и, приложив жирные мягкие руки к груди, поклонился. На его пухлом, словно намазанном маслом лице блуждала смущенная улыбка. Навои с легкой насмешкой о голосе сказал:
— Вы приехали послужить нам на чужбине? Спасибо! — и ушел в комнаты.
Дед Абд-ас-Самада во времена Шахруха Мирзы был палачом: мастерски сносил головы и вешал, рубил руки и ноги. Особенно ловко он умел сдирать с человека кожу и набивать ее соломой. Абд-ас-Самад еще ребенком слышал много раз об этом от отца, сторожа тюрьмы при Мирзе-Абу-Саиде. Однажды ночью отца Абд-ас-Самада нашли возле тюрьмы залитого кровью. Его убили бежавшие из тюрьмы заключенные. Абд-ас-Самаду исполнилось тогда десять лет. Это был трусливый, хитрый и скрытный мальчик. Вскоре мать его снова вышла замуж. Отчим невзлюбил Абд-ас-Самада. Мальчик почти не жил дома. Каждое утро на рассвете он выбегал на улицу, весь день рыскал по базарам и только в сумерки возвращался домой. Чтобы не мозолить глаза отчиму, он забивался спать куда-нибудь в угол.
Целыми днями он вертелся, как муха, около харчевен и в конце концов попал в ученики к торговцу говяжьими вареными головами. До пятнадцати лет он рубил дрова, разводил огонь, чистил очаг, ел вдоволь дешевого супа из коровьих голов, глодал кости, тщательно высасывая мозг, и очень растолстел. Теперь уже он и не думал ни о каком ремесле, кроме поварского. Однажды, поссорившись из-за пустяков со своим хозяином, Абд-ас-Самад ушел от него и поступил в харчевню, где готовились более тонкие блюда. Прошло несколько лет, и не осталось хорошего кушанья, которого Абд-ас-Самад не сумел бы состряпать. Его пригласили поваром во дворец. Здесь перед ним открылась закулисная жизнь придворной знати. Под внешним блеском, ослепительной роскошью и пышностью он увидел грязный разврат, интриги и склоки. Завеса утонченности, изысканного обращения и всевозможных церемоний прикрывала окровавленные кинжалы, обман, предательство. В этом кругу Абд-ас-Самад почувствовал себя как рыба в воде.
Когда Маджд-ад-дин достиг вершины власти, он начал устраивать у себя во дворце торжественные приемы. Абд-ас-Самад сумел показать свое искусство во всем блеске и заслужил внимание Маджд-ад-дина. Проводив гостей, опьяневший везир собирал обычно больших и малых слуг, приближенных и нукеров и несколько минут болтал с ними, разрешая допить и доесть остатки. Абд-ас-Самад втерся к нему в доверие, как кошка в дом.
Однажды после приема, случайно оказавшись наедине с везиром, Абд-ас-Самад намеком заговорил о тайных делах, происходивших во дворце и гареме. Заинтересованный Маджд-ад-дин ловко выведал у него несколько тайн. Между везиром и внуком палача установилась тесная связь.
И вот теперь, получив тысячу динаров и заручившись обещанием получить еще пять тысяч, Абд-ас-Самад по тайному поручению Маджд-ад-дина приехал в Астрабад.
Однако свершить преступный замысел, казавшийся столь легким в Герате, здесь представлялось почти невозможным. Все слуги Навои, кроме Хайдара, обращались с новым поваром дружески, но по выражению глаз, по каким-то едва уловимым намекам Абд-ас-Самад чувствовал их затаенную враждебность и подозрительность, и если все следили за ним в два глаза, то Шейх Бахлул — в четыре. Абд-ас-Самад решил спрятать на время отравленное острие преступления в ножны коварства. Чтобы ни у кого не оставалось и тени сомнений в его добропорядочности, он прикрыл свое жирное, маслянистое лицо маской чистосердечия и простодушия.
Так прошло два месяца. Недоверие к Абд-ас-Самаду значительно ослабло. Даже Шейх Бахлул, всячески скрывавший от Абд-ас-Самада письма, приходившие на имя Навоя, стал последнее время менее подозрительным.
На третьи месяц Абд-ас-Самад получил из Герата тайное безыменное письмо. В письме его упрекали в предательстве и приказывали, если он хочет сохранить жизнь, немедленно выполнить поручение. Змея злодеяния вновь зашевелилась в груди Абд-ас-Самада и выпустила жало.
Навои, возвратившись из дивана, велел позвать к себе Шейха Бахлула. Без него дом казался поэту пустым. Хасан Сайях доложил, что Бахлул недавно вышел по какому-то делу. Поэт прошел в свою комнату, намотал чалму на колышек, надел остроконечную ермолку и прилег на подушки. «Чар-диван» приведен в порядок. Ему снова пришла на память «Беседа птиц» Ферид-ад-дина Аттара. Ребенком в школе он читал это произведение; оно пленило его детское сердце. В водовороте годов и событий эта любовь сохранилась во всей ее чистоте. Желание перевести «Беседу птиц» или написать новое произведение на ту же тему на родном языке время от времени волной поднималось в сердце Алишера. Однако астрабадские настроения не располагали к такой работе. В душе поэта горел гнев против врагов истины, против темных сил, стремившихся погубить его в расцвете сил.
Навои принялся перелистывать книгу. Ему попались на глаза рисунки и орнаменты Бехзада. Наслаждаясь игрой красок и линий, Навои забыл обо всем. Он размышлял о несравненном таланте, воспитанном его заботами.
«Какие чудеса творит теперь Бехзад?»—думал поэт.
Сердце его наполнилось тоской по близким, по любимым ученикам. Вдруг он поднялся, взял с полки кисть и лист бумаги. Ему уже давно не приходилось упражняться в рисовании: теперь он вздумал изобравить льва с человеческой головой. От шеи льва направо и налево пойдут две толстые цепи, концами привязанные к кольям. Но закованный в цепи лев все же горд…
Замысел понемногу оживал на бумаге. Поэт долго, с увлечением работал. Когда набросок был закончен, вошел Хайдар. Подойдя к художнику, он изумленно воскликнул: «Господин Алишер Навои в цепях!» Навои многозначительно улыбнулся и, словно возражая, покачал головой.
— Все люди поймут так же, как я! — воскликнул Хайдар, разглядывая рисунок.
— Будет время, еще поработаем над этим, — проговорил Навои.
Он отложил листок в сторону и сказал Хайдару, что желает с ним поговорить. Хайдар уселся на ковре и устремил на поэта беспокойные глаза. Навои сообщил, что, не имея права лично поехать в Герат, он решил послать туда Хайдара с поручением. Эта новость привела юношу в восторг.
— Когда? Каково будет поручение — спросил он.
— Вы поедете на этой же неделе. Поручение? Сообщить султану о некоторых делах.
Когда обрадованный Хайдар выходил из комнаты, вошел Абд-ас-Самад. Он охал и потирал повязанный платком лоб.
— Что с вами? — спросил Навои.
— Болен, три дня трясет всего, — вяло ответил Абд-ас-Самад. — Болезнь ломает мне кости, господин. Навои посоветовал показаться врачу. Абд-ас-Самад пренебрежительно махнул рукой.
— Здешние врачи никуда не годятся. Сам приготовил себе домашнее средство. — Он минутку помолчал, потом продолжал: — У ничтожного раба есть к вам просьба — отпустите меня на этих днях в Герат. Хотя для меня — счастье лизать ваши следы, все-таки нужно съездить домой. У меня ведь есть дети. Каждым день я вижу дурные сны. Не откажите вашему рабу в просьбе.
Абд-ас-Самад обычно казался очень веселым. Видя этого насмешливого человека таким унылым, Навои пожалел его. «Наверное, крепко соскучился по сыновьям», — подумал поэт. Однако он не дал решительного ответа.
— Вас послали люди из столицы. Им и следует решать, что вам делать. Не так ли? — мягко сказал Навои.
— Если вы меня отпустите, что могут возразить в столице! Выше вашего решения нет ничего, — сказал Абд-ас-Самад, прикладывая руку к груди.
— Хорошо, мы еще подумаем. Не утруждайте себя, полежите, отдохните.
Абд-ас-Самад еще раз повторил свою просьбу и, охая, вышел.
Навои прилег на подушки. Глаза смежились в лёгкой дремоте. Час спустя вошел Хасан Сайях и разостлал дастархан. Он принес в фарфоровой чашке суп с плававшим в жиру рубленым мясом и лепешки. Навои разломил лепешку и шутливо сказал:
— Абд-ас-Самад, кажется, собирается уехать и оставить нас сиротами.
Хасан Сайях, пощипывай редкую, седеющую бородку, поднял правую бровь и недовольно ответил:
— Нельзя верить его словам. Сегодня скажет одно, завтра другое. Да и про болезнь он тоже врет.
— Как? Ведь он даже пожелтел!
— Выпил слабительного, — уверенно сказал Хасан Сайях и махнул рукой. — С вечера до утра так храпит, что за целый фарсах слышно. По правде, я не совсем понимаю, чего ради он сегодня прикинулся больным. Он для меня — самая трудная загадка в мире.
Навои спросил, присутствовал ли Шейх Бахлул при приготовлении пищи. Оказалось, что тот еще не вернулся. В голосе Навои Хасану почудилась подозрительность, и он обиженно сказал, что сам готовил еду. Вдруг он вспомнил, что когда кушанье наливали в чашку, Абд-ас-Самад бродил по кухне. Сердце Хасана забилось.
— Господин, не пробуйте кушанье! — испуганно крикнул он и, взяв чашку, вышел.
Навои был несколько смущен. Правы гератские друзья, в своих письмах советовали поэту ходить по ночам с верными нукерами, а также быть осторожным в отношении пищи. Но сейчас Навои показался сам себе слишком подозрительным.
«Нехорошо так обижать людей. Нет более хрупкой вещи, чем сосуд сердца», — подумал поэт, сожалея о случившемся. Он съел ломоть лепешки с тмином. Внезапно вошел Хасан Сайях. Он весь дрожал.
— Беда случилась, господин, — невнятно сказал Хасан — Я взял похлебку, поставил перед Абд-ас-Самадом. «Господин эмир, говорю, уже откушали, давай поедим вместе». Клянусь богом, он весь посинел, и язык у него будто отнялся. Схватил чашку, — хотел во двор выбросить. Да нет, я ему не дал. Вылил похлебку собаке. Господин, здесь что-то неладно.
Навои резко поднялся.
— Не ошибаетесь ли вы? Не пустая ли это выдумка? — сказал он, хмурясь.
— Нет, помилуйте, беда, — настаивал Хасан Сайях. Когда они выходили из комнаты, в прихожей появились Шейх Бахлул и Хайдар.
— Все благополучно? — испуганно спросил Шейх Бахлул, глядя то на Навои, то на Хасана Сайяха.
Хасан Сайях, заикаясь от волнения, рассказал ему о случившемся. Хайдар выхватил кинжал из-за пояса и бросился во двор.
— Недоказанное подозрение. Зачем так суетиться? — недовольно сказал Навои Хасану Сайяху. — Бегите, задержите Хайдара, отнимите у него кинжал.
Шейх Бахлул и Хасан Сайях побежали следом за Хайдаром.
Навои вернулся в комнату и сел на прежнее место. Сердце у него усиленно билось. Во всем теле появилась слабость. Уголком глаза поэт взглянул на закованного льва.
Через несколько минут Шейх Бахлул и Хайдар возвратились.
— Все правда. Абд-ас-Самад бежал! — воскликнул Шейх Бахлул, облизывая пересохшие губы.
— Пусть хоть на небо взлетит, ему не уйти от меня! — закричал Хайдар. — Мы послали ему вслед нукеров. Я его заставлю выпить яд, а если откажется, сдеру с него шкуру.
— Для этого мерзкого человека любого наказания мало, — сдавленным голосом сказал Шейх Бахлул. Глаза его были полны слез.
Вбежал Хасан Сайях, в лице у него не было ни кровинки:
— Пес-то подыхает! Пнешь его ногой, и то не встает, — сказал он.
Навои с искренним сожалением покачал головой:
— Напрасно погибает собака. Зачем вы это сделали? Вы же знаете, собака — самая верная тварь.
Навои вытер со лба холодный пот. Его глаза, светившиеся всегда чистым огнем мысли, вдохновения и любви, теперь горели негодованием.
— Кто такой Абд-ас-Самад? Слабый, сбившийся с пути раб, существо, лишенное разума, — взволнованно сказал он. — Настоящие палачи, убийцы, гнусные преступники — в Герате. Они занимают высшие должности. Предатели! Они не знают цены нашей быстротечной жизни. Они похожи на холодный осенний ветер, от которого блекнут краски в цветниках. Друзья мои, это самые несчастные создания на свете. Счастье состоит в том, чтобы видеть, как радуются другие.
Они же пытаются достигнуть счастья, топча жизнь своих ближних, не знают они, что в этом корень их несчастья. Увы, судьба народа и родины — в руках этих насильников и злодеев. Мне было бы в тысячу раз легче и приятнее каждый день глотать яд, чем видеть все эти несправедливости.
Шейх Бахлул опустил покрасневшие от слез глаза и хранил молчание. Хайдар, вне себя от волнения, то садился, то снова вскакивал. Не в силах успокоиться, он отправился на поиски Абд-ас-Самада. Вечером, усталый, вернулся он ни с чем — Абд-ас-Самад бесследно исчез. Навои решил, что его спрятали подосланные люди.
Поиски продолжались всю ночь, а под утро обезглавленное, залитое кровью тело Абд-ас-Самада нашли в глубоком овраге.
Глава двадцать шестая
Арсланкул кое-как позавтракал и надел рабочее платье. Когда он собрался уходить на хийябан, где уже две недели работал на постройке здания, раздался стук в ворота.
— Наверное, опять пришли сборщики налогов, — досадливо сказала Дильдор. — Сколько еще динаров осталось? Дайте деньги, избавьтесь от этой беды.
— Душа моя, что я могу дать? Мне еще не заплатили за работу. Маджд-ад-дин каждую неделю выдумывает новые налоги. Ей-богу, я когда-нибудь выкину этих сборщиков за ворота.
— Легче, легче, сынок! «В животе пустота, зато в ушах тишина!»—крикнула ему вслед старуха.
На улице Арсланкул увидел высокого, здорового старика — старосту квартала. Арсланкул, приложив руку к груди, поздоровался. Староста стукнул палкой землю и по обыкновению начал ругаться. Если Арсланкул еще раз пропустит молитву, он скажет мухтасибу, и Арсланкулу перед всем народом всыплют сорок палок. Зная, что с этим стариком, который управлял кварталом, как наездник лошадью, шутки плохи, Арсланкул обещал больше не пропускать молитвы и хотел продолжать путь.
— Не спеши, сынок, — сказал старик, хватам Арсланкула за плечо. — С сегодняшнего дня начинаются празднества по случаю свадьбы царевича Музаффара-мирзы. Мы живем не в каком-нибудь тупике, а на проезжей улице. Нужно украсить все дома и дувалы. Приказ султана. Принимайтесь за дело!
— Я опаздываю на работу! Меня ждут мастера.
— Какая там работа! Сегодня все мастера строят помосты и балаганы, — махнул рукой староста.
Арсланкул, которому приходилось уже быть свидетелем пышных празднеств, не стал возражать старику. Посмотрев вдаль, он увидел, что лавочники заняты украшением лавок, Староста еще раз повторив свои наказ, пошел оповещать тех, кто жил ниже. В это время из домов вышли соседи Арсланкула—ткач, гончар и портной.
— Что вытащили уже атлас, бархат да шелковые ковры? — пошутил Арсланкул.
Тощий, кривобокий ткач, засунув одну руку за туго затянутый поясным платком грязный халат, другой задумчиво скреб затылок.
— Чудеса! — сказал он. — Ведь только недавно справляли обрезание Музаффара-мирзы.
Длинный, худощавый гончар в большой синей, кое-как намотанной чалме с расстановкой ответил:
— Государь все ищет развлечений. Сахиб-Киран эмир Тимур всю жизнь провел в походах, а наш султан только веселится да забавляется. Что ж, его дело… Но ради празднеств опустошают казну, а потом опять начинают выжимать налоги.
— Нужно же платить за то, что вас развлекают, — насмешливо улыбаясь, сказал Арсланкул.
— Если я смогу купить от базара до базара кадак[101] халвы ребятам, их радость будет для меня самым лучшим развлечением, — сказал ткач, обремененный большой семьей.
Маленький портной с красивыми усами, страстно любивший празднества, игры и смех и старавшийся ни видом, ни словом показать своей бедности, возразил:
— Веселье — это украшение жизни. Наше счастье, что во времена столь веселого султана мы можем наслаждаться зрелищами. Увидите, это будет такой той, что ни словом сказать, ни пером описать. О празднествах в честь мирзы Бади-аз-Замана до сих пор поют песни. Теперь и они померкнут.
Словно главный распорядитель на докладе у государя, портной принялся рассказывать о предстоящих увеселениях. Наконец он сказал, понизив голос и сопровождая свои слова многозначительными жестами:
— Музаффар-мирза — любимый сын государя. Значение Хадичи-бегим всем известно. А невеста — Ханзаде-бегим — дочь Бади-аль-Джамаль-бегим, младшей сестры государя. Ах, замечательный будет той!
Ткач и гончар, насмешливо улыбаясь, слушали болтливого соседа. Потом, ничего не ответив, разошлись по домам. Портной отправился посмотреть, как украшают свои дома окрестные богачи и знатные вельможи.
Арсланкул нерешительно потоптался на месте и тоже пошел домой. Он сообщил новость женщинам. Дильдор рассказала, какие платья сшили себе к этому празднику невестки даруги и дочери шейх-аль-ислама и главного есаула. Когда она начала вспоминать, какие пиры происходят в дни праздника во дворце на женской половине, ее муж воскликнул:
— Что ты, душа моя, рассказываешь сказки!
— Ах, кабы это были сказки! Я ведь вам только самый кончик приоткрыла, — засмеялась Дильдор..
Муж и жена стали советоваться, как украсить стены, выходящие на улицу. Дильдор, как всякая женщина, любила украшения и считала, что они поддерживают честь семьи. Она серьезно задумалась. Арсланкул, всегда говоривший: «Есть — так есть, а нет — так потом больше будет», — теперь видя, как увлечена его жена, тоже принял участие в хлопотах. На счастье, у них нашелся довольно большой ковер, отданный на сохранение одним другом. — Дильдор вынула из сундука два куска атласа, который она берегла, чтобы сшить платье себе и уже подросшей дочке. Тетка нашла у себя сюзане.
К полудню все стены украсились цветной материей, сюзане, ковриками, ярко сверкавшими в лучах еще горячего осеннего солнца. Зрелище было удивительное. Дома богачей и крупных чиновников были сплошь украшены редкими тканями, переливающимися на солнце. От ярких красок рябило в глазах. Резкий на язык староста немало потрудился, чтобы как можно богаче и роскошнее украсить свой квартал, расположенный на большой дороге: шелковые материи из бездонных сундуков богачей и чиновников скрыли обветшалые, покосившиеся стены хижин бедняков. Для наблюдения за порядком староста через каждые два шага расставил сторожей.
Больше всех наслаждался торжеством портной. Он выпросил на время у кого-то несколько сюзане, которые во что бы то ни стало хотел выдать за свои ссбственные, и с чисто женским искусством украсил ими покосившиеся стены дома. Потом он вместе с другими зрителями ходил по городу, останавливаясь на каждом шагу, с видом знатока рассуждал о цвете и сортах тканей, — о месте их изготовления и о рисунках сюзане. Некоторые поэты, умевшие легко и быстро сочинять стихи на любое выдающееся событие, проходя по сверкавшим, как павлиньи перья, улицам, декламировали подходящие к случаю четверостишия Но вскоре люди перестали останавливаться в этих местах Все только и говорили о дороге между Пуль-и-Маланом и садом Джехан-Ара, по которой должна была проехать невеста для заключения брачного договора.
Наслушавшись восторженных рассказов о роскошных украшениях, Арсланкул вместе с другими вошел в направлении сада. Ворота и величественные арки стены сада Джехан-Ара и фасады павильонов дворцов — все было сплошь затянуто индийскими и египетскими тканями и дорогим китайским атласом. Выделялись некоторые ткани с золотыми и серебряными цветами, горевшие на солнце белым и красным пламенем.
«Украшения нашего квартала, даже самые лучшие, годятся разве на потник для осла», — подумал Арсланкул и пошел дальше, изумленно глядя по сторонам.
Все дома, лавки и ограды садов по обе стороны дороги были покрыты щелками. Только краски, цветы и блеск были различны, и, куда ни смотрел Арсланкул, всюду видел все ту же картину. Когда налетающий ветер колебал волны безбрежного моря шелка, зрелище становилось совершенно фантастическим.
На видных местах спешно воздвигали высокие помосты: прославленные живописцы покрывали дерево волшебным одеянием своего искусства.
Пройдя целый фарсах, Арсланкул достиг Пуль-и-Малана. Обилие впечатлений утомило его. Он поглядел издали на диковинки, собранные в том месте, где должны были встречать невесту, и сел в сторонке под деревом. Прислонившись к стволу высокого дерева, Арсланкул закрыл глаза и задумался. Мысли его постепенно прояснились.
«Если бы собрать все эти драгоценные вещи и раздать гератским сиротам, они по крайней мере лет десять могли бы не носить лохмотьев, — грустно Думал Арсланкул. Недаром говорят, что на голову нашего султана опустилась птица счастья. Все для него готово. Все, что он только не пожелает, легко исполняется». Арсланкул долго думал об этой птице, и ему вспомнились слова Навои:
Арсланкул как-то говорил с Султанмурадом о причине изгнания Навои в Астрабад, и ученый прочитал ему эти строки, подробно разъяснив Арсланкулу их смысл. Султанмурад сказал:
— Поняли вы или нет, в чем тут дело? Навои — великий поклонник истины. Каждое его слово — факел истины, голос совести, это не нравится государю и окружающим его высшим чиновникам, царедворцам и вельможам. Негодяи, которые умножают свое богатство, обворовывая народ, трепещут перед поэтом, благородным защитником народа. Они боятся Навои, как летучая мышь солнца. Они хотят заглушить громкий голос, разоблачающий их преступления.
Вспомнив это, Арсланкул махнул рукой и решил: «Птица власти падишаха, должно быть, хищная птица!»
В это время кто-то легонько тронул его за плечо. Арсланкул сердито обернулся, но тут же с улыбкой вскочил. Перед ним стоял Зейн-ад-дин.
— Хорошо подремали? — как всегда весело, сказал он. — Сколько кувшинов с золотом вы нашли на дне моря мечтаний? Любовались ли на эти диковины?
Арсланкул, покраснев, кивнул головой.
— Той продлится семь дней, еще хватит времени насмотреться, — продолжал Зейн-ад-дин. — Идемте! Есть и другие интересные зрелища.
Они остановились перед главным входом в Баг-и-Заган. Зейн-ад-дин перекинулся несколькими словами с распорядителями тоя и незаметно провел своего спутника в сад. Они немного погуляли, потом Зейн-ад-дин увидел шахматистов, расположившихся на ковре под деревом, и забыл обо всем на свете. Арсланкул пошел один бродить по великолепному саду, о котором он так много слышал. По аллеям прогуливались надменные вельможи, чиновники, щеголеватые молодые люди, блиставшие одеждой, разговором и изящными манерами. Арсланкул сперва чувствовал себя неловко. Но сотни нукеров и работников сновали повсюду, нанятые своим делом, и никто не замечал их. Это приободрило Арсланкула. Только теперь он понял, что означают слова «пышность» и «великолепие». По случаю тоя Баг-и-Заган с его многочисленными древними дворцами выглядел еще роскошнее, чем всегда. Чего только там не было! Творчество самых знамениты» художников, живописцев и зодчих Герата нашло здесь прекрасное, многообразное воплощение. В глубине сада, перед сверкающими, словно волшебное зеркало, хаузами каждый из четырнадцати сыновей государя построил для себя роскошно украшенный дворец. В каждом дворце царевичи пируют со своими джигитами, приближенными и гостями. В четырнадцати местах пир!
Арсланкул издали любовался дворцами царевичей. Только у старшего сына Бади-аз-Замана-мирзы пиршество происходило без шума, а царевич был одет, как обычно. Во дворце горбатого Гариба-мирзы, недурного стихотворца, пировали поэты, музыканты и певцы. Притаившись за деревом, Арсланкул долго слушал пение и музыку.
Вот царские чертоги Музаффара-мирзы. Пятнадцатилетний жених одет в халат с золотыми цветами. На аккуратно намотанной чалме, надо лбом, сверкают крупные драгоценные камни. На кончике чалмы колышется джига.[102] Справа от Музаффара-мирзы горделиво восседает Туганбек. Все джигиты блистают сшитыми для тоя роскошными халатами, украшенными драгоценными камнями. Молодые красивые кравчие с изящными поклонами и мягкими, как у девушек, движениями подносят одну за другой золотые чаши.
Арсланкул, скрежеща зубами; посмотрел на Туган-бека и быстро пошел дальше. Выйдя из-за деревьев, он невольно зажмурил, глаза, ослепленный сверкающими золотыми лучами.
Подойдя ко дворцу, перед которым не было никого, кроме двух нукеров с копьями, он в удивлении остановился. Лепные орнаменты и рисунки из золота на ярком лазурном фоне ошеломили его. Он увидел одного знакомого водовоза, и тот рассказал ему, что султан выстроил это удивительное здание специально для себя, что по ночам тут происходят шумные пиршества, на которых султан, беки, везиры и даже сам шейх-аль-ислам иногда напиваются допьяна.
Водовоз потащил Арсланкула на кухню, усадил его и принялся угощать, Арсланкул разговорился с работниками кухни, они были подпоясаны камышом, лица их были выпачканы сажей. Рассказав обо всем что видел, он лукаво улыбнулся я тихо произнес:
Правильные слова! — Кто это сказал? — спросил молодой работник.
— Сам догадайся кто. Самый правдивый поэт в нашем городе, — ответил Арсланкул.
— Ну, конечно, наш Алишер! — убежденно воскликнул работник.
— Если Маджд-ад-дин Мухаммед будет и дальше управлять страной, если государь устроит еще один — два таких пира, то у людей не останется в жилах ни капли крови, — с расстановкой сказал водовоз.
Все принялись толковать о достоинствах Навои, о его судьбе, о встречах с поэтом, и эта теплая задушевная беседа затянулась надолго.
По случаю тоя на многочисленных гератских площадях, в частности на Хауз-и-Махияне и на Ид-Гахе, каждый день происходили гулянья. Хусейн Байкара, а с ним и все царевичи и вельможи, восседая на особом помосте, смотрели конские скачки, игру в чавган, борьбу, бои на палках и тому подобные забавы. Как истый затейник многих из этих состязании, султан сам называл победителей.
На седьмой день — день заключения брачного договора — торжество достигло высшей точки. Звуки барабанов и карнаев, доносившиеся с высоких порталов медресе и городских укреплений, раздирали воздух. На улицах и дорогах волновалось человеческое море.
Вечером тысячи людей устремились к Пуль-и-Малану, чтоб встретить невесту. Там уже шумела пестрая толпа — джигиты из личной свиты Музаффара-мирзы, вздымавшие на дыбы коней в роскошной сбруе, надменная пышно одетая гератская знать и сотни музыкантов, певцов, забавников. Высоко подвешенные факелы рассеивали сгущавшиеся сумерки, заливая вокруг все волнами света. На слонах, украшенных от хвоста до хобота коврами и шелковыми попонами, возвышались пестрые носилки. На них гордо восседали погонщики в диковинного покроя одеждах.
— По обе стороны дороги от Пуль-и-Малана до сада Джехан-Ара, украшенной индийскими, китайскими и египетскими тканями, выстроились музыканты и певцы. Через каждые несколько шагов были расставлены маленькие, словно игрушечные, супы. На супах[103] сидели, закрыв лица кружевными платками, придворные женщины и невольницы, ожидая невесту, чтоб осыпать ее серебром и золотом.
Внезапно воздух огласили крики: «Невеста едет!»
Невесту Ханзаде-бегим, выехавшую из своего жилища со свитой на десятках разукрашенных повозок, осененных навесами, шумно приветствовал прежде всего Пуль-и-Малан. Царевна, окруженная молодыми женщинами, стояла под огромным сюзане, которое держали над нею невольницы. Беки и джигиты Музаффара-мир-зы во главе с Туганбеком выстроились перед Ханзаде. Знатные женщины, посланные из дворца Хадичойбегим, поздоровавшись с невестой и ее близкими, осыпали всех горстями золотых и серебряных монет. Люди, давя друг друга, подбирали монеты; со слонов посыпались новые пригоршни денег. Звуки музыки, голоса певцов, ржание лошадей, рев толпы наполняли воздух.
Вслед за слонами двигался поезд невесты. Музыканты, стоявшие по обеим сторонам дороги, под звуки лютней, тамбуров, ситаров,[104] бубна и ная медленно и торжественно направлялись к саду Джехан-Ара. Женщины, окружавшие невесту, затянули свадебную песню.
Невольницы под восторженные крики толпы бросали на землю горсти монет, вложенных в скорлупки миндаля и фисташек; при ярком свете факелов миндалины рассыпались раскаленным дождем горящие угольков.
Когда торжественное шествие достигло огромных ворот сада Джехан-Ара, воцарилась мертвая тишина. В большом летнем зале шейх-аль-ислам, окруженный выдающимися учеными города, слабым тонким голосом, запинаясь, прочитал брачный договор. После оглашения договора Хусейн Байкара собственноручно осыпал голову невесты дождем золотых монет. Девушки, спутницы невесты, осыпали деньгами жениха — Музаффара-мирзу. Снова со всех сторон поднялись веселые крики. Торжественная свадебная музыка, словно весенний паводок, мощной волной разлилась по огромному саду.
Арсланкул принялся искать в толпе Дильдор, которая должна была прийти с соседскими женщинами полюбоваться зрелищем, но не мог ее найти. Усталый, он вышел из сада. На большой освещенной факелами площади он увидел всадника, который быстро скакал через площадь. Шагах в пятидесяти от Арсланкула всадник остановился, задержанный несколькими нукерами. Человек этот, о чем-то пререкавшийся с нукерами показался Арсланкулу знакомым. Арсланкул быстро подбежал к нему и взял под уздцы взмыленного, тяжело поводившего боками карабаира. Сильно захмелевший Хайдар с неловкостью пьяного слез с коня.
Арсланкул принялся расспрашивать его о здоровье Алишера. Хайдар, устремив горящие гневом глаза на дворец, злобно сказал:
— Свадьба, праздник, преступление — все тут!
— Что случилось, Хайдар-бек? — испуганно прошептал Арсланкул.
— Ничего не случилось! — махнул рукой Хайдар. Арсланкул отвел коня в сторону и привязал его.
Чувствуя, что Хайдар чем-то раздражен, он растерянно топтался на месте, не зная, что сказать. Вдруг он увидел Султанмурада и Зейн-ад-дина, которые быстро направлялись куда-то — Арсланкул громко позвал их. Оба подошли и обнялись с Хайдаром.
— Сабухи, — обратился к нему Султанмурад, — скажите, как поживает господин Алишер?
— Благодарение богу, жив и здоров. Коварный Маджд-ад-дин разбил себе лоб о камень вечной истины.
Султанмурад попытался образумить Хайдара.
— Подумайте о том, где вы находитесь!
— Я привез царевичам гневный привет от Алишера, — гордо сказал Хайдар. — Друзья мои, я намерен немного отравить им праздник. Где те, кто спрятал в рукаве кинжал?
Султанмурад что-то прошептал Зейн-ад-дину на ухо и сейчас же скрылся. Зейн-ад-дин ловко сумел отвлечь внимание Хайдара. Он хорошо знал его нрав.
— Вам нужно отдохнуть, вы устали, — обратился к Хайдару Арсланкул.
Хайдар быстро раскис и уныло, растерянно оглядывался по сторонам. Вскоре появился Султанмурад, ведя за собой Баба-Али. Ишик-ага, широко расставив свои длинные могучие руки, отечески обнял Хайдара и ласково заговорил с ним. Потом он посадил Хайдара в седло, мгновенно отыскал коня для себя и увез юношу домой. Султанмурад долго смотрел им вслед, потом сказал, горестно покачивая головой:
— В Астрабаде, несомненно, произошли страшные события, а в Герате справляют праздник!
— Надо радоваться, — шепотом сказал Зейн-ад-дин.
— Проделки устроителей праздника будут разоблачены, и они опозорятся в глазах народа. Султанмурад и Арсланкул, печально кивая головами, подтвердили его слова. Потом все трое в тягостном молчании двинулись в путь и скрылись во тьме.
Утром Хайдар проснулся и протер глаза. Он лежал в маленькой знакомой комнате с золотым солнцем на потолке. Верхняя половина стен была украшена орнаментом и назидательными четверостишиями.
Поняв, что он в доме Баба-Али, Хайдар обрадовался. Хотя утомленное долгой верховой ездой тело наслаждалось приятным отдыхом, в ногах и пояснице еще чувствовались усталость и боль. Хайдар с удовольствием потянулся и продолжал лежать. Все, что он видел вчера ночью в саду Джехан-Ара, — факелы, украшения, шумные толпы народа — представлялось ему сном.
За дверью послышался голос Баба-Али, отдававшего приказания слугам. Хайдар встал с постели, и, как всегда, не спеша оделся. Едва он успел умыться в прихожей из маленького медного кувшина, как вошел слуга, убрал постель и привел комнату в порядок.
Хайдар позавтракал с хозяином дома. Хорошо зная характер Хайдара, Баба-Али старался внушить ему, что необходимо придерживать язык за зубами и отличать врагов от друзей. Не желая читать Хайдару наставления, Баба-Али ограничился намеками. Он обещал, если Хайдар придет в полдень во дворец, провести его к султану, и ушел.
Хайдар бегло просмотрел книги, расставленные на полке. Полюбовался нарядной, красиво переписанной рукописью произведения Хилали «Шах и нищий». Прочитав некоторые места, он открыл последнюю страницу: переписывал Зейн-ад-дин. Хайдар снова перелистал книгу и, внимательно всмотревшись в почерк, нашел, что Зейн-ад-дин ничуть не уступает самым знаменитым гератским писцам. Он решил поручить Зейн-ад-дину переписку книг, которые заказал Навои.
Вложив деловые бумаги в папку, Хайдар взял ее под мышку и вышел на улицу. Ему хотелось подышать воздухом родного города и развеселить стосковавшееся по его красотам сердце.
Хайдар заглянул к переплетчикам, побывал в некоторых медресе. Пока он болтал с друзьями, время подошло к полудню. Зная, что султан после полудня устраивает попойки и никого не принимает, Хайдар побежал во дворец. Баба-Али встретил Хайдара с укоризной и велел ему идти к султану.
— Государь один? — взволнованно спросил Хайдар. — Если нет, я не пойду.
Баба-Али утвердительно кивнул головой. Поклонившись по всем правилам этикета Хусейну Байкаре, который с мрачным видом сидел на золотом престоле, и получив разрешение сесть, Хайдар передал государю привет от Алишера. После этого он вынул из папки присланные поэтом письма и документы. Государь, не взглянув на них, приказал передать их в диван. Он спросил, как обстоят дела в Астрабаде. Хайдар подробно передал ему мнение Навои о положении дел. Хусейн Байкара довольно рассеянно выслушал его и осведомился, чем занят теперь поэт, каково его настроение. Хайдар сказал, что мысли Навои всегда заняты делами страны и народа и, помолчав немного, продолжал:
— А что касается настроения, то в последнее время, сердце господина эмира разбито, душа его разрывается от горестей и забот. Он не знает, как выйти из трудного положения, и кипит гневом.
— О чем вы говорите? Что произошло? — султан насторожился и пристально посмотрел на Хайдара.
Хайдар заколебался. Он понимал, что лучше скрыть султана истину, но прирожденные свойства его характера взяли верх.
— Произошел случай, который бесконечно встревожил и разгневал господина эмира, — сказал он — Один из поваров государя, нашей защиты и опоры, покушался на жизнь господина Навои.
— Что за клевету вы распространяете! — вскричал Хусейн Байкара.
— Повар Абд-ас-Самад подмешал яду в кушанье господина эмира, — спокойно продолжал Хайдар, — но эмир, по милости божьей был предупрежден о беде и — сто тысяч раз благодарение аллаху! — остался невредим. Это грозное событие наполнило сердце эмира сомнением и беспокойством. Он уверен, что корни преступления здесь, в Герате.
Лицо султана стало иссиня-желтым. Раздувая ноздри, он тяжело дышал. Хайдар почувствовал себя очень неловко Он пожалел теперь, что высказался так откровенно, однако было уже невозможно что-либо изменить, Хусейн Байкара гневно закричал:
— Все это глупости! Не желаю больше вас слушать! Выйдите отсюда!
Хайдар поклонился государю, который холодно отвернулся, не отвечая на поклон, и, пятясь, вышел из комнаты. В передней его остановил ишик-ага.
— Вы никак не можете изменить своим привычкам, — горячо заговорил Баба-Али. — Ваша жизнь висит на волоске. Если вы хоть немного дорожите ею, прикусите язык, не раскрывайте рта.
Хайдар, ничего не отвечая, бросился к мраморной лестнице. Хусейн Байкара позвал Баба-Али и потребовал перо и бумагу. Баба-Али тотчас же подал ему отделанную золотом и серебром чернильницу, перо, украшенное мелкими драгоценными камнями, и стопку цветной бумаги. Распорядившись задержать Хайдара в Герате и учредить над ним строгий надзор, султан отпустил Баба-Али.
Оставшись один, Хусейн Байкара принялся обдумывать письмо к Навои и титул, которым следовало его величать. Рука султана, лежавшая на бумаге, дрожала. Хусейн Байкара считал себя неосведомленным о подготовке покушения. Однако он сознавал, что, имея в виду вражду Маджд-ад-дина и его приспешников к Навои и их давно подготовлявшиеся козни, можно было при некоторой бдительности обо всем догадаться. Он решил снять пятно, которое могло лечь на его имя, и потихоньку замять это дело. Дрожащей рукой он принялся писать.
Украсив письмо изъявлениями дружбы в длинных пышных фразах, Хусейн Байкара в конце добавил, что очень взволнован сообщением Хайдара, что подобная преступная мысль никогда не приходила ему на ум.
Сердце государя немного успокоилось. Появился Баба-Али и сообщил, что он довел только что отданное приказание до сведения соответствующих лиц. Хусейн Байкара сложил письмо, велел приложить к нему печать и немедленно отослать его к Навои с надежным гонцом.
В сверкающем золотыми цветами шелковом халате горделиво вошел Маджд-ад-дин для доклада о текущих делах. Взглянув в гневное лицо султана, везир удивился и, несколько растерявшись, занял свое обычное место. Он знал о приезде Хайдара, но приписывать дурное настроение государя этому обстоятельству не было никаких оснований.
Не осмеливаясь задавать султану вопросов, он сидел молча, низко опустив голову.
— В Астрабаде произошло крайне неприятное дело, — досадливо сказал Хусейн Байкара.
— Какие обстоятельства смутили ваше благословенное сердце? — спросил Маджд-ад-дин, наклоняясь к государю.
— Повар, которого вы послали, покушался на жизнь Алишера. Из этого, правда, ничего не вышло, но Алишер теперь имеет повод, чтобы очернить нас.
— Я ровно ничего об этом не знаю, о солнце мира! — сказал Маджд-ад-дин, стараясь придать своим глазам невинное выражение. — Это неприятное событие столь же неожиданно для вашего раба, как и для вас, покровитель вселенной!
— Вы давали повару тайные поручения? — гневно спросил Хусейн Байкара.
— Действительно, мы поручали этому негодяю некоторые дела, — пробормотал Маджд-ад-дин — но повар, видимо, превысил полномочия.
— Теперь об этом нет нужды спорить, — несколько смущенно проговорил султан. — Необходимо принять меры для сокрытия следов этого неприятного дела.
— Не беспокойтесь, о покровитель мира! — сказал Маджд-ад-дин несколько более твердым голосом.
— Чтоб в нужную минуту покончить с этим поваром, мы послали за ним следом тень смерти. — Хусейн Байкара с облегчением выпрямился. Маджд-ад-дин убежденно и горячо продолжал:
— Возможно, что Алишер, — воспользовавшись этим событием, открыто восстанет против нашей власти, установленной навеки аллахом. Следует ни на минуту не забывать о дружбе Алишера с Якуб-беком. Эту опасность необходимо предупредить.
По выражению глаз султана везир увидел, что он с ним согласен во всем. Маджд-ад-дин приободрился. Он ловко вставил несколько слов о том, что найдены новые источники для увеличения государственных средств. Хусейн Байкара разрешил везиру удалиться, а сам отправился в гарем, чтобы развеселить сердце.
Глава двадцать cедьмая
Хайдару взгрустнулось. Не потому, что он боялся наказания за свой проступок. Его огорчало другое: с тех пор как он приехал в Герат, прошло пятнадцать дней; он чувствовал себя одиноким, как никогда, и ощущал тягостный разлад с окружающей жизнью.
Хайдар жил в Унсии. Он много пил и ни с кем ве встречался, кроме Сахиба Даро, у которого он искал сочувствия. Но этот близкий друг Навои тоже был опечален, он тосковал по прежней жизни в Унсии, вспоминал прежние счастливые дни и писал печальные, безнадежные стихи, которые читал Хайдару! Правда, в Унсии жили все слуги, друзья и близкие Навои. Они по-прежнему исполняли свои обязанности. Иногда поэты и ученые собирались, как прежде, и устраивали беседы. Но не было того, кто придавал этому дому оживление и радость. Все тосковали по этому человеку, наполнявшему сердце надеждой, верой, весельем и любовью.
Хайдар и Сахиб Даро, два печальных друга, вышли из ворот Унсии и присели на маленькую супу. На синем небе трепетали гонимые ветром облака, похожие на белые платки. Солнце грело мягко, окрестные сады были еще зелены, хотя от них уже веяло осенью.
— Я намерен встать на путь аскетизма и отшельничества, — сказал Хайдар, в глазах которого светилась печаль. — Это единственный путь для сердца, жаждущего света, чистоты, истинной любви и высшей красоты. Тайна истины — в сердце дервиша. Отказаться от благ скоротечной жизни и жить в созерцании абсолютной красоты, — существует ли счастье более высокое и достойное человека?
Сахиб Даро, полагая, что это желание, мгновенно вспыхнувшее в душе Хайдара, столь же быстро угаснет, как и многие другие его намерения, пожал плечами и промолчал. Хайдар заговорил о дервишской философии. Приводя красивые строки из произведений Ферид-ад-дина Аттара, Джами и Навои, он читал их с увлечением настоящего дервиша. Сахиб Даро с удовольствием слушал.
Внезапно на извилистой дороге, тянувшейся среди стройных деревьев, появились, поднимая легкие облака пыли несколько всадников. Приставив руку к глазам, Сахиб Даро устремил взгляд вдаль. Вдруг он вскочил и закричал:
— Господин эмир едет!
— Да-да! Передний — это эмир, — подтвердил Хайдар.
Так в Унсию снова вернулась жизнь. Из всех комнат выскочили слуги, друзья и близкие Навои и бросились ему навстречу.
Навои сошел с коня, отряхнул полы одежды и поздоровался со всеми, найдя для каждого ласковое слово. Потом прошел в свою комнату. Там все осталось так, как было когда он уезжал из Герата. Освежившись купанием и сменив дорожное платье, Навои прилег на подушки. Немного отдохнув, он позвал Хайдара, Узнав, что произошло с султаном, поэт опечалился. Он попытался утешить племянника, мягко выговаривая ему. Вместо того чтобы чистосердечно рассказать всю правду, Хайдар принялся утверждать, что он ни в чем не виноват. Навои наставительно сказал:
— Лицемеры боятся правды. Говорить правду — великое достоинство. Но языку следует давать волю только тогда, когда это нужно. Не забывайте: жить возле государя — то же, что жить вблизи дракона с раскрытой пастью.
Навои оделся и отправился к султану. У ворот Унсии его ждала большая толпа окрестных жителей, прослышавших о приезде поэта и поспешивших его приветствовать. В глазах у всех светилась радость. Слышались взволнованные голоса.
— Наши глаза ждали вас на пути!
— Жизнь и счастье страны — с вами!
— Наши горести бесчисленны и бесконечны. Кроме вас, у нас; нет защитника.
— Пусть сгинут те, кто разлучил нас с вами!
Взволнованный Навои дрожащим голосом благодарил встречавших. Некоторых он расспрашивал о их жизни и работе. Толпа с каждой минутой увеличивалась. Навои заверил собравшихся, что его сердце, где бы он ни был, всегда с народом, и попросил всех разойтись по домам. До самого сада Джехан-Ара каждый встречный — будь то дервиш, вельможа, носильщик или ученый — приветствовал поэта, провожая его взорами, полными уважения и любви.
Поэт некоторое время погулял по саду, любуясь дворцовыми цветниками, по которым так долго тосковали его глаза. Когда он подходил к главному дворцу, ему навстречу вышел Хусейн Байкара со своими обычными собеседниками и собутыльниками. В числе их были Маджд-ад-дин, Эмир Могол, Туганбек. Навои приветствовал султана официальным поклоном. Вельможи подходили и пожимали поэту руку. Глаза Маджд-ад-дина выражали величайшую растерянность, но он все же справился с собой и льстиво проговорил:
— Ваш покорный слуга чрезмерно счастлив, что ему выпало на долю лицезреть вас, — сказал он, здороваясь с поэтом.
Хусейн Байкара провел Навои в небольшую, отделанную золотом комнату возле дивана.
— Вы ведь не получили от нас разрешения прибыть в столицу, — сказал он, тяжело опускаясь на подушки. — Мы вас совершенно не ожидали.
— Получив ваше письмо, — сказал Навои, словно дело шло о самых обыкновенных, вещах, — я временно поручил управление областью Валибеку и примчался в ваши высокие чертоги, чтобы разрешить все вопросы разумно и по справедливости.
Хусейн Байкара был смущен. Распутывая нити преступления, можно было опозорить многих близких к престолу людей, да и самому султану пришлось бы краснеть за то, что его так одурачили. Поэтому он решил не входить в подробности.
— Глупец Хайдар говорил о некоторых неприятных событиях. Он, наверное, выдумал их. Как бы то ни было, я написал вам письмо. Твердо уверен, что после этого письма у вас в сердце не осталось ни малейшего сомнения или подозрения. Что вы на это скажете?
— Мое сердце не склонно к злобе и вражде, — ответил Навои, — и я отнюдь не мечтаю об отмщении. Как лицо угольщика черно, а руки палача красны от крови, так и души негодяев пропитаны мерзостью. Их мерзость будет для них высшим наказанием и позором.
Хусейн Байкара засунул руку за золотой пояс я сидел подавленный, не зная, куда девать глаза. Молчание становилось все более и более тягостным. Оно как бы подтверждало верховенство истины. Наконец Хусейн Байкара заговорил.
— Теперь скажите, каковы цели вашего приезда?
— Мне не нужно никаких чинов или должностей. Дайте мне только высокое разрешение жить в Герате.
При сложившихся обстоятельствах султану трудно было, отказать. Навои в этой просьбе. Однако, желая показать, что исполнение желания поэта — большая милость со стороны государя, он стал возражать, придумывая всевозможные, противоречащие друг другу препятствия — одно другого слабее, которые Навои отметал, как щепки. Затем Хусейн Байкара поднялся с места.
— Делайте, как хотите, — сказал он. Навои поблагодарил и вышел.
Он шел по саду, каждый уголок которого дышал живой красотой. Подозвав проходившего мимо слугу, поэт спросил:
— Ты знаешь Бехзада? Где он теперь и чем занят?
— Знаю, господин, — ответил слуга, — он рисует в одной из комнат возле государева книгохранилища. Показать вам?
— Спасибо, сам найду, — сказал Навои. Бехзад бросился к своему наставнику и покровителю, как ребенок кидается к отцу, вернувшемуся домой после долгого путешествия. Он целовал поэту руки. Растроганный Навои спросил художника, как его дела, как он себя чувствует. Голос и взгляд Алишера были полны сердечной любви.
— Этой минуты я не забуду никогда, — справившись с охватившим его волнением, заговорил Бехзад. — Мое сердце было полно тоски и горя разлуки. Теперь его переполняют счастье и радость.
Художник попросил Навои присесть. Комната была полна света. В раскрытое окошко виднелось голубое небо и зеленая, мерно качающаяся стена аллей; вдали, среди деревьев, сверкало зеркало хауза. Посреди комнаты на маленькой круглой скамеечке стояли всевозможные краски в металлических и фарфоровых чашечках. Тут же лежали кисти, начатые и готовые рисунки.
Навои с горячим интересом принялся рассматривать миниатюры: «Царевич на охоте», «Верблюд, покрытый цветным ковром», «Встреча влюбленного с возлюбленной в саду». В каждой черточке, в глазах, намеченных одной точкой, в нежных пятнах красок Навои видел яркое биение жизни. Он снова и снова брал в руки рисунки, не в силах оторваться от них.
Налюбовавшись миниатюрами и горячо поздравив художника с замечательными успехами, Навои заговорил о возможностях живописи. Обросшее черной бородой, лицо Бехзада озарила мягкая улыбка.
— Господин эмир, — спросил Бехзад, — порвались ли цепи, сковывавшие льва?
Навои бросил на него быстрый взгляд:
— Это вам сказал Хайдар! Крайне легкомысленный юноша.
— Хайдар уверяет, что говорил об этом только мне, — ответил Бехзад. — Мне бы очень хотелось посмотреть этот рисунок.
— Мой рисунок похож на детскую мазню, — махнул рукой Навои.
— Закованный лев еще страшнее для тех, кто держит его в плену, — тихо проговорил Бехзад. — Если лев и склоняет шею под тяжестью цепей, то сердце его все равно остается непреклонным. Жаль, что люди не могут постигнуть этой простой истины.
— Ум и рассудок — свойства, присущие не каждому человеку, — иронически сказал Навои, сдвигая брови.
Бехзад разостлал маленький дастархан и хотел угостить своего наставника. Навои отказался. Попросив художника навещать его почаще, он собрался уходить, когда в комнату, запыхавшись, вошел Мухаммед Сайд Пехлеван. Они крепко обнялись. Мощная фигура Пехлевана, казалось, заполнила всю комнату. Хотя годы начали оказывать свое действие на могучего Мухаммеда Сайда, этот, никем не побежденный в сотнях состязаний богатырь казался еще полным сил. Навои, то и дело взглядывая на Пехлевана, снова сел. Беседа полилась легко, как бурливый поток. С приходом поэта Шейхима Сухейли и Ходжи Гияс-ад-дина Дихдара она еще более оживилась: стараясь развлечь Навои, каждый рассказывал о важных или забавных событиях, случившихся за последнее время в Герате.
Поэт вспомнил, что он еще в Астрабаде слышал о новых музыкальных сочинениях Пехлевана, и принялся расспрашивать — его. Бехзад взял с полки тамбур и подал его Мухаммеду Сайду.
— Говорить о музыкальных произведениях без музыки невозможно, — сказал он.
— Пусть тамбур расскажет нам об искусстве Пехлевана! — воскликнул Шейхим Сухейли.
Мухаммед Сайд подобрал рукава широкого светло-желтого чекменя, настроил тамбур могучими руками, привыкшими сжимать на арене мощный стан борца, и начал играть. Музыкант так живо и ярко передал на тамбуре тончайшие чувства и переживания, радости и горести чувствительного, любящего сердца, что слушатели забыли обо всем на свете. Но вот, с последним воплем души, звуки, музыки стихли. Голова Бехзада, окутанная большой чалмой, низко опустилась на грудь. Навои, словно расставшись с приятным сновидением, неохотно открыл глаза. Он сердечно поздравил своего друга с новым произведением.
Заговорили о других гератских музыкантах. Навои сказал, что нужно написать книгу о творчестве самых талантливых гератских музыкантов, в которой были бы собраны для будущих поколений все старые и новые песни и мелодии с нотными записями. Эта мысль понравилась всем.
К зеленому морю сада Джехан-Ара устремилось пламя заката. Издали доносились пьяные голоса собутыльников султана. Гости попрощавшись с хозяином, разошлись.
Навои отправился в библиотеку, находящуюся недалеко от Унсии. Это было красивое здание из десяти богато украшенных комнат. Каждая комната была расписана в ином стиле и, вкусе, чем остальные.
Во второй комнате поэт нашел Султанмурада и Зейн-ад-дина, которые беседовали среди книг при свете свечи. Навои поздоровался с молодыми людьми, как отец с сыновьями. Они посидели немного, разговаривая о всевозможных предметах.
— Ну что же, есть у них какое-нибудь основание обвинять вас в том, что вы сомневаетесь в существовании бога? — с улыбкой спросил Навои Султанмурада.
— Меня называют пантеистом, — ответил Султанмурад, — но я следую разуму и науке. Я признаю только их истины.
— Да, конечно, ученый ищет истину. При этом естественно впасть в сомнение, — серьезно сказал Навои. — Чтобы постигнуть тайны природы, ее надо изучить. В сущности, это никого не удаляет от бога. Ибо природа — великое зеркало, отражающее бесконечные проявления абсолютной красоты. Только невежды не понимают этого. Завтра же мы приведем вас в медресе; мы обрадуем ваших учеников и освободим науку и истину из рук невежд.
Навои сказал, что, даже будучи в Астрабаде, он слышал об успехах Зейн-ад-дина в области музыки и каллиграфии. Он повторил только что высказанную им мысль о необходимости написать книгу о музыке. Султанмурад выразил уверенность, что эту задачу мог бы выполнить Зейн-ад-дин. Зейн-ад-дин обещал подумать и дать ответ.
Навои спросил молодых людей, не испытывают ли они денежных затруднений. Хотя они уверяли, что не нуждаются, Навои, окинув их внимательным взглядом, решил выдать пособие в сто динаров каждому. Затем он прошел вместе, с друзьями по ярко освещенным комнатам, уставленным книгами. Поискав глазами новые произведения, Навои убедился, что библиотека за два года его отсутствия очень пополнилась. Сахиб Даро содержал ее в порядке, приобрел много новых книг, а старые отдавал переписывать хорошим писцам. Навои в душе был благодарен ему.
Все трое вернулись в Унсию. Там их нетерпеливо ожидало около двадцати друзей. Оживленная беседа закончилась угощением. В этот день все, от хозяина дома до последнего слуги, были веселы и довольны.
С приездом Навои много людей в Герате вздохнуло свободней. Каждый день в Унсию непрерывным потоком являлись посетители. Ученый, поэт, ремесленник — все считали за честь проведать Навои, выразить ему свою любовь. Люди, которые прятались по углам, боясь насилия и притеснений, снова зажили полной жизнью. Навои ежемесячно раздавал бедным и сиротам деньги и оделял их одеждой.
Глава двадцать восьмая
В одной из комнат дворца Музаффара-мирзы со стенами из фарфора Туганбек, накинув на плечи кунью шубу и держа руки над раскаленным мангалом, медленно что-то рассказывал. Сыновья беков и высокопоставленные джигиты царевича широким кругом сидели вокруг мангала. Среди них находились также поэт Беннаи и Шихаб-ад-дин. Туганбек за последнее время приобрел большое значение не только при дворе Музаффара-мирзы, но и у самого государя. Вознесенный на такую высоту, на которой стояли только родовитые беки, такие как Мухаммед Бурундук Барлас, Джахангир Барлас, Туганбек, сохранивший свою прежнюю грубость и простоту, познал вкус роскоши. Сады, приемы, невольницы — все было налицо. Считая Шихаб-ад-дина великим ученым, Туганбек приблизил его к себе: авось тот посвятит ему какую-нибудь книгу или, если судьба поможет Туганбеку совершить великое дело, — составит летопись его деяний. Поэта Беннаи Туганбек приглашал на каждое собрание. Не совсем хорошо понимая персидские стихи Беннаи, он очень любил его анекдоты. Своему старому другу Ала-ад-дину Мешхеди, который в дни несчастья приютил его в своей келье, Туганбек ежемесячно посылал одежду и деньги. Поэт выражал свою признательность звонкими касыдами.
Туганбек, низко склонив над мангалом покрасневшее лицо, поглаживал редкую рыжеватую бороду. Он просто, но интересно рассказывал о страшных кровавых боях, о богатырских подвигах своих предков. Джигиты, мнившие себя такими же богатырями, как те, что носились на конях и рубились мечами в этих битвах, наслаждались его рассказами и по временам не могли удержаться от воинственных смешных движений.
Едва Туганбек умолкал, речь заводил Беннаи, потряхивая длинной густой бородой, совершенно не шедшей к его маленькому росту и невзрачной внешности. Этот человек любил смех и ядовитые сатиры.
Простые воинственные рассказы Туганбека не нравились Беннаи. Когда Туганбек, кончив один рассказ, задумался над другим, Беннаи заговорил сам. Он принялся читать недавно написанные им стихи и газели и сам себе воздавал хвалу.
Не слыша от присутствующих возгласов одобрения, Беннаи почувствовал себя оскорбленным и начал критиковать всех и каждого.
— Вы уже повидались с великим поэтом? — смеясь, спросил Туганбек, желая поддразнить Беннаи.
— Бек джигит, — шутливо сказал Беннаи, — одна из величайших несправедливостей судьбы в том, что или он, или я до сих пор не изгнаны в небытие. Я не терплю его стихи больше, чем его самого.
Кто-то из джигитов сказал, что накануне вечером слушал стихи из сборника Навои, и одна газель ему очень понравилась. Он вынул из-за пазухи листок бумаги и начал читать. Беннаи заткнул уши пальцами.
— Да вы послушайте! Я, правда, не поэт, но думаю, что обладаю некоторым вкусом, — сказал джигит, краснея.
— Брат мой, — засмеялся Беннаи, не вынимая пальцев из ушей, — когда я слушаю тюркские слова, на меня нападает болезнь, называемая «боль в ушах».
— Людей с хорошим вкусом эти слова колют, как терновник. В особенности в стихах, — морщась, сказал Шихаб-ад-дин.
Джигит очень хорошо прочитал газель. Бумага пошла по рукам. Туганбек с глубокомысленным видом сказал:
— Ладно сколоченная газель, в его стихах есть вкус…
В это время вошел Музаффар-мирза. Предложив всем выйти из комнаты, царевич жестом остановил Туганбека.
— Вы знаете, где я был? — весело спросил он, улыбаясь пьяными глазами.
— Не знаю, — ответил Туганбек. — Во всяком случае, вы очень довольны. Это хорошо.
— Верно, бек, я доволен. Меня пригласили в один дом. В этом доме всегда устраивались интересные собрания. Ну, я и пошел… Две девушки, подобные пери, свежие розы из сада прелести. Обе в расцвете красоты. Одна играет на лютне, другая поет; обе были в моих объятиях. Мы пили, веселились. Я одинаково полюбил обеих.
— Завтра, если захочет аллах, вы будете обнимать такую красавиц, что мигом их позабудете, — смеясь, сказал Туганбек.
— Ладно, завтра увидим, каково ваше усердие.
— Царевич, вы знаете последние новости?
— Какие новости? — нахмурился Музаффар-мирза,
— Эмир Могол, снова назначенный в Астрабад на место Алишера, поднял мятеж. Теперь ему пришлось бежать в Ирак. Султан, ваш отец, отдал эту область Бади-аз-Заману.
— Что вы на это скажете?
Музаффар-мирза молча смотрел на Туганбека.
— Надо как следует подумать, царевич, — проговорил Туганбек.
— Знаю. У Бади-аз-Замана, дурные намерения, — раздраженно заговорил Музаффар-мирза. — Но наше дело разрешится на поле битвы. Теперь надо терпеть и выжидать. Не время!
Туганбек внимательно посмотрел на Музаффара-мирзу. Лицо юноши, которое только что освещала радостная улыбка, теперь стало холодным и задумчивым.
— Вы уже не мальчик, — серьезно заговорил Туганбек, — вы самая яркая звезда в венце власти! Чтобы жениться, надо достигнуть зрелости, но чтобы надеть венец, зрелый возраст необязателен. Я считаю, что управлять страной — дело молодого государя. Пусть только будет разумен в политике и опытен в военном деле. Ваш брат Бади-аз-Заман обделывает свои дела скрытно и основательно. Получив Астрабад, он направит взоры на другие области. Еще есть время действовать. Будьте бдительны, царевич!
Музаффар-мирза давно уже слышал подобные наставления в открытой или прикрашенной форме от многих наставников — атабеков[105] — и особенно часто от своей матери. Не видя в действиях своих братьев явных признаков борьбы за власть, он не осмеливался взять на себя инициативу. Слова Туганбека рассеяли его сомнения и колебания. Он вдруг стал серьезным. Наслаждение вином и любовью больше не отражалось на его лице. Он крепко сжал ручку сверкающего драгоценными камнями кинжала, заткнутого за золотой пояс, словно собираясь выхватить его из ножен. Туганбек взглянул в раскосые глаза мальчика, полуприкрытые миндалевидными веками. Они сверкали гневом.
— Будьте бдительны, царевич! — снова повторил Туганбек.
— Эти дела разрешаются мечом! — вдруг закричал Музаффар-мирза. — Кто хочет власти, пусть выходит на поле битвы. Головы, желающие носить венец, не боятся смерти.
Туганбек был очень доволен: его слова подействовали на царевича, как ветер, раздувавший под пеплом яркий огонь. Но он опасался, что неопытный в политике юноша может неосторожным словом раскрыть свои планы и тем самым погубить не только себя, но и своих сторонников. Хотя Туганбек никогда сам не читал исторических книг, он хорошо знал историю больших и малых междоусобных войн, мятежа и заговоров, возникших после смерти Тимура. Он посоветовал царевичу затаить пока свои намерения в сердце, действовать скрытно и всегда сохранять хладнокровие.
Через некоторое время слуги доложили о приходе царевича Бади-аз-Замана-мирзы. Музаффар-мирза многозначительно, поднял тонкие выгнутые брови и сказал, что будет счастлив принять брата. Когда Бади-аз-Заман в сопровождении своего сына Мухаммеда Мумина-мирзы показался в дверях, Музаффар-мирза бросился навстречу брату и пожал ему руку. Потом погладил по голове мальчика — такого же красавца, как отец, с умными, слишком серьезными для его возраста глазами — и ласково заговорил с ним. Бади-аз-Заман, как всегда тщательно и со вкусом одетый, держался несколько величаво. Музаффар-мирза любезно и предупредительно провел брата к почетному месту и усадил его на бархатные подушки. Поблагодарив брата за посещение, он сел на корточки впереди Туганбека. Бади-аз-Заман с мягкой улыбкой обратился к брату:
— Вам должно быть известно, что наш великий отец оказал мне большое внимание и подарил область Астрабад. Я счел неучтивым перечить высокому желанию его величества и принял дар. Из-за этого я и пришел повидаться с вами. Надеюсь, вы будете нас навещать?
Музаффар-мирза слушал, скромно опустив голову. Потом, почтительно сложив руки на груди, сказал:
— Я был очень рад услышать эту приятную новость. Вам уже давно пришло время управлять страной. Ваша задача — глубокой мыслью и благотворными мероприятиями вернуть процветание области, которая в руках недостойных людей пришла в запустение. Я, ваш младший брат, постоянно вознося за вас молитвы, охотно исполню всякий ваш приказ и не буду жалеть своих сил для оказания вам помощи и содействия.
Бади-аз-Заман поблагодарил брата и попросил разрешения удалиться. Музаффар-мирза стал просить его остаться, чтобы придать привлекательность сегодняшнему пиру. Бади-аз-Заман, поколебавшись, принял приглашение, решив, что этим он привлечет к себе сердце брата.
Когда царевичи перешли в другую комнату, Туганбек вышел на улицу… Сев на приготовленного для него коня в богатой сбруе, он погнал его к дворцу Маджд-ад-дина, Мысли его были заняты встречей царевича. Коварство и двуличие Музаффара-мирзы повергали его в изумление. За минуту перед тем полный гнева, готовый отрубить голову своему брату, молодой царевич, со свойственным для его среды и всей семьи султана Хусейна лицемерием, очень естественно и искусно разыграл простодушную преданность.
Туганбек нашел Маджд-ад-дина в его зимней гостиной. Везир был один и казался несколько опечален ным. Туганбек рассказал о случившемся. Везир молча выслушал. Потом поделился мыслью, которая не давала ему покоя. С тех пор как вернулся Навои, его положение изменилось; беки и чиновники то и дело приносят жалобы султану на его грубое обхождение. Хотя Навои устранился от государственных дел, некоторые вельможи в важных вопросах обращаются к нему за советом. Есть сведения, что Дервиш Али в Балхе и Навои с Низам-аль-Мульком в Герате втихомолку строят ему козни. Когда вернется из путешествия Ходжа Афзаль, положение может еще более осложниться.
— При таких обстоятельствах, — сказал Туганбек, сдвигая брови, — самый разумный образ действий — внести раздор в стан врагов, и они изжарятся в огне раздоров.
— А как это сделать? — оживился Маджд-ад-дин.
— Дело нетрудное, — лукаво улыбаясь, ответил Туганбек, — Всем известно, что Низам-аль-Мульк враждебен и к вам, и к Навои. Но он ищет защиты от ваших ударов и поэтому, больше придерживается противной стороны. Заберите Низам-аль-Мулька в свои руки, назначьте его везиром, дайте ему место в диване — и он будет поддерживать вас.
Маджд-ад-дин подпер рукой подбородок.
— Ваш совет не лишен смысла, — сказал он, подумав.
Туганбек доложил, что некоторые крупные землевладельцы просят о снижении налога с имущества и скота. Если везир удовлетворит эту просьбу, то получит от них немалые суммы. Для себя Туганбек попросил в подарок суюргал — кусок земли из государственных владений. Получив согласие везира, он поспешно удалился, чтобы вовремя попасть на пир к царевичу.
На следующий день Маджд-ад-дин встретил в дворце Низам-аль-Мулька. Бывший везир, любивший роскошь и пышность, за много лет привык к придворному воздуху и часто приходил во дворец, влекомый неодолимой привычкой. При встречах с бывшим везиром Маджд-ад-дин, чтобы еще больше растравить его рану, держался особенно надменно. Чаще всего он проходил мимо Низам-аль-Мулька, словно мимо какого-нибудь нукера, не замечая его. На этот раз. Маджд-ад-дин поздоровался с ним. Степенный седобородый Низам-аль-Мульк, одетый в несколько шелковых халатов, старался разгадать истинные причины такой перемены в поведении своего врага. Поймав его взгляд, Маджд-ад-дин указал на пустую комнату. Низам-аль-Мульк понял, что дело идет о чем-то важной, огляделся по сторонам и молча последовал за Маджд-ад-дином. Везир объяснил Низам-аль-Мульку положение дел, прикрыв свои; истинные намерения плотной завесой тайны.
Когда они остались одни, Маджд-ад-дин вкрадчиво заговорил;:
— Вы весьма опытный, искушенный в делах человек. Забудем старые обиды… Я верну вам вашу прежнюю должность, но с одним условием, — Маджд-ад-дин закусил губу и пытливо посмотрел на Низам-аль-Мулька.
— Разногласия, имевшие место между нами, я считаю плодом ошибки и недоразумения, — торопливо сказал Низам-аль-Мульк. — Дело разумного — исправить ошибки. Каково же условие, о котором вы говорите?
— Восстановим дружеские отношения и будем помогать друг другу, — ответил Маджд-ад-дин, понижая голос. — Помощь должна состояться вот в чем: никогда и ни при ком не жалуйтесь на меня, не возражайте против моих мероприятий. Действуя заодно, мы сможем устранить все затруднения.
— В высшей степени разумное условие, — обрадованно сказал Низам-аль-Мульк. — В сущности, нам давно следовало его соблюдать. Хорошо, забудем прошлое. — Будете ли вы верны обещанию? — решительно спросил Маджд-ад-дин.
— Нет ничего позорнее вероломства. Бог — один, слово — едино.
На следующий день Низам-аль-Мульк официальным указом был назначен везиром.
Глава двадцать девятая
Сквозь верхние цветные стекла окна в комнату падал пучок солнечных лучей. Солнце отражалось на разноцветной бумаге, сложенной на скамеечке, на медной чернильнице, на белой как снег фарфоровой чашке с водой, переливалось на цветах ковра.
Поэт, откинувшись на подушку, читал толстую историческую книгу.
Вдали от суетной придворной среды он оживал душой в любимых занятиях: каждый день много читал, писал, думал о новых произведениях, отбирал нужные мысли и примеры для задуманных книг — «Возлюбленного сердец» и «Тяжба двух языков». Заходил в ханаку, чтобы справиться, как живут ученые, знакомился с их новыми сочинениями, давал им советы. Бывал в медресе, заботился о выплате содержания студентам. Отыскивал новые стихи, написанные поэтами Герата и других городов. Принимал слуг, справлялся о положении дел, распределяя часть доходов, предназначенных на благотворительные цели. То на коне, то пешком гулял по Герату, любуясь древними зданиями и улицами, размышлял о том, что нужно сделать, чтобы умножить красоту родного города. Навещал своего друга Джами и беседовал с ним о поэзии, философии, суфизме. Нередко созывал к себе друзей, слушал с ними музыку, шутил. Но ведя эту тихую жизнь, Навои ни на минуту не забывал о судьбах страны. В его груди не унимался гнев против притеснителей народа. Иногда сердце поэта сжималось от боли….
Сегодня чтение поэта было прервано: вошел слуга и сообщил о приходе Мирака Наккаша. Навои отложил книгу и поднялся.
— Неужели он, наконец, попался мне в руки? Пусть скорее войдет! — сказал он улыбаясь.
Мирак Наккаш боязливо вошел в комнату и, сложив руки на груди, сел в сторонке.
— Когда же будут готовы часы? Имеют ли для вас цену слова и обещания? — спросил Навои, притворно хмурясь.
Живописец, поправив на голове маленькую чалму, смущенно помолчал, потом заговорил, пощипывая кончик нечесаной рыжеватой бороды.
— Часы еще не готовы, — сказал он, виновато улыбаясь. — И откуда пришло вам в голову такое желание, господин? Очень трудная задача.
— Когда вы их пустите? Когда мы сможем правильно определять время? Помилуйте, это уже долго тянется, — настаивал Навои.
— Я день и ночь думаю над этим. Но еще остаются неразрешенные вопросы. Не знаю, что получится, — развел руками живописец.
— Европейцы давно изготовляют часы. Известно, что арабы тоже умели их делать. Ну, а вы почему не можете разрешить эту задачу? Вы же сведущи в механике! Я это знаю. Приложите науку к делу. Какие только трудности не разрешает сила человеческой мысли! Вот, например, эта чашка — как, по-вашему, в какой стране она изготовлена? — Навои указал на белоснежную, покрытую по краям тонким рисунком чашку, стоявшую на скамеечке.
Живописец нагнулся и принялся внимательно рассматривать чашку.
— Китайский фарфор.
— Здорово! — рассмеялся Навои, прищурив глаза. — Вот и ошиблись — мягко продол жал он. — Этот фарфор гератский. Его изготовил известный вам мастер Мухаммед Джамаль.
Удивленный живописец смотрел на чашку, словно обираясь ее проглотить, потом покачал головой: — Удачно! Удачно! — Если буду жив, — проговорил Навои, — этот фарфор распространится по всей стране. И у нас можно изготовлять превосходный фарфор. Часы, конечно, требуют больших знаний, большого искусства, — добавил он, — но я уверен, что вам удастся их сделать. Вы немножко ленивы, брат мой! Надо избавиться от этой беды.
Наккаш улыбнулся, как бы признавая свою слабость. — Впрочем, он обещал усердно работать и быстро закончить часы.
По уходе Мирака Наккаша Навои вышел из комнаты. Немного погулял по двору. Поговорил со слугами. Затем направился в больницу, чтобы потолковать с врачами. Выйдя на большую дорогу, он увидел вдали Хайдара. Хайдар уже давно стал бродячим дервишем-каландаром. Все так и называли его: «Хайдар-Каландар». На голове он носил каландарский колпак, на плечах — рубище; отрастил волосы. Покинув свей дом, Хайдар поселился в бедной хижине. Все необходимое для скудной жизни он выпрашивал, бродя по базарам. В Герате это не считалось постыдным. Все каландары, а среди них попадались и знатные люди, вели такой образ жизни. Навои было грустно видеть, что его племянник, к которому он относился как к сыну, когда-то хороший поэт и смелый воин, так опустился. Но никакие увещевания не действовали на Хайдара, — видимо, не только склонность к дервишеству была тут причиной: на впечатлительного юношу сильно подействовал гнев султана.
Навои возлагал надежды на непостоянный характер Хайдара, рассчитывая, что это его увлечение пройдет, как и прежние.
Заметив Навои, Хайдар издали склонил голову в поклоне и безмолвно перешел на другую сторону улицы. Поэт пошел дальше. — Но ему так и не пришлось побывать в больнице. Через несколько шагов он встретил Валибека и Гияс-ад-дина Дихдара.
— Господин эмир, — сказал Валибек, поздоровавшись, — мы направлялись к вам.
Навои заметил, что пришедшие взволнованы.
— В сущности, мне нечего делать, я давно хотел поговорить с вами, — сказал он и повернул к дому.
— Из Балха прибыл человек, — заговорил Валибек. Из рассказа Валибека Навои узнал следующее. Сегодня, когда султан, везиры и беки собрались в диване, из Балха примчался гонец, который сообщил, что брат поэта Дервиш Али поднял мятеж и действует заодно с Султаном Махмудом. Весть об этом произвела на государя тягостное впечатление. Присутствующие тотчас же начали толковать это событие по-своему. Они говорили, что, если бы не рука Алишера, Дервиш Али никогда бы не дерзнул пойти против государя. Султан нашел это объяснение правильным и стал жаловаться на Алишера. Тогда Дихдар с поклоном подошел к государю и, как всегда, шутливо сказал:
— О султан, покровитель вселенной! Если вы разрешите, я брошу этого слабого раба-библиотекаря к вашим ногам!
Государя рассмешил воинственный вид Дихдара, и он сказал:
— Хорошо! Разрешаю! Покажите свою отвагу!
— От гнева государя нас всех бросило в дрожь, — перебил Валибека Дихдар. — Своим неожиданным предложением я разогнал тучи недовольства, окутавшие сердце государя. Может быть, я сделал ошибку?
— Вы очень тонко действовали, — сказал Навои, подтверждая свои слова кивком головы. — Едва ли Дервиш Али поднял мятеж для того, чтобы расшатать устои государства. Конечно, у него могли быть свои цели. Не знаю, верно ли это, но я склонен так думать.
— У нас тоже нет на этот счет никаких сомнений, — улыбнулся Валибек. — Нам думается, что Дервиш Али примкнул к мятежу для того, чтобы отстранить от власти Маджд-ад-дина, человека вредного для государства и народа, постоянно строящего козни против вашей милости.
— Когда я приеду в Балх и переговорю с Дервишем Али, дела там, волей аллаха, наладятся, — проговорил Дихдар, переводя взгляд с Навои на Валибека.
Навои взял листок бумаги и начал писать письмо брату. В глубоких и мудрых выражениях он внушал Дервишу Али, что человек должен думать только о пользе народа и государства и действовать, основываясь на требованиях разума и справедливости; что использовать народные интересы в своих целях — тягчайшее, преступление… взаимные распри следует разрешать путем переговоров, не проливая крови ни в чем не повинных людей.
Когда Дихдар с Валибеком удалились, поэт снова принялся обдумывать случившееся. «Чем-то окончится предприятие Дервиша Али? — с тревогой думал он. Под сенью власти государя, — чей венец украшен драгоценными камнями справедливости, мечтают жить и другие, сопредельные народы; какое несчастье, что на нашего государя жалуется его собственный народ, что от него отворачиваются даже близкие люди!..»
На третий день после этого поэт отправился во дворец, чтобы проверить ходившие по городу слухи. Во дворце он заметил признаки необыкновенного волнения. Баба-Али рассказал поэту, что, по сведениям, поступившим сегодня из Балха, Дервиш Али решительно потребовал от султана смещения Маджд-ад-дина. В противном случае он намерен вместе с Султаном Махмудом продолжать свой поход на столицу. Государь вынужден был решиться на крутую меру — временно освободить столь дорогого ему везира от его обязанностей. Навои обрадовался: действия его брата обернулись на пользу народу и стране.
Ускорив шаги, он прошел в диван. В большой раззолоченной комнате гордо восседали беки, везиры, высшие чиновники. В первом ряду сидел, низко опустив голову, Маджд-ад-дин, рядом с ним с видом победителя Низам-аль-Мульк.
Не успел Алишер войти, как все разом поднялись с мест, точно движимые какой-то неведомой силой. К Навои протянулись десятки рук. Его усадили в переднем ряду, между побледневшим Маджд-ад-дином и Низам-аль-Мульком, глаза которого зловеще поблескивали из-под длинных ресниц. Дверь в соседнюю комнату распахнулась. Все снова шумно поднялись и почтительно склонили головы. Шатаясь от слабости и опьянения, вошел Хусейн Байкара и расположился на бархатных подушках. Присутствующие медленно выпрямились. Государь в кратких, но высокопарных словах отметил великие дела и мудрые мероприятия Маджд-ад-дина, проведенные им на пользу государства, и подал знак слугам. В комнату внесли большой узел, обернутый кашмирским платком. Хусейн Байкара вынул оттуда шитый золотом халат и накинул его на плечи Маджд-ад-дина. Он объявил, что назначает бывшему везиру содержание в сто тысяч динаров. Размер этой суммы удивил всех. Маджд-ад-дин надел драгоценный халат и дрожащим, взволнованным голосом выразил свою преданность государю, закончив речь всевозможными благопожеланиями.
Навои вместе со всеми вышел в сад. Разбившись на группы и тихо переговариваясь между собой, царедворцы разошлись.
Холодный ветер срывал с деревьев последние листья. В цветниках увядали цветы. Заходящее солнце заливало пасмурное небо морем красот. Поэт, заложив за спину руки, прикрытые длинными широкими рукавами, задумчиво расхаживал по саду. Сердце его наполняла музыка рифм, свет поэтической мысли, восторг вдохновения. Однако суровая действительность вдруг охватывала эти чувства своим холодным дыханием. Навои очнулся от сладкого сна. Родина, государство, народ — эти понятия были для него священны. Смутное время Маджд-ад-дина уйдет в прошлое, как дождевые тучи, разогнанные ветром, и на земле снова засверкает цветущая зелень жизни. Но для этого нужно, чтобы управление взял в свои руки добросовестный человек, болеющий душой о родине, народе и государстве.
Навои решил поговорить с государем наедине и, если будет возможно, высказать ему свое мнение. Пройдя к дивану, он увидел мрачного Валибека и, отведя его в сторону, поделился с ним своими планами.
— О чем вы мечтаете, господин Алишер? — с горьким смехом спросил Валибек. — Вместо волка пришла лисица. Поздравьте Низам-аль-Мулька с высоким назначением.
— Вот логика! Вот устроение страны! — воскликнул Навои.
Едва владея собой быстро вышел из дворцового сада.
В Герате вскоре стало известно, что временная отставка Маджд-ад-дина, отмеченная необычайной торжественностью и изъявлениями царской благосклоннести, не удовлетворила Дервиша Али. Хусейн Байкара снова впал в тревогу. Сторонники Маджд-ад-дина и всякие интриганы неустанно распространяли слухи о «руке Навои».
Хусейну Байкаре, в сущности, был страшен не Дервиш Али, а его союзник Султан Махмуд. Это был старый враг Хусейна; который никогда не прятал меча в ножны и каждую ночь видел во сне престол Хорасана. Поэтому Хусейн Байкара собрался в поход на Балх. В день выступления он прислал за Навои: «Приезжайте немедленно!» Поэт приехал. Он просил султана разрешить ему остаться в Герате.
— Вы должны меня сопровождать, — сказал одетый по-походному султан не терпящим возражения тоном.
Навои понял, что у Хусейна возникли на его счет, какие-то подозрения. Делать было нечего: приходилось отправляться в поход.
Хусейн Байкара, в сопровождении конных воинов, повозок с военным имуществом и есаулов, расчищавших дорогу, с обычной торжественностью выступил из столицы. Султан со своей многочисленной свитой двигался не торопясь. Он не столько шел, сколько отдыхал и даже по пути развлекался охотой. Когда он достиг реки Мургаб, видавшей много больших и малых войн, в его стане неожиданно появился Гияс-ад-дин Дихдар. Соскочив с коня, он с поклоном приблизился к Хусейну Байкаре и по обычаю облобызал полы его платья. Потом отступил на несколько шагов и с чувством прочитал молитву за государя. Сильный во многих науках и знавший множество ремесел, Дихдар отлично усвоил также и правила этикета.
— Ну, как же ваше обещание, которое вы дали при всем народе? Мы пока не видели плодов вашей смелости, — иронически сказал султан.
— О хакан вселенной! — ответил Дихдар, прикладывая руки к груди. — Сей бедняк честно выполнил взятое им на себя трудное дело. Ваш мятежный раб — в моих руках. Я не мог привести его к вам закованным только потому, что в этой степи не нашлось цепей. Если хакан разрешит, я сейчас сбегаю в обоз, возьму кузнеца и приведу к вам пленника в оковах.
Султан, видимо, очень обрадовался. Он спросил, где находится Дервиш Али. Дихдар сказал, что оставил его в трех фарсахах от ставки, что Дервиш Али полон раскаяния и жаждет лицезреть своего государя. Султан Хусейн Байкара нахмурил брови и задумался. После краткого размышления он сказал:
— Пусть приходит! Я простил его. Милость государя Хусейна обрадовала всех, кроме сторонников Маджд-ад-дина.
Дервиш Али был принят государем на берегу Мургаба. Выяснилось, что после отставки Маджд-ад-дина между ними не остается никаких разногласий. Хусейн Байкара подтвердил свое царское благоволение, явившись на большой пир, устроенный в лагере Дервиша Али. Было решено направиться в Балх и с наступлением весны повести войска против Султана Махмуда.
Прибыв в Балх, Хусейн Байкара остановился в Чар-Баге — дворце эмира Аргуна. Здесь, как и и Герате, он в холодные зимние дни был занят увеселениями. Пиры и различные забавы непрерывно сменяли друг друга. Иногда устраивалась торжественная охота с участием стрелков, длившаяся неделями. Шум и крики оглашали заснеженную степь. Охотники возвращались с большой добычей.
Навои занимал в Балхе скромный дом. Вдали от окружавших царя военачальников, высших чиновников и знатных вельмож, занимавшихся сплетнями, доносами и развратом, чуждый пышным торжествам и ежедневным развлечениям, поэт проводил дни в работе и размышлениях. Свое участие в этом походе он считал бессмысленным и чувствовал себя лишенным свободы. Его навещали балхские ученые и поэты. Навои вел с ними дружеские беседы, читал их сочинения, оказывал им помощь, денежную и моральную… Часами Навои бродил по Балху, осматривая крепостные стены, собирая сведения о прошлом города.
Окруженный могучими крепостными стенами, Балх был когда-то большим цветущим городом, славившимся торговлей и искусством своих ремесленников. Осажденный войсками страшного Чингиза, город мужественно защищал свою свободу, сопротивляясь всеразрушающему монгольскому урагану. В конце концов он изнемог в неравной борьбе и сдался. Волны бедствия залили отважный город. Десятки тысяч покорно склонившихся голов снес вражеский меч. После этого страшного удара Балх уже не мог оправиться. Прошли столетия, но жизнь в городе едва тлела. Страшные следы пребывания монголов, словно рубец от тяжелой раны, все еще были заметны на теле города.
Видя последствия ужасного нашествия, поэт горестно хмурился. Мысли его уносились в беспредельные просторы, истории, постепенно открывавшиеся перед его мысленным взором. Над морями крови, башнями из черепов, над бурей пламени, застилавшей небо, Навои с отвращением видел ужасную фигуру жестокого завоевателя. Он искал в истории героев, которые противостояли завоевателю, неся миру жизнь, воплощая в себе благородные творческие силы человеческого духа, озаряли пути жизни светильником разума.
Дыхание зимы начало смягчаться. Желтые сосульки висевшие несколько дней на выступах крыш и водосточных трубах, растаяли. В воздухе трепетал весенний ветерок, с каждым днем становившийся все теплее и теплее. Молодые ветви деревьев оделись зеленью.
Хусейн Байкара отдал приказ готовиться к походу. Нукеры, занятые охотой в окрестностях Балха, стали возвращаться в город. Ремесленники усердно изготовляли недостающее оружие и снаряжение.
В один прекрасный весенний день Хусейн Байкаре объявил о выступлении в поход против Султана Махмуда. Воины приготовились в путь. Хусейн Байкара в сопровождении телохранителей и приближенных выехал из Чар-Бага. Звуки барабанов и карнаев огласили воздух. Кони, порываясь в степь, переливавшуюся в отдалении, как синее море, нетерпеливо ржали. Кроткий иноходец Навои тоже грыз удила и, навострив уши, бил копытом землю. Отдельные отряды воинов выступили в поход под начальством беков, вздымавших на дыбы красивых коней, сбруя которых, изготовленная лучшими шорниками, сверкала серебром и лазурью. Хусейн Байкара через слугу подозвал к себе Навои и сказал: — Вы останетесь в Балхе до нашего возвращения и возьмете управление областью в свои руки.
Навои удивился неожиданному повелению. До сих пор на это не было даже никакого намека. Отказаться от предложения, служившего признаком доверия, у Навои не было никаких оснований.
— Я принимаю это назначение, хотя оно не легче, чем тяготы боевого похода, — почтительно сказал поэт.
Хусейн Байкара казался веселым и бодрым. Он отдавал приказания, пересыпая свою речь шутками; оживленно смеялся и болтал с молчаливо сидевшим на своем коне Дервишем Али; спрашивал у Ислима Барласа, что он думает о будущих битвах. Когда все приготовления были закончены, султан Хусейн с обычной торжественностью тронулся в путь.
Явившись в диван Балха, Навои поговорил с молодыми служащими и прожженными чиновниками, ознакомился с положением дел в области. Ночь он провел в одном из помещений дивана за чтением.
На следующий день, после полудня, поэт собрал нескольких служащих, которые показались ему наиболее добросовестными. Когда он беседовал с ними о некоторык должностных лицах, известных в городе своей жестокостью и взяточничеством, в комнату вбежал нукер.
— Господин эмир, привезли господина Дервиша Али! — задыхаясь, крикнул он.
Охваченный беспокойством, Навои стремительно вышел во двор. Навстречу ему большими шагами направлялся знакомый есаул. Приблизившись к Навои, есаул остановился и с почтительным поклоном тихо сказал, не будучи в состоянии скрыть свое замешательство:
— По повелению его величества хакана, мы привезли Дервиша Али-бека. Говорят, вы должны заключить его в тюрьму.
Навои побледнел и нахмурился. Взглянув на всадников у ворот, он увидел между четырьмя вооруженными нукерами Дервиша Али со связанными руками Нукеры, приложив руки к груди, приветствовали Навои и тотчас же смущенно отвели глаза. Лицо Дервиша Али было скорбным. Горестно качая головой, он поздоровался с братом.
— Что я вижу?! Разум отказывается этому верить! — заговорил поэт, задыхаясь от горя и волнения. — Случилось что-либо непредвиденное?
— За это время не случилось ничего нового. Наши враги хотят отомстить нам, — печально ответил Дервиш Али. — Не сомневайтесь я скоро отправлюсь в обитель мрака.
— Чего вы от меня требуете? — посмотрел Навои на есаула.
— Напишите приказ начальнику крепости.
— Как правитель Балха вы должны заключить меня в тюрьму, — грустно улыбаясь, сказал Дервиш Али.
Навои, ничего не отвечая, направился в дом. Войдя в комнату, он взял калам и бумагу и машинально начал писать приказ. Сердце его сжималось от боли, в глазах темнело. Внезапно он отложил калам. «Какое оскорбление! Своими руками арестовать родного брата! За какую провинность? За то, что он враг Маджд-ад-дина и подобных ему предателей родины!»
Сердце Навои обливалось кровью, но он все же вынужден был отдать приказ. Если Хусейн Байкара разгневается на него самого или на Дервиша Али, это повлечет за собой еще худшие последствия. Взяв снова калам. Навои дописал последние строки приказа и подписал его. Он приказал стоявшему у дверей нукеру передать приказ есаулу. Склонив голову, поэт сжал руками светлый широкий пылающий лоб.
«Опозорить нас, чтобы отомстить нам за правдивое слово!.. — думал он, трепеща от гнева. — Да еще как коварно, как лицемерно! Верно говорили наши деды: кто принес воду, тот унижен, кто разбил кувшин — возвеличен. Ну что же!.. Ты можешь обрушит на мою голову целую гору пыток и страданий, но не заставишь меня войти в ряды твоих палачей, грабителей народа и пьяных псов! Я согласен расстаться с жизнью, покинуть родину, которая мне дороже и милей жизни, но не стану таить слово истины!»
Глава тридцатая
Туганбек не участвовал в походе: он находился в Герате при царевиче Музаффаре-мирзе. На пирах, на охоте, на приемах и играх, устраивавшихся для развлечения царевича, Туганбек всегда был подле Музаффара. На советах, царевич слушал Туганбека с большим вниманием, чем других беков. После падения Маджд-ад-дина Туганбек еще крепче привязался к царевичу, выказывая ему собачью преданность. Но своего старого друга и благодетеля он тоже не забывал.
В свободное от охоты и попоек время Туганбек обучал джигитов Музаффара-мирзы, среди которых были и знатные юноши, военному искусству… На широких ровных площадках за городом они учились стрелять из лука, рубиться мечами, носясь на конях, биться на копьях. Во время упражнений Туганбек иногда приводил джигитов в изумление своей ловкостью и знанием военного дела. Показав им какой-нибудь особенный прием, он опускался на корточки и, чертя концом лука по земле, рассказывал обступившим его джигитам, где и от кого он научился этому приему, каковы были боевые качества его противника. Он говорил медленно, с расстановкой отсчитывая слова, точно капли лекарства. Потом не спеша поднимался, засучивал рукава широкого чекменя и, гордо поглядывая на увлеченных его рассказом слушателей, заканчивал:
— Когда-то в Самарканде был у нас богатырь. Завтра мы покажем вам один из его изумительных приемов. А однажды, когда я дрался с одним рубакой, полумонголом, полукипчаком, он применял столь же удивительный прием. Я тогда едва спас свою голову. Сейчас этот прием пришел мне на память. Невредно будет показать его.
Как-то, возвратившись с охоты, Туганбек направился в сад Маджд-ад-дина. Наступил конец лета. На деревьях было так много плодов, что ветви клонились почти до земли. От цветников нельзя было оторвать глаз. Но дворцы, каждый из которых представлял собой чудо искусства, были пусты. Кроме бродивших кое-где садовников, сыновей умершего Нурбабы, никто не попадался на глаза.
Подойдя к двери большого дворца, Туганбек встретил красивую невольницу лет восемнадцати, которая несла воду в медном кувшине. Туганбек подмигнул девушке и приказал ей позвать хозяина.
Маджд-ад-дин в легком белом халате вышел навстречу гостю и пригласил его войти.
Со времени своей отставки Маджд-ад-дин чувствовал себя так, будто надломилась какая-то опора, поддерживавшая его. Встречаясь с людьми, по-прежнему старался держаться гордо и с достоинством, но эта гордость была деланной, искусственной. Однако сегодня Маджд-ад-дин был очень весел. Через своих людей, сообщавших ему о всяком новом событии, происходившем при дворе, Маджд-ад-дин узнал о заточении Дервиша Али. Это вселило в его сердце надежду на то, что милость государя еще вернется к нему.
Облокотившись на большую пуховую подушку, бывший везир заговорил о том, что дня через два придется выехать навстречу султану, который возвращается из похода, ничего не достигнув.
— Беки, сопровождавшие султана, — плохие воины, — презрительно сказал Туганбек. — Крепости в Хисаре, правда, сильно укреплены, но их все же следовало взять и хорошенько проучить Султана Махмуда.
Маджд-ад-дин был доволен, что государь возвращается из похода ни с чем. Он боялся, что в случае победы Хусейн Байкара, упоенный успехом, может изменить свое отношение к Алишеру и его брату. Поэтому он не согласился в душе с Туганбеком относительно завоевания хисарских крепостей, но не стал ему возражать. Он спросил Туганбека, установилась ли дружба и доверие между Хадичой-бегим и Низам-аль-Мульком. Туганбек прищурил маленькие глазки, как будто стараясь что-то припомнить.
— Нет, — сказал он, — нам ничего об этом не известно. Впрочем, сыновья Низам-аль-Мулька пытаются укрепить свои отношения с Музаффаром-мирзой.
— Что это вы говорите, друг мой! — выпрямился Маджд-ад-дин. — Понимаете ли вы, как опасна для нас эта дружба сыновей Низам-аль-Мулька с любимым сыном государя?
— Мы смоем эту опасность вином, — засмеялся Туганбек.
— Какие же меры вы собираетесь принять, бек?
— Мы попытаемся поссорить их при помощи вина. Успокоив Маджд-ад-дина, Туганбек простился и уехал.
Через два дня Маджд-ад-дин с царевичем, везирами, беками и другими высокими должностными лицами, по обычаю выехали навстречу султану. В двух переходах от города они остановились в обширном, хорошо расположенном лагере. Здесь встречавшие провели ночь. В больших котлах были приготовлены всевозможные яства.
Утром примчались на взмыленных конях есаулы и закричали:
— Султан едет!
Поспешно оправив одежды, встречавшие сели на коней. Вскоре появились личные слуги султана и сообщили:
— Султан близко!
Наконец вдали, над волнистыми грядами холмов, как будто слившихся с пасмурным небом, заклубились облака пыли.
Всадники застыли на конях. Кони беспокойно вертели головами, грызли удила; самые злые из них, начали лягаться. Пыль приближалась, застилала воздух, но глаза, устремленные на дорогу, все яснее различали очертания людей и всадников. Волнение ожидавших достигло предела. Султан Хусейн, окруженный беками и личной свитой, приближаясь к месту встречи, сдержал коня и остановился в тридцати — сорока шагах от толпы. Стоявшие впереди царевичи подошли к султану и, преклонив колени, почтительно поцеловали его протянутую руку. Затем к султану стали подходить вельможи. Рука подавалась далеко не всем. Из сотен вельмож, выехавших навстречу, такая честь досталась немногим. Поздороваться за руку считалось особым знаком внимания султана.
Вслед за военачальниками и знатными вельможами Маджд-ад-дин с низким поклоном подошел к Хусейну. Но его жадно ищущие глаза не увидели руки султана. Словно пораженный молнией, Маджд-ад-дин невнятно пробормотал что-то о «священной красоте» государя и, пошатываясь, отошел в сторону. Он с трудом взобрался на коня. Ни разу не взглянув на бывшего везира, Хусейн Байкара проехал мимо.
Среди лиц, сопровождавших государя, Маджд-ад-дин увидел печального, безмолвного Алишера. Он растерянно поздоровался с поэтом и, присоединившись к веренице всадников, поехал вслед за султаном.
Вечером, усталый и разбитый, он вернулся домой и заперся в комнатах. Несколько дней бывший везир не выходил из дому, наконец он решил явиться к султану. Нарядившись как можно лучше, Маджд-ад-дин отправился во дворец. Там он встретил ишик-ага Баба-Али и еще нескольких вельмож и стал умолять их исходатайствовать ему прием у султана. Царедворцы из жалости согласились выполнить его просьбу.
В ожидании, когда султан соизволит принять его, Маджд-ад-дин медленно бродил возле дивана. Сад Джехан-Ара, как и прежде, жил роскошной беспечной жизнью. С какой гордостью и важностью гулял он здесь когда-то — везир и наместник султана! Тогда он и уголком глаза не глядел на толпившихся в саду беков…
Прошло довольно много времени. Наконец появился Баба-Али и сообщил, что его желание, к сожалению, не может быть выполнено. Не в силах овладеть собой, Маджд-ад-дин то краснел, то бледнел. Насмешка, которую он читал в глазах Баба-Али, колола его, словно кинжал.
Выйдя из дворца, Маджд-ад-дин направился к Туганбеку. В небольшом дворе, окруженном роскошными строениями, кипела жизнь: сновали прекрасно одетые слуги и джигиты, вооруженные дорогими мечами и кинжалами.
Туганбек, как всегда, дружески встретил Маджд-ад-дина. Бывший везир принялся сетовать на жестокость государя. Туганбек, слышавший от верных людей о недовольстве Хусейна Байкары Маджд-ад-дином, вызванном наговорами Низам-аль-Мулька, принялся самыми скверными словами ругать везира. Маджд-ад-дин тяжело вздохнул.
— Я своей рукой вознес его на небо, а теперь сам, кажется, попал в ад, — сказал он.
Маджд-ад-дин признался Туганбеку, что решил обратиться к посредничеству Бурундука Барласа и его сына, чтобы как-нибудь проникнуть к султану. Туганбек одобрил этот план.
— Они, должно быть, что-нибудь за это истребуют, — сказал Туганбек.
— Конечно, обещайте им десять тысяч динаров.
— Кому пойти? Мне? — спросил Туганбек.
— Если пойду я сам, это вызовет подозрения, — ответил Маджд-ад-дин. — Вы в хороших отношениях с отцом и сыном Барласами. Кроме вас, мне положиться не на кого. Моих друзей теперь можно пересчитать по пальцам да и они побоятся заступиться за меня.
Туганбек пообещал сегодня же встретиться с Шуджа-ад-дином Мухаммедом Барласом и его отцом.
Маджд-ад-дин проводил дни в тревоге и нетерпении. Но прошло несколько месяцев, прежде чем от Барласа поступили хорошие вести.
В назначенный для приема день Маджд-ад-дин, придя во дворец, был легко допущен к государю.
Расслабленно сидевший на тронном месте, Хусейн Байкара встретил его если не с прежним вниманием, то во всяком случае приветливо. Маджд-ад-дин в самых сильных выражениях заговорил о своей любви и преданности. О должности, о службе он не сказал ни слова, но несколько раз упомянул, что считает для себя гордостью быть верным псом у порога государева дворца. После этого он предложил в подарок султану двадцать тысяч динаров и, получив разрешение удалиться, оставил дворец. Мир снова казался ему светлым. Торопясь отпраздновать счастливый день, Маджд-ад-дин побежал домой.
Низам-аль-Мульк снова обрел прежнее величие. Сам султан назвал его однажды «бесценной жемчужиной государства». Чтобы сохранить свое могущество до конца жизни, ему надо было устранить всех своих врагов, из которых самым опасным везир считал Маджд-ад-дина. Поэтому, услышав, что Маджд-ад-дин был принят султаном, Низам-аль-Мульк побежал в диван и под предлогом доклада вошел к Хусейну Байкаре. Государь тотчас же заговорил о Маджд-ад-дине, упомянув о полученном от него подарке. Низам-аль-Мульк поморщился.
— Двадцать тысяч динаров? Не очень щедр бывший везир! Если бы он дал в десять раз больше, на скатерти его не стало бы крошкою меньше.
— Вы не преувеличиваете? — с удивлением спросил Хусейн Байкара.
— Ничуть, — ответил Низам-аль-Мульк. — Все его богатства я знаю наперечет.
— Откуда они взялись? — заинтересовался государь.
— Без всякого преувеличения скажу: половина денег, полученных от народа, попала в вашу казну, половина — в казну Маджд-ад-дина.
Хусейн Байкара недоверчиво посмотрел на своего везира и сказал, что Маджд-ад-дин был принят им по просьбе Бурундука Барласа. Воспользовавшись случаем, Низам-аль-Мульк решил убрать со своего пути и Барласов.
— Я считаю своей обязанностью осведомить его величество хакана об ужасном преступлении, — заговорил он, наклоняя к государю свое крупное тело. Когда ваша милость отправились в поход на Кундуз, Бурундук Барлас и его сын Шуджа-ад-дин Мухаммед говорили: «Если государь потерпит поражение мы посадим на престол царевича Увейса-мирзу и будем ему верными слугами».
Хусейн Байкара подскочил, как ужаленный. Он быстро поднялся с места и закричал, дрожа от гнева,
— Неблагодарного отца с сыном и Маджд-ад-дина сейчас же заключить в тюрьму! Позовите людей!
Низам-аль-Мульк немедленно привел людей, умевших хватать и допрашивать государственных преступников и грабить их дома. Хусейн Байкара лично отдал им приказание. Когда они вышли, султан велел позвать Эмира Али-Атке, жестокого и грубого человека, и поручил ему доставить во дворец все имущество Маджд-ад-дина.
Когда огромные сундуки, наполненные золотом, серебром, яхонтами, жемчугом и другими драгоценностями, были доставлены во дворец, султан в изумлении покачал головой. На груды индийских, китайских, " египетских тканей, ковров, шелковых и прочих редкостей он даже не посмотрел.
— Если подвергнуть его пытке, то и припрятанные богатства попадут вам в руки, — лукаво улыбаясь, шепнул султану Низам-аль-Мульк.
Эмир Али-Атке почтительно приблизился к государю.
— Обязательно надо его пытать, — сказал он. Хусейн Байкара нерешительно пробормотал:
— Пытайте, но пусть его жизнь не потерпит ущерба.
Низам-аль-Мульк недовольно поморщился.
Через несколько месяцев в диване дворца Джехан-Ара начался допрос. Присутствовало множество беков, вельмож, царедворцев и других лиц. Преступления Мухаммеда Бурундука Барласа и его сына остались недоказанными, и, они были освобождены; в качестве обвиняемого из тюрьмы был приведен один лишь Маджд-ад-дин, закованный в цепи.
Бывший везир сгорбился и похудел, в волосах его а бороде прибавилось седины. После официальных вопросов Низам-аль-Мульк подал знак. Писцы и мелкие чиновники, работавшие когда-то под начальством Маджд-ад-дина, один за другим стали выходить на середину комнаты и чернить его. В их словах истина смешивалась с преувеличениями, обвинения противоречили одно другому. В конце концов Маджд-ад-дин был вынужден принять на себя все обвинениями Допрос окончился. Вскоре после этого Низам-аль-Мульк сообщил Маджд-ад-дину, что при уплате крупной суммы можно добиться освобождения. Маджд-ад-дин согласился. Продав остаток своего имущества и земель и рассчитавшись с Низам-аль-Мульком, бывший везир остался нищим.
После всех испытаний он уже не мог остаться на родине. Его пугала возможность нового неожиданного удара со стороны Низам-аль-Мулька.
Однажды вечером в старом доме, где ему теперь приходилось жить с семьей, Маджд-ад-дин встретился с Туганбеком. Они долго разговаривали при мерцающем пламени свечи, Маджд-ад-дин вспоминал свою жизнь, свои дела. Наконец он сказал с глубокой грустью:
— Самая большая ошибка в моей жизни — моя вражда с Алишером Навои. Больше двадцати лег назад я начал действовать против Алишера. Вы сами знаете, Алишер поступил тогда честно.
— Верно, — сказал Туганбек и опустил голову. — Алишер не знает хитрости. Он очень честный человек.
— Да, — согласился Маджд-ад-дин, вздыхая. — В гневе он искренен и в жалости искренен. Всегда искренен. Что поделаешь — время упущено, ошибок уже не поправить.
Туганбек попытался утешить Маджд-ад-дина. Боясь огорчить своего бывшего покровителя, он осторожно намекнул о своей готовности оказать Маджд-ад-дину денежную помощь. Поговорить следовало еще о многом, но время было позднее. Туганбек извинился и поднялся. Маджд-ад-дин встал и обнял Туганбека:
— Прощайте, друг мой, брат мой… Трудно сказать, придется ли нам еще раз увидеться.
Туганбек удивленно посмотрел на него.
— Я собираюсь в паломничество. На рассвете уезжаю — все готово для путешествия. Если станете иногда навещать мою семью, буду вам благодарен и в этой и в той жизни, брат мой, дорогой друг, — со слезами в голосе говорил Маджд-ад-дин.
Это решено? — взволнованно спросил Туганбек
— Решено, — со вздохом ответил Маджд-ад-дин. Туганбек еще рая обнял его.
— Желаю благополучного возвращения! — сказал и исчез во мраке.
Глава тридцать первая
Хотя, зимняя длинная ночь лишь недавно опустила свой темный покров, в Унсии царила глубокая тишина.
Во всех комнатах горели свечи. В одной из них несколько поэтов во главе с Асифи вел оживленную беседу, в другой — писцы переписывали книги, в соседнем помещении Шейх Сахиб Даро, сдвинув брови сидел за шахматной доской.
Навои после вечерней молитвы обошел библиотеку, и отправился в свою комнату. Сняв с полки подсвечник, он опустился на низенькую скамеечку, покрытую небольшим ковром. Он решил закончить «Собрания знаменитостей».
Перо бегало по бумаге, поверяя ей мысли и чувства поэта.
«Собрания знаменитостей» — букет из цветов творчества нескольких сотен поэтов. Навои вспоминал о стихотворцах и причастных к поэзии ученых, обитателей Мавераннахра и Хорасана, еще живых или навсегда смеживших веки. Многих из них он знавал сам со многими переписывался. Среди них были и друзья, и враги. Но Навои говорил о их жизни, характере, способностях, достоинствах и слабостях совершенно беспристрастно. Несколько слов о жизни поэта, несколько слов о его отличительных чертах как человека, о нескольких словах — оценка его творчества. Бесчисленные проявления человеческой природы — и яркие, и тусклые, и бесцветные, и темные — оживали перед глазами Навои. Сколько интересных фигур и сколько гнусных, жалких и смешных образов отражалось в зеркале его воображения! Иногда на лице Навои мелькала улыбка; поэты, художники, ученые—хорошие или плохие, умные или глупые — все они владели словом. Поэтому о каждом из них надо сказать в этой книге.
Отдавшись мыслям, Навои не заметил, как наступила ночь. Он положил калам. Пальцы у него болели. Прислонившись к стене, поэт опустил голову и погрузился в думы. Ему вспомнился больной Джами. Сердце его дрогнуло. Посетив Джами днем, он был встревожен его состоянием.
«Надо было послать к нему человека», — подумал Навои.
Но беспокойство так овладело им, что он решил пойти сам. Поднявшись с места, он погасил свечу. Холодный ветер колол лицо цеплялся за полы одежды. Небо было темное, мрачное. Вдали, на площади, костры нукеров и караульщиков лизали черную грудь ночи. Где-то слышались звуки ная, звенели лютня и чанг. Чей-то голос распевал его газель, положенную на музыку. Несколько подвыпивших молодых, людей вышли из узкого переулка и скрылись за стеной медресе; до Навои донеслись знакомые голоса молодых поэтов.
Перед воротами и на ярко освещенном дворе дома Джами Навои увидел тревожно снующих людей. Это были родственники Джами, его друзья и близкие… Навои вошел в дом.
Вокруг лежавшего в переднем углу на подушках больного стояли друзья. У ног Джами сидел его сын Зия-ад-дин Юсуф и смотрел на отца опухшими от слез глазами. Навои опустился перед больным на колени и, склонившись к его лицу, произнес несколько слов любви и печали. Увы, очи мудреца не раскрылись. Джами был без сознания. Навои печально взглянул на врача Абд-аль-Хайи, Искусный лекарь только бессильно покачал головой. Алишер, дрожа, поднялся на ноги. Из глаз его текли слезы. Он с отеческой любовью погладил по голове Зия-ад-дина. Никто из присутствующих не мог сдержаться: все плакали навзрыд.
Джами ненадолго приходил в себя, потом снова терял сознание. Навои не покидал изголовья больного. Сладкоголосый Гияс-ад-дин Дихдар непрерывно читал над ним коран. Друзья, окружив больного, устроили зикр.[106]
На следующий день положение Джами ухудшилось, и вскоре смерть заключила его в свои объятия. На похороны собрался весь Герат. Великого поэта и шейха торжественно, предали земле возле гробницы Сад-ад-дина Кашгари.
На седьмой день после смерти Джами, Навои устроил поминки. Тысячам людей было роздано угощение. Поэты читали посвященные Джами стихи.
Вечером Навои, усталый, вернулся домой. Он чувствовал себя осиротевшим. Поэт с болью вспоминал своих друзей, похищенных рукою смерти, горестно размышлял о вечной борьбе между жизнью, и смертью. Словно раненый орел, который бьется могучими крыльями о скалы, ища для себя безопасное пристанище, его мысль пыталась найти надежное жилище.
Поэту вспомнилась написанная им когда-то газель:
Эти мысли, рожденные вдохновением, больше всего подходили к теперешнему настроению поэта. В отношении истин, перед которыми преклонялись сотни лет, такой взгляд казался наиболее разумным: хотя сомнение — отец философии и проводник к истине, мысль не может избрать его постоянным жилищем, — говорил себе Навои.
Услышав голос Шейха Бахлула, который просил разрешения войти, поэт поднял низко опущенную голову. Доверенный его слуга положил перед ним несколько сложенных по-разному листков бумаги и вышел. Навои подвинул к себе свечу и принялся просматривать бумаги. Кроме просьбы о помощи двух студентов, прибывших из Бухары и Самарканда, и письма обремененной годами вдовы-одного поэта, описывавшей свое тяжелое положение, то были жалобы дехкан и ремесленников на сборщиков налогов, на старост кишлаков и правителей туманов.
В одном на писем знакомый Навои мастер-строитель просил защиты от царевича Абу-аль-Мухсина-мирзы, который пытался обесчестить его семью. Навоя еще раз перечитал его жалобу и с отвращением покачал головой.
«Боже мой, только бы этому зверю в человеческом облике не досталась власть!»—подумал он и отложил письмо в особую папку.
Он принялся раздумывать, как и чем удовлетворить эти жалобы, и успокоился лишь после того, как мысленно разрешил все эти вопросы.
Совершив вечернюю молитву, Навои принялся за работу. Вдруг во дворе послышался шум. Через мгновенье в комнату вошел Дервиш Али в дорожной одежде. Братья радостно поздоровались. Дервиш Али рассказал, что балхские власти, по приказу из Герата, неожиданно освободили его.
— Лишь бы только все это кончилось благополучно, — продолжал он. — Я не знаю, искренняя ли его милость или в цветы положен яд.
Навои поднял брови, как бы говори: «Не знаю». Дервиш Али интересовался подробностями событий, о которых он кое-что слышал в Балхе. Навои рассказал ему, чем окончилось торжество Маджд-ад-дина. В его голосе слышался то гнев, то ирония, то мудрое сожаление о человеческих слабостях. Дервиш Али обрадовался.
— Разоблачение мерзостей, которые творил Маджд-ад-дин, без сомнения, — большое дело, — говорил Навои. — Но корни их еще не вырваны. Ставленники Маджд-ад-дина свили себе гнезда во всех присутственных местах. Правда, они теперь всячески поносят бывшего везира, но их ненасытные утробы все еще продолжают поглощать плоды трудов народа. А новый везир использует их как орудие для ограбления людей.
— Низам-аль-Мульк? — удивленно раскрыл глаза Дервиш Али.
Навои засмеялся:
— Вы очень наивный человек! Судите обо всем только по внешности. Существуют злодеи, прикрывающиеся облачением ангелов; есть шейхи, которые продают народу пьяный бред под видом чудес; есть невежды с охапкой книг под мышкой, которые называют себя учеными. Во главе нашего государства нет благородных людей с чистой совестью, которые бы думали только о пользе народа. Поэтому-то зелень жизни с каждым днем увядает.
— А разве государь оставил без внимания ваши соображения о необходимых нововведениях?
— В нашей стране, — гневно ответил Навои, — тех кто говорит о нововведениях, считают мятежниками, и награда для них — виселица.
Дервиш Али промолчал. В это время вошел Валибек. Он сказал, что только что услышал о приезде Дервиша Али и поспешил его повидать. Навои, как всегда, приветливо встретил Валибека. Завязалась беседа.
Валибек рассказал, что по дошедшим до него слухам Бади-аз-Заман задумал поднять в Астрабаде восстание и начал переговоры с правителем Кандахара Зу-н-нуном Аргуном.
Навои взволнованно слушал Валибека. Не в силах удержаться, он ударил рукой по колену и воскликнул, дрожа от волнения.
— Все это близко к истине! Не только Бади-аз-Заман, но и все другие царевичи таят в груди черные намерения. Даже такой смелый, прямодушный бек, как Зун-н-ун Аргун, и тот становится мятежником! А почему? Аргун-бек, управляя Кандахаром, не совершил ничего дурного. Он хорошо относится к нукерам, число их непрерывно растет. Но в Герате есть люди, которые ему завидуют. Кучка людей, умеющих только портить и разрушать, все время хулит его перед государем. Вот Аргун-бек и ищет себе защитника. А Бади-аз-Заман решил воспользоваться удобным случаем.
— Разве вы уже слышали об этом деле? — с удивлением спросил Валибек.
— Нет, — ответил Навои.
— Вы так верно изложили его причины.
— Из ваших слов можно было сделать только такси вывод, — сказал Навои и продолжал: —Однако мы не можем допустить в нынешнее время подобные смуты. Нет большего преступления, чем напрасно проливать кровь и раздирать страну на части. Прикрытые пеплом лицемерной дружбы и приязни, огни вражды могут разгореться в пожар. Отравленные кинжалы, спрятанные в рукаве, вдруг засверкают ненавистью и гневом. О, если бы мы могли надеяться, что какой-нибудь царевич совершит вместо этого что-нибудь хорошее и полезное для страны. Но нет!
— Это верно, — задумчиво сказал Валибек. — Члены царского дома живут между собой, как кошка с собакой. В войске — вражда. Мы, беки, воюем друг против друга.
— Потомки Тимура доныне не излечились от этой болезни. Только бы все это кончилось добром! — промолвил Дервиш Али.
Подали дастархан, но есть никому не хотелось — кушанья только слегка отведали. Когда Валибек с Дервишем Али простились и ушли, Навои тотчас же взял перо и бумагу и принялся писать письмо Бади-аз-Заману. Некоторые фразы звучали сурово. Они должны были, как клещ, впиться в сердце царевича. Перечитывая письмо, Навои задумался над ними. Однако он не изменил ни единого слова. На сердце у него стало легче: как будто рассеялся дым, окутывающий душу. Поэт лег спать.
На следующий день, после завтрака, Навои отправил Астрабад с надежным гонцом письмо, приказав вручить его лично Бади-аз-Заману. Потом он отправился в диван. Писцы лениво чинили перья и болтали между собой. При входе Навои они вдруг замолчали. Среди них попадались сгорбленные старцы, служившие еще в царствование Шахруха-мирзы, и юноши с только что пробивающимися усиками. Пройдя через помещение писцов, Навои прошел в комнату в глубине здания. Там не было никого, кроме Низам-аль-Мулька. Первый везир в расшитом халате восседал на атласных подушках. Поднявшись, он вежливо поздоровался с поэтом и указал ему место возле себя.
— Я готов оказать вашей особе любую услугу, — сказал он, лицемерно улыбаясь.
Навои вынул из кармана кипу бумаг и положил ее перед Низам-аль-Мульком.
— Эти вопросы необходимо разрешить как можно скорее, — сказал он.
Низам-аль-Мульк одну за другой развернул и прочитал бумаги.
— Господину эмиру не следовало тратить драгоценного времени на подобные дела, — сказал он, сдвигая густые брови.
— Почему? — спросил Навои.
— Если будете слушать народ, — утонете в жалобах. Можно им попросту сказать: не надоедайте мне, договаривайтесь между собой сами, — улыбаясь, ответил Низам-аль-Мульк и продолжал: — Да и с чего они обратились к вашей высокой особе? Для разбора таких дел существуют присутственные места и должностные лица.
— Народ не ждет от должностных лиц облегчения своих недугов, — возразил Навои. — Эти лица пронзают горло народа кинжалом насилия.
— Народ смотрит на чиновников недобрыми глазами, — сказал Низам-аль-Мульк. — Всегда так было.
— Народ не ошибается, — ответил поэт. — Змее никто не даст место у себя на груди.
— Лица, на которые, падают обвинения, — верные слуги государства! — воскликнул Низам-аль-Мульк, начиная раздражаться. — Во всяком случае, нехорошо забывать их достоинства и заслуги.
— В нашей стране, — взволнованно заговорил Навои, — есть тюрьмы, наказания, цепи, виселицы. Для кого? В справедливых государствах такие меры применяются только против притеснителей. А у нас верная служба злодеев заключается лишь в том, что они подрубают корни государства.
Первый везир задрожал. Он пристально посмотрел на Навои. На лице поэта читалась огромная сила, непреклонная воля, ярость, готовая вырваться и сокрушить все вокруг. Низам-аль-Мульк поспешно поднялся. Позвав одного из своих подчиненных, он передал ему жалобы и прошения и сказал:
— Ступайте сейчас же к казию и рассмотрите вместе с ним содержание этих бумаг.
Чиновник уже выходил из комнаты, когда Навои движением руки остановил его:-
— Когда вы сообщите нам последствия жалоб? Чиновник несколько растерялся и с поклоном ответил:
— Вашей высокой особе? Как только будет закончена проверка и расследование, я в тот же день лично сообщу вам об этом.
Навои вышел на улицу. Солнце то скрывалось за тучами, то ослепительно сверкало. Медленно пройдя по дороге, выложенной квадратными кирпичными плитками, поэт пошел к главному дворцу. После недолгого ожидания Навои получил разрешение видеть султана Хусейн Байкара, то ли потому, что в последнее время он редко встречался с «приближенными султана», те ли вследствие хорошего настроения, приветливо принял Алишера. Некоторое время разговор шел о незначительных предметах. Низменные страсти отложили отпечаток не только на внешность, но и на духовный облик султана. Речь его не отличалась последовательностью. Ни с того ни с сего он начинал кого-нибудь хвалить, казалось, попадись ему этот человек навстречу, он его расцелует. А то вдруг столь же неосновательно он принимался чернить кого-нибудь. Но глаза его попрежнему светились хитростью и коварством. Дождавшись подходящего поворота в разговоре, Навои вынул из кармана письмо и подал его султану, Хусейн Байкара близко поднес письмо к мутным глазам, прочитал его и молча положил на колени. Лицо его страдальчески сморщилось. Он как будто хотел сказать: «Откуда ты только выкапываешь такие скучные вещи?»
Навои смело посмотрел на государя, словно требуя ответа. Наконец Хусейн Байкара снова взял письмо в руки.
— Какое наказание или взыскание вы находите соответствующим? — спросил он и, не ожидая ответа, принялся жаловаться на недостойных сыновей.
Навои заметил, что члены царской семья должны служить для всех образцом добронравия и благопристойности, а он, к сожалению, видит нечто совершение противоположное.
— Это дело совести вашего величества, — продолжал Навои. — Перед законами и установлениями государства равно обязаны преклоняться и царь, и нищий. Я бесконечно много говорил вам об этом и снова повторяю то же самое.
Хусейн Байкара обещал посоветоваться с шейх-аль-исламом и наказать своего сына по закону пророка. Навои поклонился и вышел.
Застывшая за ночь земля растаяла под лучами солнца и покрылась жидкой грязью. Чтобы не запачкать обуви, Навои осторожно шел по обочине. Прохожие здоровались с поэтом, почтительно уступая ему дорогу. Не заходя в Унсию, поэт прошел в одно из строении, находившихся позади медресе. На большом дворе, со всех сторон окруженном постройками и айванами, сновали слуги. Одни перемывали груды глиняных чашек и блюд, другие носили воду в больших кувшинах или, заткнув за пояс полы одежды, разводили огон под огромными, стоявшими в ряд котлами, протирая слезящиеся от дыма глаза. Багрово-красные, похожие на раскормленных петухов, повара с грубо обтесанными деревянными ложками и черпаками в руках возились над котлами. Здесь Навои ежедневно раздавал пищу беднякам, убогим, сиротам.
Подойдя к поварам, поэт осведомился, что сегодня готовят, сколько положено мяса, сала, крупы, и рассмешил окружающих забавными стихами о поварском искусстве, которые ему приходилось слышать. Повара тоже не остались в долгу.
— Уж очень вас здесь много! — улыбаясь, говорил Навои. — Клюете поодиночке и раздираете меня на части.
Распорядившись выдать пищу без малейшего промедления, Навои пошел в Унсию.
Немного отдохнув в своей комнате, он сыграл в шахматы с эмиром Муртазом.
После полуденной молитвы они вместе вышли из медресе. Ханака жила своей обычной, полной величавого спокойствия жизнью. Слуги, неслышно ступая, исполняли свои обычные дела: наводили чистоту и приготовляли все нужное для постоянно занятых книгами обитателей этого дома.
Навои привел своего спутника в комнату Мирхонда. Пожилой, рассеянный, как все ученые, и несколько склонный к разгульной жизни, историк, величайший летописец своего времени, — встретил гостей радушно Двенадцатилетний внук Мирхонда Гияс-ад-дин Хондемир учтиво приветствовал их. Навои любил этого мальчика как родного сына. Он поспешно собрал и сложил книги деда. Потом, оставив свое прежнее место, сел поодаль и устремил на своего деда и его гостей умные, внимательные глаза. Дружески, без излишних церемонии осведомившись о здоровье Мирхонда, Навои поговорил с его внуком. Беседа с этим способным мальчиком доставляла ему большое удовольствие. Он спросил, какие новые исторические книги прочитал за это время Гияс-ад-дин. Хондемир назвал несколько серьезных сочинений, выбор которых Навои и эмир Муртаз одобрили.
Мальчик все свое время проводил с дедом, который по предложению Навои уже много лет обитал в этой комнате и с утра до вечера писал большой исторический труд «Сад чистоты». Их постоянно окружали ученые, поэты, художники. Слушая их разговоры, мальчик все больше проникался стремлением к знанию. Особенно полюбилась ему история. Он уже успел прочитать много исторических произведений и книгу за книгой изучал законченные части сочинения своего деда. Старик Мирхонд гордился внуком.
— Хвала аллаху, он теперь мой помощник: переписывает мои сочинения, а если моим слабым глазам трудно прочитать какую-нибудь старую, плохо написанную рукопись, — бегло читает ее мне вслух. Я посвятил свою жизнь истории; думаю, что после моей смерти эта наука не осиротеет.
Согласившись в этом со старым ученым, Навои осведомился, как подвигается работа над «Садом чистоты». Мирхонд взял несколько тетрадей, лежавших в нише, и сказал:
— Мы закончили четвертый том. Прошу вас, возьмите это домой, прочитайте и скажите свое мнение.
Навои перелистал тетрадь, с интересом пробежал глазами отдельные главы, потом положил рукопись в папку, чтобы взять ее с собой.
— Жизнь коротка, как молния, — грустно заговорил Мирхонд. — Суждено ли мне закончить остальные тома…
— Вы никуда не уйдете, пока не напишете обещанный труд. Мы все уцепимся за полы вашего халата, — пошутил Навои.
— Сегодня вам, верно; взгрустнулось, — как всегда весело, заговорил Эмир Муртаз. — Выпейте несколько кубков вина, и душа прояснится, как весеннее небо.
— Правильно, — сказал Навои. — Не бросайте привычку пить вино: оно разгоняет тоску и расплавляет железо горя и печали.
Мирхонд не отрицал, что вино очищает сердце гуляки, предавшегося богу. В его словах звучала скромность, приличествующая дервишу. Навои нравилась душевная мягкость историка, его глубокая поэтичность. К старости его душа обогатилась яркими красками духовного совершенства и стала еще содержательней.
Пришел Султанмурад и еще несколько ученых и поэтов. Беседа оживилась. Ученые говорили о сочинениях, над которыми они работали. Они советовались с Навои о существенных сторонах разных вопросов, об отдельных неясностях, сообщали ему мнения некоторых критиков. Всякому хотелось, чтобы Навои одобрил его произведение. Султанмурад сказал, что желал бы написать книгу «Сборник наук», заключающую важнейшие сведения по всем отраслям знания. Навои горячо приветствовал эту идею.
Пробило пять. Часы, изготовленные Мираком Наккашем, находились у Мирхонда в особом помещении. Эти часы представляли собой большой ящик; в ящике стояла человеческая фигура с палкой в руках. Ударяя палкой но небольшому барабану, фигура регулярно отбивала время. Сегодня беседа была так занимательна, что никто не расслышал громкого боя часов. Даже маленький Хондемир, который всегда с интересом следил за ходом часов, совсем забыл о них. Только когда муэдзин на сверкавшем в лучах заходящего солнца минарете прокричал призыв к молитве, собравшиеся поспешно поднялись.
Глава тридцать вторая
Соглашение, недавно заключенное с Хисаром, считалось обеими сторонами временным. Раздосадованный безуспешным походом, Хусейн Байкара чутко прислушивался к тому, что происходило у врагов. Со своей стороны хисарцы ни на минуту не забывали о старых недругах и не вкладывали меча в ножны. Они были преисполнены радости: столь опытный в военном деле государь, придя, с большим войском, ничего не смог сделать и оказался вынужденным удовлетвориться миром. Хисарцы не переставали плести интриги и заговоры против Герата.
Через три или четыре года после заключения мира, в 1497 году, Хусейн Байкара во главе большого войска пошел на Хисар. В походе участвовал сын государя Музаффар-мирза и другие царевичи со своими джигитами.
Хусейн Байкара остановился на берегу Амударьи, напротив Термеза. В подкрепление ему пришел из Астрабада Бади-аз-Заман-мирза. Войско врага под Начальством султана Масуда-мирзы стояло лагерем у Термеза на том берегу реки… Зимнее время и многочисленность вражеского войска не давали возможности султану Хусейну начать активные действия; он был вынужден провести зиму у Амударьи. При первых признаках весны Хусейн Байкара, отказавшись от мысли разбить врага в лоб, решил нанести удар сбоку. Вдоль берега буйной Амударьи он двинулся вверх к Кундузу! Пятьсот проворных джигитов получили приказ перейти реку.
Когда отряд, выбрав скрытое от врага место, переправился через реку и укрепился, султан Масуд, стоявший лагерем неподалеку от Хисара, поднял голову. Вместо того чтобы разбить переправившийся через Амударью неприятельский отряд, его воины в беспорядке побежали к Хисару. Воспользовавшись растерянностью врага, Хусейн Байкара перешел с войском Аму и послал Бади-аз-Замана с несколькими беками в Кундуз. Сам султан Хусейн подошел к Хисару и осадил крепость.
Несмотря на полную растерянность неприятельского войска и бегство некоторых начальников, крепость Хисар все же оставалась неприступной. Став лагерем под ее стенами, Хусейн Байкара начал искать способ захватить крепость. Опытные в деле осады беки усердно изучали стены крепости, стараясь найти их уязвимые места. В душе Туганбека кипели воинственные чувства и ярость молодости. Он как будто вновь только начал жить. Ему страстно хотелось совершить какой-нибудь удивительный подвиг и отличиться перед гордыми барласскими беками, убежденными, что они освоили военную науку еще в утробе матери. Стремление привлечь внимание государя и своего царевича трепетало в сердце Туганбека.
Днем и ночью кипела работа. Сотни джигитов укрепляли у подножия крепости большие опрокинутые котлы, наполненные взрывчатыми веществами. Они намеревались с помощью взрывов расшатать могучие — стены. Другие джигиты, выбрав определенный участок крепостной стены, с помощью простейших приспособлений метали в нее огромные каменные глыбы. Но толстые стены, по верху которых могла проехать арба, оставались незыблемыми. Защитники крепости, укрывшись за широкими зубцами стен, осыпали врагов дождём ядер. Ядра залетали очень далеко и увечили людей и коней. В стане врагов были, очевидно, замечательные воины.
Осажденные бросали на сгрудившихся под стенами джигитов огонь, обливали их кипятком, пускали дым в подкопы и душили тех, кто там находился.
Хусейн Байкара поставил шатер вдали от крепости, с северной стороны ее. Богатырское тело неутомимого рубаки очень ослабело. Теперь он уже не садился на коня, а передвигался в царской повозке или на носилках. Государь был очень обеспокоен мыслью, что поход опять окончится безуспешно. Иногда он сердился, не видя успеха, иногда уговаривал джигитов не отчаиваться, рассказывал им о богатырских подвигах предков, призывал их не жалеть своей жизни. В роскошном шатре государя ни на один день не прекращались пиры и увеселения.
Воинственные беки с нетерпением ожидали бурных дней битвы. Иногда враги доставляли им некоторое развлечение. Ночью, в глубокой тьме, из ворот выезжали сотни богатырей и, словно черный буран, налетали на лагерь. Крики разрывали грудь ночи. Завязывался короткий, но беспощадный бой. Проходило немного времени, и остатки вражеского отряда исчезали в огромных крепостных воротах.
Туганбек не находил себе места. Вот когда, казалось ему, настал час для совершения подвига, такого подвига, перед которым побледнеют все заслуги надменных барласских беков.
Туганбек с неистощимой энергией готовился к штурму крепости. Он учил джигитов изготовлять высокие осадные лестницы. Выбрав группу проворных молодцов, он однажды ночью приказал в разных местах приставить к крепостной стене лестницы. Джигиты с мечами, копьями, луками и стрелами — некоторые даже надели кольчуги — смело взобрались на крепостные стены. В крепости послышались возбужденные крики. Поднявшиеся по лестницам джигиты были сброшены вниз.
Но это не остановило Туганбека. Днем и ночью в самых неожиданных местах он, действуя с необыкновенным проворством, снова и снова штурмовал стены крепости.
Осада длилась уже полтора месяца. Были применены все известные способы осады, но безуспешно. Обе стороны проявляли одинаковую храбрость и самоотверженность; сыны одного народа, подвластные двум государям, не уступали друг другу в доблести.
Хусейном Байкарой овладело отчаяние. Услышав, что посланный в Кундуз Бади-аз-Заман разбит Хусраушахом, султан Хусейн окончательно потерял веру в успех похода. Осажденный Хисар терпел жестокие страдания. Обе стороны были осведомлены друг о друге. В такие минуты мысль о мире возникает как бы сама собой.
Чтобы смягчить взаимную вражду или прикрыть свою неудачу, Хусейн Байкара выразил желание породниться с врагом. Посланцы обеих сторон встретились и договорились. Хусейн Байкара взял дочь султана Махмуда в жены своему сыну Хайдару-мирзе. После свадебного празднества султан со своим войском поспешно ушел из Хисара в Балх.
Хусейн Байкара решил оставить Бади-аз-Замана в Балхе, назначив его правителем города. Подвластный Бади-аз-Заману Астрабад он намеревался отдать своему любимцу Музаффару-мирзе. Такого было желание любимой жены государя Хадичи-бегим. Султан Хусейн посоветовался об этом с Низам-аль-Мульком; первый везир, желая выслужиться перед Хадичой-бегим, одобрил намерение государя.
Бади-аз-Заман согласился занять место правителя Балха, но попросил подарить Астрабад его маленькому сыну Мумину-мирзе. Об этом начали шептаться по углам. Туганбек внушал Музаффару-мирзе:
— Мы не смогли завоевать крепость Хисар, но теперь пришло время захватить железную крепость вашего счастья, вашего будущего. Не сидите сложа руки, царевич!
Музаффар-мирза решительно заявил отцу о своих требованиях.
Хусейн Байкара устроил торжественное собрание с участием всех беков, высших должностных лиц и приближенных. Призвав Бади-аз-Замана и Музаффара-мирзу, он объявил о своем решении, и, согласно традиции, потребовал от них изъявления, покорности, потом он накинул на Музаффара-мирзу шитый золотом халат.
Бади-аз-Заман усмотрел в действиях своего отца несправедливость и счел себя опозоренным.
Не задерживаясь в Балхе, Хусейн Байкара направился в столицу. Бади-аз-Заман, торжественно проводив отца, отправил в Астрабад письмо; он приказывал сыну не пускать Музаффара-мирзу в Астрабад и, если нужно, оказать ему вооруженное сопротивление.
Глава тридцать третья
Утомленный походом, Хусейн Байкара мечтал зажить в Герате спокойной веселой жизнью, среди музыки и вина, воспевая в газелях свою любовь к красавицам. Но, по приговору судьбы, звезда его счастья скрылась за тучами. В столицу одно за другим начали приходить известия, что Бади-аз-Заман, собрав силы, поднимает мятеж. Это тяжко повлияло на престарелого отца.
Когда на его землю вступал внешний враг, когда поднимал мятеж какой-нибудь бек, султан Хусейн не огорчался, а только гневался и решительно и упорно готовился к походу. Но Бади-аз-Заман — его старший сын, его наследник. Разве можно встретиться с ним на поле битвы? Эта мысль отравляла жизнь султану. Он пригласил Алишера и рассказал о случившемся, ожидая мудрого совета. Алишер тоже огорчился. Жаль, что Бади-аз-Заман не послушался его искренних советов, дружески высказанных горьких истин. Что же теперь делать? Алишер глубоко задумался.
Вот против него сидит человек, который уже почти тридцать лет правит Хорасаном, почти тридцать лет поэт находится вблизи государя. Навои знает все его слабости, все его недостатки. Султан часто поступал неразумно, коварно. Поэт сам претерпел от него много обид и несправедливостей. По временам он ненавидел султана, проклинал его. Однако Хусейн Байкара все же почти три десятка лет сохраняет власть. За это время много врагов устремляло взоры на Хорасан. А мало ли и сегодня заговорщиков, горящих желанием растерзать Хорасан на части, разделить его на бекства или ханства. Могучий стан государя сгорбился, могучие руки, что раньше твердо сдерживали коня и молодецки рубили мечем, дрожат. И все же он и ныне готов защищать свою державу от любого врага, откуда бы он ни появился. И до сих пор он — самый надежный, хотя и пошатнувшийся, оплот государства. Возможно, что Бади-аз-Заман сбросит отца с престола и сам завладеет им. Но, если это случится, по крайней мере десять из четырнадцати царевичей, как сорвавшиеся с цепи бешеные собаки, бросятся в драку и перегрызут друг другу горло.
— Необходимо предупредить бедствие, чтобы его страшная рука не потрясла государство, — проговорил Навои.
— Каким образом? — удрученно спросил государь. — Дайте разумный совет.
— Разумный совет таков, — сказал Навои. — Надо еще раз сделать попытку обратиться к разуму к совести Бади-аз-Замана. Постарайтесь пробудить в его сердце любовь и доверие.
Помолчав, Навои продолжал:
— Необходимо забыть прежние обиды, укрепить искреннюю дружбу, любовь и верность.
— Значит, воевать не нужно?
— Совершенно не нужно, — ответил Навои. — Ни одна из сторон не борется за истину; наоборот, все эти распри — плоды соперничества и невежества. Значит, пролитие каждой капли крови — великое преступление.
— И я не помышляю о пролитии крови, — сказал Хусейн Байкара. — Но что если недостойный сын не поймет наших добрых желаний?
— Если сын не может постигнуть любви и приязни, долг отца ударить его палкою по шее, — ответил Навои.
Хусейн Байкара с облегчением поднялся. Помолчав немного, он попросил Навои взять на себя посредничество. Навои без малейшего колебания ответил:
— Чтобы сделать это доброе дело, ваш покорный слуга не отступит ни перед какими трудностями.
Решение султана потушить мятеж путем мирных переговоров тотчас же стало известно повсюду. Некоторые царедворцы и вельможи опечалились: они рассчитывали погреться у огня междоусобицы. Во главе недовольных стояли везир Низам-аль-Мульк и Туганбек. Низам-аль-Мулька больше всего пугала роль Навои в этом деле. Он боялся, что государь, благодарный поэту за выполнение столь важного поручения, снова приблизит его к себе.
Туганбек по другим соображениям не желал примирения государя с сыном. Он намеревался отправиться с Музаффаром-мирзой в Астрабад и там, наконец, осуществить свои давно задуманные планы. Мятеж Бади-аз-Замана не сегодня-завтра заставит подняться также и Музаффара-мирзу, беспорядок в стране усилится, бури междоусобиц свалят старого Хусейна Байкару, как трухлявое дерево. Тогда-то он, Туганбек, своей рукой возведет Музаффара-мирзу на престол и направит ладью государства в желательную для себя сторону.
В день отъезда Навои из Герата Туганбек отправился к Низам-аль-Мульку. Сыновья везира — Кемаль-ад-дин Хусейн и Амид-аль-Мульк — почтительно провели его в комнату для гостей и усадили на бархатные подушки. Рядом с этими изысканными, образованными молодыми людьми Туганбек чувствовал себя неловко. Кемаль-ад-дин Хусейн приятным, как свирель, голосом: заговорил о разных предметах. Он до того забавно рассказывал о каком-то пустяке, что Туганбек невольно заслушался. Когда старший брат замолчал, младший попробовал заставить Туганбека заговорить о военном деле. Туганбек отвечал отрывисто: он нетерпеливо смотрел то на дверь, то в окно. В это время в комнату мерными шагами вошел Низам-аль-Мульк. Он поздоровался с гостем и величественно, точно в диване, уселся па подушки. Туганбек стеснялся говорить при сыновьях везира. Низам-аль-Мульк, видимо, понял это, и сам начал беседу, словно желая успокоить гостя.
— Сегодня мы проводили господина Навои в Балх, — сказал он, поглаживая густую бороду.
— Пожелаем ему успеха, — насмешливо проговорил Туганбек. — Он, конечно сумеет, привести тысячу один довод в доказательство своих слов и убедит царевича. Я в этом не сомневаюсь.
— Алишер Навои, — сказал Низам-аль-Мульк, рассматривая украшения своего шитого халата, — любит Бади-аз-Замана-мирзу как отец. Он, конечно, сумеет повлиять на царевича.
Туганбек немного подумал, пощипывая редкую бородку и оглядывая всех своими маленькими быстрыми глазками, потом негромко сказал:
— В сущности, в Балх должен был поехать сам отец царевича. Тогда дело, вероятно, уладилось бы.
Низам-аль-Мульк и его сыновья лукаво улыбнулись. Кемаль-ад-дин Хусейн поддержал Туганбека, но сгустил краски и даже припомнил приличествующие случаю стихи какого-то неизвестного поэта. Туганбек, которого раздражала излишняя изысканность и тонкость в манерах этих людей, нахмурился.
Потом заговорил Низам-аль-Мульк, и цели его начали выясняться; но он все же ничего не сказал о том, каким способом можно помешать Навои осуществить свой план. Туганбек тоже не осмеливался сделать какое-нибудь необдуманное предложение.
Наконец Низам-аль-Мульк пообещал обдумать эту задачу и, посоветовавшись с некоторыми вельможами, принять меры. Он уверил Туганбека, что сумеет прибрать государя к рукам. Туганбек, не находя нужным расспрашивать о подробностях, поднялся. Везир посоветовал ему повлиять в нужном направлении на Музаффара-мирзу и Хадичу-бегим. Туганбек кивнул головой.
— Это можете предоставить нам, — самоуверенно сказал он.
Глава тридцать четвертая
Солнце склонилось к горизонту. Вдали, на холмах, бродили вечерние тени. На полях, тянувшихся вдоль большой караванной дороги, ветер поднимал зеленые волны. Навои со своими спутниками, покинув последний рабат перед Балхом, медленно ехал вперед, не подгоняя коня, утомленного многодневной дорогой. Иногда он рассеянно бросал несколько слов своим спутникам или указывал на какую-нибудь подробность пейзажа, потом опять умолкал. Вот вдали появились очертания древней крепости. Лошади, чувствуя приближение жилья, поскакали быстрее.
За рощицей развесистых деревьев клубами взвивалась пыль. Вскоре путники увидели толпу людей спешивших им навстречу, — царевич Бади-аз-Заман, окруженный личным телохранителями и приближенными, выехал приветствовать поэта.
Приблизившись, Бади-аз-Заман быстро сошел с коня, поклонился Навои и поздоровался с ним. Он вежливо расспросил о здоровье поэта, о трудностях дороги. Его спутники церемонно подходили к Алишеру и пожимали ему руку.
Навои в свою очередь осведомился о настроении и самочувствии Бади-аз-Замана, потом бок о бок с царевичем, сидевшим на богато убранном коне, поэт въехал в Балх. В городе народ взволнованно и радостно приветствовал Алишера.
Вечером Бади-аз-Заман устроил в честь Навои пышное пиршество. Блюда, чаши, кувшины были сплошь золотые и серебряные. Бади-аз-Заман, который славился умением принять и угостить, в тот день придавал особое значение порядку, вкусу и тонкости разговора, музыки и других развлечений. Причина приезда Навои была известна царевичу, но ни тот, ни другой не обмолвились о ней ни словом. Поэт утомленный трудной дорогой, с нетерпением ожидал конца пира.
На следующий день, после завтрака, Навои, оставшись наедине царевичем, приступил к переговорам. В юности Бади-аз-Заман был воспитанником и учеником поэта; как многие Государи и царевичи из рода Тимура, Бади-аз-Заман любил стихи и сам время от времени кое-что писал. Он относился к Навои с большим уважением, разговор с поэтом всегда доставлял ему удовольствие.
Навои подробно рассказал царевичу о положении государства и сообщил, что приехал с целью устранить разногласия, вражду и недовольство. Он подкрепил свои слова бесчисленными примерами из истории, пытаясь подействовать на разум и совесть царевича. При этом он, не стесняясь открыто высказал Бади-ад-Заману обидные для его самолюбия истины, от которых царевич то бледнел, то краснел.
— Я всю жизнь желал увидеть такого государя, который был бы совершенным человеком, но к сожалению, я видел его только в мечтах, — говорил Навои. — Вы знаете и помните, кого я имею в виду, а если забыли, — прочитайте еще раз сказание об Искандере. Вот настоящий повелитель, сокровище добродетелей. В вас нет и тени его достоинств. Вы не годитесь ему даже в нукеры. — Бади-аз-Заман низко опустил голову. Глубоко вздохнув, словно терзаемый душевной болью, он начал жаловаться на несправедливость отца. Наконец он сказал:
— Отклонить просьбу столь великого и дорогого учителя, как вы, было бы тяжким преступлением. Из любви к вам я выражаю согласие и прошу вас призвать моего отца к правосудию и справедливости.
Навои обрадовался. Пожелав царевичу всяких благ, он осведомился о положении дел в области. Потом вышел, чтобы повидаться с друзьями.
Прошло три-четыре дня. Однажды, возвратившись домой, поэт узнал от слуг, что его призывает к себе Бади-аз-Заман. Войдя в палату, где сидел царевич, Навои нашел его мрачным и печальным. Поэт удивленно спросил:
— По какому делу вы хотели меня видеть?
Бади-аз-Заман ничего не ответил. Он взял с подушки какую-то бумагу, развернул и подал Навои. Пробежав бумагу глазами, поэт затрепетал от гнева. Письмо Хусейна Байкары, адресованное беку крепости Балха, гласило: «Если Бади-аз-Заман-мирза выехал из крепости, то при возвращении не впускайте его обратно и немедленно заключите в тюрьму».
Предполагая, что письмо подложно, Навои стал внимательно разглядывать печать, и его сомнения тотчас же рассеялись.
— Вот какова любовь нашего отца и его верность своему слову, — грустно сказал Бади-аз-Заман. — Если бы мои нукеры скрыли от меня это письмо, я, вероятно, сидел бы сейчас в тюрьме. Но нет! Слава боту, лицемерие разоблачено!
Навои положил письмо перед царевичем и ничего не сказал. Действительно — его переговоры с Бади-аз-Заманом становились крайне двусмысленными. Он проклинал Хусейна Байкару и окружающих его заговорщиков за подлый поступок.
— Увы! — сказал он, вставая. — У наших правителей не осталось ни разума, ни совести. Дух коварства и лицемерия поглотил их достоинства. В речах их нет смысла, в поступках нет стыда. Такого страшного несчастья еще не было.
Бади-аз-Заман поднял голову. Он сказал, что знает, как чисто сердце поэта, как возвышенны его мысли. Но, несмотря на всю его любовь к Навои, разговор о мире теперь невозможен.
— Тогда пусть стыд и позор перед историей, перед всем миром падут на вас обоих. Пусть сын с отцом душат друг друга на поле битвы! Во имя личных распрей, вражды и корысти заливайте кровью землю благословенной родины! Для вас это — молодечество, мужество, геройство Рустама. За каждую каплю несправедливо пролитой крови вы будете навеки покрыты позором перед историей. Пользуйтесь случаем, спешите проявить все ваши дурные качества!
Навои в гневе вышел из палатки и приказал своим спутникам готовиться к отъезду.
Бади-аз-Заман собрал беков и джигитов, знающих военное дело. Были обсуждены вопросы о наборе войска, об увеличении запасов оружия и снаряжения, о месте, где следует дать бой войскам султана Хусейна. После этого началась усиленная подготовка, не прерывавшаяся ни днем, ни ночью. Не имевший опыта в военном деле, Бади-аз-Заман несколько растерялся. По его просьбе Зу-н-нун Аргун-бек и его сын Шах Шуджа-бек прибыли из Кандахара и взяли дело в свои руки. Зу-н-нун Аргун-бек, простой, грубоватый старик, в своей жизни повидавший немало боев, несмотря на преклонные годы, сохранил богатырский вид. В его словах и поступках было много сумасбродства, но это качество украшало его, как косы, — красавицу. Его сын Шах-Шуджа был в том возрасте, когда душа богатыря раскрывается во всей полноте. Он с малолетства сопровождал своего отца в боях, наблюдая войну, как интересное зрелище, рубился на мечах и закалился, дыша воздухом битвы.
Подготовка к войне была еще не вполне закончена, когда пронесся слух, что Хусейн Байкара спешно выступил в поход. Бади-аз-Заман кое-как привел свои войска в порядок и стал лагерем в Тенг-Дере. Вокруг лагеря расставили сильные сторожевые посты. Для выяснения размеров неприятельских сил были тайно посланы люди. Лагерь по ночам бдительно охранялся, чтобы передовые отряды врага не могли совершить неожиданного нападения.
Однажды вечером на горизонте засверкали костры — это расположились лагерем войска султана Хусейна. Всю ночь в стане Бади-аз-Замана кипела работа. Были собраны сотни пустых повозок и связаны между собой толстыми цепями. Под прикрытием этих повозок пешие стрелки должны были стрелять из луков. Джигиты, проверив сбрую коней, принялись начищать оружие. На рассвете воины в кольчугах и шлемах сели на коней и, разделившись на правое и левое крыло, застыли в ожидании.
Бади-аз-Заман с Зу-н-нуном Аргуном, поднявшись на холм, обозревали расположение вражеского войска. Оказалось, что Хусейн Байкара пришел с огромными силами. Бади-аз-Заман побледнел; лицо Зу-н-Нуна Аргуна было, как всегда, мрачно, решительно и невозмутимо.
— Что поделаешь! — сказал он громким голосом. — Чем бежать за крепостные стены, лучше потерпеть поражение в бою с сильным врагом. Быть разбитым тоже полезно: закаляешься, приобретаешь опыт.
Бади-аз-Заман промолчал. Он поднялся выше на пригорок уже один. Конница неприятеля, разбившись на две группы, — продвигалась вперед. В центре войска он увидел своего отца, окруженного личными телохранителями. Золотая завязка джиги, прикрепленной к шапке Хусейна Байкары, сверкала на утреннем солнце тонкими язычками пламени.
Совершенно подавленный Бади-аз-Заман сошел вниз в сел на коня, которого держали нукеры. Отступать было поздно. По знаку царевича Шах-Шуджа повел передовые отряды в бой. Зу-н-нун Аргун бросился с правого крыла на помощь сыну. Отряд врагов устремился на повозки, прикрывавшие стрелков, но, не устояв перед стрелами лучников, — отхлынул назад. Другой отряд, сойдя с коней; украдкой приблизился к повозкам и начал выгонять лучников из-под прикрытия, осыпая их стрелами.
Шах-Шаджа-бек и Зу-н-нун Аргун не выдержав напора несметных сил неприятеля, отступали, время от времени снова бросаясь вперед. Но лишь незначительная часть их джигитов следовала за ними; войны, расстроив ряды, обратились в беспорядочное бегство.
Бади-аз-Заман понимал, что он побежден, но, отступая, все же принимал меры к обороне. Шуджа-бек и его старый отец, медленно отходившие с горсточкой воинов, нанеся удары врагу, ободряли царевича. Однако напор врагов становился все сильней и сильней; Джигиты Хусейна Байкары беспощадно избивали соплеменников, словно злейших врагов.
Личные телохранители Бади-аз-Замана, высланные вперед, вернулись к нему, окружили его с возгласами: — Надо бежать, или враги возьмут вас в плен. Бади-аз-Заман огляделся по сторонам и убедился, что джигиты правы. Он послал к Зу-н-нуну Аргуну и Шах-Шуджа-беку людей с приказом: «Постарайтесь как-нибудь вырваться». Потом, собрав горстку джигитов и хлестнув коня, он помчался, как вихрь.
В горах Бади-аз-Заман почувствовал себя в безопасности и сдержал взмыленного коня. Царевич с трудом переводил дух. Он подождал отставших джигитов, которые пробирались к нему, с шумом сбрасывая на своем пути камни. Джигиты, задыхаясь, кричали:
— Абу-аль-Мухсин едет за нами следом! Едем скорее!
Не говоря ни слова, Бади-аз-Заман хлестнул коня плетью. Обрывистая, усеянная камнями дорога становилась все хуже и хуже. Наконец она оборвалась, упершись в громадные скалы. Ехать верхом было невозможно. Бросив коней, джигиты начали карабкаться вверх. После мучительных усилий беглецы добрались до перевала. Но спуститься вниз, на другую сторону, казалось невозможным. Джигиты связали из тюрбанов и поясов длинную веревку, привязали Бади-аз-Замана и, помогая друг другу, спустили царевича вниз. Покрытый синяками и ссадинами, Бади-аз-Заман передохнул у подножья горы и медленно направился в область Кундуза, ища убежища.
Глава тридцать пятая
В большом, залитом солнечным светом саду молодой царевич — Мумин-мирза стрелял из лука, радостно вскрикивая всякий раз, когда стрелы перелетали через высокие деревья.
Его отец Бади-аз-Заман уехал в Балх и временно передал ему звание правителя Астрабада. Однако двенадцатилетний мальчик, естественно, был далек от государственных дел. После уроков он скакал на лошади, стрелял из лука, смотрел на боевые упражнения джигитов на большой площади, старался сам научиться военному искусству. Чиновников, управляющих областью, было много. Иногда они для вида спрашивали его мнение, заговаривали с мальчиком о том или ином деле. В делах, почему-либо казавшихся ему важными, Мумин-мирза отнюдь не был склонен уступать взрослым. Он долго расспрашивал чиновников, иногда, прежде чем дать ответ, советовался со своей матерью.
Когда мальчик, набегавшись и устав стрелять, вышел из сада, ему сказали, что его ждет гонец, прибывший из Балха.
Мумин-мирза сначала полюбовался красивым конем, потом заговорил с посланцем. Гонец вынул из-за пазухи письмо и с поклоном вручил его мальчику. Мумин-мирза передал свой лук слуге и прочитал письмо. Лицо его вдруг стало серьезным. Отец возлагал на него трудную задачу, повелевая не отдавать Музаффару-мирзе Астрабад и, если придется, оказать дяде вооруженное сопротивление.
Мумин-мирза прочитал письмо бекам. Сознавая сложность положения и трудность подобной задачи для ребенка, беки нерешительно спрашивали:
— Что вы сами думаете да этот счет? Мумин-мирза решительно ответил:
— Я выполню приказание своего дорогого отца.
С этого дня мальчик забросил игры. Обдумывая предстоящую встречу со своим дядей, он не спал по ночам.
Возле него не было опытных, знающих военное дело людей. Большинство джигитов Бади-аз-Заман увел с собой в Балх. Несмотря на все старания, Музаффару-мирзе удалось собрать не больше двухсот — трехсот воинов.
Прошло много времени, о Музаффаре-мирзе ничего не было слышно. Мальчик мало-помалу успокоился и возвратился к любимым играм, когда вдруг стало известно, что к Астрабаду приближаются во главе большого войска Музаффар-мирза, Мухаммед Бурундук Барлас и Туганбек. Мальчик не растерялся. Он даже ободрял взрослых, которые страшились последствий этого дела. Собрав беков, Мумин-мирза объявил, что намерен выполнить повеление своего отца, и приказал воинам садиться на коней. Сам он вооружился широким острым мечом, кинжалом и маленьким, но крепким луком. Нукеры подвели горячего туркменскою коня, и мальчик почти без чужой помощи сел в седло. Словно собираясь на охоту или на прогулку, он выехал из города. Посоветовавшись с опытными воинами, царевич выбрал подходящее место для встречи с врагом.
На следующий день Музаффар-мирза разбил лагерь в трех или четырех верстах от него и тотчас же начал расставлять своих воинов в боевом порядке. Это позволяло судить о его намерениях. Среди воинов Мумина-мирзы были верные люди. С их помощью мальчик тоже расставил — своих воинов по местам. В это время от Музаффара-мирзы прибыли послы. Они предложили юному царевичу сдать город.
— Возвращайтесь, — смело сказал послам Мумин-мирза, — и передайте вашему господину, что я совершенно не желаю воевать с родным дядей. Это постыдное дело. Однако пока не будет разрешения от моего отца, я не вправе сдавать, город.
Послы уехали. Джигиты царевича были в восторге от его ума и умения держать себя.
Музаффар-мирза лишен чести, — говорили в стане Мумина-мирзы. — В противном случае разве он повел бы против молодого царевича такое войско?
Маленький полководец на нетерпеливо грызущем удила туркменском коне, ничуть не смущаясь, рассуждал о войне, словно дело шло о скачке или игре в чавган.
Справа, из-за холма, появились, вздымая клубы пыли, всадники Музаффара-мирзы. Когда они приблизились на расстояние полета стрелы, джигиты Мумина-мирзы принялись стрелять из луков. Другой отряд врагов бросился на воинов Мумина-мирзы, намереваваясь прорваться. Через мгновение на широком поле вспыхнул горячий бой. На правом крыле бойцы обеих сторон схватились врукопашную. Падали люди, мчались кони, поднялся крик, шум… Отряд врагов, брошенный против центра войск Мумина-мирзы, несмотря на энергичное сопротивление, стал теснить их, пользуясь численным превосходством. Молодой царевич не утерпел: ударив коня, он обнажил меч, сверкнувший на солнце белым пламенем, и бросился вперед. Окружавшие его джигиты со всех сторон ринулись к мирзе. Один из нукеров проворно схватил коня под уздцы и, бледный как полотно, взмолился: — Царевич, бога ради, не вступайте в бой! Заклинаю вас жизнью не выезжайте в поле!
Мумин-мирза нахмурился и закричал тонким голоском:
— Оставь меня! Другие идут на гибель, а мы будем смотреть?
Он сильно ударил коня плетью, и могучий аргамак сделал скачок и устремился вперед. Джигиты: помчались за ним следом. Размахивая мечом в тонких детских руках, Мумин-мирза гневно осматривался по сторонам, чтобы видеть, в каком положении его джигиты, и оказать им поддержку.
На правом крыле джигиты, теснимы врагами, начали разбегаться. Мумин-мирза с четырьмя искушенными в боях воинами повернул в ту сторону. Нахлестывая коней, они мчались в облаке пыли, внезапно на них налетел большой отряд врагов. Мумин-мирза хотел проскочить мимо, но кто-то подъехал сзади, сорвал мальчика с седла и, бросив его к себе на колени, умчался к стану Музаффара-мирзы. Мумин-мирза, собрав все силы, забился в железных руках врага, но освободиться было невозможно. Он рванулся и чуть-чуть поднял голову; его глаза встретились с глазами Туганбека. Задыхаясь от ярости, царевич крикнул: — Собака.
Двум богатырям Мумина-мирэы удалось опередить Туганбека. Подняв мечи, они напали на него с обеих сторон, но на них бросился десяток вражеских воинов. Они самоотверженно сражались, но в конце концов пали, изрубленные мечами.
Астрабадские воины, узнав о пленении Мумина-мирзы, рыдали от горя, но не прекращали сопротивления. Многие из них были уничтожены, остальных враг разметал по широкому полю. Однако джигиты снова собирались в маленькие отряды и бросались на врага.
Туганбек доставил своего пленника к Музаффару-мирзе и с гордостью передал его своему хозяину. Покрытый пылью мальчик, нахмурив брови, смело смотрел на выхоленного, нарядного Музаффара-мирзу, сидевшего на мягких коврах в прохладной тени деревьев. Музаффар-мирза, иронически улыбаясь, спросил: — Ну что, хорошо вышло?
Вы сами виноваты. Я только выполнял приказ, — ответил Мумин-мирза, еле шевеля пересохшими от жажды губами. Если бы вы немного, потерпели, я бы посоветовался с отцом или с его величеством государем, моим дедом, и сдал бы вам город.
— Существует и другой путь, — насмешливо заговорил Музаффар-мирза. — Если бы ты повесил на шею ножны меча и сам пришел бы ко мне, я оказал бы тебе милость.
— Я — потомок великого Тимура! — гневно воскликнул мальчик, — Если бы я повесил на шею ножны меча и преклонил колени перед врагом, это было бы оскорблением памяти моего великого предка.
— Кому ты говоришь такие слова?
— Вам! Если бы вместо вас пришел Рустам или Чингиз, я сказал бы им то же самое, — ответил Мумин-мирза и сел на землю, дрожа от гнева и отчаяния.
В глазах стоявших вокруг нукеров было сожаление и нежность. Многие из них переглядывались и тихо качали головами. Музаффар-мирза смущенно поднялся и, кивнув Туганбеку, удалялся. Старый, опытный боец, страстный любитель птиц и охоты, Мухаммед Бурундук Барлас подошел к благородному пленнику и почтительно погладив его по голове, сказал:
— Вы правильно говорили, мой царевич, вырастете — будете начальником большого войска.
Он приказал джигитам накормить и напоить мальчика.
Вечером Музаффар-мирза торжественно вступил о Астрабад. Чтобы Мумин-мирза не убежал, он велел заточить его в темницу и приставить к нему сильную охрану.
По случаю победы Музаффар-мирза устроил большой пир. Отличившимся джигитам царевич пожаловал богатую одежду и оказал всевозможные милости.
Через несколько дней из Балха пришли вести, что Хусейн Байкара жестоко разбил своего сына Бади-аз-Замана. Это известие очень обрадовало Музаффара Он послал гонца поздравить родителя с победой.
Спустя месяц Туганбек, по просьбе Музаффара-мирзы, отправился к государю с некоторыми поручениями. Хусейн Байкара находился в это время на берегах Мургаба. В самый день приезда в ставку Туганбек благодаря содействию Низам-аль-Мулька был принят государем в его шелковом шатре. Туганбек передал привет от Музаффара-мирзы и доложил просьбу царевича об увеличении причитающейся ему части доходов от Астрабадской области. Хусейн Байкара согласился удовлетворить желание любимого сына. Потом он поблагодарил Туганбека за услуги, — оказанные Музаффару-мирзе, и обещал пожаловать ему титул бека и обширные земли в Гератской области. Туганбек вышел от государя гордый и счастливый.
Вечером султан Хусейн устроил пир. В числе приглашенных был и Туганбек, который занимал на пиру одно из самых почетных мест. В огромном шелковом шатре, не уступавшем по величине дворцам в саду Джехан-Ара, шло веселое, радостное пиршество. Жареных гусей, перепелов обильно запивали вином. Пляски, шутки острословов, всевозможные развлечения не прекращались всю ночь и весь день. Хусейн Байкара сильно опьянел.
В сумерки приглашенные разошлись. Туганбек вышел из шатра с Низам-аль-Мульком и его сыновьями.
Вокруг поставленных в ряд шелковых шатров, перед которыми расхаживали есаулы, тускло поблескивали факелы. Низам-аль-Мульк был свеж и бодр, словно ничего не пил. Туганбек, хотя выпил много, как всегда, владел собой. Везир взял его под руку и повел большому шатру, стоявшему поодаль. Вокруг этого шатра расположилось множество караульных-евнухов. Туганбек, несколько смущенный, остановился входа.
— У Хадичи-бегим будет важное совещание, — шепнул ему Низам-аль-Мульк.
Хадича-бегим приветливо встретила Туганбека. Она осведомилась о здоровье сына и с интересом расспрашивала о событиях в Астрабаде, хотя была прекрасно о них осведомлена. Туганбек коротко изложил ей суть дела.
— Как же вы думаете поступить с этим недостойным пленником? — спросила Хадича-бегим, приглаживая пальцами поседевшие брови.
— Не знаем, — ответил Туганбек. — Сейчас он находится в Герате, в крепости Ихтияр-ад-дин. Мы отослали его туда с надежными нукерами.
— Негодяя, которым непочтительно обошелся с моим сыном, следует строго наказать. По моему мнению, его нужно убить. Отец хотел захватить Герат, сын — Астрабад. Нет, этого мы никогда не допустим! — гневно прошептала Хадича-бегим.
Глаза Туганбека удивленно раскрылись. Низам-аль-Мульк с лукавым видом молчал.
Сыновья Низам-аль-Мулька, которые после каждого слова царицы утвердительно кивали головой, оба разом воскликнули:
— Воля ваша!
Такое решение вопроса пришлось как нельзя более по душе Туганбеку. Действительно, не было лучшего средства зажечь гневом сердце Бади-аз-Замана и усилить вражду между отцом и сыном. А тогда и Туганбеку легче будет осуществить свои, планы.
— Где указ? — спросил Туганбек, наклоняясь к Хадиче-бегим.
— Получу его сегодня же ночью. Но выполнить его надо быстро, это должен сделать такой человек, как вы. Послать указ с первым попавшимся нукером не годится, гератцы, получив такое повеление, вероятно, постараются найти способ оттянуть казнь. Если об этом услышат эмиры, они могут спросить государя, в чем преступление Мумина-мирзы.
— Несомненно! Несомненно! — пробурчал себе под нос Низам-аль-Мульк.
— За такую услугу можно получить горы золота, — протяжно, как свирель, пропел старший сын Низам-аль-Мулька.
Туганбек мрачно посмотрел на него:
— Но не кончится ли это неприятностями?
— Что вы, что вы! — сказала Хадича-бегим с ужимкой старой распутницы. — Вы же поедете с приказом скрепленным печатью государя.
Простившись, с Хадичой-бегим, все вышли. Низам-аль-Мульк направился в свой шатер, Туганбек пошел в шатер его сыновей. Никому не хотелось ложиться.
— Государь, должно быть, не согласится, — сказал Туганбек.
— Приказ сейчас будет у нас в руках, — возразил Амид-Мульк. — Хадича-бегим так окрутила султана, что и описать невозможно.
— В особенности, если его величество хакан находится под действием вина. Тогда от него нетрудно получить любой приказ.
Туганбек прилег на подушки и погрузился в думы. Кемаль-аль-дин Хусейн взял книгу в сверкавшем золотом переплете и медленно нежным голосом начал читать газель. Часа через два вошел Низам-аль-Мульк.
— Вот приказ, — горделиво сказал он. — Выезжайте — скорее.
Туганбек поднес приказ к свече, прочитал его и покачал головой.
— Любимая жена… — улыбаясь, проговорил везир.
— Пьяному любимая жена кажется еще милее, — заметил Амид-аль-Мульк.
Туганбек попрощался и вышел из шатра. Пинком ноги он разбудил нукеров. Те мигом приготовили коня, и Туганбек помчался, словно спасаясь от погони. Когда он доехал до первого рабата, уже светало. Дав коню передохнуть, он понесся дальше.
В следующих рабатах Туганбек менял лошадь и, не отдыхая, скакал дальше.
На второй день вечером взмыленный конь остановился у ворот крепости Ихтияр-ад-дин. Туганбек соскочим с коня и, переваливаясь, вошёл во двор. Тюремщик дремал возле свечи. Нукер перелистывал старую истрепанную книжку, вероятно какую-нибудь «Книгу битв». При входе Туганбека он прервал чтение и вскочил. Тюремщик лениво поднялся. Это был человек с короткой, похожей на веник бородой и вялыми движениями; в глазах его светилась жестокость.
— Здравствуй, земляк, как здоровье? — сказал Туганбек и подал ему приказ.
Тюремщик поднес бумагу к свету и, пробежав ее глазами, исподлобья взглянул на Туганбека. Он отвел Туганбека в сторону и сказал шепотом:
— Клянусь моими предками, я не ожидал таково наказания. Объясни, бек что это значит?
— Высочайший приказ! — раздраженно воскликнул Туганбек. — И ты, и я — все мы рабы хакана. Наше дело — повиноваться, и все! Но торопись, — продолжал Туганбек, отводя тюремщика еще дальше в глубь комнаты, — Сегодня ночью мы покончим с этим делом. Пока все не будет сделано, держи язык за зубами.
Тюремщик, нахмурившись, снова подсел к свету. Устремив глаза на приказ, он долго покачивал головой.
Туганбек решил никуда не выходить из крепости. Он даже не пожелал повидаться со своей семьей. Дав нукеру денег, он приказал принести чего-нибудь из харчевни и спокойно поел.
После вечерней молитвы появился Амир-Абади. Это был совершенно не страшный на вид человек с густой бородой на маленьком лице; глаза его постоянно горели каким-то тусклым светом. Он считался мастером по допросам и пыткам.
Взглянув на тюремщика и Туганбека, он сразу почуял что-то зловещее. После короткого приветствия, он обратился к Туганбеку:
— Если я не ошибаюсь, господин бек изволил прибыть для того, чтобы обточить один из драгоценных камней венца государя?
— Чтобы разбить его, — сказал Туганбек, глядя в землю.
— Вот как! Если бы мы преподали царевичу урок, соответствующих гневу его величества султана, этого было бы достаточно.
Взяв у тюремщика приказ, Амир-Абади прочитал его.
— В этом, деле нет смысла медлить, это было бы неуважением к высокому приказу, — сказал он.
Тюремщик тотчас же поднялся с места и исчез в темноте. Амир-Абади направился к дверям тюрьмы.
Туганбек, решивший присутствовать при казни, пошел за ним следом. Он знал, что царевичам удавалось иногда отвести занесенный над их головой меч обещаниями золота или высокой должности палачу. Случалось также, что узнику давали возможность убежать или укрывали его.
— Хотите посмотреть? Прекрасно! — сказал Амир-Абади, указывая Туганбеку дорогу.
В темноте тюрьма казалась еще более мрачной. Иногда в потемках слышались вопли и рыдания. Амир-Абади то спускался куда-то вниз, то поднимался наверх. Наконец он остановился перед огромной стеной, похожей на крепость внутри крепости. Зазвенели ключи, дверь распахнулась с ужасающим скрипом. Туганбек вошел внутрь помещения; в нос ему ударило сырым спертым воздухом. При слабом мерцающем пламени свечи, которое дрожало, словно боясь темноты, Туганбек разглядел длинный проход. Амир-Абади отпер дверь в конце прохода и пропустил Туганбека а каземат.
Мумин-мирза сидел на тюфяке у свечки и громко читал коран. Он подумал, что нукеры принесли еду, и, не поднимая головы, продолжал читать монотонным голосом.
— Царевич очень увлечен словом аллаха, — сказал Туганбек, приближаясь к мальчику.
Мумин-мирза быстро поднял голову. Словно не веря своим глазам, он взглянул на Туганбека и сказал, сердито сдвигая брови.
— А, пехлеван, откуда? Что вы здесь делаете? Какие привезли новости?
— Я пришел проведать царевича, — заикаясь, пробормотал Туганбек.
— Вы тогда пришли с большим войском, — горько улыбаясь, заговорил Мумин-мирза. — Мои джигиты хорошо дрались, но только нас было очень мало. Потом я сообразил, что тогда наделал много ошибок, правда? Как-то однажды Джехангир Барлас беседовал с моим отцом и рассказал много интересного о том, как можно с малыми силами разбить большое войско. Я не последовал советам этого богатыря.
— Вы хорошо воевали, — сказал Туганбек, отводя глаза.
— Нет, — покачал головой мальчик, — надо было добиться победы. Когда меня освободят, я поговорю с моим дедушкой и буду учиться военному делу.
Туганбек побледнел. Прижав руку ко лбу, он проговорил:
— Царевич! Все мы рабы божьи, должны прежде всего просить жизни у господа.
— Конечно, — сказал Мумин-мирза. — Но жизнь без желаний ни на что не нужна.
В коридоре послышались грубые голоса. Мумин-мирза посмотрел на дверь, потом перевел глаза на Туганбека и Амира-Абади.
— Если вам нечего мне сказать, уходите. Я лягу, — повелительно произнес маленький царевич.
Амир-Абади засмеялся, скаля свои кривые зубы. — Вошли тюремщик и палач. Мальчик окинул их пронзительным взором. Вся кровь отхлынула от его лица. Он вскочил с места.
— Зачем вы пришли?! — закричал он. В его глазах мелькнул страх.
Амир-Абади, словно, клещами, схватил обе руки царевича и грубо сказал:
— Царевич, вы сейчас отправитесь прямо к господу.
— Негодяи! — закричал Мумин-мирза, силясь вырваться. Чей это приказ? Неужели вы не боитесь гнева моего деда? Оставьте меня! Уходите!
— Мы привезли высокий приказ хакана, вашего деда. Надо покориться судьбе, — тяжело дыша сказал Туганбек.
— Воля аллаха… Судьба, — проговорил тюремщик, показывая приказ.
— Что сталось с моим дедом?
Самому выдавить себе глаз! Жестокий, несчастный дед!
Палач поднял Мумина-мирзу и бросил его на голый земляной пол; Амир-Абади поднес свечу. Туганбек отвернулся и опустил глаза. Мальчик слабым, плачущим голосом закричал:
— Мама, где ты? Отец!
Палач вонзил ему в горло кинжал. Мальчик захрипел и смолк. Палач обтер кинжал о шелковую рубашку царевича и выпрямился.
Туганбек тяжело ступая, вышел следом за Амиром-Абади. На свежем воздухе он глубоко перевел дух. Поравнявшись с палачом, Туганбек заметил:
— Умный был мальчик.
— И красивый, как Юсуф,[107] — сказал Амир-Абади, облизав губы.
Дойдя до комнаты тюремщика, палач объявил, что идет пить, простился и ушел.
Туганбек вошел в комнату. Увидя его, тюремщик удивленно спросил:
— Господин бек собирается ночевать в этой бедной, хижине?
Туганбек ничего не ответил. Тюремщик вставил в светильник новую свечу, потом сел в сторонке и задремал. Через некоторое время он снова обратился к Туганбеку:
— Я постелю постель. Отдохните немного.
— Ложись сам. Если мне захочется спать, я подремлю так, — проворчал Туганбек.
Он решил завтра же отправиться в ставку, — порадовать Хадичу-бегим.
Туганбек не хотел ни одного лишнего дня оставаться в Герате. Завтра-послезавтра весь народ узнает о случившемся и начнет обсуждать это преступление. Туганбек, правда, не виноват в приказе государя, но, во всяком случае, его имя будет у всех на устах. Какие-нибудь злоязычные поэты напишут на него сатиру.
Тюремщик долго где-то пропадал и, наконец, вернулся, раздобыл для бека несколько новых атласных одеял и две мягкие пуховые, подушки. Он постелил Туганбеку постель, а сам улегся в сторонке.
Было за полночь. Туганбек разделся и уже собирался лечь, когда в ворота во весь опор влетел всадник. Вооруженные нукеры, безмолвно ходившие по широкому двору, тотчас же сбежались к нему. Туганбек, не обращая внимания на шум во дворе, улегся на постели, как вдруг кто-то вошел в комнату. Туганбек поднял голову и увидел одного из доверенных дворцовых слуг. Тюремщик испуганно вскочил.
— Что за шум? — грубо спросил Туганбек.
— Вы здесь? Очень хорошо! — запыхавшись, сказал слуга. — Его величество хакан отменил прежнее повеление. Вот новый приказ.
— Что такое? — Туганбек одним прыжком вскочил на ноги.
— О горе! — закричал тюремщик и ударил себя по лбу.
— Царевич? Что? Неужели погиб? Вот беда! Что вы говорите?! О горе!
— Судьба! — мрачно сказал Туганбек.
— От судьбы не уйдешь, — дрожа, проговорил тюремщик.
Туганбек взял у гонца новый приказ. Прочитав его про себя, он долго растерянно молчал. Приказ действительно отменял первоначальное повеление. После тяжелого молчания Туганбек спросил, почему государь отказался от своего решения.
— Его величество государь отдал первый приказ под влиянием опьянения, ничего не сознавая, — проговорил гонец, стараясь сдержать волнение. — Некоторые приближенные, знавшие об этом приказе, на следующее утро разъяснили все хакану, которому казалось, что все дело с этим злосчастным приказом только дурной сон. Весь лагерь поднялся на ноги. Что говорить, господин бек! Началось настоящее столпотворение. Государь в ту же минуту написал новый приказ и вручил его мне. Он несколько раз повторил: лети, как ветер. Сколько коней я загнал в своей жизни, по каким только дорогам ни скакал, но ничего не сравнится с этой безумной скачкой. А вы-то зачем летели так скоро?
— Разве вы не знаете, — мрачно ответил Туганбек, — облако летучее и то завидует крыльям моего коня. Изменить привычке невозможно. Чем сильнее у меня трещат кости в теле, тем быстрее я гоню. — Все судьба, — сказал тюремщик, виновато склоняя голову. — Будь у царевича другая судьба, вы не то что на лошади, а и на осле приехали бы раньше бека. Гонец вышел из комнаты и исчез в темноте. Туганбек, торопливо одеваясь, гневно проговорил про себя:
«Куда только женщина ни сунет нос — везде беда!» Одевшись, он сурово взглянул на тюремщика, и вышел. Нукеры подвели ему коня. Не смея явиться к государю, Туганбек отправился в Астрабад к Музаффару-мирзе.
Выйдя ранним утром из дому, Султанмурад по лицам встречных понял, что случилась какая-то беда. Он начал расспрашивать прохожих и узнал о случившемся. Некоторые люди уже успели узнать подробности. Ученый, не помня себя от гнева, побежал в медресе. По дороге ему то и дело попадались знакомые, потрясенные ужасным происшествием. Герат волновался. Смерть молодого, не по летам умного царевича, убитого по приказу собственного деда, раскрывала жуткую картину заговоров и смут, много лет раздиравших царскую семью.
Султанмурад не мог удержаться от гневного осуждения султана. Сегодня он не отличал друзей от врагов и был одинаково откровенен со всеми. Придя в медресе, он нашел студентов во власти тех же чувств. Во всех худжрах мударрисы, студенты и их знакомые погружались в море слов, полных горечи, огня и яда. Невинно погибший, залитый кровью ребенок превратился в глазах людей в великого героя. Ему начали посвящать элегии и касыды. Гневные сатиры, разоблачавшие злодеев, переходили из уст в уста.
В этот день занятия не состоялись. Султанмурад отправился в другие медресе. Жители Герата были полны тревоги и беспокойства, словно в ожиданий новой беды. Казалось, земля только что сильно всколыхнулась и вот-вот должна раскрыться, чтобы поглотить всех в свои недра. Встревоженные сердца жили единственной надеждой; Алишер Навои сможет удержать гору, готовую низвергнуться в пропасть. Самые хладнокровные, самые рассудительные люди верили в это чудо. Однако в эти страшные минуты Алишера в Герате не было. Все глаза были устремлены на Мешхедскую дорогу.
На третий день, едва лишь конь Алишера въехал в ворота, радостная весть распространилась по городу. Султанмурад, забыв даже запереть двери ханаки, побежал к Алишеру.
В Унсии, в комнате Алишера, кроме его всегдашних собеседников и друзей, собралось много поэтов и ученых. Навои сидел на своем обычном месте, под окошком. Внешне он был спокоен. Стосковавшийся по Алишеру Султанмурад горячо пожал тонкие руки поэта; в мудрых глазах Навои отражалась скорбь.
Султанмурад сел рядом с Хондемиром — самым юным из присутствующих. Мальчик не отводил от Навои своих умных глаз, стремясь запомнить каждое слово, запечатлеть в своем сердце каждое движение Алишера.
Чтобы не бередить свою сердечную рану, Навои рассеянно заговаривал то о том, то о другом, задавал первому попавшемуся на глаза гостю какой-нибудь вопрос. Наконец после долгого молчания он заговорил скорбным голосом, обращаясь к самому себе, словно философ, убежденный, что продумал мысль до конца. Постепенно голос его становился все тверже и сильнее.
— Обдумывая это событие. — проговорил Навои, — человек, склонный к размышлению, с горестью и сожалением, приходит к безмерно ужасным всеобъемлющим выводам. Если вы мысленно бросите взгляд на картину веков и столетий, то увидите, сколь прихотлива история. В определенные эпохи у государств есть своя особая жизнь, подобная жизни героев и миродержцев. Мужи, воздвигающие великолепные здания истории, льют кровь рекой, но в конце концов погибают, наказанные за пролитие одной капли. Ни от них, ни от их жизни не остается и следа. Примеры этого вы можете найти и в нашей истории. Они всем известны. Боюсь, как бы нам не пришлось еще встретиться с такими бедствиями.
Поэт умолк. Печальны были не только его глаза, углубившиеся за последнее время морщины и белоснежные пряди бороды тоже как будто таили печаль. Предсказание Навои о грядущей разрушительной буре, жестокие и холодные слова истины, произвели на всех сильное впечатление. Как будто людей с завязанными глазами привели к краю бездонной пропасти и вдруг сняли повязку с глаз…
— Надо стараться отвратить всякое бедствие, — вновь заговорил поэт убежденным тоном. — Наш долг — пожертвовать собой для спасения благословенной родины и народа. Я хотел бы, чтобы мы были связаны друг с другом и с родиной верностью, преданностью и любовью. Верность и любовь — великая сила. Сердца, полные этой силой, освещают мир; они запирают ворота перед несчастными и открывают ворота счастья.
Эти слова подействовали на затаивших дыхание слушателей, как свежий весенний ветерок. Султанмурад горячо поддержал поэта.
— В плодородную землю любви и верности следует сеять семена разума и науки и украшать жизнь их цветами и плодами, — заговорил он. — Земля, в которой широко разрослись мощные корни искусства и науки, может справиться с любым бедствием.
Люди медленно начали расходиться. Султанмурад и Хондемир выходили последними. Навои остановил молодого историка и любовно начал расспрашивать, как идут его занятия.
Хондемир, которому уже исполнилось семнадцать лет, рассказал, что пишет большое историческое сочинение. Навои очень заинтересовался этим трудом. Он осведомился, чем отличается книга Хондемира от других исторических сочинений, например, от семитомного труда его деда. Хондемир кратко и ясно отвечал на вопросы. Он попросил поэта прочитать отдельные главы книги и высказать свое мнение.
— Вы видите, сколько тягостных событий происходит в стране! — сказал Навои. — Если найдется немного свободного времени, обязательно прочитаю.
Хондемир, очень довольный, удалился. — А когда мы увидим драгоценные перлы вашей мысли? — спросил Навои. Султанмурада и, не дожидаясь ответа продолжал: — Некоторые ваши ученики преподают в Мешхеде. Все они шлют вам бесчисленные приветы.
Султанмурад сообщил, что части его книги, касающиеся математики, астрономии и логики, значительно продвинулись вперед. Навои заметил, что необходимо просмотреть все новейшие сочинения по этим вопросам на арабском, персидском и индийском языках, и с улыбкой добавил:
— Надо торопиться. Вон у вас борода уже наполовину стала седой.
Когда Навои остался один, его опять охватила скорбь. Он проклинал султана, обагрившего руки кровью родного внука. То, что привезенный Туганбеком приказ был подписан государем во хмелю, свидетельствовало о глубоко укоренившемся заговоре. Навои решил не медля отправиться в ставку.
Вечером он начал новую главу «Возлюбленного сердец». Вскоре благородные жемчужины жизненного опыта и острой мысли заполнили целую тетрадь. Навои утомился. У него заболели пальцы и поясница.
С каждым годом, с каждым месяцем поэт чувствовал себя все слабее: сказывалась старость и бесконечные заботы.
Поэт ненадолго прилег, намереваясь отдохнуть когда в комнату вошел Ходжа Афзаль. Навои не верил своим глазам. Стосковавшиеся за долгие годы разлуки друзья взволнованно обнялись. Радость придала Навои бодрости. Они пристально смотрели друг на друга. Время наложило на обоих свой отпечаток. Борода Ходжи Афзаля побелела, глаза потеряли былую живость, лицо покрылось морщинками. Беседуя о событиях прошедших десяти лет друзья просидели далеко за полночь.
На следующий день за завтраком продолжалась оживленная беседа. Обрисовав общее положение дел в государстве и последние события, Навои сказал:
Намерены ли вы занять какую-нибудь должность?
— В чужих странах мне предлагали высокие посты. Я отказался наотрез. Но в Хорасане я с душевным удовольствием согласен исполнять любую должность, — ответил Ходжа Афзаль.
Навои обрадовался. Он решил с прежним рвением возобновить борьбу за то, чтобы всеми делами в стране ведали люди, преданные народу и стране.
Через несколько дней поэт отправился в ставку. Хусейн Байкара встретил Навои в своем шатре на берегу Мургаба, заливаясь слезами. Султан был нетрезв. В знак траура он облачился в длинные черные одежды.
Хусейн посадил поэта возле себя. Он долго не мог говорить: его душили рыдания. Наконец он сказал, вытирая слезы:
— Я совершил ужасное преступление. Отдал в руки палачей сокола, который был бы столь же великим полководцем, как Тимур.
— Это было постыдное дело, — сказал Навои с гневом и горечью. — Да не пошлет бог таких дней никому из своих рабов.
— Я тогда потерял разум и волю. Бесчестные люди… — Хусейн Байкара не мог продолжать.
— Вы знаете истинных преступников? Кто они?
Хусейн Байкара опустил красные, распухшие веки и кивнул головой. Однако он не назвал ни одного имени. Он только жаловался на окружающих его предателей и заговорщиков.
Навои рассказал о приезде Ходжи Афзаля и о желании его служить государю. Хусейн Байкара хорошо отозвался о Ходже Афзале, называя его своим дорогим другом, и выразил готовность издать указ о назначении его везиром.
Навои с самого дня приезда старался изучить общее положение дел, понять недавнее преступление и его тайные стороны. Из бесед с Валибеком, Баба-Али, Мерверидом и Дервишем Али он понял, что виновником всего, наряду с Хадичой-бегим, является также и Низам-аль-Мульк. Однако султан, жестоко обиженный Хадичой-бегим, ни словом не обмолвился о ее вине. Навои установил, что близкие к Низам-аль-Мульку царедворцы — Имад-аль-Ислам, Ходжа-Абдаль-Азиз, Низам-ад-дин Курд, казий Шихаб-ад-дин и многие другие высшие должностные лица посеяли рознь между царевичами и оказывали поддержку то одному, то другому.
Вскоре были получены сведения, что Бади-аз-Заман, горящий желанием отомстить за сына, набирает отовсюду сторонников и готовится к решительному сражению. Нападения ожидали каждую минуту. У Навои на этот счет тоже не было никаких сомнений. К тому же были основания предполагать, что и другие царевичи в разных областях страны не сегодня-завтра поднимут голову.
Настроение было тревожное. Только Низам-аль-Мульк сохранял всю свою надменность и вел прежнюю роскошную жизнь. По его словам, «положение государства было крепко, как никогда, народ радовался, страна процветала».
Хусейн Байкара издал указ о назначении Ходжи Афзаля везиром. Навои не занимал никакой официальной должности, тем не менее, неустанно трудился на пользу государства. Он всячески содействовал назначению на высшие посты честных, добросовестных людей. Низам-аль-Мульк, чувствуя, что гора, на которую он опирался, начинает рушиться, пытался организовать новые заговоры. Хусейн Байкара, когда-то назвавший везира «бесценной жемчужиной государства», все чаще выражал свое недовольство им. К тому же государь, мучимый угрызениями совести, не мог простить Низам-аль-Мульку его участия в убийстве Му-мина-мирзы. Не прекращавшиеся интриги везира переполнили чашу терпения султана. Он призвал к себе Навои и спросил у него совета.
Навои высказал государю своё мнение в таким словах:
— Я всегда соглашаюсь с разумными мерами, нужными для пользы государства.
— Что же с ним сделать?
— Вручить судьбу народа и страны коварному везиру — преступление. Никогда не следует допускать, чтобы государство было игрушкой в руках чиновников — убежденно сказал Навои. — Даже венценосный правитель не имеет права играть государством и народом по своей прихоти.
— Правильно, — морщась, как от боли, проговорил Хусейн Байкара. — Скажите же, как поступить с ними? Я заставлю этих предателей пережить, такие ужасы…
— Надо расследовать все преступления и воздать каждому заговорщику по заслугам. А таких мерзких тварей, как Туганбек, нужно исторгнуть из мира, — резко сказал Навей.
— Для этого злосчастного мало любого наказания, — проговорил Хусейн Байкара, подергиваясь от гнева.
— Женщины тоже должны знать свое место и не переходить границ, — сказал Навои, подчеркивая каждое слово. — Одной искрой женского коварства можно зажечь большой пожар.
Хусейн Байкара низко опустил голову и умолк.
На следующий день Низам-аль-Мулька, его сыновей и наиболее видных их сторонников заключили в тюрьму. Туганбека не нашли, по всем городам был разослал приказ об аресте.
Хусейн Байкара, ожидавший нападения Бади-аз-Замана, раскинул лагерь в Уланг-Нишине. Ходжа Афзаль был назначен первым везиром. Навои вернулся и Герат.
Поэт надеялся, что ему, наконец, удастся поработать спокойно. Солнце жизни клонилось к закату. Теперь Алишер постоянно опирался на посох. Ему уже было трудно ездить верхом. Рука утомлялась от писания. А вопросов и мыслей, которые надо было записать, — бесконечно много…
Навои с увлечением работал над «Языком птиц». Глубокое, возникшее еще в детстве увлечение несохранило первоначальной свежести, но и за перевалом жизни, словно расцветшее дерево, эта любовь доверила перу свои обильные плоды — сверкающие жемчужины мысли.
Поэт и днем и ночью предавался философским размышлениям. В цветниках его сердца вдохновение и фантазия собирали чудесные букеты — чистые и глубокие стихи, радовавшие силой и красотой родного языка.
Престарелый Навои работал без устали. Ему хотелось, прежде чем подует холодный зловещий ветер смерти, собрать в цветнике вдохновения как можно больше цветов. Но что делать, если в политической жизни государства не прекращаются землетрясения?
Обеих сыновей Низам-аль-Мулька палач казнил на глазах у отца. Затем Низам-аль-Мулька подвергли самым утонченным пыткам, которые мог придумать Амир-Амиди. Содрав с него кожу, набили ее соломой. Чучело бывшего везира, некогда столь величавого и красивого, целую неделю висело на Гератской площади — бесплатное зрелище для зевак.
Сторонников Бади-аз-Замана Хусейн Байкара бросил в тюрьму. Но покоя в стране все равно не было. Вражда и смуты, десять лет назад пустившие корни в семье государя, словно ядовитые деревья, отравляли воздух. Бади-аз-Заман оставался глухим к увещеваниям Навои. Не думая о судьбе государства и народа побуждаемый жаждой мщения, он снова напал на своего престарелого отца.
Навои страдал оттого, что его питомец остается безучастным к судьбам государства и народа.
На поле битвы надо было посылать новые силы: Бади-аз-Заман теперь уже достаточно опытен, нанести ему окончательное поражение трудно. Если он даже будет разбит и отступит, то вскоре вновь возобновит свои нападения.
Навои настаивал, чтобы Хусейн Байкара заключил с сыном мир. Получив согласие султана, Алишер отправился к царевичу. Силой всего своего влияния, силой всей своей логики он заставил Бади-аз-Замана вложить в ножны меч, поднятый против отца и страны. Зима и лето прошли спокойно. Но осенью другие царевичи к свою очередь подняли мятежи. Абу-ль-Мухсин-мирза зажег пожар в Мерве. Масум-мирза — в Абивердо. Старый отец, который уже не мог ездить на коне, снова отправился в поход, чтобы сразиться с сыновьями, светочами его очей. Но в Астрабаде и других областях тоже разгорался огонь мятежа; достаточно было слабого ветерка, чтобы он вспыхнул ярким пламенем. Старые язвы правительственных учреждений не залечены; многие чиновники, верные ученики и наследники Маджд-ад-дина, продолжали грабить народ. Для того чтобы подавить восстания своих развращенных, вконец испорченных сыновей, оспаривавших власть у отца и друг у друга, султану Хусейну приходилось водить войска из одного конца страны в другой. Это опустошало казну, и султан то и дело требовал от народа денег.
Навои видел, как рушатся все его надежды и упования. Земля любимой родины, как огонь, жгла ему ноги. Поэт задумал удалиться в другие страны. Эта мысль полностью овладела им. В воображении он уже прощался с небом своей родины, с прекрасными рощами и садами, с памятниками искусства, с горами, возносившими к небу свои вершины.
Навои сообщил Хусейну Байкаре, который уже несколько месяцев вел войну со своим сыном Абу-ль-Мухсином-мирзой, о своем решении. Затем написал длинное послание Ходже Афзалю, в котором высказал ему множество мыслей об этике и политике, внушая, что государственные люди должны действовать честно и прямо, ставить закон превыше всего и применять его ко всем одинаково, справедливо относиться к народу, без страха и лести указывать государю на его ошибки и недостатки.
Весть о предстоящем отъезде Навои взволновала Герат. Ученые, поэты и художники с Султанмурадом во главе явились к Навои. Поэт решил, что они пришли с ним проститься. Поздоровавшись со всеми, он радушно усадил посетителей, а сам, как всегда, занял место ниже всех.
— Друзья мои, — заговорил Навои мягким и печальным голосом. — В душе моей возникло желанно покинуть родину. Расстаться с такими друзьями, как красой нашего дорогого отечества, трудно и больно, но я подчиняюсь влечению сердца. Жить в стране, где родился и вырос, нет больше сил. На родине я вижу лишь руины моих чаяний и мечтаний. Может быть, в старости мне выпадет счастье повидать святые места… Пожелайте же мне счастливой дороги. Поручаю вам родину, будьте ей всегда верными сынами.
Присутствующие тяжело вздыхали, у многих увлажнились глаза. Наступило тягостное молчание. Только печальное воркование белых горлинок в клетке нарушало глубокую тишину.
— Господин эмир, — сказал, наконец, Султанмурад, выпрямляясь, — мы пришли к вам не для того, чтобы проститься. Если бы нам пришлось с вами расстаться, не только мы, но и весь Герат провожал бы вас до любого места обитаемой земли. Устои государства рушатся под ударами темных сил во всех углах нашей благословенной страны бушуют бури мятежей. Вы — единственный оплот жизни и благополучия. Если вы покинете родину, темные силы разорвут свои цепи. Если народ — не дай того, господи! — потеряет своего великого защитника, что его тогда ожидает! В Хорасане есть чудесные памятники творчества, — их очень много. Все они воздвигнуты вами. Поэты, ученые, художники наших дней — ваши ученики. Никто в истории так не радел о процветании Хорасана, как вы. Чтобы перечислить ваши заслуги, нужно написать много толстых томов. Откажитесь от мысли покинуть родину. Великий учитель! Мы просим во имя народа, во имя родины, во имя ее будущего. Не отказывайте нам в нашей просьбе.
Все в кратких искренних словах поддержали Султанмурада. Пожилой поэт, старый друг Навои, сказал:
— Друг мой, вы возымели желание отправиться в святые земли. Я скажу: пусть ветер, дующий в святых землях, прилетит в нашу сторону и поцелует следы ваших ног. Теперь, в бедственные для родины дни, забудьте об этом, друг мой!
Навои поднял голову и немного сдвинул, со лба тюрбан. Присутствующие смотрели на него с тоской и любовью. Все они — выдающиеся представители науки и искусства Хорасана, близкие друзья Навои. Вот Бехзад, Султан Али, Зейн-ад-дин, Султанмурад, Устад Кул-Мухаммед, Шейх-Наи — замечательные люди своего времени. Вот самый юный из всех — Хондемир. Его глаза так печальны! После смерти своего деда, великого-историка, он всей душой привязался к поэту. А сколько еще есть в Герате замечательных современников Алишера! В этом городе можно найти десятки, сотни ремесленников, чьи руки каждый день каждый час создают замечательные вещи — совершенство красоты, ума, искусства. Но он ли в самом деле вдохновляет многих из них? Пока жив — помогать народу, разделять его горести! Разве не в этом цель жизни поэта?
Лезвие горя глубоко вонзилось в сердце поэта. Слезы навернулись на глаза. Однако он овладел собой.
— Друзья мои, — сказал он печально, — я не в силах отказать в просьбе, обращенной ко мне от имени народа. Из всего, что для меня свято, слово «народ» — самое дорогое и значительное. Ради народа я готов пожертвовать не только своими желаниями, но и жизнью.
Глава тридцать шестая
У Арсланкула был свободный день. Надев обшитый узкой тесьмой халат, который ему сшила жена, Арсланкул вышел на улицу. Посмотрев по сторонам, он увидел на лицах проезжавших нукеров беспокойстве: движения их были как-то особенно торопливы. «Что-то случилось»— подумал Арсланкул. Через некоторое время ему встретились знакомые, которые шли со стороны крепости. Молодые джигиты и пожилые люди были в полном вооружении, словно собрались в бой. От них Арсланкул узнал о происходящих в городе событиях. Пользуясь тем, что государь выступил в поход против Мухаммеда Мухсина-мирзы, который прогнал из Астрабада Музаффара-мирзу, старшим сын государя Бади-аз-Заман двинулся на Герат. Алишер Навои взял на себя оборону города.
Арсланкул быстро направился к крепости. Недалеко от крепости он увидел Алишера Навои, который шел слегка опираясь на длинную полированную палку. Поэта сопровождал Валибек. Арсланкул подбежал к Навои и, приложив руку к груди, почтительно поздоровался, Алишер остановился и посмотрел на него. Лицо поэта озарилось улыбкой.
— А, джигит, — сказал Навои, — тебя что-то но видно. Как дела?
— Все в порядке господин — ответил Арсланкул. — Осмелюсь попросить… Разрешите, буду нукером.
Навои с довольным видом посмотрел на Валибека.
Желчный, грубоватый, но вместе с тем простой и скромный, бек с ног до головы оглядел Арсланкула своим острыми глазами.
— Ценность джигита познается в бою, — сказал поэт. — Постарайся на пользу родины. Беги в крепость, возьми оружие.
Арсланкул, запыхавшись, прибежал домой. Еще и воротах он закричал Дильдор:
— Открой сундук!
— Что случилось? Что вам понадобилось в сундуке?
— Меч, меч надо! Сейчас же! — нетерпеливо ответил Арсланкул.
— Меч? — удивленно спросила Дильдор. — Зачем он вам понадобился?
Арсланкул торопливо рассказал жене, что случилось. Затем пробормотал про себя: «Сроду не дрался на мечах… не знаю, что будет».
Дильдор, слегка покачивая располневшим станом вошла в комнату. Открыв сундук, она достала меч. Арсланкул, немного вытянув меч из ножен, взглянул на лезвие и быстро вложил меч обратно. Потом подвязал его и, улыбаясь, посмотрел на жену.
— Годится? — спросила Дильдор, с завистью поглядывая на мужа. — Но ведь богатырю нужно, кроме меча, еще другое оружие. Конечно. Остальное получу в крепости.
— Мужчины счастливые, — со вздохом проговорила Дильдор и отвернулась: —Идите скорей!
Старуха тетка испуганно смотрела на Арсланкула.
— Не тревожьтесь, — сказал он. — Навои ни за что не впустит врагов в город.
— Если господин Навои во главе войска, — не то что мужчины, женщины пойдут воевать, — поддержала его Дильдор.
— Да будет моя жизнь жертвой за этого человека! — взволнованно проговорила старуха.
Арсланкул решительными шагами вышел на улицу. Его маленький сын, возвратившийся из школы, уцепился за меч. Арсланкул ущипнул мальчика за мягкую, пухлую щеку и помчался к крепости. Там ему дали щит, лук и стрелы.
Перед крепостью, окружавшей город словно сказочная гора Каф, собралось множество народу, вооруженного и безоружного. Здесь были и стройные, как молодая ветвь, мальчики, и богатыри, ростом с Рустама, и сгорбленные старики. — Люди толпились у крепости, не зная, что делать, с чего начать. Но вот появился Навои на статном черном иноходце. Со всех сторон послышались радостные возгласы. Народ приветствовал любимого поэта, как родного отца. Навои обратился к собравшимся. Он призвал людей к спокойствию и мужеству, сказал, что население одно, без войск, может отстоять столицу, следует только немедленно приступить к укреплению стен.
Тотчас закипела работа. Прежде всего начали заделывать проломы в крепостной стене. Люди копали землю, месили глину, носили камни. Подходили все новые и новые защитники города. И стар и млад работали одинаково усердно. Навои то на коне, то пешком появлялся всюду, проверяя сделанную работу, советуясь с опытными людьми. Поэт словно наслаждался видом людей, работавших с увлечением, не замечавших усталости.
Через три дня городская крепость была готова к обороне. На пятый день стало известно, что войска Бади-аз-Замана приближаются к городу.
Арсланкул, три дня трудившийся не покладая рук, медленно расхаживал по крепостной стене. Он внимательно смотрел на дорогу, которая терялась за зелеными садами, рощами и полями, залитыми солнцем.
К вечеру вдали показались редкие группы всадников. Защитники крепости взволнованно указывали на них друг другу. Приставив руку ко лбу, Арсланкул напряженно вглядывался вдаль. За густыми облаками пыли он заметил всадников, которые то скрывались, то появлялись вновь.
Арсланкул поспешно спустился вниз. Недалеко от ворот Мульк он увидел Навои, окруженного испытанными в боях джигитами, и побежал к нему. Приблизившись, Арсланкул услышал, что они серьезно беседуют о чем-то, и навострил уши.
— Пока не подойдет астрабадское войско, — говорил Навои, — нам придется одним оборонять крепость. Враг не должен пройти. Особенно тщательно следует охранять ворота. Не зная как следует, каковы силы Бади-аз-Замана, мы не дадим ему сражения в открытом поле. По ночам следует быть бдительными. Сегодня ночью ни один из бойцов ни на минуту не должен смыкать глаз. Когда придет войско из Астрабада, Бади-аз-Заман окажется между двух огней. Он либо отступит, либо будет разбит.
Поэт опустил глаза. На его лице промелькнула тень глубокой тревоги:
— Отцу воевать с сыном, разделить один народ на два войска и несправедливо проливать кровь — великое преступление! Когда же кончатся эти тягостные дни? Пусть бы скорее взошло на нашем небе солнце мира и безопасности, любви и согласия!
Вооруженные джигиты, глубоко задумавшись, опустили глаза. Арсланкул слушал поэта, точно зачарованный. Внезапно за спиной его послышались знакомые голоса. Он резко повернул голову. Перед ним стояли Султанмурад с Зейн-ад-дином. Последний подвязал к поясу маленький меч в старых потертых ножнах. Обрадованный Арсланкул выразил желание сражаться с ними вместе.
— Сам вооружился для боя, а мне не то что меч, даже нож не дает привязать к поясу, — недовольно сказал Султанмурад, указывая на друга. — Что за несправедливость!
— Не беспокойтесь, господин, — улыбаясь, возразил Арсланкул, — сидите себе спокойно и пишите. Кончайте скорее вашу толстую книгу. Видите эти лапы, — продолжал он, вытягивая свои могучие руки, — они будут драться за вас.
В это время, вздымая на дыбы коня примчался Валибек, похожий на готового взлететь ястреба. Он выбрал человек двадцать джигитов и, как всегда, отрывисто приказал им отправиться в южную часть города, к Фирузабадским — воротам.
Джигиты любили сурового, но справедливого бека. Бряцая мечами, которые били их по ногам, они ускакали.
Валибек перевел выпуклые глаза на оставшихся джигитов, в числе которых был и Арсланкул, к показал ручкой плетки наверх, на крепостную стену.
Арсланкул, расхаживая по стене, смотрел вдаль. В облитых яркими лучами солнца прекрасных садах и полях, которые еще недавно тихо и мирно дремали, теперь метались беспризорные стада коров, растерянно бегали мужчины, женщины и дети с узлами, свертками и мешками. Арсланкул вспомнил слова Навои. Нахмурившись, устремив глаза в землю, джигит задумался. Он проклинал царевичей, которые дрались между — собой, разделив страну и народ на два враждебных лагеря Ни отца не уважают, ни людей не стыдятся!
Солнце, облив ярким светом деревья, сверкнуло на полумесяцах минаретов и семи огромных куполах и порталах гератской соборной мечети, зажгло огнем шлемы джигитов, скакавших вдали на быстрых конях, и опустилось к горизонту. Вечерние сумерки постепенно сгущались. На небе раскинулся цветник звезд.
В городе и крепости было как будто спокойно. С наступлением ночи издали стали доноситься крики. Сотни защитников крепости, рассыпавшись по крепостным стенам, чутко прислушивались, напряженно вглядываясь в глубину ночи.
Услышав голоса за стеной, Арсланкул улыбнулся: «Ваши крылья слишком слабы, чтобы перелететь этот вал Искандера… Вы не можете войти в крепость и пищите у ворот, словно котята… Вам еще долго придется помучиться перед этой крепостью».
Через некоторое время внизу, неподалеку, послышался шум и началось какое-то движение. Арсланкул нагнулся и внимательно прислушался. Но рядом с ним двое юношей, похожие на студентов, во все горло распевали персидские газели и громко препирались между собой.
— Довольно вам, гератские соловьи! — остановил их Арсланкул. — И на войне забавляетесь стихами!
— Кто вы? Разве прочитать хорошую газель грех? Если вам не нравится, заткните уши ватой! — сердито закричал один из юношей.
— И молиться тоже надо вовремя! — возразил Арсланкул. Решив, что шум внизу не заслуживает внимания, он сказал более мягким голосом: — Читать, спорить, конечно, дело полезное и приятное, как сливки. Но почитайте какие-нибудь приятные тюркские стихи. А это что? Персидский базар!
Оба чтеца расхохотались. Отношения, начавшиеся с грубостей, стали дружескими.
Взошла луна, окрасив все в мягкий, нежным цвет. Большие хаузы сверкали в отдалении, словно серебряные блюда. Огромный водоем в северной части сада Джехан-Ара и четыре высоких дворца казались при свете луны такими близкими и красивыми, что Арсланкул долго не мог оторвать от них глаз.
Около полуночи где-то близко послышался страшный шум.
— Враги ворвались в Кипчакские ворота! — крикнул один из защитником крепости.
Арсланкул прислушался.
— Верно! Надо бежать на помощь. У нас тихо, — сказал он.
Попросив разрешения у сотника, Арсланкул, взяв с собой человек десять джигитов, сбежал вниз и бросился к месту схватки. Однако шум вскоре стих; раздавались только отдельные возбужденные крики. Место, где произошло нападение, было значительно ближе Кипчакских ворот. Придя туда, Арсланкул хлопнул по плечу одного из воинов, возбужденно о чем-то споривших, и спросил:
— Что случилось?
— Что? Известно — порубились немножко, — ответил воин, не взглянув на Арсланкула.
Прислушиваясь к горячим спорам, Арсланкул вскоре узнал подробности события.
Горсточка джигитов Бади-аз-Замана, приставив лестницы, взобралась на крепостную стену, нагрянув, как гром среди ясного неба. Защитники города, захваченные врасплох, были изрублены мечами. Поднялся шум, со всех сторон сбежались на помощь воины и перебили нападающих.
— Посмотрите-ка! Вот трупы! — закричал кто-то. Земля была скользкой от крови. Арсланкулу было неприятно ходить по пролитой крови. Он отошел в сторону и прислонился к стене.
Внезапно все замолчали. Появился Алишер Навои в сопровождении Валибека. Арсланкул подошел к поэту и сложил руки на груди, как будто ожидая приказаний. Навои, слегка отставив свой посох, обеими руками оперся на него и, наклонившись вперед, обвел всех глазами:
— Что здесь случилось?
— Все спокойно, господин, — ответил Арсланкул.
— Скажите лучше: спокойно после драки, — насмешливо проговорил Навои,
Кое-кто засмеялся. Один из бойцов подробно рассказал о случившемся. Навои несколькими словами подбодрил джигитов и напомнил им, что нужно быть бдительными.
— Если они теперь подойдут, мы их свалим вместе с лестницами, — сказал кто-то, беспечно махая рукой.
— Будете начеку, так свалите, а иначе вас самих сбросят, — сказал Навои.
Он приказал подобрать трупы и медленно пошел дальше. Взглянув на лежавшие в разных позах окровавленные тела, Навои перевел глаза на Валибека и печально покачал головой. Валибек резко проговорил:
— Вина за их смерть лежит на царевиче.
Воины начали убирать трупы. Шагах в двадцати от Арсланкула какой-то студент медресе в большой чалме с падающими на плечи концами, в длинном халате, из-под которого торчал меч, наклонился над чьим-то телом и вдруг закричал:
— О древнее небо, о вероломная судьба! Ты разбила мечом насилия бесценную жемчужину Хорасана!
«Похоже, что убили учителя этого муллы, — подумал Арсланкул. — Эти люди любят преувеличивать. Для них все, кроме нас, «жемчужины Хорасана». — Он подошел к будущему мулле, чтобы его успокоить и, хлопнув юношу по плечу, наклонился над телом. И вдруг весь похолодел. Ударив себя в грудь, Арсланкул опустился на колени: перед ним лежал Зейн-ад-дин. Арсланкул схватил в объятия окровавленное тело своего друга и поцеловал его в лоб.
— Кто он вам? — спросил будущий мулла плачущим голосом.
— Мой друг, мой брат, мое сердце, — сквозь слезы ответил Арсланкул.
— Я учился у него музыке, игре в шахматы, каллиграфии, — сказал студент.
— Это вы перенесли его сюда? — спросил Арсланкул.
— Нет, это дело рук какого-то хорошего человека.
Зейн-ад-дин лежал у крепостной стены. Руки его были сложены на груди, словно для приветствия, чалма лежала под головой в виде подушки. Арсланкул решил снести тело вниз. Он быстро снял халат и разостлал его на земле, потом подложил одну руку под ноги убитого, а другой подпер ему плечи. Приказав мулле осторожно поддерживать наполовину отрубленную голову, он собирался поднять тело с земли, как вдруг кто-то опустился рядом с ним на колени и сдавленным голосом, сказал:
— Арсланкул, не повредите ему! Будьте осторожны. Арсланкул обернулся: подле него стоял джигит в плотно надвинутой на голову шапке и в широком халате, с мечом у пояса.
— Это ты, Дильдор? Что ты здесь, делаешь? — растерянно проговорил Арсланкул.
Мулла, услышал нежный, как свирель, женским голос, тоже удивился. Увидев, что это действительно женщина, он изумился еще больше.
— После поговорим, — ответила Дильдор.— Снесите его вниз. Бедный Зейн-ад-дин!
Война — не забава. Вот какие ужасы бывают и на войне, — сказал Арсланкул, желая немного успокоить жену. — Сама знаю, — вздохнула Дильдор. Они втроем подняли тело Зейн-ад-дина, положили его на халат и спустились вниз по темным крепостным лестницам. Арсланкул попросил встретившегося знакомого отыскать какую-нибудь повозку. Будущий мулла отправился к Зейн-ад-дину домой. — Ну, теперь рассказывай, богатырь, — сказал Арсланкул жене, печально сидевшей у изголовья Зейн-ад-дина.
— Вчера мы не выходили из дому, — тихо заговорила Дильдор. — Я услышала, что город окружен, и встревожилась за вас, вы иногда уж слишком на себя надеетесь. После вечерней молитвы где-то вдали послышались крики. Сердце у меня забилось. Я не могла спать. Когда старуха заснула, я надела халат покойного старика, спрятала волосы. Да, еще раньше я пошла к дочери есаула Тенгри-Берды и попросила у нее меч будто бы для вас. Она дала мне хороший меч. Не видели? Посмотрите! Одни ножны чего стоят, — проговорила Дильдор, показывая меч. — Я подвязала меч. Потом пошла прямо к Кипчакским воротам.
От нас они близко, и я думала, что вы должны быть там. Народу — множество. На меня никто, не обратил внимания. Джигит и джигит! Я поднялась на крепость, обошла ее, смотрела украдкой на каждого, встречного — искала вас. Наконец решила, что не найду. Вдруг шагах в пятидесяти от меня послышался шум. Я невольно побежала. Враги подставили лестницы и лезли наверх. Жестокая была схватка. Один из бойцов показался мне знакомым. Смотрю — Зейн-ад-дин-ака. Я вытащила меч и ударила появившегося врага. Не верите? Посмотрите мой меч. Вот кровь… Со всех сторон сбежались джигиты и спасли нас. Не будь их — и меня, и всех нас поубивали бы. Врагов разбили. Я посмотрела по сторонам. Зейн-ад-дин-ака лежит весь в крови. У меня сердце кровью облилось. Заговорила с ним, ничего не отвечает. Потихоньку оттащила его в сторону…
На глазах Дильдор выступили слезы, она замолчала.
— Ну а потом? — вздыхая, опросил Арсланкул.
— Внизу я два раза видела господина Навои и домуллу Султанмурада, — продолжала Дильдор. — Я побежала, думаю, может опять увижу. Нет, не нашла. Скорее вернулась обратно, боялась, как бы его не унесли куда-нибудь с другими убитыми.
К утру приехала арба. Будущий мулла принес одеяло. Тело Зейн-ад-дина завернули и осторожно положили на арбу. Арсланкул настоял, чтобы Дильдор сходила домой посмотреть детей. К полудню надо ведь зайти в дом Зейн-ад-дина, выразить сочувствие его семье. Арсланкул, опустив голову, пошел рядом с арбой.
Старуха, мать покойного, его сестра и жена — красивая женщина, поэтесса и певица, на которой Зейн-ад-дин после многих любовных приключений остановил свой выбор, — встретили тело, не помня себя от горя.
К восходу солнца двор Зейн-ад-дина наполнился друзьями, родными и близкими. В полдень состоялись похороны. Большая толпа народа во главе с Навои провожала Зейн-ад-дина на кладбище. Султанмурад совсем ослабел от горя. Арсланкул привел его на кладбище под руку. Зейн-ад-дина похоронили рядом с могилой его деда, знаменитого врача.
Зу-н-нун Аргун-бек, правая рука Бади-аз-Замана, ожесточенно дрался, пытаясь захватить Герат. Он пускался на всякие ухищрения, применял всевозможные способы, чтобы овладеть крепостью. Но ее защитники упорно сопротивлялись, и все его попытки кончались неудачей.
Защитники крепости уверовали в свои силы. Выбрав подходящий момент, они выезжали из ворот, удалялись на значительное расстояние и наносили врагам короткие, но чувствительные удары. Арсланкул участвовал во всех этих вылазках и в большинстве случаев был их зачинщиком.
Однажды, во время довольно продолжительной стычки в окрестностях города Арсланкул захватил замечательного коня с белой отметиной на лбу, принадлежавшего какому-то беку. Он гордо въехал в крепость и вдруг увидел Навои, который медленно направлялся к воротам. Спешившись, Арсланкул повел коня в поводу и подошел к Навои.
— Приветствую вас, — сказал он, прикладывая руки к груди. Навои ответил на приветствие, потом посмотрел на породистого коня в богатой сбруе и спросил:
— Чей это конь?
— Ваш, господин, — с улыбкой ответил Арсланкул. — Я хочу предложить вам в подарок свою первую обычу.
Навои погладил бороду и засмеялся, щуря глаза:
— Пусть твоя добыча служит тебе самому. Как воюешь? Ты уже знаешь правила войны?
На первый раз нужна храбрость, — сказал Арсланкул, — а узнать правила тоже очень полезно. Вот только что тридцать человек наших здорово потрепали пятьдесят — шестьдесят джигитов Бади-аз-Замана.
Каким образом? — с интересом спросил Навои. Я взял с собой отряд, — джигитов и пробрался в тыл противника. Мы укрылись за стеной, сада. С двух сторон осыпали их стрелами, — попробуй-ка, поднимись! Много крови неправедно пролили. Жалко!
— Когда на теле появляется язва, врачи ее вырезают, — сказал Навои, — другого средства нет. Приходится отсекать гнилую часть тела, чтобы спасти душу. Мы теперь переживаем тяжелые дни, джигит.
Войска Бади-аз-Замана осаждали столицу, сорок дней. Защитники города сорок суток самоотверженно сражались, проявляя большую твердость и мужество. Вместе с другими Арсланкул ни на один день не оставлял крепости. Иногда, вечерами, его навещала Дильдор, они медленно обходили по крепостной стене огромный город с пятью воротами. Все было готово отразить нападение врага, где бы он ни появился. Наконец, когда стало известно, что Хусейн Байкара идет с войском из Астрабада, Бади-аз-Заман отступил от Герата.
Часть защитников города вышла навстречу султану и присоединилась к его войскам. Среди них был и Арсланкул. Между войсками отца и сына происходили стычки в открытом поле.
Валибек послал Арсланкула с отрядом нукеров в окрестности, чтобы добыть корм для коней. Разъезжая из кишлака в кишлак, джигиты теряли друг друга из вида. Некоторые, пользуясь случаем, сворачивали в родной кишлак проведать своих.
Арсланкул заехал в дальний туман. Сам выросший в кишлаке, он хорошо знал нужды и обычаи дехкан и быстро сговаривался с ними. На условиях, не обременительных для обеих сторон, он добыл много припасов. Разъезжая по полям на своем скакуне, привлекавшем всеобщее завистливое внимание, Арсланкул был гостем то там то здесь. Через три-четыре дня он тронулся в путь, намереваясь вернуться к войску. Пустив коня рысью, Арсланкул одиноко ехал по безбрежной степи. Вдруг вправо от него возникли очертания всадника. Арсланкулу показалось, что всадник очень похож на одного из сопровождавших его джигитов. Ударив коня плетью, Арсланкул поскакал в его сторону. Приблизившись к всаднику, он узнал в нем Туганбека.
— Счастливой дороги, Туганбек, куда путь держишь? — закричал Арсланкул.
Туганбек, нахмурившись, остановил взмыленного коня и пристально посмотрел на джигита. Скривив толстые губы, он грубо спросил:
— Ты что, из джигитов султана или кого-нибудь из царевичей?
— Я из джигитов Навои.
— Что ты говоришь? — Маленькие глаза Туганбека впились в лицо Арсланкула. Лукаво улыбаясь, он продолжал:
— Едем со мной, добрый джигит. Будем служить царевичу Абу-ль-Мухсину-мирзе. Повезет тебе — будешь большим человеком.
— А ты как? Что с тобой сталось? Похоже, блуждаешь по степи, боишься царского указа. Что же Му-заффар-мирза не поддержал тебя? Едешь в Мерв, снова хочешь поднять мятеж? Ах, несчастный!
Маленькие глаза Туганбека загорелись гневом. Плеть с серебряной ручкой задрожала в его руке.
— А — тебя сожрут в этой степи ястребы и коршуны, — злобно сказал он.
— Посмотрим! — смело ответил Арсланкул и молодецки выпрямился. — А пока что, я тебе отомщу за обиду.
— Какую обиду, собачий сын, говори! — воскликнул Туганбек, поднимая плетку. — С кем ты разговариваешь? Знай свое место; негодяй!
— А кто увез девушку Дильдор? Кому ты ее подарил? Не ты ли у меня на глазах бичом стегал дехкан?
Джигит был похож на орла, готового вцепиться в свою добычу. Туганбек попытался смягчить его гнев.
— Не клевещи! Простимся по-хорошему, поезжай своей дорогой. Отомстить — не так-то легко.
— Будет разговаривать! Вынимай меч, бек! Ты ведь опытен в бою.
Туганбек злобно оскалил зубы. Пощипывая свои редкие усы, он взглянул на меч, сверкавший в руках Арсланкула.
— Взаправду? — Туганбек протянул руку к своему мечу.
— Я шутить не люблю! — крикнул Арсланкул.
Ни у того, ни у другого не было даже щита. Туганбек хлестнул усталого коня, быстро подскочил к джигиту слева и замахнулся мечом, норовя ударить его по шее.
Арсланкул толкнул своего сильного, свежего коня и проскочил мимо. Увлеченный силой удара, Туганбек наклонился вперед и схватился за гриву коня. Еще раз хлестнув его, он попытался напасть на джигита сзади. Арсланкул проскочил вперед, потом резко повернул коня и бросился на противника. Он ударил Туганбека мечом по голове. Туганбек тяжело свалился на землю, его конь шарахнулся в сторону и ускакал. Арсланкул; соскочил на землю и еще несколько раз ударил Туганбека мечом. Потом наклонился над его окровавленным телом. Обнажив кинжал, он хотел было отрезать Туганбеку голову, чтобы увезти ее с собой, но в последнюю минуту отказался от этой мысли. Махнув рукой, он снова вложил кинжал в ножны. Сняв с убитого украшенные золотом и драгоценными камнями меч кинжал и пояс, Арсланкул сел на коня и подъехал я рыжему коню Туганбека, который мирно щипал траву неподалеку, время от времени поднимая свою красивую голову и озираясь. Арсланкулу пришлось порядочно повозиться со своенравным конем, пока он, наконец, на кинул ему на ноги веревку.
Переночевав в дороге, Арсланкул на следующий день к полудню вернулся в лагерь. Мало кто не узнал коня, которого он вел в поводу. Арсланкула окружили. Не слезая с коня, он рассказал о своем приключении. Джигиты с завистью смотрели на его добычу. Каждый трепал коня по гриве и на свой лад расхваливал его достоинства.
Арсланкул направился и шатер, где жили его товарищи по отряду. Шумно причмокивая, он начал есть большой ложкой мучную похлебку, налитую а деревянную чашку. Иногда он взглядывал на товарищей сообщая какую-нибудь новую подробность вчерашнего происшествия, потом снова принимался за еду.
Кто-то сказал, что его зовет Навои. Арсланкул проглотил еще три-четыре ложки и поднялся с места. Обтерев широкой ладонью подстриженные усы и жесткую короткую черную бородку, он большими шагами вышел из палатки.
Поэт, который, словно не замечая шума, что-то писал в своем шатре, приветливо встретил Арсланкула
— Рассказывай! Ты, кажется, совершил любопытные дела, — сказал Навои, улыбаясь.
Арсланкул начал рассказывать, скромно опуская лестные для него красочные подробности приключения.
— Где его голова? — спросил Навои.
Арсланкул широко раскрыл глаза.
— Вы не верите? Разве конь, меч, кушак — не достаточное доказательство? Пропади его голова!
— Мы верим, — сказал Навои с улыбкой, — только тебе следовало бы получить в награду за его голову столько золота, сколько она весит. Давать за голову злодея золото — благое дело.
— Это мне и на ум не пришло, — взволнованно сказал Арсланкул.
— Мы добудем тебе награду другим путем, — решительно сказал Навои: — Жизнь свою ты должен теперь посвятить военному делу. Я доложу хакану, и мы назначим тебя сотником. Волей аллаха, ты совершишь дела, полезные для страны. Заботься о нукерах и не жалей силы и труда для спокойствия народа. Согласен ты со мной?
— Говорят: «Не будь сыном своего отца — будь сыном народа». Служить народу — наш долг, — ответил Арсланкул, глубоко тронутый доверием и вниманием Навои.
— Спасибо, — сказал поэт. — Каждый из нас должен быть готов в любую минуту пожертвовать жизнью за родину, и ее благополучие.
— Пусть ваше сердце будет спокойно, господин, — сказал Арсланкул и, поблагодарив Навои, ушел.
Бессмысленная война, вражда между отцом и сыном все больше угнетала сердце Навои. Ни та, ни другая сторона не отваживалась на решительное сражение. Время от времени происходили жестокие стычки, но они не могли решить судьбу войны. Продолжительная война понемногу захватывала всю жизнь человека, по поговорке «озеро сливается из капель». Можно было опасаться, что напрасно прольется много крови. Если даже Бади-аз-Заман будет разбит, он отступит в какой-нибудь отдаленный уголок страны и, собрав новые силы из тех, кто жаждет смуты, принесет родине новые несчастья. Эти мысли причиняли Навои непрестанную тревогу. В конце концов он решил приложить все усилия, чтобы пресечь бедствие.
Явившись к султану, он осветил положение в стране и потребовал от него заключения с наследником престола прочного мира. Султан, твердо уверенный, что в сердце его сыновей потухла последняя искра любви, преданности, чести и справедливости, сначала как будто не обратил внимания на это предложение.
Потерпев поражение в кровавых боях, царевичи уже не раз предлагали отцу мир и на коленях готовы были умолять о прощении. Но проходило немного времени, и они вновь поднимали мятеж, и вновь Хусейн Байкара должен был вести свое войско в поход. Престарелый, больной государь, едва успев привести к повиновению одного сына и с облегчением перевести дух, был вынужден воевать с другим. Беспрерывные походы тяготили и утомляли султана. К тому же его сыновья или какие-нибудь другие мятежники, державшие до поры до времени кинжал спрятанным в рукаве, побуждаемые нескончаемыми распрями, могли каждый день поднять восстание либо в Астрабаде, либо в Балхе, Мерве, Авербаде, Мешхеде. Эти опасения заставили Хусейна Байкару прислушаться к словам поэта. Навои предложил свое посредничество, упомянул также об условиях мира и решительно настаивал на своем требовании. В конце концов султану пришлось согласиться.
Старого поэта подняли под руки и посадили на коня. Радостные, благодарные взгляды провожали посланца мира.
Так люди, впервые увидев в небе золотой серп нового месяца, желают себе счастья и благополучия.
Навои выехал в степь, которая в течение нескольких недель была ареной сражения. Тут и там валялись луки, обрывки конской сбруи. Пятна крови на траве напоминали высохшие лепестки тюльпанов. Поэт хмурился, морщины на его лбу углубились. Он вспомнил слова, сказанные им когда-то: «Два друга дервиша лучше, чем два врага шаха». Конь поднялся на голым холм. Внизу были видны шатры лагеря Бади-аз-Замана, снующие взад и вперед люди, скачущие кони. Поэт натянул поводья.
Когда он приблизился к лагерю, навстречу ему бежали знакомые царедворцы Бади-аз-Замана, его собеседник поэт Земани. — Доведите меня, к мирзе, — сказал Навои сходя с коня и переводя дух. С возгласами?: «Пожалуйте! Пожалуйте!»— воины указывали Алишеру дорогу. Из шатра вышел Бади-аз-Заман в сопровождении Зу-н-нун Аргуна-бека и других приближенных. Царевич, по-прежнему красивый и изящно одетый, почтительно пригласил посла в свой великолепный шатер. По просьбе царевича, Навои сел на самом почетном месте. Зу-н-нун Аргун-бек и другие высшие должностные лица заняли места, соответствовавшие положению каждого. Из соседних шатров доносилась приятная музыка и пение женщин. Навои невольно отдался чарующей красоте звуков. Но вскоре пение и музыка прекратились.
— Царевич, я прибыл с целью установить мир, — обратился Навои к Бади-аз-Заману.
— Ваши слова для всех нас неоценимы, — заговорил Бади-аз-Заман тихим голосом. — Однако некоторые события, известные вашей высокой особе, лишают эти речи всякого смысла. — Вы ошибаетесь, царевич, — убежденно возразил Навои. — Страна, правительство и народ жаждут мира. Жизнь и благополучие народа зависят от слова «мир». Какими доводами можете вы доказать противоположное? Я уверен, что, если вы не сломаете меч насилия, если ваши братья с каждым днем глубже будут утопать в болоте бесчестия, костер жизни в нашей благословенной стране разлетится по ветру. Чего мы ожидали от вас? Что мы видим теперь? Если вы не исправите своих ошибок, страна никогда не простит вас. Ваши младшие братья берут с вас пример. Вы оказались зачинщиком всех бедствий.
— Скорбь о сыне глубоко проникла мне в сердце, — печально сказал Бади-аз-Заман. Людей, руки которых запятнаны кровью ребенка, кто бы они ни были, я никогда не стану оправдывать и не прощу. Я всегда буду слать проклятия на их головы! — взволнованно проговорил Навои. — Но народ и страна не виноваты!
Бади-аз-Заман принялся жаловаться на несправедливость отца. Навои доказывал ему, что личные обиды не могут служить основанием для междоусобных войн, несущих горе и разорение всему народу.
Он долго говорил с царевичем о добродетелях, которыми должен обладать человек, и, наконец, закончил:
— Венец не освобождает никого от человеческого долга сохранять добродетель. Но для этого необходимо обладать честью и совестью, сознавать свою ответственность перед обществом.
— Слова господина эмира правильны, — сказал Зулнун Аргун, — но хорошо было бы знать, на каких условиях следует заключить мир?
— Условия мы тоже привезли с собой, — сказал Навои, обводя собрание испытующим взглядом.
— Можно узнать эти условия? — спросил Бади-аз-Заман.
Навои сказал, что царевичу будет предоставлено управление областью Балх и землями между Баяном и Мургабом.
Бади-аз-Заман, решив посоветоваться — с Зу-н-нуном Аргуном и несколькими приближенными, вышел с ними из шатра. Беседуя с придворным поэтом царевича — Земани, Навои узнал, что бывший казий Шихаб-ад-дин сегодня был казнен в стане Бади-аз-Замана как изменник. Этот казий, объявивший себя сторонником Бади-аз-Замана и пользовавшийся — большим вниманием царевича, оказался лазутчиком Музаффара-мирзы. Накануне ночью он попался с тайными документами, и сегодня утром его повесили.
Навои выразил свое глубокое убеждение в том, что всех преступников ожидает позорный конец.
Вошел Бади-аз-Заман и объявил, что принимает условия мира. Он обещал поэту, что, начиная с сегодняшнего дня, какие бы то ни было враждебные действия будут прекращены. После угощения был составлен и подписан договор.
На следующий день Бади-аз-Заман начал отводить свои войска. Навои привез мир в лагерь Хусейна Байкары. Весть о прекращении войны чрезвычайно обрадовала всех.
Под вечер поэт прибыл в Герат. По дороге весь народ поздравлял его, выражая ему признательность и любовь.
Вот и Унсия — очаг мысли и поэзии, источник вдохновения ученых, поэтов, художников, живописцев, музыкантов, краса, гордость, сердце, совесть города, всего Хорасана и Мавераннахра. Снова сошлись друзья и близкие, души их расцвели от близости к поэту.
Полная луна в прозрачной глубине неба раскинула шатер своих лучей. Ночь мирно дремлет под звуки великолепного хора бесчисленных звезд. Сады, окутанные тонким покровом лунного света, слегка вздрагивают от свежего дыхания осени. В домах горят свечи. Слуги, работники, гости, которых всегда можно найти в Унсии, заняты каждый своим делом. Сахиб Даро опустил калам в чернильницу и, закрыв глаза, ищет рифмы. Шейх Бахлул, поседевший на службе в этом доме, читает диван своего господина. В одной из комнат любители шахмат увлечены интересной игрой. В другом помещении слуги, опытные в счетоводстве, подсчитывают, записывают в тетрадь суммы, израсходованные поэтом за день на благотворительные дела. Во дворе расхаживают конюхи, напевая песни.
Поэт сидит один в своей комнате. Последнее время, оставаясь в одиночестве, он часто размышляет о приближающемся закате солнца жизни и вспоминает умерших друзей. Где любезный сердцу Мухаммед Сайд Пехлеван, где Джами? Он думает о них, и печаль теснит его душу. Не потому, что он боится смерти, нет, многое еще надо сделать, еще столько неосуществленных замыслов!
За последние годы заботы, тревоги и труды стали подкашивать силы поэта, которому перевалило уже за шестьдесят. Он видел многообразные явления судьбы. И радости, и горести он переживал со спокойствием мудреца:
«И горечь, и сладость испробовал я в этом мире».
Желая, чтобы созданные им научные и культурные учреждения продолжали действовать и после него, чтобы их благотворительная деятельность развернулась в еще больших размерах, поэт решил составить «вакфнамэ» — завещательное распоряжение. Сколько нужно денег на содержание медресе, Шифайи, ханаки, на пособия студентов и жалование учителям, на выдачу одежды нуждающимся; сколько баранов, быков на праздничные угощения для народа, на ежедневный даровой котел для бедных, сирот и вдов; сколько денег на подарки и награды; сколько заготавливать пшеницы, из скольких батманов муки выпекать лепешки; сколько готовить халвы и леденцов, — обо всем этом он решил подробно написать в «вакфнамэ». Но сначала необходимо закончить «Тяжбу двух языков». Он создал на родном языке «Пятерицу», создал «Чар-диван». Подобно великим персидским поэтам, он смело упражнял свое перо во всех родах стихотворства. Звуками «тюркского саза» своих стихов он доказал силу, красоту, богатство родного языка. Теперь это надо доказать научным путем, доводами логики. Всеми пренебрегаемый язык надо вывести на арену борьбы с прославленным по всему Востоку персидским языком.
Какой богатырь окажется сильнее? Сидя под окошком у горящей свечи, поэт быстро водил пером по бумаге. Два языка — тюркский и персидский — это пара богатырей. Иногда они вздымают палицу логики, иногда являют образцы красоты и силы. Иногда рассыпают из своих недр горсти жемчужин и перлов, иногда состязаются в благозвучии. Посмотреть на эту замечательную, не имеющую подобия борьбу пришли все великие иранские поэты от Фирдоуси до Джами. Каждый из них блистал своими достоинствами. Но они были недовольны доводам своего языка: каким бы богатством ни хвастался иранский герой, другой, тюркский, богатырь заставлял его краснеть.
Рука Навои, державшая перо, утомилась. Увлекших соревнованием борцов, поэт и не заметил, что так долго просидел за работой. Он отложил продолжение состязания на завтра. Один за другим скрылись из глаз великие персидские поэты, столь уверенные в силе своего борца и пришедшие, чтобы поздравить его с победой и любовно унести на руках с арены битвы. Теперь они были бледны и смущены. Только один из них, Джами, приветствовал победителя и дружески хлопал его по плечу.
В сердце Навои волновалось море радости. Победа тюркского языка была его победой, победой его народа.
Поэт погасил свечу. С палкой в руке, медленно передвигая затекшее ноги, он вышел во двор, направляясь в спальню. Прохладный, свежий воздух ласкал его лицо. Сияние разбросанных в бесконечности звезд, шелест деревьев в саду, мерное позвякивание колокольчиков отдаленного каравана — все это казалось сердцу поэта таким близким, таким знакомым, все это он глубоко прочувствовал.
Глава тридцать седьмая
В ясное холодное утро Султанмурад завернул в шелковый платок законченную толстую книгу — «Сборник наук» и вышел из дому. В этой объемистой книге заключались труды многих бессонных ночей, заполненных размышлениями, драгоценные жемчужины человеческой мысли, отобранные творческим разумом из тысячи книг всех времен и отточенные острым, лезвием логики. Хотя прежние сочинения Султанмурада создали ему достаточную славу в науке, гордостью его был последний труд. Эту сокровищницу он нёс в подарок её подлинному вдохновителю — Навои, который так часто помогал ему своим советом, дружеским ободрением и материальными средствами. Ученый словно летел по покрытой грязью дороге, уверенно подняв голову; сердце его, как весенний паводок, заливала музыка радости.
Войдя в ворота Унсии, Султанмурад остановился как вкопанный: лица слуг и работников были бледны головы опущены. Казалось, кто-то приговорил их к смерти и они ждут минуты, когда им придется навеки закрыть глаза.
— Что случилось? — растерянно спросил Султанмурад..
— Господин эмир заболел, — тихо ответил один из слуг.
Сердце ученого замерло, словно он очутился на краю бездны. Он побежал в комнату Навои. В просторной спальне собралось человек десять выдающихся лекарей, а также Дервиш Али, везир Ходжа Афзаль и некоторые близкие поэта. Больной лежал в переднем углу на подушках, покрытый шелковым одеялом.
Султанмурад на цыпочках подошел к нему и поставил свою книгу на полку у изголовья поэта. Потом нагнулся над покоившейся на подушке головой, словно творя земной поклон. Увы! Глаза философа, в которых светилась вся мудрость вселенной, были закрыты. Лицо еле заметно подергивалось. Из глаз Султанмурада горячим потоком хлынули слезы.
— Великий наставник! Книга, которую я писал, закончена! — горестно сказал он, еще ниже склоняясь над ложем.
Глаза больного раскрылись, губы зашевелились, он сказал что-то. Султанмурад не расслышал его слов, но понял по выражению глаз и движению губ поэта, что он доволен.
Ходжа Афзаль — подошел к ученому, пытаясь его утешить. Врачи на цыпочках выходили из комнаты и снова входили, шёпотом совещаясь между собой. Большинство лекарей советовало еще раз пустить кровь.
Султанмурад, чтобы не мешать им, вышел в другую комнату. Там он увидел поэтов, ученых и художников, внимательно слушавших юного Хондемира. Султанмурад занял место в сторонке.
— … Люди, выехавшие навстречу хакану, — рассказывал Хондемир, — остановились в рабате Фарьян. Ночь провели в этом рабате. На рассвете господин Навои начал читать надписи, оставленные путниками на дверях и стенах. Прежде всего ему бросились в глаза такие стихи:
Это стихотворение понравилось господину Алишеру. Я тотчас же записал его. Вскоре мы все выехали по направлению к рабату Маликшах. С противоположной стороны появились царские носилки Сахиб-Кирана. В это время, по воле судьбы, в состоянии господина Алишера произошла странная перемена. Он подозвал к себе Ходжу Шахаб-ад-дина Абдуллаха и сказал: «Будьте возле меня, мне нехорошо». Через минуту он спешился, но не мог идти навстречу государю. Тотчас же Ходжа Шахаб-ад-дин Абдуллах и Джелал-ад-дин Касим подхватили его под руки. Удар лишил эмира способности двигаться и говорить. Горе заполнило наши сердца. Мы положили дорогого больного на носилки и направились в сторону Герата По дороге врачи пустили кровь. Но это не помогло. В полночь мы прибыли в благословенное жилище. О превратная судьба!
Хондемир вытер слезы и замолчал. Все склонили головы. После рассказа Хондемира наступило глубокое, тягостное молчание.
Лекари удвоили свои старания, приходили новые и новые врачи, пытаясь помочь больному, но положение его ухудшалось с каждым часом. На следующий день, в воскресенье, на рассвете, Алишер Навои простился с жизнью.
Этот день — 12-е число второй джумады 906 года хиджры — стал днем глубокого траура. Весь Герат проснулся в горе. Мрачная весть разбила сердца. Каждый гератец ощущал пустоту в своем сердце. Скорбь охватила всю страну.
Сады, аллеи, медресе, мечети, площади, улицы волны народа. Но сегодня город кажется пустым, осиротевшим. Бороды стариков мокры от слез; дети притихли. На протяжении своей истории Герат хоронил немало выдающихся людей, но никогда ничья смерть не вызывала такого горя.
Унсия полна народа. Ученые, поэты, художники, лекари, чиновники, ремесленники прощаются с поэтом.
Скорбь согнула стан Дервиша Али. Друзья и верные слуги поэта — Шейх Бахлул и Сахиб Дара, Мах-муд-Тайа Бади — совсем потеряли голову. Поэты, воспевающие любовь, слезы и разлуку, только теперь постигли истинный смысл этих слов.
Вот Бехзад. Он рыдает у изголовья поэта, своего наставника. Вот плачет вчерашний простой солдат, а сегодня начальник тысячи нукеров Арсланкул. Вместе с поэтами плачут суровые бойцы-беки.
Когда ушли мужчины, в опустевшую комнату впустили женщин. Вначале пришли женщины из дворца, плача, подходили они к телу, после них — женщины из народа, одетые во все черное, они раздирали своими воплями воздух.
Султанмурад, в последний раз обняв великого мудреца, вышел из комнаты. В передней среди толпы он увидел Дильдор в черном платье, в черном, доходящем до самых бровей платке. Из больших глаз одна за другой капали слезы. Султанмурад тяжело вздохнул:
— Плачь, сестра, плачь! Пусть ослепнут глаза того, кто сегодня не плачет, — сказал он Дильдор.
— Ах, дорогой господин, плакать мало, лучше бы сгореть, превратиться в пепел! — ответила Дильдор сдавленным голосом.
Поэты, ученые и даже врачи в стихах выражали свое горе и любовь к Навои. Появились бесчисленные тарихи в четыре, шесть или восемь строк. Написанные на клочках бумаги, эти тарихи ходили по рукам, переписывались, порождая новые скорбные произведения. Создавались удивительные элегии, где каждое слово было проникнуто горем и любовью. Цветы поэзии украсили печаль о поэте.
Обвитые шелком носилки с телом Алишера вынесли на плечах друзья поэта — беки, вельможи и знатные люди Герата. Вопли потрясали небо. Словно не желая остаться равнодушным к великому горю, облака тоже пролили капли слез. Носилки, передаваемые тысячами рук, в одно мгновение удалились от Унсии покачиваясь над человеческим морем. Каждый считал своим долгом хотя бы кончиком пальцев прикоснуться к ним. Пройдя через множество рук, носилки остановились на Ид-Гахе. Торжественно появился Хусейн Байкара. Прочитали заупокойную молитву, носилки снова поплыли по волнам человеческого моря.
Поэта похоронили в здании, построенном им самим, в мечети, где он заранее приготовил себе место вечного упокоения. Герат плакал над великой могилой. Огромные порталы и подобные небу купола мечети сотрясались, от горестных воплей. К вечеру толпы людей на улицах, на площадях и в садах поредели. Султанмурад и Арсланкул, понурив головы медленно шли по хийябану. Солнце, утопая в пылающих облаках, склонилось к горизонту. В конце хийябана Султанмурад остановился, чтобы проститься. Он посмотрел на Арсланкула покрасневшими от слез глазами и сказал:
— Держите крепко меч в руках, богатырь, чтобы охранять мысли и заветы нашего дорогого отца.
Я — мечом, вы — вашей наукой будем служить народу! — воскликнул Арсланкул, сжимая рукоятку меча.
Руки воина и ученого, движимые любовью и верностью, соединились в крепком пожатии.