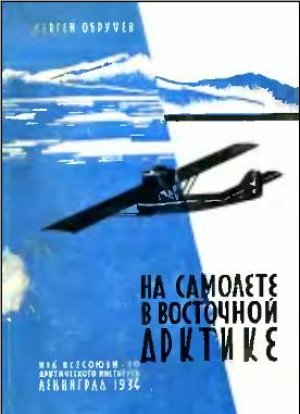
Полярная библиотека
Сергей Обручев. На самолете в восточной арктике
1934 Ленинград
Издание Всесоюзного арктического института
1 ПЛАНЫ И СБОРЫ
Арктика и воздухоплавание — что может быть привлекательнее для жаждущего приключений, всегда тоскующего о неизвестном и недоступном, человеческого сердца? Каждая из этих областей была недостижимой мечтой человечества в течение многих столетий, и только на глазах наших современников были завоеваны и полярные страны и воздух.
Но сейчас Арктика утеряла уже тот таинственный ореол романтизма. Наша Арктика — это такой же участок Советского Союза, как и другие, который надо изучить, снять на карту, победить и освоить, только несколько более недоступный, суровый, негостеприимный. И подходить к нему мы должны уже не с тем трепетом, не с теми мечтами, как в прошлом столетии — а спокойно и трезво, во всеоружии знаний и опыта. Итти в Арктику — не для того, чтобы рассказать о героических неудачах, но чтобы сделать серьезное дело. И если иногда мы не сразу достигаем цели — надо снова и снова вести наступление, чтобы победить суровую природу севера, используя каждое поражение для организации следующей победы.
В 1930 г., во время своей двухлетней экспедиции в Колымский край, я пришел к убеждению, что только при помощи аэроплана или дирижабля можно с достаточной полнотой в короткий срок изучить географию приполярных областей Союза. Те медленные азиатские темпы, в которых изучался наш север до революции, совершенно не соответствуют темпам нашей героической эпохи, темпам в которых развертывается строительство нового мира — и надо решительно и планомерно вводить в дело изучения безлюдных и неизвестных пространств все новейшие технические изобретения — дирижабль и аэроплан для воздуха, гусеничные автомобили и аэросани на земле, глиссеры на воде.
Во время моих экспедиций 1926 и 1929–1930 гг. была изучена в общих чертах география и геология значительной части северо-востока Азии — восточная половина Якутии в области рек Индигирки и Колымы.[1]
Но оставались еще обширные пространства, которые не могли быть сколько нибудь точно изображены на карте — водораздел между Охотским морем и реками Индигиркой и Колымой и в особенности Чукотский национальный округ и северная часть Корякского, занимающих крайний северовосточный конец Союза. Только изучив этот кончик Азии — «кончик» площадью 700.000 кв. км — можно было строить на сколько нибудь серьезном фундаменте теории о геологической связи материков Азии и Америки, о направлении структурных линий, об изгибе тихоокеанских дуг, о распределении областей полезных ископаемых — одним словом, все те построения, которые часто появляются теперь, но основаны в значительной степени на личных взглядах и фантазии авторов.
Тотчас по возвращении из Колымской экспедиции зимой 1930 г. я принялся за организацию изучения северо-востока при помощи самолета. Но дело это оказалось значительно труднее, чем организация наземных экспедиций — даже в таких тяжелых по условиям работы местах как Колымский край. Предыдущие мои экспедиции были организованы: первая Геологическим комитетом (ныне Союзгеоразведка), вторая — Академией наук; Академия охотно пошла навстречу моим предложениям, и включила в программу 1931 г. экспедицию для изучения Охотско-Колымского района. Но скромная смета Академии не позволила выделить достаточно средств для экспедиции, не удалось достать подходящего аэроплана — и экспедиция не осуществилась.
В конце 1931 г., в связи с моей работой во Всесоюзном Арктическом институте и выработкой программы его работ на вторую пятилетку, я предложил начать изучение Чукотского округа при помощи аэропланов, что nозволило бы быстро создать карту страны и дать общее ее описание. На основе этих исследований должна была развернуться пятилетняя работа по изучению естественных производительных сил края. Арктический институт в лице директора О. Ю. Шмидта, зам. директора Р. Л. Самойловича и председателя Ученого Совета С. С. Каменева оказали широкое содействие организации экспедиции. В виду большого интереса этих работ в них приняли участие Союз-георазведка, Востокзолото и Главное Геодезическое управление.
Первоначально предполагалось снабдить экспедицию многообъективными аэрофотокамерами, с тем, чтобы вести аэрофотосъемку, охватывающую всю страну.
Но в связи с теми трудностями, которые представляла организация подобной съемки в областях малодоступных, где самые условия авиоработы были неясны, и в связи с тем, что соответствующую мощную аппаратуру нельзя было своевременно достать — решено было ограничиться в 1932 г. пробной аэросъемкой небольших участков, а центр тяжести перенести на другой, предложенный мною и К. А. Салищевым метод воздушной съемки. Метод этот, названный маршрутно-визуальным, состоял в зарисовке опытным геодезистом полосы вдоль линии полета, шириной до 50 км. Зарисовки эти, опираясь на точно проложенную линию полета, как мы полагали, могут, в случае удачи, дать карту масштаба одна миллионная — т. е. вполне достаточную для дальнейших земных исследований.
Самое трудное в организации этой экспедиции—было найти подходящий самолет и доставить его на Чукотку. Условия полетов на северо-востоке исключительно тяжелы, и немногочисленные опыты перелетов вдоль берегов Охотского, Берингова и Полярного морей были в большинстве случаев неудачны. А нам предстояло не только итти вдоль морских берегов, но и пересекать огромные участки суши — до 500 км, абсолютно лишенные, сухопутных посадочных площадок, с сравнительно небольшими реками и озерами, пригодность которых для посадки гидроплана была неизвестна. Только р. Анадырь, пересекающая округ в широтном направлении, была безусловно посадочна.
Нам нужна была морская машина, которая могла бы садиться везде на побережьи — и вместе с тем этот морской самолет должен был пересекать горные хребты высотой от 1000 до 2000 м, не имея под собой на протяжении сотен километров ни одного водоема, на который можно было бы сесть и затем взлететь (для взлета нужна более длинная площадка).
Наибольшие гарантии в этих условиях представлял, казалось, многомоторный самолет: по статистике больше 50 % аварий происходит от порчи моторов, и если у нас их будет несколько, то в случае остановки одного из них, мы можем на небольшой высоте дотянуть до какой-нибудь воды.
Мы остановились на самолете фирмы Дорнье типа «Валь» (кит) — самолеты, которыми в 1932 г. владел «Комсеверпуть», обслуживавший ими свои Карские экспедиции и Енисейскую линию. Комсеверпуть охотно пошел нам навстречу и согласился предоставить нам один из трех своих «Дорнье-Валь», и взял на себя заброску горючего в промежуточные пункты и в Анадырь. Самолет из Красноярска, где он ремонтировался, должен был перелететь через Иркутск и Читу на Амур, и затем по побережью Охотского и Берингова моря до Анадыря.
Условия фрахтовки не встретили возражений — мы платили как за «воздушного извозчика», за час полета — но очень долго и упорно обсуждались условия полетов внутрь страны, пересечения от р. Анадырь к Ледовитому морю и к Колыме, которые очень пугали авиослужбу Комсеверпути. От нас требовали гарантии, что самолет не будет удаляться дальше чем на 80 км от посадочной площадки — большой реки с прямым плесом или озера километра в 2 длины. Но как можно знать — будут ли там большие озера, когда нам предстояло снова, как и на Колыме и Индигирке — передвинуть горы и реки и, может быть, создать новые хребты? В качестве командира самолета Комсеверпуть давал Л. Петрова, который должен был исполнять кроме того обязанности аэронавигатора и радиста. Первым пилотом шел Г. Страубе — который в 1928 г. в качестве второго пилота участвовал вместе с Б. Чухновским в спасении участников экспедиции Нобиле и после этого работал на Севере. Остальных двух членов экипажа предполагалось назначить позже.
В научный персонал экспедиции, кроме меня, вошли: инженер-геодезист К. Салищев, мой постоянный спутник в экспедициях на северо-восток, аэросъемщик А. Суше и фотолаборант Арктического института А. Филоматитский. Единственным хозяйственником в нашей среде явился завхоз Н. Михайлов.
в середине мая начали выезжать из Ленинграда сотрудники экспедиции — в Красноярск к самолету, и во Владивосток, куда шли для погрузки на пароход грузы экспедиции. Вылет самолета был назначен 10 июня, и в это же время должен был отойти пароход в Анадырь.
Закончив все дела в Ленинграде я приехал 2 июня в Москву и здесь с ужасом убедился, что Комсеверпуть в самом начале своей работы проявил непостижимое легкомыслие: еще небыли отправлены во Владивосток запасные моторы (которые нужны будут для смены после 100 часов полета), а для горючего во Владивостоке не была запасена тара и никаких мер для ее поисков не принималось. Только 5 июня был отправлен последний мотор во Владивосток и к этому времени получилось утешительное известие: пароход уйдет только 17-го.
2 В КРАСНОЯРСКЕ
В Красноярске 10-го июня я застал ремонт самолета «H1» в самом разгаре, но до конца его было еще очень далеко. Самолет стоял на берегу в пароходном затоне под навесом; громадные тяжелые деревянные колеса поддерживали его с боков, плоскости (крылья) еще не были прикреплены, и, бескрылый, он имел вид какой-то гигантской жабы, прижавшейся брюхом к земле. Рядом, почти готовый, с серыми крыльями, с окрашенным черной блестящей краской брюхом, стоял его брат, «Н2». Мы договорились вначале, что Комсеверпуть предоставляет нам «Н2», как более свежий и крепкий, но потом второй номер был назначен для похода на Северную Землю и нам пришлось взять «H1», самолет гораздо более старый и сильно пострадавший в предыдущих кампаниях. Зимой 1930 г. Чухновский должен был лететь на нем на поиски Эйелсона, американского летчика, погибшего на северном побережье Чукотки, при перелете из Номе к мысу Северному, и стартовал на «H1» с земли, едва прикрытой снегом. При этом было сильно повреждено дно самолета.
Кроме того его долгая жизнь (больше пяти лет — это для самолета не мало) вызвала образование обильной коррозии, разъедающей дюралюминий (дюраль). Коррозия для дюраля, говоря вульгарно, то же, что ржавчина для железа: на металле появляются серые матовые пятна, и металл быстро разрушается, превращаясь в пылевидную массу. Сейчас как раз ставили заплатки на места дюраля, захваченные коррозией.
Я с любопытством осматривал машину, которая в течение четырех месяцев должна была быть нашим экипажем, домом, а при печальном исходе — даже и гробом. Дорнье-Валь действительно отчасти напоминает кита: это лодка с тупым носом — вроде головы и длинным хвостом. Она со всех сторон покрыта дюралевыми листами, покоящимися на сложном скелете шпангоутов, стоек и переборок; только сверху прорезано несколько круглых и овальных отверстий: впереди на самом носу, кабина для наблюдателя, за ней рядом две кабины для пилотов, и сзади—длинное овальное отверстие, кормовая кабина, где могут помещаться два человека. Кроме того, в средней части самолета два круглых отверстия над баковыми отделениями. В переднее из них борт-механик может выглядывать во время полета, а в заднее он вылезает, чтобы по трапу (лесенке) подняться в моторную гондолу. Все эти отверстия снабжены козырьками из целлулоида, защищающими сидящих от ветра.
Внутри корпус самолета разделен поперечными перегородками на несколько отсеков, соединяющихся круглыми горловинами. Во время полета горловины эти закрываются почти герметическими крышками.
Над средней частью самолета на тонких стойках возвышается моторная гондола — продолговатый футляр, в котором помещаются два мотора — один тянущий и другой толкающий. Между ними — небольшое помещение, где может сидеть механик, свесив ноги вниз, и следить за работой моторов.
В нижней части моторной гондолы справа и слева выступы, так называемый центроплан, к которому прикрепляются крылья. Их поддерживают подкосы, опирающиеся на жабры — два неуклюжих обрубка, зачатки крыльев, прикрепленные с боков лодки и играющие роль поплавков.
Они придают лодке устойчивость на воде, а в случае пробоины не дают ей затонуть.
Командир самолета Петров, приехавший в Красноярск в конце апреля для руководства ремонтом, сообщил мне, что работы остается еще дней на 5 — прикрепление крыльев и пр, а затем—установка моторов, которые еще не прибыли из Москвы. Можно надеяться, если моторы не запоздают, что около 20–22 мы вылетим.
В затоне я познакомился с третьим членом экипажа — борт-механиком Крутским, крупным человеком в замасленном комбинезоне; он с утра до вечера возился с бензино-проводами и прочими трубками, которые покрывали стенки в моторной гондоле и баковом отделении. Кроме Крутского работает бригада клепальщиков, приехавшая из Севастополя.
Затон лежит в 6 километрах от города на другом берегу Енисея, и туда приходится ходить на моторной лодке.
На веслах здесь никуда не уйдешь — и становится немного тоскливо, когда мотор начинает капризничать. Невольно вспоминаются предыдущие мои опыты с механическими двигaтелями — мне с ними никогда не везет: всегда приходилось моторную лодку в конце концов тащить бичевой, а единственный мой большой перелет от Иркутска до Якутска окончился аварией, мы сели на забор якутской юрты, и пришлось кончать полет поездкой на санях. Неужели и в этом году все моторы будут так неприязненно настроены ко мне, и на воде и в воздухе? Лодочный мотор во время наших переездов в затон несколько раз развлекал нас разными забавными штуками.
А в затон пришлось ездить еще не раз — наш вылет все откладывался и откладывался, и мы не только не улетели 50 июня, но и вообще в июне не вылетели. Мне постоянно обещали, что дня через два ремонт окончится и только гораздо позже я узнал, что после очистки старой краски выяснилась вся значительность площади захваченной коррозией — пришлось менять целых четыре листа и 45 метров профилей (продольных ребер, укрепляющих фюзеляж снаружи).
Но и после этого ремонта осталось немало слегка корродированных мест, и вполне были правы летчики, называя эту работу — ремонтом «дырявой калоши». Комиссия, выпускающая самолет, принуждена была запретить ему посадку на большую волну, так как при этом из-за слабости корродированных листов мог помяться фюзеляж.
За это время «Н2» успел улететь в низовья Енисея. Улетел и другой самолет Комсеверпути — трехмоторный Юнкерс-гигант «Н4», «Юга», как ее называли—а мы все сидели. Остальное все также плохо ладилось. Из Владивостока мне сообщили, что пароход уходит 20-го, что Комсеверпуть не перевел денег для оплаты горючего, что потерялся вагон с нашим грузом, что следовавший отдельно багаж — также неизвестно где. Моторы также никак не могли дойти до Владивостока. Один из них, который надо было перегрузить в Красноярске, вовсе потерялся, документы па него исчезли, и только через два дня его нашли в отдаленном вагоне на запасных путях. Другой, отправленный при мне прямо из Москвы, блуждал неизвестно где, и мы так и не знали до самого Анадыря, будем ли мы иметь возможность сменить там моторы. Оказалось, что он пришел во Владивосток в начале июля, за сутки до отхода парохода и его успели погрузить. Совторгфлот в этом случае оказался также аккуратен как Комсеверпуть, пароход ушел только 9 июля, и к этому времени все удалось собрать.
Самолет стоял на берегу между кучами бревен, старыми опрокинутыми будками, среди зарослей лебеды и полыни. Под ним меланхолично бродил выводок свиней, копаясь
в земле, а сверху копошились Крутский, клепальщики и два техника. Петров утешал меня, что все скоро будет готово. Я постепенно выучился летной терминологии — на самолете, как и на корабле, существуют для всего особые названия: не аэроплан — а самолет, не крылья — а плоскости, не пропеллер — а винт, не жалюзи, а жалюзи (ударение на первом слоге) — но боже вас сохрани также в другом французском слове (шасси) перенести ударение на первый слог — вас засмеют.
В Красноярске собрались уже почти все участники перелета — приехал 2-ой пилот В. Косухин,[2] аэросъемщик Суше сидел здесь уже с конца мая, а Салищев должен был присоединится к нам в Хабаровске.
Только 22 июня был спущен на воду самолет; маленькое утешение — он совсем не течет, что очень удивительно при таком количестве новых заклепок. Дальнейший ремонт идет также медленно — все время встречаются неожиданные препятствия: то лопаются трубки бензинопроводов, то текут бензиновые баки, то целлулоид, поставленный на козырьки, оказывается через два дня никуда негодным—он краснеет на солнце и становится непрозрачным; то выясняется неисправность пускового моторчика.
Наконец, как-будто, все в порядке и 8 июля — первый пробный полет, в котором участвует только экипаж. Мы, — оставшиеся на земле, с замиранием сердца прислушиваемся — взлетит или нет машина.
Но все хорошо — над прибрежными кустами показывается изящный профиль нашей «Даши» — таково ее любовное уменьшительное от Дорнье-Валь (есть еще второе, похуже: «дура»), и затем она, сделав круг, низко пролетает над нами. Петров высовывается из носовой кабины и машет рукой — все очень хорошо.
Снизу «Даша» имеет тяжелые прямоугольные очертания, жабры и туловище окрашены в черный цвет, и она носится в воздухе как какое-то мрачное чудовище, оживший бред больного воображения.
Не все так хорошо, как казалось. Опять подводит пусковой моторчик «Бристоль». Моторы самолета слишком мощны, чтобы заводить их рукой — каждый из них по 600 сил; необходима дополнительная компрессия, которая получается применением сжатого воздуха, или полуторосильным моторчиком. Бристоль прислан нам подержанный, скверный, его уже чинили на-днях, он дает компрессию не больше 20 атмосфер — а задний мотор почему то идет очень туго и заводится только при 40 атмосферах. (Читателю наверно надоели уже все эти технические детали, но они необходимы для понимания дальнейших очень серьезных событий, и придется немного потерпеть).
Говорят, что со временем мотор разработается, что трудны только первые 10–20 ч., — но от этого не легче: мы не можем взять с собой достаточно баллонов с сжатым воздухом, они слишком тяжелы. Надо выписать из Москвы новый Бристоль.
До разрешения вопроса с Бристолем устраиваются пробные полеты для приемки самолета комиссией, которая должна дать разрешение на вылет. Первый полет неудачен — с высоты 700 м самолет быстро поворачивает на посадку: сдал мотор. Во втором полете участвовали и мы с Суше для пробы фотоаппаратов; самолет поднимается до высоты 2 700 м — отсюда видны снежные цепи Саян на юговостоке, а вся страна к северу от гор кажется плоской, грязно-зеленой с желтыми пятнами, освещенными заходящим солнцем. Речки в виде блестящих полосок текут в Енисей, который с этой высоты уже вовсе не так величествен — просто маленькая речка, извивающаяся в горах. Знаменитые Красноярские «Столбы» — гранитные утесы в горах, возле которых на-днях я читал экскурсии водников лекцию по геологии — в виде ничтожных шишечек торчат среди леса, похожего на мох.
Я в первый раз на открытом самолете, и остро чувствую, что я вишу среди огромного пространства в тонкой металлической скорлупке. Но Суше смеется надо мной, и на вираже, когда самолет накреняется на 45 гр., он вылезает и садится на фюзеляж (палубу), свесив ноги в кабину и размахивает руками, чтоб показать как легко соблюдать равновесие. И действительно — благодаря центробежной силе, внутри самолета во время поворота вы не ощущаете крена, даже самого сильного—если вираж сделан правильно. Занявшись фотоаппаратом внутри, я выглянул во время виража и удивился: земля накренилась, и горизонт косой — как в неумелом любительском снимке.
При спуске Страубе, который любит крутые виражи, доставляет себе маленькое удовольствие: с высоты 1500 м он спускается по спирали, кружась над затоном. Спираль — это совсем детская игра, не штопор, который. «Даша» не может делать. Медленно приближаемся к земле, и я уже потерял счет кругам, которые мы сделали. Хочется невольно смотреть через борт вниз — как неуклонно вырастают земные предметы. Это почти спуск в Мальмштрем, как его описывает Эдгар По, 13 июля мы получили из Москвы разрешение снять «Бристоль» с «Н4», но последнего еще не было в Красноярске, Чухновский улетел на нем в низовья Енисея. 15 июля, когда даже и мое терпение начало истощаться — просрочка в целый месяц грозила совершенно сорвать работы на Чукотке, где весь летний период равен 60–70 дням — над городом послышался характерный шум моторов и «Н4», громадная острокрылая машина в 30 м в размахе, пролетела в затон.
3 БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
На месяц позже, чем было намечено, 16 июля на рассвете вылетели мы из Красноярска. Еще накануне я перевез свой багаж в затон;— аэросъемщик Суше после испытания фотоаппаратов повез их поездом в Хабаровск, чтобы облегчить самолет на этом трудном перегоне. Я провел ночь в машине, уютно устроившись на дне задней кабины.
Нас провожал только заведующий Енисейским авиоучастком Комсеверпути, летчик Липп, который рад был наконец избавиться от тяжелой ответственности за невылетающий самолет, и крепко пожав нам руки, пожелал сегодня-же долететь до Иркутска.
В затоне было тихо, но на реке нас встретил слабый низовой ветер, который должен был помочь нам подняться. Самолет, перегруженный горючим для далекого перелета, поднимался тяжело. Он бежал почти две минуты по воде и Страубе, пройдя широкое плесо, принужден был свернуть в протоку, где мы наконец оторвались и тяжело и медленно начали подниматься к северу. Сзади в дымке был виден Красноярск с мрачным амфитеатром хребтов. Нам предстояло пройти более 300 километров вниз по Енисею, до устья Ангары — и затем подниматься по Ангаре. Прямой путь на восток в Иркутск по линии железной дороги, был нам строго запрещен — моторы еще только начинали работу, можно было ожидать от них всяких капризов, и не к чему было рисковать машиной, пересекая большой сухопутный участок.
Вскоре мы поднялись на 500 м и пошли на север, несколько срезая изгибы Енисея.
Енисей ниже перекатов у Атамановской входит в узкую долину, по которой течет до устья Ангары; справа тянется плоский и невысокий, покрытый лесами. Енисейский кряж, а слева низкое плато, постепенно склоняющееся к северо-западу. Долина реки извилистой, узкой канавой врезана в плато; немного дальше к северу канава кажется заполненной молоком — это утренний туман, который по всем правилам материковых туманов, лежит в долине реки, чтобы позже вползти на горы. Его поверхность то ровная, то с пушистыми валами, идущими вдоль долины; среди мрачных лесных склонов туман кажется таким легким и нежным.
Уже в половине седьмого утра мы над Стрелкой. Это — довольно большое село, усевшееся на узком языке земли между Ангарой и Енисеем. С востока течет Ангара, мощная река, которая здесь ширe Енисея, скромно прижимающегося к ней сбоку.
На Ангаре стоят и плывут громадные плоты, длиной в сотню метров, с целыми избами, стоящими на них. Ангара теперь — один из важнейших районов по лесозаготовкам, питающих экспорт Карских экспедиций и лесопильный завод Игарки.
Самолет делает круг над Стрелкой, затем быстро вниз — и сразу село из собрания игрушечных домиков, расставленных по линейке вдоль нарисованных улиц, оживает, превращается в сибирскую деревню с широкой пыльной улицей, длинными заборами, кучами ребят и взрослых, бегущих к пристани. Самолет в Стрелке чуть ли не в первый раз: машины летают часто в Енисейск, но ни одна не садится здесь.
Мы хотим пополнить запас горючего, — чтобы иметь возможность долететь до с. Братский Острог, в 1 150 км от устья. До Братского, по имеющимся сведениям, нигде горючего нет.
В Стрелке нас встречают очень радушно, снабжают в колхозе двумя ковригами чудесного хлеба и ужасно солеными стерлядями, которые долго дают себя знать. Заправляем горючее (не следует говорить: «наливаем бензин» — это дурной тон), надеваем шлемы, кожаные пальто, затыкаем уши ватой. Все население собирается на берегу поглядеть, как тяжелый реальный предмет, неуклюжая лодка, вдруг превратится в птицу.
Но этот момент никак не хочет наступить. Тщетно Страубе гоняет «Дашу» поводе по 2 минуты подряд (больше нельзя — перегреются моторы) — она не выходит даже на первый редан.
Опять надо давать технические объяснения: у самолетов — летающих лодок—дно устроено так же, как у глиссеров, с уступами — реданами, и когда машина приобретает большую скорость, она приподнимается и скользит по воде краем первого редана, а при большом ускорении выходит на второй редан, расположенный в хвостовой части.
Моторы рычат, жабры взбивают фонтаны воды, которая плещет в кормовое отделение, от самолета идут волны — но все ни к чему.
На потеху всей деревни мы мчимся то вниз по Енисею;, то вверх по Ангаре, делаем крутые повороты обратно, чтобы выйти на собственную волну — но все напрасно: хотя самолет не имеет еще предельной нагрузки, но ветер кончился, а злокозненный кормовой мотор не дает полного числа оборотов.
Приходится вернуться к пристани и выгрузить часть горючего. Разочарованные зрители расходятся, только небольшая толпа остается возле илимок, выстроившихся в ряд У берега. Илимки — это крытые ангарские лодки, длинные и неуклюжие, на которых поднимают вверх по Ангаре грузы. Они пришли за товаром на Стрелку, и затем медленно потянутся вверх бичевой; каждую поведут пять-шесть человек, а в порогах будут тянуть человек сорок, изнемогая от напряжения и жары в рое комаров и мошек.
К двум часам дня закончена отливка десяти бидонов бензина и неизбежная починка—Крутский всегда находит в моторах что нибудь достойное исправления — и мы легко отрываемся.
Под нами мрачная долина Ангары. Когда я вел геологические работы на Ангаре в 1927 г., и впервые выплыл с нее на Енисей, мне показалось, что из темной пещеры я вышел
в широкие светлые просторы. На Ангаре я был несколько раз и с интересом изучаю теперь знакомые места с воздуха.
Вот первый порог — Стрелковский. Сверху это — горсть камней, рассыпанных поперек реки, частью просвечивающих сквозь воду, частью торчащих наружу. Но между ними вверх по течению пробирается пароход с баржей, и видно, какие большие эти камешки. В действительности это — громадные гранитные глыбы, плоскую поверхность которых лижут струи.
Вот первая деревня—Кулакова, когда то сожженная колчаковскими войсками, а вот неподалеку и р. Тасеева — большой левый приток, один из важнейших центров красного противоколчаковского партизанского движения, Ангара здесь пересекает Енисейский кряж, и главные его высоты тянутся к северу — это когда то гремевший, а теперь сильно выработанный Енисейский золотоносный район. Волнистые плосковерхие горы, напоминающие Урал, все покрыто лесом, и только вдоль Ангары — поля и редкие селения.
Выше Тасеевой больше ста километров мы идем вдоль хребта, здесь река течет по грандиозным сбросам, окаймляющим хребет с юговостока. Внизу несколько жалких поселков с унылыми именами — Кокуй, Погорюй и Потоскуй. По преданию эти названия — месть царских ярыжек (чиновников) за негостеприимную встречу. Между ними — свежесрубленные бараки возле лесосек.
На северо-западе скапливаются грозовые тучи и начинает «болтать».
С непривычки это неприятно — вроде морской качки, но менее плавно. Очень мешает записывать — получаются каракули. Самолет поднимается то вверх, то вниз, кренится то на правое крыло, то на левое. Пилот быстро выправляет крен и при сильной «болтовне» ему приходится работать непрерывно.
Крутский слазал по лесенке в моторную гондолу, проверил все в баковом отделении, и перелезает через горловину ко мне в кормовую кабину. Ему интересно посмотреть как я, новичек, переношу качку. В такой тяжелой машине, как Дорнье-Валь, не надо привязываться к сиденьям — ее никогда не бросает так резко, как маленьких истребителей или разведчиков. Но все же иногда невольно схватываешься за стойки.
Крутский советует мне побольше есть — во избежание морской болезни; у него самого в воздухе волчий аппетит и мы начинаем курс лечения с хлеба и колбасы.
Весь разговор ведется письменно и с помощью оживленной мимики — моторы на самолетах этого типа шумят неистово, не помогает ни вата, ни меховой шлем. Ведь всего Б одном метре перед моим лицом вертится винт заднего мотора, делая 1 500 оборотов в минуту.
К востоку от Енисейского кряжа мы вступаем в Тунгусский бассейн, мое геологическое детище. С чувством любящего отца я убеждаюсь, насколько велико мое дитя — это действительно безбрежное плато, над которым мы будем лететь целый день. Оно тянется на север до горизонта, и лишь кое-где видны грядки гор, — состоящих из изверженных пород, траппов. Ангара врезана в плато на сотни метров; то ее широкая полоса под нами, и надо нагнуться через борт, чтобы посмотреть берега, то она остается далеко в стороне. Мы срезаем изгибы реки, чтобы по возможности сократить путь.
В первое время полета, когда еще остро ощущаешь всю необычность этого состояния, особенно сильно чувствуется полная отделенность от остальной вселенной: единственное реальное — это самолет; все остальное — картины иллюзорного мира, проходящие как в кинематографе. Реальность этой картины начинаешь ощущать только тогда, когда самолет садится, река из условной блестящей ленты превращается в быстро текущую жидкость, деревья, которые сверху казались мхом, высятся на десять метров.
Но что еще сильно поражает в пейзаже — это его наглядность, рельефность. Несколько раз проплывал я Ангару на лодке, мне знакома здесь каждая речка, и я знаю из чего состоит каждый утес — но никогда не представлял я себе так ясно объемности всего этого, формы и направления хребтов, изящного выреза долины реки.
Красивы сверху пороги; все они образованы пересечением рекой полосы (пластовой жилы) траппов и выступают в виде широкой гряды бурунов, перегораживающих реку. На Ангаре 35 порогов, шивер и быков[3] то и дело спокойная река пенится от берега до берега.
Уже почти четыре часа летели мы от Стрелки. Все время болтает, и я начинаю находить, что удовольствие от перелета — как и всякое удовольствие в слишком большом количестве — становится утомительным и скучным.
Мы входим уже во внутреннюю часть Тунгусского бассейна, где Ангара пересекает низкое плато по широкой долине, разливаясь на 10 километров, со множеством островов.
Срезаем большой изгиб реки, оставляя влево километрах в 25-ти с. Кежму, районный центр, наиболее культурное селение этой глухой части Ангары. Полет идет сегодня хорошо, и у Крутского, снова перелезшего ко мне, является смелая мысль — не сможем ли мы сегодня долететь до Балаганска, не снижаясь в Братске.
Но только он успевает снова подняться в моторную гондолу, как внезапно задний мотор изменяет свой звук, в нем резко поднимается температура, из выхлопных труб появляется дым — мотор горит, и через минуту Крутский его выключает.
У нас остается один передний мотор который может поддерживать машину в воздухе очень недолго, и Страубе круто поворачивает к реке. Она от нас километрах в 6–7, внизу сплошной лес.
Как мне советовали на случай аварии, я поднимаю очки — чтобы не поранить глаза при ударе о землю—и отмечаю в записной книжке время остановки мотора. Я по неопытности не знаю, как далеко можно итти на одном моторе, и у меня совсем нет страха, только острое любопытство — дотянем ли до реки.
С высоты 700 м, на которой мы находимся, оказывается можно еще дотянуть, и Страубе имеет возможность не только выйти к реке, но даже еще изящно сесть к деревушке, находящейся на конце одного из островов. Якорь брошен, и все вылезают на фюзеляж — место, где обычно обсуждаются все моменты минувшего полета. Что случилось и что предстоит нам в будущем?
Положение наше довольно печальное: при просмотре оказывается, что мотор сгорел основательно, и починить его можно только в больших мастерских. Причина — небрежность сборки, которую нельзя было установить при испытаниях, незначительное, в сотых долях миллиметра, превышение длины поршневых колец против нормы — но результат потрясающий.
Нужно добираться до Енисея — или до Иркутска. Последнее невозможно — вверху лежат самые большие пороги Ангары. Внизу их также много, но они не так опасны, и можно с хорошим лоцманом надеяться пробраться, если идти в порогах своим мотором, а остальное время — сплавом-
Но прежде всего надо добраться до Кежмы — районного центра, лежащего в 80 км ниже. Там есть радиостанция, и, может быть, нам удастся найти более скорую помощь.
D наш оживленный митинг на фюзеляже сразу начинают вмешиваться местные жители: сначала в громадном количестве прилетают мошки, этот истинный бич Ангары, а затем на долбленных из осины стружках-душегубках подплывают крестьяне деревни Фроловой, возле которой мы сели.
Они робко приближаются к неслыханному и невиданному чуду, свалившемуся с неба. Впервой лодке лишь представитель сельсовета и почтенный старик, а потом любопытные становятся все смелее, и к самолету набиваются мальчишки и девчонки, которые забираются на фюзеляж и с раскрытыми ртами глазеют во все отверстия, какие только можно найти. Старики интересуются положительными данными — о скорости полета, о том, не страшно ли летать и т. п. Когда какой нибудь старик слезает с самолета в стружок, каждый считает своим долгом сказать ему: «Ну вот, теперь можешь и умереть — ероплан видел».
Пока летный состав занят разборкой пострадавшего мотора, на меня падают обязанности популяризатора, и я отвечаю без конца на одни и те же вопросы.
После долгих споров — решено идти завтра своим ходом до Кежмы, а там выяснить наличность лоцманов, связаться с Красноярском и тогда наметить дальнейший план.
4 КЕЖЕМСКОЕ СИДЕНИЕ
«Видишь ты», сказал один другому, — «вот какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если-б случилось, в Москву, или не доедет?» — «Доедет», отвечал другой. — «А в Казань то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет».
Н. Гоголь.
Следующий день благоприятствует нам — ясно, тихо. Мы берем с собой лоцмана и пассажирку с грудным ребенком. Она садится в заднюю кабину со всеми своими припасами — туесок с молоком, соска из коровьего рога, чашка ягод, яйца и хлеб в узелке. А лоцман забирается на нос и садится на фюзеляж, свесив ноги.
В кармане у него бутылка с молоком, на голове черная волосяная сетка — «маска» от мошек, а в руках веточка: ею он указывает путь самолету, У всякого уважающего себя лоцмана есть опасные места, даже на таком чистом плесе, как это — и лоцман встает на фюзеляж и помахивает веточкой в ту или другую сторону. В особенности беспокоил его один «порожек», где надо уменьшить скорость.
Мы двигаемся медленно, на одном моторе, на малом газе. После вчерашнего перелета это почти мучительно — так и хочется подтолкнуть машину. Целых пять часов плывем мы по широкой реке. Редкие деревушки ютятся на островах и на правом берегу. Но жители не обращают» на нас большого внимания — стучащая машина, которая ползет по реке, совсем не похожа на легкую птицу, пролетавшую вчера.
Через пять часов показывается на яре Кежма — большое торговое село, оживленный центр района.
Здесь нам не приходится отбиваться от мошек и любопытных. Первых почти нет, а вторых не пускают — выставлена стража из членов Осоавиахима, которая несла охрану все время, пока самолет стоял в Кежме. Иногда это был юноша, ночью засыпающий, иногда — две девушки (девушек ставили попарно), они стояли в платочках с ружьем у хвостового оперенья, стараясь сохранить серьезное лицо при исполнении этой суровой обязанности — несмотря на любезности летчиков.
В Кемже выяснилось, что хороших лоцманов нет, все ушли вниз с «крытыми лодками» (илимками) за товарами, и наш план — плыть вниз до Енисея — невыполним; особенно опасен Аплинский порог, с воротами у самых утесов правого берега; здесь можно сломать крыло, если навалит ветер.
Радиостанция в Кежме оказалась исправно работающей, и в Красноярск и Москву полетели аварийные телеграммы с просьбой доставить на самолете другой мотор.
В ожидании ответа потянулись тихие дни в Кежме. Это — одно из самых больших селений на Ангаре, населенное очень крепкими и предприимчивыми крестьянами. Они создали уже давно мощное кооперативное общество, имевшее ряд предприятий — между прочим соляные варницы на Подкаменной Тунгуске. Теперь здесь есть электрическая мельница, в церкви устроена читальня, а в церковной ограде физкультурники играют в волей-болл.
До революции наиболее зажиточные из крестьян «занимались тунгусами», «тунгусничали», как здесь говорят, попросту — эксплоатировали тунгусов, кочующих по Подкаменной Тунгуске — но теперь, после создания там хороших факторий и раскулачивания Ангары, возможность такой зкс-плоатации уничтожена. Большинство крестьян Кежмы входит в колхоз, а часть образует коммуну в 1200 едоков, с общим инвентарем, скотом, общественной столовой. В последней мы обедали все время — и до самой зимы наш экипаж не мог забыть изумительной сметаны, которую там подавали в количестве, превышавшем наш городской аппетит.
Пока разбирают мотор для выяснения причин аварии, я сижу на берегу лениво текущей Ангары, смотрю на медлительную речную жизнь и думаю с унынием о том, что экспедиция почти погублена. В лучшем случае мы попадем на Чукотку к концу лета, к заморозкам.
Снизу подходят илимки с громадным парусом, который в виде отвислого живота спускается по обе стороны лодки до воды — по мнению ангарских мореплавателей, чем больше «куль» у паруса, тем ветер сильнее тянет.
Еще недавно эти кули вызывали на моем лице презрительную усмешку знатока: по правилам парусного спорта, край паруса должен быть натянут как струна. Но новейшие аэродинамические исследования и американская практика заставили меня преклониться перед практической мудростью ангарцев: наиболее выгодный коэффициент работ парус дает, когда у него есть куль («пузо» по спортивным справочникам) — конечно, не такой безобразный как здесь, но все же иногда до метра, в одну тридцатую его ширины.
Снизу подвозят товары, население ждет их с нетерпением и любопытством. Но первая илимка принесла разочарование и даже вызвала раздражение: в ней пушные организации прислали груз ржаных сухарей для снабжения тунгусов—это в Кежму, где лежат в ожидании вывоза 30 тыс. центнеров пшеницы, и где тунгусы никогда не берут черного хлеба!
19 июля приходит телеграмма из Красноярска, что мотор будет нам доставлен на самолете Чухновским.
На следующий день получается известие, что Чухновский летит, и мы проводим вторую половину дня в ожидании. Уже вечер, темнеет. Наверно Чухновский сел где нибудь по дороге, в Богучанах. Но вот раздается характерное стрекотание мотора, и в двенадцатом часу появляется на совершенно ясном небе «Н 4» с приостренными крыльями, на тяжелых лапах — поплавках.
Условия посадки сейчас очень тяжелы — темно, поверхность воды спокойна и блестяща, трудно точно определить высоту.
Чухновский садится близ устья реченки Кежмы, куда уже для ремонта заведен наш самолет, и заходит в ее устье. Почти все село сбегается: это первый случай в жизни Кежмы, она вдруг превратилась в оживленный аэропорт. У хвоста самолета собирается куча мальчишек, напоминающих арлекинов, в желтых, красных, коричневых колпаках, с черными волосяными «масками» на лице от комаров, которые вечером наваливаются очень зло.
«Н4» на вид кажется громадным, по сравнению с Дорнье — на своих
поплавках он высоко поднимается над водой, и размах его крыльев 30 метров, в полтора раза больше нашего. Но в действительности он слабее — его три мотора имеют мощность всего 900 сил и грузоподъемность на тонну меньше. Поэтому, чтобы привезти нам мотор, весящий полтонны, Чухновский должен был взять мало горючего, и сильно перегрузить машину. И сейчас же первый вопрос, который ставится после встречи — где взять горючее. В Кеж-ме, оказывается, есть бензин, но очень мало, всего часа на 3 полета, а до Стрелки 4 часа. Придется, очевидно, отдать часть нашего — и тем самым снова замедлить наше будущее продвижение: у нас горючего в обрез, чтобы долететь до Братского.
Банкет прибывшим летчикам устраивается в профсоюзной столовой: рубленое мясо с кашей и клюквенный морс. А в 4 ч. утра Чухновский просит разбудить всех, чтобы вылететь пораньше.
Утро уходит на радио-переговоры: надо выяснить, нет-ли где либо ниже по Ангаре «случайно» горючего. Но его нигде нет — и выход один: взять у нас часть с тем, чтобы нам навстречу из Братского через пороги послали несколько бочек в село Воробьево, на полпути.
Днем Чухновский улетает. Снова толпа народа на берегу, оживленные комментарии, общая радость: «Теперь и умереть можно — посмотрели два ероплана». Я пробираюсь к самолету, чтобы передать Чухновскому карты Ангары; мальчуган ростом до пояса хлопает меня покровительственно по ноге и говорит басом: Иди, иди, это твое дело. Без тебя не полетят».
Для Смены моторов самолет подведен к мосту, перекинутому через реку Кежму и соединяющему две половины села. На нем устанавливается стрела, перегораживающая мост и прекращающая сообщение на два дня — но население не очень обижено: зрелище чересчур интересное. На мосту и на берегу все время стоят толпы зрителей, которые оживленно обсуждают все события.
В два дня смена моторов закончена, и самолет испытан в воздухе; при этом несколько местных жителей получили возможность полетать.
Но не всем в селе пробные полеты доставили удовольствие. Были недовольны доярки коммуны: коровы, которые паслись на острове, перепугались и убежали на край острова, залезли в грязь и остались недоенными. Очень возмущен был также один малец лет девяти, гулявший по берегу с двухлетним ребенком: «Посто низко летаете — мне мальца испужали!»
Дальше оставалось — снова сидеть на берегу Ангары и предаваться мрачным мыслям о крушении будущей работы. Надо ждать пока придет известие из Братского, что отправлено горючее в Воробьево. Затем — в Воробьеве ждать горючего. Затем — в Иркутске ждать мотора: присланный нам из Красноярска уже отработал законные часы и для дальнего перелета не годится, из Москвы пришлют новый.
Дальше — длинный путь до Хабаровска и еще более длинный и никем не пройденный путь по морскому побережью до Анадыря. Хорошо, если к концу августа мы попадем туда — а уже 20 сентября надо кончать работу.
Мне, к счастью, нашлось в Кежме дело — или вернее развлечение. В Кежму в это время приехала экспедиция геолога В. Вакара, и Райисполком просил его осмотреть месторождение каменного масла, известное местным жителям, Я отправился вместе в Вакаром и его спутниками вверх по Ангаре; в 1917 и 1923 гг. я изучил всю Ангару, но не видел этого месторожденья и мне любопытно было посмотреть — что именно я проглядел.
Мы отправились вверх по Ангаре бичевой. Проводник из крестьян д. Мозговой, знавший месторождение, ехал верхом по берегу и тащил лодку прикрепленной к седлу бечевой, а мы наслаждались чудесным утром, почти без комаров и мошек — редким здесь в это время года.
Километрах в 25 выше Кежмы на берегу небольшие утесы; проводник останавливает возле них лошадь, мы подтягиваем лодку к берегу. Он показывает белые пятна на утесах: «Вот и каменное масло». Это масло явно выдает свое происхождение — над каждым таким пятном снуют с острыми криками стрижи; здесь их гнезда и любимые места для посиделок. На недоуменные вопросы — есть ли где еще каменное масло, — проводник подводит ко второму утесу. Здесь потеки гуано меньше — но так же несомненны.
Приходится ограничиться исследованием этих залежей. В смысле практическом они не имеют никакого значения, даже как гуано—это только потеки и корки птичьего помета. Но Вакар все же добросовестно собирает образцы, чтобы показать в РИК'е и даже снявши сапоги, самоотверженно залезает по ответному склону утеса.
Экспедицией за каменным маслом закончилась деловая часть нашего пребывания в Кежме. 26 июля пришло долгожданное известие об отгрузке горючего из Братского, и через 1 ч. 32 м, — мы были уже в Воробьеве, в 270 км выше по реке.
Этот участок Ангары красивее—река становится уже и проходит в более высоких горах. Но самые интересные места начинаются выше с. Воробьева.
В с. Воробьеве — снова те же посетители, что и в Фроловой: старики, мальчишки, а к концу и бабы на своих стружках окружают самолет и выползают наверх, почтительно ступая босыми ногами и трепетно ложась на фюзеляж, чтобы заглянуть в кабины. Опять те же разговоры, те же напутствия старикам, и сравнения со своими «чапкими» (валкими) стружками, которые так легко «опруживаются» (опрокидываются).
В Воробьево, конечно, бензин еще не пришел и никаких известий о нем нет. Председатель колхоза относится очень равнодушно к прилету самолета, и нам приходится добиваться всего, что нужно, с большими усилиями.
Выше Воробьева вскоре первый большой порог Ангары — самый большой, Шаманский, и посылать лодку навстречу бензину трудно. Надо терпеливо ждать.
День проходит снова в сиденьи на берегу. Вглядываешься в речную даль — не покажется ли из-за острова черная точка. Несколько раз что-то выплывает оттуда — но это все маленькие стружки.
К вечеру показывается большая лодка, полная людьми. с красным флагом, и мы уже верим, что это бензин — такой флаг подымают ведь над огнеопасным грузом. Но лодка подходит, люди вылезают и под ними не видно никаких бочек. Это кежемцы, возвращающиеся домой; они отправились из Братска на день позже нашего бензина, но нигде на реке его не видели.
Только на второй день к вечеру подходит лодка с бензином, и через полтора часа мы летим дальше. Уже поздно
и к сожалению нельзя фотографировать самые живописные места Ангары. Прежде всего — Шаманский порог: река идет здесь в узком и крутом русле между низкими террасами утесов, и вся кипит на протяжении 6 километров. Я гляжу вниз, и стараюсь разглядеть те грозные валы, которые надвигаются наискось вверх от Ушканьего острова, и которые в 1923 г. бешено опрокидывались на нашу лодку и едва не выкинули за борт лоцмана вместе с рулевым веслом.
Но сверху вся река покрыта пеной, лишь средняя часть — главные ворота, — местами выделяется узким каналом.
Выше Шаманского порога Ангара образует большую излучину, и мы пересекаем горы напрямик. Еще трудно отделаться от некоторого чувства сомнения в надежности моторов после печального опыта первого дня. Эта тень неуверенности, глубоко затаенная, остается, конечно, на все лето, и появляется при каждом перелете через сушу.
Здесь горы стали гораздо выше — мы вышли уже из пределов Тунгусского бассейна, и его окраинная зона поднимается высокими округлыми и столовыми горами, покрытыми темным лесом. Через 20 минут мы снова на реке выше узкого каньона Долгого порога, в котором на протяжении нескольких десятков километров река течет между стенами и колоннадами столбов траппов.
Снова река в широкой долине со множеством островов — и вот опять пороги, второй из главных Ангарских порогов, Падун, не уступающий Шаманскому.
Он гораздо короче и шире, но очень крут — действительно «чадун». Огромная река падает на коротком расстоянии на несколько метров между плоским подводным выступом траппа, и снизу навстречу ей бегут из плеса громадные валы—«толкачи». С воздуха все это — опять только гряды белой пены.
Я вспоминаю, как мою лодку здесь сплавлял через «главное жерло» старик — лоцман, охотно рассказывавший о том, как он «губернахтора через порог плавил, и в самом жерле губернахтор ужахнулся».
Еще несколько мелких порогов с завлекающими названиями—Пьяный, Похмельный—и перед нами Братский острог, большое село, когда то оплот наступавших снизу казаков против живших в южных степях бурятов («братские»).
От старых времен сохранилась только деревянная башня острога, приземистая и квадратная. Еще более любопытные образцы деревянного крепостного зодчества — в городке Илимске, на притоке Ангары Илиме.
В Братском все нам благоприятствует; молоко не хуже и даже дешевле, чем в Кежме, и мошек не больше. Ночевка на реке. Спокойное темное зеркало воды; жители Братского, насмотревшись и выяснив все самые важные вопросы авиации, — вплоть до того, сколько зарабатывает пилот, уходят спать, и мы остаемся одни, на якоре. Устраиваемся на ночевку, кто внутри, кто на крыльях (вернее на центроплане) — благо мошки на ночь прекращают работу.
На рассвете начал накрапывать дождь, и только мы успели убрать постели с центроплана, как налетела с юга буря, и самолет сорвало с якоря, понесло на север и придавило к берегу — к счастью мягкому и невысокому.
По фюзеляжу яростно хлестали потоки дождя и сразу уютная спальня превратилась в холодную и мокрую конуру.
После бури мы начали приводить в порядок самолет, и борт-механик Крутский с печалью убедился, что шлем и летные очки, которые он с таким доверием к мирной речной пристани развесил над моторной гондолой, унесены бесследно - Это была первая потеря в длинной серии подобных же несчастий Крутского, служивших бесконечным источником для шуток.
В половине десятого облака разносит и можно вылетать. Под нами — уже низкие горы, долина Ангары с частыми деревнями; все это закрыто белыми холодными облаками, которые комочками плывут под нами — вернее, которые мы обгоняем с быстротой, недостижимой ни для какого облака.
Иркутск. Мы долго кружим над городом, изучая посадочную площадку. Близко под нами прямоугольники кварталов, чистые и аккуратные — но сколько там, на самом деле пыли и грязи.
5 ОТ БАЙКАЛА ДО ТИХОГО ОКЕАНА
В Иркутске — снова долгая стоянка. Ждем мотора из Москвы, потом его ставят, пробуют. Лишь 4 августа пробы В воздухе и пробный полет до Байкала, Все в порядке — и в 7 ч. вечера назначен вылет.
Мы снова в воздухе, над хорошим аэродромом — рекой впереди громадный Байкал. Ангара все уже, одним потоком среди плоскогорья. Вдоль нее — узкая чистая полоска железной дороги. На горизонте белесоватый провал в разрезе, гор — это поверхность Байкала, которая как-будто круто встает к востоку.
Вот и выход Ангары из Байкала — воронка, в которую выливается озеро. В этой воронке—пробка, знаменитый Шаманский камень. По бурятскому сказанию, если удалить этот камень, вся вода из Байкала вытечет. Он едва виднеется среди реки, вершина его покрыта птичьим пометом («каменным маслом?)» и нет никакой веры в его чудодейственные силы.
Байкал встречает нас ласково: ясное небо, противоположный берег виден хорошо, и не надо искусства аэронавигатора, чтобы пересечь озеро. Мы идем на большой высоте, внизу беляки: вероятно волнение значительно.
На северовосток тянется озеро, исчезая в дымке — все такое же сине-серое, нигде нет ни одного судна, и не видно конца водной пелене.
На том берегу — длинный хребет Хамар-дабан; острые Вершины, врезанные в вечернее небо. Хребет огибает с юга озеро и идет нам на перерез, на север. Мы выходим к нему возле Мысовска (где следующей зимой летчик Водопьянов потерпел тяжелую аварию в самом начале своего перелета в Петропавловске на Камчатке) и поворачиваем вдоль берега, чтобы пересечь затем Хамар-дабан по прорыву Селенги.
Вот дельта Селенги — все залито водой. Сейчас из-за дождей реки восточной Сибири разлились, и здесь среди полос воды лишь кое-где выступает земля или ряды кустов. Деревья также залиты водой и дома чернеют печальными квадратиками.
Селенга выходит к Байкалу, прорывая Хамар-дабан. Это узкая долина, почти вся занятая рекой; мы летим низко и кажется, если не перегибаться через борт, что самолет занимает ее всю, и вот-вот коснется крылом одного из склонов.
Быстро темнеет. До Читы, нашего нормального этапа, мы конечно не дойдем из-за задержки в Иркутске. Но надо дотянуть до Верхнеудинска. Из теснины Хамар-дабана мы выходим в большую долину и в сумерках показывается город. С краю он залит рекой, вода между домами. Селенга сливается с своим притоком Удой в широкую пелену блестящей воды.
После посадки заходим в узкий и длинный пароходский затон — на реке течение быстрое, а в затоне тихо и уютно. Но очень тесно, и среди пароходов, барж и угловатых, и наступившей темноте неопределимых, предметов, самолет едва находит себе место.
Следующие два этапа—Верхнеудинск—Чита—Сретенск — самые трудные для нашей машины: надо пересечь Яблоновый хребет, итти вдоль маленьких речек, с посадочными площадками в виде очень редких отдельных озер. Тяжелые морские машины до сих пор по этой трассе не ходили и не пересекали восточную часть Сибири.
Поэтому на следующий день командир самолета приступает к перелету с большими сомнениями и предосторожностями. Крутскому сказано — проверить сливное приспособление для бензина и быть возле него. Это — на случай если остановится один из моторов: слив большую-часть горючего и облегчив самолет можно итти на одном моторе на небольшой высоте и добраться до Селенги или до ближайшего озера.
Свернув с Селенги, мы направляемся на северо-восток, вверх по р. Уде.
Главное русло переполнено водой, и множество второстепенных проток заполняет тальвег, причудливо сплетаясь в водную сеть.
Через полчаса мы внезапно поворачиваем обратно: носовой мотор кажется Петрову подозрительным и решено вернуться.
Теперь новые задержки: сначала надо доставить бочку горючего.
В половине шестого и мотор, и горючее готовы — но-надвигается ненастье, дождь льет всю ночь, низкие тучи, сидят на Яблоновом хребте.
6 августа с утра все также грустно — тучи не хотят подниматься. Потом между облаками появляются просветы, показывается солнце, и кажется, что на хребтах перевалы чисты. В полдень решаемся вылететь — опять вверх по Уде. Сначала вдоль железной дороги, потом последняя отходит направо, а мы поднимаемся по старому большому тракту. Широкая долина, все та же сеть проток, извилистые речки, окруженные кустами. Вдали сереют озера — это исток Уды, отсюда мы повернем прямо к высотам Яблонового хребта.
Пересекаем низкие гривы и между ним речки, текущие направо и налево—здесь мы переходим на коротком протяжении истоки трех великих рек Сибири: бассейн Байкала, и, следовательно Енисея, потом истоки Витима, правого притока Лены, и, наконец, за Яблоновым хребтом — Ингода, одна из вершин Амура.
Но сам Яблоновый хребет далеко не соответствует важности этого великого водораздела — гребень его низкий, плоский, покрытый лесом. Тучи теснятся над вершинами, и мы едва проползаем через перевал. Внизу полоски дороги с игрушечными телеграфными столбами, и на ней игрушечная лошадь с телегой.
Сразу за перевалом — широкая долина Ингоды, степи, редкие пбселки. На юге синеет другой хребет, параллельный Яблоновому. Мы летим вдоль долины, и вскоре в ее горле появляется темное пятно — Чита, замыкающая долину при переходе Ингоды в южные хребты. Когда едешь на поезде, Чита представляется бестолковой толчеей домов и рельс, но с воздуха видно, как целесообразно она расположена: нечто вроде крепости при входе в долину Ингоды.
В Чите посадка на озере вблизи города — первая посадка с волной и ветром, предтеча будущих морских наших приключений, но пока совершенно безобидная.
Следующий перелет немного безопаснее, мы летим все же над рекой.
Два с половиной часа вдоль Ингоды, которая после ее слияния с Ононом носит уже название Шилки, — имя известное всем или по песням о каторге, или по статьям о горных богатствах Забайкалья.
Дойдя до Сретенска, где надо пополнить запас горючего, Страубе долго с сомнением кружит над городом: река течет здесь в горах, извиваясь—и вряд ли можно найти прямое плесо в два километра длины. Сесть все таки надо. Река встречает самолет неприветливо: сейчас разлив, и скорость течения до 15 километров.
Якорь едва удерживает машину и приходится укрыться в заливчике против города, образовавшемся на месте затопленных огородов. В этом я убеждаюсь на горьком опыте, когда купаясь, попадаю в заросли крапивы, жгущей под водой так же сильно как и на земле.
Вечером пробуем вылететь — но тщетно: с полной нагрузкой машина не может оторваться в этой короткой и узкой канаве. Долго мы бегаем взад и вперед, взрывая фонтаны воды, — но в конце концов приходится отказаться и вернуться снова на свой огород, чтобы сбавить горючее.
Ночь застала нас за этим печальным занятием, и только утром удалось выбраться из Сретенска и то с довольно рискованным поворотом тотчас после взлета, когда машина шла над самой водой — иначе нам предстояло врезаться в гору.
Условия посадки и взлета больших морских машин требуют большого внимания и представляли и в нашей экспедиции самое больное место, поэтому читателю не следует негодовать, что я так часто возвращаюсь к этой мало интересной теме.
Дальнейший перелет до Хабаровска прошел более гладко. Запомнился бесконечный Амур — река, истоки которой мы видели в маленькой Ингоде, проследили Шилку, превратившуюся после слияния с Аргунью в мощную реку, текущую в широкой долине. Все время пока мы стремительно летели по Амуру, над страной висела густая дымка, и было видно на десять-двадцать километров. По обе стороны реки безбрежные леса, но на русской стороне время от времени станицы, а на китайской — полное безлюдье,
Я все время ждал тигров, которые должны выглядывать из-за зарослей: но тигры — это дальше, на Уссури, а здесь еще северный ландшафт, леса похожие на сибирские, из страшных зверей в них бывают только бурые медведи.
Лишь вблизи Малого Хингана разорвалась завеса дымки, и я увидел незабываемое зрелище. Представьте себе громадную реку — перед которой Волга жалкая реченка — извивающуюся среди высоких гор, круто спускающихся к ней зелеными лесными склонами и утесами. На дне по серо-синей полосе реки маленькие паруса лодок и даже пароход, как будто стоящий на месте.
Тигровые места — Сунгари и Уссури, и сам Амур между ними встретил нас целым океаном пресной воды. Поток воды не менее 40 километров в ширину идет по Амуру — это
вода летних дождей, а там, где в Амур впадает Сунгари — действительно безбрежное море, и даже с самолета не видно его краев. Протоки, острова, селения в воде, луга, покрытые водой, и самое необычайное—реки, покрытые водой. Да, в самом деле, маленькие речки, впадающие в Амур, извиваясь по его пойменным лугам, захвачены наводнением, залиты озерами, и сквозь воду видны их правильные синусоидные изгибы в виде темно-зеленой полоски.
Хабаровск. Здесь нас ждут сотрудники экспедиции — инженер-геодезист К. Салищев и аэросъемщик В. Дзюжинский, заменивший А. Суше, отозванного на работу в другой район. Отсюда мы полетим уже в полном составе, и начнем свою работу, как только вылетим на побережье Охотского моря.
14 августа, в 11 ч. 3 минуты утра мы наконец вылетаем из Хабаровска — вместо 20 июня, как предполагалось по плану. Из 70 дней, имевшихся в нашем распоряжении для работы на Чукотке, уже пропало 54 — стоит ли лететь для остающихся шестнадцати? Но я решаю — все же лететь, потому что и в две недели можно сделать очень много, если повезет с погодой. Нужно только ускорить, насколько возможно, перелет до Анадыря и не останавливаться ни перед какими препятствиями, даже перед туманами Охотского моря, знаменитыми туманами, которые лежат на нем в течение всего лета.
Сегодня — последний день нашего перелета над материком. Летим все еще по Амуру. Разлив становится все больше и трудно понять, где же река и где бывшие берега, озера и луга. Час за часом идем над водными пространствами, которым трудно подобрать название—не то озера, не то реки; ну просто «водные просторы» как писали в прошлом веке.
Горы отодвигаются дальше на края этой обширной равнины — и только перед Николаевском, где Амур делает вредное, излишнее колено к северу, мы снова пересекаем, узкую гряду плоских высот.
Николаевск на Амуре—когда то город богатых золотоискателей и купцов, совершенно разрушенный во время интервенции, лежит и сейчас на половину в развалинах, на которых возникли новые маленькие деревянные дома, с новой жизнью, резко отличной от старой. Выросли щупальцы пристани и по ним опять снуют люди разных национальностей; мелкие суда, уже частью необычного для нас восточного вида, исабунки с парусами на бамбуковой решетке, толпятся вдоль стенок.
Скоро к ним присоединяется и наш самолет — на несколько часов его поднимают плавучим краном, и он, вроде маленькой металлической игрушки на вербном базаре, висит растопырив крылья, пока красят ему живот и жабры. Морская вода может губительно отозваться на дюрале, вызвать коррозию и надо возобновить черную окраску «бидмо».
Кроме того, надо было определить здесь девиацию. Опять технические термины! Но без них нельзя обойтись, когда дело касается технических средств передвижения. Ведь даже описывая езду на собаках приходится употреблять специальные термины и путешественники считают особым шиком ввести чукотское или тунгусское слово, хотя бы и перевранное.
Но девиация — термин известный и из кораблевождения; да по существу вождение воздушного корабля в принципах не отличается от вождения морского судна, и аэронавигация, или как говорят англичане, авигация — только видоизмененная навигация.
Итак, девиация — это отклонение магнитной стрелки компаса от магнитного меридиана под влиянием металлических тел, находящихся на корабле. Таких тел на самолете много и их определение и отчасти устранение очень существенно. Нам предстояло итти по морю в тумане и над горами, где отклонение на несколько градусов могло иметь серьезные последствия.
Девиацию можно определить в полете, — проходя через какую-либо прямую линию, положение которой известно, или ла земле вращением самолета на створе ориентирных вех.
6 В ТУМАНЕ ОХОТСКОГО МОРЯ
Девиация задержала нас в Николаевске до вечера и только в шестом часу мы смогли вылететь, наконец, в первый морской перелет. Сахалин в дымке, но мы охотно верим картам и Страубе (который летал здесь столько раз и зимой и летом на линии Хабаровск — Сахалин), что напротив в самом деле недалеко этот мрачный остров с мрачным каторжным прошлым и светлым угольно — нефтяным будущим.
Горы отходят на запад и мы над лагунами. Это превосходные посадочные площадки; рядом море с накатом, обрушивающимся на узкие песчаные косы. Скоро кончаются и косы, мы над морем, и идем прямо к Шантарским островам, расположенным в югозападном, холодном и туманном углу Охотского моря. Море не очень сердится, и в случае нужды посадка на нем не опасна. Серая гладь, мелкая рябь, но наверно внизу это порядочные волны.
Впереди только море, сереющее в вечерней дымке, и в ней одинокий маленький остров, с крутыми обрывами, остров Меньшикова, мимо которого лежит наш курс.
Потом из серой мглы возникают неясные очертания группы островов—маленького острова Прокофьева со скалистыми берегами, и на юге — Большого Шантара.
Уже после семи часов мы достигаем этой северной оконечности Шантарского архипелага. Солнце начинает прятать за тучу свой красный круг, а внизу, за островами Прокофьева — предательские белые пленки ползут по морю с севера: это первая встреча с господином Охотского моря — туманом.
Благоразумнее отступить: мы все равно за-светло не успеем дойти до материка.
После короткого совещания, Петров передает Страубе новый курс. Страубе недоволен, и стучит рукавицей по фюзеляжу: он хочет добраться до Аяна, — ведь надо спешить.
Но делать нечего, поворачиваем через остров. Он печален и суров — скалистые берега, темно-зеленые, покрытые лесом горы и черные и пестрые головы вершин в лишайниках. Короткий перелет — и самолет начинает планировать в губу. По плану разведочной экспедиции Граждвоздух-флота аэростанция должна быть построена в углу губы — там видны действительно какие то крыши, целый поселок. Очевидно, там и аэростанция.
Крутой вираж, с высоты 600 м и самолет быстро ныряет в темную впадину губы. Мы коснулись воды и мчимся к берегу. Все мельче и мельче — дальше итти нельзя. На берегу Собрались люди — и что-то кричат и машут нам руками. Из за шума моторов ничего нельзя понять — наверно, это приветствие первому самолету, прилетевшему на Шантары.
Моторы выключены, и только теперь слышны с берега совсем не приветственные крики: «Сейчас идет отлив, вы обсохнете через несколько минут. Действительно, вода убегает на глазах. Несколько человек экипажа и добровольцы с берега бросаются в воду и пробуют спихнуть „Дашу“, — но она уже крепко села. Едва удается повернуть ее немного, — а затем показывается вокруг жидкий ил и пятна водорослей, и минут через десять мы уходим на берег уже по обнажившемуся дну.
На Шантарах нас встретили с большой радостью — мы не только были здесь первыми летчиками, но и вообще первыми пришельцами из внешнего мира. Только недавно ушел лед из губы. Посреди губы плавают и сегодня (16 августа) несколько льдинок, а в югозападном углу Охотского моря, в сторону Чумикана, все еще стоят льды, и еще ни один пароход не заходил на Шантары.
Все жители острова были на берегу, и вместе с нами толпой пошли обратно в поселок, расположенный невдалеке за ручьем. Нашими радушными хозяевами в этот вечер были местные власти, везде, во время нашего перелета и по Амуру, и на берегах Охотского и Берингова моря оказывали нам существенную помощь и принимали нас с простой и искренней радостью — и нельзя не вспомнить их с благодарностью.
Столица Шантарских островов—небольшой поселок среди леса. Лес только недавно расчищен и, как пишут в северных романах, „еще протягивает свои щупальцы к человеческим жилищам“ — попросту говоря, кругом болота и пни и рядом еще несрубленные деревья.
Несколько лет назад на Шантарах были рыбные промыслы, но они оказались нерентабельными, и сейчас главная ось жизни острова — питомник пушного зверя (соболя), расположенный в лесу, в двух километрах от поселка. Мне не удалось посмотреть его — было слишком поздно, а на следующий день мы хотели вылететь пораньше, и только с воздуха я разглядел дозорную башню питомника. Как внимательно относятся шантарцы к питомнику, и насколько понимают его большое государственное значение, видно из того, что зимой, несмотря на случаи цынги, не были тронуты запасы оленьего мяса, заготовленные для питомника.
Свежее раннее утро, еще солнце не показалось над горой, вдали в губе туман. Холодная горная речка рядом с поселком, в которой умываешься, весело журчит среди мокрой травы. Самолет на плаву, и его можно перевести к аэростанции под заправку.
К аэростанции с берега ведет длинная крутая лестница: сама станция в густом лесу, на торфяном болоте. Это только возникающий аэропорт — кто знает, разовьется ли он скоро? Для Шантар авиосвязь насущная необходимость, но самолеты дальнего следования вряд ли охотно будут залетать сюда: слишком уж много шансов застрять в туманах в этом неприветливом углу. И сейчас на западе стоит белая стена, все удаляющаяся. Ко времени нашего вылета она отступает далеко, и кажется, что путь свободен.
Мы летим на мыс Радужный — юго-западную оконечность Большого Шантара. Его крутые утесы на западной стороне уже купаются в ватном тумане, который нежно и плотно обволакивает все западное побережье острова, поднимаясь струйками вверх по логам, пытаясь перевалить внутрь острова. Лишь вдали на западе над волнующейся белой массой поднимаются вершины другого острова архипелага—о-ва Феклистова. Нужно итти выше тумана, курс на северный конец этого острова, на мыс Белый. Скоро мы достигаем его, дальше к западу все закрыто белыми пушистыми грядами.
И хотя мы на высоте 1000 м горизонт не виден — туман вверху не имеет отчетливой границы. Вести самолет в таких условиях трудно, при отсутствии особых приборов для слепого вождения, правильное положение самолета определяется по поверхности земли или по линии горизонта. Очень опасно итти в самом тумане или прорезать большие толщи облаков: машину незаметно можно передрать, т. е. задрать ей слишком нос, или, наоборот, перейти в пике — т. е. пойти носом прямо вниз. Из этих положений тяжелая машина уже не может выйти, и серьезная авария неизбежна. Но даже и посадка на воду в тонкой пленке тумана без специальных приборов опасна: машину трудно подвести так точно к воде, как это требуется — так как поверхность воды трудно различить, все расстояния в тумане искажаются — и неминуема „жесткая“ посадка или катастрофический удар о воду.
От крайней северной оконечности острова Феклистова, мыса Белого, Петров решает повернуть назад, чтобы попытаться, выйдя опять в губу Якшину, проникнуть под туман и итти у поверхности воды.
Но лишь только мы повернули обратно — самолет стал вдруг быстро снижаться. С тысячи метров мы спускаемся до пятисот, и затем к поверхности тумана, до 250 метров. Вот уже мелькают по обе стороны клочья тумана, бесформенные и разорванные. Мы скользим по поверхности, и сейчас должны нырнуть в предательскую муть. Но самолет задерживается на этой высоте.
В чем же дело? В пустяке, но очень серьезном: лопнула дюритовая трубка в системе, по которой вода, охлаждающая мотор, идет в радиатор, чтобы остыть в проходящем через него потоке воздуха. В разрыв начала выливаться вода и температура заднего мотора сразу повышается до 115 град., нам грозит то же, что и на Ангаре — сгорит мотор.
Крутский мечется из моторной гондолы в баковое отделение. Сначала он зажимает трубку голой рукой — и горячая вода обжигает его, но все же перестает вытекать из мотора. Потом он находит тряпку и молоток, которыми можно заклинить импровизированную обмотку — и самолет спасен. Счастье, что в Дорнье — Валь доступны оба мотора, в другом самолете мы обязательно нырнули бы в туман.
Через 10 минут после происшествия с трубкой мы дотягиваем по белой поверхности до мыса Радужного, где кончается туман — но как долги показались эти минуты, гораздо дольше чем при аварии на Ангаре.
Мы снова в тихой губе Якшиной, Заведующий приезжает в скверной лодчонке, узнать, в чем дело.
А потом — на берегу никого, тихая гладь воды. Ждем пока Крутский поправит повреждение. Виновная трубка переходит из рук в руки — она совсем новая, и ничто не предвещало такого гнусного с ее стороны поступка. Все, кроме Крутского отдыхают; после сильных переживаний хорошо поспать на фюзеляже, греясь на солнце.
В четыре часа — опять в путь: лететь все равно надо, туман может стоять здесь неделями. Он вплотную лежит на воде, и остается одна дорога — поверху.
Нестерпимо сияют белые волны тумана, на нем валы, причудливые бугры, ямы. Время тянется медленно — мы как будто не двигаемся. Потом на западе начинают едва-едва вырисовываться черные вершины и цепи Джугджура, постепенно вытягиваясь к северу. Их подножие закрыто туманом, и до горизонта на север не видно моря: всюду сверкающая белая поверхность. Как найдем мы место посадки?
Но вот у гор открывается черное пятно: это окно вниз, в него видна вода. Здесь, к горам, туман поднимается, превращается в облака, и под ними есть щель, в которую можно нырнуть. Два круга — и мы внизу, снова у воды, такой приятной и прочной после зыбкой поверхности тумана.
Сразу окружающий мир резко меняется: вместо слепящего тумана, яркого солнца, синего неба — серые цвета. Серая вода, низкие серые тучи, почти цепляющиеся за воду, мрачные черные утесы. Окно — только в этом заливе, а дальше к северу сплошь тучи, все более понижающиеся. Сначала мы идем на высоте 50 м, потом начинаем все более и более приближаться к воде, и наконец идем так называемым бреющим полетом на высоте едва 10 м над верхушками серых волн. Вода несется нам навстречу с бешеной быстротой, и вместе с ней черно-белые гагарки (кайры), красноносые топорки, чайки. Они спасаются во все стороны от приближающегося с быстротой урагана страшилища, не успевают скрыться, бросаются в воду, ныряют — некоторые так поспешно, что кувыркаются раза два-три.
Мимо пробегают стены утесов — мы не решаемся отойти далеко от берега, чтобы не потерять ориентировки.
Через час такого утомительного для пилота полета (нужно непрестанное напряжение внимания, чтобы не дать машине удариться о воду, и не задрать ее кверху в туман) мы проходим в виду Аяна. Он лежит в небольшой бухте между красивыми берегами, и над ним тоже есть окно в облаках как часто бывает над бухтами. Видны постройки, но все это проносится мимо, нам не стоит ночевать здесь, ведь завтра туман может быть еще сгустится.
Снова те же черные и серые утесы, но теперь опаснее — несколько узких скалистых мысов выдвигаются в море на километр и даже на десять.
А туман в самом деле сгущается, или опускается ниже: только миновали мы мыс Нурки — узкую гряду утесов, выходящую на 10 км в море, — как туман преграждает нам путь. Петров решает вернуться; я прошу попытаться пройти у самого берега: к горам туман до сих пор подымался. Самолет делает круг — но и здесь такая же белесая мгла до самой воды. Приходится вернуться в Аян — если только можно будет к нему пробраться.
Поворот назад — почти касаясь крылом воды — и мы идем опять вдоль длинной гряды мыса Нурки. Затем поближе к берегу, пока туман не отрезал обратного пути. Но и здесь он наступает на нас, и к югу также сплошная его стена. Приходится врезаться в нее, итти над самой водой — чтобы держаться за ее поверхность.
Лишь только самолет задерется выше — все исчезает. Мы с трепетом глядим вперед: на пути два скалистых мыса, и кто знает, когда один из них внезапно вынырнет из мглы? Здесь необходим расчет почти с точностью до ста метров, а такой прокладки современная аэронавигация дать не может (не говоря уже о том, что наш аэронавигатор Петров ведет всегда машину „на глазок“ без прокладки пройденного курса).
Этот момент наступает — мыс Наклонный выскакивает из тумана метрах в двухстах впереди призрачной серой стеной. Двести метров при нашем ходе — это только шесть секунд до смерти, но за это время Страубе успевает сделать крутой вираж влево, крыло к воде — и гряда зубчатых серых скал проносится безмолвно мимо и исчезает в тумане.
Дальше туман реже, и утесы не дают нам таких сильных переживаний, как мыс Наклонный, который надолго останется у нас всех в памяти, как высший предел летных впечатлений этого года.
Вход в Аянскую бухту свободен, мы круто заворачиваем в нее и внезапно появляемся перед жителями Аяна уже на воде, в брызгах пены.
Аян — место с литературными традициями. Отсюда Гончаров, закончив свое классическое плавание на фрегате „Паллада“, выехал верхом в Якутск через Джугджур и дал несколько точных и ясных, но скучноватых описаний людей и природы. Сейчас Аян резко отличен от „порта Анна“ гончаровских времен.
Но и сейчас жителей в Анне немного. Мы, впрочем, не видели самого поселения, — аэростанция, расположена на другом берегу залива.
Здесь, кроме нескольких десятков человек, живут еще 2 бурых медвеженка местной породы, с белой полосой на шее — Машка и Малашка. Они сидят на цепи у столба качелей и когда их дразнят, Машка, побольше и позлее, рычит, трясет цепью и лезет на столб; Малашка, меньше и трусливее, прячется за столб.
Здесь, как и дальше наш самолет первый. Мы получаем первые приветствия, радушное гостеприимство, еще не отравленное усталой привычкой — но вместе с тем испы-гываем все трудности перелета, в условиях не изученных и тяжелых.
В Аяне мы можем позволить себе роскошь, которая до сих пор была нам недоступна: запросить погоду из Охотска и выждать несколько часов, пока рассеется туман. Нормально, на настоящих авиолиниях, пилот не имеет права вылетать, пока не получит сведений о погоде со следующей станции. Но за все время нашего перелета мы имели такие радио только на Шантарах и в Аяне. На всех остальных перегонах приходилось руководствоваться только личными впечатлениями и барометром — инструментом весьма недостаточным при перелетах в 500—1 000 км в день.
Утром 18 мы трижды получаем сведения о погоде из. Охотска — там небо все покрыто тучами, тумана нет. Но в Аяне туман никак не хочет разойтись, и лишь в половине третьего можно наконец рискнуть — тем более, что из Охотска сообщают о ясном небе.
Сначала — почти как вчера, но туман выше, и постепенно превращается в низкие облака, позволяющие все же лететь в 100–150 м над водой. Но гор мы все равно не видим — только низкую серую стену скал под тучами.
Такой неприютный и для морских и для воздушных кораблей берег тянется на сотни километров — и лишь от устья Ульи, большой речки, становится веселее.
Тучи расходятся, горы отступают вглубь страны, по берегу желтый ровный пляж, длинные узкие косы, за ними располагающие к посадке лагуны, а дальше—равнина, покрытая лесами и болотами, пестро-зеленая, и наверно для зимней езды мучительная, с бесчисленными комарами и мошками.
По берегу ряд рыбалок, почти все японские (последние годы японцы арендовали эти участки) — хорошие постройки, возле них вытянутые на берег кунгасы (небольшие барки), а в море пыхтят катера и тащат за собой кунгасы с рыбой. В виде больших Г выдвигаются от берега невода. У берега стоит какой то пароход, Страубе направляет самолет прямо на него, и мы проходим в ста метрах над мачтами. На пароходе люди машут руками, на встречных кунгасах рыбаки встают и поднимают обе руки кверху, в знак приветствия. Как будто и они рады, что разошлись тучи и туман, и так хорошо лететь.
Охотск найти нетрудно — он на косе, на устьи двух рек. Охоты и Кухтуя. „Охота“ по тунгусски значит просто „река“, но по невежеству русских завоевателей она стала из имени нарицательного — собственным. Охотск когда то был единственным русским портом на востоке, на судах построенных в нем были открыты и завоеваны Камчатка и Аляска и побережье Америки до Сан-Франциско, отсюда велись первые сношения с Японией. А сейчас это небольшое поселение, перегрузочный пункт для грузов в верховья Индигирки и центр рыбного района.
Охотск — несколько улиц полных гальки, деревянные дома, небольшие и редко расставленные среди изгородей, радиостанция с лежащими погнутыми фермами старых громадных мачт, разрушенных во время интервенции.
На берегу самолет ожидает толпа народа — а самый спуск украшен красным транспарантом: „Охотско-эвенский комсомол шлет пламенный привет подшефникам воздушного флота экипажу самолета СССР „H1“.
Здесь со вчерашнего вечера знали о нашем предстоящем прилете и успели подготовиться.
В Охотске уже давно ожидают самолеты, наш был первым и единственным в этом году, посетившим Охотск.
В столовой нас угостили какой то необыкновенной колбасой из рыбы, а на ночь уложили на койки, и мы опять еще раз на короткое время окунулись в налаженную повседневную жизнь.
Вылет из Охотска задержался до полудня. Погода сначала мало благоприятная, и до полуострова Лисянского мы видели под тучами и в дымке только ближайшие горы, и даже Мареканский хребет, выходящий близко к морю, едва серел во мгле.
Из Охотска мне очень хотелось совершить полет внутрь страны, до верховьев Индигирки: этот маршрут связал бы побережье с нашими работами 1926–1930 гг. и разрешил бы ряд важнейших географических вопросов: вопрос о мифическом горном узле Суантар-хаята на стыке трех хребтов — Верхоянского, Станового и Колымского, и вообще вопрос о существовании этого последнего хребта, на месте которого я наметил ряд плоскогорий и поперечных хребтов.
Но время не позволяло боковых экскурсий даже для решения важнейших вопросов и надо было спешить на Чукотку. Мы решили, что на обратном пути, когда здесь будет еще тепло, мы сделаем полеты из Нагаева на Колыму и из Охотска на Индигирку.
Половину пути до Нагаева сделали мы на небольшой высоте, но зато были вознаграждены редким зоологическим зрелищем: на одном из мысов п-ва Лисянского мы увидели целое стадо рыжих сивучей, похожих на плюшевые игрушки, которые лежали на плоском огромном камне, и испугавшись самолета стали медленно сползать в воду - Невдалеке, на другом мысе того же полуострова, десяток оленей бежали (как им вероятно казалось) впереди самолета, желая спастись от него — но быстро остались позади. Северные олени в тундре даже с самолета мало заметны—их пестрая или серая шкура очень похожа на мох.
Дальше нам повезло, тучи остались позади, и мы быстро набрали высоту 1 500 м. Вдоль берега тянулся довольно высокий (1000 м) Приморский хребет, — а за ним серела долина Ковы, реки текущей вдоль моря, в продольной долине, представляющей ступень громадного сброса, окаймляющего Охотское море с севера.
Приморский хребет — передовая гряда — упирается в Та-уйскую губу разорванными полуостровами и далее скалистыми островами переходит через нее, чтобы снова возобновиться на востоке хребтами полуострова Кони. А в глубине, в этой впадине — широкая Тауйская губа, и в ней первоклассная гавань, бухта Нагаева.
С высоты, на которой мы летели, далеко на север видны были сияющие горные цепи—это конец громадного хребта Черского, открытого мною и Салищевым в 1926 г., который пересекает всю восточную Якутию и упирается в Охотское море.
Но на этой высоте становится здорово холодно. Ноги мерзнут нестерпимо—и нельзя больше геройствовать в обычных русских сапогах, особенно летчикам, сидящим почти неподвижно и нам с Петровым в передней летнабовской кабине, где двоим не повернуться, но где мне необходимо сидеть для непрерывных наблюдений, фотосъемки и руководства кораблем. Когда холодно, весь мир кажется холодным: и солнце — холодный блестящий шар, и море внизу — наверно почти застывающее, такое стеклянно-неподвижное. При спуске становится теплее, — и весь мир теплеет и оживает, появляются волны на море, загибаются на них гребешки, ветер шевелит кусты.
Тауйскую губу мы пересекаем еще на большой высоте, и идем прямо к бухте Нагаева.
Только поздно ночью кончилась эта скучная процедура. Мы перебрались на ночевку в город и с любопытством побродили по его улицам.
Нагаево[4] действительно город, с несколькими улицами, взбирающимися во все стороны на крутые горы. Ровного места здесь почти нет. Но по этим крутым улицам ползают трактора, тяжело гремят грузовики, вывозя с набережной бесконечные грузы—начиная с экскаваторов и кончая живыми курами для фермы. Два года назад здесь был только один дом — а сейчас в бухте постоянно стоит несколько больших пароходов, и в истинно-американских темпах выбрасываются тысячи и тысячи тонн на берег.
Нагаево теперь — головной пункт автомобильной дороги, которая проводится отсюда на Колыму, в Колымский золотоносный район.[5] Дорога пройдет в очень тяжелых условиях — через высокий хребет Гыдан, по вечной мерзлоте, и много надо сил и средств, чтобы создать ее. Но без нее не может быть разрешен вопрос об освоении и правильном снабжении верхней Колымы — района, имеющего громадное будущее по своим горным богатствам.
Автомобильная дорога уже начата и несколько десятков Километров были готовы во время нашего посещения. А за холмом, В долине речки Могодон, на просторной и свободной площади, построен другой городок Могодон, — современная Столица побережья (Нагаево — только портовый город).
В него из Нагаева ходят автобусы (пока еще грузовики со скамейками), и даже, как говорят, цивилизация зашла так далеко, что в этих автобусах надо остерегаться карманных воров.
7 ЧЕРЕЗ КАМЧАТКУ К БЕРИНГОВУ МОРЮ
Следующий день, 20 августа, нам предстояло совершить огромный перелет — пересечь Гижигинскую и Пенжинскую губы, перевалить через Камчатку и выйти к ее северовосточному концу — к бухте Корфа, — всего около тысячи километров.
Крутский с удвоенным вниманием осматривал моторы и так при этом перемазался, что пришлось мыть бензином куртку. Потом — сушить ее на фюзеляже, а потом, как всегда — ее снесло ветром от пропеллера. Так к длинному списку предметов, похищенных воздухом у Крутского, прибавился еще один.
Перелет сегодня начинается благоприятно — безоблачно, синее небо, волна небольшая, даже слишком мало ветра для отрыва с полной нагрузкой. Мы набираем высоту и идем на пересечение торчащего здесь к юго-востоку куска земли—полуостровов Кони и Пьягина. Это высокие скалистые массивы, вытянутые по той же линии, что и Приморский хребет; они слагают передовую гряду хребта Гыдан, частью разрушенную морем. Особенно красив первый из них, скалистый, падающий во все стороны утесами.
Мы повертываем на север, через Ямскую губу. Обширная долина, примыкающая к ней с юга, переполнена странными озерами, прямоугольной формы, с закругленными углами. Это недавно покинутая морем страна и озера образовались из лагун, расчлененных косами.
Позже в Анадырском крае мне удалось найти такие-же озера в глубине страны и правильный анализ их формы позволил выяснить происхождение больших озерных равнин.
От Ямской губы мы должны итти на северо-восток вдоль побережья; чтобы изучить морской склон хребта Гыдан — громадного хребта, составляющего водораздел Колымы и Охотского моря.
В 1930 г. мы видели его с запада, но восточный, морской склон остался неизвестным и на карте пришлось нанести его условно, по старым данным. Оказывается, он совсем не такой, как его изображали—и падает круто к морю: уже в 20 км от берега высятся цепи в 1 500 м высоты.
Мы с Салищевым работаем с лихорадочной поспешностью: на его обязанности лежит зарисовка рельефа и рек — маршрутно-глазомерная съемка, а на моей описание форм рельефа, геоморфологические наблюдения (выяснение зависимости форм рельефа от их происхождения) и фотосъемка.
Наш маршрут проложен на большом протяжении вдоль берега, и я знаю, что можно до самой Гижигинской губы научить хребет.
Но внезапно, вскоре после Ямской губы, Петров отворачивает самолет в море. Я спрашиваю с негодованием: „Почему вы не ведете самолет по прокладке?“ (в письменной форме, конечно—потому что на „Даше“ так ревут моторы, что даже крик не слышен; и негодование выражается только в жестах). — „Так ближе“. — „Предлагаю Вам вести по прокладке“. — „Я имею от вас задание вести самолет в бухту Корфа и веду кратчайшим путем“. — Объяснение кончено; некоторая неясность условий договора позволяет Петрову воспользоваться своим правом командира, и мне не остается больше ничего, как повернуться спиной к нему и постараться записать хоть что-нибудь о быстро убегающем в северную синь береге.
На нашем пути к Камчатке с севера выдвигается мрачный клин — Тайгонос. Он окутан низкими тучами, но южный конец его свободен. Это узкая стрела — с плоской поверхностью, покрытой тундрой, с крутыми обрывами скал, высовывающаяся к югу, а за ней на северо-востоке несколько красивых конических гор.
Дальше в Пенжинской губе чисто, сегодня нам везет. И море спокойно, только мелкие волны рябят просторную гладь. Сквозь воду виден косяк белух — крупных млекопитающих из китообразных. Это важная статья морского промысла. Белухи имеют вид громадных рыб, — до тонны каждая, — и действительно совершенно белые сверху. Они идут далеко одна от другой и напоминают мины Уайтхеда.
От Тайгоноса видна Камчатка — горная страна, перегораживающая горизонт. Но горная страна довольно однообразная, с бесчисленными острыми вершинами, с цепями, параллельными оси, Я напрасно ищу знаменитые вулканы, которые должны возвышаться над этими горами на 2 километра, они лежат слишком далеко к югу.
Теперь, предстоит серьезный этап перелета: надо пересечь Камчатку, — участок в 100 км без всяких посадочных площадок.
Мы идем сначала вдоль западного берега и поднимаемся до Паропольского дола, это давно известная в географической литературе громадная долина, которая начинается на западном берегу Камчатки и уходит куда то на северо-восток. Только исследования последних лет выяснили, что дол идет в виде узкой долины к бассейну Анадыря, но все еще неясно было — разрезает ли он Камчатку в самом узком месте, или центральный ее хребет продолжается без перерыва до материка. Нам предстояло через полчаса решить этот вопрос — и понятно, с какой жадностью и нетерпением мы глядели вперед. Я так тороплюсь с записями и фотосъемкой, что у меня ветер сносит светофильтр с камеры. На самолете стоит только зазеваться и высунуть над козырьком что либо неприкрепленное—мигом этот предмет улетает назад и с страшной силой ударяет о козырек кабины Салищева, или о хвостовое оперение. А если привстанешь—иногда от удара воздуха о тело завихрение в кабине делается таким сильным, что платки сами вылетают из карманов, а полы кожаного реглана задираются кверху.
Вот под нами Парапольский дол. Это возвышенная равнина, метров 100–150 над уровнем моря. По ней лениво текут реки, тянутся болота — и лишь приближаясь к морю речки начинают вгрызаться в дно, и прорезают узкие извилистые ущелья.
Пустынен и печален дол — нигде нет деревьев, только мелкий кустарник темнеет по речкам. И с нашей высоты не видно никаких живых существ. Но, как нам рассказывали позже, в это время по долу кочевали коряки, которые были чрезвычайно напуганы нашим перелетом и откочевали подальше.
На юге дол срезает, ряд цепей центрального хребта Камчатки — но самая центральная ось тянется все дальше на северо-восток.
Однако и в ней появился разрыв, и совершенно ровная поверхность дола плавно переходит на восточную сторону Камчатки. Задача решена: хребты Камчатки отделены от материка разрывом, правда небольшим — всего километроа в десять.
Дальше к северо-востоку возобновляются цепи с тем же направлением, и, постепенно нарастая, превращаются в мощный хребет, который громадной дугой идет вдоль морского берега к Анадырскому краю. Под нами—его начало, красноватые, голые, неприятные горы.
Но моторы жужжат равномерно и чувствуешь полную уверенность в самолете, в том, что не придется спешно выбирать место, где бы приткнуться машине. А приткнуться на этом пересечении негде—ни озер, ни больших рек. Разве только на болотистую тундру: как уверяют летчики, в таком случае только расползется по швам корпус, а все остальное, в том числе и люди, может сохраниться в целости. Один такой случай известен в истории самолетов Дорнье-Валь.
Но такие печальные мысли вряд ли часто приходят в голову экипажу—все заняты и незаметно проходит время. Вот и восточный берег, круглый залив Уала, Карагинский гористый остров — зубчатая масса (на нем питомники пушного зверя). Теперь — на северо-восток, вдоль берега. Впереди новые цепи, зубчатые, между плоскими долинами, уходящими, вопреки картам, почти параллельно берегу. Устье реки Вивник, в ней рыбалки, катера, а дальше громадные столбы дыма, на крутом склоне. Что это, еще новый вулкан? — Нет, только пожар, горят кусты и трава. Мы проходим над пожарищем, красные столбы поднимаются навстречу-
По берегу рыбалки; полоса пляжа под утесами узка, и одна из рыбалок приютилась в расщелине скал, у острого утеса. Сверху видны только крыши.
Длинная коса отделяет от бухты Корфа лагуну, и на ее берегу на косе — рыбалка, а на материке — поселок.
Это Тиличики, где нас должно ждать горючее (стоившее Мне, как и другие элементы нашего пути, бесконечного Количества усилий, грызни и телеграмм-молний). Лагуна спокойная, почти закрытая, превосходная для посадки, и после законного круга, самолет снижается. Приятно: ведь мы пробыли в воздухе 6 ч. 20 м. и изрядно намерзлись,
Тиличики районный центр: райисполком, кооператив и прочие организации, полагающиеся по чину. Кроме того — правление Оленсовхоза (сами олени рассеяны далеко по всему району) и „Пригородный совхоз“, который целиком, со всеми своим и огородами, помещается внутри „города“. Только совхозские коровы и крепкий породистый бычек бродят по густой траве побережья.
Тиличики довольно приятное место, которое мне очень понравилось. Но я не знал еще, что судьба сулит нам провести здесь поздней осенью целых две томительных недели. Сейчас нас занимало одно — сделать возможно быстрее последний перелет до Анадыря, Дальше до самого Анадыря баз горючего нет (счастье еще, что завезли в Тиличики) и если лететь вдоль берега, надо часов 8–9, т. к. здесь не меньше 1200–1300 км. Но если пересечь три полуострова, выдвигающихся в Берингово море, то можно сократить перелет до 6–7 ч. А так как мы сейчас берем горючего не более чем на 9 ч., то иначе нельзя и сделать: нужно, чтобы оставался навигационный запас часа на полтора, на случай встречного ветра или тумана.
Первый из этих полуостровов возвышается тотчас за бухтой Корфа, и по карте здесь низкие места, но в действительности это хребет до 1 300 м высоты с альпийскими формами — острая, скалистая гряда. Сразу после взлета надо набрать высоту и итти на неприятное пересечение.
Тиличики не имеют аэростанцни, далее к северу трасса изучена, но ее оборудование пока не начато. Мы пользуемся гостеприимством местных жителей, и после вкусного ужина сладко спим на оленьих шкурах — оленьих постелях, по техническому, очень меткому, северному наименованию-
Утром я бужу всех пораньше. Еще свежо, а в воздухе еще свежее. Сразу, после прощального круга над селением — прямо через полуостров Ровен. Под нами его дикие ущелья, пики, скалистые гребни. Только недавно ледники исчезли из этого хребта, и в полукруглых крутых карах еще лежат снега, на дне их — бугры морен, а ниже, в долинах — иссиня-зеленые ледниковые озерки.
Мы в Олюторском заливе, знаменитом своими туманами. Это обширный полукруг; в глубине темнеет устье реки Опуки, которая ошибочно на картах называлась Олюторкой, и в ее устье селение Олютопка. Тумана нет, но вся восточная часть залива покрыта низкими тучами, которые маленькими круглыми барашками выплывают навстречу нам. Чтобы пересечь полуостров Олюторского мыса надо итти над тучами. Из плотной белой массы их высовываются только самые высокие вершины — вся страна закрыта мягкой и упругой пеленой. Что нас встретит восточнее? Найдем ли мы чистую воду?
После того, как мы переходим через эту опасную преграду, облака редеют, и открываются красивые долины восточного берега мыса. В этих глубоких долинах недавно лежали ледники и выползали к морю, вырезая в скалах гладкие ложа. В конце этих долин или маленькие фьорды, или лагуны, отделенные от моря узкой косою.
Дальше, — красивейшие места побережья, бухты Глубокая и Наталья. Это тоже ледниковые фьорды, извилистыми ущельями заходящие между остроконечных гор. Узкие бухты, падающие с утесов водопады, мрачные пики, бороздящие небо — и так на десятки километров.
Но нельзя сейчас увлекаться красотой побережья — наше положение временами очень неприятно. Мы идем между двух слоев облаков — нижних, стелющихся по воде, и верхних обволакивающих горы. Это так называемый „слоенный пирог“, и горе нам, если два слоя этого пирога соединятся.
Пока все благополучно — впереди виден просвет, облака еще цепляются за хребты побережья, но над морем чисто, и далеко, на сотни километров, виден берег, огромной дугой изгибающийся на восток. И вдоль него — высокие цепи, слагающие хребет, еще не имеющий имени и не изображенный на картах. Его мы будем называть Коряцким, по имени народа, населяющего всю эту страну. Раньше на картах это побережье называлось Коряцкой Землей.
Вдоль этой дуги мы летим — как будто медленно, а на самом деле со скоростью урагана: ведь полет самолета быстрее самого сильного ветра, и сравним только с ураганом.
Перед нами проходят долины рек, лагуны на их устьях, озера в горах. Озеро Майна-пильгын — громадный водоем, больше 30 км длины, одним концом жмущееся к морю — (здесь на косе рыбалки), а щупальцами заливов уходящее в горы, не уступая по красоте прославленным озерам Швейцарии.
Новое пересечение третьего полуострова, идущего к мысу Наварин. Снова бесчисленные горы, долины, речки, — безлесные, голые сопки, открытые холодным ветрам севера.
Горы срезаны с севера как будто ножом, их граница, идет с запада на восток, а на севере — безбрежная равнина, вся блестящая от множества озер. Это—открытие первостепенной важности, сразу выясняющее структуру Камчатско-Коряцкой дуги.
Мы вышли из опасных гор, теперь под нами везде посадочные площадки. Направо море, и вдоль него громадные лагуны, а внизу и на запад, и впереди озера, болота, лужи, извилистые речки, ручьи, всюду вода, тундра, мох… Даже сверху — хотя у нас и очень холодно, ниже нуля, — чувствуешь всю влажность этой утомительной равнины.
Длинной стрелой выдвигается на север мыс Гека, — узкая коса, загораживающая вход в Анадырский лиман. Мы идем вдоль южного берега лимана; это недоступные болота, которые прямо сходят в море.
Гора Дионисия — изолированный купол, высящийся над, равниной: значит уже близко Анадырь. Вот и две громадные мачты, и само селение, забавно теснящееся на косе., отделенной от материка речкой Казачкой.
Наша база должна быть в рыбоконсервном заводе Акционерного Камчатского общества (АКО), стоящем в 6 км севернее, за мысом Обсервации, на берегу более укрытой от ветров бухты, но мы не уверены, что базовые сотрудники экспедиции уже там. И самолет черным, мрачным чудовищем, с ревом кружит сначала над Анадырем, потом над комбинатом — и снова к Анадырю. Какие то люди машут с берега, с катеров, — но как разобрать, где наши? Садимся у Анадыря. На берегу толпа любопытных. Оказывается база уже перевезена в комбинат. Забираем несколько человек местных жителей и мчимся, взрывая пену, к заводу, почти вылезая из воды, но не взлетая: здесь близко.
Рыбоконсервный завод называется по старой памяти комбинатом, так как по грандиозной первоначальной наметке он должен был заключать и мясоконсервный завод, (для обработки мяса) и кожевенный. Но оленей надо было пригонять за тысячи километров и действительность сократила наметку. От комбината осталось только название. Завод стоит на тундре — кругом болото, и все улицы полны грязью и размолотым торфом. На берегу от деревянной
пристани поднимается конвейер, подающий рыбу в завод, где она попадает в ножи „железного китайца“ (потрошильная машина), и потом в линию консервных машин, кончающихся автоклавом, громадным цилиндром, который наполняется банками и паром.
За заводом здания квартир служащих, бараки для рабочих, баня, столовая, пекарня. Бродят собаки и свиньи — в равном почти количестве.
Все прохожие в резиновых сапогах: по здешнему болоту даже в русских сапогах вымокнешь за день.
Самолет встречают с большой радостью; особенно рады наши базовые сотрудники, переставшие уже верить в наш прилет.
8 ВОКРУГ ЧУКОТСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Анадырь — только начальный пункт наших рабочих полетов и теперь предстоит решить, как рациональнее планировать работу, чтобы успеть использовать остающиеся немногочисленные осенние дни.
Наши моторы наработали очень много — 70 ч. Через 30 ч. их надо сменить, новые привезены в Анадырь вместе с запасными винтами. Я решил эти остающиеся 30 ч. посвятить изучению северной части округа — побережью Ледовитого океана. Там скоро начнут замерзать лагуны, единственные посадочные площадки и надо торопиться.
Поэтому, после нескольких дней, посвященных просмотру моторов, исправлению разных мелких дефектов, испытанию фотокамер, мы вылетаем на север — на этот раз с уменьшенным экипажем: аэросъемщик остается в Анадыре, так как аэросъемка предполагалась только во время круговых полетов с базы, а на опасный перелет надо по возможности облегчить машину.
Но не сразу можно попасть на север. Сначала плохая погода, низкие тучи и лишь 26-го они как будто бы расходятся, остаются отдельные кучевые облака, и мы решаем лететь. Маршрут проложен по материку, к западу от Золотого хребта, с тем, чтобы выйти затем к заливу Креста, заснять величайшую вершину северовосточной Азии, гору Матачингай, высотой 2799 м и далее пересечь Чукотский полуостров к Берингову проливу.
С надеждой на интересные открытия мы начинаем наш полет. Вам знакомо, наверно, чувство охотника, крадущегося за дичью — почти таково же возбуждение исследователя, идущего к крупным открытиям. Гора Матачингай — загадочная гора: она высоко возвышается над страной, которая не может иметь в среднем более 1000 м высоты.
Одни ученые считают, что здесь узел хребтов Чукотки и даже Камчатки, другие, что эта гора — потухший вулкан. Что же вернее?
Мы летим над долиной р. Волчьей на северо-восток, забирая высоту. Все те же болота и бесчисленные озера внизу — озерная равнина Анадыря. Направо узкий Золотой хребет, где в начале столетия американцы и русские добывали золото. Кучевые облака под нами, сначала в виде маленьких клубков, изящных и легких, потом все гуще, подушками, целыми перинам, грядами.
Только местами мелькает между ними озеро, изгиб реки, кусок тундры. Наконец облака сливаются в сплошную пелену. Тучи, которые снизу серы и мрачны, сверху представляют веселое, ярко-белое, волнистое скопище непроницаемое и бесконечное. Но для авиатора — неприятное: кто знает, где оно кончится?
Мы идем час —150 километров — и внезапно под нами разрыв. Видим округленные горы, горные речки в плоских долинах. Надо попробовать спускаться и пройти под тучами. Два круга, все ниже и ниже в окно, вот и гребни на севере, какая то пирамидальная вершина. Может быть — Матачингай? Но нет, тучи не выше тысячи метров, а вершина под тучами. Пройти под тучами нельзя, высота перевала к заливу Креста наверно не маленькая, к востоку также высокие гребни подпирают тучи, и нельзя рисковать забиваться под них.
Снова вверх, виражим, крыло к земле, таинственная пирамида опрокидывается — и мы опять над белыми облаками. Еще к севере — востоку по курсу. Надо итти все выше, слой облаков нарастает. Еще разрыв, очень маленький, в него нельзя нырнуть. Какая-то широкая долина речки, разбитой на потоки, может быть дельта.
Где это? На западном берегу залива Креста или на восточном? Идем по курсу—выше и выше: облака все наростают. Уже 2200 м — скоро и потолок, выше которого с полным грузом наш самолет не пойдет.
Вверху, выше нас второй слой облаков, мы попали в „слоенный пирог“. Снизу выступы, бугры, белые горы, поднимающиеся к верхнему слою и стремящиеся сомкнуться. Надо вернуться и попытаться во что бы то ни стало найти окно вниз. Вираж — и обратно по тому же пути. Мы идем меняющимися курсами; окна все нет.
Только часа через 3 после вылета—желанное темное пятно в сияющей массе: окно, под ним море. Быстрый спуск почти до поверхности: тучи теснятся к земле. Море, пустынный низкий берег на западе — мы вероятно у западного берега залива Креста.
Можно еще пройти на восток. Низко, почти бреющим полетом пересекаем залив. На восточной стороне также низкий берег, тундра, озера. На угловом мысу несколько яранг, дом с крышей, очевидно фактория. Проходим дальше на восток — но тучи ниже и ниже: это уже туман. Путь закрыт. Возвращаемся обратно к ярангам, кружим низко над ними, почти задевая крылом. Странное, жуткое, и вместе с тем приятное ощущение — бреющий полет над землей, и особенно такие низкие виражи: видны все мельчайшие подробности, вы на земле, и вместе с тем все это проносится под вами с быстротой урагана.
Сели. На берегу пара чукчей; кричим им, чтоб привели байдару: надо съехать, узнать, как называется селение — на карте оно не отмечено.
Чукчи спокойно лежат на яру и что то отвечают. Проходит четверть часа — они лежат все также бесстрастно.
Наконец, показывается байдара: ее надо было перегнать от фактории. Байдара — это лодка из моржовой кожи, натянутой на тонкий деревянный остов. Кон<а желтая, а сквозь нее просвечивает зеленая вода. Чукчи сидят в ней целой толпой и гребут короткими, плохо прилаженными веслами.
На берегу — толпа чукчей и один русский, золотоискатель, который остался здесь от партий Союззолота для разведки.
Короткий визит в факторию в сопровождении всей толпы. Заведующий факторией камчадал; он живет не в яранге, а в избушке, обложенной „тундрой“ — торфом. Американская чугунная плита, с барельефом, с блестящими штангами — и жена в пестрой камлейке, в белом чистом платке, принарядившаяся к нашему приходу.
Мы возвращаемся в самолет и весь день сидим в тесной кормовой кабине, варим на примусе кофе, пьем его, скорчившись между шпангоутами и распорками, и неустанно дебатируем вопрос о погоде и о том, можно ли лететь. Лететь надо—лагуны скоро замерзнут. Но можно ли, и найдем ли восточнее чистое небо, необходимое для наших наблюдений?
Ночь надо провести в самолете. Это уже не первая ночь, и мы приспособились не мешать друг другу. Кормовая каюта („дом крестьянина“) обширна, хотя и испорчена (с точки зрения ночлега) выступающими шпангоутами, распорками, водяным баком, установкой для фотокамеры. Но если подложить бухту каната, чемоданы, сапоги — можно устроить сносное логово. Мы с Салишевым и Крутским ложимся на дно, Косухин как птица гнездится между распорками, на материальном ящике, подложив под голову несколько пар сапог, а Петров со Страубе живут „под арфой“ — это за пилотскими местами, где скрещиваются троссы управления.
Утром, хотя тучи низкие, но впереди как будто чисто. Решаемся лететь. Действительно, километрах в ста далее небо чисто—весь Чукотский полуостров восточнее свободен от туч, и можно исполнить важный маршрут — наискось через полуостров, прямо к Уэлену.
Мы уже начинаем привыкать к пересечениям беспосадочных горных районов, и впечатление новизны, свежее дуновение опасности понемногу исчезает.
С высоты 1500 м Чукотский полуостров — это беспорядочное скопище закругленных гор, то черных, то красных, то серых, с громадными между ними долинами, идущими совсем не так, как им показано на картах. И горы идут не так. По долинам трава, болота и озерки — воды здесь везде слишком много.
Мы проходим прямо к Мечигменской губе и затем к губе Лаврентия — двум заливам, которые глубоко вдаются в полуостров. Второй — явное ложе недавнего ледника, свежие морены в диких ущельях южного склона. Вся губа в белой ряби: это уже льды, которые загромождают и губу, и океан к северу от нее. На северо-востоке видно, что льды узким потоком выходят из Берингова пролива, и затем широко расходятся вдоль берега Чукотки.
Мы выходим к посту Дежневу — это небольшое поселение еще в Беринговом море — и затем делаем излишний, хотя и приятный для гордого сознания летчиков, экскурс к востоку, вокруг массива мыса Дежнева, чтобы пройти между Азией и Америкой. И действительно, стоит „здесь пройти: массив падает живописными скалами с острыми выступами к морю, сплошь задавленному белым сияющим льдом. На склоне приткнулось эскимосское селение На-укан — самое восточное на материке СССР а, там, на востоке, синеют два островка Диомида, из них второй — американский; дальше в серой дымке — и горы настоящей Америки.
Мыс Дежнева (или Восточный), красивый крутой утес, серый сейчас, при солнце, черный — если плыть мимо него в бурю, всегда почти окруженный туманом. И сейчас облачко гнездится на вершине массива.
Мы огибаем мыс и идем к Уэлену — чукотскому селению на косе у лагуны, за массивом. Снижаемся к нему, на берег выбегают люди, должно быть все население поселка.
Вот мы подошли почти вплотную к крестовине. Петров командует выключить моторы. И — о позор — до крестовины еще нельзя дотянуться, и нас начинает медленно дрейфовать ветром вглубь лагуны. Отдается приказ — завести моторы: но моторы, как всегда, не заводятся когда надо.
Тщетно запускается маховик Бристоля, тщетно Крутский в меховом жилете погибает от пота и клянет всеми известными ему словами несчастный моторчик.
Нас медленно несет через мелкую лагуну, и наконец сажает на мель в 2 км от селения.
Зрители постепенно уходят с берега в яранги, а наиболее сознательная часть — члены РИК'а — приезжают в лодке. Просмотр Бристоля не сулит скорого старта, и благоразумнее выехать на лодке. Но это —„тоже далеко не безопасное предприятие, лодка быстро заливается водой и приходится брести по мелям пешком.
Только в 7 ч. вечера, истощив с Бристолем свое терпение Косухин и Крутский, оставшиеся на самолете, воспользовавшись последним баллоном со сжатым воздухом, заводят мотор и подходят к Уэлену.
9 К МЫСУ СЕВЕРНОМУ
Уже скоро пять дней, как мы сидим в Уэлене. Крутский и Косухин чинят „Бристоль“. Мы бродим по селению, фотографируем жанровые сцены, изучаем быт чукчей и их рабочий скот — собак.
Уэлен стоит на узкой косе между полярным морем и тихой лагуной. С севера выползают на косу льдины; то они сгущаются у берега, то ветер начинает отдавливать их к северу. Милях в двух от берега льды движутся сплошной массой на восток, в Берингов пролив, и днем и ночью слышен жуткий шум трущихся друг о друга льдин.
С другой стороны косы — ровная гладь лагуны, а на косе длинный ряд чукотских яранг, напоминающих круглый ламповый колпак, свернутый несколько на бок.
Яранги покрыты моржовыми шкурами, поверх которых висят на ремнях тяжелые валуны, чтобы шторм не обнажил кровли.
Вся жизнь чукотского населения связана с морем и его фауной. Как только состояние льдов позволяет, чукчи выезжают в кожаных лодках — байдарах на охоту за морским зверем и, искусно лавируя между льдинами, к вечеру возвращаются с окровавленными тушами тюленей и кусками моржового мяса (морж слишком велик, чтобы его целиком втащить в байдару). На широком галечном пляже хмуро бродят собаки, в“ поисках пищи, и как только подходит байдара с мясом, они собираются вокруг сотнями в надежде на поживу. Люди отбиваются от них, бросая пригоршни камней, но стоит только охотнику отвернуться, как десяток собак хватает кусок мяса или голову моржа и тащит добычу в сторону. Зимой собак кормят регулярно, но летом они должны большей частью сами заботиться о своем пропитании.
В Уэлене, кроме яранг, несколько русских построек — здания радиостанции и школы, исполкома, маленькая кооперативная лапка.
Кроме Бристоля нас задерживает в Уэлене отсутствие сведений о том, есть ли горючее на северном побережьи дальше к западу.
Нам прежде всего надо связаться с судами Колымской эскадры Евгенова (северо-восточной экспедиции), ушедшей недавно из Уэлена к устью Колымы, и находящейся сейчас где то возле мыса Северного—хотя бы для того, чтобы получить разрешение взять их горючее, лежащее в Уэлене (наше почему то сюда не попало).
Но на наше счастье, на другой день после нашего прилета, среди льдов на северо-западе показывается темный корпус—это пароход „Колыма“, который зимовал у берегов Чукотки на обратном пути после успешного рейса к устью Колымы.
„Колыма“ быстро приближается, смело раздвигая льды и умело маневрируя, то идя вперед, то отступая, чтобы полным ходом снова ударить вперед и раздвинуть льдины. По этой точности и смелости маневров я узнаю сразу, что на ней идет капитан Д. Сергиевский, мой старый знакомый, с которым в 1930 г. на той же „Колыме“ я проделал тяжелый ледяной поход от р. Колымы до мыса Дежнева.
„Колыма“ останавливается среди льдов против Уэлена и я на маленькой байдарке подъезжаю к ее борту. Вверху, на мачте в „вороньем гнезде“ Д. Сергиевский, в своей коричневой шубе, высматривающий проход между льдами.
Радиостанция „Колымы“ в исправности, и я получаю Возможность переговорить с Н. Евгеновым, ведущим Колымскую эскадру. Оказывается, появление нашего самолета на Полярном побережьи весьма кстати уже несколько дней, как выяснилась необходимость послать самолет на помощь к острову Врангелю.
Чтобы читателю было понятно в чем дело, надо вернуться назад к истории советской колонии на острове.
В 1926 г., когда было решено освоить этот остров, первая группа колонистов была направлена на него под начальством Г. А. Ушакова (впоследствии начальника и исследователя Северной Земли). Партия эта прибыла на остров на пароходе „Ставрополь“ и пробыла до 1929 г., когда на ледорезе „Литке“ приехали новые колонисты. Эскимосы, привезенные в 1926 г. из бухты Провидения, найдя, что условия жизни на острове лучше, чем на материке, остались здесь на постоянное жительство. Из русских, прибывших в 1926 г., остались на второе трехлетие два промышленника, а остальные были сменены новыми.
В 1931 г. предполагалось послать на о-в Врангеля шхуну „Чукотка“, специально построенную для полярных плаваний, и уже плававшую в этих водах. Но она была раздавлена льдами у берегов Сибири, не успев пройти к острову.
В 1932 г. с новым составом колонии, с запасом продовольствия и угля пошел к острову пароход „Совет“ под начальством известного полярника, капитана К. Дублицкого. Пароход этот не ледокольный, и совещания, которые состоялись в Владивостоке и Петропавловске весной, высказались против его посылки на остров Врангеля. Но отсутствие на Дальнем Востоке подходящих судов (кроме „Литке“, который был занят ответственной операцией по проводке судов к устью Колымы) заставило все же, в конце концов отправить на остров Врангеля „Совет“, хотя по мнению совещания: „При наличии тяжелого режима льдов судно не обеспечивает рейса“.
17 августа „Совет“ вошел во льды, и вот, по настоящий момент, не может пробиться к острову. Остров с юга огражден полосой сплоченных льдов в 25–30 миль шириной, медленно дрейфующей к юго-западу, и пароход, войдя в эти льды, также уносится к юго-западу, будучи не в силах раздвинуть их. Улучшения состояния льдов не предвидится, и поэтому начальник острова т. Минеев и Дублицкий уже 21 августа пришли к убеждению, что только на самолете можно завести на остров необходимые продукты и вывезти оттуда часть зимовщиков.
Легче всего могли бы достичь острова самолеты Колымской экспедиции — но оба они были слишком малы: один, двухместный поплавковый, вообще непригоден для дальних полетов в море, а другой, деревянная лодка типа „Савойя“, не поднимет достаточного количества груза и людей. Поэтому Минеев, Дублицкий и Евгенов решили обратиться в центр с просьбой о присылке большого самолета — выход теоретически мыслимый, но практически, в течение оставшегося короткого времени, совершенно невыполнимый. Перспективы для острова Врангеля были довольно неутешительны — колонистам очевидно приходилось оставаться на четвертый год, при этом — не имея достаточных запасов продовольствия, патронов и горючего.
Наше внезапное появление на полярном побережье сразу разрешило это безвыходное положение, и Евгенов с большой Настойчивостью начал просить нас совершить полет на остров, убеждая, что „только Дорнье-Валь может это сделать продуктивно“. Минеев и Дублицкий полагали, что самолет должен сделать несколько рейсов между „Советом“ и островом — Евгенов был осторожнее, предлагая сделать по-крайней мере один рейс с мыса Северного на остров.
Просьба о-ва Врангеля нас несколько смутила. Для исполнения прямых задач экспедиции—съемки и географического изучения Чукотского округа — нам необходимо было Остаться на материке. К тому-же мы уже очень запоздали и времени для нашей большой и ответственной работы оставалось очень мало. Кроме того, полет на остров и особенно перелет к пароходу, стоящему во льдах, являлся довольно рискованным: наши моторы имели в запасе всего 20 часов работы и их скоро нужно было менять. Могли ли мы, не имея прямых заданий от Арктического института и от владельца самолета, Комсеверпути, рисковать машиной и людьми? С другой стороны, действительно, только наш самолет мог помочь колонистам, и в случае нашего отказа они обрекались на новую зимовку.
Я знал, что весь экипаж охотно пойдет в этот рискованный полет, и обсудив вопрос с Л. Петровым, ответил Евгенову согласием, обусловив, что мы сделаем только перелет с мыса Северного и обратно и вывезем 6 человек, а от перелета к пароходу, как очень рискованного, отказываемся. Евгенов обещал оставить на мысе Северном горючее для нас и продукты для острова.
1 сентября к вечеру наконец „Бристоль“, пусковой моторчик, был побежден,“ и 2-го мы вылетели на запад. Чтобы произвести съемку внутренних частей Чукотского полуострова, мы пошли вдали от моря, и вскоре белая полоса его льдов скрылась в дымке. Легко и быстро „Даша“ набрала высоту, яранги Уэлена превратились в кучку маленьких бугорков на узкой ленточке — косе. Под нами тянулись округленные серые горы с острыми гребнями утесов-кекуров кое-где на вершинах.
Мы шли прямо к Колючинской губе — заливу, памятному в истории полярной авиации: здесь в 1928 г. был разбит штормом и выброшен на косу самолет „Советский Север“.
Колгочинская губа встретила нас так же неприветливо: низко над водой стлались ватные облака, которые дальше на запад сливались в сплошной серый покров, и нам пришлось нырнуть между тучами вниз, к самой воде и итти бреющим полетом.
Всего в 10–20 м под нами лежали в воде у берега полупрозрачные льдины, а за узкой косой серела недвижная, ленивая поверхность лагун.
Но скоро и этот путь, довольно опасный, — был прегражден: мы встретили идущие с запада снеговые тучи, козырьки летчиков забились снегом и берег впереди скрылся. Предстояло между тем обойти острый скалистый мыс Онман, выдающийся в море перед р. Ванкаремой.
Помня о мысе Наклонном на Охотском побережьи, командир самолета решил переждать. Выбрав удобную лагуну, мы сели. „Даша“ побежала по лагуне, рассекая воду, и постепенно замедляя свое бурное движение. Сразу стало спокойно. Кругом серо, вдалеке на косе сквозь снег виднелась яранга — но жители не показывались, вероятно опасаясь приблизиться к этому чудовищу, упавшему с неба. А нам к ним выбраться трудно: из-за мелководья самолет не подходит к берегу, а надувать резиновую лодку долго.
Так мы и сидели на фюзеляже — завтрак кончен, и становится скучно. Но на западе как будто поредело — и мы торопимся сняться, чтобы обойти мыс. По совести говоря, снег идет все так-же, и опасный утес едва виднеется даже в полукилометре. Еще несколько минут, он пройден, и мы снова над лагунами.
Под нами узкий низкий мыс — это фактория Ванкарема у устья реки того же названия. Дом, склад и несколько яранг. Выбегают люди, — заведующий с черной бородой, чукчи. Мы летим совсем над домами, — и Страубе смело виражит над факторией: надо сбросить почту.
Дальше — вперед, к мысу Северному. Все время набегают снежные тучи, но берег здесь плоский, и можно не бояться Встреч с скалистыми боками мысов. Вот на косе пасется стадо оленей — мы проносимся над ними так быстро, что они даже не успевают разбежаться. Вот яранга — чукчи при звуке моторов выскакивают наружу, но увидав, что страшная птица летит прямо на них, низко-низко, прячутся снова под кровлю: может быть моржевые шкуры укроют и спасут.
Действительно, мы летим так низко, что кажется — сейчас хвост заденет за крышу.
И в самом деле, чукчи имеют серьезное основание опасаться, что самолет упадет на их яранги. В ноябре 1929 г. здесь, возле устья Амгуемы, в пурге, во тьме прошумел самолет—и замолк. И только специальная экспедиция русских и американских самолетов нашла остатки машины и трупы летчиков — бесстрашного полярного летчика Эйелсона и его борт-механика. Того Эйелсона, который вместе с Вилькинсом совершил замечательные перелеты над северным Полярным морем и над материком Антарктики, — и погиб здесь, перевозя пушнину с затертой льдами шхуны; погиб из-за нежелания отступить перед пургой и вернуться на базу, как сделал в тот день другой летчик. Эйелсон хотел тренироваться в полетах во время пурги — для задуманного им перелета вдоль побережья Полярного моря.
Двести километров от Ванкаремы мы пролетели всего за 1 ч. 20 м., — и перед нами мыс Северный, узкий мыс со скалой, выдвигающейся в море, и преграждающей дорогу льдам. Возле него всегда громадные заторы льда.
Фактория — на низком перешейке, соединяющем утес с берегом, но еще в 12 км не долетая до мыса мы видим — в лагуне у косы легкий зеленый самолет — это „Савойя“ Колымской экспедиции, которая пережидает погоду.
Как полагается, мы делаем круг над „Савойей“, затем летим на мыс Северный, чтобы посмотреть, где лежат бочки с бензином, и затем обратно в лагуну.
Как только мы подходим к берегу, все вылезают на нос, на фюзеляж, и сейчас-же при участии стоящих на берегу летчиков начинается специальный авиационный разговор, для постороннего довольно нудный — о моторах, о деталях полета и посадок и т. п.
На берегу четыре человека легкого состава и начальник авиочасти Колымской экспедиции Г. Д. Красинский. Он радушно угощает нас разными вкусными вещами — и мы с ним обсуждаем вопрос о полете на остров Врангеля. Продовольствие, которое выделил Евгенов, уже здесь.
на берегу, и Красинский, не зная, прилетим-ли мы (радиопередатчик „Савойи“, также как и наш, не работает, и они могут лишь принимать сообщения) собирался уже доставить этот груз — всего 200 кгр — на остров.
Но горючего здесь, на косе мало, — оно все выгружено у фактории, и надо позаботиться о доставке его. До фактории 12 километров — три часа ходьбы по гальке и болотам и наши летчики решают, что проще туда слетать. И несмотря на низкие облака и снег мы снимаемся, и через 4 минуты садимся с восточной стороны мыса, на маленький участок моря, свободный от льдов. До фактории все же еще два километра по тундре и только спустя порядочно времени, мы наконец, вытаскивая ноги из болота и проклиная земные путешествия, приходим в факторию. Я был здесь в 1930 г. — и не могу узнать построек: большого хорошего дома нет, а на месте его маленькая избушка, обложенная для тепла дерном—„тундрой“. Оказывается, прежний заведующий факторией любил разводить огонь бензином, — благо в сенях стоит целая бочка, — и поливал его в огонь прямо из чайника! И фактория исчезла в один холодный, но не прекрасный день. Внешний вид избушки невзрачен, но внутри тепло и уютно. Новый заведующий т. Венедиктов, приехавший недавно с судами Колымской экспедиции и остановившийся здесь с женой, уже успел создать европейский уют, несмотря на крохотные размеры своего жилища.
Нам приходится оказать должное угощению. Быстро кончаем мы деловые разговоры и торопимся назад: льды могут быстро надвинуться, и тогда самолет будет заперт у мыса.
Весь вечер в нашем салоне — задней кабине самолета — ведется дискуссия о полете на остров Врангеля. Хотя самолет Красинского слишком мал, чтобы оказать существенную помощь колонистам, но он любезно решает лететь вместе с нами: радио на обоих самолетах бездействует и поэтому хорошо лететь парой, чтобы на случай аварии одной машины другая могла бы подать помощь, или, по крайней мере, сообщить о месте гибели.
10 НА ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ
Несколько раз тороса вырастали
прямо под нами, и я думал: „Ну,
от этого мы не увернемся“.
Р. Амундсен.
3 сентября с утра погода мало благоприятствует полету. Низкие тучи, на море над льдами туман. Льды сплошь подступают к материку и только вблизи самого берега маленькие полыньи.
Днем привозят горючее на байдаре, и мы можем заправить самолет. Часа в три дня действительно, как будто становится светлее, над головой на короткое время появляется клочек голубого неба, — но скоро его опять затягивает. Но всем не терпится — ведь вчера наш экипаж показал пример лихого полета в снежных тучах, и сегодня дух соревнования напряжен чрезвычайно.
До пяти часов вечера погода не улучшается, но ждать больше нельзя — если не вылетим сейчас, то не только не успеем вернуться, но даже не успеем засветло долететь до острова Врангеля. Надо решать. И вот почти в 6 вечера наш самолет снимается и кружит над лагуной.
Внизу копошатся черные фигурки вокруг зеленого кузнечика— „Савойи“: она отрывается от берега и бежит, покачиваясь как утка, по лагуне.
Низкие тучи, вверх подняться невозможно — и мы жмемся к самым льдам. Они начинаются тотчас за узкой полосой косы. Воды очень мало, все лед и лед, серый под серыми тучами.
Лед—страшный для самолета. Это не гостеприимный лед Баренцова моря, где широкие ровные поля приглашают садиться. Это тяжелый, торосистый лед, который суровым напором с севера придавлен к берегам Сибири и переломлен, сдавлен, спрессован в бугристые массы.
Мы летим низко бреющим полетом, и чувствуешь невольно всем телом, как при какой нибудь ошибке пилота, легком невнимании, самолет своим тонким корпусом врежется в эти торчащие навстречу острые гребни и зубцы.
Но вот нас настигает „Савойя“, — и в легкой и веселой, погоне двух самолетов мы забываем о льдах. „Савойя“ быстроходнее нас и легче маневрирует, — и она летит то“ с одной стороны, то с другой, обгоняет нас, ее прозрачный легкий корпус несется с изумительной быстротой мимо льдов. Она под нами — и видны головы летчиков, круглые маленькие наросты на теле веселой стрекозы. Эта гонка увлекает всех нас. Я фотографирую „Савойю“, льды, — и не замечаю, как сгущается все больше туман впереди. Наконец, он настолько густ, что лететь нельзя. „Савойи“ уже не видно, и мы делаем разворот в молочно-белой мгле низко над самым льдом. Разворот до тех пор, пока компас не покажет вместо севера — юг.
Назад мы идем уже в тумане, над льдом. Быстро проносятся под нами фантастические, от тумана кажущиеся огромными, торосы. Вот налево движется какая-то серая масса — это медведь, потревоженный шумом мотора, лениво и недовольно отходит от туши тюленя, которую он свежевал.
Выходим к мысу Северному. „Савойя“ тоже возвращается, полет в этом тумане без специальных приборов для слепого вождения — безумен.
На следующий день снова туман, низкие тучи, снег. Целый день мы бродим по косе между морем и лагуной. Кто ищет обломки дерева для костра, кто рассматривает кости моржей и тюленей, валяющиеся здесь и там, другие прыгают по льдинам, прибитым к берегу, но время от времени каждый поглядывает на небо: не разъясняется ли?
Крясинский неизменно оптимистичен: он стоит на гребне косы, и подняв бороду кверху, следит за облаками, уверяя: „Вот уже светлеет, скоро разнесет. Этот ветер быстро растащит туман“.
Но погода не хочет слушаться, все время налетают полосы тумана, сменяющие снеговые тучи. В 6 ч. вечера на западе появляется голубое небо в разрыве облаков — но туман лежит на море и на горах.
5 сентября сутра — то же самое. Настроение становится все более напряженным: мы не можем тратить много времени на ожидание здесь, да скоро кончится и благоприятное время для полетов на остров, лагуны начнут замерзать. Может быть за эти дни, что у нас нет связи, „Совет“ подошел уже к острову и наш полет бесполезен? Но все считают, что надо во что бы то ни стало сделать попытку дойти до острова.
И как только среди дня в низких тучах над лагуной появляется просвет — оба самолета один за другим отрываются и круто поднимаются в это голубое окно.
Под нами сплошная белая пелена. Курс опять — норд 180 град. Сзади, под облаками, — сияющие, совершенно белые от свежего снега, гряды гор. Я внимательно слежу за ними, запоминая их меняющуюся форму, чтобы знать, куда нам нужно выходить к лагуне, если придется возвращаться над облаками. Холодно — мы быстро набираем высоту. Но впереди только белесая масса облаков, колеблющаяся и неровная. То один, то другой из нас открывает в выступах облаков силуэт цепей острова, но через несколько минут снова изменяются и исчезают эти цепи.
Под нами изредка сквозь облака мелькнет поверхность моря — все те же тяжелые, сплоченные льды.
Через полчаса полета, в 75 километров от берега, впереди над облаками появляется, наконец, гребень, темный и отчетливый, который больше не исчезает: это центральная часть острова с пиком Берри.
И немного погодя облака под нами разрежаются и видна темная, почти черная вода между льдами и затем резкая граница большой полыньи — свободная вода, открытая дорога для судов, идущих на Колыму, путь, которым до сих пор еще не пользовались за отсутствием ледоколов и прочных транспортов.
Она уходит на восток под облака, но на западе замкнута льдами; льды забили весь пролив Лонга между Врангелем и материком, и эта дорога на запад сегодня закрыта, — да вряд ли откроется вообще в нынешнем году.
Сквозь редкие облака чернеет вода, и на душе становится веселее: здесь посадка возможна везде. Но километров через пятьдесят снова показываются льды; это уже большие поля в 1–2 километра, закругленные, с проходами между ними, забитыми мелким льдом. Мелким — если смотреть с нашей высоты. А на самом деле наверно льдины в десятки или в сотни метров.
Но судно может здесь свободно пройти — воды достаточно.
Километрах в 50 не доходя острова сразу кончаются облака, и к востоку и западу тянется сияющее белое пространство — это то кольцо льдов перед которым остановился „Совет“. Сверху поле льдов кажется сплошным. Но если всмотреться внимательнее, то видно в этой полосе тесно сдавленные и поля и мелкие льдины, а узкие трещины между ними, едва заметные, скреплены свежим льдом. Преграда эта действительно непроходима — может быть даже и для ледокольного судна.
Впереди все растет и растет темный хребет острова. Надо найти колонию у бухты Роджерса.
Самолет делает круг над домами, и уже можно различить людей, которые машут руками и танцуют.
В это время снижается и „Савойя“ — сна уклонилась к западу, в поисках бухты Роджерса и немного запоздала. Все наличное население острова сбежалось на косу — сразу трудно сосчитать сколько людей, но очень много. По последней статистике всего на острове, вместе с теми, которые сейчас где-то на охоте, — 65 человек; из них 10 русских, а остальные эскимосы. Вероятно, в составе колонии больше всего эскимосят — на берегу множество детей, толстых и краснощеких, не испытывающих, повидимому никаких лишений в этом условно суровом месте.
Наше появление было неожиданно и эффектно — мы запоздали против назначенного срока на несколько дней, и к тому же никто не ждал сразу двух аэропланов, которые один за другим спустились в уединенную лагуну, в течение трех лет не видавшую ни одного чужого человека.
Мы провели на острове меньше суток, и это время протекло и для колонистов, и для нас в состоянии какого-то странного возбуждения, так что трудно дать протокольный отчет о последовательности событий.
Из общей массы людей, встретивших нас на берегу, наибольшую энергию проявил начальник острова, т. Минеев, небольшой человек с рыжеватой бородкой, заботливый и хлопотливый. Сегодня для него выдался горячий день — надо было сразу разрешить столько вопросов — кого и что вывозить, кому остаться на острове, чтобы обеспечить метеорологические наблюдения и большое хозяйство острова.
Эскимосы, основные жители острова, настолько здесь акклиматизировались, что не испытывают желания вернуться на родину, на материк.
Здесь живется гораздо лучше чем в бухте Провидения — климат почти такой же, а охота несравненно лучше. В то время как на материке в этом году было мало моржей — например за лето на мысу Северном не убили ни одного моржа, а на Ванкареме только двух — здесь моржей сколько угодно. Т. Ушаков, облетев в 1926 г. с летчиком Кальвицем остров, видел на льдах у северного побережья десятки тысяч моржей. Да и здесь, у южного берега, все время видны высовывающиеся из воды круглые головы моржей. Как нам говорит тов. Минеев, если нужно к завтраку печенку — выезжаешь на лодке, через короткое время убьешь двух-трех моржей, и от каждого получишь 25 кг первоклассной печенки.
Этой моржевой печенкой нас сейчас же угостили. Она ничем не отличалась от говяжьей, и даже Страубе, с которым в Уэлене делались чуть не судороги от моржевых котлеток, — уплетал ее с удовольствием.
Врангелевские эскимосы живут в ярангах и палатках, русские колонисты, в здании радиостанции на косе и в жилом доме на склоне горы. Рядом стоят еще две постройки — склады, лежат бочки с керосином и бензином, лодки, кучи мамонтовых бивней, головы моржей с громадными желтыми клыками. По косе лениво бродят собаки, но они даже не смотрят на моржевые головы: не то что в Уэлене, где на каждый кусочек мяса сбегались целые стаи.
Русские колонисты, уже привыкшие к здешней жизни, охотящиеся наравне с эскимосами (метеоролог Званцев, например, убил несколько десятков медведей) испытывают все же тоску по материку, и большая часть их хотела бы уехать.
Льды, которые мы видим вокруг острова, конечно не пропустят „Совет“ и нам надо вывозить с острова всех, для кого четвертая зимовка тяжела.
По последним телеграммам „Совет“ стоит вблизи кромки льда, к югу от острова Геральда (маленький островок, утес среди льдов, к востоку от Врангеля) и готов принять самолет.
Все на острове убеждены в том, что мы полетим к „Совету“, и у нас не хватило духа настаивать на нашем более осторожном плане — вывезти всех на мыс Северный.
Вечер прошел в бесконечных оживленных разговорах: — колонисты были как пьяные от избытка новых впечатлений и от лихорадочных сборов.
На острове решили остаться два промышленника, Павлов и Старцев, уже проведшие здесь 6 лет и начальник острова т. Минеев с женой т. Власовой, который не мог бросить все большое островное хозяйство.
К сожалению мне не удалось спокойно посидеть у них в их уютной комнате, сплошь заставленной полками с книгами, „расспросить о трехлетней зимовке—мне пришлось весь вечер провести на радиостанции в переговорах: сначала с „Советом“, уславливаясь, где и как мы завтра встретимся, затем с Колымской экспедицией и с „Сибиряковым“, который в это время шел с запада от Колымы к мысу Северному. Только ночью я пришел в дом, где мои спутники уже спали.
Жилой дом состоит из четырех комнат; в одной из них кухня и столовая, в остальных в каждой комнате живет одна семья. В комнате у Минеева, кроме людей, живут еще воспитанники: две ручных полярных совы и лемминги. Белые пухлые совы с любопытством и недоверием смотрят на посетителей, и широко открывают желтые рты, когда к ним протягиваешь руку: но это не от злости, как их дикие собратья — а из любезности, вероятно. Маленькие рыжеватые лемминги, заменяющие на севере полевых мышей, поблескивают из клетки своими бисеринками — глазами.
Но кроме этих домашних воспитанников на острове есть и полудикие: на столбе в клетке сидят две взрослые дикие совы, которые сердито шипят на проходящих, а в пристройке возле склада одиннадцать белых медвежат. Это результаты зимней охоты — за 3 года колонистами убито всего более 200 медведей; нынешней весной медвежат оставляли, чтобы увезти на пароходе на материк, в зоологический сад. Теперь им, наверно, предстоит пойти на мясо и шкуры.
Сейчас они маленькие, толстые и очень забавные. Увидев человека, прячутся вглубь клетки и лезут вверх по задней решетке, но потом с любопытством выходят вперед, вытягивая черные морды.
С острова нам предстояло вывезти восемь человек — двух радистов, метеоролога Званцева, одного промышленника, доктора Сенатского с женой-эскимоской и ребенком, родившимся здесь, и повара Петрика, — душевно-больного. Повар был взят в Петропавловске. Он уже раньше не был вполне здоровым; к концу пребывания на острове у него наступил рецидив, но к счастью болезнь его протекала в довольно спокойной форме. Самое неприятное последствие ее было сожжение всей одежды, которую он считал непригодной для поездки на материк. Его, конечно, надо было вывезти в первую очередь, и главным образом для этого, и для доставки продуктов, Минеев и вызывал нас.
Но наш самолет был достаточно грузоподъемен, чтобы забрать всех людей и даже часть пушнины; мы могли поднять не менее тонны.
На острове было довольно много ценной экспортной пушнины — плод трехлетней охоты: тысяча песцов и более двухсот медведей. Медвежьи шкуры слишком тяжелы — в плохо выделанном виде сто шкур весят почти тонну, но песцы весят очень мало, и пугали нас только своим объемом. 1000 песцов — это 25 больших кулей. Нам придется забить весь самолет. Надо было рассчитать груз так, чтобы вывезти
все в один рейс. Мы и так сильно рисковали машиной, садясь между льдов у „Совета“ и если мы повторим несколько раз эту операцию — мы в несколько раз увеличим и риск. А самое главное — у нас было горючего всего на 3 ч.
До „Совета“ около 50 миль — туда и обратно 1 ч. 20 м., да на материк самое меньшее 1 ч. 40 м., всего в обрез на 3 часа, даже без законного навигационного запаса на случай встречного ветра или вынужденного возвращения.
С мыса Северного мы не могли взять горючего — в лагуне больше не было, а доставка новых бочек задержала бы нас еще на двое суток: надо было громадные бочки тащить два километра на нартах по тундре, и затем десять километров пробираться вдоль берега между льдов в кожаной байдаре.
Мы рассчитывали пополнить наши запасы на Врангеле или на „Совете“ — где было, как мы знали, много горючего. Но и здесь нас ждала неудача: наши моторы работали на смеси легкого бензина с тяжелым бензолом, или на более тяжелом бакинском бензине второго сорта. А на Врангеле был только легкий авиационный бензин совершенно для нас бесполезный. Какие сорта бензина были на „Совете“ — нам не могли сообщить, за отсутствием указаний в фактурах.
Чтобы иметь возможность совершить перелет на „Совет“ мы решили пойти на незаконный и вредный для моторов компромисс: влить в нашу смесь одну бочку легкого бензина из врангелевских и гарантировать этим хотя бы навигационный часовой запас.
11 НОЕВ КОВЧЕГ НАД ПОЛЯРНЫМ ПАКОМ
Если я опять упоминаю о невозможных
условияхпосадки, то делаю это
лишь для того, чтобы отметить, как
мы близки были в это время от
верной смерти.
Р. Амундсен.
Утро 6 сентября встретило нас сурово: низкие тучи, крутится снег, ближние мысы закрыты. Но все же надо готовиться. Колонисты несут свой багаж, эскимосы тащат пухлые мешки с песцами. С самолета мы снимаем все, что можно. Всюду набивают песцов и даже в носовой маленькой кабинке, где едва помещаемся мы с Петровым, оказывается 2 мешка.
Я опять на радиостанции — последний разговор. В 10 ч. утра Дублицкий сообщает: „Находимся у кромки сплоченного льда в 15 милях на юго-запад от Геральда, который виден в редком тумане, волнения нет, ветер ССВ четыре балла, облачно, проясняется“.
Ждем еще полчаса, как будто становится яснее, потом опять снег, опять яснее. Надо лететь — как бы не стало хуже. Сообщаем „Совету“: „Вылетаем через двадцать минут, дайте густой дым“. Дым — чтобы легче найти пароход среди однообразных беспредельных льдов.
Выходим на берег. Радисты запирают радиостанцию: этой зимой она не будет работать, нет угля, чтобы отапливать, здание. С нами идет Минеев, он полетит на „Совет“, чтобы доложить о состоянии острова. У самолета последние приготовления. Приносят Петрика: его на всякий случай запеленали в смирительную рубашку. Жена-доктора Сенатского несет своего сына — первый европеец (или, вернее, полуевропеец), родившийся на Врангеле. Он очень мал, и из мехов едва видны черные глазки.
Наконец, приводят еще пассажира, о котором не упоминалось в телеграммах: пушистую лайку Званцева. Она входит в вес разрешенного Званцеву багажа, и приходится ее взять.
Самолет похож на Ноев ковчег — но ковчег XX века, который сейчас поднимется на воздух, вместо того, чтобы ждать полагающихся по библии дождей. Но поднимется ли? Наша законная норма 2600 кг; мы нагрузили 3 200. Правда, мы уже летали с 3 100 кг., и наверно поднимем и немного больше.
Из нашего экипажа летят все—четыре человека летного состава необходимы для управления самолетом; мы с Салищевым хотим воспользоваться этим исключительным по ценности полетом, чтобы заснять рельеф острова и произвести геоморфологические наблюдения. Если нам повезет и мы достанем на „Совете“ горючее — облетим вокруг острова, и сможем дать полное его описание.
„Савойя“ не летит с нами — у них горючего также в обрез, но они не решаются приливать в баки легкий бензин: командир „Савойи“ очень строго держится правил обслуживания самолета.
в четверть двенадцатого наша „Даша“, пробежав по воде немного больше обычного, поднимается над бухтой. Идем сначала вдоль берега острова, низко над узкой каймой воды; черные тучи нас давят и не дают подняться. Направо до горизонта полоса льдов, впереди — снег. Остров спускается к морю стеной утесов, под ними большие забои снега.
Утесы все повышаются. Впереди мыс Гаваи — высокая — стена. За ним берег поворачивает круче на северо-восток, и скоро кончается полоска воды: льды с этой стороны обступают остров вплотную. Но сейчас плохо видно — на севере снежная туча.
Наш путь лежит на восток, и придется отвернуть от берега. Немножко жутко: как мы найдем среди льдов, в тучах и снегу пароход? А если не найдем, и придется вернуться—откуда взять горючее, чтобы лететь еще раз? И затем: если сдадут моторы, и мы сядем на торосистый лед — что будет с девятью пассажирами, которые так доверчиво полетели с нами?
Скоро остров скрывается в тучах и вокруг только матовое белое поле, переходящее к горизонту в мутно-серое, сливаясь с небом. На льду никакой жизни.
Но проходит меньше сорока минут со времени вылета и прямо на востоке показывается темное поле открытой воды с неровными языками, и прижавшись к краю льдов стоит „Совет“ — маленькое черное пятнышко с хвостом дыма. Дублицкий добросовестно исполняет нашу просьбу.
„Совет“- стоит в довольно большой полынье, в которой ходят волны, и прежде чем сесть, Страубе делает несколько кругов, чтоб выбрать более спокойное и свободное от мелких льдин место. Палуба „Совета“ заполнена людьми, все высыпали наверх посмотреть на нас и помахать шапками и руками.
„Дорнье-Валь“ снизу выглядит очень мрачно—его подводная часть выкрашена в черный цвет, и среди полярных льдов и белесого неба он должен был произвести сильное впечатление на зрителей, в течение целого месяца видевших только море, льды и облака.
Наконец, место выбрано в соседней маленькой полынье, самолет снижается. Небольшая волна, мы подходим к кромке льдов и закрепляем якорь на льдину. „Совет“ идет к нам, огибая перемычку, а стоявший наготове моторной бот пробирается прямо. Но Пока он подходит, льдина, к которой мы пришвартовались, отделяется от кромки, и мы тащим ее за собой, дрейфуя по ветру. Откуда-то собираются еще мелкие льдины—но достаточно крупные, чтобы повредить наш хрупкий корпус (дюраль меньше миллиметра толщиной). Когда бот подходит к нам, мы в разгаре борьбы со льдинами.
В конце концов, льдины распихнуты багром и просто ногами, бот взял нас на буксир и мы идем вслед за „Советом“; он выбирает место для более спокойной стоянки. В середине полыньи нельзя стать на якорь, все время дрейфуют мелкие льдины, и Дублицкий решает, что лучше всего стать бортом к кромке льда, закрепиться якорями, а самолет подвести к борту.
Так и делаем. Но это не так просто: пока самолет подводится к борту, слева откуда то выползает льдинке и угрожает подкосам левой плоскости левой жабры. Только что мы отвели эту льдину—новое несчастье: конец левой плоскости коснулся борта, и с треском разлетается красная сигнальная лампочка. Все же удается раскрепить крылья двумя оттяжками, чтобы нос не ударялся о борт парохода, подложить кранец и самолет в сравнительно безопасном положении.
Начинается высадка. Радостные встречи — к одному из промышленников приехала жена и дочь, которые уже перестали надеяться в этом году увидеть его. Самолет разгружается от людей и груза, пухлые мешки с песцами вырастают в объеме, когда их вытаскивают из самолета и занимают половину верхней кают-кампании.
Капитан Дублицкий принимает нас в своей каюте и ра-спрашивает о состоянии льдов; то, что мы можем ему сообщить — крайне неутешительно: кольцо льдов настолько плотно, что, конечно, „Совет“ не может пробиться к острову. Дублицкий, после многочисленных безуспешных попыток почти пришел уже к такому заключению, но сознание необходимости доставить на остров людей, уголь и продовольствие не позволяет ему отступить до тех пор, пока невозможность пробиться не станет безусловной.
После торжественного обеда в кают-кампании устраивается совещание с участием, кроме прилетевших и комсостава корабля, нового начальника острова Астапчика и нескольких будущих колонистов. Цель совещания — решить, что должен делать „Совет“. Состояние судна далеко не блестящее: гребной вал с самого начала был с значительными дефектами, и в настоящее время судно не имеет возможности давать задний ход, а при форсировании льдов без заднего хода нельзя раздвигать льдины—ведь для этого надо сначала отступить для разбега. Таким образом, зажатый льдами „Совет“ неминуемо обречен на зимовку, а на нем, кроме команды, 63 колониста, из них 36 женщин и детей, для половины людей нет теплой Одежды.
Наш рассказ о состоянии льдов вокруг острова убедил совещание, что дальнейшие попытки пробиваться—бесцельны.
Так и было сформулировано постановление, но тем не менее, Дублицкий исполнил свой долг до конца, пробыл еще 6 дней у кромки льда, в надежде, что изменившийся ветер откроет проход к острову, и только 12 сентября, когда уже окончательно выяснилась недоступность Врангеля в этом году, пошел обратно в Владивосток.
Во время обеда и совещания меня все время мучило опасное положение самолета у борта парохода — время от времени льдины отрывались от кромки и грозили повредить самолет. Но нельзя было улететь, не произведя погрузку продовольствия для острова — и приходилось терпеливо ждать. К концу совещания в каюту прибежал встревоженный Страубе, и с обычной своей экспансивностью заявил, что надо немедленно улетать — льды придавливают самолет, и отталкивая их, матросы повредили руль высоты. Действительно кромка руля была несколько смята (повреждение пока еще не смертельное) и новая льдина теснилась к машине.
Совещание спешно заканчивается и мы один за другим соскальзываем по трапу в самолет. Концы отданы, лодка отбуксировала машину, моторы на этот раз заводятся быстро — и вот уже прощальный круг над „Советом“. Палуба снова полна людьми, но трудно с высоты 200 м различить знакомые лица. Курс — обратно, на запад, к мысу Гаваи, который сейчас хорошо виден. На северо-востоке виден и остров Геральда, мрачная скала среди льдов, круто возвышающаяся над торосами. Здесь предполагалось поселить нескольких колонистов.
„Совет“ все уменьшается. Сначала игрушечное черное суденышко у кромки сияющих льдов — потом черная точка на сером поле.
Как всегда на самолете, оставленное сзади сейчас-же забывается: смотришь вперед, на угрюмые утесы Врангеля, на злые льды, теснящиеся к нему. К сожалению, у нас нет горючего, чтобы облететь вокруг острова — приходится ограничиться наблюдениями над восточной частью острова и тем, что можно видеть издали, с юга. Тем не менее, на: основании этих наблюдений, Салищеву удалось составить карту острова, а мне дать его орографическое описание, значительно более полные, чем существовавшие
раньше,[6] На острове за несколько часов нашего отсутствия ничего не изменилось — стало только немного теплее. В бухте стоит зеленая „Савойя“ и нас на берегу встречает Красинский — он так часто посещал о-в Врангеля, как по воздуху, так и по воде, что чувствует себя здесь если не хозяином — то меценатом.
Было бы очень интересно пробыть на острове несколько дней и сделать геологическую экскурсию внутрь, к северной цепи — но уже начинаются заморозки, и нам надо спешить на материк, чтобы закончить там свою работу. Поэтому мы позволяем себе только короткий отдых. Еще немного-моржовой печенки и кофе — и в половине седьмого мы готовы к отлету.
Прощание с колонистами: они все собираются на берегу и я снимаю всех ручной кинокамерой.
После нашего отлета сразу станет на острове тихо и пусто — особенно для четырех русских.
Завезти с „Совета“ новых русских колонистов было нельзя — ведь для каждого на год нужно больше полутонны продуктов. А кроме того, для отопления домов нужен уголь, на острове его почти не осталось, и если старым врангельцам проведшим здесь от трех до шести лет, не трудно будет прожить зиму в ярангах, в пологах, отапливаясь тюленьим жиром, то для новых колонистов это было бы тяжелым испытанием. Из-за недостатка угля пришлось закрыть и радиостанцию—нечем было отапливать здание.
Но существование колонии зимой 1932–1933 г. не должно было быть тяжелым: за исключением необходимости зимовки в ярангах, колонисты ни в чем не могли испытывать нужды. Мы завезли дополнительное продовольствие, патроны, соль — в количестве достаточном для остающихся зимовщиков. И мы покидаем остров с сознанием, что до будущего года он обеспечен и что все, бывшее в силах для нашего самолета, исполнено.
Отходим от берега первые, но снова шалит Бристоль — и самолет долго дрейфует по бухте. В это время „Савойя“ кружит над нами, демонстрируя свое пилотное превосходство. Крутые виражи — снизу хорошо видны люди в кабинах. Отойдя немного от острова, „Савойя“ опять возвращается обратно. Наконец, отрываемся и мы, и летим на юг старым путем.
У острова чисто, и мы видим весь его южный фронт, мрачно чернеющий над льдами.
Снова сплошное кольцо льдов, затем большие полыньи и чистая вода—но тут начинаются облака и туман, мы поднимаемся над ним, и снова не видим ни моря, ни льдов. Впереди ничего утешительного: на материке громоздятся тучи. Не придется ли вернуться с перспективой остаться без горючего?
Ближе к берегу находим окно в тучах и ныряем ко льдам; на этот раз эти зубчатые торосы кажутся нам гостеприимными: ведь берег близко и мы, если не навалится туман, пройдем под низким туманом над самым льдом.
Нам повезло при возвращении: берег был закрыт туманом, но узкая полоса его вдоль моря, пляж и косы, были чисты, и мыс Северный высовывался черной массой навстречу.
Самолет благополучно достиг лагуны; здесь уже снизилась быстроходная „Савойя“, и мы могли снова собраться в холодной палатке на косе — на этот раз с сознанием исполненной серьезной и опасной операции, имеющей большое значение для государства.
Льды в проливе Лонга между Врангелем и материком видели многое: в них не раз у берегов Чукотки зимовали суда, пробиравшиеся с Колымы, и не раз смелый капитан, дойдя до пролива Лонга, должен был оставить надежду пробиться в этом году домой. Один только Дублицкий, много раз ходивший в Колыму, умел миновать эти льды и проводить судно без зимовки.
В январе 1923 г. через пролив Лонга по этим льдам пробирались к материку 3 смелых молодых человека.
Крауфорд, Маурер и Галле, приехавшие в 1921 г. на остров Врангеля по поручению канадского полярного исследователя Вильяльмура Стефансона, с целью далеко не исследовательской: они подняли на острове английский флаг и объявили его присоединенным к великобританским владениям.
Пробыв на острове полтора года и не дождавшись летом 1922 г. судна, они решили выбраться по материку Сибири к Берингову проливу, чтобы организовать новую экспедицию. Но при переходе на материк все трое погибли — как предполагает Стефансон, вероятно во время ночевки взломался лед и они потонули. На острове остался четвертый их спутник, Найт, но он к весне умер от цынги, и корабль спасательной экспедиции, пришедший летом 1923 г. к острову, нашел здесь только домашнюю работницу экспедиции, эскимоску Аду Блекджек с кошкой.
Стефансон продал свои права на остров Врангель аляскинскому „оленьему королю“ Карлу Ломену, и была оделена еще одна попытка колонизовать остров; туда завезли в 1924 г. одного американца и нескольких эскимосов.
Но в августе 1924 г. они были вывезены в Владивосток нашим судном „Красный Октябрь“, и с 1926 г. начался период интенсивной советской колонизации острова и положено начало использованию его природных богатств.
Экспедиция 1932 г. на пароходе „Совет“ была организована очень легкомысленно, это следует признать открыто, — чтобы избежать в дальнейшем подобных ошибок в столь важном и серьезном деле, как освоение острова Врангеля.
Акционерное Камчатское Общество (АКО), владевшее в то время Врангелем, отнеслось к этому вопросу без должного внимания. Для снабжения острова был выделен малопригодный пароход—рефрежираторное судно, специальные приспособления которого не позволили установить необходимые распорки для предохранения от ледового сжатия. Судно могло брать слишком мало угля—не более чем на 40 дней; имело чрезвычайно большую осадку, чугунный винт, который легко ломается во льдах, и, наконец, с самого начала состояние гребного вала было совершенно неудовлетворительно; поэтому, несмотря на ремонт в Петропавловске, после проникновения во льды судно лишилось заднего хода.
Несмотря на все эти дефекты, комиссии в составе капитана, начальника острова и других, осматривавшей судно перед выходом, пришлось согласиться на его использование для врангелевской операции, так как других более подходящих судов к тому времени не было.
К этим техническим дефектам присоединились и административно-хозяйственные. Как видно из ряда официальных документов, состав колонии совершенно не соответствовал потребностям острова.
Вместо охотников и промышленников на остров посылались советские служащие, совершенно непривычные к северным условиям и даже не собиравшиеся жить охотой — а надеявшиеся на какие-то мифические богатства острова С ними ехало множество детей и женщин. Материальное снабжение было неудовлетворительно, боящиеся сырости продукты были упакованы в фанерные ящики, полярную меховую одежду достали только в Анадыре — и то лишь для 50 % колонистов; в ящиках с оружием вместо 39 винчестеров, значащихся в накладной, оказалось 19, да и то подержанных.
В бухте Провидения предполагалось взять 12 семей эскимосов — но они не были подготовлены, и поехали лишь 3 семьи.
Начальник острова т. Астапчик был назначен за I 1/2 дня до выхода „Совета“ из Владивостока (до него в этой должности сменилось 2 человека) и, конечно, не только не мог изменить что-либо, но даже не успел ознакомиться с положением дел. Изучив дорогой состав колонии, он решил взять на остров из 48 европейцев не более 15, а остальных отправить обратно, как непригодных. Пятерых он снял с „Совета“ еще в промежуточных пристанях, как особо вредных (например фельдшерицу, которая оказалась только физкультурницей, и заведующего факторией — пьяницу). В числе колонистов не было и серьезных научных работников.
Все это не сулило новой колонии особенно хорошего будущего, и пожалуй, можно радоваться, что льды в 1932 г. были достаточно тяжелы.
Теперь, в связи с образованием Главного Управления Северного морского пути, которому переданы все полярные станции, в том числе и станция на острове Врангеля, положение должно резко измениться. В составе ГУСМП полярными станциями ведает тов. Ушаков, проведший 3 года на Врангеле и 2 — на Северной Земле, и хорошо знающий все нужды острова Врангеля.
В 1933 г. в виду отсутствия на Дальнем востоке подходящего судна, было решено на остров Врангеля колонистов завести с запада, на ледокольном судне „Челюскин“, которое должно было пройти северовосточным проходом. Оно благополучно совершило этот путь, но, как известно, замерзло во льдах невдалеке от Берингова пролива, и после дрейфа было раздавлено к северу от мыса Сердце-камень.
Снова вместо посещения Врангеля судном пришлось направить туда самолеты. Врангель видел в этом году 2 самолета Главного Управления Сев. мор. пути; в начале августа прилетел туда на „Н8“ пилот Леваневский. Главную операцию совершил самолет нашей экспедиции, Юнкерс-Гигант „Н4“
По окончании наших работ в бассейне Анадыря, летчик Ф. Куканов направился на этом самолете на северное побережье для ледовой разведки и проводки судов. В конце августа — начале сентября он дважды летал с мыса Северного на остров Врангеля, вывез оттуда всех русских и трех эскимосов, и завез радиста Траутмана и бортмеханика Демидова для обслуживания радиостанции, и продукты для зимовщиков.
Опыт этих двух лет показывает, что снабжение острова Врангеля должно итти все таки с востока.
Нужно иметь довольно мощное ледокольное судно, даже не ледокол, которое в большинстве случаев сможет пробиться через сравнительно небольшое кольцо льдов у самого острова.
12 ДОМОЙ — В АНАДЫРЬ
Серое, обыкновенное небо, низкие
почти прилипшие к земле тучи; бурые
горы, бурая тундра, бурый берег.
Лоция Северо-западной части Великого океана
Не так-то просто выбраться с мыса Северного. Прежде всего в лагуне нет горючего, и надо перевезти его из фактории. Поэтому вскоре после прилета, часов в девять вечера я ухожу на факторию. Это оказывается, тоже не так просто. Я считал, что 12 километров—два часа ходу, особенно „по холодку,"-а здесь этого холодка с избытком. Но итти по рыхлой гальке и по болотистой тундре совсем другое дело, чем по хорошей тропинке, и уже в глубокой темноте, все замедляя шаг, я вытаскивал ноги из гальки, сбрасывая с себя постепенно теплые вещи, и смотря с нетерпением на огонек впереди. Только к полночи добрел я до огонька—до яранг по сю сторону мыса, возле утеса Вебера, и сел отдышаться у берега. Какие то бочки—явно с бензином—ждали перевозки к самолету. С моря теснились льды, и среди них вдруг раздался ровный стук мотора: эта байдара с подвесным архимедом. Наверно она везет горючее—ведь мы пролетели сегодня над факторией и нас видели. Постепенно начинает чернеть тело лодки, раздаются голоса, и на гальку с шуршанием высовывается нос байдары. В байдаре местный чукча-моторист, и с ним учителя и предрика из Чауна: они недавно на байдарках прошли сквозь льды от Уэлена до Северного, обогнав даже в Ванкареме „Савойю“, которая слишком долго сидела там, пережидая погоду.
Они взялись помочь в доставке бензина к самолетам. Сейчас они хотели вернуться обратно в факторию, а байдара должна была притти сюда утром и тогда уже заняться перевозкой бочек к посадочной лагуне.
Я поехал с ним на факторию—слишком скучно было брести ночью по тундре. Проход у утеса Вебера забит льдами, и здесь я увидел, как чукчи передвигаются вдоль берегов. На льдину становится несколько человек, упираются шестами, веслами, ногами в соседнюю, она медленно отползает и в щель вводится байдара; затем очередь другой льдины, и так без конца. Только во втором часу ночи добрались мы до фактории. Пришлось будить заведующего, чтобы найти приют; у него уже спали два каких то странника. И наверно, весь год кто нибудь будет приезжать — по делам или за покупками — и гостить по неделям, задержанный метелями, продолжающимися здесь иногда по 10–20 суток.
Обратный путь на байдаре занял почти весь лень: надо было добраться до утеса Вебера, поднять тяжелые бочки в хрупкую байдару (которая при этом хрустела зловеще и сломалась в двух местах), потом плыть 10 км среди льдов. Начали плавание с мотором-архимедом, без паруса, и архимед испортился (экспертиза Крутского установила потом гибель какой-то шпонки).
На счастье, ветер дул попутный. Я показал чукчам, как из десяти метров материи, которая была у нас, и весла, воткнутого в нос, можно сделать шпринтовый парус по образцу Финского залива. Мы потащились, то с парусом, то распихивая льды, то даже бичевой. Красинского, который был с нами, окончательно заморозили и он взмолился отпустить его пешком.
Лишь к вечеру добрались мы до лагуны и до ночи заправляли машину. Утром 8 сентября — те же низкие тучи, что и вчера, к тому же зверский, неистовый ветер, хотя и попутный. „Савойя“ улетает утром на восток в Ванкарему, у нас не все в порядке и мы задерживаемся. Снег все больше и больше набивается в лагуну, и начинает образовываться „снежура“, эластичный покров, колеблющийся вместе с водой, постепенно нарастающий и грозящий обратиться в настоящий лед. Самолет обволакивается этой полужидкой — полутвердой кашей, ползущей от берега в лагуну. Моторы не заводятся: за эти два дня, что мы работаем здесь, моторы заводились все хуже и хуже; они сильно промерзают, и потом, чтобы разогреть их, нужны целые часы. Наконец, при общем вздохе облегчения, моторы завелись, но после круга по лагуне, останавливаются опять и нас втягивает ветром в поле „снежуры“.
Крутский сердито гремит ключами, — надо развинчивать бензинопроводы, в них образовались ледяные пробки: это от бензина, который на морозе жадно поглощает воду, неуловимую нашим скверным замшевым фильтром. Опасный признак: если такие пробки окажутся при перелете через горы — неминуема авария.
В час дня все исправлено, моторы завелись, мы вырываемся из „снежуры“, которая выросла уже на сотню метров, и летим на восток: путь через горы на юг и возможность кругового полета на запад в неизвестную область арктического склона Анадырского хребта, о котором я мечтал, при такой погоде исключена.
Бешеная скорость — по ветру мы идем до 200 км в час. Как всегда последние дни бреющим полетом. К этому мы привыкли, но сегодняшняя скорость все же пронимает.
Мелькают опять льды, теснящиеся к берегам, лагуны, забитые снежурой, яранги, чукчи, поспешно прячущиеся под полог при виде надвигающегося чудовища, разбегающиеся олени. Временами совсем плохо видно — снег сечет, и как это ни возмутительно, сечет спереди и залепляет козырьки, хотя шторм попутный.
Холодно, как и все эти последние дни на северном побережьи. Всегда ниже нуля, на высоте температура до —15 град., и стынут ноги, а особенно замерзают руки, когда пишешь. А писать и фотографировать приходится беспрерывно. Сегодня, конечно, когда мы летим в белесой мгле, писать почти нечего — и можно греть руки в теплых рукавицах.
Через час и четыре минуты мы в Ванкареме. „Савойя“ сидит в воде, на мели — в заливчике. Мы пытаемся пройти дальше, в Уэлен. Впереди стена тумана, густого, добротного тумана. Тщетно Страубе старается пробиться через него — как только мы отрываемся от узкой косы мыса Ванкарем, все исчезает кругом, и лишь внизу чуть блестит матово вода. А впереди в этой толще тумана скалы мыса Онман!
Приходится вернуться. Вираж — низко над землей, левым крылом к фактории и посадка у „Савойи“.
Подойти к берегу нельзя — мелко. Выходим пешком — у кого крепкие сапоги, верхом — у кого сильные друзья, и наконец, в маленькой байдаре, которую пригнал мальчишка-чукча — те у кого нет ни тех, ни других.
Далее — томительные часы ожидания в Ванкареме: снег, туман, временами немного проясняется, но дальше ближайшего гранитного бугорка на мысу ничего не видно.
В Ванкареме несколько яранг, амбар и маленький домик фактории. Кроме хозяев набились все мы — экипаж двух самолетов, одиннадцать человек, и когда мы ложимся спать на неизбежные оленьи шкуры — некуда ступить. Ночью храп на все лады, то тонкий, то густой, и мрачные мысли о будущем, о невыполненных полетах, о достижении Анадыря.
Следующий день такой же тоскливый, туман, снег. К одиннадцати часам становится невтерпеж, туман как будто раздергивает, видно устье лагуны и мы решаемся попробовать.
Взлет; круг над устьем лагуны, но дальше такой же плотный туман, как и вчера, и ничего не видно. Через две минуты приходится вернуться, новее же стало немного легче, энергия нашла себе разрядку.
10-го сентября день замечательный, безоблачное небо. Заведующий факторией — чернобородый мужчина, которому мы бросали почту — говорит, что здесь такой день редкость. Мы спешим воспользоваться этой исключительной погодой и в 7 ч. утра мы уже в воздухе.
Прокладка пути сделана прямо отсюда на залив Креста, 130 миль по суше; мы увидим главный хребет Чукотского полуострова и гору Матачингай. Если не позволят тучи — пойдем на юг, на бухту Руддера.
Набираем тысячу метров; облака на юго — западе высокие и позволяют перейти к Кресту, но восточнее на горах лежит вплотную низкая облачность и верхний слой постепенно сливается с нижним в слоенный пирог. Тем не менее командир самолета решает итти по более короткому пути — на бухту Руддера.
Снова Матачингай и вся центральная часть страны уходит от нас, и никогда я не увижу, как устроен арктический склон Анадырского хребта — ведь все эти шесть дней полетов по побережью, кроме лагун при бреющем полете, я не видел ничего.
Но и этот маршрут для нас новый. Сначала—прибрежная северная равнина с озерами, затем обрыв Анадырского хребта, который уходит к западу блестящими от снега грядами. Здесь настоящая зима, все сверкает и на высоте полутора тысяч; мы мерзнем неистово.
Проходим вдоль Колючинской губы. Вот в ее южном конце та коса, на которой лежит злополучный „Советский Север“. Этот самолет, родной брат нашего, должен был сделать в 1928 г. грандиозный перелет — от Владивостока по побережью Полярного моря до Ленинграда. На борту был организатор этого рейса, Красинский, пилоты Волынский и Кошелев. Дойдя благополучно до Колючинской губы, самолет был здесь захвачен врасплох штормом. Стравили весь сжатый воздух (тогда на этих самолетах не было еще Бристолей), не смогли завести мотора — и беспомощную машину дрейфовало два дня на юг по губе, пока не выбросило на косу в измочаленном виде. Летчики добрели полуголодные и оборванные до первых чукотских жилищ.
К югу от Колючинской губы мы пересекаем ту же страну расчлененных гор, что и в прошлый раз, когда мы летели от Руддера к Мечигмену. Долины с озерами, болота, красные пятна на горах.
Впереди грозная преграда туч, лежащих сплошным слоем на горах. Мы идем над ней десять, пятнадцать, двадцать минут — впереди все та же пелена сияющих волн. По расчету мы уже над бухтой Руддера. Сколько придется еще итти, пока не встретим окно? Но оно близко — через 15 минут под нами темное пятно, и самолет ввинчивается в него спиралью все ниже, и ниже, кажется, спуску не будет конца: тучи почти лежат на воде.
Мы где то к югу от бухты Руддера, и можно итти прямо в Анадырский лиман. Сразу стало тепло, потому что ушли на юг от грозных пург, и зимы, и льдов. Горы — без пятен снега, трава желтеет по склонам.
Низко над водой, бреющим полетом идем на запад. Птицы не успевают спасаться от нас — и раза два Страубе отворачивает машину от слишком легкомысленной чайки: она хочет попасть под винт, а при ее жестком телосложении это привело бы к печальным последствиям не только для нее самой.
Сегодня опять не увидим знаменитой горы Матачингай, и даже не увидим Золотого хребта — мы скользим вдоль моря, у подножия гор, и под нами мелькают яранги, крутой берег. Над Русской Кошкой, входом в Анадырский лиман, круто поворачиваем, скользим над травой склона — и вдоль, через кошки, яранги, угольные копи, домой — в Анадырь.
У комбината стоит пароход, Страубе виражит над ним чтоб увидать его название.
В комбинате на треск моторов выбегают наши базовые сотрудники, которые переждав все назначенные сроки, отчаялись увидеть нас когда — либо.
13 ВЫРВЕМСЯ-ЛИ?
Страшно подумать об обратном пути
Роберт Ф. Скотт.
Наши моторы честно отработали положенные им 100 ч… и надо их заменить новыми и отправить на „материк“ (как говорят в восточных водах) для переборки. Смена моторов, если все пойдет гладко, не очень долгое дело и дней через 6 мы сможем начать регулярные полеты для съемки округа, базируясь на реке Анадырь. Прежде всего пролетим в Маркове, 700 км вверх по реке, куда у нас уже давно послано горючее. Мы будем иметь для работы; дней 7, и если за это время сделаем 5 полетов — то хоть в грубых чертах наметим основные линии края и отчасти выполним намеченный план работ, почти сорванный аварией на Ангаре и полетом на Врангель.
На пристани начинают ставить стрелу для подъема моторов. Моторы в громадных ящиках, каждый весит 800 кило, и надо десяток людей, чтобы передвинуть их на кунгас.
11 сентября чудесный, ясный день, стрела еще не готова, и мы решаем использовать остающиеся в баках 800 литров горючего, чтобы сделать круговой полет на север. Короткий и легкий, всего три с половиной часа, этот полет был одним из самых удачных. Мы пролетели над озерной равниной Анадыря, над его притоком Канчаланом, лениво извивающимся среди озер и болот — непроходимых и бесконечных болот—и достигли главного Анадырского хребта, покрытого сейчас снегом, взъерошенного тысячами острых вершин. К сожалению, ограниченный запас горючего не позволяет пойти дальше и перевалить через хребет на его таинственный и недоступный арктический склон.
Назад — по долине другого притока Анадыря, Танюрера, такой же озерной и болотистой. На западе за ней мрачно высится в тучах хребет Пекульней, острая пила зубцов и пиков, перегораживающая бассейн Анадыря, навстречу подобной же узкой пиле, хребту Рарыткину, идущему с юга.
Со следующего дня начинается смена моторов. Сначала все идет складно и быстро. Моторы плавно ползут на блоках, поднятые стрелой из моторной гондолы, на место им становятся новые, свежепокрашенные, похожие на каких-то гнусных, громадных насекомых из прошлых времен, или на двенадцатилапую чудовищную мокрицу.
Я снимаю эту операцию двумя фотоаппаратами и маленькой кинамкой — но это не очень помогает делу: после того, как арматура моторов присоединена, наступает длительный и безнадежный период неполадок: на пробном полете моторы не дают полного числа оборотов, потом начинает гореть карбюратор, свечи оказываются старым, негодным хламом. Бристоль, починенный Крутским в Уэлене, снова сдает — и так, день за днем Крутский и Косухин проводят все время на самолете.
А пока что почти ежедневно на западе видна зубчатая цепь хребта Рарыткина, сначала черная, потом белая от снега. „Рарыткин опять смеется“ говорит Страубе утром, и я отворачиваюсь от окна, чтобы не видеть насмешливой улыбки хребта.
Между тем наступила осень. По моему плану, только до 20 сентября мы должны были базироваться в Анадыре — и в самом деле, летние восточные ветра сменились западными и северозападными, от которых стоянка в комбинате совершенно не защищена.
Уже 13 сентября сильный ветер мешает работам, и мы теряем один из наших складных якорей — ломается скоба. 20 сентября приходится взять в комбинате простые якоря и поставить самолет на 4 якоря.
22 сентября сильный шторм с запада бьет самолет — он качается на волнах и чертит крыльями по воде. День и ночь, вверх и вниз, в результате в днище выбито несколько заклепок, и появляется течь. Приходится уйти на ночь под другой берег лимана, под Тонкий мыс; наши летчики, взяв с собой для увеселения виктролу, ночуют там в яранге у эскимоса Папки.
Остальные остаются в комбинате. Мы живем здесь в одной из комнат столярной мастерской, которую управление рыбными промыслами любезно нам предоставило.
Здесь у нас топчаны (койки), длинный стол, на котором играют в традиционную морскую игру — козла (домино) и даже печка, которую можно топить местным углем. Но, к сожалению, мастерская рассчитана на лето, пол и стены со щелями, и когда дует вест или нордвест, то печка бессильна поднять температуру, и только в спальных мешках находишь спасение от ветра.
23 сентября с вечера начинает падать барометр — и на следующее утро уже воет шторм с норда, со снегом, с пургой и поземкой. У нас холодно, но самолету пока хорошо, он укрыт с севера изгибом берега.
Весь день падает барометр, ветер, все крепчая, по всем правилам циклонов поворачивает против часовой стрелки. Я предсказываю западный шторм, но мне не хотят верить, уж очень это некстати.
Вечером попасть на самолет уже нельзя — волны слишком велики для здешней маленькой лодки. Утром мы просыпаемся, заваленные снегом: во все щели надуло сугробы и местами они толще полуметра. Фотолаборант Филома-титский закрыт пеленой снега, и вся стена над ним—в белых фестонах. Барометр упал неслыханно: 727 миллиметров.
Но нам некогда предаваться печальным размышлениям об эфемерности нашего жилища. В 8 часов утра прибежал береговой матрос с сообщением, что самолет сорвало. Несмотря на четыре якоря, машину тащило быстро и неотвратимо к полосе прибоя. Но попасть на него и сейчас нельзя — единственная лодка, уцелевшая до осени, ночью разбилась о пристань. Приходится ждать, пока хвост самолета не коснется пляжа — и затем экипаж, один за одним, по пояс в воде, начинает карабкаться на хвостовое оперение.
Жители комбината, которые все время принимали большое участие в судьбе самолета, сбежались на берег, и мы общими усилиями, в набегающих одна за другой холодных волнах, держали самолет за хвост и за растяжки, чтобы не дать ему повернуться крылом на берег.
Надо навести мотор, — но разве при такой температуре моторы заведутся сразу? Особенно когда это действительно спешно? И вот сорок или пятьдесят минут в бешенном шторме, бьющем в лицо песком и снегом, в белесой мгле, среди холодных волн — мы ждали, держась за хвост и отталкивая его от берега. Наконец, пускается в ход остаток сжатого воздуха и винт закрутился. Самолет уходит под тот берег, к Папке, здесь стоять безнадежно, два якоря уже совсем утеряны.
Самолет уходит, быстро скрываясь во мгле, а мы возвращаемся в наше полное снегом логовище. Теперь надо выбросить этот снег, хоть немного закрыть дом снаружи (опрокинутыми столами, например) и отправить кого-нибудь пешком к Папке с теплыми вещами: ведь летчики промокли, а вода сейчас на ветру сразу замерзает, и пока они дойдут до того берега, все у них обледенеет.
Но едва я снарядил Филоматитского и Михайлова—как в пурге показывается самолет: не видно, вращается-ли винт, но машину дрейфует к песчаному берегу в километре южнее комбината. Я бегу в комбинат собирать людей, и затем на берег — конечно, с двумя фотоаппаратами и кинамой: надо же фиксировать события.
Самолет уже повернулся хвостом к берегу, и волны выкидывают его на пляж. Он в ужасном виде — лед покрывает всё, и фюзеляж, и стойки, и даже крылья. Везде кора льда, местами до 10 см толщиной и длинные сосульки. На летчиках—также ледяная кора: у Страубе на фуражке целая ледяная каска (выбегая из дому, он не успел захватить кожаный шлем). В самолете везде вода, и в ней плавают меховые сапоги, брезенты, рукавицы.
Мы вытаскиваем насколько возможно хвост на пляж и закрепляем крылья якорями. Так самолет будет стоять крепко — и лишь носовую его часть обдает вал за валом, и ледяная кора нарастает все больше.
Под тем берегом, оказывается стоять не лучше — ветер так силен, что и туда заходят волны, сталкиваясь беспорядочной толчеей. Решили лучше итти и выброситься на плоский берег.
Пока летчики ходят отогреваться и переодеться, мы возимся с самолетом, потом отливаем воду — в пилотской кабине ведер 30, там выбит ряд заклепок.
К ночи с приливом самолет вытаскиваем еще — и он сидит как будто прочно.
На утро — совершенно другая картина: яркое солнце сияет в снегах, и везде лед — вся бухта на 500 м от берега покрыта сплошным льдом; а дальше шуга, и лишь где-то там среди бухты белые гребни неутихающего шторма. По льду можно ходить. „Даша“ теперь сидит в спокойной гавани — ей не страшны никакие волны. Вот они вчерашние наши враги — замерзли на берегу в виде валов снежуры и льда, набросанных за ночь.
Наш самолет не один в таком положении, вблизи лежат два кунгаса, наполненные до верху льдом, а груз из них — макароны, рис, сухари — рассыпаны по всему пляжу. Какой-то рабочий собирался совершить свадебное путешествие на 2-ую базу АКО и все его приданое также раскидано по берегу.
У утесов, к северу от комбината, лежит с пробитым боком катер. Он прибежал сюда из Анадыря — скрыться от северного ветра под утесами, и попал в западный шторм.
Положение наше становится все более тяжелым: если не разойдется лед, мы скованы здесь до весны! И наиболее экспансивные члены экспедиции строят планы, как мы, подобно Амундсену, расчистим площадку на льду, и все же улетим (ведь Амундсен летел к полюсу в 1926 г. на двух таких же „Дорнье-Валь“).
Пока надо подготавливать машину к отлету: лед стал при отливе, и когда прекратится ветер, сгоняющий воду из лимана в море, нормальный прилив может взломать лед. Крутский и Косухин берутся за свое ядро каторжника — за кормовой мотор, а мы начинаем счищать лед с самолета. Надо обить осторожно сосульки с плоскостей, не повредив полотна, которым они обтянуты, соскоблить с них кору отбить везде этот блестящий и красивый панцырь.
На следующий день, 27 сентября, ему удается высадиться в северной части бухты, и он приходит к нам пешком. Вырабатывается диспозиция на следующий день: пробивать дорогу самолету через заберег на чистую воду. Предприятие тяжелое—нужно пробить дорогу шириной метров 6–7 и длиной в полкилометра. К счастью эта героика оказалась излишней: вечерний прилив при слабом восточном ветре начинает относить лед от берега — и мы, не веря еще в такое легкое решение, бежим скорее к самолету, чтобы подвести его по открывшемуся каналу к комбинату.
С торжеством, в темноте, блудный сын (вернее — дочь) возвращается к своей старой стоянке. Ночью лед тихонечко выносит—и утром бухта чиста, вода блестит „как зеркало“ (так принято ведь писать о воде) — и только макароны разбросанные по песку и розовое одеяло на пляже напоминают о минувшей драме.
В эти дни наше жилище в столярной мастерской становится настоящим логовом — мрачным и холодным. Нагреть его при западном ветре невозможно, и хотя мы непрестанно жжем уголь и ящики из под бензиновых бидонов —
У нас даже не просыхают вещи, а с меховых сапог Косухина висящих под потолком, спускаются длинные сосульки, нарастающие с каждым часом. Некоторые из нас убегают ночевать в теплые квартиры служащих комбината, — но остальные твердо держатся за свой очаг, почти английский „home“, если судить по углю и холоду.
Во время ледового пленения был налажен, наконец, кормовой мотор, и на 28 сентября назначаем полет в Марково — чтобы посмотреть хоть раз внутренние части страны. Но и здесь ждет неудача: теперь носовой мотор сбавляет обороты из-за плохих свечей, и только после их основательной чистки удается сделать небольшой полет над лиманом. Пассажиры, которых мы взяли лететь в Марково, принуждены удовлетвориться зрелищем весьма неутешительным: заливы лимана начали замерзать, по Канчалану идет шуга. О полете в Марково нельзя и думать, тем более, что, по сообщению командира, свечи моторов не прослужат более 25 часов. Бристоля хватит на 10 стартов, кормовой винт (уже раз смененный в Анадыре) расщепился, и хорошо, если удастся вырваться на юг и пролететь до Хабаровска.
Время для обратного пути, конечно, более чем законное — по плану, уже 20-го мы должны бы уйти отсюда, и я ничего не имею против того, чтобы назначить отлет на завтра. Но завтра моторы опять не додали оборотов, и день прошел частью в катаньи по заливу, на редане, а больше в чистке свечей и прочего.
Только 30 сентября в час дня самолет оторвался, без пробного полета решительно полетел на Анадырь, и сделав над ним прощальный круг, пошел на юг.
Наши базовые сотрудники, которых мы не могли взять на самолет, должны были выехать на пароходе. Аэросъемщик Дзержинский выехал еще с последним пароходом в середине сентября — невозможность вести аэросъемку выяснилась уже тогда, а за остальными сотрудниками и за нашими тяжеловесными моторами очень любезно согласился зайти на „Совете“ Дублицкий, который к этому времени уже отказался от надежды пробиться к Врангелю. Поэтому Филоматитский и Михайлов остались с грузом в Анадыре, несколько волнуясь при мысли, что лиман замерзнет раньше, чем придет „Совет“. Но через день после нашего вылета они были уже на пароходе. С ними мы отправили весь лишний груз, чтобы облегчить самолет, и Петров с удовольствием избавился от радио, от „Степки“ (моторчик для радио) и трубки Герца (прибор для определения сноса) — инструментов вредных, почему-то неработающих и к тому же тяжелых.
14 НА ЮГ СКВОЗЬ ПУРГУ И ШТОРМЫ
Когда мы поднялись 30 сентября над Анадырским лиманом кругом все было уже белое. Та теплая страна, которая после возвращения с мыса Северного показалась нам южным раем, Крымом, чуть не Африкой, сейчас сияла на солнце, искрились скаты горы Дионисия, замерзли речки, озера, маленькие лагуны и только в больших еще лениво ползло сало. Всюду на водоемах страшная белая пелена, на которую нельзя сесть — она разрежет хрупкий дюраль, как бумагу.
Но моторы стучат хорошо, и кажется сегодня мы в самом деле вырвались из Анадыря, и не придется больше строить планов зимовки, обсуждать вопрос — как лучше предохранить машину от коррозии, нужен ли ангар, какой самый короткий путь на собаках в Петропавловск, и т. п.
Однако, и воздушный путь сегодня будет не легок: Коряцкий хребет покрыт тучами, через него прямо не пройдешь, и придется огибать все длинные полуострова. Сегодня не дойдем до бухты Корфа, ведь уже второй час дня. Но и вдоль берега, где мы пойдем, не все хорошо: с хребта сползают снеговые тучи, и мы врезаемся в пургу, в муть, в которой ничего не видно. Призрачные силуэты утесов, темная и холодная вода, и белые стаи острых снежинок, которые неистово режут лицо, если высунешься за козырек.
Сегодня я сижу вместе с Салищевым сзади, в кормовой кабине, почти пассажиром — мы не будем вести наблюдений на этом пути, уже виденном и я не хочу нести ответственности за ведение самолета. Здесь теплее сидеть, не так замерзают ноги, зато можно в полной мере насладиться нестерпимым воем мотора.
Мы пробиваемся через заряды снега (так называются они технически) идя на небольшой высоте вдоль черных отвесных утесов с хорошо выделяющимися складками песчаников и сланцев. То открываются долины с лагунами уходящие внутрь хребта, то снова ничего не видно, кроме крыльев и воды под нами.
Но вот и конец первого полуострова — мыс Наварим, острый и тонкий утес. Это-граница двух областей раз ной погоды, за ним светлее, тучи отходят. И мыс дает нам почувствовать свое климатическое значение: самолет вихрями ветра подбрасывает дважды как перышко, и едва удерживаешься плечом о борт кабины.
Громадная дуга Коряцкого хребта тянется томительно долго, места уже знакомые и потому немного скучные. Вот наконец, красивая бухта Глубокая и дикие мысы возле нее, и соседние фьорды. Олюторский полуостров тоже покрыт облаками, и нам удается срезать только его кончик. Уже темнеет — мы вылетаем из мрачных гор в Олю-торский залив, к рыбалке, приютившейся у лагуны. Мне думается: „Хорошо бы сесть здесь“ — но самолет летит дальше: хотят наверно дойти до Корфа. В середине Олю-торского залива крутой поворот вправо к лагуне у устья реки Пахачи: решено ночевать здесь. Лагуна мелкая, превосходно видна извилистая глубокая борозда, которая идет от реки к устью лагуны. Страубе долго кружит над ней, и наконец решается сесть вблизи устья, к ужасу трех коряков, которые едут в лодчонке по лагуне.
Мы опять убежали от зимы: уже у мыса Рубикон кончился снег на горах, а здесь высокая трава, тепло, ветерок — почти зефир, а не борей Анадыря и Северного, который проникает даже в дома. Наступает ночь — и холодает. Но ведь можно даже зажечь костер — здесь на берегу валяются стволы и сучья, принесенные рекой. И пламя освещает серые плоскости самолета и чайник у костра. Как давно я этого не видел!
Заснуть можно не плохо, но для облегчения самолета спальные мешки оставлены в Анадыре, и будет прохладно. Страубе огорчен, что не долетели до Корфа, и обещает всю ночь просидеть в пилотском кресле. И, к сожалению, сдерживает обещание — как мы узнаем утром по чересчур ранней бодрости его криков.
Но крики его преждевременны—все равно низкие тучи стелятся по морю. На востоке поблескивают в утреннем солнце горы, а на западе мыс Говен хмуро прячется то в черные тучи, то в снеговые разлапистые полосы.
Брожу по косе; на ней типичная коряцкая постройка для хранения рыбы: шалаш на платформе, покоящейся на жердях. Вход к нему — по вертикально стоящему бревну с зарубками.
Дальше на взморье обрывки канатов, куски досок, раковины во множестве—здесь море, населенное в изобилии животными, и эксплоатируемое человеком.
В 10 ч. на западе прояснилось немного, но все еще снеговая туча тянется перед Говеном. Но уже можно и лететь. Пока мы собираемся приходят три коряка. Ровдужные серо-желтые кофты, ноги в обтянутых ровдужных штанах, желто-серые лица в приветливых морщинах. Разговор очень короток и немногословен: можно перечислить знакомые обоим сторонам географические названия. Самолет отходит от берега. Коряки стоят в токе воздуха от пропеллеров, и им доставляет детское наслаждение падение одного из них, летящие сучья, ветки, задравшиеся полы их облезлых парок.
Пересекаем залив к мысу полуострова Говен. Через 15-минут — встречаем снежную тучу: она все же никуда не ушла. Мы летим низко, привычным бреющим полетом. Снег залепил козырьки, Страубе, который ведет машину (они с Косухиным чередуются по часу), должен высовывать голову за козырек, чтобы посмотреть вперед. Петров решает вернуться обратно в лагуну, чтобы переждать погоду. Крутой вираж над самой водой — и после поворота машина сразу падает на воду. Резкий удар — с моей стороны видно, что мы сейчас упадем, я упираюсь руками в перекладину, и успеваю только кивнуть Салищеву головой; он разбивает очки о борт. Мгновение спустя самолет отскакивает от воды (это называется „барснуть“) и с ревом начинает набирать высоту. Но я уже не вижу этого — в момент удара я повернул голову назад, и увидел сквозь открывшуюся от сотрясения горловину хвостового отсека, что дно самолета пробито, в него хлещет вода — а секунду позже в пробоину виден серый свет. Дыра — в четверть метра, все дно покороблено. Я мчусь немедленно в нос — сообщить о пробоине летчикам. Кабина загромождена ящиками, которые свалились на середину при ударе; я как то непостижимо быстро перескакиваю через них, и проскальзываю через горловину в боковое отделение — через горловину, в которую в обычное время едва могу протиснуться. Передаю записку Страубе: „Пробито дно перед рулем. Вода хлещет“. После короткого совещания с командиром, решают — повернуть опять вперед и лететь до бухты Корфа. С такими повреждениями, которые мы получили, посадка в безлюдной лагуне кончилась бы гибелью самолета. А повреждения, как выяснилось потом, очень серьезны. Удар о воду пришелся по правой стороне, и она сильно смята. Сломано и согнуто 6 шпангоутов, смяты две переборки, область второго редана перед рулем вся разрушена, дюраль вдавлен внутрь корабля клочьями. И даже погнута одна из стоек, поддерживающих моторную гондолу.
Что же случилось? Говоря техническим языком, самолет при вираже потерял скорость, она понизилась со 150 км до 90 км, а такая скорость недостаточна для поддержки в воздухе.
Машина ударилась о воду, имея при этом еще вынос на право (центробежная сила при левом вираже). В момент удара Страубе успел дать полный газ моторам, они послушались, забрали, и самолет, на наше счастье, ограничился первым „барсом“ — на втором хвост был бы наверно залит, и волна потащила бы нас к берегу, в полосу прибоя, где машину обезобразило бы в одну минуту.
А если бы удар о воду был сильнее — от машины вообще ничего бы не осталось.
Следующие два часа были не очень приятны: снова сквозь пургу, мимо скал полуострова Говена, бреющим полетом на разбитой машине — с мыслями о предстоящей посадке, и неминуемом затоплении всех задних отсеков. Мы подготовляемся, подвешиваем багаж и инструменты к распоркам, поднимаем продовольствие на баки с бензином. Опыт „Советского Севера“ говорит, что пробитая машина затопляется лишь наполовину — ее держат пустые бензиновые баки и жабры — но и эта перспектива мало приятна.
За мысом нас ждет небольшое утешение: здесь облака выше и можно итти на высоте 100 м. Но томительно тянутся минуты, и всеобщая радость встречает селение Тиличики.
Вираж — осмотр КОС: где помельче. Петров решает выброситься на косу с внутренней стороны, со стороны лагуны против Тиличиков. Из закрытой горловины отсека, и со дна в разных местах хлещет струями вода — но здесь уже совсем мелко. Можно выбрасывать вещи на берег.
Вскоре задние отсеки наполняются сантиметров на сорок и хвост садится на дно.
Теперь мы имеем, наконец, возможность поговорить до сыта, выяснить—что и почему, узнать всю тяжесть нашего поражения, и начать строить планы на будущее; ведь бухта Корфа приют не более, чем на дней 20–30: скоро и здесь настигнет нас зима.
Оживленно дебатируется вопрос—затонет ли самолет, если переводить его на буксире в Тиличики, или нет. Переводить страшно, и решено зачинить его сначала вчерне здесь. „Соединенными усилиями мы втаскиваем хвост на берег.
Тащить тяжело—мешает редан, в машине больше двух тонн воды. Как только нос попадает в воду он начинает наливаться с тихим журчанием: в пилотской кабине сломан шпангоут, помята переборка и выбиты заклепки.
Самое спокойное было бы, конечно, погрузить самолет на пароход. Но очень больших пароходов к востоку от Камчатки нет, а чтобы поднять „Дашу“ на те, которые здесь ходят, надо снять ей крылья. В условиях стоянки пароходов, у Тиличиков, в открытом с моря заливе — это наверно кончится поломкой машины.
А кроме того, всем хочется долететь до Хабаровска, и довести машину лётом до тамошних мастерских, чтобы сохранить ее от случайностей перегрузки.
Но это все впереди. Пока же насущный вопрос зачинить машину настолько, чтобы она могла держаться хотя немного на воде.
Со следующего дня Крутский и Косухин с артелью плотников приступают к латанью дыр. Здесь уже приходится отступить от принципов авиации, первый из которых — легкость материалов. Делают прочную болванку из сбитых одна с другой досок—по форме дна в хвостовом отсеке.
Она закроет всю громадную пробоину; снизу болванку обобьют листом оцинкованного железа, проконопатят паклей зальют варом и смолой — по всем правилам лодочного дела, и если самолет после не полетит — то что же ему еше нужно?
С такой пробкой, с деревягами вместо сломанных, шпангоутов, и с хорошей порцией воды, которая будет все равно набираться при взлете (давление на дно ведь колоссально) нам необходимо облегчить машину. Салищев соглашается уехать дальше на тральщике, стоящем невдалеке у угольных копей; он увезет с собой часть груза, и особенно половину научных ценностей — карт, фотопленок, дневников наблюдений: неизвестно, как пойдет дальше перелет, и в какой воде — соленой или пресной—придется плавать нашему багажу.
Потянулись скучные дни ожидания — ремонт идет очень медленно. 4 октября машину переводят к Тиличикам. Пробка на хвосте все течет — возле „шноры“ (твердая ось у руля) никак нельзя заделать, и даже тряпки, пропитанные варом, не помогают. 9 октября шпора наконец побеждена, самолет набирает всего ведер 10–15. Но при установке его на козлы после пробы (самолет вытаскивают теперь хвостом на берег, причем все помогающие, вытягивая его вверх, неизменно изумляются силе моторов, поднимающих такую тяжесть в воздух), вырван из хвоста гак вместе с куском палубы. Надо чинить палубу—что Крутский делает очень изящно и прочно.
Одновременно возникает вопрос о горючем: несмотря на мои настойчивые сердитые телеграммы-молнии, Комсеверпуть завез сюда мало горючего; сейчас его осталось недостаточно даже для перелета в Ямск. Здешние жители говорят, что на соседней косе, в гавани Сибирь есть горючее, завезенное в 1928 г. Красинским для перелета „Советского Севера“.
Страубе и Петров отправляются в экспедицию за этим горючим и к вечеру привозят добычу — довольно скудную: бочку бензола и бочку толуоловой смеси. Вместе с тем, что есть в Тиличиках, этого хватит на зарядку — но старый, лежалый толуол и бензол таят в себе предательскую воду.
За это время выясняется, что пароходов, пригодных для перевозки самолета в целом виде, к востоку от Камчатки нет, и безопаснее для машины — провести ее по воздуху, хотя бы до Нагаева, куда заходят крупные лесовозы.
И октября назначается вылет — но снеговые тучи до полудня мешают. Потом Крутский просит сделать пробный
полет: что то пищит кормовой мотор. Пробный полет показывает, насколько непрочно наше будущее: при взлете в хвостовой отсек набирается вода, выбивается затычка и машина едва отдирается от воды. После взлета из нее ручьем течет вода. При посадке новая беда: погнутая стойка гнется еще сильнее. Надо ее ремонтировать — одеть стальной хомут. Это еще день-два работы.
Зима нас пока милует — иногда чуть-чуть снежит, но много хороших дней, можно бродить по горам, покрытым высокой травой, валятся на копнах сена (давно не испытанное наслаждение — ведь каждое лето проводишь из года в год на севере), пощипать бруснику и голубику. Тут же пасется совхозное стадо, на берегу коряцкое семейство расположилось на даче, в палатках и занято ловлей нерп. Мохнатые собаки с неудовольствием оглядывают меня, когда я прохожу, а мальчишки с неимоверно грязными носами, с полным пренебрежением личного достоинства наивно глазеют на манипуляции с фотокамерой.
В Тиличиках коряцкие жилища уже на грани русской культуры, с крышами, окнами и прочими незыблемыми элементами русской избы. Но за „городом“ можно видеть первобытные жилища — остовы из жердей, покрытые тундрой, с дырой в потолке для дыма, а рядом шалаш на стойках для хранения рыбы.
В селении школа, и веселые ребятишки разных национальностей, но больше всего коряки, с веселым шумом выбегают в перемены играть в лапту или тащат с берега телегу с углем для отопления школы.
Мы живем в небольшой отдельной квартире из одной комнаты и кухни и не имеем прислуги; поэтому каждый показывает свои таланты в приготовлении какого либо блюда. Страубе специалист по супам, Крутский изумительно жарит уток, Петров делает луковую подливку, а моим коронным блюдом является рисовый пуддинг с изюмом.
Все же и с этими блюдами две недели ожидания скучны и длинны. Библиотека здесь еще очень тощая и чересчур огородно-назидательная для городского человека.
15 НА РАЗБИТОЙ МАШИНЕ
13 октября, в 28 минут двенадцатого, набрав в хвост несколько десятков ведер воды, мы отрываемся от спокойной лагуны Тиличиков. Курс — вдоль Камчатки до залива Уала, а потом опять старой дорогой на пересечение через Парапольский дол.
Сегодня мне поручается тяжелая обязанность—смотреть за хвостовым отсеком, и в случае надобности отливать из него воду. А так мое участие в полете — исключительно этического порядка: новых наблюдений на этом пройденном уже маршруте не сделаешь, но покинуть машину, находящуюся в бедственном положении я не считаю себя в праве. По существу самолет уже вышел из моего ведения: Арктический институт фрахтовал его до 1 октября — дня печальной аварии — и обратный путь уже не имеет отношения к институту. Поэтому никакого влияния на ведение самолета и его сохранность я оказать не могу.
Из бухты Корфа мы вылетаем при совершенно ясном небе, но скоро над Камчаткой показываются тучи. Горы вблизи Корфа затронуты дыханием зимы—запорошены снегом, мелкие озера замерзли, в лагунах и по речкам забереги. Бегство отсюда напоминает бегство от зимы из Анадыря. И так же путь впереди прегражден тучами—залив Уала закрыт весь. Но разница та, что нам надо во что бы то ни стало сделать пересечение. Под облаками не пройдешь, они лежат на горах, и единственный путь — поверх.
Мы набираем высоту над белым покровом. Он нестерпимо сияет, сверху — бугры, шишки, купола той же белоснежной ваты. Кое где торчит черная вершина или грядки гор. Вся Камчатка закрыта — и впереди не видно просветов. Это—бескрайная пустыня, мокрая и холодная. И единственный спутник в ней — тень самолета на облаках, в ореоле тройного радужного кольца, ползущая медленно вслед.
Высота 1800 метров, холодно, вода, попавшая при взлете в кормовое отделение, замерзла на дне. На термометре — 10° мороза, но охлаждение в полете несравнимо с земным: вспомните, что навстречу дует ураган прорезаемого нами, стоящего на месте, воздуха.
Уже в заливе Уала кормовой мотор начинает беспокоить Крутского: он сифонит, то есть выбрасывает воду — отвернулась труба. Чтобы не загорелся мотор, Крутский решает принять героические меры: вылезти наполовину из моторной гондолы, его будут держать за ноги, а в это время он разрежет дюраль капота, закрывающего мотор и завинтит трубку. Все инструменты, конечно надо привязать — чтобы их не унесло. Пока он переписывается об этом боевом кинотрюке с Косухиным, моторы решают вопрос радикальнее. „Однообразный треск винта“ начинает смолкать — но совсем не сердито, как полагается по Блоку, а зловеще — особенно зловеще, если взглянуть вниз, где только облака, а под ними земля без каких либо рек и озер.
Все медленнее и медленнее вращаются винты, и наконец, их уже вращает лишь встречный ток воздуха. Нос самолета опускается вниз — мы планируем. На высотомере неуклонно, с механическим безразличием, уменьшаются сотни метров. Но судьба и сегодня не собирается покончить с нами: в облаках появились разрывы, в них виден западный берег Камчатки, клочки моря. Страубе ведет самолет прямо к берегу, и, на пределе наших планерных возможностей, мы садимся под утесы.
На наше счастье море почти спокойно, лишь слабая зыбь, которая начинает подбивать машину к утесам.
Дело очень просто—четырехлетний толуол и бензол с водой неукоснительно замерзли в бензинопроводах и заткнули их просвет ледяной пробкой.
Косухин иронически спрашивает меня: „Ну что, как далеко мы были сегодня от смерти?“ Летчикам, как профессионалам, из года в год рискующим жизнью, хочется, чтобы, меня, новичка-первогодника, проняло хорошенько. Но право, я, как дурак из сказки Андерсена, боюсь только мокрого, — не мокрой рыбы в постели, как тот, но падения, самолета в море: если мы сегодня сквозь облака пошли бы к земле, гибель была бы мгновенна и безусловна. А если мы сядем в бушующее море, заранее неприятно думать, как придется бороться с холодными волнами — и при этом напрасно: температура везде так низка, что все равно, проживешь лишь десяток минут. А тут придется еще выплывать с чемоданчиком в руках, в который я сложил все свои дневники и фотопленки.
После хлопотливого часа на воде — в течение которого я непрерывно отливаю воду из хвоста, а Крутский выковыривает лед из трубок — мы с тяжелым хвостом и легким сердцем летим дальше. Сейчас не придется больше подниматься в высокие холодные слои, мы пройдем до Ямска морем. Но совершенно потеряна вера в прочность корабля и в работу моторов: кроме сегодняшних новостей, у них в запасе есть целый ряд забавных штучек, которыми они могут нас удивить — всех тех, которые мучали нас в Анадыре, вроде сношенности свечей, неисправности карбюратора и пр. Поэтому когда внизу, у Тайгоноса, появляются белые, настойчивые валы — невольно ежишься, как от холодной воды.
На западе под темными тучами вырастает мрачная стена хребта Гыдан. За Ямской низиной к югу горы также закрыты низкими снежными тучами, и снег запорошил вершины. Сам город — если можно так назвать жалкое селение — расположен в двух десятках километров от моря вверх по реке Яме, на равнине.
Мы кружим над ямой — в полном недоумении: куда же садиться? Губа почти обнажилась от отлива, уже водоросли покрывают поверхность воды.
Лишь два узких канала пересекают это безотрадное болото. Самолет идет на посадку в один из каналов, и затем поспешно направляется к берегу — ведь мы можем затопить хвост.
Бурлит вода, разбрасывая грязь и водоросли и мы останавливаемся на мели. Нет никакой опасности — самолет сидит на редане, и весь хвост над водой.
С берега подплывает утлый челночек—но садиться в него рисковано. И мы бредем по мелкой воде метров 70 или 100 до берега. Итти плохо, грязные ямы чередуются с зарослями водорослей.
Мы можем поместиться в маленьком домике, предназначенном под водогрейку. Сюда приносят постели и еду, топят печку, и после пережитой сегодня встряски и 5 часов мороза приятно посидеть в тепле и поесть. Как всегда, снова начинаются рассказы о бесчисленных случаях аварий — испытанных, виденных, слышанных. Это любимая и неисчерпаемая тема в каждой компании летчиков.
Ночью начинает подвывать ветер и гремит крышей. В первом часу приходит один из рабочих, дежуривших у самолета, и сообщает, что ветер крепчает. В начале второго вбегает второй рабочий с криком: „аэроплан унесло“. Мы выбегаем наружу, ветер сразу подхватывает и тащит к берегу — сила его уже до 9 баллов.
Темно, ничего не видно — и только приглядевшись, можно различить смутную массу, которая быстро удаляется на юго-восток.
На берегу — только кособокий утлый челнок. Крутский и Косухин садятся в него и пробуют пуститься в погоню, — но едва только они отходят от берега, как волны начинают заливать лодку. Приходится вернуться.
Рабочие говорят, что на рыбалке есть еще лодка — рассохшаяся, но годная. В темноте летчики бегут за ней. Лодка действительно рассохлась, но все же не сразу наливается водой. Вооружившись двумя ведрами, Косухин, Крутский и Страубе с местными гребцами пускаются в опасное плавание. Наступают долгие часы томительного ожидания.
К утру северовосточный шторм достигает силы 10 баллов (18–19 метров в секунду) и превращается в страшную пургу. Не видно дальше 100–200 м и с трудом можно итти против ветра: дыхание вбивает обратно в глотку. Надо организовать поиски людей и машины верхом — объехать на лошадях губу с севера, и выйти к устью Ямы, на западное побережье, куда должно было их прибить, если не вынесло отливом через горло губы в бушующее море. На рыбалке удается найти лошадь, и один верховой посылается вокруг губы.
Ветер неистовствует, быстро скопляются сугробы снега. Иногда снег раздергивает — и среди залива виден остров Буян, скалистый купол. Скоро к нему можно пойти пешком, все дно залива обнажается, и представляет топкое поле пятен ила, чередующихся с лужами и кругами прилегших водорослей.
Около 11 ч. от Буяна показывается несколько темных точек — это люди, идущие к рыбалке. Может быть наши? Но как они медленно двигаются. Проходит часа два — три, пока они достигают нашего берега, — а здесь всего километров 4–5. Но ведь надо итти по грязи, против неистовой пурги. Это в самом деле наши. Первым приходит Крутский — и этот здоровяк, громадный и сильный парень, падает без сил на пол у печки: он не может даже говорить.
Сухощавый Страубе—Джонни как его зовут интимно — легче всех перенес борьбу с пургой и весел как всегда. Косухин с больной ногой плетется сзади.
История их странствований очень печальна. Они вышли в залив из-за мыска слишком рано, и их понесло правее самолета. Непрерывно, в два ведра, отливая воду, они пытались приблизиться к самолету, но среди волн и шторма в темноте, лодка плохо слушалась весел (их было всего два) и ее пронесло в ста метрах от машины. Самолет исчез на юго — западе, а лодку понесло к острову Буяну. Летчики решили пристать туда, отыскать тунгусскую байдару, которая должна там храниться, и на ней выехать на поиски.
Но началась пурга, и до утра им пришлось сидеть в полуразрушенной поварне, разрушая ее еще больше, чтобы поддерживать огонь.
Самолет придется искать сухим путем, на лошадях; на рыбалке есть катера, но они вытащены на берег, над линией максимального прилива и чтобы спустить их — надо ждать несколько дней. Лодки все разбиты, и хотя мы организовали их ремонт, это будет также нескоро. Днем в разрыв пурги видно было какое то пятно у противоположного берега южнее устья Ямы — возможно, что это самолет.
Отдохнув немного, Страубе и Крутский с двумя проводниками выезжают верхом, в объезд залива.
Весь день пурга не стихает. 15 октября с утра ветер переходит к норду, слабеет, пурги нет и можно разглядеть, что самолет в самом деле стоит южнее устья Ямы, по прямому направлению через залив в 11 км, а кругом залива по берегу — километрах в 40.
Но людей на нем нельзя различить. Весь день мы насилуем скверный бинокль, который я достал на рыбалке (все наши инструменты и багаж на самолете, мы вышли вброд без вещей, если не считать моего заветного чемоданчика) — но напрасно: ничего различить нельзя. Кажется, что крылья и хвостовое оперение не сломаны.
Рассказывают нам, что самолет еще вчера вечером нашел один местный житель, камчадал, и сообщил прибывшим на устье Ямы на рыбалку Страубе и Крутскому. Самолет сидит метрах в 60 от берега и как будто цел.
Только 16 октября в 5 ч. вечера явился самолет — и не только явился, но даже прилетел, низко-низко, почти задевая за воду, и на нем сияющие Страубе и Крутский. Раньше притти они не могли, вчера шалил Бристоль и не заводились моторы. Осматриваем "Дашу" — она хранит следы минувших происшествий, багаж подмочен, жабры в грязи. Повезло чрезвычайно: самолет прибило не к каменной косе острова Буяна, а к галечной отмели (хотя с отдельными крупными камнями) и уткнуло жаброй в гальку, так что он не мог навалиться на крыло. Жабру било, но пробило в ней только маленькую дырочку, да сверху смяло корродированное место — так что можно просунуть внутрь пальцы. Еще сломан водяной руль. Кроме того, самолет все время весело хлопал элеронами (маленькие крылышки у плоскостей, при движении которых изменяется крен машины) и порвало трос управления. Все это исправимо, но вряд ли дальше Нагаева можно лететь на таком самолете — Охотское море славится своими осенними штормами.
Ночью самолет ставится на 3 якоря, но попрежнему за ним присматривают те же рабочие, которые должны его подтягивать по мере прилива.
16 ПОСЛЕДНИЕ УСИЛИЯ
Суда, наскоро построенные в угаре
ажиотажа, далеко не отличались высокими
эксплоатацнонными качествами и
не соответствовали по своему техническому
оборудованию современным требованиям
и возможностям.
Костенко.
Эволюция мирового коммерческого флота.
17 октября с утра починен трос, залатана жабра — сверху просто приклеили кусочек полотна, долетит и так. Снова залили варом и смолой хвост, который исправно течет, и ждем прилива.
В начале пятого из южной части бухты хлынули потоки прилива, и вскоре редан покрыт водой. Вот и задний обрез жабр в воде—можно пытаться сняться. Полный газ, моторы ревут, сначала скребем по грязи, но скоро вздымаются уже фонтаны воды — и мы на воздухе. Под ногами снова пестрая грязь Ямской губы, остров Буян, превратившийся в точку, отмель, на которой сидел самолет.
Путь старый: через полуостров Пьягина, и затем через полуостров Кони. Прямой путь в Нагаево, по которому туда меньше двух часов полета, закрыт снеговыми тучами, стелющимися по горам.
Снова над прямоугольными озерами. Узкая перемычка гор — длинный Залив Шкиперов, входящий языком в сушу: (сейчас уже вера в "Дашу" совсем мала, и каждый кусочек воды расцениваешь, как возможную посадочную площадку). Вдоль прибрежных утесов летим к бухте Сиглан — от нее можно снова пересекать горы, чтобы выйти в Тауйскую губу. Мы идем над самым краем скал, и иногда восходящий поток воздуха подбрасывает самолет.
Бухта Сиглан, на картах именуемая заливом Ван-дер-Шруфа — извилистая, укромная бухточка среди высоких гор в основании полуострова Кони. От нее прямо всего час до Нагаева, но этого часа у нас нет — теперь темнеет очень рано. Кроме того, низкие облака сидят на перевале, и все равно пришлось бы итти в обход полуострова (на нем целый хребет, до 1500 м высоты).
Приходится заночевать в бухте Сиглан. Долго и тщательно выбирает Страубе место; и надо сесть так, чтобы не затонул хвост, пока подрулим к рыбалке, которую видно при входе.
Посадка, я тотчас открываю горловину в хвостовое отделение—все в порядке, вода проникает, но небольшими струйками, можно итти медленно на малых оборотах, чтобы не бить о воду хвост.
По берегу уже бегут из поселка. Это, оказывается, не рыбалка, а база Морзверпрома для добычи тюленей и сивучей, только недавно организованная. Люди живут еще в палатках и в наскоропостроенном бараке среди утесов и развала глыб.
Самолет, из-за его болезненного состояния (воды все же набралось достаточно) вытаскивают на берег, а нас ведут в барак погреться у печки, и отведать кеты японского засола и супа.
Жизнь промысла еще не наладилась: здесь в бухте зверя мало, и промышленники собираются перейти восточнее, где большие залежки. Особенно много сивучей на Пьягинских островах. Пока же убили всего несколько нерп, и настроение подавленное. На берегу ремонтируется баркас для перехода в новую базу, под руководством пожилого, много испытавшего рыбака. Он и нам дает рецепт починки пробоины самолета.
Ночевать предлагают в палатке. Снова одинокий самолет поручается местному рабочему: он будет отливать воду, поддерживать машину во время прилива и охранять ее. Я решаю в таком случае пойти самому спать в самолет, чтобы ночью не мучиться мыслями об его охране. До часу ночи вдвоем с рабочим мы отливаем воду, которая заливает "Дом крестьянина". А когда наступает отлив—мне остается лечь тут же на осушенное дно самолета, постелив предварительно кожаное пальто.
Бухта Сиглан нас не хочет выпускать, весь следующий, день моросит, туман ползет по бухте, гора в тучах, и не только перевал, но даже и море недоступно. Зато можно опять починить хвост по самому лучшему рецепту смолой и варом с известью и паклей.
19 октября погода такая же скверная—с утра облака на высоте 300 м, а в 10 ч. начинается снег, с все усиливающимся ветром с моря.
К полудню, несмотря на плохую погоду, Петров вдруг решает лететь—надоело сидеть. Горючего у нас не больше чем на два часа, прямо на Нагаево, нельзя итти, — тем не менее мы летим.
Рулим по бухте—надо отрулить в глубь ее, чтобы пойти на встречу ветру. Новая заливка хвоста держится хорошо. Полный газ, быстро взлетаем—машина почти пустая. Выходим, в море, крутой поворот направо, вдоль утесов. Снег, тучи, кругом ничего не видно. Только ближайший утес, вдоль которого мы идем, чернеет направо. Придется так и ползти, держась у береговых утесов, и рискуя вмазать в тот из них, который высунется навстречу слишком внезапно, подобно мысу Наклонному. Но таких мысов наклонных здесь множество—берег полуострова Кони очень изрезан, сплошь скалы, круто спускающиеся в море. У подножия их — прибой: ветер с моря, баллов 5–6, и волны лезут одна за другой.
Но скоро становится ясно, что не внезапные выступы скал в белесой мгле главная опасность сегодняшнего полета: сильный ветер, ударяясь в утесы, создает токи воздуха, поднимающиеся вверх на горы, и очень неправильные, капризные завихренья.
Самолет бросает кверху и книзу. Правое крыло рвет кверху, а левое давит книзу, и штурвал, положенный до отказа, не может выправить машину. Каждую минуту мы можем скользнуть на левое крыло в полосу прибоя. Кроме того, тросы управления, после сделанного нами большого перелета, изношены, и непрерывные рывки грозят разорвать их. Перспектива в таком случае определенна по результату, но неясна по форме: на какое крыло будем падать.
Но что делать? И Страубе и Косухину остается только непрерывно и судорожно вертеть штурвал вправо и влево, к себе и от себя, а мне—держаться плечами о борт, чтобы на выкинуло, и уныло глядеть на скалы и прибой, и соображать: удобно ли будет выгребать одной рукой, держа в другой свой драгоценный чемоданчик.
Но мне надо делать при этом веселое лицо: со мной рядом сидит сегодня пассажир, заведующий промыслом, которому надо в Нагаево. Он летит в первый раз, и, по-видимому считает, что так полагается летать всегда: под утесами, в пургу, и чтобы кидало непрестанно во все стороны.
Минуты текут нестерпимо медленно и мысли цепляются за все мелочи: вот еще выступ, вот из мглы выступила красная скала, на ней пятна мху—наверно изверженная порода; если выплыву — жаль, не будет геологического молотка взять образец; впрочем, здесь не вылезешь на берег.
Наконец — то: вот крайний юго-западный мыс полуострова, от него берег делает крутой поворот на север. Может быть болтовня уменьшится. На повороте самолет самым серьезным образом кидает кверху — на мысах особенно сильно завихрение; а потом — все опять та же мгла и рывки.
Еще мыс — северозападная оконечность. Отсюда нужно итти поперек Тауйской губы к северу, в Нагаево. Но итти прямо рисковано: впереди не видно ничего, и можно вмазать в утесы. Придется цепляться за берег. И самолет поварачивает круто обратно, на восток, вдоль северного берега полуострова. У какого утеса губы мы сядем из-за отсутствия горючего?
На мысу кучка северных оленей, почти черных, бросается гуськом вдоль берега от самолета — ведь мы почти задеваем их крылом. Интересно, что думает олень или тюлень, когда на него вплотную налетает такая страшная птица?
Заходим все дальше и дальше на восток в залив Одян; пересечь его невозможно — ничего не видно. Этот берег полуострова Кони скалистый, и здесь также множество ненужных мысов, выскакивающих из пурги, и здесь также болтает — придавливает нисходящим потоком воздуха.
От острова Умара идем на пересечение залива — показался северный берег. Становится легче, болтовня меньше, на севере светлеет, видно устье Олы и какой то пароход, стоящий там. На западе во мгле, — Могодон, нам надо бы итти через него, чтобы перевалить в Нагаево, но перемычка как будто закрыта тучей со снегом. Идем в обход — еще 40–50 лишних км. Неужели хватит бензина?
Вход в бухту Нагаева — не только снег, но и туман. Не видно берегов под нами. И болтает хуже чем у Кони. То бросает к самой воде правым крылом, то левым. Чувствуешь уже физическую усталость от непрерывной борьбы с ветром, а каково пилотам? Летим по бухте как будто долго, и все впереди нет ни судов, ни города. Неужели попали в другую бухту? Но ведь другой рядом нет. Проверяю даже по карте, не верю себе — в самом деле нет.
Наконец, вот в тумане несколько больших пароходов, мы садимся между ними, вдалеке от берега, —и рулим: теперь уже не опасно, если и затонет хвост. Но последняя починка лучше прежних. Самолет вытаскивается на берег, на песчаный пляж—он уже привык так стоять, — и возле него ставят охрану.
Первый разговор на берегу — полетим ли дальше? Кажется, у всех начинает пропадать вкус к перелету по Охотскому морю. Аян и Шантары открыты для штормов. Хорошо бы итти прямо из Нагаева в Петропавловск, — но как перелететь море на машине, которая не может садиться на воду, а только на пляж, хвостом вверх? Наконец, на машине, у которой жабры заклеены холстиной, хвост заделан деревом с варом и известью, на стойке—хомут, тросы порваны, свечи не работают, и Бристоль — сношен.
В Нагаеве стоят 2 громадных лесовоза, "Шатурстрой" и "Днепрострой", с обширными палубами и мошными стрелами. И ясно, что благоразумие подсказывает—грузить самолет на них. Тем более, что еще в Тиличиках была получена телеграмма от Комсеверпути, запрещающая дальнейший путь, и только отсутствие там подходящих пароходов и предстоящее замерзание лагуны заставило нас вылететь.
С легким сердцем идем в парикмахерскую (в Нагаеве есть и такая, — и цены в ней "материковые"), в столовую, и спать. Но ночью начинается восточный ветер, все крепче и крепче. Бухта принципиально открыта только западным ветрам, но восточный спускается в нее через перемычку и дует так хорошо, что в нашей комнате на аэростанции воздух становится чересчур свежим, и очень напоминает столярную мастерскую в Анадыре.
Мои обязанности по отношению к самолету я считаю оконченными. Посколько он будет итти простым грузом на пароходе — никакой героической ответственности, хотя бы моральной, я не могу за него нести. А пребывание мое дальше в роли зрителя, кипящего от возмущения — вряд ли забавно. Поэтому, с первым же пароходом, который уходит в Владивосток, я уезжаю.
Мне не везет и в этом. Пароход фрахтованный, китайский, "Фенг-пу". В нем кристаллизовано, в скрытой форме, все презрение капиталистического мира к советскому Союзу. Наверху, целая палуба отведена капитану — в середине его обширная каюта, по бортам место для прогулки, садовая мебель для отдыха. Капитан норвежец, никогда не спускается вниз, он смотрит безмолвно вперед через застекленную перегородку, или перегибаясь через поручни, дает приказания на английском языке китайским матросам, которые по английски не понимают. Только боцман может понять, что от него хотят.
Отдельно от капитана и его старшего помощника-норвежца обедает остальной комсостав корабля — китайцы-механики и помощники. У них другой стол, и отдельная кают-кампания.
Вся центральная часть корабля отделена от носа и кормы — внизу железными дверями, вверху железной решоткой с острыми пиками по бортам — чтобы нельзя было перелезть. Это от пиратов, когда судно плавает в южных морях.
Сейчас по обе стороны решотки — русские рабочие с рыбалок и промыслов, человек пятьсот. Они скучены в трюмах, в сизой мгле махорки, освещенной тусклой едва пробивающей тяжелый воздух, лампой. Все грязные, серые: воды мало, и вряд ли многие моются. Воду дают утром и вечером на полчаса. Чтобы напиться чаю, пассажиры должны натаскать с носа, от крана, воду ведрами на корму, в кипятильник, затем ждать в очереди, пока скипит вода. На всех не хватает — но второго бака вскипятить нельзя: на косу кран уже закрыт.
Суперкарго любезно устроил мне койку в каюте так называемого второго класса и я рад, что не надо итти в спертый воздух трюма. Здесь — постоянная вентиляция.
перегородка не доходит до верха. А снизу — постоянно вымытый пол: в иллюминатор волны свободно наливают воду, и она перекатывается по всему этому ряду коморок вместе с угольной кашей.
Я веду примерно — правильную жизнь: утром одна кружка кипятка (чайника у меня нет), днем банка консервов и, вечером вторая кружка кипятка. И затем — шведская книжка, исторические новеллы; по ним я учу язык, а иначе чем в такой полутюремной обстановке одолеть их назидательную сантиментально-патриотическую фабулу невозможно.
" Даша" попала в более плохие условия, чем я—хотя будущее ее казалось розовым. Ее согласились принять на "Днепрострой", подвели к борту, снарядили восьмитонную стрелу, подняли — "вира по малу" — до борта, завели через борт и в этот момент лопнул рым (кольцо), рассчитанное на 30 тонн натяжения. Стрела упала, сломалась о борт на части, — а самолет ударился носом и одним крылом о палубу, другим крылом и хвостом о воду. Хвост, который мы так берегли и нежно чинили, обломался, оторвалось и крыло.
Дальше грузить в таком виде было нечего — самолет отбуксировался к берегу. Осмотр лопнувшего рыма показал, что разрыв совершенно свежий — но металл с раковинами. Судно это строилось в Америке во время войны весьма поспешно и небрежно в 3 месяца. Подъем самолета весом в 4 тонны, конечно не был рискован при обусловленных запасах прочности; нагрузка на рым была не более 2 1/2 тонн, и специальная комиссия, изучавшая в Владивостоке условия аварии, признала, что подъем был совершен правильно. Вина — исключительно на американцах, которые в спешке военного ажиотажа выпускали суда без заботы об их дальнейшей длительной службе.
Следующей ночью — всегда неприятности бывают ночью — налетел шторм с запада, настоящий осенний шторм выбросил на берег кунгасы и катера, и стал бить самолет о сложенные на берегу бревна. Кунгасы оказались рядом с машиной, поверх нее бревна, и все это испытывало прочность дюраля и шпангоутов. Были вызваны два трактора и 250 человек — но они не смогли вытащить машину через бревна и баржи.
К удивлению, корпус самолета сохранился — хотя и в помятом виде. Поэтому, все что осталось, сняв крылья и хвостовое оперение, погрузили на "Шатурстрой" и доставили в ноябре в Владивосток, а оттуда в Севастополь, для капитального ремонта. Обновленная машина должна скоро опять полететь на север.
17 СО СТАРЫМ ОПЫТОМ И с новыми СИЛАМИ
Печальная повесть приключений нашего перелета на "Дорнье-Валь" в 1932 г. как будто должна была бы отбить охоту от работы по съемке северо-востока с самолета. В самом деле, разве исполнены задачи экспедиции? И что же осталось в нашем активе, кроме ярких переживаний, борьбы с природой, героического романтизма?
Но краткий сухой анализ позволит нам уяснить, что сделано не так мало.
Во-первых, — осуществлен впервые громадный перелет от Красноярска через восточную Сибирь, Приамурье, Охотское и Берингово моря до Берингова пролива и острова Врангеля, и обратно в Охотское море. Эта трасса только проектировалась, но ни один большой перелет на северо-востоке до сих пор не был выполнен в таком масштабе, и все предыдущие закончились серьезной аварией самолета. О важнейших из них я говорил уже выше. Для нас же этот перелет являлся не самоцелью, не спортивным авиационным достижением, — что было целью больших прежних перелетов, — мы только перелетали к месту работ. Нашим перелетом была освоена будущая трасса воздушной линии и доказана возможность регулярной связи с северо-востоком. В 1933 г. по этой трассе был уже сделан ряд перелетов другими летчиками.
Вторым, имеющим не меньшее государственное значение делом, была помощь острову Врангеля. Без нашего самолета "Совет" не смог бы вывезти 8 европейцев, продукты не были бы завезены на остров, и колония прожила бы зиму 1932–1933 г. в значительно худших условиях. И эта задача была исполнена нами попутно с выполнением основного задания.
Что касается последнего, то проникнуть в центральные части Чукотского округа нам не удалось, и было заснято только побережье Берингова моря, собственно Чукотский полуостров восточнее залива Креста — Колючинской губы и бассейны притоков Анадыря—Канчалана и Танюрера. Это составляет небольшую часть подлежавшей съемке площади, и, конечно, главная задача изучения Чукотского округа осталась неразрешенной.
Но и то, что было сделано нами в этом направлении, оказалось очень интересным и существенным. Прежде всего выяснилось, что предложенный Салищевым и мною способ маршрутно-визуальной съемки с самолета дает результаты, значительно более точные, чем предполагалось. При расположении маршрутов на расстоянии 50 км один от другого можно дать карту, с рельефом, в масштабе одна миллионная (10 км в 1 см). Это значит, что задача создания в несколько лет подробной карты всего севера Союза решена.
За один час такой съемки можно зарисовать до 7500 кв. км, а за 100 ч. (работа, вполне возможная при северных условиях) — до 750.000 кв. км. Следовательно, для 4–5 миллионов кв. км. незаснятого севера нужно только 6–7 экспедиций. Но дело, конечно, не решается так просто. Прежде всего, нужен геодезист, умеющий быстро анализировать рельеф и заносить его на карту — при скорости передвижения 120–189 км в час. Затем нужно, чтобы самолет велся по точным указаниям съемщика, по обдуманно-проложенным маршрутам. Наконец, очень трудна организация баз горючего в отдаленных районах севера, где большие водные артерии удалены иногда очень далеко друг от друга. Работа эта сопряжена и с большим риском для самолета: если однократный перелет через горы без посадочных площадок не вполне безопасен, то при ежедневной работе риск вынужденной посадки все более наростает.
Работа 1932 г., которая велась в условиях не вполне благоприятных (как видно из предшествующего) дала нам большой опыт в съемке, до сих пор нигде не производившейся в такой форме; съемке, которой нигде нельзя было научиться, — и мы смогли построить работу в 1933 г. уже более правильно. По съемкам 1932 г. Салищев составил карту восточной части Чукотского округа,[7] которая значительно изменила существующие карты и сослужила нам большую службу во время полетов 1933 г.
Не буду здесь останавливаться на моих географических и геологических наблюдениях 1932 г., их лучше изложить в конце, вместе с наблюдениями 1933 г.
В подготовке новой экспедиции мы учли весь опыт 1932 г. Ведь по вине владельца самолета—Комсеверпути — нами было потеряно 70 дней, т. е. весь рабочий период на Чукотке, и только благодаря энергии участников экспедиции, удалось выкроить несколько дней для работы.
Необходимо было иметь самолет в полном распоряжении экспедиции, своевременно забросить его в Владивосток и с первым пароходом доставить в Анадырь, чтобы начать тратить драгоценные моторные ресурсы на месте работ, не растрачивая их на переброску машины.
Начальник Главного управления Северного морского пути О. Ю. Шмидт, и директор Арктического Института Р. Л. Самойлович, которые в 1932 г. энергичным образом помогли осуществлению экспедиции, отнеслись и в этом году к моему начинанию с большим вниманием. Коллегия ГУСМП постановила предоставить в мое распоряжение отдельный самолет, летающую лодку с большим радиусом действия.
Но до летного сезона ГУСМП этих самолетов в достататочном количестве для обслуживания северного побережья не получило, и мне, в виде компромисса, пришлось довольствоваться старым знакомым, Юнкерсом-гигантом, "Н4 ', который в прошлом году прилетел нам на помощь в Кежму. Он теперь перешел в ГУСМП вместе со всей Авиослужбой Комсеверпути. Самолет этот для нашей работы был гораздо хуже, чем "Дорнье-Валь": он имеет радиус действия в два раза меньше (запас горючего на 6 1/3 ч. вместо 13 ч.), как поплавковый в море чувствует себя скверно, так как посадка на волну грозит поломкой стоек; посадка при боковом ветре также может кончиться согнутой стойкой. Ряд других особенностей делают его также менее пригодным для работы на северном побережье.
Эти данные самолета сразу заставили сузить поле работ — для нас будет доступен только бассейн Анадыря, где находятся наши базы горючего, а северный склон Анадырского хребта останется опять неизвестным.
Но кроме того в договор об аренде самолета включен целый ряд "но", которые могут сильно помешать работе: 1) 5 сентября мы должны отпустить машину на мыс Северный, где она должна зимовать и работать по ледовой разведке и связи с островом Врангеля; 2) в случае, если в Чукотском море не будет самолетов (их предполагается послать туда два, не считая нашего) — авиослужба может взять временно наш для ледовой разведки; 3) мы не можем отходить от посадочных площадок далее 80 км; это — полчаса полета на двух моторах, если остановится третий.
Условия осторожные, разумные, но они могут сорвать всю работу, не говоря уже о том, что район исследований сокращается. Но что же делать — надо постараться в этих условиях хотя бы и на площади в 400.000 кв. км (вместо 700.000 первоначального плана) сделать первый опыт площадной съемки, и доказать, что этот вид съемки — в глазах консервативных сторонников земной съемки способ легкомысленный, — исключительно плодотворен. И, кто знает — может быть удастся проникнуть и за водораздел на запад и север и выяснить хотя бы основные структурные линии Чукотского края?
Экспедиция начинается, как и в прошлом году, борьбой за темпы — за доставку к нужному сроку в Владивосток самолета и снаряжения. С последним дело просто, мы привезли его сами к середине июня, самому раннему возможному выходу парохода, но с самолетом опять не ладится.
Иркутские мастерские Граждвоздухфлота, которые должны были отремонтировать "Н4 ' к концу мая, выпускают его только в середине июня. Самолет уже не попадает по железной дороге к отходу парохода и должен перелетать сам по нашей прошлогодней трассе, истратив на это 30 драгоценных часов из разрешенных нам 90.
14 июня "Н4" вылетает из Иркутска в Верхнеудинск под управлением пилота Г. Это старый опытный пилот, но пилот сухопутный, не летавший на тяжелых морских машинах, и самолет при посадке в Верхнеудинске "барсует" (прыгает) и подгибается одна стойка. Г. отказывается лететь дальше—разуверясь в своих силах. Самолет 13 дней стоит в Верхнеудинске, а в это время мы в Владивостоке уже хороним экспедицию. Отход парохода "Лейтенант Шмидт', на котором "Н4" должен быть доставлен в бухту Провидения (чтобы потом перелететь в Анадырь), назначен окончательно на 23–25 июня, тогда же отходит первый пароход в Анадырь, а следующий будет в конце июля и придет в Анадырь во второй половине августа. Помочь ничем нельзя—других самолетов нет, а задержать пароходы невозможно. Нам не придется, значит, в этом году увидеть что-либо кроме Владивостока.
Петров и Г. отзываются обратно в Москву, командиром самолета назначается 2-ой пилот Г. Чернявский, а для перегонки "Н4" в Владивосток командируется пилот Леваневский, который ведет машину "Н8" ("Дорнье-Валь") из Севастополя на Чукотку и задержался в Хабаровске для смены моторов. И начинается гонка с препятствиями—как в американских кинофильмах: герой мчится спасать героиню на мустанге, автомобиле, паровозе, падает в реки, мосты под ним обваливаются, паровозы взрываются, а невиннолицую героиню в это время тщетно старается изнасиловать злодей, которому все что нибудь мешает, пока герой не переплывет всех рек и не перескочит через все пропасти.
"Н4" прилетает в Читу—туман задерживает его на полдня; в Джалинду—горючего нет, надо ехать за ним на станцию Рухлово; в Благовещенске неполадки в моторах заставляют сесть вблизи города. А в это время в Владивостоке отход пароходов отсрачивается на день (не пришла радиостанция), еще на два дня, еще на два—и вот, 1-го июля, сидя в номере гостинницы я слышу характерный рокот моторов и высунувшись в окно вижу острые крылья "Н4", направляющегося в бухту Золотой Рог.
Леваневский перегнал самолет до Хабаровска, а отсюда его повел, вместе со вторым пилотом, Г. Чернявским, летевшим от Иркутска, наш старый знакомец и спутник по работе 1932 г. Г. Страубе, который перешел к нам с "H8" опять 1-м пилотом. Остальной экипаж состоит из двух механиков. Первого В. Шадрина и второго—Л. Демидова, приехавшего прямо в Владивосток. Аэронавигатора нет—я считал необходимым условием плодотворной работы, чтобы штурманские обязанности лежали на мне, и работа аэронавигатора исполнялась частью мною, частью Салищевым.
Самолет спешно разбирается в гавани; чтобы грузить его, надо снять крылья и хвостовое оперенье. С крыльями он имеет в размахе почти 30 м, и вряд-ли какой-либо пароход из идущих на север сможет его взять в целом виде. Но и в разобранном его никто не хочет брать. "Лейтенант Шмидт", зафрахтованный ГУСМП категорически отказывается: палуба уже загружена кунгасами, бочками и прочим добром. Управление Морфлота предлагает погрузить его на "Охотск", но сначала и здесь встречаются препятствия: АКО грузит кунгасы и катера, палуба будет занята, кроме того, самолет загородит капитанский мостик. Постепенно все же эти препятствия исчезают, а остается одно—гайки, прикрепляющие крылья, никак не отвинчиваются: из Иркутска прислали негодные ключи. К вечеру 2-го крылья сдались и в сумерках у "Охотска" показывается караван: катер, понтон с крыльями, и в конце—"Н4", туловище стрекозы на высоких ножках.
Вечером погрузить не успели и ждали утра: должен притти пловучий кран, чтобы поднять машину на палубу (опыт 1932 г. заставляет быть максимально осторожным). И начинается буза: сначала требуют 5 человек на погрузку угля для парового двигателя крана—некому грузить, и иначе он не подойдет. Потом почти сразу возникает разговор об обеде: "не емши работать нельзя", и надо уходит на обед. Над бухтой висит ругань и настойчивое выяснение отличия подъема самолета от погрузки кунгасов.
Самолет становится хорошо и быстро на 2-й трюм, перед капитанским мостиком, но не загораживает капитану горизонта. Труднее с крыльями—каждое из них по 10 м длины, с нежными элеронами; их нельзя класть плашмя друг на друга. Долго поднимают и опускают и заводят одним концом, другим, и наконец одно крыло находит себе место между поплавками, другое рядом с самолетом, но не без ущерба для гофрированного дюраля, который покрывает крылья.
Теперь остается только погрузить бензин. Как водится, мы получаем от уполномоченного Авиослужбы меньше, чем нам нужно для работы в Анадыре, вместо 90 часов — на 60. Но большего количества пароход не возьмет, мы явились на пароход тогда, когда все почти погружено, места распределены, и надо вытеснять другой груз. А погрузить горючее заранее было нельзя—только вчера цистерна пришла в Владивосток.
Первые две ночи мы живем на палубе. — "Охотск" грузовой пароход, имеющиеся на нем 6 пассажирских кают заняты, а в трюме 900 человек рабочих, едущих на рыбные промысла. Позже представитель АКО дает нам досок, и капитан, после долгих разговоров разрешает построить будку на ботдеке, где мы и селимся впятером. Борт-механики имеют собственную квартиру в самолете. Кроме летающих, у нас два базовых работника—завхоз В. Егоров и моторист для предполагавшегося, но не купленного катера, Э. Яцыно, теперь превращенный в уполномоченного по заброске горючего вверх по Анадырю.
Плавание до Анадыря не оставляет почти никаких воспоминаний, кроме ощущения постоянного холода, сырости и сквозняков в нашей будке. Все время, начиная со второго дня плавания — туман, Лаперузов пролив мы проходим, не увидав ни Сахалина, ни Японии, и только в 5-м Курильском проливе открываются на некоторое время скалы вулканических островов Манруши и Онекатан. Потом снова туман, иногда дельфины в прозрачной воде, фонтаны китов вдалеке, свечение моря в пене, разбиваемой судном — и так до Земли Гека, длинной косы, отделяющей Анадырский лиман от Анадырского залива.
На Земле Гека — рыбные промысла АКО, сюда "Охотск" везет рабочих, соль и тару. И конечно, все это так расп О' ложено в трюмах, что надо обязательно снять самолет и оставить на Земле Гека. Дебаты об этом ведутся заранее, но кончаются очень мирно: самолет остается во втором трюме, а соль и ящики внизу, и выгружаются на промыслах в Анадыре без ущерба для промыслов, компенсированных из другого трюма.
Но возникает новая опасность для нашей экспедиции: пока мы стоим у Земли Гека, приходит телеграмма из Анадыря: выдать из нашего горючего 3 тонны (18 бочек—25 % нашего запаса) и отпустить командира самолета Чернявского для доставки в Америку американского летчика Маттерна.
Сообщение о Маттерне было для нас совершенно неожиданно. Когда мы выходили из Владивостока, было известно, что этот американский рекордист, намеревавшийся в шесть дней облететь земной шар на самолете, в одиночку, без спутников, и побить рекорд Поста 1932 г. — вылетел 13 июня из Хабаровска. Рекорд уже пошел на смарку, это был 10-ый день его полета, часть времени он проблуждал в туманах Охотского моря, и был принужден вернуться обратно в Хабаровск.
Как мы узнали, Маттерн, пролетев без посадки 18 часов от Хабаровска, должен был снизиться, чтобы перепустить масло, замерзшее в плохо устроенном запасном баке. Выбрав место, на левом берегу Анадыря, километрах в 80 от с. Анадырь, и приняв его за ровную лужайку, — он сел, и немедленно подломал шасси и помял крылья. Выйдя на берег р. Анадырь, километрах в трех от места аварии, он просидел там в ожидании помощи дней 12, питаясь скудным запасом шоколада (из спортивных целей он брал с собой только горючее).
Маттерна нашли чукчи и привезли в с. Анадырь (о существовании которого он и не подозревал—имея очень старые карты). Здесь Маттерну была предоставлена возможность посылать бесчисленные телеграммы прямо в Ном, но вывезти его отсюда пришлось все же советскому самолету. Это было поручено пилоту ГУСМП Леваневскому на "Н8", который все равно шел на Чукотку.
Пролетев Охотское море по нашему прошлогоднему пути, он от Гижиги полетел сушей, опасаясь туманов и штормов морского побережья, по трассе, только что пройденной Маттерном—вверх по р. Пенжиной на Анадырь. Достигнув Анадыря 18 июля, "НВ" не мог итти дальше—здесь не было горючего. От прошлогодней нашей работы осталось немного, а надо было до 10 бочек, чтобы долететь в Ном. Еще во Владивостоке я согласился уделить из нашего запаса 3–4 бочки, в случае, если "HS" залетит в Анадырь. Горючее для этого самолета доставлялось в бухту Провидения.
Доставка Маттерна в Америку — обязанность международной авиационной вежливости, и мне не приходилось возражать, хотя бы это и жестоко отразилось на нашей работе. В утешение анадырские власти обещают доставить нам 6 1/2 бочек бензина, сохранившегося в баках самолета Маттерна на месте аварии. Взамен молодого начинающего пилота Чернявского я получу с "Н8" первого пилота Ф. Куканова—летчика с большим опытом. Мена не безвыгодная — у меня будет на машине два первых пилота.
При входе в Анадырский лиман 19 июля "Охотск" садится на 10-футовую банку, в месте, где на карте показано 20–35 футов. Садится серьезно — и вновь возникает вопрос о выгрузке самолета, вместе со всем грузом на Землю Гека. А в Анадыре Маттерн рвет и мечет — надо вылететь обязательно в 3 часа утра 20-го, чтобы в тот же день он мог вернуться из Нома на своем самолете, взять старт от места аварии, и лететь опять в Америку — иначе у него пропадает премия в 50.000 долларов (по крайней мерз так он говорит, требуя немедленного вылета). А кроме того сегодня Пост, его конкурент, который предпринял новый перелет кругом земного шара, прилетел в Хабаровск — и завтра обгонит его в Номе.
Мы получаем предложение — погрузить Чернявского и бочки на кунгас и с катером отправить в Анадырь. Но для этого надо снять 3 ряда бочек (наши снизу) и пока идет подготовка, наступает прилив, пароход снимается и сам идет в Анадырь.
В 1 ч. ночи (ночи собственно нет — ведь мы на 64° широты) бросаем якорь, войдя во внутреннюю часть лимана. Тотчас выгружаются бочки и Чернявский со своими чемоданами. На "Охотске" сейчас же начинают подготовлять к спуску самолет (который всем здесь ужасно мешает на палубе). Утром спускают сначала самолет собственной пароходской 25-тонной стрелой. Спуск происходит "на большой палец", по новой терминологии — через несколько минут самолет на воде. Крылья спускаются на кунгас поверх бревен, и мы можем переселиться вслед за машиной в комбинат, опять на старое наше жилище, столярную мастерскую, которую с неизменной любезностью предоставляет нам Управление рыбными промыслами.
В комбинате нас встречают как старых знакомых — почти все зимовщики принимали участие либо в каких нибудь починках на самолете, либо в его спасении от штормов.
Маттерн, несмотря на то, что наше горючее было на берегу уже в половине второго ночи, улетел только к вечеру. Лишь в полдень "Н8" вышел в лиман для взлета и мы имели возможность видеть как в течение пяти часов машина, перегруженная нашим горючим, тщетно взрывала воду жабрами, бегая взад и вперед по две минуты подряд. Только спустив в море часть бензина — сколько именно, мне постыдились, сказать, — "Н8" часов в 5 вечера улетел в Ном.
Маттерн все-таки в тот день не попал в Америку — туман заставил самолет вернуться на о-в Лаврентия и только на следующее утро он долетел до Нома. После нескольких дней чествования, "H8" вылетел в Уэлен.
Между тем сборка нашего самолета быстро двигалась вперед. Уже 22 июля, на 3 дня раньше срока, я мог принять машину.
Первый полет — первый после перерыва — несомненно произвел бы на меня снова сильное впечатление, если бы я не был занят все время пробой нескольких новых фотоаппаратов. Фотоснимки, не имея основного значения для нашей топографической съемки, все же очень важны, как подсобный иллюстративный материал. Специальных аппаратов, удобных для наклонных аэроснимков, у нас не было, и надо было приспособить имеющиеся обычные аппараты.
Проба показала, что самолет пригоден для нашей работы, но… и вот это "но" было немного велико. Начать с того, что самолет валился все время на правое крыло — из-за ассиметричности элеронов. Но это только звучит страшно, на са. \10 м деле лишь придется пилоту все время поворачивать "баранку" (штурвал) немного влево.
Гораздо серьезнее, что большая часть приборов, контролирующих работу машины, негодна: из 19 приборов, установленных в пилотской кабине, неправильно показывают или не работают вовсе 13, в том числе такие важные, как показатели числа оборотов, температуры масла и воды в моторах. Из трех показателей скорости один дает ПО км в час, другой 130, третий 170. Указатель количества бензина в баках все время показывает одну цифру. Это значит, что мы будем лететь так, как летали на заре авиации Блерио или Райт: если сгорит мотор — узнаем об этом только когда он задымит и остановится, о скорости будем судить по свисту воздуха, о количестве оставшегося бензина — по времени. Даже путевой компас шалит — то меняет свою девиацию, то слишком устойчив, не вертится совсем. Но это последнее не так страшно, для нашей работы мы установили несколько своих компасов.
В сущности самолет в таком виде не должен был приниматься после ремонта в Иркутске. Но теперь нам остается — или прекратить работу, не начав ее, или постараться использовать машину даже в этом виде. Да, я забыл сказать, что в этом году самолет пришел без запасных частей, без каких-либо материалов для починки, без якоря, без концов для причаливания, а бортмеханики — даже без теплой прозодежды.
После краткого раздумья командир самолета Куканов решает, что на такой машине нашу работу можно сделать, если внимательно относиться к моторам, следить за их режимом, не перегревать машины. А нам с Салищевым возражать не приходится — нельзя терять целое лето, и отложить съемку Чукотки еще на год.
Мы будем работать, конечно, в далеко не безопасных условиях. От радиостанции и радиста на самолете нам пришлось отказаться с самого начала — они вместе весят до 200 кг, а это равно сокращению полетов больше, чем па час — почти на 75 минут. От аэронавигатора мы также отказались — мы будем вести эту работу вместе с Салищевым,
отчасти чтобы облегчить самолет, отчасти—чтобы полеты во всех деталях велись так, как это нужно для нашей съемки. Наконец, нам вероятно придется не брать с собой даже спальных мешков, запасной обуви, тяжелой фотоаппаратуры, чтобы, по возможности, увеличить радиус действия самолета. Каждые 40 кг—это лишние четверть часа полета, лишние 30–40 км.
18 В МАРКОВО — НЕСМОТРЯ НА ПОГОДУ
Климат самой несносной
Биллингс, 1791.
Климат премерзейший.
Гондатти, 1897.
Погода стоит пока отвратительная — каждый день низкие тучи, Рарыткин, который в прошлом году смеялся, когда мы не могли летать — теперь, когда мы ждем во всеоружии, закрывается упорно облаками. У нас очень мало горючего, и мы должны очень осторожно выбирать дни для полетов; если встретятся на маршруте тучи и придется вернуться, — повторить этот маршрут нельзя.
Но есть один полет, который мы можем сделать и при облачном небе—вверх по реке, за 700 км, в село Маркове. В прошлом году в место, носящее название "Крепость" ниже Маркова было завезено горючее для нас, и там будет в этом году наша западная база. Но прежде, чем базироваться там, надо проверить, сохранилось ли горючее—на Анадыре оно исчезает самым непостижимым образом, и в прошлом году у нас на глазах пропали 8 бочек бензола. Кроме того хорошо бы посмотреть и место, где мы хотим создать промежуточную базу—Чекаево. Наконец, надо проверить, сколько потребляет в час наша машина горючего: при отсутствии указателей, только использовав все горючее из баков и слив остатки, можно узнать норму потребления.
Поэтому, 27 июля, хотя облака закрывают небо, решаем вылететь: Рарыткин все же видно. Мы занимаем наши места, Куканов и Страубе у штурвала, за ними, во входе в башню А — борт-механик Шадрин, в самой башне А (передняя башня) я со своими приборами, а сзади в башне Б, в полном одиночестве, на высоком сиденьи, прицепленном к задней стенке, Салищев. Удобные кресла, немецкого происхождения, которые стоят в большой кабине у окон, остаются пустыми и мы заранее мечтаем, как потом, когда-нибудь, мы развалимся в этих креслах и поедем пассажирами, индифферентно поглядывая в окна. Но этот момент так и не наступил никогда.
Самолет с полной нагрузкой: все тщательно подсчитано, учтен каждый килограмм; мы не берем с собой даже чайника — чай можно варить и в ведре, которым наливают бензин.
Быстро отрываемся и идем прямо на запад. Изгибы Анадыря решаем срезать и лететь прямо в Чекаево. Сначала над громадным лиманом реки. Это—залив Онемен. Скучные берега с тундрой и бесконечными озерами. Длинные косы отходят в залив, на одной из них рыбалка и звероловная база Морзверпрома: здесь ловят сетями белух. Уже начался ход кеты, и вслед за ней белуха вошла в лиман. То и дело можно видеть над водой блестящую белую спину — это белуха гонится за кетой. Для питания такой туши, весом в целую тонну, надо за день наловить немало рыбы.
В конце залива Онемен с юга впадает река Большая (или Великая) и вскоре Анадырь принимает нормальные размеры, хотя река все еще до 3 км шириной.
Мы срезаем изгиб реки и выходим снова на нее южнее места аварии Маттерна — его самолет виден среди болота, белое пятно с красными точками. Но сейчас некогда — посмотрим на обратном пути.
Теперь летим над озерами и болотами левого берега. На юге хребет Рарыткин, сегодня он опять издевается над нами, видна только нижняя часть склонов, верх закрыт тучами. У его подножия на реке — угольные копи в местности, называемой Телеграфная. Это память об американской компании, которая собиралась провести проволочный телеграф из Европы в Америку, построила на северо-востоке Азии ряд баз и была разорена проводкой трансатлантического кабеля.
За Телеграфной на юге открывается большое озеро — Красное. Оно отделяется от Анадыря узкой полоской земли, переполненной озерами и протоками, и ясно, что когда-то река заходила туда, делая большую излучину к югу.
Но вот мы у Чекаева — это устье небольшой протоки, в кустах на стрелке стоит землянка и амбар. Тихая и глубокая протока, защищенная от ветров и достаточно широкая, чтобы прошел наш самолет. Мы виражим над землянкой, рассматриваем с живым интересом — большие ли кусты, есть-ли люди, но никого не видно, хотя здесь должен быть приказчик при складе.
Выше Чекаева Анадырь делает громадное колено к северу, к устью Белой, но мы сейчас не будем срезать прямо, а пройдем еще вверх по реке, чтобы пересечение было короче — пока полной уверенности в моторах еще нет.
Под нами громадная река; хотя выше Красного озера она и уменьшается, но по-прежнему — это широкая пелена воды, острова, протоки, озера, соединяющиеся с рекой, и болота, болота без конца. Только выше Утесиков—длинного ряда утесов по правому берегу—река становится быстрее, превращается в обыкновенную реку. А ниже еще доходят морские приливы и ветер разводит опасное волнение.
От Утесиков сворачиваем через низкие горы на запад. Первое пересечение без посадочных площадок—как-то оно пройдет? Прислушиваешься к стуку моторов—перебоев нет, все три мотора стучат равномерно и весело. Тучи задевают за вершины гор, но можно пролететь через седловину. Скучные места — округлые горы, осыпи и трава, лишь кое-где кедровый сланец своей черной зеленью одевает склоны.
Как ни убедительно-хорошо стучат моторы, все же приятно, когда открывается снова широкая равнина Анадыря. Здесь, выше Белой, Анадырь идет опять в громадной равнине, когда-то заливавшейся морем. Вся она покрыта озерами и бесчисленными протоками. Сама река и ее притоки соединяются протоками, проточками, всюду старицы, какие-то змееобразно изгибающиеся канавы обсаженные кустами, идущие неизвестно куда. Мы летим наискось, пересекая равнину прямо к Крепости. И когда подходим к последней я начинаю волноваться—ведь в этом году я веду самолет и должен найти среди этой сложной сети изгибающихся проток место соединения реки с протокой Прорвой, идущей из Майна в Анадырь и маленькую точку—Крепость, всего несколько избушек. Но к счастью карта реки здесь хорошая—работы топографа экспедиции Полевого 1912 г., Н. Июдина, и все на месте.
Вот в кустах сереют избушки и груз, покрытый брезентом. Сюда мы спустимся после, а пока летим в Марково, еще 20 км выше. Река рассыпается на маленькие проточки, желтеют галечники, и, почти чудо, — появляются рощи деревьев на островах, первые деревья. Марково найти трудно — оно стоит в лесу, в стороне от реки—и лишь близко подойдя к нему различаешь на поляне дома, несколько десятков изб, беспорядочно разбросанных.
Унылое, неприятное место, такое заброшенное, одинокое среди безбрежных болот и речной сети великой равнины. И к тому же вероятно тучи комаров и мошек, отравляющих жизнь.
Вираж над селом; к нашему удивлению из домов показываются всего 2 или 3 женщины. Неужели все спят? Но когда мы заходим выше по реке, чтобы посмотреть посадочные площадки — эта загадка разъясняется: все население у рыбалок, на берегу реки.
Крепость имеет очень помпезное название, но на самом деле тут никакого укрепления сейчас нет. В конце восемнадцатого века здесь действительно была построена крепость — место это удобно, лежит против протоки Прорвы, ведущей непосредственно в Майн, большой правый приток Анадыря, который близко подходит к р. Пен-жиной, — и следовательно лежит на путях к Охотскому морю.
Позже оказалось, что для жителей выгоднее жить выше, где река распадается на протоки с отмелями, пригодными для рыбной ловли; так возникло среди рыбалок Марково. Еще недавно в нем был административный центр округа, но с развитием пароходных рейсов и рыбных морских промыслов, центр передвинулся в Анадырь, Марково стало хиреть, и жители из него убегают в Усть-Белую. А Крепость снова получила значение как перевалочный пункт—сюда доходят в большую воду моторные катера.
Покружив немного над Крепостью, мы сели на тихом плесе среди кустов, и подрулили к галечному берегу. Никто нас не встречает — и только заяц, который вышел было попить воды, в ужасе удирает по отмели.
На берегу в куче лежит наше горючее — семь бочек бензола и неопределенное количество бидонов бензина в ящиках. С. Призант, начальник геологической партии Арктического института, работающий сейчас в районе Маркова, озаботился о доставке сюда горючего.
Мы завтракаем на берегу консервами и сгущенным молоком, запивая речной водой — это большое удовольствие, ведь уже давно мы не пили хорошей пресной воды — и обсуждаем вопрос, сколько взять бензина на обратный полет. Брать отсюда вообще преступно: завезти новое горючее в этом году мы уже не успеем, а наличного может не хватить для намеченных полетов. Мы летели сюда скорее, чем следовало по прокладке — вместо 2 ч. 56 м. только 2 ч. 28 м., но ветер был попутный, со скоростью 16 км в час. Сколько у нас осталось бензина?
Проклятые бензиновые "часы" показывают всегда одну и ту же цифру, потребление бензина неизвестно, может быть у нас остался запас на 3 ч., может быть на 4 или 4 1/2. На всякий случай мы берем Отсюда еще на 50 минут — это с избытком обеспечит возвращение даже при усилении ветра.
Обратный путь я хочу сократить и, учтя ветер, даю курс через горы прямо в Чекаево. Но когда мы поднимаемся над Крепостью, с юго-запада показываются низ-
кие мрачные тучи с разорванными клочьями внизу: это дождь с ветром, метущий хвостом туч по горам.
Нас сносит все больше в левую сторону пути, но я не пытаюсь исправить курс: прямо на Чекаево все равно не пройти, здесь на горах везде тучи и под ними даже не видна светлых щелей на перевалах, куда можно было бы юркнуть.
Пересечение удается сделать лишь немного южнее утреннего, и мы выходим опять в озерную равнину между Утесиками и Чекаевым. Салищев измеряет снос и определяет ветер—и потом стучит мне в окошечко: результат неутешительный: встречный ветер со скоростью 44 км в час. Если он будет еще усиливаться, то при нашей нормальной скорости, 130 км в час, нам от Чекаева придется добираться 2 1/2 ч., и хватит ли тогда горючего?
Медленно летим мы над теми же местами, над которыми так быстро проносились утром—еще медленнее, конечно, оттого, что невольно хочется ускорить полет. После хребта Рарыткина пролетаем как раз над местом аварии Маттерна. Летим низко, тучи идут совсем над землей, и хорошо видна эта экзотическая птица, гордо названная "Веком прогресса", завязшая в северной тундре. Крылья и корпус белые с красными разводами, ярко выделяются на болоте. Болото настоящее, кочковатое, с полигональными трещинами. Видны следы от колес: вот здесь он коснулся земли, подпрыгнул, снова ударился—и дальше идут две глубокие борозды, которые кончаются у самолета, прильнувшего к земле. А рядом разбросаны остатки шасси и два колеса с обтекателями — виновниками аварии. Обтекатели — это эллиптически-приостренные тела, облекающие колесо, так что снизу торчит только кусок шины. Уменьшая завихрение у колес, они позволяют увеличить скорость, чудовищную скорость, но предназначены только для первоклассных бетонированных площадок. А на болоте они подобно плугу взрывают кочки.
Нам любопытно было бы снизиться здесь, посмотреть самолет, взять на память какую-нибудь гайку, но для этого надо> пройти от реки 3–4 км по болоту. К тому же у нас своих хлопот полон рот: ветер все усиливается. Начинаешь смотреть все время на часы и вниз. Мы выходим в залив Онемен; уже прошло от начала полета 6 ч. 30 минут — и каждую минуту может кончиться горючее. Отсюда нормально 20 минут полета, но сколько нужно сейчас? И до какой силы дойдет шторм в лимане у комбината? В заливе большие волны с барашками, яростно бегущие навстречу. Если придется садиться на них — наверно согнем стойку. А потом нас будет носить ветром и приливом взад и вперед. И я ярко представляю себе, как нас будут искать, как прибуксируют в Анадырь, и как придется опять на год отстрочить работу.
Но вот мы перешли под левый берег залива—к Американской Кошке. Здесь за ней волны нет, и можно, если нужно, безопасно сесть. Дальше—еще ряд кошек, вытягивающихся в залив, каждая из них—место для спасения. Если сядем—можно дойти пешком до рыбалок.
Волны яростно обрушиваются на кошки, и снова я подсчитываю минуты. Подходим к большой Нерпичьей Кошке: это уже полный комфорт. Здесь рыбалки Морзверпрома, и за кошкой прячутся два катера. Мы низко проходим над косой, кажется, что самолет скоро начнет задевать поплавком за береговой обрыв: нас давят книзу рваные тучи.
Отсюда всего 20 км до комбината, но мы наверно пройдем их больше 20 минут. Борт-механик начинает качать бензин ручной помпой—плохой признак: значит уже собираются остатки со дна баков. Как только ручная помпа перестанет брать—в верхнем бачке останется на 10 минут. Пожалуй, мы сядем посреди залива у комбината—и нас продрейфует только до Толстого мыса. Но борт-механик все время работает помпой. Медленно идут минуты—цепляясь одна за другою. И для красоты описания нельзя даже прилгать, что тучи бешено мчатся нам навстречу: куда бы не летел самолет, тучи всегда отстают, ведь он летит быстрее.
Комбинат. Куканов набирает высоту до 150 м, и делает установленный круг, чтобы наметить направление для посадки: надо садиться против ветра, а не против волн, которые у комбината заворачивают.
Мы у крестовины мертвого якоря. Егоров подходит на лодке. Чувство большого облегчения—мы летели назад всего 4 ч. И м. и у нас еще минут на 10 бензина. Значит, тратим бензин очень экономно, всего 160 кило в час, и несмотря не брешь, пробитую в наших запасах Маттерном, нам может быть хватит горючего на работу.
19 СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ГОРА МАТАЧИНГАЙ?
Возможно, что пересечению двух горных систем;
системы Станового хребта и системы Камчатки
в верховьях залива Св. Креста мы обязаны
появлением высшей точки всего северо-востока Азии,
именно горы Матачинган, высотой около 1312 саж. (2799 м).
П. Полевой, 1915 г.
Опять несколько дней подряд ненастье. С моря ползут мягкие серые тюфяки-туман и низкие облака. Дойдя до материка, они поднимаются немного, крутой шапкой сидят на Дионисие и Золотом хребте, разрываются над лиманом, но дальше везде серо и мрачно. И Рарыткин не смеется, — а у нас все готово. На-днях определяли девиацию. Для этого полчаса пересекали под разными румбами берег у Анадыря — на удивление жителям, не понимавшим, для чего это мы снуем в воздухе взад и вперед без всякого толка.
Скучно сидеть в нашем логове в ожидании погоды. Смотреть на барометр, выбегать двадцать раз в день—посмотреть на восток, не расходятся ли тучи, нет-ли кусочка голубого неба. Постепенно наше жилище становится все более жилым: появляются полки на стенах, на них выстраивается посуда, которая лежала здесь с прошлого года, каждый развешивает у себя над головой самые необходимые предметы, зубные щетки и полотенца, у Володи, завхоза, — в живописном скрещении ружье, кинжал, полевая сумка, а у меня—анероид, с которым я непрестанно советуюсь.
Сейчас в комбинате самое горячее время: ход рыбы. Он продолжается больше месяца, и начинается как раз тогда, когда расходится лед при входе в лиман. Надо успеть разгрузить пароход и одновременно не упустить рыбу. В этом году особенно много рыбы, и даже маленькие сети, которые закидывают с берега для себя рабочие и местные жители через час-два захватывают 70-100 громадных кет — по 4 кг каждая; с трудом можно вытащить один-два метра сети, на каждый метр приходится по пять-десять рыбин. Все время к заводу подходят кунгасы с рыбой, и пристань буквально ломится от груд кеты и горбуши; раз ночью помост в самом деле провалился от тяжести рыбы, и волны разбросали ее по пляжу.
На завод свозят рыбу из трех баз, и кунгасов и катеров не хватает, чтобы опорожнить громадные чаны на базах; а если продержать рыбу несколько дней в чане, она протухнет. Между тем каждая кета — рубль в валюте.
Время хода кеты и родственных пород (горбуша, кижич, красная) — самое сытное время на Дальнем Востоке и для людей и для животных. Собаки ходят толстые, томные, и даже не глядят на валяющиеся по берегу рыбы, медведи объедают только головы чайки ковыряют небрежно глаза и мозг, и тотчас бросают, и даже люди начинают относиться с странным равнодушием к ценным продуктам. Возле столовой комбината чистят рыбу для второго, и икра тут-же выбрасывается на землю. По стоку из икрянки (отделение на заводе для переработки икры) текут в море целые потоки смытой икры. Туковый завод не успевает перерабатывать отбросы, и лошади не успевают вывозить с завода избыток этих отбросов, чтобы закопать их в ямы.
3 августа вечером еще моросит, но к утру вызвездило; и когда я разбудил всех — уже только остатки тумана ползли по горам.
В этот день мы сделали первый полет из намеченных десяти—первый по точному плану, на юг до Коряцкого хребта в верховья р. Большой и вдоль Рарыткина.
Было бы скучно излагать подробно все десять полетов. В них очень много моментов, памятных для участников, много интересных подробностей с точки зрения авиации и съемки, много деловых достижений, но очень мало эффектных минут. Я остановлюсь только на нескольких наиболее интересных.
Полет 4 августа принес нам одно серьезное достижение — мы изучили хребет Рарыткин, эту длинную альпийскую цепь, от начала до конца и он перестал смеяться над нами. Позже, в хорошие дни он не раз показывался во всей своей красе, но теперь уже мы издевались над ним — он был побежден.
На следующее утро надо было опять лететь — на этот раз на север: здесь от прошлого года осталась другая гора, которая также издевалась над нами — знаменитая гора Матачингай.
Курс проложен у нас вдоль берега залива Креста до этой горы, вокруг нее и затем обратно западнее Золотого хребта—там, где в прошлом году мы ничего не могли видеть из-за облаков.
Погода сегодня еще лучше чем вчера, вблизи — ни облачка, только над грядой Эськатень, в которой лежит гора Матачингай, собираются тучки. Сделав разворот над комбинатом, мы идем к морю, вдоль берега лимана. Лиман блестит — стальная гладкая поверхность, пересеченная на горизонте узкими косами. Русской Кошкой и Землей Гека. Золотой хребет налево от нас, голый и унылый.
Против Русской Кошки—поворот к северо-востоку, перед нами открывается вдали залив Креста. Внизу большие прибрежные болота и среди них странное озеро, в которое впадает ленивая извивающаяся река; с морем озеро соединяется каналом — также рекой, но необыкновенной ширины.
Все это ни на каких картах не показано—и самый Золотой хребет внезапно распадается перед нами на 2 маленьких горных группы. Это одно из самых увлекательных занятий, — следить, как изменяются и превращаются совсем в другие формы географические элементы, которые так ясно и определенно нарисованы на картах.
Залив Креста сегодня виден весь—и конечно я прежде всего обыскиваю глазами северный его конец: никаких Матачингаев. Большая горная группа Эськатень замыкает залив с севера, но вся она с высотами около 1 500 м. Есть несколько вершин до 1 700 м, но не более. Тщетно ищу я на горизонте—нигде не возвышается в виде гигантского купола эта величайшая из вершин северо-восточной Азии, проблематический вулкан. Может быть когда мы долетим до этой цепи, что — нибудь покажется за ней? Но нет, гора Матачингай показана на самом берегу.
Еще час мы продолжаем лететь на северо-восток, над равниной, лежащей к востоку от залива Креста, затем над красно-серыми округленными горами—пока не доходим до реки, текущей на север: это уже истоки Ванкаремы, впадающей в Полярное море. Главный водораздел Анадырского хребта пересечен, и можно спокойно поворачивать на запад, чтобы обойти гряду Матачингай. Но это уже почти невозможно: над цепью скопились тучи, там идет снег или дождь. Идем несколько минут прямо к цепи, под самыми тучами, на высоте 1 750 м—и все вершины на нашей высоте упираются в тучи: высота группы Матачингай установлена окончательно.
Цепь имеет дикий, странный вид: острые гребни с крутыми серыми осыпями, которые спускаются в мрачные узкие ущелья, пики, бороздящие тучи, беспорядочные острые гребни, бегущие в разные стороны — все это прямо под нами громоздится в жутком беспорядке. На север уходит еще одно ущелье—с наледями (тарынами), блестящими во тьме внизу и с странными руслами одной реки, с двух сторон окружающими изолированную гору.
Мы подходим близко к черным тучам, которые начали уже закрывать вершины. Скорее, поворот к юго-западу, к морю.
Курс 250, 245, 210 — и мы снижаемся, чтобы не итти под самой поверхностью туч, где завихрение больше всего.
За нами, в северной группе цепи, на Двугорбой горе, как я ее наскоро называю, открывается внезапно громадный надув снега, висящий на южном склоне — и в нем 2 синие пятна: это висячий ледник, первый на северо-востоке Азии, открытие примечательное (ближайшие леднички открыты нами в 1926 г. в хребте Черского, на Индигирке, за 2000 км отсюда).
Снег захватывает всю северную группу и ущелья закрываются серой пеленой. Мы скользим над самыми гребнями — и если сдаст мотор, то нет даже места, чтобы спарашютировать на ровную площадку и, сломав шасси, все-же сохранить людей. Море видно, до него меньше законных 80 км, полагающихся по договору, но вряд ли мы до него дотянем через такой частокол пиков и гребней.
Но вот и посадочная площадка: в глубине ущелья, сквозь пелену снега — длинное ледниковое озеро. Оно промелькнуло, как призрачное видение, едва различимое в серой мгле — и снова гребни и скалы. Через 20 минут после начала нашего бегства, на запад направо открывается проход между северной и южной группами цепи и мы поворачиваем туда под самыми тучами, через новые гребни.
Перевалив через цепь, мы можем, наконец, вздохнуть свободно: перед нами широкая плоская долина, в ней большие озера — и после мрачных теснин чувствуешь себя легко и спокойно.
Что это за долина? Она идет уже по северную сторону главного водораздела, на восток, и потом круто поворачивает на север, пересекая еще две горных цепи. Несомненно, это Амгуема, самая большая река северного побережья. Значит она проходит гораздо восточнее, чем показано на картах.
Надо скорее записать все это, а потом можно передохнуть несколько минут. Ведь я все время верчусь, как белка в колесе: мне нужно непрерывно следить за главным компасом и отмечать отклонения от заданного курса, записывать отсчеты по часам и компасу, давать пилотам правильный курс, описывать формы ландшафта, вести геоморфологичекие наблюдения, непрестанно фотографировать все интересное. И наконец, — все время помнить о том, что я веду корабль, изменять проложенный заранее курс в зависимости от обстоятельств — от встреченных интересных объектов, от ветра, от препятствий в виде туч, — и помнить, что надо вернуться на базу через 5 ч. 10 м. и что опоздание может кончиться очень печально, если у нас не хватит горючего.
Салищев ведет не менее интенсивную работу: он должен успеть зарисовать, — занести на карту—полосу шириной более 50 км (иногда до 75 — 80), которую мы пролетаем, взять пеленги (засечки) на наиболее важные пункты, наконец, он также фотографирует—большой камерой. Поэтому мы не замечаем, как идет время. Главное препятствие для нас—это холод. Хорошо, как сейчас когда на высоте 1500 м 5° тепла, а в прошлом году приходилось работать при—15°, и через 3 ч. руки совершенно отказывались работать: ведь работали без перчаток, — в них неудобно писать.
Но пора уже повернуть домой—время, назначенное для полета по курсам на северо-восток и северо-запад истекло. На повороте надо еще определить снос. Делаю Салищеву знак—показываю скрещенные руки—и он спускается вниз, где установлена трубка Герца. Я сажусь также на дно, и смотрю в окошечко на Салищева: определив отклонение самолета (снос ветром) на одном курсе, он подает мне знак — и мы ложимся на другой, градусов на 40 левее или правее. Вся операция занимает 3–4 минуты. Мы повторяем ее три — четыре раза в день, и определяем таким образом направление и силу ветра на той высоте, где мы шли. Это необходимо, чтобы впоследствии проложить курс и нанести всю съемку, привязанную к этому курсу.
Обратно мы пойдем почти по прямой линии. Сначала — перевал через главный водораздел Анадырского хребта. Он здесь гораздо ниже, чем цепь Эськатень. Налево тучи относит и открываются 5 южных вершин — какая-нибудь из них и есть пресловутая Матачингай. Наверно, вот эта, крайняя — она стоит в виде крутой пирамиды совершенно отдельно. А севернее, в соседней долине — чудесное темно-синее ледниковое озеро (отмечаем — пригодно для посадки) в узкой долине между крутыми скатами. У его нижнего конца — несколько чукотских яранг.
Мы идем одновременно по водоразделу бассейнов Анадыря, Амгуемы и залива Креста. Крутые речки, которые текут в последний, подобрались к ленивым истокам рек соседних бассейнов, и похищают кусок за куском. И в их верховьях ущелья-, цирки со снегами, свежие следы недавних ледников. Внизу узкие фьорды, которыми залив врезается в материк.
Дальше — по широкой озерной долине, которая идет западнее Золотого хребта и примыкает непосредственно к низине Анадыря.
Здесь снова полный беспорядок: какая то речка, впадающая в залив Креста, перерезает Золотой хребет и влезает истоками в эту равнину. Река Татлю-вань, приток Канчалана, текущий на юг по равнине, вдруг поворачивает круто назад, и бросается через холмы на запад, к Канчалану.
Мы идем по окраине Золотого хребта (вернее, групп, на которые он распался). Вот красно-черная базальтовая вершина. Летим над нею — оглаженные, но узкие гребни, рядом равнина, — и самолет бросает вверх и вниз потоком теплого воздуха. Только успеваешь упереться плечом в борт кабины — как скользим уже в другую сторону. Концы крыльев непрестанно трепещут — вибрируют: они без всяких подкосов и покоятся на внутреннем скелете, ланжеронах.
Часы начинают меня беспокоить — встречный ветер вызывает изрядное запоздание, и роковые 5 ч. 10 м. уже истекли: мы идем за счет навигационного запаса. Теперь кажется, что самолет ползет слишком медленно. Когда же наконец Канчаланский залив? Медленно ползут минуты — проходит однообразная стена Золотого хребта, изгибы речек Волчьей, Скорбутной. Вот наконец холм комбината, а за ним и сам комбинат. Мы опоздали на 40 минут, но навигационный запас еще остался. Это был единственный случай, когда я привел самолет с опозданием — потом я научился располагать маршрут так, что несмотря на ветер, мы возвращались в назначенное время.
20 ПОЛЕТЫ ИЗ КРЕПОСТИ
Казалось, для нас не остается никакой надежды.
Я видел по лицам товарищей что они ожидают смерти.
Эдгар По.
Погода обещает быть хорошей и завтра надо скорее перейти в дальнюю нашу базу, в Крепость. И одновременно надо отправить одну партию горючего в Чекаево и вторую в Крепость. Мы используем его потом, в конце работы.
С горючим поедет Э. Яцыно, он организует базу в Чекаеве и будет там ждать нас. Только сегодня, через две недели после прихода парохода, удалось получить с него груз, поэтому ночь проходит в лихорадочной подготовке и распределении продовольствия по базам. Зато завтра мы имеем удовольствие видеть, при нашем отлете, катер кооперативного союза "Интеграл", который через несколько минут пойдет с кунгасами, в том числе и с маленьким кунгасом "Аэроарктик", на котором лежат бочки с нашим горючим. Гордое имя—это остаток прошлого: кунгас когда то в виде кавасаки (моторный катер японского типа с мотором, поставленным на простой баркас) был привезен сюда в 1931 г. экспедицией Арктического института, затем продан Окрисполкому. Новые хозяева сняли с него мотор, поставили па другой катер, выломали палубу — и теперь "Аэроарктик" возит рыбу и бочки.
Перелет сегодня очень хорош—ясное небо, нет ветра, и мы можем лететь по новому пути, прямо из Чекаева пересечь горы на запад. До Крепости доходим точно по прокладке, в 2 ч. 26 м. Но нужно слетать сначала в Маркове — мы забыли взять с собой чайник и котелок и следует бросить записку Призанту, чтобы он прислал свои.
Куканов делает очень эффектный налет на Марково — снизившись с высоты 600 м прямо к селу, он круто виражит, почти касаясь крылом кустов—они клонятся от ветра—и на высоте 25–30 м летит над домами. Снизу, наверно, страшно, когда такая громадина с быстротой урагана бросается на дома—и марковцы были потрясены. Одна женщина бросилась даже в баню, и заперлась там—в надежде, что баня прочнее, чем изба.
Салищев бросает дощечку с флагом, на ней записка. Снизу машут чем попало—повидимому собственной одеждой, — и мы улетаем в Крепость.
Крепость—тихое, прелестное место. Тем более прелестное, что почти нет комаров и мошек, которыми нас так пугали: в этом году, оказывается, неурожай на комаров.
Здесь спокойно, тепло, тихо, но население с прошлого раза увеличилось: у берега стоит лодка и навстречу нам выбегают ее хозяева—три ламута, на лицах которых под обычным восточным бесстрастием нельзя открыть признаков волнения: а ведь они кроме катера, не видали никаких других машин.
Ламуты помогают нам закрепить самолет, пьют с нами чай, и с наивным любопытством осматривают все странные предметы, имеющие отношение к самолету. Они приехали за продуктами, привезли партию лыж для сдачи в кооператив и теперь собираются плыть в Марково. Вечером приезжает посланный от Сельсовета, который привозит нам гостинцы от Призанта — рыбу и хлеб, и заказанные чайник и котел. Ламуты уезжают вместе с ним и мы остаемся одни.
Следующий день—дождь, ветер, низкие тучи. Приходится сидеть и наслаждаться спокойствием Крепости. Никого нет — только полевки, смешные бурые мыши с коротеньким хвостиком, юркают иногда под брезент, к штабелям муки, да суслик в серой шубке недоверчиво выглядывает из-под настила: ему надо пробраться с фуражировки домой, под береговой обрыв.
Мы поставили палатку, прикрепив ее к стропилам одного из амбаров. Амбары закрыты условно—или дверь приперта палкой, или пробой закреплен сломанным замком. Но этого достаточно—никто не возьмет. Все равно "места" чаю, каждое по 80 кирпичей в циновках, лежат открыто, высовываясь из под брезента, а рядом зеленеет штабель подмокшей американской крупчатки.
На следующий день, 8 августа, мы начинаем полеты.
Из Крепости мы должны были захватить район на юг и запад, до истоков р. Пенжиной, впадающей в Пенжинскую губу, и pp. Большого и Малого Анюев, притоков Колымы. Для этого мы расположили полеты веерообразно—и начали с южного, в зависимости от облачности.
Полет к Пенжиной начался с недоразумения — мы хотели пройти прямо к селению Пенжино, но несмотря на все расчеты, на учет силы ветра, магнитного склонения, девиации—самолет, идя по намеченному курсу, уклонялся все более и более влево, почти выходя в широкую долину Майна. Это меня, конечно, сильно волновало — все вычисления сделаны правильно, и все же надо изменить курс. И я постепенно прибавлял: вместо 200°—210, потом 220, 230,—и только дав курс 250 смог выйти в долину Пенжиной, но уже ниже селения.
Странный вид имеет с большой высоты долина Пенжиной—обширная равнина, а по ней узкая полоса почти черного леса, и желтые галечники реки, дробящейся без конца. А по равнине—большие озера прямоугольной формы, старые знакомые—их мы видели в прошлом году в Ямской губе вблизи моря. Значит и здесь море проникало до гор, вверх по долине, за сотни километров.
Сопоставление этих озере озерами равнины Анадыря позволило мне расшифровать и историю последней—более сложную.
От селения Пенжино путь наш проложен вверх по р. Пенжиной—на 150–200 километров. Но коварная река, лишь только мы входим над ней в горы, делает ловкий поворот к западу, — и верховья ее оказываются вне пределов досягаемости для нашего самолета, совсем не там, где они показаны на карте.
И мы должны снова лететь над горами к главной цепи хребта Гыдан (Колымского). Как быть с обусловленным по договору удалением на 80 км от посадочной площадки? Была избрана самая крупная река западной части района—и ее нет на месте. И снова причина для волнений! Горы идут без перерыва, без озер, без рек. 'Только подходя к главной цепи, мы видим у ее подножия озера, ледниковые озера, в долинах больших ледников, когда-то спускавшихся с Гыдана на юго-восток.
Здесь снова неожиданность — вдоль главной цепи идет какая-то большая река к северо-востоку. Но не трудно рассчитать, что это должен быть Еропол, хотя по карте он находится совсем в другом месте, за полтораста километров к востоку. Мы почти и дома, ведь Еропол—приток Анадыря, и следуя вдоль него мы попадем обратно. Но, чтобы съэко-номить время, снова перерезаем горы, обойдя острые, неприятные вершины черно-серой мрачной группы, выходим к Анадырю, и возвращаемся к Крепости через озерную равнину, но совсем с другой стороны.
Следующий полет был направлен на запад для изучения верховьев Анадыря и стыка двух хребтов — Гыдана (прежде, до наших работ 1929–1930 гг., называвшегося Становым], и Анадырского.
Этот полет был тесно связан со следующим, который мы расположили к северо-западу. Но этот следующий полет нам не давался — 10 августа снова начался дождь, снова полезли низкие рваные серые тучи, и нам пришлось засесть в палатке. На этот раз наше одиночество скрашивалось присутствием ламутов, которые вернулись из Маркова, получили из склада продукты, но не торопились уезжать домой, вверх по Майну — они хотели полностью насладиться видом самолета, посмотреть, как он садится и взлетает. Подумайте, какая богатая пища для рассказов долгой зимой! Они будут желанными гостями в каждой урасе, в каждой избе, — их усадят на лучшее место, угостят отборными кусками, и будут слушать, затаив дыхание, рассказ о том, как русская железная птица, взрывая горы воды, взлетала с ревом на воздух, захватив на себе пять человек.
Наш разговор с ламутами ограничивался пятью, шестью русскими словами, которые знает старший из них, и жестами, но борт-механик Шадрин скоро нашел общий язык. Ламуты называли себя "ламутка". И Шадрин по десять раз в день кричит "ламутка, ламутка" — и обе стороны смеются.
С ламутами пришли пять собак—они будут тянуть лодку вверх по Майну. Большая мохнатая собака с толстой серьезной мордой—это. Начальник", как сказал ламут, а худенькая белая—"Помощник". Они целый день сидят на приколе и только вечером их отпускаю г погулять и поесть жидкую уху, налитую в челнок вместо корыта.
Досуги разнообразятся еще водным спортом: здесь лежат на берегу два легких челнока—"ветка", сбитая из трех дощечек, и долбленая лодочка, "стружок" или, по местному "каюк". Плавать на них не так то просто, надо очень чутко соблюдать равновесие и река несколько раз оглашается радостными криками зрителей, когда кто нибудь из спортсменов вылезает из воды с мокрым задом.
Только 12-го на севере открывается чистое небо — над нами висят еще тучи. Но ждать очень трудно—может быть ненастье продлится здесь долго. А район, который нужно изучить—чист. И мы вылетаем.
Но этот полет едва не был нашим последним. Все шло хорошо — нормально и скучно. Курс 342, набор высоты до 1 100, определение ветра—все производится быстро, чисто, аккуратно. Выше 1 200 метров мы итти не можем—на этой высоте кучевые облака, под которыми всегда сильнее завихрения, и будет болтать. Надо пересечь Чуванскую цепь - это большая цепь, идущая параллельно хребту Гыдан, которая до сих пор не наносилась на карты: название дано нами в память почти исчезнувшего народа, чуванцев, живущих здесь, в пределах этой цепи.
Ее главные высоты невелики—всего 1100–1300 м, узкая и крутая гряда. Мы идем к перевалу, метров 1000 над уровнем моря, метров на 200 ниже нас. Выше нельзя подняться из-за облаков, да и не стоит—достаточно высоко над перевалом, и ветер дует вдоль цепи, значит не могут создаться опасные завихрения. Обычно, когда ветер переваливает через хребет, он сначала поднимает самолет кверху, а потом, после перевала бросает его вниз, и при невнимании это может кончиться плохо.
Самолет приближается к цепи, начинает болтать. Страубе, ведущий самолет (наши пилоты чередуются по часу), уже не может один удержать штурвал, и Куканов также берется за свой. Пока все как обычно у подхода к крутым горам. Мы направляемся через узкий и крутой ложок к перевалу — и вдруг поток воздуха, переваливающий через боковой отрог, бросает самолет вниз, сразу на 250 м, и вдавливает его в ложок. Мы летим, не забудьте, со скоростью два — два с половиной километра в минуту, 40 м в секунду — и перед носом у нас уже не перевал, а крутая осыпь. Огромным размахом наших крыльев мы занимаем почти весь ложок.
Еще секунда — мы упремся носом в осыпь, но в этот момент усилиями обоих пилотов машина круто положена на левое крыло, и начинается жуткий вираж. Вот правое крыло прошло в одном-двух метрах от осыпи перевала, мы скользим к правому склону ложка. Это — самое опасное мгновенье: поток низвергающегося с гребня воздуха придавливает нас к этой поверхности. Поплавки проходят почти вплотную к камням — и самолет вырывается из теснины вниз, вон из цепи. Мы круто летим вниз, теряем еще 250 м высоты — и через 3 минуты в долине, в стороне от неприятных осыпей.
Говорят, что опасные моменты длятся долго — не знаю: этот прошел чрезвычайно быстро, и ни о прошлом, ни о будущем помечтать не удалось. Была только ясная и холодная оценка опасности, как-то чуть холодно стало внутри, но из-за этого не были забыты обязанности: и у меня и у Салищева одинаково точно записана минута рокового виража.
По выходе в долину я даю новый курс — пройти несколько километров вдоль цепи, и затем уже пересечь ее по старому курсу там, где она ниже и не так остра.
Дальше мы идем над большим плоскогорьем, с которого течет Анадырь, делаем над ним круг до истоков Малого Анюя и возвращаемся обратно — снова под тучи, в моросящий дождь. Можно итти только низко над землей, пересекая бесчисленные изгибы Анадыря, так похожие один на другой. Снова мне много хлопот — следить по карте Июдина, какой из изгибов мы пересекаем, следить, правильно ли ведется самолет по заданному курсу. Когда идем так низко, Страубе любит, перегнувшись через борт, глядеть на землю, на заросли кустов, на озера, а самолет в это время рыскает.
Последние два полета принесли снова важные географические открытия: никакого горного узла на стыке двух хребтов, Гыдана и Анадырского, нет — здесь лежит обширное плоскогорье, с которого берут начало Анадырь, его приток Белая на юг, Чаун на север, и притоки Колымы, два Анюя, — на запад. И лишь южнее начинается хребет Гыдан и его Чуванская цепь, да на западе двумя отдельными возвышенными цепями уходят Анюйские хребты.
21 ПИКИ ПЕКУЛЬНЕЯ
Красота этого зрелища наполняла душу
восхищением и ужасом.
Джеймс Кук.
Хотя При возвращении нашем с верховьев Анадыря мы встретили внизу на равнине дождь, все же решили в тот же день перелететь на другую базу, в Чекаево — ведь завтра может наступить хорошая погода, и жаль будет потерять ее. Быстро была собрана палатка, заправлено последнее горючее и через два часа мы опять в воздухе. Лететь прямо нельзя — придется итти в обход по реке. Сначала пересечение озерной равнины, немного скучное, но мы летим низко, и можно изучить подробности микрорельефа. И даже фауну — вот четыре диких оленя, черные под дождем, глядят в ужасе на самолет и бросаются опрометью прочь.
Сегодня мы пройдем новым путем всю излучину Анадыря мимо селения Усть-Бельского, нового развивающегося центра. Выше его на берегу свежие постройки—это Снежное, оленеводческий совхоз, и затем под горой, на крутом повороте, на узкой полоске прилепились дома селения, даже с железными крышами. Это место веселее Маркова—с горы далекий вид на север, по широкой долине Белой. Чтобы рассмотреть получше селение, мы скользим вниз по горе к реке—и пугаем до смерти какого-то человека, который выполз погулять на склон.
Ниже Белой Анадырь идет целой сетью проток, отмели, острова с кустами. Мы зорко следим за рекой—нам нужно найти "Интеграл", ползущий вверх с горючим, и сообщить ему, чтобы он разгрузил бензин в Усть-Бельском: здесь наиболее выгодная для нас база.
Но только ниже Утесиков на широкой полосе реки показываются 5 маленьких жучков, ползущие гуськом катер и кунгасы. Надо сесть.
Круг над катером—посадка поперек реки, навстречу ветра, и мы подходим к каравану. Жаль останавливать моторы, потом их долго надо заводить—и борт-механик выбегает на конец крыла, которое проходит мимо катера, и кричит. Несмотря на шум четырех моторов—наших и на катере—его понимают, и мы сейчас же идем на взлет. Все население кунгасов, соскучившееся за долгое плавание, выползает из своих палаток и выстраивается на борту. Через минуту самолет уже в воздухе; вся операция заняла только 4 минуты.
В Чекаеве видна палатка, маленькая черная фигурка и бочки на траве: Яцыно вчера прибыл со своим хозяйством. Он выскакивает на берег в длинных резиновых сапогах, давно не бритый, завязанный платком—его начали есть комары.
Чекаево с земли совсем другое, — кусты оказывается очень большие, выше человека, высокая мокрая трава, сыро и неуютно. Домов нет, одна землянка—сруб, обложенный "тундрой" и такой же амбарчик для товаров. Никого нет, — приказчик уехал на лето, навесив замок на амбар. Но посетители здесь гораздо суровее, чем в Крепости—сегодня Яцыно, едва отойдя от домов, встретил в кустах медведя и имея с собой только утиные заряды, должен был поспешно скрыться. Непуганные утки прилетают прямо к самолету, где-то по соседству кричат гуси, и охотники (среди трех человек всегда два охотника—хотя бы на словах) не могут спокойно спать.
На следующий день у нас назначен полет на юг, — но ближайшие южные горы закрыты тучами, и над нами идут грядами кучевые облака. Можно лететь на север—там гряды разрежаются, и остаются мягкие комочки, сияющие на солнце.
Выждав, пока разойдутся облака на севере, мы пускаемся в путь. Заданная высота—1000 м, но на ней мы задеваем за облака, влажная муть обволакивает все кругом, машину болтает, — и приходится спуститься до 850 м.
Мы пойдем вдоль западного склона Пекульнея. Это уз-кий и длинный хребет, протянувшийся от главного Анадырского хребта в долину Анадыря. По обе его стороны широкие долины Белой и Танюрера, притоков Анадыря, и он зубчатой, страшной пилой пересекает страну.
Мы проходим южные низкие отроги хребта и достигаем его главной, дикой части. Здесь можно набрать высоту до 1300 м, — облаков нет. Направо развертывается грозная и холодящая душу панорама: один за другим проходят острые пики, между ними узкие ущелья, и вних — темно-синие, бериллово-зеленые озера, узкие и длинные ледниковые озера. Здесь недавно были ледники, и спускались в обе стороны на равнины. От них остались холмы морен и эти изумительные озера. А вот среди пятен снега и настоящий, живой ледник. Он прилепился на склоне пика, в крутом каре, и сползает к озерку, лежащему в кольце скал.
Пила хребта разрезается долинами все больше, и энергичные притоки Танюрера начинают проникать через водораздел и похищать верховья притоков Белой. Уже главная цепь разделена большими долинами — почти весь этот склон цепи попадает в бассейн Танюрера, и водораздел перемещается в область предгорий, которые, повышаясь, к северу превращаются в новую главную цепь.
Под нами уже эта новая цепь, краснеющая голыми гребнями бесчисленных вершин, и в ней Баранье озеро, которое посещено в 1932 г. сотрудником Арктического института Скляром. Озеро в 15 км длиной—узкая ультрамариновая полоска, изгибающаяся среди утесов. Стена утесов сопровождает ее с обеих сторон—это щель, прорезающая цепь гор.
Еще немного на север, по большому притоку Белой, — реке Осиповке. Она уходит гораздо севернее, чем предполагалось, здесь Пекульней распадается на части, исчезает — никакого горного узла, как полагается, опять нет; Анадырский хребет мрачным и непрерывным массивом громоздится на севере.
Но мы не можем итти дальше, и хотя Осиповка еще не вывершена, надо поворачивать: роковой час, как для Золушки, пробил. Еще немного к западу, и потом скорее на юг.
Справа подходит река; это, судя по очертанию изгибов Энмувеем, правая вершина Белой. Но немного погодя, справа подходит еще одна река, также большая и почти с такой же формой двух больших изгибов. Что это такое? На карте Полевого есть только Энмувеем. Придется в следующий полет изучить верховья этих двух рек и заново составить карту истоков Белой.
На юг—через обширную равнину Белой. Тянутся изгибы реки, редкие тополевые рощи на островах, и болотистая равнина, поднимающаяся к Пекульнею. Как скучно ехать здесь по земле на собаках зимой, преодолевая эти однообразные просторы.
На Анадыре видим снова катер "Интеграл" — он прошел со вчерашнего дня километров 70, и тащит сейчас одну баржу через перекаты Утесиков, Кажется, что он почти стоит на месте. Наверно пассажиры остро завидуют нам, пролетающим каждый день над ними, и так легко и быстро перемещающимися куда угодно. А они на недели прикованы к этой скучной реке, окаймленной кустами, и к грязному кунгасу.
22 ТАИНСТВЕННОЕ ОЗЕРО
14 августа снова полу-хороший день: на юге тучи, на севере ясно. Но чтобы изучить истоки Белой и зайти на ту сторону хребта надо пополнить запасы горючего в Усть-Бельском. А катер, конечно, не дополз еще до селения. Поэтому мы снова ищем катер на реке, и найдя его всего в 40 км выше места вчерашней встречи, как хищная птица бросаемся на него и останавливаем караван. Караван ничего не имеет против: развлечение, рассекающее скучное и медленное течение дней.
И пока заправляется бензин (всего полбочки—больше не успеем сжечь) команда катера осматривает и ощупывает самолет. Старшине катера ("Старшинка", как здесь говорят) я показываю штурвал и демонстрирую, как поворачиваются элероны и рули. Недавно в Анадыре он видел во сне, как унесло штормом самолет, он на катере спасал машину, пришлось сесть самому за штурвал—и самолет не хотел его слушаться.
Через полчаса мы покидаем катер, и он снова двигается вверх по реке, опять раздаются крики: "пять, пять с половиной, шесть" — это меряют глубину перекатов наметкой.
А мы в это время уже миновали Усть-Бельское и идем прямо к истокам Белой — к реке Энмувеем. Нам надо отыскать там таинственное озеро, носящее тривиальное название Ивашка или Иванка (есть еще менее известное чукотское имя Эльгытьхын).
Этого озера никто из исследователей не видал, но все о нем пишут. Чукчи рассказывают, что от одного конца его до другого день пути, т. е. 30–40 км, и что в нем лед тает только по краям и все лето озеро покрыто сплошным покровом льда.
Быстро мелькнули мелкие речки, текущие в Белую, — Мухоморная, Серная — и мы пересекаем уже Энмувеем, красивым ущельем которой восторгался Полевой. Сверху ущелье это имеет довольно жалкий вид: извилистый узкий каньон, глубиной всего 50 —100 м. Кругом же плоскогорье, залитое черными базальтами и свежей красно-белой кислой лавой — липаритами. В этих лавовых потоках, уже давно стертых временем—ветрами, дождями и ручьями—и проложил Энмувеем свое новое ущелье-канаву.
Здесь Где-то должно быть озеро Ивашка, но не оно сейчас интересует меня: с северо-востока надвигаются дождевые тучи, и торопятся перерезать наш путь. Мы не успеем до них исполнить намеченный маршрут, и приходится все изменять, огибать дождевые области, и стараться захватить насколько можно дальше на север.
Налево блестит в черных базальтовых горах черная поверхность — это Ивашка. Но мы пойдем к нему позже: — сначала на север. Здесь какая-то река разрезает страну поперек и уходит обратно, к востоку, скрываясь в тучах. Она может быть течет в Белую, а может быть в Чаун; попробуем потом проследить ее.
На севере и западе разрывает тучи, — и перед нами, всего в 50 км, открывается равнина — это равнина Чаунской губы, и за ней к западу тянутся склоны Анюйского хребта. Сразу разрешен вопрос о соотношении хребтов Анадырского и Гыдана, о западном конце Анадырского хребта и можно наметить основные структурные линии края.
Теперь к Ивашке. Чтобы определить точно его размеры, пересечем озеро. Оно красиво, но мрачной красотой. Совершенно круглое, со всех сторон — черные базальтовые горы, на юге они идут узкой грядкой и в ней прорыв, из которого вытекает речка. Дна не видно. Кобальтовая синь, почти переходящая в черный цвет, а у берега кайма бериллово-зеленая. И на берегах никакой жизни, только полосы черных и красных валунов, кольца валов, наметанных прибоем. Такие озера и скалы наверно видел в своих болезненных фантазиях Эдгар По, описывая путешествие Пима к южному полюсу.
Это озеро не похоже на другие озера, виденные нами. Оно не ледниковое, не морское—и только в кратере вулкана, потухшего не так давно, могло возникнуть такое озеро.
Но чукотская легенда все же посрамлена — озеро не больше 10 км и лед на нем растаял, не видно ни одной льдинки.
На юг от озера нагорная равнина, покрытая травой, лишь кое-где выступы базальта. Невольно представляешь себе, как по этой равнине текут огненные реки лавы и низвергаются в долину Энмувеем.
На север, юг, восток и запад — везде черные базальты, и даже светлых пятен липарита больше не видно отсюда.
Попробуем пройти на восток, навстречу ненастью — надо проследить неизвестную реку. Дождь начинает хлестать, — это очень больно; если высунешь лицо из-за козырька, то колет лицо как будто иголками. Внизу мутно и мрачно — черные базальтовые склоны, озера в болотистых долинах. Река все течет на восток и не хочет поворачивать к северу в ущелье черного массива, ни на юг, через плоскогорье.
А нам надо уходить на юг, — дождь затягивает все. Куканов виражит вправо, мы скатываемся вниз, — потом пробуем пройти еще немного к востоку, и удается увидеть, как загадочная река, собрав множество притоков с севера и востока, бросается круто на юг. Значит это та главная вершина Белой, Урумку-веем или Ерумка, о существовании которой мельком упоминает Полевой.
Можно теперь спокойно убегать от туч, тем более, что восточнее мы уже были вчера. Вниз, на юг, к теплу и солнцу, снова в широкую долину Белой. Теперь все участки связаны, все ясно для нас на севере и западе Анадырского бассейна, остается только скрепить разрыв на юге.
Снова в Усть-Бельскую. Мы подходим к селению почти одновременно с катером, он подползает снизу. Весь эффект его прибытия, ожидаемого с нетерпением, — ведь он первый после прихода первого парохода, везет новости, почту, новых людей, новые продукты—испорчен нами. К самолету сбегается все население. Камчадалки, которые только что вязали юколу, успели уже накинуть праздничные платья, и берег пестреет яркими тканями.
Усть-Бельская издавна место ежегодной ярмарки, на которую съезжаются с Чауна и с верховьев, и снизу, теперь приобретает все большее значение. Это почти американский город, по здешним масштабам, строятся "небоскребы", в один этаж, но обширные: здание Райисполкома, все из нумерованных бревен, привезенных с "материка" (т. е. из Владивостока"), и второе, еще недостроенное, уже из местного леса. А рядом жилища — будки из каких то кусочков. Большие вешала, сплошь увешанные юколой и икрой в сетках: путина нынче необыкновенно хороша, А юкола—основа здешней экономики, обеспечение собачьей жизни, обеспеченный транспорт и значит, завоз муки, чая, табака и пр. И хотя минувшая зима была для собак ужасна, занесенная с юга собачья чума уничтожила собачье поголовье на 50 %, а местами на 75 %, все же местная жизнь более благополучна будет этой зимой, чем прошлой, когда было много собак, но мало юколы.
В тот же вечер, забрав с катера несколько бочек бензина, мы перелетели в Чекаево. Ветер дул навстречу и Куканов спустился прямо в узкую протоку, где стояла наша палатка. Самолет сел с точностью необыкновенной и только несколько листочков с соседнего куста зацепились за элерон.
23 В ТЕСНИНАХ ВЭЭГИ
Вся Чукоция есть не что иное как громада голых камней.
Поверхность ее везде шероховата и покрыта каменьями,
а из сих камней есть такие, что всякую меру превосходят.
Биллингс, 1791 г.
На берегу протоки лежит 17 бочек, — и сегодня, после полета на юг, мы опорожним последние, чтобы улететь в Анадырь, домой — как мы говорим. А с катера мы взяли еще 4 бочки — это за 3 дня. Ужасно прожорлива наша птица, но зато и работает безукоризненно. Уже дряхлая, (ведь по летам своим она могла бы выйти в отставку) — и с такими многочисленными недостатками, как, например, отсутствие необходимейших приборов — и все же она работает изо дня в день, безотказно. Моторы заводятся, как часы — нет случая, чтобы мы тоскливо сидели на реке, пока борт-механик ковыряет что-то в Бристоле или в моторе, и ругается сквозь зубы. И в воздухе ни разу не слышали мы предательских перебоев, изменений равномерного звука, которые сразу заставляют настораживаться и терять доверие к машине. А у нас с каждым днем все большее спокойствие в работе, все большая уверенность в том, что самолет полетит туда, куда надо, и столько, сколько надо-И наши маршруты прокладываются все с большей и большей правильностью, как математические линии, заполняющие с правильными промежутками пространство, а не так, как в прошлом году — как линии спортивных достижений, непрестанного горения, неуверенной надежды — "а вдруг удастся".
Уверенность этого лета, конечно, эфемерна, — стоит случиться одной вынужденной посадке, и снова полеты превратятся в то, что они есть еще на самом деле — в своего рода лоттерею, где счастливый выигрывает.
Для сегодняшнего полета небо не приготовило благосклонного приема — на юге опять облака, но нам нельзя выбирать, это единственный полет, который остался из Чекаева. Но облака высоко, выше тысячи метров, а горы на этом маршруте не очень значительны.
Мы набираем высоту, отдельные кучевые облака — кучки белого дыма — летят навстречу. Приходится против обыкновения пойти над ними. Кажется на западе, куда мы направляемся, облака кончаются.
Холодно, — мы забрались на 1 700 метров. Светло, нестерпимо ярко отражается солнце от сплошных белых масс на юге.
Внизу знакомый уже Майн, а вдалеке милая Крепость. Надо повернуть на юг, и спуститься под тучи — на юге сплошной их покров. Идем под самыми облаками, и как всегда, начинает кидать самолет. По прокладке мы должны итти вдоль Майна, но вот странно: Майн отходит все дальше и дальше к западу. А между тем все учтено: и девиация компаса, и магнитное склонение, и угол сноса самолета ветром Опять то-же, что было при полете на Пенжину—Майн не хочет оставаться там, где ему показано на картах. Придется подчиниться его желанию, и перенести его в то место, где ему хочется течь.
Но это меняет наши планы — радиус действия самолета не позволит нам достигнуть самой вершины Майна, где широкая его равнина незаметно переходит в равнину Пара-польского дола, — как видно было с Пенжиной. Жаль, — это место в географическом отношении очень интересно. Но все равно, — там низкие тучи, и попасть к горе Пал-пал не удастся.
Мы вознаградим себя другой рекой — Взэги, притоком Майна, которая течет как раз там, где показан Майн. Идем по окраине узкого хребта, который странной, взъерошенной множеством острых сопочек, грядой тянется непрерывно к югу. Вээги должна его пересечь и там может быть найдем мы проход на восток к реке Большой.
Долина Вээ и все больше суживается — впереди открываются проходы, и не просто разрезы в хребте, а теснины, живописные и небывалые в стиле надуманных гор художника Богаевского. Представьте себе лагерную военную четырехугольную высокую палатку, но со стенками почти вертикальными, высотой больше 1000 метров, коричнево-черную. И поставьте несколько таких чудовищных палаток, отдельных квадратных гор, под низкими свинце-серыми тучами, которые обволакивают их вершины. А между ними глубокие ущелья речек, и в одно из этих ущелий нам нужно юркнуть, чтобы перейти в широкие долины, которые сереют на востоке в прорезах гор.
Я наклоняюсь к Куканову и спрашиваю: "можем-ли пройти?" Куканов, как всегда спокоен и немногословен: "Пройдем" и самолет направляется в главное ущелье.
Метрах в 900 под нами — речка, серые галечники, занимающие все дно ущелья. Шадрин с недоверием смотрит через борт: если сдадут моторы, то садиться надо прямо на гальку, парашютируя, чтобы раздавить шасси и спасти людей.
Против наших крыльев — черные утесы, непрерывная стена базальтов, которая увенчивает каждую гору. Поток базальта — это тот скелет, который слагает верхнее карни зы этих гор, и предохраняет их от разрушения. Справа относит тучи и видны вершины, снова базальтовые карнизы, наверно до 1300 м высоты.
Медленно летит самолет, как будто касаясь крыльями базальтовых карнизов. Конечно, ущелье очень широко, но когда смотришь на длинные, вибрирующие крылья, кажется, что они должны упереться в эту стену.
Всего 8 минут—и хребет пересечен. Снова просторно. Крутой поворот налево, здесь незаметно начинается долина р. Большой, с озерами. Все снова по правилам: "не удаляться от посадочных площадок более, чем на 80 км" — оказывается, мы и не удаляемся, хотя Майн нас и обманул.
Все серо кругом, и тучи упорно обволакивают вершины гор. У нас совсем не будет зарисован Коряцкий хребет — на юге и востоке все закрыто. Река Большая уводит нас сразу на восток, потом круто на север, — чуть ли не назад. Может быть свернуть с нее? Я скашиваю угол, но она опять выпрямляется и решительно поворачивает к востоку, чтобы обойти хребет Рарыткин.
Теперь можно бросить ее, и пройти западнее Рарыткина — с востока мы его огибали. Он такой же внушительный и с этой стороны — множество острых гор, причудливых, красных, веселых и вместе с тем страшных, если лететь близко над ними.
Мы летим над какой то речкой, которая своенравно бросается то к Рарыткину, то обратно, к западному хребту. Это наверно Березовая, главный приток озера Красного.
Налево и направо—снова мрачные базальтовые стены с вертикальными столбами, и в них глубокие ледниковые долины, перегороженные моренными валами. Тут даже самый закоренелый противник ледниковой гипотезы должен был бы смириться.
Березовая решительно не хочет вести себя прилично: перед тем, как выйти на равнину озера, она покидает свою старую долину, без всякой видимой причины бросается в сторону, и прорезает узкий каньон, а по старой долине навстречу ей течет какой то жалкий ручей.
Равнина озера Красного. Здесь также есть липариты и базальты, и я питал слабую надежду, что может быть и это озеро — кратер вулкана. Но тщетно пересекаем мы полосу липаритов и самое озеро — это гнусная, грязная лужа, мелкая лужа, со дна которой волны поднимают грязь, расползающуюся по ветру на километры. Почтенная лужа, конечно, — длиной в 40 км, но все-же лишь излучина Анадыря, отделенная наносами, принесенными с севера Танюрером.
На юге вся работа кончена, карта спаяна, пробел заполнен, можно вернуться к комбинату. В Чекаеве поспешно свертываем палатки, забираем имущество и остававшихся там Яцыно и Демидова—и вылетаем, чтобы успеть в Анадырь до заката солнца. Снова над озерной равниной — и снова над пестрой птицей Маттерна: все на месте, и баки с бензином лежат, как были. Обещание анадырских властей — обеспечить нас бензином в Анадыре—конечно останется только вежливой фразой.
В комбинате удивлены нашим ранним прилетом, и особенно сообщением, что съемка бассейна Анадыря закончена: как, всего прошло 11 дней, а за это время побывали на Пенжиной, Анюях, Чауне, засняли 375000 кв. км? Как будто даже не верят — слишком, чудовищно-быстры такие темпы.
24 СУТКИ У КРАЯ ЛЬДОВ
Вообще Чукоция есть страна возвышенная,
и часто попадались нам горы удивительной вышины;
имели мы такие перед своими глазами виды, которые
вперяли в мысль нашу восторг, и заставляли нас
взирать на те предметы не иначе как с глубочайшим
благоговением.
Биллингс, 1791 г.
Только один день провели мы в комбинате — снова потянуло в воздух: у нас были серьезные задачи по изучению арктического склона Анадырского хребта, склона, который нам не удалось видеть в прошлом году, и который, после Биллингса, не оставившего никакого орографического описания, не видел ни один исследователь. Если радиус действия "Н4 ' не позволял нам изучить все северное побережье, то во всяком случае один полет на мыс Северный и обратно можно было совершить. Горючее там есть еще с прошлого года, а расстояние не превышает наших возможностей. При этом мы можем дважды пересечь громадный хребет — предприятие рискованное, но заманчивое и в научном и в авиационном отношении: можно отыскать также новые трассы для авио-путей с Анадыря к Полярному морю.
Полет этот очень ответственный и, хорошо зная по прошлогоднему опыту условия северного побережья, мы осторожно намечаем маршрут. Туда полетим сначала по знакомому пути, к верховьям Амгуемы — и проследим ее течение дальше. Если она окажется в самом деле Амгуемой (найденная нами река может быть и Ванкаремой), то мы выйдем по ней в прибрежную равнину. Там, наверное, будет лежать туман и мы сумеем по ущелью реки нырнуть под тума" и, если нужно, переждать на устьи Амгуемы, пока он рассеется. А обратно — придется выждать на Северном разрыва в тумане, подняться в это окно, и попытаться пройти пряма на юг, через хребет. Самое опасное, если нам придется возвращаться с полпути из-за облаков, и не хватит горючего, чтобы дотянуть до базы, или база будет закрыта туманом.
17 августа чудесный день, ни одного облачка. Нельзя терять такой исключительной погоды, и я бужу всех. Но маленькое препятствие: Шадрин уехал вчера в Анадырь, наверно по романтическому делу, и не вернулся ночью. Сообщение между Анадырем и комбинатом нерегулярное, и неизвестно, когда он сможет приехать.
Куканов решает взять Демидова — второго борговика. Он уже как то летал с нами, но только раз Шадрин допустил его к таинственному делу пуска моторов. Шадрин обращается с ним как с младенцем, опекает и распекает: "Леня, дитя мое", — а это дитя с черной бородой, и вид имеет рязанского мужика, а не летчика.
Пуск мотора проходит хорошо, и Леня, гордый своим успехом, решает надеть шубу — до этого он изводил себя у Бристоля в грязном комбинезоне. Шею он заматывает куском меха с веревкой на конце — у нас очень дует, — и садится у моих ног, вроде пуделя. Я прижимаю к нему ноги — все же теплее: сегодня, как только перевалим ко льдам, будет очень холодно.
Час-другой по старым местам, через озерную равнину Анадыря и притоков Канчалана. Скучно, можно делать только небольшие дополнения к старым наблюдениям. Перевал, и снова то-же темно-синее, кобальтовое озеро в горах, и возле него чукчи. У них за эти дни ничего не изменилось в жизни, а мы успели пролететь много тысяч километров. Опять, наверно, смотрят на нас—и говорят о могуществе советских людей.
Река поворачивает немного влево, и огибает вторую, северную цепь. Направо прорыв в горах, и видна прибрежная равнина. Нет сомнения, что мы летим над Амгуемой, — если бы река была Ванкаремой, она должна бы пойти в прорыв направо.
Амгуема быстро увеличивается; слева высокие цепи, вероятно это самая высокая часть Анадырского хребта и с нее текут многочисленные многоводные речки. Набравшись сил, река бросается на север, чтобы прорезать последнюю цепь.
Впрочем, так написал-бы литератор, проезжая по низу в лодке — сверху видно, что большая долина поперек цепи проложена ледником, и реке осталось только прокопать свое ложе — каньон в дне этой долины. Но в этом каньоне есть замечательные места — вот эти два изгиба, где река врезается в хребет. Щель метров 200 глубиной, на дне бурлит река, и бросается на поворотах на скалы. Я живо представляю себе, какое наслаждение проехать здесь на лодке, если это вообще возможно.
Но в воздухе есть также свои развлечения: мы вышли из гор на прибрежную равнину Полярного моря, и на ней, конечно, лежат низкие тучи. Надо снижаться. С полуторы тысяч до тысячи — все еще мало, наконец до 500. Но ближе к морю облака спускаются все ниже и ниже, мы вместе с ними, и остается до земли всего 50 м. Навстречу с северо-запада рвет ветер — это видно по крутым волнам в реке, и по тому, как нестерпимо нас начало кидать.
Сначала Страубе, потом Куканов работают без отдыха штурвалом: вверх, вниз, на правое крыло, на левое. Хорошо еще, что нечего почти писать и рисовать — мы видим только кусочек ярко-изумрудной реки среди серо-желтой гальки и край болота. Река разбита на мелкие протоки — и невольно оцениваешь: возможна ли посадка, если сдадут моторы? Ведь здесь выбирать не придется — с пятидесяти метров!
Море — и сплошные льды. Старые знакомые, но неприятные: сразу стало холодно, и в то время, как в Анадыре на высоте 1000 м было 17° тепла, здесь, у земли, — около нуля. Над льдами туман, ничего не видно. У устья Амгуемы в тумане только кусочек левого берега, да отмель.
Отсюда еще 40 минут до Северного, но при таком ветре наверно вдвое. Самолет как будто цепляется за воздух, как за что-то крепкое: бросок вниз, потом вверх — почти скачки. Я готов закрыть глаза настолько неприятно это качание земли; да и делать нечего — ничего не видно, а берег заснят в прошлом году.
Час, час десять, час двадцать минут—только теперь показывается утес мыса Северного, и перед ним — посадочная лагуна. В ней черной жабой прижалась к берегу "восьмерка" — Дорнье-Валь. Куканов даже не летит дальше, посмотреть на мыс Северный, где он будет зимовать — и снижается здесь, чтобы скорее узнать все новости.
Но не так-то просто пристать к берегу. Только что мы подошли к косе, где нас ждет уже экипаж "H8" и Куканов выключает мотор, как нас уносит обратно в лагуну. Ветер рвет с такой силой, что только на полных оборотах можно снова подойти к берегу и держатся у него, пока вынесут тяжелый якорь, и закопают его в гальку.
На берегу та-же палатка, что в прошлом году, и тот-же Крутский, наш прошлогодний спутник. Он попрежнему такой-же веселый и такой-же неистощимый изобретатель, — и с гордостью показывает разные штучки, которые он приспособил на своем самолете. "Н8" — родной брат нашего прошлогоднего "H1", но несколько деталей делают его чужим, и смотришь на него равнодушно. Это также почтенная по возрасту машина, и ей предстоит еще большая работа по перелету в Иркутск по Лене.
Сейчас "восьмерка" ждет с запада суда Колымской экспедиции; все они разгружаются в устьи Колымы, и просят дать им ледовую разведку на этом участке, начиная от Шелагского мыса. Пока нашему самолету для проводки судов делать абсолютно нечего, но 25 августа "восьмерка" должна уйти — Леваневский боится, что скоро замерзнут лагуны на пути к Лене — и к этому времени "Н4" должен покинуть нас и перейти в Уэлен. Нас это вполне устраивает — мы не только выполнили основную работу, но даже зашли сюда, в места для "Н4" непоказанные.
Снова, как и в прошлом году, варим кофе в палатке на примусах и паяльной лампе, а снаружи рычит ветер, и так же холодно, неуютно на этой узкой косе. Хорошо бы сходить
В факторию, и повидать знакомых, но брести 12 километров по гальке против семибалльного ветра никому не хочется. И неизвестно, может быть завтра с утра удастся вылететь — здесь надо ловить каждый просвет, и быть наготове.
Мы проводим вечер в разговорах — больше всего слушаем рассказы о том, как "восьмерка" была в Номе с Мат-терном, как ласково их встречали и как жестоко фотографировали и кинематографировали, и угощали на банкетах.
Крутский, оказывается, хороший повар — жаль, что я не знал за ним этих способностей в прошлом году; он делает из оленьего мяса великолепные бифштексы.
Ночь мы проводим впервые в "Н4". Теснее, чем в Дорнье-Вально дно ровнее — только Страубе, который лег наискось в багажнике, наверно поскрипывает от тесноты. Другие спят также наискось — поперек не помещаются — в башне А и в башне В, а мы с Салищевым под немецкими креслами и ругаем их нещадно. Когда то удастся покейфовать в них по пассажирски! А сейчас их хорошо бы выломать совсем.
18 августа мало благоприятствует вылету — ветер постепенно стихает, но низкие тучи по прежнему, как в прошлом году, мчатся с запада. И как в прошлом году теснятся к берегу причудливые льдины с аквамариновыми тенями. Неприютно на мысе Северном.
Я хожу по гребню косы, выглядывая просвет, и нахожу на тех же местах, что и в прошлом году, те-же китовые и моржовые кости, те-же остатки становища. Ничто не изменилось здесь. И такие же желтые полярные маки на низких стебельках.
Сегодня — день Гражданской авиации, мы совсем забыли о нем и ничем не отметили его, кроме общего артельного кофе. А мы могли бы поздравить двух из нашей среды: как мы узнали потом из газет, Страубе и Леваневский в этот день были награждены орденами "Красной Звезды".
Днем улетает "восьмерка" — Леваневский решает итти навстречу эскадре и ждать ее у мыса Биллингса. Радио у него не работает, и чтобы связаться с судами, надо увидеть их. На мыс Северный радиостанция выгружена с "Лейтенанта Шмидта", но еще не построено здание для нее.
Все время низкие тучи, но видно подножие гор, и Куканов уговаривает меня вернуться назад по Амгуеме. Я медлю — ведь- остался неизученным огромный район от Северного до Чауна, и если мы полетим под этими тучами назад, мы ничего не увидим. А надо хоть одним глазком взглянуть на эту горную страну — иначе в моей структурной схеме останется большое белое пятно.
Но если ближайшие дни будет сплошной туман и выбраться совсем не удастся? А как-же с возращением самолета к 25-му обратно? И колеблясь между желанием изучить полнее страну и обязанностью — помочь проводке судов, я часам к четырем вечера решаю вылет: над нами растащило тучи и показался просвет. Тот просвет, который упорно появлялся над этой лагуной при западных ветрах, и которым мы воспользовались в прошлом году, чтобы прорваться на остров Врангеля. Он образуется оттого, что тучи задерживаются мысом гор у Северного, и не успевают догнать идущие по морю; просвет успевает замкнуться уже за лагуной.
Мы садимся, все готово, заводится один мотор, другой, но дальше Бристоль решительно не желает работать — та смесь, которую ему дают, грязна, и он бастует. Демидов весь покрыт маслом, пот течет с него ручьями, и целый час проходит бесплодно. Придется отложить полет — слишком поздно, мы не успеем пересечь хребет.
К моей тайной радости мы возвращаемся к палатке. Можно поесть и расположиться по-барски: теперь в нашем распоряжении вся палатка и даже три кровати.
Как будто в насмешку, просвет все увеличивается — лучше даже не смотреть на него. В полночь большой участок неба белеет над нами.
На ночь в самолете остаемся только мы с Демидовым. Я сплю тревожно — надо не пропустить момента, когда разнесет облака, но не будет еще тумана. В 3 часа самолет сам будит меня — начинает как — то неприятно раскачиваться. Полусонный выглядываю в дверь: ветер переменился на южный, машину развернуло боком, и она бьется о гальку. Со стороны материка ни одного облака. Надо будить всех, закрепить машину, и как только вполне рассветет — лететь.
Никому не хочется вылезать из теплых мешков, и приходится будить каждого по несколько раз. Пока греется кофе, я обдумываю смелый план: не слетать ли пока часа на четыре на запад, к Чауну, изучить этот угол, потом вернуться, заправиться и перелететь в Анадырь? Тогда будет изучена и заснята для карты мелкого масштаба почти вся неизвестная область. А день обещает быть хорошим, и мы могли бы успеть.
За кофе я все-же не решаюсь сообщить о своем плане. Все так рады выбраться отсюда обратно в теплые края, что очень трудно сразу, после теплого кофе и теплой постели, предложить такое холодное развлечение. Надо еще раз посмотреть на небо.
Небо не желает потворствовать моим планам: репутация мыса Северного должна быть сохранена. С юго-востока надвигается по побережью пелена тумана, и на западе, куда я хочу лететь — отдаленные тучи, стратусы и дождевые — вероятно закрывающие горы уже в 150–200 км. Опять не судьба. Если пойдем сейчас на запад—может быть неудастся сесть обратно у Северного. Или даже упустишь пересечение хребта к югу, и потом опять придется ползти домой по Амгуеме.
В 8 минут седьмого — старт. Заходим к мысу Северному, постепенно набирая высоту. Он, как всегда, окружен льдами, но пройти судно все же сможет. Только с запада прижат тесный клин льдов к скале, которая перегораживает море.
Все наверно спят внизу и не видят, как Куканов вира-жит над факторией. Теперь прямо по курсу 200, на юго-юго-ззпад, к истокам Танюрера.
Сразу надо забирать все выше и выше — здесь мощные горные массивы подходят близко к морю. Тысяча, тысяча пятьсот, тысяча восемьсот метров, — все еще мало, впереди появляются все новые громады, самые большие горы как раз на нашем курсе. И на них лежит белая шапка — первые облака.
Приходится уклониться больше к западу. Я знаю, Сали-щев уже меня ругает, и быть может сейчас прибежит постучать в окошечко за моей спиной — ведь останутся незаснятыми верховья Амгуемы. Но зато я увижу страну к западу, а это гораздо важнее для общих выводов о строении края
На запад видно далеко — чуть-ли не до самого Чауна тянется горная страна, с множеством острых вершин, но чем дальше, тем они все ниже и ниже.
Самые грозные вершины — против нас и налево, к востоку. На них лежат кое-где снега, и как будто виден висячий ледничек. Под нами узкие горные долины, маленькие речки, морены, и гребни и острые вершины без конца.
А надо подниматься выше и выше, чтобы перевалить на юг. Две тысячи — самолет начинает сдавать: мы идем все время на полном газу, и часто он не может набрать высоту. Только очень медленно всползаем выше.
Две тысячи двести метров; температура упала ниже нуля. Кажется, мы перевалили — впереди нет более высоких цепей, и как будто видны долины, идущие на юг. Но что за страшная картина под нами! Стоит "одышке" самолета сделаться серьезной, — не то, что остановиться мотору, но только немного сдать обороты — и мы не будем иметь времени даже для выбора пропасти, в которую катиться с машиной. Скалы, крутые осыпи, узкие гребни, красные и серые вершины. И так до горизонта — во все стороны. А на востоке еще хуже: все закрыто мягким белым тюфяком облаков, белым сверху, черным снизу.
Я увожу самолет все время к западу—облака все более подступают слева. Вероятно, мы выйдем уже западнее Танюрера. И действительно, я вскоре узнаю на юге неповторимую пилу Пекульнея, и направо — красные бугроватые горы верховьев Осиновки. Нам нужно итти теперь влево — хребет пересечен, но влево все сплошь заполнено, как густой сметаной, облаками, и лишь пики Пекульнея торчат из нее черными зубцами. Мы рискуем в Анадыре наткнуться на непроходимый покров туч. Не лучше ли итти в Усть-Бель-скую, и там взять бензин? Путь туда свободен. Иду посоветоваться с Кукановым — он, кстати, вылез со своего места, и греется сзади, в кабине (на пилотском кресле отмерзают ноги).
Для полета над облаками нужна большая уверенность в моторах; сегодня весь день мы идем на границе риска, с необычайной верой в моторы, или знанием их качества, или с необычайным нахальством. Куканов считает, что моторы позволяют рискнуть. "Только, пожалуйста, прямые курсом в Анадырь* — идя на полном газу, мы отступаем от обычного экономного режима и жжем бензин неимоверно.
Идем сначала к горе Тоненькой — она торчит острым конусом из сметаны облаков, возле нее должен проходить Танюрер. От нее курс 160, прямо в Анадырь. На 100 километров — сплошь волнистая белая поверхность.
Только у Канчалана показывается темный разрыв, и над ним второй слой темных стратусов. Здесь мы нырнем и будем почти дома. На полуторых тысячах метров—последнее определение сноса, и потом круто вниз, к равнине Канчалана.
Земля приближается, увеличиваются озера, оживают болота — мы на пятистах метрах. Еще пересечем вот это большое озеро, чтобы определить его длину, и потом домой. Последний вираж над комбинатом и последняя посадка.
Вряд-ли стоит рассказывать о нашей жизни после окончания полетов. Через несколько дней "Н4 ' с Кукановым, обоими борт-механиками и Красинским, прибывшим к этому времени на пароходе в Анадырь, вылетел в Уэлен и далее на мыс Северный. Самолет вел интенсивную работу по проводке судов — в крайне тяжелых условиях. Кроме того, дважды пришлось слетать на о-в Врангеля, чтобы вывезти оттуда всех русских и нескольких эскимосов, и завезти радиста и Демидова (в качестве моториста). Как сообщил Красин-ский, успех этих полетов в значительной степени связан с энергией и летным опытом Куканова, который уже и при наших полетах успел показать свои блестящие летные качества.
Другой наш пилот, Страубе, который не должен был зимовать на мысе Северном, остался с нами в Анадыре — дожидаться отхода первого парохода. К сожалению, в этом году первый пароход ушел вместе с последним, в 20-ых числах сентября и нам пришлось ждать целый месяц.
25 ВДОЛЬ БЕРЕГОВ КОРЯЦКОЙ ЗЕМЛИ
Замечательный человек — весьма замечательный человек —
один из самых замечательных людей нашего века
Эдгар По.
В прошлом году первый пароход ушел из Анадыря 25 августа, но в этом году нам не повело: первый пароход уходит 19 сентября, всего на 4 дня раньше последнего. И пароход этот — все тот же неудобный "Охотск". С той только разницей, что он повезет теперь не 900 человек пассажиров, как вез сюда, а почти тысячу пятьсот.
Приготовления к приему пассажиров нecложны—им отведут твиндеки, верхнюю часть трюмов, отделенную от загруженной нижней палубой. В твиндеках этих нет света и нет даже отдельной вентиляции — вентиляционные трубы идут вниз, и так как нижняя часть заложена грузом, то вентиляция не действует.
Чтобы поместить в твиндеки побольше людей, там строятся легкие нары. Легкие, с досками, положенными так, "чтобы люди не проваливались" — потому что жалко везти обратно ценный лес. И еще строят на палубе будочки, одну для кухни, другую, изящную беседку над бортом — уборную.
"Охотск" оригинальный пароход, в нем пассажир; м запрещено пользоваться местами общего пользования, начиная с уборной и кончая кают-кампанией. Даже для самых почетных пассажиров не делается исключения. В северовосточных водах это особенно странно: здесь капитан всегда заботится о пассажирах, потому что условия плавания тяжелы, пароходов мало, плыть приходится месяцами.
Но капитан "Охотска", Дорошенко — особенный капитан: во-первых, он прибыл только что из Одессы, и обычаи этих вод ему новы. Во-вторых, после 30 лет долгой морской службы (из них последние 18 лет помощником капитана! он первый раз в этом рейсе идет капитаном, и у него закружилась голова от собственного величия.
Уже когда мы тли в Анадырь, начал назревать конфликт между нетерпящим возражений сумасбродом — капитаном и почти всем экипажем. Было издано несколько замечательных приказов. Например, запрещение помощникам капитана мыться в ванне — она предназначена только для самого капитана. Или, плоды сатирического ума, вроде следующего: "Кочегар 1 кл. т. Б. в присутствии пассажиров требуя у артельщика выдачи ему незаконно сахару, на отказ наносит оскорбление, а также и обкладывает площадной бранью артельщика и поваров, посматривая на своих единомышленников и лекуя Своим хулиганским поступком и недобросовестным. От подстрекательства могли даже произойти также требования и других; учитывая поступок острой важности на ходу в море явно подрывающим труддисциплину на судне. По этому т. Б. на 1 раз объявляю строгий выговор"
Пока "Охотск" плавал к Уэлеиу, конфликт назрел еще больше. Громы упали прежде всего на голову радистки и старшего повара, осмелившихся сочетаться браком (радистка привлекала взоры не только будущего своего мужа). Вместо свадебного подарка радистка была уволена, а ее муж был смещен с должности артельщика, возбуждено судебное дело и издан$7
В Анадыре капитан пришел к выводу, что корень зла — в заговоре, который составлен против него большей частью комсостава судна. И глава этого заговора — старший помощник Таратунин. И вот, едва мы ушли от береговых властей и стали на якоре у Земли Гека для погрузки рыбы и людей, как появился новый грозный приказ: "Рейд 3. Гека. На неоднократные мои словесные распоряжения и предупреждения старшему помощнику т. Таратуиину С. А. и еще данное ему распоряжение в письменной форме под его личную расписку на выполнение в области административно-хозяйственной жизни на судне, но до настоящего времени по многим пунктам не выполнено исходя из этого и учитывая важность моих распоряжений, а также вступление нашего судна в конкурс. Считаю невыполнение моих распоряжений по производству в дальнейшем терпимо быть не может и не допустимо, а также и во Владивостоке мной дано ручательство на случай чего-либо несу строжайшую ответственность.
В силу чего вынужден в дальнейшей работе ему не верить. Дабы выполнить все намерения возложенные производством. По этому старший помощник Таратунин увольняется со службы парохода "Охотск" с 21-IX 33".
Весь корабль был глубоко возмущен этим приказом: Таратунин, опытный моряк, партиец, преподаватель морского техникума в Владивостоке, окончил морской ВУЗ в Ленинграде, пользовался общим уважением. А сомнительные морские качества капитана были ясны всем.
Но морская дисциплина сурова — капитан является единоличным начальником, и его приказы не могут оспариваться. Надо было отложить все дело до Владивостока, где его должно было разрешить Управление Морфлота Тихоокеанского бассейна.
И экипаж, затаив негодование, обречен целый месяц быть участником трагикомедии. Нам пассажирам было лучше, мы как зрители, могли находить комические черты в развертывающейся драме.
После стоянки у рыбалок Земли Гека, мы двинулись на юго-запад, вдоль побережья Коряцкой Земли. Следующий заход был—бухта Натальи, рядом с бухтой Глубокой. Это такая же красивая бухта, фьорд среди острых высоких гор. Когда мы пришли туда в конце сентября, горы сияли. Недавно был страшный шторм с пургой и склоны завалены снегом на полметра.
В Наталье крабоконсервный завод. В глубине бухты, под водопадиком, который подает воду прямо в водопроводные желоба, заводик и рядом на берегу кучи крабовых панцирей и обломков ног.
Тихо, кунгасы не бьют о борт, и погрузка происходит быстро. Я использую стоянку, чтобы пройти вверх по долине, впадающей в кут бухты. Эта долина—прямое продолжение бухты, здесь спускался ледник, конец которого лежал в воде. Далеко, на десятки километров тянется широкая долина. Под утесами свистят суслики, пролетают утки к маленьким моренным озерам на склоне.
Из Натальи мы идем мимо мрачной Глубокой, мимо изумительных скал мыса Витгенштейна к другому промыслу, Топате. Топата также крабоконсервный завод. Также, как и в Наталье, на берегу вонючие гниющие крабы и кучи крабовых панцырей. Крабов ловят сетями за 15–20 миль от берега. Сети ставят на глубине на неделю, и нужно большое лоцманское искусство, чтобы найти в туман или непогоду нужную сеть среди нескольких сот закинутых за неделю. В наших крабоконсервных промыслах сначала работали японцы, — исконные моряки, едва-ли не лучшие в мире. Теперь перешли к обслуживанию промыслов русскими и к сожалению, пока еще не удалось полностью овладеть капризной крабовой наукой. Но недолов крабов в Наталье и Топате был восполнен рыбой: пришла необыкновенно толстая селедка, не назначенная по плану, и на берегу лежат во множестве бочки с соленой селедкой и консервы из селедки.
Стоянку в Топате я использую опять для изучения Коряц-кого хребта. Здесь ясно намечается громадная окраинная сбросовая линия, окаймляющая с востока Олюторский мыс. Кроме того, приятно побродить по утесам, заглянуть в пещеры, в которые бьет прибой, поглазеть на красноклювых топорков и черных бакланов, сидящих на камнях, измазанных потеками гуано. Маленький отдых после томительной атмосферы "Охотска", где множество людей стеснены на кусочке палубы. На судне нормально разрешено везти 400 человек — а едет почти полторы тысячи. В хороший день на палубе негде ступить, — все занято. Играют дети, стирают белье, парикмахер стрижет и бреет, женщины ищут друг у друга в голове. Пассажиры уныло фланируют по узким шканцам ("Невскому проспекту") и с завистью заглядывают в кают-кампанию, где па свободе расположился портной: капитан достал себе в Анадыре сукно, и ему шьют костюм.
После Топаты мы идем еще в Олюторку: осталось свободное место в трюме на 300 тонн и капитан хочет, точно следуя инструкции, захватить возможно больше груза.
А из Олюторки мы пойдем назад: пришел приказ, взять на буксир судно "Красный Партизан", зимовавшее во льдах после Колымского похода 1932 г. и потерявшее винт с валом. Его приведет в Наталью "Микоян", другой зимовщик из Колымской эскадры, а далее передаст "Охотску", как более сильному.
Все в ужасе: перегруженный пароход должен итти через бурное осенью Охотское море, имея на буксире инвалида, и рискуя в шторм лишиться возможности управляться. Нынче в июне, в рейс из Петропавловска во Владивосток, "Охотск" идя один, попал в 9-ти балльный шторм, имел ход всего полторы мили, потерял способность управляться, и был принужден убегать по ветру на 200 миль в сторону.
Посланы протесты, но делать нечего — надо исполнять приказ. Вечером снимаемся с якоря, идем обратно. Под Олюторским мысом хорошо, мы защищены от восточного ветра, но как только мы выходим из-за мыса и направляемся к Наталье, волна начинают бить в скулу. Волнение небольшое, всего 5 баллов, но волна попадает на палубу. А наша палуба — вроде Сухаревского рынка; будки, палатки, тенты, люди на грузе, груз в кучах. И открытые отверстия в трюмы, в которые начинает хлестать вода. Задраить трюмы нельзя — люди в них задохнуться. И пароход принужден повернуть обратно, под прикрытие Олюторского мыса.
Через десять минут после поворота радио приносит радостное известие: Морфлот, принимая во внимание состояние судна, разрешает ему итти прямо во Владивосток.
Утром все на пароходе в праздничном настроении; наконец кончилось томительное блуждание у берегов Коряцкой Земли, мы будем через две недели, или даже раньше, па самом деле во Владивостоке.
Дни Идут за днями в радостном ожидании. Все развлекаются, как могут. Пассажиры устроили в 1-м трюме Сухаревку: здесь вы можете купить что угодно: и поношенные брюки, и крабовые консервы, и мелкие орешки кустарника кедрового сланца, и даже—женщину.
Капитан забавляется приказами. Уволен еще старшина моторного катера, а его помощник "как обработанный по группировке" получил выговор. Один из помощников капитана и два матроса (один из них предсудкома, студент-практикант) получили выговор, за то, что на мостике допустили "не этичное физио-объяснение действиями". Попросту, посмеялись какой то шутке. Многим еще грозят кары и приказы, на многих кричат, выгоняют из капитанской каюты и т. п.
Уволенные играют пока в шахматы, ютятся в каютах у сочувствующих, ждут Владивостока, да развлекаются странными эволюциями судна.
У берегов Камчатки, например, идя далеко от берега, судно вдруг бросается под прямым углом в море: капитан испугался черной тучи впереди и огней встречного судна, приняв их за берег.
После краткой стоянки в Петропавловске, этом красивейшем порте Союза, с замечательной гаванью, мы входим в гряду Курильских островов, опять в тумане, и туман провожает нас до Лаперузова пролива. Обычно бурное Охотское море чествует нас штилем, зная, что в шторм нам не пройти. В Лаперузов пролив входим в редком тумане — берег едва виден. Капитан опять пугается и вместо того, чтобы итти обычным прямым курсом через пролив, мы четыре раза меняем курс под прямым углом, то приближаясь к берегу, когда он скрывается, то увидав его — спасаемся в море.
Легкая дымка сопровождает нас до Владивостока, и капитан еще раз показывает свое искусство. Он не верит пи своим определениям по солнцу, ни определениям помощников и мы проскакиваем на юг, за Владивосток, и потом возвращаемся обратно.
Но это — последние подвиги капитана. Еще до прихода Охотска" Управлением Морфлота была образована специальная комиссия для расследования славного нашего плавания, и через 3 дня стало известно, что Дорошенко снимается, приказы его отменяются, дело о нем пойдет своим ходом, а капитаном "Охотска" будет Таратунин.
26 НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ
Экспедиция 1933 г. в отличие от предыдущей является исключительно деловой. Никакой романтики, никаких арктических льдов, медведей, моржей и прочих непременных аксессуаров, излюбленных в описаниях полярных стран. Только сухая, точная, напряженная работа, изо-дня в день, аккуратная как часы. Всего только 67 часов, одиннадцать круговых полетов — и исследования закончены.
Заснято для миллионной карты около 375.000 кв. км бассейна Анадыря, и для карты масштаба 2 1/2 миллиона — часть северного склона Анадырского хребта. Если бы у нас был самолет с большим радиусом действия, мы смогли бы заснять весь Чукотский округ.
Опыт работы этого года наглядно показал, что съемка севера в первом приближении может быть произведена с самолета предложенным нами методом. Уже зимой 1933–1934 г. мы сможем составить хорошую карту Анадырского края. Карта эта послужит основанием для всех дальнейших работ по освоению края.
Географические и геологические наблюдения с самолета оказались также очень плодотворными. Теперь мы в состоянии дать не только орографическое описание Чукотского округа, но даже наметить основные его структурные линии.
Современный рельеф страны тесно связан с ее строением, довольно сложным. Она представляет область столкновения двух дуг, Камчатско — Коряцкой и Охотско-Чаунской и более древнего Чукотского массива, лежащего между ними.
Камчатско — Коряцкая дуга выпукла к северо-западу. В нее входят цепи Камчатки, вытянутые вдоль полуострова и далее составляющие их продолжение цепи хребта, названного нами Коряцким. На перешейке Камчатки эти две системы разделены разрывом возле залива Уала. Коряцкий хребет состоит из ряда параллельных цепей, и постепено заворачивает к востоку, исчезая в море у мыса Наварина.
Вся эта дуга — молодая, она состоит из складчатых гор новейшего происхождения, вытянутых вдоль дуги, и параллельных этим складкам больших сбросов.
Охотско-Чаунская дуга выгнута в обратную сторону—она выпукла на юго — восток и состоит из более древних элементов, которые когда — то слагали горные складки, идущие перпендикулярно современному направлению дуги. Но совсем недавно, в четвертичное время, древние складки были пересечены большими разломами земной коры, и разломы эти ограничили с севера Охотское море, и далее направились вдоль Пенжинской губы к Чаунской губе. Южный конец этой дуги — непрерывный высокий хребет, Гыдан (или по старому Колымский). Он кончается у Большого Анюя и севернее на его продолжении — две широтные цепи. Южная и Северная Анюйская. Юго-восточный склон хребта с ступенчатыми сбросами, и передовой ступенью этих сбросов являются Приморская гряда возле Тауйской губы, поуострова Кони, Пьягина, Тайгонос и Чуванская цепь, которая вытягивается длинной полосой на север почти до верховьев Анадыря. Хребет Гыдан высотой свыше 2000 м, еще почти неисследован и таит много загадочного, и еще самые неожиданные открытия научные и практические, в области полезных ископаемых, будут в нем сделаны.
На северо-восток эти две громадные дуги расходятся, и между ними вклинивается Чукотский массив (Анадырский хребет), древнее образование, давно уже смятое в складчатые горы, а недавно, в четвертичное время, приподнятый снова, как мощный, высокий прямоугольный горный комплекс. Его главные высоты, до 2300 м, лежат на юг от мыса Северного к верховьям Осиновки, Танюрера и Амгуемы. Другое повышение восточнее, в цепи Эськатень, до 1700 м. Массив этот представляет продолжение Аляски, и этим объясняется нахождение в нем тех-же полезных ископаемых, золота, олова и других металлов. Вероятно, здесь заключены наиболее значительные ископаемые богатства Чукотского края.
Между этими тремя основными компонентами страну находится область раздробленная и пониженная, которая ткнется от Пенжинской губы к Анадырскому лиману и отделяет от себя ветвь к Чаунской губе.
Остановимся прежде всего на том, что Полевой называл "Центральной депрессией" — на понижении между Пенжиной и Анадырем. Оно включает обширные равнины этих двух рек, еще недавно, в четвертичное время, заливавшихся морем. Равнины эти почти соединяются и значит во время морской трансгрессии Камчатско-Коряцкая дуга представляла остров. Парапольский дол, который соединяется с понижением Майна, также был залит морем (может быть немного ранее), а потом, при поднятии Камчатско-Коряцкой дуги, поднялся вместе с ней на высоту 100–150 м.
Пространство между озерными равнинами занято излияниями новейших лав — базальтов, липаритов и андезитов, и узкими, длинными хребтиками, — складками новейших отложений, ответвляющимися от Камчатско-Коряцкой дуги на ее повороте к востоку. Это — хребты Пенжинский, Рарыткин и Пекульней
Область понижения была вместе с тем и областью раздробления — здесь сталкивались две мощные дуги. И поэтому сюда так легко проникала лава. Это мы особенно ясно видим севернее, в промежутке между хребтом Гыдан и Чукотским массивом. Здесь по старым картам предполагается горный узел, стык хребтов Анадырского и Колымского. На самом деле здесь только плоскогорье (мы назвали его Анадырским) — и оно сплошь залито лавами. Это — область громадного разлома, который прошел сюда от Охотского моря, образовал Чаунскую губу; последние отзвуки когда то бывших здесь грозных извержений—озеро Ивашка, замолкнувший маленький вулкан, вернее только кратер взрыва.
Структура северо-востока становится теперь понятной. Это завершение того ряда дуг, которые окаймляют материк Азии с востока.