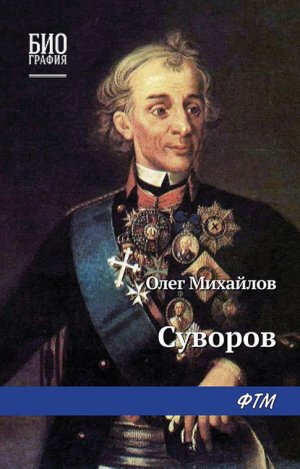
Глава первая
Юность
В лето одна тысяча семьсот сорок второе, числа двадцать девятого месяца апреля, на пятый день празднования своей коронации в Москве, дочь Петра Первого Елизавета готовилась торжественно отправиться из Кремля в зимний Аннингоф на Яузе. С семи пополуночи знатные особы, определенные к церемонии, уже собрались на Ивановской площади в каретах цугом. Прочие персоны загодя отправились в зимний ее величества дом и ожидали процессию там. В числе их был и Василий Иванович Суворов, находившийся при штатских делах в Берг-коллегии в чине полковника. Пользуясь тем, что строгий прокурор все эти дни был занят в бесчисленных церемониях, его двенадцатилетний сын Александр с самого утра убегал из дому, не слушая наставлений мамаши Евдокии Федосеевны.
Чуть свет забежал он в людскую, где под тулупом сладко спал его сверстник Ефимка, сын истопника Ивана.
– Ефим, слышь, Ефим, – нетерпеливо тряс его Александр, – ты что, уговор забыл – царицу идти глядеть?..
Со сна Ефимка вскочил, бессмысленно тараща глаза под рыжими ресницами, стирая с конопатого лица невидимую паутину. Похлебали вчерашнюю окрошку из одной деревянной миски – и айда!
Они уже побывали на колокольне церкви Николая Чудотворца, что в Покровском, и пособили знакомому звонарю, когда в восемь утра по сигналу Ивана Великого вся Москва отозвалась благовестом своих сорока сороков; оглядели четверо триумфальных ворот, специально воздвигнутых к коронации, – на Тверской у Земляного вала, в Китай-городе подле церкви Казанской Богоматери, на Мясницкой и, конечно, ближние к их дому, на Яузе.
По тракту от Кремля до Яузского дворца, чернея треуголками, стояли в параде лейб-гвардии Преображенский, Семеновский, Измайловский, Конный, а также армейские полки со своими музыкантами. Места для смотрения и окна домов были украшены повсюду сукнами, коврами, шелковыми и шерстяными материями. За зелеными и синими мундирами солдат пестрели по-весеннему разряженные толпы москвичей, ожидавших царский поезд.
Резвый и юркий Александр тянул за собой и увальня Ефимку. В невообразимой толчее они пробились к самой дворцовой решетке Лефортова. Отсюда, с берега Яузы, была хорошо видна вся пышная громада Москвы, с бесчисленными золотыми куполами, увенчанными крестами, с ее дворцами и усадьбами, утопающими в розовом и белом цветении вишен и яблонь.
В одиннадцать часов звон колоколов и пальба на бастионах из ста одной пушки возвестили о выступлении процессии. Путь ее лежал через Маросейку, Покровку и Немецкую улицу. По мере приближения царского поезда, все явственнее становились приветственные клики, беглый огонь в полках из мелкого ружья, звуки труб и литавр с барабанным боем.
Нетерпение все напиравшей и напиравшей толпы у Яузского дворца было так велико, что она прорвала заслоны, и дюжие гренадеры в украшенных плюмажами шапках с трудом оттеснили ее на отведенные для смотрения места. Потерявший Ефимку, щупленький Александр оказался зажатым меж здоровенных спин и плечей.
– Лезь под мышку, сыне, – пропуская его вперед, добродушно прогудел чернобородый дьяк с чернильницей у пояса.
Высунувшись, Александр увидал в конце дороги, идущей от нового моста через Яузу и уставленной пьедесталами с урнами и статуями, конных лейб-гвардии рейтар под их штандартом. За ними верхами ехали два полковника.
– Сие церемониймейстеры – Бейер и, толстый, что к нам ближе, князь Прозоровский, – объяснил бойкий дьяк.
Будущий тесть Суворова Иван Прозоровский важно сидел на богато убранной лошади, держа золоченый жезл в двуглавым орлом.
За церемониймейстерами медленно потянулись вереницы карет знатных особ: мелькание золоченых спиц в огромных колесах, арапы, карлы, пажи на запятках, перед экипажами лакеи и скороходы в островерхих шапках и пышных ливреях, по бокам гайдуки.
– Обер-ягермейстер, действительный камергер, обоих российских орденов кавалер и лейб-кампании поручик Разумовский… Генерал-аншеф Ушаков… Генерал-аншеф Салтыков… – бормотал, с наслаждением выговаривая чины и имена, дьяк. – Канцлер князь Черкасский… Генерал-фельдмаршал Трубецкой… Президент Военной коллегии князь Долгоруков…
За каретами ведены были служителями двадцать четыре лошади в богатых попонах из конюшни императрицы. Далее, за новыми церемониймейстерами, – трубачи, герольды и князь Сергей Голицын в окружении майоров и сержантов с кожаными мешками, метавший в толпу золотые и серебряные жетоны.
– Лови, дяденька! – крикнул Александр дьяку, но, изловчившись, схватил сам желтый блестящий кружочек. На одной стороне изображение короны, светящей из облака, на другой надпись: «Елисавет Императрица и Самодержица Всероссийская коронована в Москве 1742 года».
Мимо уже шли по двое шестьдесят лакеев двора, проезжали верхами камер-юнкеры и камергеры, шталмейстер и за ним – сверкающая золотом, под огромною короною карета, заложенная осмью белыми лошадьми…
– Царица! Матушка наша Елисавет! Петрова дщерь! – раздалось вокруг.
Александр поднялся на цыпочки и увидел в огромном окне, проплывавшем совсем рядом, среди пунцового бархата, тканного золотыми цветами, крупную фигуру императрицы, одетой в епанчу или легкую мантию, и под блистающей бриллиантами короною – круглое большеглазое лицо. Он уже знал за собой эту способность мгновенно схватить и запомнить – содержание ли книжной страницы, встреченного ли человека, в его памяти сразу же запечатлелась эта русская красавица, которую только портил слегка приплюснутый толстый нос. Елизавета поэтому не позволяла писать себя в профиль. Вообще же живописцам указывалось «делать нос государыни подлиннее…». Процессию замыкали кареты статс-дам, жен вельмож, камер- и гоффрейлин.
У въезда во дворец, перед триумфальными воротами, Елизавету встретили ожидавшие ее знатные персоны, генералитет и шляхетство. Царица удалилась с гостями в зимний дворец, выкрашенный желтой охрой, с белеными наличниками и фронтоном. Когда она села за стол, на площади перед дворцом взметнулись вверх фонтаны белого и красного вина, сняты были с рундуков покрышки, под коими лежали жареные быки, поросята, окорока, куры и утки.
Александр, нашедший наконец в толчее своего Ефимку, бросился было к угощению, но в дворцовых воротах им преградил путь гренадер.
– Пусти, солдат! – гневно крикнул маленький Александр. – Я сын прокурора Суворова, а это мой дворовый.
– Ишь ты, барчонок востроносый, – удивился гренадер, давая дорогу подростку, – тебя-то я пущу, а вот в подлом платье входить сюда не велено. – И он пихнул Ефимку назад в толпу.
…Когда стало смеркаться, небо над дворцом озарилось шутихами, ракетами, огненными снопами, загорелось вензловое имя ЕЛИСАВЕТ между двумя орлами под короною.
Ликовала Россия, которой правление Анны Иоанновны виделось дурным сном. Покойная императрица окружила себя немецкими дворянами из Курляндии, а ее фаворит, митавский конюх, грубый и тупой герцог Бирон, прямо преследовал все русское. С 1730 года начались аресты, пытки, казни русских дворян по подозрению в заговоре против антинационального правительства. Особое недоверие у Бирона и близких к трону иностранцев вызывали созданные Петром I Преображенский и Семеновский гвардейские полки. Желая ослабить их роль, Бирон и честолюбивый датчанин на русской службе Миних сформировали в 1730 году новый, лейб-гвардии Измайловский полк, почти все офицеры которого состояли из остзейских немцев.
Восшествие на престол Елизаветы Петровны означало конец немецкому засилью – поэтому так радовались, приветствуя царицу, дворяне, купцы, чиновники, лица духовного сана. Впрочем, многомиллионному крепостному крестьянству, «подлому люду», переворот 25 ноября 1741 года не сулил ровно никаких перемен к лучшему…
Через неделю в доме Суворовых, что в Покровском, с утра царило необычное оживление. В трапезную носились меды и пива, соленья, варенья, жаренья. Скуповатый хозяин на сей раз не жалел ничего. Евдокия Федосеевна в широком сарафане, скрывавшем ее тяжелый живот, самолично спускалась в погреба и подклети, давая указания дворне. Разбитной, нагловатый малый, подававший к столу квас, на вопрос старухи няньки коротко ответил:
– И, баушка, черен чисто галка! Старуха пожевала сухими губами.
– Так это, Сидор, ён…
– Кто? – притворно удивился Сидор.
– Ну да ён!
– Какой такой ён?
– Будто не знаашь… – Она мелко закрестилась и неохотно пояснила: – Да черт!
Знаменитый царский арап Абрам Петров Ганнибал был давним, с детских лет, знакомцем Василия Ивановича. Крестник Петра Великого, он в страшную пору бироновщины отсиживался на лифляндской мызе своей жены Христины-Регины и лишь после падения любимца Анны Иоанновны был принят на службу в Ревельский гарнизон подполковником. Елизавета не позабыла «птенца гнезда Петрова» и 12 января 1742 года пожаловала Абрама Ганнибала прямо в генерал-майоры.
Во время обеда гость рассказывал о праздничных днях в Ревеле, где уже он был обер-комендантом:
– В высокий день коронования ее императорского величества собрал я ополудни господ из генералитета и от флота, равным же образом штаб и обер-офицеров от артиллерии, инженерного корпуса и городского гарнизона, также ландратов герцогства Эстляндского и прочих разных персон. По окончании стола начался бал, который продолжался до полуночи… Перед моею же квартирою представлена была следующая иллюминация: ее императорское величество, на коленях молящаяся, а сверх ее с небес сияние с надписью: «Жив Бог, и жива душа моя». Пред Елисаветою на троне императорская корона и скипетр с надписью: «Богом и родом Петра Великого избранна, свыше Елисавет России данна». А ты, любезный камерад, к каковым ныне делам приставлен?
Рядом с крупным темнокожим генералом без парика и с курчавыми волосами голубоглазый Суворов, маленький и неказистый, выглядел еще плоше.
– Государыня соизволила назначить меня прокурором в Генерал-Берг-Директориум.
– Постой, а где же твой первенец? Суворов махнул рукою:
– Он у меня сущий чудак – гостей дичится и чтением до излишества занят.
– Сие похвально. А к чему склонность имеет?
– Всего более к гиштории и военной науке. Представь, вижу у него «Записки принца Евгения» о нынешних войнах и осадах крепостей. Спрашиваю его: «Что делаешь?» – «Читаю, батюшка». – «О мой друг, книгу ту читать тебе еще рано». – «Но почему же? – говорит он. – Я ее довольно понимаю и разумею, и она мне очень полюбилась». – «Ну хорошо, мой друг, – отвечаю я, – ежели так, то, пожалуй себе, читай». Он же мне: «Я ее уже вдругорядь читаю».
– Вот как? Любопытно.
– Все просит, чтобы записал его в гвардию. А я боюсь – здоровьем он слаб. Пригоден ли к военной службе?
– Дозволь же мне на него взглянуть…
Двенадцатилетний Александр по обычаям того времени поцеловал черную руку генерала. Убранство светелки было бедным: в углу деревянная кровать с жестким тюфяком и кожаной подушкой, над кроватью образ с засохшею вербой и фарфоровым яичком, у окна стол, несколько книг в свиной коже, ландкарты и планы битв.
На вопросы мальчик отвечал смело, толково, не смущаясь необычного гостя – чернолицего, с большими красными губами и резко блестевшими белками глаз и зубами. Бегло проэкзаменовав Александра по разным наукам, особливо инженерному делу (которое он знал в совершенстве, так как учился в специальной школе в Меце), Ганнибал пришел в восторг. Разговор завершился любимой для Абрама Петрова темой – воспоминаниями о покойном императоре, полководце и преобразователе армии российской.
Блаженной памяти Петр Алексеевич самолично написал в дополнениях к уставу, чтобы офицеры солдат отечески содержали, понеже ни единый народ в свете так не послушлив, яко российский… Вернувшись к отцу, Ганнибал на его немой вопрос ответил:
– Петр Великий непременно, поцеловал бы мальчика в лоб за настойчивые его труды и определил бы обучаться военному делу…
– Я уже и сам к тому склоняюсь, – вздохнул отец. – Может, позвать его сюда?
– Нет, камерад, – остановил его Ганнибал, – не зови: его беседа лучше нашей. С такими гостями, как у него, он уйдет, и, поверь, далеко…
На берегу Яузы, против потешной крепости Прессбург, заложил Петр Преображенскую и Семеновскую слободы для первых гвардейских полков. В 1689 году в Преображенской слободе был срублен Съезжий двор (впоследствии названный Генеральным), место управления регулярной русской армией. Указ Петра от 8 ноября 1699 года предлагал тем, «кто хочет поступить на службу, явиться в Преображенское в солдатскую избу…». Указ был подписан генеральным писарем Преображенского полка Иваном Суворовым.
Молодой царь не раз запросто бывал в его доме, что в Преображенском, и самолично крестил его сына Василия. В 1722 году, через семь лет после смерти отца, четырнадцатилетний Василий Иванов Суворов был определен в денщики к Петру I. «При сем государе, – сообщает А. В. Суворов, – он начал службу в должности денщика и переводчика и, по кончине его, императрицею Екатериною Первою выпущен был лейб-гвардии от бомбардир-сержантом и вскоре пожалован прапорщиком в Преображенский полк, где он службу продолжал до капитана…»
О нем писали вскользь и словно нехотя. Большинство биографов Александра Васильевича Суворова подчеркивало в его отце незначительность личности и заурядность судьбы. Такой человек, по их мнению, не мог оказать сколько-нибудь заметного влияния на знаменитого сына. И выходило, что генералиссимус Российских войск был обязан ему разве что некоторыми частными особенностями характера – расчетливостью и бережливостью, переходящими у В. И. Суворова в скупость. Огромная тень, которую отбрасывала фигура сына, заслонила и поглотила отца.
Между тем Василий Иванович Суворов был личностью незаурядной, сыгравшей заметную роль в нескольких важных для России исторических эпизодах. Один из младших «птенцов гнезда Петрова», он под конец жизни достиг высокого положения – был генерал-аншефом, членом Военной коллегии, кавалером Андреевского ордена, орденов Святой Анны и Александра Невского, сенатором.
Это был дворянин не очень знатного рода. По существовавшей моде выводить свой род непременно от иностранцев Суворовы называли своим предком покинувшего в 1622 году Швецию Сувора, но исторические данные никак не вяжутся с этой легендой. Предки Суворовых упоминаются уже в царствование Ивана Грозного, когда Михаил Иванович Суворов служил четвертым воеводой правой руки войск в Казанском походе 1544 года и третьим воеводой большого полка в шведском походе 1549 года.
Место царева денщика не было при Петре ни «подлым», ни тем более лакейским и предполагало обязанности скорее адъютантские. Можно даже сказать, что служба эта была школой, через которую прошли многие известные лица. В сем звании начинал «полудержавный властелин» Меншиков, а также Потемкин и Румянцев – родоначальники исторических фамилий.
В конце 20-х годов ставший уже прапорщиком Суворов женился на девице Евдокии Мануковой. Оба гвардейских полка – Преображенский и Семеновский – в 1728–1730 годах безотлучно стояли в Москве, в своих слободах на Яузе. Евдокия получила в приданое от отца, вице-президента Вотчинной коллегии, каменный дом, расположенный в начале Арбата, неподалеку от церкви Николая Явленного.
Здесь 13 ноября 1729 года, через четыре года после кончины Петра Великого, родился Александр Васильевич Суворов.
Карьера его отца резко затормозилась после воцарения в 1730 году Анны Иоанновны. Натура глубоко национальная, В. И. Суворов в пору бироновщины, очевидно, старался уделять как можно меньше внимания службе, хотя и не скрылся в деревню, как это сделали многие другие. 16 февраля 1730 года он был пожалован в подпоручики Преображенского полка и только 27 апреля 1737 года – в поручики. В 1738 году, состоя в полевых войсках прокурором, Василий Иванович был командирован вместе с гвардии поручиком Федором Ушаковым в Тобольск для производства следствия над опальным князем И. А. Долгоруковым, которое по тогдашнему обычаю производилось с «пристрастием», то есть с помощью пытки. В Сибири Суворов пробыл с лишком год.
Вообще же, в недоброе для России царствование Анны Иоанновны, В. И. Суворов больше занимался хозяйством, приумножая все последующие годы свое недвижимое и оставив сыну уже крупное состояние. Помещик по тем временам небогатый, но состоятельный, он владел имениями с тремястами крепостных «мужска полу» в Пензенском, Переяславль-Залесском и Суздальском уездах.
Суворов-юноша за чтением книги.
Детство Александра Васильевича Суворова проходило в деревне, а затем в московском доме, что в Покровской слободе (дом на Арбате был продан в 1740 году). Ребенок был ростом мал, хил, тощ, дурно сложен и некрасив, зато резв, подвижен, сметлив. Он рос одиноко, так как других детей у Суворовых в ту пору не было. Мальчик присутствовал при беседах отца с друзьями и знакомыми, и сам Василий Иванович занимал сына рассказами о недавнем прошлом, о времени Петра I и проведенных им войнах.
Когда маленький Саша научился читать, то нашел в библиотеке отца книги военного и исторического содержания, возбудившие его особый интерес. Конечно, хорошей библиотеки у скуповатого В. И. Суворова быть не могло, книги попадались случайные, к тому же по изложению трудные для детского восприятия. Маленького книгочея все это нисколько не смущало.
Как мы помним, в юности своей Василий Иванович Суворов находился при особе Петра не только в качестве денщика, но и переводчика. Незаурядные способности Суворова-старшего к языкам были отмечены много позднее Екатериной II, отозвавшейся о нем как о человеке «весьма образованном», который «говорил, понимал или мог говорить на семи или восьми мертвых или живых языках». Блестящие лингвистические способности А. В. Суворова, надо полагать, были унаследованы от отца. Мальчик скоро начал бегло читать по-французски.
Среди его детских героев был Карл XII, король-юноша, неустрашимо пускавшийся в самые рискованные военные авантюры. Безрассудства его стали ясны подростку позднее, когда под влиянием отца он обратился к исполинской фигуре Петра. Всю жизнь Суворов ощущал себя исполнителем его дела, видел в нем тип национального вождя, в лихолетье Павловых гонений на все русское утверждал, что «кокард» Петра Великого «я носил и не оставлю до кончины моей».
Уже в отроческие годы Суворов поставил себе примером «героя древних времен». Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ганнибал, Конде, Тюренн, принц Евгений Савойский, маршал де Сакс – полководцы, превращавшие войну в искусство, поочередно сменяли друг друга, разгорячая воображение мальчика. Иногда, отложив книгу, он садился на резвого коня и мчался невзирая на непогоду, дождь и ветер. Он любил купаться, играть в бабки и лапту, лазить по деревьям. От природы болезненный, подросток принялся закалять свое здоровье, изнуряя себя физическими упражнениями; даже в холод носил легкую одежду, отчего часто простужался и хворал. Отец не на шутку тревожился, усматривая в поступках сына одни странности. Уже тогда стали называть его чудаком. Василию Ивановичу надо было, однако, думать о будущем сына.
Известно, что Петр I обязал служить всех дворян, причем запретил производить в офицеры тех, «которые с фундаменту солдатского дела не знают». Нашли средство обходить дух закона, сохраняя его букву. Знатные дворяне записывали детей в гвардию при рождении или в годах младенческих капралами и сержантами (в 70-х годах, например, в одном Преображенском полку числилось до тысячи таких сержантов). Чины «на вырост» шли и в армии.
Суворов-старший был слишком практичен, чтобы не воспользоваться таковой привилегией. Офицер Преображенского полка, он к тому же имел знакомства и связи в гвардии и все-таки не сделал того, что почиталось в ту пору за норму. Причина заключалась не в одной телесной слабости маленького Суворова. Очевидно, в пору бироновщины, когда свирепствовала страшная Тайная канцелярия, отец вообще стремился держаться в тени, на службу не напрашиваться (но и от службы не отказываться) и просьбами никого не беспокоить.
Все переменилось для Суворова-старшего лишь после вступления на трон Елизаветы Петровны.
23 октября 1742 года «недоросль Александр Васильев сын Суворов» был зачислен в Семеновский полк солдатом. Сам полк этот Василий Иванович избрал скорее всего потому, что место его расположения – Семеновская слобода – находилось на берегу Яузы, как раз напротив дома Суворовых.
Отрочество Александра протекало в обстановке умеренного достатка, учебы, чтения, энергичной самостоятельной работы – отцу, занятому службой, было недосуг уделять мальчику много внимания: мать умерла вскоре после рождения в 1744 году младшей дочери Анны. Когда Суворову исполнилось пятнадцать лет, отец предпочел оставить его дома и 11 декабря 1744 года представил оставшейся в Москве канцелярии Семеновского полка обязательство в том, «что находящийся в оном полку 8 роты солдат Александр Суворов имеет обучиться во время его от полку отлучения, то есть генваря по первое число тысяча седьмь сот сорок шестого году, на своем коште указным наукам, а именно: арифметики, геометрии, тригонометрии, артиллерии и часть инженерии и фортификации, тако ж из иностранных языков да и военной экзерциции совершенно, и о том должен я, сколько от каких наук обучится, через каждые полгода в полковую канцелярию для ведома рапортовать». Документ этот еще раз подтверждает если не обширное, то, по крайней мере, систематическое образование, полученное Суворовым в домашних условиях.
Он познакомился с трудами греческого историка Плутарха и записками римского полководца Цезаря, обратился к серьезной военной литературе – прочитал «Трактат о военном искусстве» австрийского военачальника Раймунда Монтекуккули, изучал историю и географию по Гюбнеру и Ролленю, а начала философии по Вольфу и Лейбницу. Артиллерию и фортификацию Суворов проходил под руководством отца, возможно переведшего по указанию Петра «Главные основы фортификации» Вобана. Тогда же помимо французского языка он освоил и немецкий, хотя и допускал в них неправильности. «Впрочем, – справедливо говорит биограф Суворова А. Петрушевский, – неправильность эта заключается и в его русском языке». По мысли Петрушевского, она выявляет живой темперамент, нетерпеливость и энергию Суворова, не любившего останавливаться на мелочах и обладавшего, по собственному выражению, «быстронравием». Это «быстронравие» еще в юношеские годы соединялось у Суворова с набожностью, строгим соблюдением православных обрядов, доскональным знанием Библии и всего «церковного круга».
Несомненно, что молодой Суворов самым серьезным образом изучил все, что требовалось для офицера, еще до фактического поступления в полк. Он не мог пройти мимо уставов Петра I, обобщивших преобразования и огромный военный опыт русской армии начала XVIII века. Убежденный патриот и воспитанник Петра, Суворов-старший, безусловно, сделал все от него зависящее, чтобы привить сыну любовь к своему отечеству и преклонение перед великим преобразователем России.
Получив в наследство от предыдущего столетия две сложнейшие проблемы – турецкую и шведскую, Петр решил только одну из них, утвердившись на Балтийском побережье. В победах над шведами выковалась регулярная русская армия, ставшая одной из сильнейших в Европе. Из первых опытов на Яузе и Плещеевом озере со сказочной быстротой вырос могучий военный и торговый флот. Россия вошла в Европу, по словам Пушкина, «как спущенный корабль, при стуке топора и громе пушек».
Созданная Петром регулярная армия прежде всего была национальной, пополнявшейся в основном рекрутскими наборами из крестьян и опиравшейся на однородный тыл, в то время как на Западе вплоть до конца XVIII века солдаты набирались из наемников, преимущественно из чужестранцев. В петровском «Кратком обыкновенном учении» 1700 года и особенно в знаменитом «Уставе» 1716 года молодой Суворов нашел начатки, определившие все дальнейшее развитие военного искусства XVIII века. Характерно, что уже в «Кратком обыкновенном учении», являвшемся строевым уставом пехоты, совершенно отсутствуют правила показного «штукмейстерства», усиленно применявшиеся в западных армиях. Описанные в нем приемы призваны выработать у каждого солдата четкость и быстроту перестроения для ведения огня, сноровку при стрельбе, наконец, ловкость и твердость в рукопашном бою, почти не применявшемся в тактике зарубежных армий.
Разбирая ход Северной войны со шведами, молодой Суворов мог проследить, какие блестящие результаты принесло обучение петровской пехоты рукопашному бою. Так, 28 сентября 1708 года при деревне Лесной Петр разгромил генерала Левенгаупта. После нескольких залпов артиллерии русская пехота бросилась в штыки сперва на левое крыло шведов, а затем и по всему фронту. Когда противник, не выдержав штыкового удара, стал отходить, Преображенский полк прорвался в тыл и занял полевое укрепление – Вагенбург, отрезав шведам путь к отступлению. 27 июня 1709 года под Полтавой штыковой бой разгорелся во второй половине сражения, когда обе армии, развернутые одна против другой, на равнине, почти одновременно пошли в атаку. Шведская пехота, почитавшаяся лучшей в Европе, была опрокинута и обращена в бегство.
Новым для своего времени было и высказанное в «Учении» требование «каждому солдату стрелять особливо». Если в западных армиях настойчиво добивались скорострельности, то Петр обращал внимание, прежде всего, на прицельную стрельбу из тогдашних гладкоствольных, с кремневым замком фузей, что резко повышало эффективность огня.
Создав регулярную кавалерию взамен небоеспособного дворянского ополчения, Петр утвердил в 1702 году «Краткое положение при учении драгунскому строю». Как и в пехотном уставе, главное значение отводилось и тут владению холодным оружием. В 1706–1707 годах конница получила вместо шпаг палаши. Драгун обучили рубить, а не колоть, как это делали шведы. В Полтавском сражении одновременно с рукопашным боем пехоты драгуны на флангах стремительно атаковали противника на полном аллюре, немало способствуя победе. На вооружение драгунского полка Петр ввел и артиллерию, опередив в этом Европу на пятьдесят лет.
Весь уже проверенный боевой опыт Петр I свел в «Уставе воинском» 1716 года, по которому учился молодой Суворов и который оставался официально действующим законом до издания в 1812 году «Учреждения для управления большой действующей армии». В основу своей тактики Петр, как известно, положил линейную, принятую на протяжении XVIII века всеми европейскими армиями. На поле боя войско вытягивалось в длинные линии, лишавшие его маневренности, но позволявшие зато использовать наибольшее количество ружей. В линейную тактику Петр, однако, внес так много нового и значительного, что уже при нем русская регулярная армия оказалась впереди наиболее организованных европейских армий.
Правда, новаторские идеи Петра были забыты при Анне Иоанновне. В эти годы его строевые уставы были постепенно вытеснены «Экзерцицией пешей», или прусской, и «Экзерцицией конной» Миниха, узаконившими, плац-парадный характер обучения войск, внедрение палочной дисциплины и усиление жестоких телесных наказаний. Даже после восшествия на престол Елизаветы, когда велено было «экзерциции чинить во всем по прежним указаниям, как было при жизни государя императора Петра Великого, а не по прусской», восстановление прогрессивных традиций в армии шло черепашьим шагом. В полной мере это удалось сделать много позже, усилиями П. А. Румянцева и А. В. Суворова.
Продолжая свое обучение «на домашнем коште», юный Суворов получил 25 апреля 1747 года первое повышение – был произведен в капралы. В декабре того же года он покинул Москву и отправился в Петербург. С ним ехали двое крепостных – Ефим Иванов и Сидор Яковлев.
Так открылась первая страница более чем полувековой военной службы Суворова.
Глава вторая
Суворов солдат
Имя салдата просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть, от вышняго генерала даже до последнего мушкетера, коннаго и пешаго.
«Устав воинский Петра I».
Восемнадцатилетний капрал остановился у своего дяди – поручика лейб-гвардии Преображенского полка Александра Ивановича Суворова, в его офицерском доме, в расположении 10-й роты Преображенского полка. Здесь и прожил Александр в продолжение всей своей солдатской службы.
До явки в полк оставалось несколько дней, и Александр отправился поглядеть город, который дядя вызвался ему показать. В молодой столице все напоминало о Петре, все было обязано своим рождением кипучей деятельности преобразователя России. Суворов привык к Москве, к ее разнообразию и неправильностям, бесчисленным золотым куполам, вольготно раскинувшимся дворцам вперемежку с деревенскими постройками, к ее улицам, выложенным бревнами или досками, ее громадности и азиатской пестроте. Петербург не мог не поразить его обилием камня, разбегом архитектурных линий, открытыми площадями и речными просторами.
С набережной в дымке хмурого декабрьского дня открылся дивный вид на остуженную Неву и Петропавловскую крепость с гигантским золоченым шпилем-иглой, на торжественный строй зданий Васильевского острова.
– Там дворец Меншикова, – махнул черной форменной треуголкой Александр Иванович. – Учрежден в нем Минихом шляхетский корпус наподобие того, какой имеется в Берлине. Ныне именуется Сухопутный. Теперь смотри – множество одинаких домов, как бы под одною зубчатою кровлей. Сие Двенадцать коллегий. Когда достроят последнюю, занимать будет фронтом без малого версту…
– А это, дядюшка? – юноша указал на растянутое вширь трехэтажное здание с многоярусной башней, увенчанной золотым глобусом. – Неужто Куншткамера?
– Она. Выставлены тут заспиртованные уроды-младенцы, диковинные звери, человеческие кости, редкостных пород камни, необыкновенные ружья, посуда, медали. А также тело удивительного великана, здесь же до кончины своей проживавшего, по имени Буржуа…
– Нельзя ли нам внутрь зайтить?
– Куншткамера сейчас закрыта. Здание сие совсем недавно, пятого декабря, горело, причем многие знатные вещи погибли…
Перейдя деревянным Зеленым мостом реку Мью, Суворов-младший увидел императорский дворец, охраняемый гвардейцами, – место пребывания Елизаветы. Дворец был из камня и дерева, невысокий, но обширный, с пристройками и флигелями. Солдаты-преображенцы четко отдали комплимент – приветствие своему поручику.
– До седьмь сот двадцать осьмого года дом сей принадлежал богачу и генерал-адмиралу Апраксину, – пояснил дядя Александру, – и был заново отстроен и расширен по указанию покойной государыни Анны Иоанновны…
От нового каменного здания Адмиралтейства с семидесятиметровым вызолоченным шпилем тремя лучами расходились Невская, Вознесенская перспективы и Гороховая улица. На Невском меж двухэтажных голландской архитектуры дворцов строились новые, во французском стиле, иные в три этажа, с небольшим окном полуциркульной дугой сверх потолка во фронтоне.
Семеновские казармы находились на окраине Петербурга, «позади Фонтанки, за обывательскими дворами», как значилось в указе императрицы Анны Иоанновны от 13 декабря 1739 года. За прошедшие годы Семеновская слобода уже почти отстроилась, имея в центре деревянную церковь Богородицы, вблизи нее – полковой двор и учебный плац. Слобода была разбита на перспективы и правильные улицы; каждой роте отвели свой участок, на котором ставились достаточно просторные дома или связи. Многие из солдат-гвардейцев жили семьями, завели собственные дома и огороды. В казенных же связях помещалось по четыре человека на светлицу.
Облачившись в зеленый солдатский мундир с одной капральской нашивкой, Суворов начал свою каждодневную действительную службу в 3-й роте семеновцев. Больше всего хлопот доставляла ему коса. Крепившаяся на проволоке, ленточная, она должна была быть крепко ввязана в собственную волосяную косу с бантом. С висков полагалось опускать по букле, расчесанной и хорошо завитой на трех бумажках. В полковом и церковном строю, на караулах и во всякое время в городе волосы требовалось содержать напудренными. Трудно было сразу приноровиться ко всем тонкостям тогдашнего солдатского туалета, не уступавшему по сложности дамскому.
Наступил 1748 год, а вместе с ним празднества и новые царицыны милости дворянскому воинству. В канун Нового года указом Елизаветы Петровны были произведены в очередные чины многие офицеры, и в их числе Александр Иванович Суворов, получивший звание капитан-поручика. Это был заурядный гвардейский офицер, обязанности в полку исполнявший с прохладцей, весь ушедший в семейные заботы, воспитание своего девятилетнего сына Федора. Подобно многим другим гвардейцам, Александр Иванович не имел особого призвания к военному делу и, понятно, мало чем был полезен жадному до новых знаний племяннику. Разве что он мог как-нибудь на досуге за тавлейной – шахматной – доской поведать о блестящих походах 1742 и 1743 годов шотландца на русской службе фельдмаршала П. П. Ласси, об эпизодах недавней войны со шведами, коей был участником:
– Потеряв города Вилманстранд и Фридрихсгам и оставя все княжество Финляндское, шведское войско принуждено было ретираду получить. Война им была весьма разорительна и окончена миром, к удовольствию России. И оному первому шведского войска предводителю генералу Левенгаупту и генералу при нем Буденброку в Стекголме парламентом, почитая слабые их поступки, публично оным бедным генералам головы отсечены…
С воцарением Елизаветы и заключением в 1743 году выгодного мира в Або, по которому России отходила часть Финляндии и граница со Швецией отодвигалась по реке Кюмени, о войне, кажется, не помышлял никто. Будучи прямой наследницей Петра Великого, Елизавета, однако, не обладала ни его государственным умом, ни его военными наклонностями. Достаточно того, что она была вполне русской монархиней, пресекла бироновщину, сделала первый шаг к уничтожению пыток при допросах. Миновала тяжелая пора репрессий – общая амнистия вернула в семьи жертвы Бирона.
Провозгласив возвращение к традициям Петра, Елизавета в то же время сильно расширила привилегии дворянства, щедро раздавала земли и крепостных в собственность, ввела указом 14 марта 1746 года исключительное право дворян владеть землей и крепостными, а затем узаконила гнусную торговлю людьми.
В 1748 году императрице было тридцать девять лет. Доверив штурвал государства канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину и братьям Шуваловым, она, как и в ранней молодости, обожала балы, маскарады, танцы, наряды – гардероб ее насчитывал более тридцати тысяч платьев.
Роскошь и блеск дворца, подражавшего Версалю, стали удивлять самих иностранцев. Щегольство костюмами, головными уборами, драгоценными камнями не знало пределов. Нравы двора смягчились, появилась любовь к изнеженности, в придворных залах впервые распространилась атмосфера куртуазного, любовного флирта. На балах и празднествах Елизаветы царило обожание женщины, которой уже не была свойственна робость первых петровских ассамблей. Частые банкеты предшествовавшего царствования с обильными возлияниями сменились куртагами – приемами, где играла «обширная музыка итальянской капели», или «новоприезжие буфон с буфонкой и прочие итальянцы пели разные арии», или танцевали «приезжие из Италии и российские донсоры и донсорки». Увеселения при дворе следовали одно за другим почти ежедневно. Редкий день в камер-фурьерском журнале не отмечен куртагом, балом или театральным представлением.
Беззаботность и веселье, царившие при дворе, не могли не сказаться на состоянии русской армии, а гвардии в особенности.
Рапорт сержанта А. В. Суворова.
Юный Суворов немало изумился, не видя вокруг той суровой дисциплины и требовательности петровских времен, о которых так много рассказывал ему отец. Свои воинские обязанности гвардейцы выполняли из рук вон плохо. Солдаты-дворяне самовольно отлучались с постов, учиняли попойки и драки, присылали на тяжелые работы вместо себя своих крепостных. А так как в Семеновском полку солдат-дворян было около половины, то их помещичьи привычки и наклонности сделались причиною множества разного рода льгот и послаблений, к числу которых относилось и разрешение жить вне черты расположения части.
В обычный мокрый петербургский день, когда не разберешь, зима это или осень, дежурный по полку вывел семеновцев на главный плац для проведения строевых учений. Поставленные в каре или четырехугольник солдаты недовольно переговаривались, браня гнилую погоду. Дежурный подал команду «Смирно!» и бросился к полковой избе, откуда уже выходили господа полковые штапы во главе с командиром семеновцев генерал-аншефом Степаном Федоровичем Апраксиным, в пышной шубе поверх расшитого золотыми лаврами мундира. Сняв форменную шляпу, дежурный доложил о готовности полка к проведению экзерциций.
Вельможа задумчиво поднял толстое лицо к сочащемуся небу, вздохнул и неожиданно зычно скомандовал:
– Слушай приказ! Начать экзерциций на сей неделе… – Он передохнул, поправил на брюхе золотой шарф и решительно закончил: – Ежели на сей неделе будет благополучная погода. – И, тяжело повернувшись, пошел в избу. На крыльце Апраксин остановился: – А свободное время употребить на полковые работы…
Слобода продолжала отстраиваться, и хозяйство семеновцев не вполне еще наладилось.
Возвращаясь в казарму, долговязый солдат из дворян Петр Кожин кивнул Суворову:
– Знамо дело: работа не волк, в лес не уйдет…
– Ты-то чего радуешься, – ответил Суворов, – пойдешь, братец, в команду лес вырубать, твой черед.
– Нет уж, господин капрал, – усмехнулся Кожин, – не пойду. Или неведом тебе приказ, так пойдем покажу… «Нижеписаных рот солдат, а именно… Прозоровского… Лихачева…»
Кожин долго водил пальцем по строчкам, отыскивая свою фамилию, ибо в грамоте российской силен не был:
– Вот! «…Третьей роты Петра Кожина… как на караулы, так и на работы до приказу не посылать, понеже оные, вместо себя, дали людей своих в полковую работу для зженья угля; того ради оных людей присылать сего числа пополудни во 2 часу на полковой двор…»
– Сколько ж у тебя с собой дворовых? – полюбопытствовал Суворов.
– Двадцать осемь душ, не считая женского полу, – охотно сообщил тот. – За господской головою живут, так надо ж и им хлеб отрабатывать…
Суворов все более убеждался в том, что положение солдат-дворян никак нельзя было назвать тяжелым. Унтер-офицеров же гвардии приравнивали к армейским офицерам как в служебном отношении, так и по значению их в обществе. На них возлагались серьезные поручения, они ездили за границу от Иностранной коллегии, командировались и в глубь России. Дворяне, даже рядовые солдаты, приглашались на высочайшие балы и маскарады.
– В машкераде, который по соизволению ея императорского величества назначен в будущую пятницу, быть всем знатным чинам и всему дворянству российскому и чужестранным фамилиям, кроме малолетних, в приличных масках и притом, чтоб платья пилигримского и арлекинского и непристойного деревенского, також и на маскарадные платья мишурного убранства и хрусталей употреблено не было, да и не иметь при себе никаких оружий… – Лейб-гвардии майор Никита Федорович Соковнин со значением оглядел ровные ряды солдат-дворян. – Того ради в ротах и заротной команде всем чинам объявить, и кто из дворян пожелает быть в том машкераде, о тех подать за руками командующих господ обер-офицерам в полковую канцелярию ведомости неотменно.
Стоявший на правом фланге взвода, рядом с капралом, долговязый Кожин толкнул локтем Суворова:
– В машкерад пойдешь? Суворов замотал головой.
– Экой ты, право, чудак. Да почему же не хочешь?
Кожин имел собственный выезд. Начальству даже приходилось ограничивать его в количестве запрягаемых в карету лошадей.
– Недосуг мне, да и к дамскому полу я склонности не имею…
– А ты слышал, что после бала будет разыгрываться кадетами на складной сцене русская трагедия «Хореф и Нарт»? Александр живо обернулся к Кожину, позабыв, что находится в строю:
– Изволь, братец, пойдем. Трагедию посмотрю, и с превеликим удовольствием…
В назначенный час Суворов в простой полумаске уже сидел в богатой карете Кожина, разодетого в немыслимый восточный костюм. Императорский дворец был иллюминирован разноцветными плошками, сиял тысячами свечей в хрустальных жирандолях, отражавшихся в венецианских зеркалах, сверкавших в драгоценных уборах знатных дам.
Суворов впервые оказался посреди великолепия дворцовых зал, затянутых алыми, пунцовыми, вишневыми и зелеными шелками, шитыми серебром и отделанными золотым позументом. В залах стояли резные золоченые стулья и банкетки из березы, ясеня и темного дуба. В тяжелых рамах красовались писанные маслом парсуны и картины на мифические сюжеты.
В потоке нарядных гостей Кожин чувствовал себя как рыба в воде, раскланиваясь со знакомыми масками, обращая особливое внимание, словно он искал кого-то, на молодых женщин – они носили на платьях, у выреза, специальный бант для интимных записочек, именуемый почтою любви.
Проходя зимним садом, Кожин вдруг остановился, в преувеличенно низком поклоне пропуская мимо себя веселую и шумную компанию. Впереди разряженных дам, большею частью с грубыми, топорными фигурами, двигался офицер-преображенец без маски. Узкий, в талию, темно-зеленый мундир очень шел его красивому круглому лицу, белому и живому, с голубыми глазами и маленьким ртом, твердо очерченным и алым. Он держался прямо и стройно, весело улыбаясь в ответ на приветствия окружающих.
Суворов удивился, но последовал примеру Кожина, шепнув ему:
– Лицо этого капитан-порутчика кажется мне знакомым…
– Тише, – не поднимая головы, отвечал Кожин, – сие всемилостивейшая государыня наша Елизавета Петровна…
Капрал еще не знал, что на балах и маскарадах императрица любила появляться в мужских платьях, которые ей очень шли, заставляя приближенных офицеров надевать дамские наряды.
Кожин скоро бросил новичка-семеновца, проследовав за кокетливой китаянкой с украшенным драконами веером и мушкою на щеке – условным знаком согласия на свидание. Маленький голубоглазый капрал едва дождался начала театрального представления, проскучав в чужой разряженной толпе и зарубив себе не ходить более на дворцовые увеселения.
Суворов предпочел наблюдать жизнь двора лишь по необходимости – отправляясь в караулы – и рано почувствовал неприязнь к «розовым каблукам» – придворным, их изнеженности, сибаритству, легкомыслию, скорому и несправедливому возвышению, начинавшемуся с младенчества, «будучи от отца у сиськи».
…День тезоименитства Елизаветы, 5 сентября 1748 года, читал он в газете «Санкт-Петербургские ведомости», «празднован в Летнем доме обыкновенным образом»: по окончании литургии в церкви объявили о награждении сановников орденами и чинами. Среди отмеченных были сыновья Николая и Андрея Шуваловых – «первому из них шесть, а второму пять лет от роду».
«Ввечеру был при дворе бал, и на дворе перед залою представлена была великолепная иллуминация, состоящая в монументе или великолепном здании в честь имени ее императорского величества, в двух крылах по обе стороны перспективы, или главного входа во дворец, с аллегорическими и на славное имя ее императорского величества склоняющимися украшениями…»
В эту пору первые воинские места заняли люди хоть и русские, но малоодаренные – фельдмаршал на двадцать втором году жизни, фаворит Елизаветы А. Г. Разумовский, никогда не бывший в сражениях князь Н. Ю. Трубецкой, ловкий придворный граф А. Б. Бутурлин, сам называвший себя «фельдмаршалом мира, а не войны», брат фаворита и украинский гетман К. Г. Разумовский, наконец, генерал-аншеф благодаря дружбе с Шуваловым и Бестужевым С. Ф. Апраксин.
«Возлюбленная тишина», которую воспел в оде на восшествие Елизаветы М. В. Ломоносов, длилась целых четырнадцать лет.
Суворову она позволила довершить свое самодеятельное военное образование. Получая от отца небольшую сумму, он ухитрялся экономить и все оставшиеся деньги тратил на покупку книг, посылая за ними в лавку смышленого Ефима Иванова. Прежней близости, понятно, между ними не могло быть. Теперь для Ефимки Александр был молодым барином. Но как радостно удивился Суворов, застав однажды своего дворового за чтением.
– Ты когда же грамоте выучился?
– Да в книжной лавке. Кажный раз спрашивал о какой-нибудь букве. А дома сидеть скушно, вот и складать стал…
Не в пример Ефиму другой слуга Суворова – Сидор Яковлев с молодым господином бывал дерзок, из дому отлучался и нередко попивал, невесть где добывая деньги.
Суворову, впрочем, было не до Сидора. У него не оставалось времени даже на легкий досуг и развлечения, так много он читал, так усердно нес службу в полку. Возможно, капрал-семеновец посещал и Сухопутный шляхетский корпус, хотя преподавание в нем при Елизавете велось дурно и вряд ли мог он почерпнуть там что-либо для себя новое.
С поступлением в Семеновский полк перед Суворовым открылась возможность практического изучения самых основ воинской жизни. Впрочем, слово «изучение» тут, пожалуй, неуместно. Суворов принял солдатчину не как систему мелочных и угнетающих обязанностей, от которых надо уклоняться, но как необходимое и уже потому увлекательное начало длинного пути, ведущего к тому, чтобы в будущем сравняться со своими кумирами. Со стороны такое упорство могло показаться одной странностью: неказистый, хилый капрал-дворянчик без связей и покровителей задался выполнить нечеловечески трудную программу. Но он принялся за нее с настойчивостью почти маниакальной.
Первый ее пункт значил: не притвориться солдатом, а претвориться в него – познать его психологию, особенности, привычки, быт, досконально изучить его душу. Проведший отрочество без матери, под рукой сдержанного и сурового отца, он быстро вжился в новую, воинскую семью. Для молодого Суворова начатое теперь познание, и открытие русского солдата было и познанием и открытием русского народа.
Крепостные крестьяне, отданные в солдаты, несли, как известно, службу почти всю жизнь, не меньше, чем в войнах, гибли в госпиталях от плохого ухода, скученности, эпидемий, страдали от муштры и жестокого обращения офицеров. Если солдату-дворянину, особенно гвардейцу, служба могла и не быть в тягость, то для вчерашнего крестьянина трудность солдатчины была непомерной. Все это правда, точнее – полправды. Другая половина заключалась в том, что и на такой тяжкой службе русский человек оставался самим собою, не терял драгоценных качеств своего национального характера. Народ и в солдатчину внес нечто свое, неповторимое и ее облагородившее.
«В русской солдатской среде, – справедливо замечает А. Петрушевский, – много привлекательного. Здравый смысл в связи с безобидным юмором; мужество и храбрость спокойные, естественные, без поз и театральных эффектов, но с подбоем искреннего добродушия; уменье безропотно довольствоваться малым, выносить невзгоды и беды так же просто, как обыденные мелочные неудобства. Суворов был русский человек вполне; погрузившись в солдатскую среду для ее изучения, он не мог не понести на себе ее сильного влияния. Он сроднился с нею навсегда; все, на что она находила отголосок в его натуре, выросло в нем и окрепло или же усвоилось и укоренилось».
Суворов заставил себя почувствовать вкус ко всему, что связано с действительной службой в армии, и стать образцовым солдатом. Вечером, перед уходом из казармы, он всякий раз проверял, как вычищено после стрельб его ружье, хорошо ли смазаны шурупы. Это была все та же кремневая гладкоствольная фузея петровских времен. Лишь дальность и меткость стрельбы с тех пор несколько повысились за счет более тщательной отделки ствола и улучшения качества пороха. Прицельный огонь, однако, можно было вести только на расстоянии шестьдесяти – восемьдесяти шагов.
– Жена моя в надлежащем виде, – ставя ружье в «перемиду», объявил он дежурному – Петру Кожину, недавно нашившему на рукав капральский позумент.
– Тебе, Суворов, только и забот что ружье да экзерциции, – уныло возразил тот.
– А тебе?
Кожин скорчил смешную гримасу и вместо ответа запел:
– Сиречь, рандеву его ожидало, а вышло, сиречь, дежурство! – догадался туповатый Александр Прозоровский, прозванный в полку Сиречь за неумеренное употребление этого слова.
– Так, братцы. Суждено мне здесь всю ночь маяться да о лапушке моей мечтать.
– Погоди, – остановил его Суворов, – в беде такой я тебе сикурсовать могу. Пойдем к сержанту, он дозволит мне за тебя на дежурство заступить…
Длинный капрал сгреб Суворова в объятия, поднял и закружил по казарме, припевая:
Суворов охотно шел на дежурство, в караулы, с тщанием отрабатывал экзерциции, ровно никакого значения не имевшие в условиях боевых, – он повиновался, и его всегда критический ум молчал. Можно вообще предположить, что в эту начальную пору своей солдатчины он нигде не бывал, кроме казармы, караулов, дома в Преображенской слободе да еще Сухопутного корпуса.
Несмотря на свой неказистый вид, Суворов добился отличной выправки, ловко выполнял ружейные приемы и отдавал приветствия. Однажды был он наряжен в караул в садах Летнего дворца, когда неподалеку прогуливалась Елизавета. Капрал так молодцевато отдал ей комплимент, что царица остановилась и поинтересовалась его именем. Узнав, что он сын Василия Ивановича Суворова, крестника ее отца, она вынула серебряный рубль и подала ему.
– Государыня, не возьму, – почтительно сказал Суворов. – Закон воспрещает солдату брать деньги, стоя на часах.
– Молодец! Знаешь службу, – ответила дочь Петра и потрепала по щеке маленького капрала. Она положила рубль к его ногам. – Возьми, когда сменишься.
Ревностное отношение к службе молодого Суворова сразу же выделило его среди других семеновцев-дворян. Не удивительно, что он очень скоро стал получать довольно почетные назначения. Летом 1748 года в морской крепости России – Кронштадте должно было состояться торжественное «провожание» корабля «Захарий и Елисавет», для чего от гвардейских полков посылалась команда, отбор в которую производился очень тщательно. От Семеновского полка в числе четырех капралов был назван и Суворов. Сборы и подготовка длились весь май, а в Петербург команда вернулась в 20-х числах июня.
В один из июльских дней, занимаясь на плацу с новобранцами, Суворов заметил запыхавшегося Ефима Иванова.
– Батюшка, Александр Васильевич! – только и выговорил он. Сидор бежал, а куда – неведомо, и два рубля забрал, что на книги ты оставил!..
Событие это считалось по тем временам весьма неприятным, даже чрезвычайным, хотя крепостные в поисках лучшей доли часто бежали от своих господ. По Семеновскому полку был отдан специальный приказ с точным описанием примет беглого. Сидор Яковлев, однако, как в воду канул: никто о нем более ничего не слыхал.
В конце 1748 года по случаю «шествия» в Первопрестольную императрицы Елизаветы был составлен для сопровождения ее гвардейский отряд. И снова капрал Александр Суворов, несмотря на то что он находился во 2-м батальоне, а от семеновцев в отряд был определен 3-й батальон, оказался в числе «московской» команды. Эта командировка особливо обрадовала Суворова. Помимо почетного ее значения, поездка в Москву, первая со времени вступления капрала в полк, позволяла повидать родных – отца и сестер, город, где прошло его детство.
Жизнь семеновцев на новом месте ровно ничем не отличалась от петербургской. В полковой школе продолжалось обучение солдат уставным наукам; велись ежедневные разводы и назначались караулы в «дом ее императорского величества» на Яузе. Впрочем, к числу обычных нарядов прибавились недельные дежурства «по Генеральной Московской Сухопутной гофшпитали».
Русский военный госпиталь той поры был могилою для солдат. На содержании больных, приписках и мертвых душах наживались лихоимцы подрядчики. Госпитали были переполнены, врачей приходилось по одному на сотню больных, госпитальная прислуга отличалась невежеством. Инфекция косила солдат. Молодым и беззаботным гвардейцам-дворянам вовсе не хотелось идти на целую неделю в духоту, грязь и видеть вокруг страдания и смерть. Не помогали даже угрозы записывать провинившихся унтер-офицеров и капралов в солдаты, а солдат – в «извозчики». Больные продолжали жаловаться, что «определенные за оными капралы не токмо никакого не имеют смотрения, но и сами тут редко бывают».
Несомненно, что капрал Суворов уже тогда поставил своей целью с рвением и усердием выполнять самые трудные и неприятные поручения. Его назначение на дежурство в госпиталь последовало 1 июля 1749 года; через неделю прибыла, как и полагалось, смена. Но 15-го числа он снова наряжен к больным солдатам и остается там вопреки правилу подряд две недели. Подмененный 30 июля, он получает передышку лишь до 12 августа и опять назначается в «гофшпиталь». Последнее в 1749 году дежурство капрала Суворова длится беспрерывно восемь недель, а всего он проводит в госпитале около четырех месяцев.
С ранних лет проявилось одно очень ценное качество Суворова: извлекать для себя пользу из самых, казалось бы, малоинтересных поручений. Что могло дать девятнадцатилетнему капралу длительное дежурство в «Московском гофшпитале»? Нет сомнения, что его позднейшее, резко критическое отношение к военным больницам и лазаретам – «богадельням», как называл он их, – обязано этому вот раннему опыту. «Бойся богадельни, – не уставал твердить полководец, – немецкие лекарственницы, издалека тухлые, сплошь бессильны и вредны; русский солдат к ним не привык; у вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог; береги здоровье; чисти желудок, коли засорился, голод – лучшее лекарство… В богадельне первый день – мягкая постель, второй день – французская похлебка, третий день – ея братец, домовище, к себе и тащит. Один умирает, а десять его товарищей хлебают его смертный дух…»
Это было, понятно, не отрицанием медицины как таковой, но следствием стремления Суворова в корне улучшить положение и самый быт русского солдата. «Причины болезней, – писал он впоследствии, – изыскивать не в лазаретах между больными, но между здоровыми и в полках, батальонах, ротах и разных отдельных командах, исследовав их пищу, питье, строение казарм и землянок, время их построения, пространство и тесноту, чистоту, поваренную посуду, все содержание, разные изнурения, о чем доносить полковому или другому командиру, а в другой раз уже в главное дежурство».
Кроме несения службы в госпитале, Суворов регулярно участвовал в проводимых экзерцициях, носивших по преимуществу парадный или условно-полевой характер. Ордер-баталии на учебном плацу проводил сам командир батальона Соковнин, его чин гвардии майора приравнивался к генерал-майору армейских войск. В диспозиции, составленной Соковниным, особое внимание уделялось в согласии с «прусской экзерцицией» Миниха, слаженности залповой, а не прицельной: стрельбы. Стреляли плутонгами – подразделениями, на которые делилась рота. Последующие перестроения были сложны и громоздки.
Майор вызывал одного за другим офицеров, отдававших батальону команды согласно ордер-баталии.
– Маршировать без пальбы три шага по бою одного-барабана! Потом командовать офицерам поплутоножно, аванзируя вперед по три шага, три патрона, и в то время во всех дивизионах бить поход в один барабан!..
Следя за выполнением команд, Соковнин обратил внимание на четкость и отменную чистоту, с которой производили экзерциции солдаты 11-й роты. Однако вызванный из этой роты офицер неожиданно для Соковнина своими распоряжениями весь батальон спутал, так что вместо желаемого перестроения получился один хаос.
– Диспозиции не знаете! – накинулся на вконец растерявшегося поручика Соковнин. – Извольте сдать шпагу и итить под арест!..
Майор медленно проследовал вдоль сломанного строя семеновцев и остановился перед маленьким голубоглазым капралом, который держался молодцевато и у которого все сияло вычищенной медью: пуговицы, эфес тесака, герб на суме.
– Как звать?
– Одиннадцатой роты капрал Александр Суворов! – громко и смело ответил тот, сняв шляпу и держа ее опущенной в левой руке.
Соковнин уже слышал об этом капрале от его ротного командира, который сказывал, что Суворов сам напрашивается на трудные поручения, никогда не нанимает для служебных надобностей за себя солдат, любит учить фронту, причем весьма требователен и большую часть времени проводит в казарме. Солдаты, по словам ротного командира, очень любят Суворова, но считают чудаком…
– Господин капрал, – растягивая слова, приказал майор, – командуйте, якобы вы офицер!..
Поправив трость, висевшую на пуговице, – знак его капральской власти, – Суворов четко и внятно принялся отдавать команды, вернув батальону стройность.
– Отменно, братец, отменно! – подобрел Соковнин. – А можешь изложить диспозицию батальона-каре на походе и каким манером оная делается?
– Гренадеры второго и третьего плутонга, поворотясь направо кругом, входят сквозь первую роту в батальон-каре и примыкают с правых флангов ко второму и четвертому дивизионам, а первый и четвертый плутонги, заступая места второго и третьего, проходят на правые ж фланги к первому и третьему дивизионам, – без запинки начал сыпать словами капрал. – Первый дивизион дает место проходить гренадерам на батальон-каре, и для того сказать должно: «Направо!» и «Налево!», а как гренадеры пройдут, паки сомкнуться…
– Довольно, братец! – остановил его Соковнин. – Вижу, что ты диспозицию лучше иных обер-офицеров изучил. Зайди-ка после экзерциции ко мне в полковую избу.
Майор встретил Суворова еще более приветливо:
– Отрадно, что у нас в полку есть унтер-офицеры, которые не в одном гулянье да деланье пуншей упражняются… Расскажи мне, братец, как ты столь отменных знаний добился и солдат своего карпоральства экзерцициям в совершенстве обучил.
– Я, прочитав сию диспозицию несколько раз, понял ее совершенно. Но досадно было, что не дали нам планы перестроения. Из одного описания солдаты разобрать и понять экзерциции никак были не в состоянии. Постарался я сам оные по единому описанию сделать…
– Похвально! – удивился майор.
– Что касается до обучения солдат, – продолжал Суворов, – то не одних рекрутов, но и старых солдат упражняться заставлял, притом без употребления строгости и всяких побоев. Я вперил в каждого охоту и желание выучиться скорее и искусством своим превзойти товарищей…
Соковнин только хмыкнул, удивляясь все больше и больше.
– Обходясь с ними ласково и дружелюбно, разделяя с ними труды, довел я их до того, что солдаты сами старались все понять. Для скорейшего достижения установили они между собою – не давать тому прежде обеда, кто не промечет без ошибки артикула… Солдаты были довольны, ни один не мог жаловаться, что он слишком убит или изувечен, ни один из них не ушел и не отправлен был в лазарет…
Исполнительный, усердный, инициативный капрал Суворов вскоре добился повышения. Всего лишь через год после прибытия в Семеновский полк, 22 декабря 1749 года, он был записан в подпрапорщики. Через три месяца после возвращения гвардейской команды в Петербург, очевидно, по представлению лейб-гвардии майора, последовало новое назначение: «Каптенармусу Ушакову и подпрапорщику Суворову быть бессменно на ординарцах у его превосходительства господина майора и кавалера Никиты Федоровича Соковнина…»
Жизнь в полку текла монотонно, по-прежнему низкой была дисциплина, чему способствовало еще и отсутствие единовластия. Пресекая возможные злоупотребления, Петр I всюду вводил коллегиальное устройство, не сделав исключений и для полков. Действительными распорядителями их судеб были «господа полковые штапы», то есть комитет штаб-офицеров полка.
С провинившимися гвардейцами-дворянами «господа полковые штапы» обходились до удивления мягко, принимая их сторону в конфликтах с выходцами из крепостных, хотя бы и унтер-офицерами. Суворов хорошо знал сержанта Иосифа Шестаковского, обучавшегося в полковой школе, где сидели наравне дворяне с недворянами, солдаты с унтер-офицерами, взрослые с малолетними. Сам Шестаковский благодаря своим незаурядным способностям выдвинулся из числа солдат-недворян и несколько лет находился в кадетском корпусе. С 1747 года в чине каптенармуса он начал преподавать в полковой школе.
Немало доставалось от него ленивым и нерадивым ученикам, в числе которых был и Петр Кожин. Однажды, оказавшись в одной компании с Шестаковским, Кожин со своим дружком капралом Лихачевым напал на своего учителя. Бутылкой он разбил сержанту лоб до кости, а Иван Лихачев драл его за волосы, после чего Шестаковский был увезен в больницу. Читая приказ Соковнина, Суворов мог только возмущаться пристрастности несправедливо легкого наказания:
«И за вышеписанныя их предерзости Кожина и Лихачева при собрании всех унтер-офицеров и школьников на полковом дворе поставить их на сутки через час под 6 ружей да сверх оного взыскать с них за увечье ему, сержанту Шестаковскому, денег 50 рублей и пользовать оным, Кожину и Лихачеву, его, Шестаковского, от болезни его своим коштом…»
– Нет, – бормотал он, возвращаясь после отбоя в дом своего дядюшки, – тут вам не дворовые люди, кои побои принимают безответно… Таковое рукоприкладство пресекать в армии – и беспощадно!..
К полковому двору метнулась тень. Суворов резко бросился наперерез и тут же остановил красивого солдатика, тонкого и высокого, норовившего тайком проскользнуть в свою избу.
– Стыдно! Звание солдата российского позоришь! – набросился Суворов. – Придется в полковое дежурство доложить. Как фамилия?
– Орлов Григорий… – заливаясь смуглым румянцем, отвечал юноша.
– Сколько лет? – смягчая тон, продолжал допрос Суворов.
– Пятнадцать, господин подпрапорщик.
– А отчего я тебя ни разу в ротах не видел?
– Прикомандирован к Сухопутному корпусу.
– Ладно. – Суворов совсем остыл. – Иди к себе в роту, только господам обер-офицерам не попадайся.
Им было суждено встретиться вторично только через долгих двенадцать лет…
8 июня 1751 года Суворов был произведен в сержанты. Как справедливо отмечал один из исследователей, «снова приходится подчеркнуть факт довольно хорошего относительного движения Суворова по службе». Это тем более очевидно, что многие сверстники оставались рядовыми по десять и даже пятнадцать лет. Будучи гвардии сержантом, Суворов, по собственным словам, исправлял «разные должности и трудные посылки». Что это были за «посылки», частично выясняется из двух сохранившихся подорожных: в начале 1752 года Суворов-курьер был отправлен с депешами в Дрезден и Вену и находился за границей с марта по октябрь. Кроме блестящей служебной репутации причиною назначения его в эту командировку было, конечно, знание иностранных языков. Почти восьмимесячное пребывание в Дрездене и Вене позволило Суворову совершенствоваться в немецком, французском, а возможно, и изучить итальянский язык. Недаром в списке офицеров Суздальского полка 1763 года против имени Суворова обозначено, что он владеет всеми этими тремя языками.
Поздним октябрьским вечером, воротившись из долгого путешествия в Пруссию и Австрию, появился он в доме капитан-поручика, своего дядюшки.
– Батюшка, Александр Васильевич! – всплеснул руками рыжий Ефим. – И до чего исхудал, исплошал – один нос остался!..
Пока Суворов утолял голод, Александр Иванович подступал к нему с вопросами:
– Ну как там, у немцев, чать, навидался чудес?..
– Что чудеса, – отвечал Суворов, обводя счастливыми глазами домашних Александра Ивановича, – веришь ли, дни считал, так домой тянуло… В Пруссии встретил я русского солдата. Боже, как я обрадовался – братски расцеловал я его! Расстояние сословное между нами исчезло! Я прижал к груди земляка… Право, если бы Сулла и Марий встретились нечаянно на краю земли на Алеутских островах, соперничество между ними пресеклось бы. Патриций обнял бы плебея, и Рим не увидел бы кровавой реки…
Следующий, 1753, год значительно изменил судьбу прокурора Василия Ивановича Суворова. Представленный Сенатом к назначению в синодские обер-прокуроры, он был по высочайшей резолюции 29 марта пожалован в «брегадиры» и члены Военной коллегии. Начинается быстрое возвышение Суворова-старшего, в котором Елизавета оценила приверженность петровским идеям. 18 декабря того же года, в день своего рождения, она, в числе других награжденных, произвела Василия Суворова в генерал-майоры при той же Военной коллегии.
Сыну его шел уже двадцать пятый год. В очередном «шествии» в Москву сделано было Апраксиным представление Елизавете о производстве определенного числа гвардейцев в армию офицерами. Генерал-аншеф и лейб-гвардии подполковник напомнил, что Петр I оставлял для гвардейцев треть офицерских вакансий в напольных, то есть армейских, полках. Императрица в ответ повелела учинить выпуск в армию наиболее достойных гвардии сержантов – поручиками, унтер-офицеров – подпоручиками, капралов и рядовых – прапорщиками.
25 апреля 1754 года в числе других ста семидесяти пяти гвардейцев Суворов был произведен в офицеры, причем чин поручика получили лишь тридцать четыре человека. 10 мая Военная коллегия определила Суворова в Ингерманландский полк, один из старейших и лучших в русской армии, принимавший при Петре I участие в походах совместно с гвардией. Тотчас после определения Суворов с разрешения Военной коллегии был уволен на один год в «домовой» отпуск. Он жил и это время как в имениях отца, так и в Москве, вместе с сестрами.
Этот год он употребил на продолжение своего образования – совершенствовался в знании языков, читал книги по истории и военному искусству.
Пятидесятые годы XVIII века в России отмечены взлетом отечественной науки, искусства, литературы. «Бег державный», который получила страна при Петре, не могло уже остановить никакое лихолетье. К 50-м годам относится оживление работы Российской академии наук, создание Московского университета, выход в свет первого русского журнала «Ежемесячные сочинения», учреждение Российского театра и Академии художеств в Петербурге. В эту же пору в Москве создается первая частная «Типографская компания», начинает выходить газета «Московские ведомости». Это было время, когда великий Ломоносов совершил капитальные открытия в физике, химии, астрономии, геологии. Его многосторонняя деятельность отражала стремительное развитие могущественного русского национального государства и была пронизана высоким патриотическим пафосом.
«Где удобней совершиться может звездочетная и землемерная наука, как в обширной державе, над которою солнце целую половину своего течения совершает и в которой каждое светило восходящее и заходящее во едино мгновение видеть можно. Многообразные виды вещей и явлений, где способнее исследовать, как в полях великое пространство различным множеством цветов украшающих, на верьхах и в недрах гор выше облаков восходящих и разными сокровищами насыпанных в реках от знойныя Индии до вечных льдов протекающих, и во многих пространных морях», – писал Ломоносов в 1749 году. Эти мысли были близки и Суворову – они соответствовали его внутренним устремлениям, его преклонению перед величием и неисчерпаемыми возможностями России, его уважению, с каким он относился к науке, к знаниям.
Ломоносова и Суворова сближало их безусловное восхищение Петром I, под руководством которого, как писал Ломоносов, «укрепилось российское воинство и в двадцатилетнюю войну с короною шведскою и потом в другие походы наполнило громом оружия и победоносными звуками концы вселенной». Их роднила и борьба за развитие и укрепление национальных традиций – Суворов в военном искусстве боролся против прусских порядков, а Ломоносов – в отечественной науке против засилья иноземцев.
В Петербурге при кадетском корпусе в царствование Елизаветы образовалось первое «Общество любителей российской словесности». Суворов не только следил за произведениями тогдашних знаменитостей – Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, но, по свидетельству поэтов Хераскова и Дмитриева, посещал это общество и даже читал там собственные литературные произведения.
К офицерской службе он мог в эту пору отнестись довольно формально. Вернувшись из годичного отпуска, Суворов пробыл в полку всего лишь восемь месяцев и уже 17 января 1756 года по определению Военной коллегии был произведен в обер-провиантмейстеры (ранга капитанского) для «смотрения в Новгородской губернии: Новгородского, Старорусского и Новоладожского провиантских и фуражных магазейнов». И в этой должности он находился недолго. Разумеется, интендантская служба не могла быть ему по сердцу, зато обогатила будущего полководца полезным опытом. Через много лет, направленный в Финляндию, Суворов столкнулся с необходимостью привести в порядок хозяйственную часть войск и обмолвился в одном из писем, что к этому роду службы подготовился, когда был обер-провиантмейстером.
28 октября 1756 года последовало новое назначение, вновь с повышением в ранге. Суворов был произведен в генерал-аудитор-лейтенанты, что по петровской «Табели» означало восьмой класс и соответствовало чину пехотного майора. В новой должности, однако, он не находился ни одного дня. Уже 4 декабря того же года по определению Военной коллегии Суворов был переименован в премьер-майоры и определен в «пехотные полки команды генерал-фельдмаршала Бутурлина».
В результате через два года и семь месяцев из сержанта гвардии Суворов стал премьер-майором. Нельзя, стало быть, утверждать, что он слишком долго засиживался в чинах, и его признание: «Я не прыгал смолоду…» – справедливо лишь отчасти. Конечно, вблизи стремительной карьеры иных его сверстников, баловней судьбы, такое продвижение представлялось более чем скромным: М. Ф. Каменский сделался полковником двадцати трех лет и тридцати одного года – генералом; Н. В. Репнин – полковником двадцати четырех, генерал-майором – двадцати восьми лет; наконец, талантливейший П. А. Румянцев стал полковником на девятнадцатом году жизни и генерал-майором – на тридцатом. Не следует забывать, однако, что все эти лица принадлежали к придворной элите и были исключением из правила. В массе же служивого, «средней руки» дворянства Суворов выделялся своим относительно быстрым продвижением в штаб-офицеры, что открывало перед ним возможность проявить свои дарования и знания, накопленные в годы солдатской молодости.
Скромный человек, Суворов исподволь, трудолюбиво, начав с низших чинов, продвигался к намеченной цели. Он хотел показать себя в деле, и случай этот скоро представился.
Примерно с 1750 года, когда вероятность войны с Пруссией становилась все реальнее и выяснилось, что в сравнении с русско-турецкими и русско-шведскими кампаниями борьба с таким противником, как Фридрих II, потребует от русской армии значительно больше усилий и искусства, начались медленно перемены в организации и вооружении войск. В пехоте были выделены особые отборные полки – гренадерские, а в обычных сформировано по три гренадерские роты. Те же изменения проводились и в коннице, где появились конно-гренадерские полки; в состав ее вошли и полурегулярные полки, получившие названия гусарских. Значительные перемены, связанные с именем П. И. Шувалова, коснулись русской артиллерии. В 1756 году армия получила знаменитые «шуваловские» гаубицы и более легкие, подвижные скорострельные орудия – единороги. Шуваловские единороги блестяще зарекомендовали себя в боевых условиях и состояли на вооружении войск во всех походах Суворова.
Самый факт изобретения фейерверкерами Даниловым и Мартыновым единорога доказывает, насколько русская военная мысль шла тогда впереди Запада. Известно, что французский артиллерист Грибоваль, познакомившись с единорогом в Вене, где он демонстрировался, снял с него чертежи и фактически заимствовал у русских ряд усовершенствований. Через пятнадцать лет орудия подобной системы появились во Франции.
15 декабря 1755 года были обнародованы новый пехотный и кавалерийский уставы, которые были значительно ближе «прусской экзерциции» Миниха, чем законам Петра Великого. Между тем именно этими уставами обязан был руководствоваться Суворов при переучивании солдат в последние месяцы службы в Ингерманландском полку и позже, находясь в пехотных частях Бутурлина. В согласии со вновь изданными уставами должна была действовать русская армия в течение всей Семилетней войны. Такова была сила косности и инерции. Впрочем, нельзя упускать из виду, что все «экзерциции» Петра I оставались действующим законом и сохраняли свое значение как «Генеральный устав о полевой службе».
Сделав выбор между гвардией и армией, Суворов начал путь русского боевого офицера. Он нашел себе опору в солдатской массе, которую не только досконально изучил, но и полюбил всей душой. Проводником своих идей он считал армейское офицерство, формировавшееся из среднего служилого дворянства. «Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII веке. Впрочем, более шумная, чем благотворная», – писал В. Ключевский. У среднего дворянства и судьбы были скромнее. «Они не делали правительств, – продолжал историк, – но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. Это пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых».
Кунерсдорфская битва была первой крупной битвой, в которой участвовал пехотный армейский офицер Суворов, приведший российскую армию к победам при Рымнике и Нови.
Глава третья
Семилетняя война
М. Б. Ломоносов
- Ты, Мемель, Франкфурт и Кистрин,
- Ты, Швейдниц, Кенигсберг Берлин,
- Ты, звук летающего строя,
- Ты, Шпрея, хитрая река,
- Спросите своего героя:
- Что может росская рука.
Стремительное возвышение Пруссии, получившей независимое бытие лишь в XVII веке и возведенной в степень королевства в 1701 году, несоразмерный с внутренними ресурсами рост ее военной машины, алчность ее правителей – все это нарушило и без того непрочный мирный эквилибр – равновесие – в Европе. Пока крупнейшие западные державы занимались в начале столетия дележом так называемого испанского наследства, энергичные прусские короли уже подготовили на маленьком плацдарме своего государства составленную из всякого сброда, но отлично выдрессированную армию.
Король Фридрих Вильгельм I оставил своему сыну в 1740 году небольшое государство – всего с 2,2 миллиона населения, но зато с 76-тысячным войском, по численности не уступавшим австрийскому, однако, по мнению современников, лучше организованным, обученным и вооруженным. С 1713 года была введена пожизненная служба солдат. Вся страна превратилась в единый военный лагерь, где население жило для армии и работало на армию.
Честолюбивый и циничный, единовластно распоряжавшийся всеми ресурсами страны, склонный, как и Карл XII, к авантюризму и одаренный полководчески, Фридрих II откровенно стремился к захвату чужих земель, благо его соседями были клонившиеся к упадку австрийские Габсбурги и раздираемое внутренними противоречиями Ягеллонское королевство. В состав Габсбургских владений входили Австрия с Каринтией и Тиролем, Чехия, Венгрия, Ломбардия и области в Нидерландах. После смерти императора Карла VI явилось сразу несколько претендентов на различные области этой лоскутной монархии. Тогда еще малоизвестный Фридрих II ввел свои войска в богатую промышленную провинцию Силезию. В декабре 1740 года началась война за «австрийское наследство».
По Аахенскому миру (1748) Силезия осталась за Пруссией, благодаря чему та приобрела в Европе значение великой державы. Население королевства увеличилось на полтора миллиона человек, а численность армии достигла ста шестидесяти тысяч. В угрожающей близости от границ России со сказочной быстротой выросло сильное милитаристское государство. В январе 1756 года Англия заключила с Фридрихом соглашение, по которому стороны «обязывались поддерживать мир в Германии и выступить с оружием в руках против всякой державы, которая посягнет на целость германской территории». В ответ на это Елизавета немедленно возобновила русско-австрийский союз, придав ему наступательный характер. Россия обязывалась выставить восьмидесятитысячную армию в помощь Австрии. В случае победы над Фридрихом австрийцы возвращали себе Силезию, а Россия получала Восточную Пруссию. К русско-австрийской коалиции присоединилась Франция, а затем Швеция и большинство мелких германских государств.
Фридрих решил упредить противников, чувствуя их неподготовленность к войне, и разбить поодиночке. В августе 1756 года он ворвался во главе почти стотысячного войска в Саксонию, оттеснив австрийцев, полностью занял ее и даже включил саксонцев в свои войска. 16 августа Россия объявила войну Пруссии. Конференция – совет высших сановников при Елизавете – возложила формирование армии на Александра Борисовича Бутурлина, одного из влиятельнейших вельмож Елизаветы, возведенного ею в графское достоинство, фельдмаршала, подполковника Преображенского полка, сенатора и многих российских орденов кавалера. В пехотные полки Бутурлина, как мы помним, был направлен двадцатисемилетний премьер-майор Суворов.
– …Мы с батюшкой твоим Василием Ивановичем вместе состояли в денщиках у незабвенного государя нашего Петра Великого. Я же был у него любимейшим. – Рассказывая, Бутурлин покосился на секретаря, не уходившего из покоев. – Тебе чего?… – Престарелый вельможа сей был слегка навеселе.
Секретарь, ничуть не смущаясь присутствием Суворова, положил на стол бумагу:
– Ваше сиятельство сделали ошибку в этом слове…
Бутурлин взглянул на Суворова, взял гусиное перо, подумал над своей резолюцией и тут же с досадой бросил перо прочь:
– А вы… Вы даже перьев очинить не умеете! Извольте сами поправить…
Суворов уже слышал о Бутурлине, что он отличался добротой, умом, однако не получил, как и многие другие вельможи, никакого образования и не был способен командовать не только армией, но даже и двумя-тремя полками. Позднее, когда его назначили в 1760 году главнокомандующим, театр будущих военных действий специально для него отмечался карандашом, так как фельдмаршал не имел представления о географической карте. Случилось Бутурлину выйти, и граф Захар Чернышев, желая подшутить над ним, перевернул карту. Возвратившийся главнокомандующий, не видя отмеченного места, при рассуждениях о будущих операциях все время тыкал пальцем в море. «Тут утонешь», – заметил ему с улыбкой Чернышев, отводя его руку в сторону…
Находясь у Бутурлина, Суворов мог лишь издали следить за действиями русской армии, которую возглавил осторожный С. Ф. Апраксин, шеф семеновцев и фельдмаршал с 1756 года. Премьер-майор Суворов, причисленный 4 февраля 1757 года «в комплект в Куринский пехотный полк», был направлен сперва в распоряжение начальника этапного пункта в Либаве, а после обер-провиантмейстером в Мемель с поручением снабжать войска, идущие на Тильзит. Подробности кампании 1757 года доходили до него через немецкие и русские газеты, рассказы раненых офицеров-очевидцев и приезжающих в Петербург курьеров.
Действия Апраксина отличались крайней медлительностью: только во второй половине июня 1757 года он перешел Неман и черепашьим шагом двинулся в глубь Восточной Пруссии. Осведомленный от своих шпионов о нерешительности русских, Фридрих поручил защищать Пруссию двадцатидвухтысячному отряду Левальда, а сам в первых числах апреля вторгся в Богемию, в кровопролитном сражении разбил австрийцев и осадил Прагу. Однако 18 июня под Колином пруссаки потерпели сокрушительное поражение. К августу 1757 года Прусское королевство было в кольце союзных армий, насчитывавших около трехсот тысяч солдат. Все усилия Фридрих устремил теперь на запад, против франко-австрийских войск. Опасность с востока, по его мнению, ему не грозила. Он презирал Россию, презирал ее армию, высокомерно заявлял: «Это орда дикарей, не им воевать со мною…»
Елизавета, крайне недовольная Апраксиным, побуждала его разгромить войска фельдмаршала Левальда, которые преградили путь на Кенигсберг. 17 августа русская армия переправилась через реку Прегель и расположилась на лугу перед деревней Гросс-Егерсдорф, а рано утром 19 августа Апраксин был атакован Левальдом. Напряженный бой продолжался несколько часов, преимущественно в центре русских боевых порядков. Полки, понесшие уже большие потери, вели борьбу с необычайной стойкостью. Исход сражения решила штыковая атака отряда тридцатидвухлетнего генерал-майора П. А. Румянцева. Когда правое крыло 2-й дивизии русских дрогнуло и подалось назад, Румянцев с четырьмя полками резерва пробрался через лес и неожиданно ударил противнику во фланг. Туман, пожары деревень, сильный ветер, разносивший пыль, способствовали усилению паники, дошедшей до того, что вторая линия пруссаков открыла огонь по первой. Русская кавалерия закрепила победу. Путь на Кенигсберг был открыт. Занятый на Западе, Фридрих ничем не мог помочь Восточной Пруссии.
Настроение русской армии несмотря на значительный урон было приподнятое. Однако Апраксин, простояв в бездействии несколько дней у Алленбурга, внезапно приказал бить ретираду, ссылаясь на недостаток продовольствия и заболевания в войсках. Говорят, что он получил от канцлера Бестужева-Рюмина письмо с извещением об опасной болезни императрицы. Отход в ужасную осеннюю распутицу принес больше вреда, нежели военное поражение. Большую часть продовольственных запасов и снаряжения пришлось уничтожить, так как по пятам шли пруссаки. Отступление было столь быстрым, что походило на бегство. Только в первых числах октября войска остановились в Мемеле на зимние квартиры.
Обер-провиантмейстер Суворов только и слышал в Мемеле возмущенные речи.
«Что это, братцы? Что это такое с нами творится и совершается? Где девался ум наших генералов?» – открыто роптали солдаты, оголодавшие, намерзшиеся, обносившиеся за время отступления. Офицеры высказывались не в пример резче: «Господа полководцы наши помышляли, видно, о том, как бы обратить в ничто все понесенные убытки и пролитую толь многими сынами отечества кровь; расплесть полученный венец славы и победы, покрыть себя позором и бесчестием и нанесть всей армии позорное пятно!»
Адъютант, находившийся при дежур-майоре Апраксина князе Иване Романовиче Горчакове, будущем шурине Суворова, рассказывал:
– От Тильзита до Мемеля шла наша армия с великою поспешностью, причем такими местами, которые и в сухую погоду не гораздо сухи, а теперь от беспрестанного дождя, слякоти и снега превратились в самую топкую и вязкую грязь, из которой ноги почти вытащить не можно. Наши главные командиры, боясь неприятеля, впали в великое малодушие и трусость и наделали множество смеха достойных дел. Ночью вызвал меня фельдмаршал проверить обозы на дорогах. Я нашел его в преогромной, богато внутри украшенной и жаровнями и спиртами нагретой кибитке, лежащего на пуховиках, в присутствии лейб-медика. Но чем бы, вы думали, победитель наш при тогдашних печальных обстоятельствах упражнялся? Истинно стыдно сказать. Изволил слушать сказки сидящего у него в головах за столиком гренадера и болтавшего вздор нелепый во все горло!.. С трудом добрался я до переправы, где стеснилось несколько сот повозок, слышен был только вопль, шум и треск. Мне не было никакого способа далее проехать и не только сосчитать их все, но даже окинуть глазом. Вернувшись, я доложил фельдмаршалу обо всем. Но что же, вы бы думали, он на сие сказал? Только приказал итить на свое место, а гренадеру продолжать сказку!..
Действия Апраксина, сведшие на нет плоды Гросс-Егерсдорфской виктории, вызвали негодование при дворе и в Конференции. Елизавета, повелевшая было внести в его родовой герб в память о победе две крестообразно положенные пушки, отстранила Апраксина от командования и вызвала для объяснений в Петербург. По дороге он был арестован, привлечен к следствию по подозрению в измене и на допросе скончался. Канцлер Бестужев-Рюмин был снят с должности и сослан в деревню; на его место Елизавета назначила М. И. Воронцова. Командование русскими войсками принял ученик Миниха В. В. Фермор, от которого Конференция потребовала немедленно занять Восточную Пруссию.
Фридрих метался, обложенный армиями союзников, и лишь несогласованность их действий позволяла ему всякий раз уходить от окончательного поражения. Был момент, когда немецкие имперские чины даже отрешили его от престола. Отступление Апраксина дало ему очередную передышку, которой он не замедлил воспользоваться. 5 ноября 1757 года при деревне Россбах Фридрих разбил сильную франко-австрийскую армию с помощью кавалерии генерала Зейдлица и бросился в Силезию, где пруссаки терпели поражение, 5 декабря у местечка Лейтен искусными маневрами он выиграл сражение у австрийцев, захватив более двадцати тысяч пленных, всю артиллерию и обоз. Силезия снова была у него в руках.
Тем временем медленно, но, как грозная, неодолимая громада, на германские границы надвинулась с Востока русская армия. В январе 1758 года, почти не встречая сопротивления, она овладела Тильзитом, затем Кенигсбергом и Восточной Пруссией. По манифесту Елизаветы Петровны область присоединилась к Российской империи. К марту все важнейшие пункты на Нижней Висле были заняты русскими войсками, но из-за противоречивых указаний Конференции Фермор потерял затем много времени на бесцельное маневрирование между Вислой и Вартой и только 4 августа подошел к сильной крепости Кюстрин.
В эту пору Суворов, назначенный комендантом Мемеля, занимался формированием батальонов в Лифляндии и Курляндии. В Мемеле он услышал о кровопролитнейшей битве, происшедшей 14 августа 1758 года у деревни Цорндорф. Из дошедших раньше всего берлинских газет он с досадой узнал, что армия наша, имевшая дело с самим королем, будто бы им разгромлена наголову, так что одних убитых насчитывалось у россиян до двадцати тысяч человек, в то время как пруссаков якобы погибло всего пятьсот шестьдесят три.
– Умилосердитесь, государи мои, – говорил Суворов тем, которые тому верили. – Неужели наши рук не имели и сами только шеи протягивали и давали себя рубить без всякой обороны? Сами же они говорят, что баталия целый день продолжалась и была наижесточайшая. Каким же образом их урон столь несоразмерен? Нет, дело, конечно, было, да происходило иначе.
Через несколько дней проскакал через Мемель курьер – полковник Розен, подтвердивший, что битва действительно была кровавой и длительной, но что выиграли ее русские.
– Когда Фермор обложил Кюстрин и после жестокой бомбардировки зажег его, Фридрих бросился на помощь с тридцатидвухтысячной армией. Узнав об этом, Фермор снял блокаду и занял позицию на обширном, всхолмленном и прорезанном двумя оврагами поле, имея в тылу деревню Цорндорф. Однако в ночь на 14 августа Фридрих произвел глубокий обход правого крыла русских войск и вышел им в тыл. Утром Фермор был вынужден перевернуть фронт армии так, что вторая линия стала первой, а правый фланг – левым. Вражеские батареи открыли сильный огонь с высот севернее Цорндорфа; пруссаки выстроили косой боевой порядок и около одиннадцати часов начали атаку правого крыла русских.
Фридрих усовершенствовал линейную тактику, атакуя один фланг противника и охватывая его своим сильным флангом; остальную часть своих войск он держал в это время позади – уступом. Такая косая атака позволяла создать в нужном месте превосходство в силах и грозила охватом неприятельскому флангу.
Под губительным огнем прусской артиллерии и натиском пехоты правый фланг русских стоял неподвижно. Фридрих бросил в атаку всю свою конницу. Наша пехота пропускала ее в интервалы, а затем смыкала свои ряды; прусская конница вместе с королем едва пробилась назад. После двух часов дня Фридрих перенес направление главного удара на левый фланг, но и там встретил героическое сопротивление. К семи вечера расстроенная и обескровленная прусская армия прекратила наступление. Оба войска провели ночь под ружьем. На другой день Фридрих не решился возобновить битву.
«Все советовали, – рассказывал в штабе Бутурлина Розен, – наутро отважиться Фермору на баталию. Мы могли б, верно, совершенно разбить короля, ибо у него не было уже пороха ни одного почти заряда. Но вместо того, чтобы испытать свои силы, Фермор повелел отступить на другой день к своему вагенбургу.
Великим упущением служило и то, что армия наша в деле сем не вся находилась, но сильный корпус под командою графа Румянцева случился за несколько миль в отдалении и не поспел к сражению. Один из главных наших генералов, князь Александр Михайлович Голицын, ушед с баталии, поскакал без души к сему корпусу и уверил оный, что вся наша армия побита и нет ей никакого спасения. О том же вторили и другие беглецы – принц Карл Саксонский, австрийский барон Сент-Андре, генерал-квартирмейстер-лейтенант Герман и секретарь самого Фермора Шишкин…
Главная же польза от сего сражения была та, что войска наши прославились неописуемой храбростью и непреоборимостью. Сам король ужаснулся, увидев, как дралась наша пехота, и пруссаки в реляциях своих писали, что русских легче убить, нежели побудить к бегству, и что само простреливание человека недостаточно к совершенному его низложению…»
Странное положение создалось в российских верхах той поры. В то время как Елизавета Петровна и Конференция всемерно желали победы своему воинству над Фридрихом, в том же Зимнем дворце расхаживал окруженный бывшими прусскими капралами и сержантами долговязый, насмешливый великий князь Петр Федорович. Без пяти минут император России разговаривал почти исключительно по-немецки, читал только прусские газеты, носил перстень с портретом Фридриха и открыто желал ему побить русских. Слыша о победах союзников, он только смеялся: «Это все неправда, мои известия говорят иное…» Когда полковник Розен явился в Петербург, его слуга начал рассказывать во дворце, что битва русскими проиграна, за что и был посажен на гауптвахту.
Узнав об этом, великий князь велел привести его к себе.
– Ты поступил как честный малый, – встретил Петр Федорович слугу Розена, – расскажи мне все, хотя я хорошо знаю и без того, что русские никогда не могут победить пруссаков.
Затем он указал на голштинских офицеров, куривших свои глиняные трубки и галдевших по-немецки:
– Смотри! Это все пруссаки; разве такие люди могут быть побиты русскими?..
Не удивительно, что такое положение тревожило осторожного Фермора, который просил уволить его от главного начальствования. Армия наша стояла на винтер-квартирах, куда прибыл, препроводя семнадцать подготовленных батальонов, Суворов. За успешное выполнение этого задания, очевидно, по представлению благоволившего к нему Бутурлина он был произведен в октябре 1758 года в подполковники. С наступлением тепла русские войска начали стягиваться к городу Познани.
8 мая Конференция назначила главнокомандующим шестидесятилетнего генерал-аншефа Петра Семеновича Салтыкова.
Познань и по-июньски зеленые ее окрестности полны были военным народом. В полях забелели установленные повсюду палатки, Суворов ехал лагерем, испытывая радостное волнение от окружающего кипения и суеты – бегания пеших и скакания конных, ржания лошадей, звуков труб, биения барабанов.
Отдалившись от лагеря, он заметил в глубоком овраге копошащихся солдат – треуголки мешались с кожаными гренадерскими каскетами, сделанными наподобие древних шишаков и имевшими на себе род плюмажей. Заинтересовавшись, он спешился и, раздвигая кусты, подошел к самому краю оврага. Солдаты разделывали раздобытую где-то говяжью тушу, ловко орудуя тесаками. И то сказать: из-за перебоев в снабжении недостаток в провизии ощущался – и остро.
Неподалеку от Суворова зашуршал кустарник, и вдруг раздался слегка дребезжащий старческий альт:
– Убирайтесь скорее, ребята! Не то Фермору скажу! Солдаты брызнули из оврага навстречу вышедшему седенькому, маленькому и простенькому старичку в белом ландмилицейском кафтане без украшений, спокойно помахивавшему хлыстиком. Со стороны лагеря меж тем уже, поднимая пыль, скакали всадники. Первый офицер спрыгнул с лошади и вытянулся перед странным старичком:
– Ваше сиятельство! С ног сбились, искамши вас… Пешком, без конвоя… Нешто можно эдак-то!
По окаменевшей группе солдат прошло шелестом: «Салтыков…»
Генерал-аншеф отмахнулся хлыстиком от адъютанта и обернулся к солдатам:
– Что, ребята, напужал вас?… Ничего, не серчайте на старика. – Он сощурил маленькие свои глазки. – Как у нас на Руси говорят?… Виноват медведь, что корову съел… – Салтыков выждал, оглядывая усатые и безусые лица, и закончил решительно – А не права и корова, что в поле ходила!
Солдаты несмело хохотнули. Не сдержал улыбки и затаившийся Суворов.
– Надеюсь на вас крепко, солдатики, как встретимся с пруссом, – посерьезнев, сказал командующий.
Стоявший ближе всех к нему краснощекий могучий гренадер с лихо подкрученными усами выдохнул:
– Отец ты наш родной, Петр Семенович! Рады стараться!
– А сейчас, – продолжал Салтыков, – слушайтесь к своему провианту!
Он, кряхтя, сел на подведенную к нему лошадь и затрусил к лагерю, но солдаты остались стоять на месте.
– А и прост, а и мал и ласков… – наконец выговорил старик мушкетер. – Сущая курочка!..
К вечеру весь лагерь гудел, обсуждая эту встречу. Суворов зная о Салтыкове, что он начал службу при Петре I в 1714 году в гвардии, затем послан был царем изучать мореходство во Франции, участвовал в походе 1734 года в Польше и в русско-шведской кампании 1741–1743 годов. До прибытия в армию он командовал на юге Украины ландмилицейскими полками. Никаких выгодных и громких слухов о нем доселе не было.
По приезде в Познань Салтыков решил долее не медлить ни дня и учинил назавтра всей армии генеральный смотр. Войска побригадно должны были идти церемонией мимо круглой калмыцкой кибитки генерал-аншефа. Впереди маршировали бригадные фурьеры при предводительстве квартирмейстеров, с распущенными своими «значками» в виде разноцветных маленьких знамен. Далее ведены были лошади командующего бригадою генерала – все в прекрасных попонах, с золотыми вензловыми именами и гербами. За ними следовал уже сам генерал со всей своей свитой. Полки его бригады шли с развернутыми знаменами, с барабанным боем и играющей военной музыкой. Все офицеры и знаменосцы должны были салютовать, проходя мимо Салтыкова, стоявшего перед своей кибиткой в окружении штаба.
Суворов, временно приставленный к бригаде генерал-майора М. Н. Волконского, ехал на лошади перед гренадерским батальоном. У всех солдат в шляпы, а у гренадер в их каскеты воткнуты были зеленые ветви, как бы в предвозвестии будущих, новых побед. Поравнявшись с генерал-аншефом и отдав ему положенный комплимент, Суворов услышал слова Салтыкова:
– Вот они наши, русские солдатики!.. Изрядные, бодрые – любо-дорого поглядеть. Вся надежа на них! Слава им!..
По плану союзников в июле 1759 года с армией Салтыкова должны были соединиться австрийские войска фельдмаршала Дауна. Так как их выступление затягивалось, Салтыков, оказавшийся по натуре очень самостоятельным, сам перешел бранденбургскую границу и направился к городу Кроссену, навстречу Дауну. Ему пытался преградить путь генерал-поручик Ведель, но слабый его корпус был раздавлен 12 июля в кровопролитном сражении у местечка Пальциг. Потеряв до шести тысяч убитыми, ранеными и пленными, пруссаки в беспорядке отступили за Одер. 14 июля любимец Фридриха Ведель, получив подкрепления, вновь решил воспрепятствовать продвижению русских и с небольшим отрядом занял Кроссен. В ответ Салтыков приказал князю Волконскому взять Тобольский драгунский полк с его артиллерией и самолично отправился с ним к Кроссену. В этом поиске принял участие и подполковник Суворов.
Когда полк подошел к городу, прусские гусары в числе шести эскадронов уже выстроились на лугу за Одером, в то время как остальные перестреливались перед форштадтом с казаками. Салтыков повелел кинуть в пруссаков четыре бомбы из большого единорога. Секретное Шуваловское орудие было тотчас установлено. Суворов, находясь в свите Салтыкова, видел на боку пушки выдавленного однорогого зверя – герб графа П. И. Шувалова – и опечатанную медную сковороду, прикрывающую дуло единорога. Особый артиллерийский офицер с командою, которым под страхом смерти воспрещалось рассказывать о шуваловских орудиях, распоряжался ведением огня. Первая же бомба угодила в пруссаков, торопливо ретировавшихся теперь вверх по Одеру. Командующий, наблюдавший за боем с бугра, неподалеку от единорога, тотчас отправил полковника Минстера с двумя пушками атаковать город. Суворов, пришпоривая коня, мчался с первым эскадроном драгун.
Навстречу приближались блестевшие каски с одноглавыми прусскими орлами, медная пушка и красные гусарские мундиры у форштадта. Но, очевидно, самый вид надвигавшейся русской кавалерии устрашил пруссаков, кинувшихся из форштадта к городу через мост. Драгуны преследовали их. Перед мостом вышла заминка, так как пруссаки, прикрываясь огнем двух пушек, наполовину разобрали его. Тогда заговорила русская артиллерия. Над Кроссенским замком был поднят белый флаг, и трубач в сопровождении городских депутатов появился в воротах. Кроссен сдался Салтыкову.
Оставшись в действующей армии, Суворов был назначен на должность генерального и дивизионного дежурного при графе Вилиме Вилимовиче Ферморе, начальствовавшем над 1-й дивизией. В качестве дежурного штаб-офицера он участвовал в одной из ключевых битв Семилетней войны – «Франкфуртской баталии», или сражении при Кунерсдорфе.
Соединившись с восемнадцатитысячным корпусом храброго шотландца, находящегося на австрийской службе, – Лаудона, Салтыков предполагал, достигнув Франкфурта, без проволочек идти на Берлин. Однако 30 июля конная разведка Г.-Г. Тотлебена донесла, что Фридрих сосредоточил значительные силы у Фюрстенвальде, на полдороге между Берлином и Франкфуртом-на-Одере, и движется на сближение с русскими. На деле неприятельские гусары уже переходили вброд Одер гораздо ниже нашей армии. Задержка с донесением объяснялась просто: генерал-майор Тотлебен давно уже был прусским шпионом, выдававшим Фридриху секретные планы и сообщавшим русскому командованию заведомо ложные сведения о численности противника и его местонахождении.
Вечером 30 июля командующие дивизиями со своими штабами собрались в калмыцкой кибитке Салтыкова.
– Положение наше, выгодное и довольно натурою и искусством укрепленное, опасно в случае несчастья, ибо путь к ретираде отрезан… – Маленький Салтыков поднялся со скамьи и развернул карту. – Воззрите сами: армия российская обращена туда лицом, откудова ожидался неприятель, весь фронт перед нею защищен топким и непроходимым почти болотом… Ан прусс учинил знатную стратагему – обман, совершил дальний круг Франкфурта обход и грозит на слабейший наш левый фланг напасть и в тыл выйтитъ!.. Что делать?
Все молчали, изведав уже Салтыкова, характер которого, по общему мнению, не принадлежал к числу изящных. Сколь ласков он был с солдатами, столь же крут и неуступчив с генералитетом…
– Мы неделю под Франкфуртом лагерем стоим, укреплений построили довольно, и нас так просто не возьмешь!.. Оставаться на прежних позициях и спокойно дожидаться прибытии его величества короля прусского, – твердо закончил он.
Весь следующий день был употреблен на усиление оборонительной мощи армии – на отрытие окопов с брустверами бастионного начертания для защиты артиллерийских батарей и устройства куртин между ними для пехоты. Утром 31 июля, отвозя генерал-аншефу рапорт Фермора, Суворов имел возможность воочию обозреть русские боевые порядки. Войска расположились на трех холмах, протянувшихся на четыре километра с северо-востока на юго-запад, под углом к Одеру, в который упирался наш правый фланг. Левый фланг держали пять молодых, или новых, полков князя Голицына на небольшом холме Мюльберг, примыкавшем к густому лесу и прикрытом глубоким буераком. Он укреплен был окопом – ретраншементом – и несколькими батареями, содержавшими в себе до восьмидесяти пушек.
В центре, на соседнем, более обширном холме Гросс-Шпицберг, расположилась 2-я дивизия Румянцева, тут же находилась и ставка Салтыкова.
1-я дивизия Фермора занимала правый фланг на высоком холме Юденберг, укрепленном шанцами и сделанными наподобие звезды ретраншементами. Что до австрийцев, то по тесноте в линию уместить их было невозможно, и поставлены они были позади правого крыла. Легкое войско разместилось перед Юденбергом.
На обратном пути с холма Гросс-Шпицберг Суворов встретил плутонг легкой кавалерии, переправившийся через болотистую речушку Гюнер и теперь возвращавшийся в расположение 2-й дивизии.
– Откуда, братцы? – окликнул он их.
– Из деревни Фраундорф, – ответил офицер.
– Что слышно?
– Нажимают пруссы, барин, – раздался низкий голос из задних рядов. – Навалились… Сегодня их и жди…
И верно, к двум часам пополудни послышались частые выстрелы от едва видной с Юденберга деревушки Кунерсдорф и от совсем уже далеких Суворову Третинских высот за рекой Гюнер. Русские батареи с Гросс-Шпицберга подожгли зажигательными снарядами деревню, уже занятую прусской кавалерией. Однако против ожидания пальба с севера стала затихать. Сколько ни глядел Суворов с высокого Юденберга, все было пусто и тихо – справа синие зубцы франкфуртского леса, прямо – болотистая низина. Юденберг застыл в тревожном молчании, и лишь в тылу слышалось позвякивание уздечек и негромкое, тревожное всхрапывание лошадей: там угадывалась русская и австрийская конница.
Ночью никто не спал, и около трех часов разнеслось: «Пруссаки!» В предрассветных летних сумерках были видны колонны, выходившие из леса, быстро и четко перестраивавшиеся с очевидным намерением атаковать русских по всему фронту. Образовав три линии – в первой восемь русских полков, во второй два русских и восемь австрийских и в третьей конница, – группа Фермора ожидала своего часа. Но, маневрируя перед Юденбергом, пруссаки постепенно отходили к северо-востоку, за Кунерсдорф.
В девять утра с левого фланга раздалось несколько пушечных выстрелов. Становилось окончательно ясно, что именно на этот наиболее слабый фланг обрушит Фридрих главный удар. В половине двенадцатого загрохотали прусские батареи. Около двухсот орудий било с Третинских высот с холма Клейн-Шпицберг за сожженным Кунерсдорфом. Мюльберг сразу окутался темным пороховым дымом.
– Смотрите! Смотрите! Идут! – крикнул кто-то из свиты Фермора, указывая в сторону Кунерсдорфа.
В дыму и пыли на Мюльберг наступала армия Фридриха: синие мундиры с красными, синими, зелеными, белыми отворотами, высокие медные шапки и треуголки. Пехота образовала три идеально ровные шеренги, выставившие стальную щетину штыков.
– Как экзерцициям обучены! – не сдержал восхищения офицер, стоявший рядом с Суворовым. – Равнение-то, равнение каково! Точно механизм единый!
– Нет-с! – живо отреагировал тот. – Долго они линию не удержат. Здесь Фридриху не гладкая тавлейная доска, как на плац-параде!..
Но все уже и так видели, что стройные шеренги исчезли, преобразившись в гигантские зигзаги.
Соседний холм содрогнулся: раздался страшный рев шуваловских единорогов. Даже с Юденберга было видно, какой тяжелый урон наносила русская артиллерия пруссакам. Однако, потеряв равнение, они продолжали надвигаться на Мюльберг. Не останавливаясь, пехота дала залп и, зарядивши на походе свои ружья, достигла подошвы Мюльберга. Подойдя ближе, пруссаки снова дали залп по русской пехоте. С этого мгновения огонь сделался с обеих сторон беспрерывным, и с Юденберга нельзя было отличить неприятельской стрельбы от нашей. Лишь выстрелы секретных шуваловских гаубиц выделялись среди прочей канонады своим особливым звуком и густым черным дымом.
Штабы и офицеры Фермора, собравшись кучками на макушке Юденберга, смотрели на побоище и только рассуждали, ибо самим им делать было нечего. Хотя все происходившее было видно как на ладони, дивизия находилась так далеко от Мюльберга, что до неприятеля не могли достать не только ружья, но и самые полковые пушки.
Наших пять слабейших полков сдерживали натиск всей армии Фридриха. Первая шеренга русской пехоты встала на колени, выставив ружья, – прусский же фронт казался в беспрестанном движении, то приближаясь к русским вплотную, то опять отступая назад. Вскоре от стрельбы дым так сгустился, что, противников не стало видно вовсе. Очевидно, шла уже рукопашная.
Батареи с Гросс-Шпицберга перенесли огонь на овраг Кунгрунд. Из тыла передали: Мюльберг пал; пруссаки заполнили овраг и рвались наверх, по склону Гросс-Шпицберга. Пушки, уже вражеские, открыли с Мюльберга губительный продольный огонь.
В свите Фермора почитали баталию уже совершенно проигранною. «Салтыков мнил, что будет счастливее искусного Фермора, – шушукались штаб-офицеры, – но как такому простенькому и ничего не значащему старичку можно быть главным командиром толь великой армии!.. Как можно ему предводительствовать против такого короля, который удивляет всю Европу своим мужеством, храбростию, проворством и знанием военного искусства!..»
К пяти часам пополудни стало известно, что пруссаки овладели уже всеми нашими батареями на левом фланге и имели в своей власти несколько тысяч взятых в плен. Разнесся слух, будто бы Салтыков впал в такое расстройство и отчаяние, что, позабыв все, сошел с лошади, стал на колени и, воздев руки к небу, при всех просил со слезами Всемогущего помочь ему в таком бедствии и крайности и спасти людей своих от погибели явной…
Посыльный привез приказ: передвинуть часть резерва австрийского генерал-поручика Кампители и русскую конницу в центр. Происходила медленная перегруппировка сил.
– Извольте отвезти ответ командующему об исполнении… – Фермор отправил дежурного по штабу в ставку.
Суворов пробирался болотистой низиной, мимо новотроицких, киевских, казанских драгун и чугуевских казаков, остававшихся в резерве. Доехав с тыла до Гросс-Шпицберга, он принужден был спешиться, так густо стояла тут русская пехота, так тесно расположились батареи. Ядра и пули, долетая сюда, почти не знали промаха.
Крутой склон Гросс-Шпицберга, обращенный к Мюльбергу, был замкнут в несколько рядов фузелирами, которые вели непрерывный огонь с колена, погибали, заменялись новыми, но не отходили назад. Иные ложились целыми шеренгами, давая пруссакам переходить через себя как через побитых, а потом вскакивали и стреляли в них с тылу. Те же из пехотинцев Фридриха, кому удавалось достигнуть обрывистого верха, находили там либо смерть, либо свергаемы были вниз, в Кунгрунд…
Салтыков сидел на барабане на лысой вершине холма, хладнокровно помахивал хлыстиком, слыша свист пролетавших пуль, и шутил с генералом Яковом Александровичем Брюсом.
– Ваше сиятельство!.. – Рослый, курносый и круглолицый генерал-поручик в грязном мундире и без парика докладывал Салтыкову – Атаки неприятельские слабеют! Знатный буерак забит мертвыми чуть не вполовину!..
Суворов не сразу признал в нем командира 2-й дивизии Румянцева.
Салтыков неспешно поднялся с барабана.
– Ходила лиса курят красть, да попала в пасть… Готовь, батюшка Петр Александрович, резерв к атаке…
Раздавленные численным превосходством полки Голицына выполнили свою роль: измотали наступавших. Салтыков между тем методично укреплял центр, переводя все новые войска с Юденберга. Атака вражеской конницы через Кунгрунд вначале имела успех, но затем Румянцев взял часть русской кавалерии и опрокинул кирасир Фридриха. Большие толпы прусской пехоты скопились в овраге и теперь истреблялись губительным огнем единорогов с Гросс-Шпицберга.
Вернувшись на Юденберг, Суворов жадно следил за ходом сражения. Битва достигла своей высшей точки. Пересеченной, болотистой низиной от Кунерсдорфа на Гросс-Шпицберг шла на рысях знаменитая конница Зейдлица, почитавшаяся – и не без оснований – лучшею в Европе. Теперь пришел черед действовать всем батареям Юденберга. Лавируя между прудами, под перекрестным артиллерийским огнем, прусская кавалерия быстро потеряла стройность своих боевых порядков и, так и не достигнув окопов Гросс-Шпицберга, покатилась назад. В этот момент вслед ей тремя лавинами вырвалась русская и тяжелая австрийская конница. Зейдлиц в беспорядке отступал к Кунерсдорфу.
Фридрих еще пытался спасти положение, направив драгун принца Вюртембергского и гусар генерала Путткаммера на Гросс-Шпицберг: противник достиг было вершины холма, но русская пехота генерал-поручика Румянцева и австрийцы Лаудона, действуя холодным оружием, смели прорвавшихся, а артиллерия довершила их уничтожение. К вечеру пехота генерала Петра Панина погнала пруссаков на Мюльберг, где сгрудившиеся вражеские толпы расстреливались батареями Гросс-Шпицберга. Прусская пехота и кавалерия повсюду обратились в бегство. Около семи часов вечера преследование противника было поручено Тотлебену и Лаудону, но продолжалось оно только до темноты. Сорокавосьмитысячная армия Фридриха перестала существовать.
…Фермор, рыжеватый, с тонким овалом красивого лица, оторвался наконец от подзорной трубы:
– Поздравляю, господа офицеры! Виктория, и полная! Суворов быстро ответил ему:
– На месте главнокомандующего я пошел бы теперь на Берлин, и война могла бы окончиться…
Как раз этого больше всего и боялся Фридрих. Самонадеянный, он встретил курьера от Фердинанда Брауншвейгского, известившего его о победе над французами при Миндене, словами: «Оставайтесь здесь, чтобы отвезти герцогу такое же известие…» В ходе боя под ним были убиты две лошади и прострелен мундир. Прусская кавалерия едва спасла его от русско-австрийских гусар. У короля, по его собственному признанию, оставалось после сражения не более трех тысяч боеспособных солдат: девятнадцать тысяч было убито, ранено или пленено, а остальные разбежались. В полной прострации он намеревался покончить с собой и писал в Берлин: «Все потеряно, спасайте двор и архивы». Раньше он ненавидел и презирал русских, теперь он их страшился и ненавидел. С этого дня и до своего смертного часа «старый Фриц» изыскивал любые возможности, чтобы ослабить Русское государство, был его последовательным и заклятым врагом.
…Генералы со своими штаб-офицерами съезжались в ставку командующего. Вся низина перед Гросс-Шпицбергом, его склоны и овраги, Кунгрунд и холм Мюльберг были усеяны трупами. Около шестнадцати тысяч человек потеряли союзники в этой кровопролитнейшей битве, причем главные жертвы – тринадцать с половиной тысяч человек – понесли русские. В палатке Салтыкова уже собрались командир 3-й дивизии – раненый Голицын, выказавший в бою отменную храбрость; один из главных героев дня – граф Румянцев; генералы Вильбоэ, Панин, Берг, Волконский, Долгоруков; австрийские военачальники; командующий 1-й дивизией Фермор, прибывший в сопровождении Суворова.
Генерал-аншеф Салтыков в съехавшем набок парике диктовал реляцию Елизавете:
– Напиши: «Ваше императорское величество! Не удивитесь великой потере нашей… Король Прусский не продает дешево побед…»
Полный разгром Фридриха II при Кунерсдорфе произвел громадное впечатление не только в Петербурге, но и во всех союзных столицах. Салтыков получил чин фельдмаршала, и в честь его была выбита медаль с надписью: «Победителю над пруссаками». От него ожидали развития успеха, однако силы были истощены – не хватало лошадей для артиллерии и обозов, кончались снаряды, ощущалась острая нужда в продовольствии. Тем не менее решительный Салтыков предлагал фельдмаршалу Дауну совместное наступление на столицу Пруссии. Но Даун и венский гофкригсрат вовсе не желали усиления России. Среди русских главных командиров в итоге возобладали крайнее неудовольствие и досада на австрийцев, желавших, чтобы армия Салтыкова играла роль вспомогательной силы. Теперь уже Даун уговаривал Салтыкова действовать совместно, но к выгоде Вены.
– Всякому свои сопли солоны… – буркнул австрийскому фельдмаршалу маленький Салтыков при встрече.
– Was? Что? – удивился Даун.
– Я говорю: мы свое сделали, теперь ваша очередь…
Разногласия эти привели к тому, что Салтыков отвел армию к Нижней Висле, а сам вернулся к любимому своему занятию – псовой охоте на зайцев. Все происшедшее Фридрих назвал «чудом Бранденбургского дома» – в который раз Пруссия была спасена. Война, первоначально казавшаяся в Петербурге непродолжительною, затягивалась. И все же, несмотря на тяжелое экономическое положение страны, энергичная Елизавета Петровна не желала и слышать о мире до полного разгрома Пруссии…
После Кунерсдорфской битвы и с небольшим перерывом до середины 1761 года Суворов оставался в 1-й дивизии Фермора; «при правлении дивизионного дежурства бессменно». В те периоды, когда Фермор замещал главнокомандующего, подполковник Суворов, помимо своей должности, исполнял еще и обязанности генерального дежурного армии. Он пользовался особенным расположением своего начальника и даже в старости хранил благодарную о нем память, говоря с неостывшей признательностью: «У меня было два отца – Суворов и Фермор…»
Сам Василий Иванович Суворов в апреле 1760 года решением Конференции был направлен в русскую заграничную армию «главным при провиантском департаменте», что соответствовало званию «генерал-губерпровиантмейстера» по Воинскому уставу 1716 года. На это место нужен был человек «неподкупной честности». Так назовет Суворова-старшего Екатерина П. Еще 5 января 1758 года В. И. Суворов получил чин генерал-поручика. Вместе с армией он проделал походы в Польше, Шлезии, Бранденбурге и Померании.
Будучи главным полевым интендантом, он заслужил всеобщее уважение своей неустанной деятельностью по бесперебойному снабжению армии продовольствием. Это отмечалось в донесениях и реляциях. Так, 18 июля 1760 года Конференция обратилась к В. И. Суворову со специальным рескриптом, где отмечались его заслуги и излагались последующие задачи по снабжению армии:
«Реляция ваша, из Познани, от 6-го сего месяца под № 20-м отправленная, причинила нам особливое удовольствие. Что в Познане, несмотря на все бывшие затруднения, однако ж столько вами провианта запасено, что армия наша с собою с лишком на месяц возьмет, то поэтому уповаем мы, что ревностным вашим старанием и в Калише не с меньшею скоростию потребные магазины поспеют, а армия наша в своем походе и операциях за тем отнюдь остановлена не будет». Если В. И. Суворов и не обладал выдающимися военными дарованиями, то в качестве главного интенданта проявил себя как организатор деятельный и талантливый. Заслуги его были отмечены: 25 июня 1760 года он стал кавалером ордена Святого Александра Невского, а 16 августа пожалован в сенаторы…
К началу кампании 1760 года русская заграничная армия состояла из передового корпуса Захара Чернышева, 1-й дивизии Фермора, 2-й – фон Броуна, 3-й – Румянцева, регулярной кавалерии генерал-поручика М. Н. Волконского и генерал-майора П. Д. Еропкина, легкой кавалерии (гусары и казаки) – Тотлебена. Получая противоречивые указания Конференции, войска топтались на месте. Единственным ярким событием всей кампании был знаменитый Берлинский рейд.
К тому времени, недовольный планом ведения войны, непрестанно ссорившийся с австрийцами, больной Салтыков ушел в отставку. Руководил операцией Фермор, временно, до прихода нового командующего – А. Б. Бутурлина, выполнявший его обязанности. Начальником отряда, выделенного для похода на Берлин, Конференция назвала Тотлебена. Прикрывать его должен был легкий подвижной корпус – корволант Чернышева. В инструкции указывалось – взять с прусской столицы «знатную денежную контрибуцию», а также «все арсеналы, пушечный литейный двор, все магазины и оружейные и суконные фабрики в конец разорить». По соглашению с австрийцами одновременно к Берлину направлялся их корпус.
Посадив пехоту на повозки, Тотлебен уже 21 сентября подошел с юга к окрестностям Берлина, а Чернышев занял Фюрстенвальде на реке Шпрее. Столица Пруссии была почти беззащитна и тогда же могла быть занята без особых усилий. Но Тотлебен ограничился легкой бомбардировкой и в ночь на 23 сентября произвел слабыми силами безрезультатный штурм Котбусских и Гальских ворот столицы. В это время с севера, через Бранденбургские ворота, в Берлин беспрепятственно вошел принц Вюртембергский. Тотлебен, ссылаясь на слабость своего отряда, тут же отвел его за двадцать километров от города. В этой передовой команде Суворова не было. Не было его, очевидно, ни в корволанте Чернышева, который соединился в городке Копенике с отрядом Тотлебена, ни в передовых частях генерал-поручика Панина, спешившего на помощь русскому авангарду. Скорее всего, Суворов оставался при Ферморе, прибывшем в Копеник.
К 27 сентября под Берлином сосредоточилось около двадцати тысяч русских и четырнадцать тысяч австро-саксонцев. На семь утра следующего дня Чернышев назначил штурм города. «Невозможно довольно описать, – доносил он Фермору, – с какою нетерпеливостью и жадностью ожидали войска сей атаки». Однако перед дождливым рассветом Чернышев получил неожиданное известие, что принц Вюртембергский знатно о том уведал или так рассудил себя в отвагу подвергнуть, и ночью отвел войска к северо-западному пригороду Шпандау. Столица Пруссии капитулировала.
Послав офицера и трубача для принятия города, Чернышев не без удивления узнал, что Тотлебен, вовсе не участвовавший в подготовке штурма, тою же ночью успел заручиться согласием берлинского коменданта на капитуляцию, причем на условиях, крайне выгодных для пруссаков. Занимая Берлин, Тотлебен не выполнил важнейших указаний Фермора о разрушении арсенала и суконных фабрик. Его позорное поведение вызвало ропот в войсках. Фермор, как главнокомандующий, возбудил против него следствие, но в Петербурге Тотлебену удалось оправдаться.
Русские пробыли в Берлине несколько дней, поддерживая в городе порядок, но ворвались легкие войска австрийской армии – кроаты, и начались грабежи, насилия, бессмысленные разрушения, так что русским силою пришлось восстанавливать спокойствие. Это не помешало Фридриху издать и распространить в Европе клеветническое сочинение под заглавием «Описание неслыханного опустошения, причиненного войсками российскими, австрийскими и саксонскими в Маркбранденбургии, и свирепств, произведенных ими при нападении на Берлин в октябре месяце 1760 года».
…После набега на Берлин казаки привезли с собою красивого ребенка, которого, очевидно, потеряла мать во время охватившей город паники. Суворов взял его к себе, заботился о нем в продолжение всего похода, а по прибытии на винтер-квартиры послал его матери письмо: «Любезнейшая маменька, ваш маленький сынок у меня в безопасности. Если вы захотите оставить его у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка, и я буду заботиться о нем, как о собственном сыне. Если же желаете взять его к себе, то можете получить его здесь, или напишите мне, куда его выслать». Одинокий, и в свои тридцать лет не заведший семьи, Суворов, надо полагать, сильно привязался к мальчику. Мать, разумеется, затребовала его обратно…
Кампания 1761 года по плану Конференции должна была стать последней и завершиться поражением Фридриха. Главные силы Бутурлина направлялись в Силезию, а вспомогательные войска – в Померанию для овладения важной крепостью и портом Кольберг. Командование этими войсками Бутурлин поручил Румянцеву, а сам двинулся в направлении Бреславля, на соединение с австрийцами. Но в самом начале его похода случилось то, что должно было случиться давно: разоблачение и арест Тотлебена, шпионившего в пользу Фридриха. Событие это повлияло и на будущее Суворова. Командиром над легкими войсками Бутурлин назначил генерал-майора Густава Густавовича Берга, сыгравшего важную роль в судьбе молодого офицера: он первым оценил выдающееся военное дарование Суворова.
Открывается непосредственно боевая и причем совсем особая страница в биографии Суворова, которую можно бы назвать партизанской. Все еще числясь в дивизии Фермора, он участвует в операциях летучего корпуса Берга.
С отрядами казаков и гусар Суворов наскакивал на регулярные соединения Фридриха и, нанеся удар, снова отступал. Эпизоды его боевой деятельности, хотя и отрывочные, показывают, сколь многого может добиться инициативный и относительно независимый командир с отрядом легких, подвижных войск.
Когда соединенные русско-австрийские силы оттеснили Фридриха в его укрепленный лагерь Бунцельвиц, находящийся у самых стен крепости Швейдниц, крайняя нерешительность Бутурлина и Лаудона мешала им дать решающее сражение; их страшила мощь оборонительных сооружений Бунцельвица. Во время осады лагеря происходили лишь стычки передовых частей, где опять-таки отличился подполковник Суворов.
В один из дней второй половины августа он с малою командой казаков приблизился к лагерю Фридриха и атаковал в близлежащей деревне прусскую заставу. За нею, на холме, оказался сильный пикет неприятельских гусар. Хотя враг превосходил его числом едва не вдвое, Суворов кинулся с казаками на холм, атака была отбита, атаковал снова – и опять безуспешно, налетел в третий раз, сбил гусар и удерживал высоту несколько часов до прихода присланных Бергом двух казачьих полков. С ними Суворов повел наступление на два полка прусских гусар у подошвы холма и, несмотря на подоспевшее к ним подкрепление – еще два полка драгунских, – оттеснил неприятеля в его лагерь.
Захваченная высота господствовала над местностью и позволяла следить за противником. «Отсюда, – рассказывает Суворов, – весь лагерь был вскрыт, и тут учреждена легкого корпуса главная квартира, соединением форпостов, вправо – к российской, влево – к австрийской армиям. Происходили потом здесь непрестанные шармицели…» Во время одной из таких перестрелок на полном карьере он преследовал разбитые драгунские полки пруссаков почти до самого королевского шатра.
Успехи легкого кавалерийского корпуса еще сильнее оттеняли бездеятельность всей армии. Дурной пример подавал главный командир, в продолжение всего похода не могший отвыкнуть от частого и беспрестанного почти «куликования». Целые ночи просиживал престарелый фельдмаршал Бутурлин в кружке гренадеров, заставляя их с собою пьянствовать и орать песни, и полюбившихся жаловал прямо в обер-офицеры, а проспавшись, упрашивал их сложить с себя чины и сделаться опять тем же, чем они были.
Военные же действия пущены были на самотек. Бутурлин надеялся на то, что недостаток продовольствия понудит Фридриха вывести из лагеря свои войска. Как обычно, из прусской армии часто бежали дезертиры. Один из них, сержант, на допросе у Берга показал, что хлеба и фуража пруссакам хватит еще на три месяца. Хорошо изучив нерешительный характер командующего, Суворов советовал Бергу не отсылать перебежчика в главную квартиру, но тот не обратил на это внимания. Показания дезертира, конечно, не могли быть решающими, но они еще более укрепили Бутурлина в мысли о бесплодности осады Бунцельвица. На военном совете 29 августа союзники пришли к выводу вовсе отказаться от наступления на лагерь. В тот же день Бутурлин начал марш на север, а Лаудон, подкрепленный корпусом Чернышева, повернул на юго-запад.
Теперь с русской стороны Фридриху реально угрожали лишь войска Румянцева в Померании, осадившие Кольберг. Выступив против Лаудона, король отрядил десятитысячный легкий корпус генерала Д. Б. Платена, приказав ему уничтожать русские коммуникации в Польше, а затем тревожить тылы Румянцева в Померании. Платен проник в Польшу, где у Костян и Гостына, на пути от Познани к Бреславлю, громил русские магазины и транспорты, прорвался в Познань и с частью своих войск направился через Ландсберг в Померанию. Легкая конница русских устремилась за ним.
Перед рейдом Берг обратился к Бутурлину с просьбой оставить у себя Суворова. В приказе по заграничной армии значилось: «Так как генерал-майор Берг выхваляет особливую способность подполковника Казанского полка Суворова, то явиться ему в команду означенного корпуса». В сентябре, находясь в авангарде у Берга, Суворов неоднократно нападал на Платена, впервые столкнувшись с ним при местечке Станишеве в Польше.
Суворов был первым в строевых экзерцициях, когда носил солдатский мундир; теперь, став кавалерийским офицером, он постарался заслужить репутацию отчаянного наездника-партизана. При Костянах отряд Берга глубокой ночью пробрался через лес и с тыла обрушился на лагерь Платена. Потерпевшие значительный урон пруссаки принуждены были сняться с места. Суворов «при всем происшествии» находился впереди атакующих. Платен направился к Кольбергу левым берегом Варты. Стремясь преградить ему дорогу в Померанию, Суворов со слабым – «во сто конях» – казачьим полком переплыл приток Варты Нец и, пройдя за ночь более сорока верст, оказался у городка Ландсберга на правом берегу Варты. Казаки, ведомые подполковником, кинулись в ров, выломали городские ворота и взяли в плен две прусские команды с офицерами, а затем подожгли большой мост через Варту.
Мы помним, что Фридрих послал Платена уничтожать коммуникации русских. Суворов действовал в тылу у самого Платена. Нерасторопность Берга, не успевшего привести к Ландсбергу основные силы, позволила пруссакам продолжать движение к Кольбергу. Суворов во главе трех гусарских и семи казачьих полков тревожил пруссаков с фланга. 15 сентября у самой границы Померании, при выходе из Фридбергского леса, он под огнем всей прусской артиллерии ударил на боковые отряды Платена, положив более сотни неприятельских драгун и взяв много пленных, и гнался за прусской конницей, как сказано в Журнале военных действий, «даже до неприятельского фронта».
Дальнейшие боевые эпизоды, в которых отличился Суворов, неотделимы от событий, завершившихся падением Кольберга. Весь август Румянцев стягивал петлю вокруг этой мощной крепости. Он оттеснил пруссаков к их главному лагерю, занял окружающие высоты и начал постепенно приближать к крепости траншеи, подвергая гарнизон жестокой бомбардировке с суши и с моря. Обстановка вынудила Румянцева, полководца-новатора, отказаться от шаблонов линейной тактики: он обучал войска действию в колоннах и создал легкие батальоны стрелков, предшественников егерей.
Наступила осень, а с ней распутица, затруднявшая подвоз боеприпасов и продовольствия. Прорвавшийся-таки в Померанию Платен соединился с войсками принца Вюртембергского. В этих условиях, как считали собравшиеся на военный совет генералы, взять крепость не представлялось возможным. Однако Румянцев упрямо продолжал осаду. Желая ободрить энергичного полководца, Конференция обратилась к нему с рескриптом, где говорилось: «…Службу вашу не с тем отправляете, чтоб только простой долг исполнить, но паче о том ревнуете, чтоб имя ваше и заслуги сделать незабвенными…»
Появление в Померании легкой конницы Берга дало возможность держать под контролем важнейшую коммуникацию пруссаков Штеттин – Кольберг. Здесь в непрестанных стычках с неприятелем, в нападениях на подкрепления и обозы, в схватках с Платеном в полной мере проявился военный талант Суворова, внезапно налетавшего на пруссаков и смертельно жалившего их. 5 октября 1761 года Суворов участвовал «при разбитии прусского деташамента под командою майора Подчарли при деревне Вестентине, где на оной делал легкими войсками разные нападения…» Удар по гарнизону Вейсентина (Вестентина. – О. М.) был нанесен с такой стремительностью, что сам майор Подчарли был пленен, а шедший ему на подмогу отряд подполковника де Корбиера, впоследствии фельдмаршала, повернул восвояси. Вдогонку ему кинулся Суворов, настиг арьергард и с эскадроном желтых – сербских – гусар гнал его около мили и захватил пленных.
Желая удержать в своих руках важный узел коммуникаций между Кольбергом и Штеттином – крепость и город Трептов, пруссаки уничтожили мосты через Регу, оставив на другом берегу реки непрестанно маневрирующий корпус Платена. С Бергом соединились кирасирские полки генерал-поручика Волконского; одновременно наперерез пруссакам, идущим от Кольберга к Штеттину, двинулась дивизия Фермора. В округе Регенвальд произошло столкновение передовых отрядов Берга и Волконского с неприятельским авангардом.
Суворов отправился накануне к Фермору с просьбой о подкреплении, и старый начальник обещал помочь. Возвращаясь, Суворов был застигнут в лесу близ Аренсвальда сильною грозой. Проводник бежал; Суворов заблудился, проплутал всю ночь и рано утром едва не наткнулся на аванпосты Платена. Суворов, однако, не растерялся, высмотрел расположение пруссаков и счел их силы. Найдя свой отряд, он тут же изготовил его к атаке, не дожидаясь подкреплений от Фермора.
Авангард Платена под командованием Корбиера начал наступление по безлесной равнине, превратившейся после ночного ливня в подобие болота. Русские передовые гусарские эскадроны смешались. «При моем нахождении, – вспоминает Суворов, – четыре эскадрона конных гренадер атаковали пехоту на палашах…» Пруссаки открыли по гренадерам картечный огонь, построили пехотные батальоны в каре, однако пехота не выдержала атаки и сложила оружие. Корбиер ввел в бой кавалерию. Суворов, собрав гусар, опрокинул ее, а затем под носом у самого Платена захватил вражеских фуражиров.
Сообщая Елизавете о действиях легкого корпуса, Румянцев доносил 11 октября, что Берг «паки знатной авантаж над деташементом неприятельским получил и без потери с своей стороны ни одного человека, до тысячи рядовых, и с предводителем подполковником Корбиером в плен взял…»
Преследуемый Бергом Платен отступил к крепости Гольнау; следом за ним подошла дивизия Фермора.
Проведя рекогносцировку, Фермор, однако, нашел, что не может атаковать укрепившегося противника, и ограничился двухчасовой бомбардировкой Гольнау из единорогов и гаубиц. Платен перенес свой главный лагерь в лес, оставив в городе гарнизон и разместив у моста на выходе из Гольнау несколько батальонов с артиллерией и конницей. Тогда Суворов во главе гренадерского батальона атаковал ворота и, сломив упорное сопротивление, ворвался в Гольнау. Русские штыками прогнали прусский отряд через город за противные ворота и далее, через мост до вражеского лагеря. Под Суворовым ранило лошадь, сам он был контужен.
Решительные действия корпуса Берга облегчили русским войскам ведение общих операций на вертикали Кольберг – Штеттин. 14 октября капитулировал сильный гарнизон города Трептова, что было крупным успехом всей кампании 1761 года. Суворов продолжал свои боевые операции и 17 ноября заступил на место заболевшего полковника де Медома, командира драгунского Тверского полка.
В новой должности он отличился в схватке с пруссаками у деревни Кельц 20 ноября. Преследуя неприятельскую колонну, Суворов обнаружил в деревне вражеский гарнизон – три батальона пехоты и шесть эскадронов кавалерии с артиллерией. Под прикрытием пушечной пальбы противник пытался оторваться от русских, но венгерцы полковника Зорича с левого, а драгуны Суворова с правого фланга врубились в прусскую пехоту, после чего опрокинули кавалерию. Под Суворовым одна лошадь была убита, а другая ранена. Тверцы захватили много пленных и шестифунтовую пушку.
В перерывах между боями Суворов на короткое время отлучался в Кенигсберг, столицу новой российской провинции. В 1759–1760 годах генерал-губернатором Восточной Пруссии был барон Корф.
Балы-машкерады у Николая Андреевича Корфа продолжались до четырех пополуночи.
Сам хозяин, дородный, холеный, невзирая на костюмированный вечер, в голубой своей «кавалерии» и при звездах, оттанцевал с давно его пленившей прусской графинею Кайзерлинг и теперь ушел за ломберные столы. Там звучала отменная немецкая речь: генерал-губернатор, равно как и его советники Бауман, Вестфален, Калманн и Клингшет, по-русски говорил нетвердо, предпочитая родной язык.
Казалось, весь огромный Кенигсбергский замок, дворец прежних владетелей прусских, сотрясся от топота танцоров, загудел от множества голосов, зазвенел от скрипиц, флейтуз и фаготов. Выстроивши две пестрые линии, гости – в масках и причудливых костюмах – начали фигуры контртанца, или режуисанса, запрыгали, завертелись. Глаза ломило от пестроты костюмов, изображавших не только разные народы, но даже вещи, как-то: шкафы, дома, пирамиды…
Кавалеров собралось премного, но дам и девушек оказалось еще больше. Оставивши обычную чопорную свою рассудительность, они сами приглашали русских офицеров. Не нашедшие партнера образовали род стены позади танцующих. Через эту толпу пробирались, отвешивая шуточки о девушках и дамах, три молодца гвардейского росту. Двое были в одинаковых арапских или невольничьих платьях из черного бархата, опоясанных розовыми тафтяными поясами, и в чалмах, богато изукрашенных бусами. Для полного впечатления они сковали себя длинной цепью из жести. Третий, в пышной тоге, изображал римского сенатора.
– Не правда ли, этот костюм раба, – с натянутым смехом проговорил по-немецки один из невольников, – вполне подходит моему положению военнопленного?..
– Полноте, ваше сиятельство! – запинаясь, на чудовищном немецком языке отвечал римский сенатор. – Вы должны быть благодарны судьбе за то, что веселитесь сейчас в славном русском городе Кенигсберге, а не гоняетесь за своенравною фортуною по всей Европе с вашим воинственным королем.
– Гляди, Гриша, никак, граф Петр Иванович Панин с молодежью прыгает! – схватил за локоть римского сенатора другой невольник.
– И как понаторел, наблошнился! – подхватил сенатор.
Одному из героев Цорндорфа, генерал-майору Панину, не исполнилось еще и тридцати восьми лет, однако молодым офицерам он казался уже глубоким стариком.
– Господин Шверин, – снова по-немецки обратился римский сенатор к первому невольнику, – может, подойдем поближе к оркестру – оттуда виднее вся зала…
Королевский флигель-адъютант граф Шверин, плененный в Цорндорфской битве, был привезен с двумя приставами в Кенигсберг, где содержался, впрочем, вольно, имея полную свободу. Пристава при нем были армейские поручики Григорий Орлов и его двоюродный брат Зиновьев. Пробираясь мимо танцующих, Орлов задел могучим плечом тоненького гишпанца в полумаске и, обернувшись для извинения, вдруг схватил его своими ручищами за плечо:
– Ах, Болотенка, мой друг! Здравствуй, голубчик!
Переводчик при генерал-губернаторской канцелярии, книгочей и охотник до наук, подпоручик Андрей Болотов тотчас оставил хорошенькую немку, обиженно отвернувшую фаянсовое свое личико, и порывисто обнял Орлова. Невольно залюбовавшись им, его лицом, грубая красота которого еще резче оттенялась одеянием римского вельможи, Болотов пылко воскликнул:
– Никакое платье, Григорий, так к тебе не пристало, как сие! Только и быть тебе, братец, большим боярином и господином!..
Как красотою своей, щегольством, так и тем более ласковым обхождением Григорий Орлов приобрел всеобщую к себе симпатию русских офицеров в Кенигсберге. Впрочем, то же чувство у современников вызывали все четверо его братьев – Иван, Алексей, Федор и Владимир, богатыри, как на подбор, радовавшие приятной внешностью, веселонравием, мягкосердечностью и необыкновенною силою. Дед Орловых, как говорили, стрелец, прозванный за храбрость «орлом», был осужден Петром I на казнь и, дождавшись своей очереди у палача, спокойно вышиб ногой оставшуюся на плахе голову ранее казненного. Поведение сие так поразило царя, наблюдавшего за казнью, что он даровал ему жизнь. Сам Григорий начал службу пятнадцати лет рядовым гвардейцем-семеновцем и в 1757 году был переведен офицером в армию. Трижды раненный в сражении под Цорндорфом, он через несколько дней уже руководил на кенигсбергском балу, так как был превеликий охотник до танцев.
Выслушав с видимым удовольствием похвалу своей внешности, Орлов покачал головой:
– Ах, Болотенок… Колесо фортуны гладкое – попробуй-ка ухватись… Да что же, господа, мы и его от дела оторвали, и сами без толку стоим. Пора и нам попрыгать…
Уже выменян был Фридрихом граф Шверин, уже отбыл в Петербург весельчак Орлов, уже самый Берлин склонился пред русской силой – ничего не менялось в Кенигсберге. Влюбленный в Кайзерлинг Корф не упускал случая ее потешить. Он выписал из Берлина целую ораву комедиантов, дававших регулярные представления, на которые Болотов тотчас раздобыл фрейбилет. Со всех сторон в Кенигсберг съезжались наилучшие артисты, устраивались новые музыкалии, танцы, представления. Едва ли самые прусские короли жили так весело, как наместник Елизаветы Петровны в новой российской провинции.
В конце 1760 года город облетела неожиданная новость. Корф отзывался на должность петербургского генерал-полицеймейстера, а на его место императрица назначила главного полевого интенданта заграничной русской армии генерал-поручика Василия Ивановича Суворова. Строптивый и вздорный характер Корфа не был по душе, но опасались, не будет ли взамен ему чего худшего?
Новый губернатор начал правление не пышным балом, а торжественным празднованием в Кенигсберге дня водосвятия. Посреди города, на реке Прегель сделана была богато украшенная иордань. По берегам реки и острова выстроились все имевшиеся войска – побатальонно, в парадном убранстве и с распущенными знаменами. Подле проруби поставлено было несколько пушек.
Несметное число горожан, привлеченных красочным зрелищем, высыпало на улицы. Не только берега реки и рукава ее, но все окна и даже самые кровли ближних домов унизаны были любопытными.
Пышная процессия отправилась от бывшей штендамской кирки, превращенной после снятия петуха с высокого шпица и утверждения на оный креста в православную церковь. Впереди шел архимандрит в богатых ризах и драгоценной шапке. От самой церкви, несмотря на дальность пути, процессию сопровождал губернатор – неказистый, маленький и голубоглазый генерал в простом мундире с одним орденом Александра Невского. При погружении креста в воду производилась пальба как из поставленных на берегу пушек, так и с Фридрихсбургской крепости, а потом и троекратный беглый огонь из мелкого ружья всеми войсками. Празднество завершилось обедом, на котором губернатор удивил Болотова и остальных чиновников простотою, нелюбовью к пышности, скромностью обхождения. Многое переменилось с появлением нового губернатора. Раньше чиновники прихаживали в канцелярию в девятом часу утра. Василий Иванович отличался таковым трудолюбием, что бывал одет и доступен уже с двух часов пополуночи, а посему хотел, чтобы и канцелярские стали поприлежнее. Ничего не оставалось, как приходить в канцелярию с четырех поутру, хоть сперва и шел о том превеликий ропот.
Прежде в обед чиновники прямо из канцелярии гурьбою отправлялись в покои Корфа, за готовый и сытный стол. Суворов доходами барона не обладал и обедов подчиненным не заводил, тем паче что и сам стол имел очень умеренный. Каждый должен был теперь помышлять о собственном пропитании.
Над головою Болотова собрались меж тем тучи: в Кенигсберге получен был приказ фельдмаршала Бутурлина – всем без исключения офицерам воротиться по своим полкам. А так как Болотов был взят Корфом из Архангелогородского полка, то и надлежало ему туда отправиться. Удержал его в Кенигсберге случай.
Случилось Василию Ивановичу Суворову ненароком повредить крест Александра Невского, так что необходимо было сделать оный заново. Но так как в середине креста находился написанный на финифти миниатюрный образок и во всем Кенигсберге не могли отыскать мастера, оставалось послать образок в Берлин и написать там. Для этого потребен был рисунок, точный против прежнего. Призванный живописец запросил за работу не менее пяти рублей, что возмутило скуповатого генерала. Придя в канцелярию, Суворов показывал образок и бранил живописца, и тогда один из чиновников со смехом сказал ему:
– И, ваше превосходительство! Есть за что платить пять рублей. Да извольте приказать Болотову, он вам в единый миг это срисует…
Едва завидя Болотова, генерал повел его в маленький кабинет к окошку, показывая свой орденский крест:
– Мне сказывали, ты умеешь рисовать. Не можешь ли этот образок в точном виде на пергамент перевесть?
– Кажется, диковинка невеликая, – сказал Болотов, поглядев образок, – может, и срисую.
Работа подлинно составляла самую безделку, так что Болотову удалось ее в то же утро кончить. Войдя в судейскую, он изумил генерала.
– Что ты, мой друг? Неужели рисунок готов?
– Готов, ваше превосходительство.
– Посмотрим-ка, посмотрим, – подхватил Суворов, развертывая бумагу с рисунком. – А! Как хорошо! – воскликнул он. – Ей-ей, хорошо! Никак я того не ожидал! Посмотрите-ка, государи мои, истинно нельзя бы сделать лучше и аккуратнее!..
Болотов хотел откланяться, но Суворов остановил его:
– Постой и не уходи, мой друг. Пойдем-ка со мной, поговорим…
В губернаторских покоях был накрыт маленький столик, ибо Суворов обедывал почти всегда один. Генерал велел поставить еще прибор и сказал, пока носили кушанья:
– Право, мой друг, уж не отложить ли тебе отъезд до просухи? Путь начал уже портиться совершенно, и мы сегодня получили известие, что реки Висла и Ноготь так разлились, что сделалось превеликое наводнение и многие селения затоплены. Подумай-ка, это, право, не малина и не опадет, а приехать к армии всегда успеешь… Может быть, переменятся обстоятельства, и мы удержим тебя и долее. А пока ходи-ка ты по-прежнему в канцелярию и помогай нам своими переводами, а кстати, можешь продолжать и свои науки. Мне сказывали, что ты учишься философии, это истинно похвально и препохвально. Сядем-ка отобедаем, а потом поговорим с тобою о науках да познакомимся короче.
Когда Суворов узнал, что Болотов научился всему самодеятельно, по единственной своей охоте, то довольно расхваливал его. Что же до новой философии, то губернатор слушал об этом с особливым вниманием, попросил перечислить наиглавнейшие ее начала и советовал никак не покидать ученья в университете.
Поговорив с ним более двух часов, Болотов убедился, что Суворов сведущ во многом и отменно любит науки.
Во всех делах новый губернатор был гораздо степеннее и разумнее Корфа и несравненно более знающ. Он входил во всякое дело с основанием и не давал никому водить себя за нос. Усердие его к службе было так велико, что он не только наблюдал и исправлял все, что требовал долг его, но денно и нощно помышлял, как бы доход, получаемый тогда с Восточной Пруссии и простиравшийся только до двух миллионов талеров, сделать больше и знаменитее. Он вникал в самое существо, во все подробности тамошнего правления и высматривал все делаемые упущения местными чиноначальниками.
Полюбив Болотова, он удостаивал доверенности только его одного, так как все канцелярские советники были немцы. Нередко запирался он с ним в своем кабинете и, посадив Болотова за маленький столик, по нескольку часов диктовал ему разные прожекты или давал делать переводы и выписки из важных бумаг. Своими стараниями губернатор не только сократил многочисленные траты, но почти целым миллионом увеличил доходы сей провинции.
С наступлением весны к Суворову из России приехали его дочери – Анна и Мария, обе уже совершенные невесты, скромницы, правда, не блиставшие красотою. С этого времени генерал-поручик начал устраивать балы. Однако мало чем напоминали они пышные увеселения Корфа. Гостями у Суворова были преимущественно офицеры и чиновники на русской службе со своими семьями. Вечера проходили скромно. На одном из таких балов, в конце 1761 года, Болотов увидел прибывшего из действующей армии единственного сына губернатора.
Хотя Александр Васильевич Суворов состоял в скромном звании подполковника, о нем и в Кенигсберге уже носилась молва. Болотов слышал, что это не только дерзкий офицер, но и человек странного, особливого характера и по многим отношениям сущий чудак. Сходство с отцом сразу бросилось в глаза, едва Болотов увидел худого и маленького голубоглазого офицера в кавалерийском мундире. Ему не терпелось послушать рассказы Суворова-младшего, но на положении первого на балу танцора и даже щеголя Болотову пришлось полвечера отдать Марии Суворовой. От сестры ее Анны почти не отходил сорокапятилетний генерал-провиантмейстер-лейтенант в Кенигсберге Иван Романович Горчаков, ближайший деревенский сосед Болотова. Впоследствии Анна была выдана за князя Горчакова замуж.
Суворов-младший в танцах участия не принимал, за карты не садился и, по-видимому, тяготясь обстановкой, рассказывал о чем-то в кружке молодых офицеров, с жадностью слушавших его. Протанцевав с Марией, Болотов поспешил к ее брату. Туда уже подошел и сам губернатор, по лицу которого было заметно, что он горд сыном. Подполковник Суворов выглядел старше своих тридцати двух лет – из-за крайней худобы, обветренной и загрубелой кожи, преждевременных морщин и жидких волос, убранных наверху в аккуратную плетенку с букольками и косицей. Говорил он быстро и горячо, все больше короткими, отрывистыми фразами:
– Осенью, в мокрое время, выступили мы около Регенвальде в поход. Регулярная конница просила Берга идти окружною, гладкою дорогой. Он оставил при себе эскадрона три гусар да два полка казаков. Выходя из лесу, вдруг увидели мы в нескольких шагах весь прусский корпус. Фланкировали его влево. Разгадали, что впереди в версте незанятая болотная переправа мелка. Мы стремились на нее. Погнались за нами первее прусские драгуны на палашах. За ними – гусары. Достигши переправы, приятель и неприятель, смешавшись, погрузли в ней почти по луку. Нашим надлежало прежде на сухо выйти. За ними – вмиг несколько прусских эскадронов. Генерал приказал их сломить…
Суворов заблестевшими голубыми глазами оглядел слушателей, задержал взгляд на Болотове и взмахнул маленьким кулаком.
– Ближний эскадрон был слабый, желтый. Я его пустил. Он опроверг пруссаков опять в болото. Через оное нашли они влеве от нас суше переправу. Первой перешел ее полк их драгунской… Неможно было время тратить: я велел ударить стремглав одному нашему сербскому эскадрону. Капитан оного Жандр бросился на саблях. Пруссаки дали залп из карабинов. Ни один человек наш не упал. Но пять вражеских эскадронов в мгновенье были опровергнуты, рублены, потоптаны и перебежали через переправу назад. Они были подкреплены батальонами десятью пехоты. Вся сия пехота – прекраснее зрелище! – с противной черты, на полвыстрела давала по нас ружейные залпы. Мы почти ничего не потеряли, от них же, сверх убитых, получили знатное число пленников!
Молодежь возгласами восхищения встретила рассказ боевого подполковника. Василий Иванович со значительностью сказал:
– Его сиятельство фельдмаршал Бутурлин в донесении всемилостивейшей государыне нашей написать изволил о моем сыне, что подполковник сей себя перед прочими гораздо отличил… Ах, Александр, толь родительскому сердцу приятно знать, что ты у всех командиров особливую приобрел любовь и похвалу…
Зимней кампанией 1761 года война с Пруссией для России завершилась. 16 декабря пал Кольберг, а 25 декабря скончалась Елизавета Петровна. Пруссия Фридриха II, оказавшаяся на краю полного военного краха, была спасена. Унаследовавший российский престол Петр III писал прусскому королю: «Я вижу в вас одного из величайших героев мира». По позорному договору, подписанному 24 апреля 1762 года, Фридриху возвращались все земли, занятые русскими войсками.
Как замечал историк С. М. Соловьев, «сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью, пролитою в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого; мир, заключенный с Пруссией, никому не представлялся миром честным; но, что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным; всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за двадцать лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения – Остерман, Миних, Бирон – были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили двадцать лет в утешительном сознании народной силы, в сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественное, решительное влияние на европейские дела, а теперь до какого позора дожили! Иностранный посланник заправляет русскою политикою, чего не бывало со времен татарских баскаков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное».
В Кенигсберг известие о кончине Елизаветы Петровны пришло в ночь на 2 января 1762 года и привело всех русских в смущение. Все тужили и горевали о скончавшейся дочери Петра и, поздравляя друг друга с монархом, делали это не столько с радостным, сколько с огорченным чувством. Войска и местные жители еще не успели принести присягу, как получен был именной указ, которым повелевалось губернатору В. И. Суворову сдать тотчас команду и правление провинцией генерал-поручику Панину, а самому ехать в Петербург. Таковая скорая и меньше всего ожидаемая смена, означавшая явное неблаговоление нового государя к усердному и исправному губернатору, была не только удивительна, но и крайне неприятна русским кенигсбержцам.
«Может быть, – переговаривались чиновники, – дошли до государя какие-нибудь жалобы немцев или король прусский не был им доволен, как Корфом, и писал о том Петру Федоровичу…»
Сам Суворов-старший перенес опалу спокойно и, не изъявив ни малейшей обиды, сдал правление П. И. Панину.
Старого генерала проводили со слезами на глазах. Все к нему уже так привыкли и за кроткий и хороший нрав его так любили, что сожалели о нем как о родном. Прощаясь, он расцеловал всех дружески и отправился в Петербург.
Указом Петра III Василий Иванович был послан губернатором в отдаленный сибирский городок Тобольск, что фактически означало почетную ссылку. Но в Тобольск Суворов так и не отправился, оставшись в Петербурге и приняв самое активное участие в июньском перевороте 1762 года, приведшем на русский престол Екатерину II.
Вся политика императора Петра III, нарушившего самые основы национальной и государственной целесообразности, все ближе и ближе подталкивала его к пропасти. К лету 1762 года положение России стало едва не критическим: доходы не покрывали расходов; в Тульской и Галицкой провинциях, в Белевском, Волоколамском, Эпифанском, Каширском, Клинском, Тверском и других уездах разгорались волнения крестьян; с юга приходили вести «о намеряемом крымским ханом на российские границы нападении». Но волею сумасбродного императора все были заняты предстоящею войною с Данией из-за далекой Голштинии, вотчины Петра III.
Потомкам может показаться, что противоречивые действия и обидные для нации указы Петра III неправдоподобно вздорны, так как не вяжутся даже с инстинктом личного самосохранения. По словам историка В. А. Бильбасова, подробно изучившего обстановку восшествия на престол Екатерины II, «вскоре после воцарения Петра III русские люди, не только в столице, но и в провинции, потеряли всякое доверие к правительству. Не было такой нелепости, такой лжи, которая не принималась бы на веру и не повторялась бы всеми». Причин для переворота было слишком много, ожидался только случай. Понадобилось четыре десятка гвардейских офицеров, распропагандированных братьями Орловыми и готовых «пролить кровь за государыню», чтобы Петр Федорович оказался низложенным. Используя крылатую фразу прусского короля, Петр III «позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого отсылают спать».
В памяти Суворова-старшего 28–29 июня 1762 года слились в один пестрый клубок: измайловцы, семеновцы, преображенцы, иные в полной форме, при оружии, другие полуодетые, заняв середину улицы, густою беспорядочною массою движутся по Невской перспективе; эскортируемая конногвардейцами, под торжественный звон колоколов появляется Екатерина в черном запыленном платье, сидящая в дрянной двухместной коляске; безо всякого на то приказа солдаты переодеваются в «старые», темно-зеленые петровские мундиры, со злобой бросая ненавистные им каски и многоцветные узкие мундиры прусского образца; растерянное лицо генерал-полицеймейстера Петербурга и любимца Петра III Корфа, к которому в панике прибежал дядя свергнутого царя принц Георг-Лудвиг, жестокий, бессердечный и тупой. Толпа гренадер вломилась в дом Корфа и не только разграбила многое, но и самому ему надавала толчков. Лишь крепкий караул спас его и принца от расправы…
В день переворота В. И. Суворов получил от Екатерины крайне почетное назначение премьер-майором лейб-гвардии Преображенского полка. Ему было поручено обезоружить и раскассировать голштинские войска Петра III в «Раниенбоме», то есть Ораниенбауме. С отрядом гусар Суворов арестовывает и заключает в крепость солдат экс-императора. Уже на другой день после ареста Петра Федоровича, 30 июня, адмирал Талызин доносил Екатерине из Кронштадта: «В силе же полученного сего числа из Раниенбома от генерал-поручика Суворова письма, в котором включено имянное Вашего императорского величества все-высочайшее повеление о перевозе из Раниенбома на судах голштинских генералов, так же штап-, обер- и ундер-офицеров и рядовых до несколька сот человек, суда и конвойных отправлять определено». Природных голштинцев Суворов отсылал в Киль, лифляндцев и малороссов – на родину, русские же получали новые паспорта и после приведения их к присяге в ораниенбаумской церкви принимаемы были на службу с теми же чинами. Из отпущенной ему суммы – семи тысяч рублей – В. И. Суворов представил более трех тысяч экономии. Деньги эти Екатерина ему подарила.
По всему чувствуется, что новая царица особливо доверяет В. И. Суворову, поручая ему наиболее деликатные, не терпящие отлагательства и огласки задания. Арестованный и направленный под крепким конвоем в Рошпу Петр Федорович просит Екатерину прислать ему кое-что из имущества и вернуть нескольких приближенных. Та в опровержение позднейших заграничных слухов о будто бы жестоком обращении с Петром отправляет письмо фактическому коменданту бывшей «голштинской столицы»: «Господин генерал Суворов. По получении сего извольте прислать, отыскав в Ораниенбауме или между пленными, лекаря Лидерса, да арапа Нарцыса, да обер-камердинера Тимлера; да велите им брать с собою скрипицу бывшего государя, его мопсинку собаку; да на таможния конюшни кареты и лошадей отправьте их сюда скорее».
Пришедшая к власти в результате дворцового переворота Екатерина чувствовала себя неуверенно. В среде гвардейских офицеров, обделенных счастливым жребием, происходило брожение. Столь легко удавшееся свержение императора, возвышение вчера еще безвестных Орловых кружило молодые головы. Потянулась цепь мелких заговоров, вплоть до знаменитой попытки поручика Мировича возвести на престол «императора под запретом» Иоанна Антоновича. Рядом с Екатериною мы видим «праведного судью» (выражение царицы), одного из руководителей Тайной канцелярии – сенатора Суворова, охраняющего ее от заговорщиков.
Очевидно, все поручения он исполнял с радением и такой суровостью, которая даже пугала молодую императрицу. Недаром она писала: «Суворов очень мне предан и в высокой степени неподкупен: без труда понимает, когда возникает какое-либо важное дело в Тайной канцелярии; я бы желала довериться только ему, но должно держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые я себе предписала».
Екатерина торопится совершить то, чего не успел ее уже покойный супруг, – торжественно короноваться в Москве. В отличие от Петра III, презиравшего русские традиции и обычаи, она прекрасно понимала чрезвычайную важность этого шага. Но на кого оставить Петербург? Из двадцати пяти сенаторов в Москву на коронацию должны были отправиться двадцать (в их числе и Суворов-старший). Гвардия тоже следовала в Первопрестольную, а содержание городских караулов в Петербурге возлагалось на Астраханский полк. Надо ли говорить, сколь важно для новой царицы было иметь командиром этого полка человека доверенного. Выбор пал на А. В. Суворова. В августе 1762 года генерал-поручик Панин послал его с депешами в Петербург.
Суворов спешил в столицу с чувством радостной надежды. Его не могли оставить равнодушным слова манифеста Екатерины от 7 июля, где Петр III обвинялся в разрушении всего того, «что Великий в свете Монарх и Отец своего Отечества, блаженныя и вечно незабвенный памяти Государь Император Петр Великий, Наш вселюбезный Дед, в России установил, и к чему он достиг неусыпным трудом тридцатилетнего Своего царствования…». По всему чувствовалось, что прусским порядкам в России приходит конец. Это ощущалось даже в мелочах. Еще в Кенигсберге, у Панина, Суворов прочитал в «Санкт-Петербургских ведомостях» указание полицеймейстерской канцелярии, разрешающее впускать в столичные сады «всякого звания людей обоего пола во всякой чистоте и опрятности, а в лаптях и прусском платье пропускаемы не будут…».
Его охватило волнение, когда, подъехав к Петербургу, он увидел по-августовски темную зелень городских садов, золотые спицы высоких башен и колоколен, а затем верхний этаж нового дворца Зимнего, который только что был отделан.
– Мы уже в прах заждались тебя… – встретил Суворова отец, сообщив о том, что сама царица пожелала видеть подполковника.
Накануне представления Екатерине отец и сын отправились на куртаг к ее всесильному фавориту Григорию Григорьевичу Орлову. Первые сановники империи почитали за честь побывать на вечере у недавнего армейского поручика. Когда Суворовы вошли в нарядную, бело-голубую залу, гости слушали, как величественный поэт с открытым, по-русски круглым лицом, высокий и крепкий, в старомодном, петровских времен, кафтане и чем-то неуловимым сам напоминавший Петра I, читал оду на восшествие Екатерины II:
…А вы, которым здесь Россия Дает уже от древних лет Довольства вольности златыя, Какой в других державах нет, Храня к своим соседям дружбу, Позволила по вере службу Беспреткновенно приносить!..
– Сей статский советник, ученый и стихотворец Михайло Ломоносов, – шепнул Василий Иванович сыну, но тот уже узнал, кто читает эти волнующие, отвечающие его мыслям стихи, направленные против засилья иноземцев.
Ломоносов шагнул вперед, подняв над головой руку, голос его окреп и зазвенел:
Молодой великан в камзоле камер-юнкера поднялся из кресел, подошел к поэту и обнял его. Суворов с любопытством присматривался к Орлову, которого помнил еще юным гвардейцем-семеновцем.
– Отменно, Михаило Васильевич!.. Наша государыня воистину туда силы свои простирает, дабы вернуть отечество на путь, начертанный Петром Великим.
Ломоносов ответил Орлову:
– Единственно верный путь коего требует честь русского народа. Отечество наше может пользоваться собственными сынами и в военной храбрости, и в рассуждении высоких знаний…
Перед отъездом на коронацию Екатерина приняла подполковника Суворова.
В новом Зимнем дворце среди сонма вельмож Суворов увидел улыбающуюся женщину среднего роста, голубоглазую, темноволосую, с довольно острым носом. Она разговаривала с маленьким Салтыковым, надевшим ради торжественного случая нарядный фельдмаршальский мундир.
– Петр Семенович, – негромким грудным голосом говорила она с чуть заметным акцентом, – я все тебя спросить хотела, как же это удалось тебе разбить такого славного противника, каков король прусский?
– Это не я, матушка, – отвечал скромный Салтыков. – Все это сделали наши солдатики…
Григорий Орлов представил царице Суворова.
– Поздравляю полковника Астраханского полка, – сказала она и подарила ему свой портрет.
Сын своего века, дворянин, солдат, Суворов со свойственной ему простодушной экзальтированностью отнесся к этой встрече.
Придя домой, Суворов сделал на портрете надпись: «Это первое свидание проложило мне путь к славе…»
Семилетняя война показала Суворову многое. Он убедился в слабости традиционных военных теорий. Войска на марше двигались тяжело, обремененные огромными обозами, страшились оторваться от коммуникаций и искали не столько встречи с неприятелем, сколько выгодных позиций, где можно было бы без помех развернуть линейные порядки. Лишь в партизанской, «неправильной» войне Берга с Платеном молодой Суворов познал иную практику ведения боя, быстрого, маневренного. Семилетняя война явила Суворову в деле русского солдата с его беспримерной стойкостью, терпеливостью к лишениям и спокойной храбростью.
Глава четвертая
«Суздальское учреждение»
Солдат любит ученье лишь коротко и с толком… Тяжело в ученье – легко в походе; легко в ученье – тяжело в походе…
А. В. Суворов
Коляску, остановившуюся у полковой избы, встретил адъютант унтер-штаба подпоручик Андрей Шипулин. Приехавший капитан был в обычной пехотной форме – зеленом кафтане, по случаю теплого времени расстегнутом на груди, красном камзоле и белых штанах. Ответив на приветствие Шипулина, он спросил:
– Где можно найти его высокоблагородие господина полковника Суворова?
– Извольте, господин капитан, я вас провожу…
У подпоручика на груди серебряный офицерский знак с вызолоченным гербом суздальцев: в золотом щите белый сокол в княжеской короне. Такие же, только медные, гербы на патронных сумах мушкетеров и на высоких суконных, с зеленым верхом гренадерских шапках.
Несмотря на то что утренние учения закончились, капитан не видел вокруг праздношатающихся солдат: все были заняты делом. Иные под присмотром капрала высаживали на пустыре деревья; другие складывали каменный фундамент под здание; третьи таскали к дороге на Старую Ладогу бревна и доски.
– Здесь господин полковник приказал разбить фруктовый сад… – молвил подпоручик. – Это вот будет школа для сирот солдатских, коя временно в мазанке помещается… А там, – он указал на штабеля бревен, – закладывается полковая Петропавловская церковь.
– В Суздальском полку, я вижу, солдаты сложа руки не сидят, – удивился капитан.
– Наш командир внушает, что праздность – корень всему злу, – пояснил Шипулин, – так что в свободное от экзерциций время солдаты благоустройством гнезда своего полкового заняты. Господин полковник самолично в том участие принимает…
– А где он теперь?
– Проводит с солдатскими детьми урок… Сам составил молитвенник и короткий катехизис. Написал такоже учебник арифметики. Он у нас полковник особливый. – В тоне и словах Шипулина звучала гордость. – Солдаты его без памяти любят, офицеры тоже. Ну а кому из господ офицеров не по душе его учение, те перевелись в другие полки…
– Смею спросить, что же это за учение?
– «Полковое учреждение» – добавление к пехотному уставу 1763 года. Его имеют на руках все должностные лица, начиная от командира роты и кончая капралом. Неустанным и неизнурительным повторением экзерциций господин полковой командир готовит нас к военным действиям. Подымает по тревоге на марши, приучает к длинным переходам. Постигаем искусство осады крепостей. Как-то на походе повторял он нам беспрестанно: «Солдат и в мирное время на войне…» Встретился нам монастырь. По велению командира полк бросается по всем правилам на штурм, солдаты взбираются на стены с криком «ура», и победа оканчивается взятием монастыря. Полковник наш извинился перед напуганным настоятелем, объяснил, что он учит солдат. Но жалоба на высочайшее имя была подана…
– И что же?
– Ее императорское величество командира нашего перед другими отличает. Сказывают, только посмеялась сему происшествию и ответила: «Не троньте его, я его знаю…» Осенью произвела в Петербурге нашему полку смотр, осталась им чрезвычайно довольна, пожаловала офицеров к руке, а нижним чинам повелела выдать по рублю…
За разговором офицеры незаметно добрались до мазанки, где помещалась школа для солдатских детей, за нею другая, в которой учились солдаты-дворяне.
– Постойте! – Словоохотливый подпоручик сразу весь подобрался, стал строже, официальнее. – Никак, его высокоблагородие!
Перед мазанкой с окнами, затянутыми промасленной бумагой, Суворов громко распекал двух подпрапорщиков, энергично помогая себе жестами:
– Безграмотной дворянин отличность в полку имеет против прочих разночинцев только в том, что его за вину штрафуют ударом по спине плашмя саблей или тесаком, а не палкою!.. Ленивка! Лукавка! Ни в какой чин не производить, пока по-российски читать и писать довольно не обучатся!..
Капитан был поражен стремительностью слов и движений Суворова, который, не переставая внушать нерадивым ученикам, успел что-то коротко сказать полковому священнику, дать распоряжение рыжему дворовому и теперь уже махал рукою подпоручику и капитану. Казалось, Суворов ощущал потребность делать одновременно тысячу дел, переносясь как молния от предмета к предмету, от одной мысли к другой.
– Кто таков? – подступился он к капитану.
– Капитан Алексей Набоков. Прибыл в полк для прохождения службы.
– Постой! Постой! – Суворов склонил голову набок, разглядывая офицера. – Ты, часом, не брат ли Андрея Ивановича Набокова?
– Брат, господин полковник!
Набоков прекрасно знал о приятельстве Андрея Ивановича, служившего в Военной коллегии, с Суворовым. Но он знал уже и о другом – о нелюбви полковника к похлебству – кумовству, ко всякого рода рекомендациям родственников и знакомых – и потому не торопился отдавать письмо брата.
– А и молодец какой! Ростом, статью, лицом – истинной русский! – Суворов обежал капитана. – Обвыкай да проштудируй-ка мое «Учреждение», тогда и роту получишь. А пока, – он хлопнул в ладоши, обращаясь к рыжему дворовому, – готовь, Ефимка, нам с капитаном ужин. – Он подмигнул ему. – Ты ведь у меня и ключник, и казначей, и камердинер, и славный повар!
Читая «Полковое учреждение», молодой офицер восхищался воспитательной системой, применяемой Суворовым в Суздальском полку. Главным здесь было строевое обучение, «искусство в экзерциции» солдата, «в чем ему для побеждения неприятеля необходимая нужда. Для того надлежит ему оной обучену быть в тонкости». Суворов требовал: «и в начале господам обер-офицерам должно оную весьма знать и уметь показать, дабы, убегая праздности, подчиненных своих в надлежащее время и часы, чтобы ее не забывали, в ней свидетельствовать и без изнурения подробно изучать могли, так, чтоб оное упражнение вообще всем забавою служило».
Стремясь выработать из «новоповерстанных» умелых и неустрашимых солдат, Суворов строго указывал командиру: «В обучении экзерциции и протчего наблюдать, чтоб поступаемо было без жестокости и торопливости, с подробным растолкованием всех частей особо и показанием одного за другим». Такая метода – от простого к сложному – не позволяла даже усомниться в успешном достижении цели.
Правда, замечательное своей новаторской устремленностью «Полковое, или Суздальское, учреждение», появилось не на пустом месте. В 1764 году русские войска получили «Инструкцию полковничью пехотного полку» А. И. Бибикова, в какой-то мере возвращавшую порядки Петра I. Значительно уступая «Суздальскому учреждению», она тем не менее была, бесспорно, прогрессивной для своего времени, особенно в той части, которая посвящалась воспитанию и обучению новобранцев. И все-таки в армии продолжала процветать палочная дисциплина. Всяк торопился из новобранца сделать солдата, а торопливость вела к батожью и шпицрутенам как самому надежному средству воздействия. Недаром в народе сложено было столько песен о жестокости обхождения с рекрутами, о горькой солдатской доле, о бесчеловечности самого обучения:
Суворов был сторонником строжайшей дисциплины. Воинское послушание составляло для него незыблемую основу порядка, тем более что век был суровый, армия комплектовалась из крепостных, не лучших по выбору, на войне законной считалась «добыча». По нужде он прибегал и к «палочкам». «Вся твердость воинского правления, – учил командир суздальцев, – основана на послушании, которое должно быть содержано свято. Того ради никакой подчиненной перед своим вышним на отдаваемый какой приказ да не дерзнет не токмо спорить или прекословить, но и рассуждать…»
Однако, требуя беспрекословного послушания, Суворов добивался его отнюдь не жестокостями, утверждая, что «умеренное военное наказание, смешанное с явным и кратким истолкованием погрешности, более тронет честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние». Главным он считал воспитание в нижних чинах нравственного чувства.
«Всякий имел честолюбие», – скажет Суворов, вспоминая годы суздальского учения. Он старался пробудить во вчерашнем крепостном ощущение собственного достоинства, самостоятельность, инициативу, убежденность в выполнимости поставленных командиром задач. Обученный «на суворовской ноге» солдат верил в свои силы, не мог растеряться, оказавшись в неожиданных условиях боя, был отважен и храбр. Если ставшая после Семилетней войны повсеместной модой прусская система воспитания подавляла в солдате личность, превращая его в неодушевленную часть общего военного механизма, то ей противоположная – суворовская на личность опиралась, вырабатывала у каждого глубоко сознательное отношение к воинскому долгу. С помощью соревнования, поощрения ревностных, исполнительных подчиненных перед солдатами открывалась перспектива продвижения по службе, обещавшая славу и почести. Суворов постоянно обращался к чувству национальной гордости, любви к своему отечеству. Подкреплением нравственного воздействия служило воспитание религиозное.
Суворов прекрасно понимал важность нравственного воспитания, отдавая при этом определенную дань воспитанию религиозному. «Кто боится Бога – неприятеля не боится», – не раз повторял он. В 1771 году в Польше Суворов писал своему начальнику Веймарну: «Немецкий, французский мужик знает церковь, знает веру, молитвы; у русского едва знает ли то его деревенский поп; то сих мужиков в солдатском платье учили у меня некиим молитвам. Тако догадывались и познавали они, что во всех делах Бог с ними, и устремлялись к честности». Для солдат было обязательным чтение вслух и заучивание молитв, соблюдение всех религиозных обрядов, включаемых в общую систему строевой подготовки. Суворов свято чтил добрые обычаи предков и даже любил нарочно усиливать все то, что начинало казаться устарелым, патриархальную простоту прошлого. Не только непристойности, но и двусмысленности запрещалось говорить в его присутствии.
Нравственное воспитание предопределяло неукоснительное выполнение солдатом своих обязанностей, которые были подробно разобраны в «Полковом учреждении», вплоть до мельчайших и как будто бы незначительных сторон воинского быта. Но для Суворова великое начиналось с малого; даже не сочувствуя обременительным излишествам в наряде пехотинца, он требовал безусловного и скрупулезного выполнения всех уставных положений. В «Учреждении» содержатся указания, как солдат-гренадер и мушкетер должен быть одет, обут, причесан, напудрен; говорится, в частности, об убранстве головы, о буклях и косах, об усах у гренадер; тут же перечислены предметы, которые надлежит солдату иметь при себе, чтобы содержать в порядке обмундирование, снаряжение, ружье. Здесь учтено и предусмотрено все, вплоть до того, как и где выпивать солдату:
«Нижним чинам вино и протчее пить не запрещаетца, однако не на кабаке, где выключая что ссоры и драки бывают и военной человек случаетца во оные быть примешен; по крайней мере через сообщение тамо с подлыми людьми он подлым поступкам, речам и ухваткам навыкнуть может и потеряет его от них отменность. Чего ради, вышедши, из кабака и купя пива или вина, идти немедленно из него вон и выпить оное с артелью или одному в лагере ж или в квартире…» Нетрудно заметить, что и в этой рекомендации явлена все та же забота о нравственном воспитании: вино само по себе не зло – важно лишь исключить возможность дурных поступков и последствий.
…Через несколько дней после приезда Набокова в полк барабанщики ударили ночью тревогу. В пять минут палатки были уложены на возы, и полк, взяв провианту на сутки и наполнив манерки водкою, выступил в поход. Споро пройдя около сорока верст, суздальцы вышли близ деревни Вындин Остров к берегу Волхова, где стоял красивый и довольно высокий курган, увенчанный густою шапкою столетних сосен. После обеда и короткого отдыха Суворов приказал мушкетерам и гренадерам строиться поротно, а обер-офицеров собрал на кургане.
– Граф де Сакс говаривал: «Для обыкновенных умов война есть ремесло, для превосходных – наука». В чем ее первейшая экзерциция состоит? – Суворов подбежал к крутому склону и громко, внятно, так что слышал весь полк, отчеканил: – В захождении и захождении! Дабы солдат ко всякому движению и постановлению против неприятеля искусен был. – Он сделал паузу и, помогая себе резкими жестами, энергично закончил: – Победа зависит от ног, а руки – только орудие победы!
Солдаты под командованием своих унтер-офицеров производили лишь самые простые перестроения: излишних строевых хитросплетений Суворов не уважал, понимая их никчемность в деле, и презрительно именовал «чудесами». Невысоко ценил он и ружейные приемы, почитавшиеся в тогдашней армии за самую существенную часть строевого образования. Во многих полках ружья, чтобы они стояли отвесно, когда солдаты держат их на плече, имели прямые ложи, что было совсем неудобно для стрельбы; приклады были выдолблены, и положено было в оные несколько стекол и звучащих черепков, дабы при исполнении приемов каждый удар производил звук. Из-за пустого по смыслу и вредного в боевом отношении франтовства в жертву наружной красоте фузеи и эффектному исполнению приемов приносились военные качества оружия.
Проверив, как колонны разворачивались в шеренги, смыкали и размыкали ряды, Суворов отдал команду начать любимейшее свое упражнение – сквозную атаку.
– Покажите-ка, господа обер-офицеры, как ваши солдаты русским штычком владеют!..
Не получивший еще роты Набоков вместе с адъютантом унтер-штаба Шипулиным остался на кургане. Он наблюдал невиданную экзерцицию – штыковую атаку, почти позабытую после Семилетней войны и не упомянутую в последнем пехотном уставе 1763 года.
Глядя сверху на ровное и широкое поле, Набоков заметил:
– Место-то для упражнений больно удобное, и вид отсель отменный.
– Любимейшее место нашего полкового командира, – отозвался Шипулин. – Мы курган сей промеж себя прозвали Суворовскою сопкою…
Зеленые шеренги суздальцев, ощетинившиеся штыками, стремительно сближались. Казалось, Набоков присутствует при настоящей рукопашной, где обе стороны, с офицерами на правом фланге, неудержимо шли на прорыв. Лишь в самый последний момент солдаты подняли штыки и, сделав пол-оборота, протиснулись в интервалы, образовавшиеся в шеренге «противника». Несколько мушкетеров заколебались, промедлили и тут же получили штыковые царапины. Суворов скатился с кургана.
– Второй роте назавтра упражнение повторить паки и паки!.. Пятая – орлы! – Он стремительно обнял худенького подпоручика. – Твои солдаты, Железнов, богатыри! Ты не Железнов, братец, а Железный! Право, Железный!..
Набоков встречал в Петербурге отца подпоручика – Ивана Петровича Железнова, влиятельного управляющего канцелярией Екатерины, и ожидал увидеть в его сыне скорее неженку и белоручку. Однако сквозная атака показала капитану, что Железнов – деятельный и отважный пехотный офицер.
Суворов, слегка припадая на одну ногу, бежал вдоль строя:
– Молодцы, суздальцы! С вами я готов побеждать!..
Готовя своих солдат к будущим боям, он приучал их не дожидаться опасности, а смело идти ей навстречу. Этой цели служили наступательные операции с преимущественной атакой холодным оружием. На Суворова произвели огромное впечатление действия русской пехоты в Семилетнюю войну, особенно рукопашная в битве при Кунерсдорфе.
Штыковой удар требовал особенного, исключительного напряжения воли. Из западноевропейских армий к атакам холодным оружием наиболее способной была французская; немцы заменили рукопашную огнем, стремясь сделать его более частым. Почти повсеместное поклонение Фридриху II и его системе привело к тому, что штыком стали пренебрегать. Прусский наемник, не имевший отечества, понятно, не годился для штыкового удара. Ничтожность тогдашнего ружейного огня, поражавшего лишь на шестьдесят – восемьдесят шагов, Суворов оценил вполне в ту же Семилетнюю войну, признав негодным для пересадки на русскую почву прусский образец. Его философские взгляды на военное дело исходили из глубокого понимания особенностей русского солдата.
«При недостаточности обучения вообще, – замечал А. Петрушевский, – и при слабости огнестрельного действия в особенности русская армия всегда чувствовала склонность к штыку; но эта склонность оставалась инстинктивной и неразвитой. Суворов взялся за дело рукою мастера. Драгоценная особенность русской армии, замеченная им в Семилетнюю войну, стойкость – была элементом, обещавшим Суворову богатую жатву. Предстояло дорогой, но сырой материал – пассивную стойкость обработать, усовершенствовать и развить до степени активной настойчивости и упорства…»
Вопреки всей Европе безвестный полковник придал штыку значение первостепенное и сделал его главным военно-воспитательным средством. То, что практиковалось в 1763–1768 годах в Суздальском полку, Суворов применил затем ко всей русской армии.
Из скромного «Полкового учреждения» впоследствии выросла знаменитая «Наука побеждать».
Назначенный в 1762 году командиром Астраханского пехотного полка, Суворов пробыл в нем всего семь месяцев и 6 апреля 1763 года по именному высочайшему указу был переведен в Суздальский.
Полк этот являлся одним из старейших и знаменитейших в русской армии. Он был образован подполковником Ренцелем из солдат, пробившихся из окружения в битве со шведами при Фрауштадте 2 февраля 1706 года. Под своим алым знаменем Ренцелев полк совершил знатные подвиги на поле брани в петровскую пору: при Полтаве он преследовал отступавших шведов, а у Переволочны в составе отряда Меншикова пленил остатки разбитой армии Карла XII; участвовал в осаде Риги в 1710 году и взятии Динамюнда (Усть-Двинска), а затем – в неудачном Прутском походе. В армии Миниха суздальцы успешно воевали в Крыму в 1735–1736 годах, штурмовали и обороняли Очаков в 1737–1739 годах, под командованием Ласси сражались в течение всей победоносной войны 1740–1743 годов со шведами. В Семилетней кампании Суздальский полк прошел буквально через все баталии. Не будет преувеличением сказать, что его история была и историей русской армии.
Суворов в короткий срок превратил Суздальский полк в образцовую воинскую часть, в новаторскую школу воспитания солдата. Свою отличную боевую выучку суздальцы продемонстрировали на маневрах, проведенных по указанию Екатерины летом 1765 года. Это был первый случай в истории русской армии, когда в период компонентов, то есть лагерного сбора, проверялась боевая подготовка войск.
Семилетняя война выявила как замечательные боевые качества русского солдата, так и серьезные недостатки в организации и управлении вооруженных сил, прежде всего их слабую маневренность, малоподвижность. С первых же дней своего царствования Екатерина обратила внимание на захиревших детей Петра I – армию и флот, постепенно возродившийся после долгого небытия. Она ходила с флотом в Кронштадт и за Красную Горку, присутствовала на морских маневрах и при бомбардировании специально построенного городка на острове Гаривалла. Энергично укреплялась и модернизировалась армия. Важнейшим нововведением было учреждение специального егерского корпуса – сперва небольших команд легкой стрелковой пехоты, действовавшей как в сомкнутом, так и в рассыпном строю. Одновременно выявилась необходимость в формировании легких конных полков из коренного русского и украинского населения, а не только из окраинных национальных меньшинств – сербов, молдаван, венгров, грузин, как это делалось прежде.
На сборах 1765 года перед войсками были поставлены весьма конкретные задачи: «не солдатство токмо ружейной экзерциции обучать, но пользу установленных ее императорским величеством новых учреждений видеть; генералам подать случай показать новые опыты доказанного уже ими искусства; ревнительным офицерам являть частию свою способность быть таковыми ж и частию обучаться тому, чего не ведают, и наконец всем вообще, воспоминая свои прежние подвиги, доказать, елико можно во время глубокой тишины и покоя, коль охотно и усердно все и каждый понесли бы жизнь свою за честь и славу великия своея самодержицы и в оборону своего Отечества».
Главный лагерь указом Военной коллегии велено было собрать в тридцати верстах от Петербурга, неподалеку от Красного Села, и состоять ему из трех дивизий – первой, под руководством А. Б. Бутурлина, второй – А. М. Голицына, третьей – П. И. Панина. Кроме того, под командою бригадира И. М. Измайлова был сформирован «особливый легкий корпус» из Суздальского, Санкт-Петербургского карабинерного, Грузинского гусарского полков, ста пятидесяти егерей, двух орудий и двухсот казаков. Один из батальонов Суздальского полка наравне с лейб-гвардии Конным полком оставался для охраны «главной квартиры» – ставки Екатерины у подошвы Дудуровской горы. Гвардейские полки входили в состав первой дивизии, причем Измайловским командовал Суворов-старший.
Василий Иванович Суворов достиг к этому времени наивысшего своего положения; 12 июля 1762 года именным указом он был назначен членом Военной комиссии при высочайшем дворе, 9 марта 1763 года получил чин генерал-аншефа, а еще через три года – орден Святой Анны. 11 июля 1763 года Суворов-старший был пожалован в подполковники лейб-гвардии Измайловского полка, полковником коего, как известно, являлась сама Екатерина.
…Собранные войска 15 июня 1765 года вступили в лагерь, причем Александр Суворов привел свой полк из Новой Ладоги форсированными маршами. Несколько дней ушло на проведение ружейных экзерциций. 19 июня в пятом часу пополудни выстрел сигнальной пушки возвестил о начале торжественного парада. Полки выстроились в две линии перед своими палатками.
Находясь в строю суздальцев, которые были в парадном убранстве – шляпах с бантом и шерстяными кисточками, мундирах с красными лацканами и галстуках из красного стамеда, с бело-желтым погоном на левом плече, – полковник Суворов слышал накатывающееся с правого фланга могучее русское «ура». Как нарастающий гул морского прибоя, как надвигающаяся гроза, оно росло и надвигалось. Словно одна огромная грудь выдыхала это грозное слово, в котором слышался отзвук недавних побед при Гросс-Егерсдорфе, Кунерсдорфе и Кольберге.
Приближалась блестящая кавалькада. Впереди с обнаженною шпагою ехал командовавший парадом граф Бутурлин. Старый фельдмаршал держался в седле неловко и грузно, что еще более подчеркивала щеголеватая посадка следовавшего за ним конногвардейца, у которого взамен обычного парика из-под треуголки свободно ниспадали на плечи черные локоны. То была императрица. Ее сопровождал на смирном коне мальчик, живоглазый, курносый, в сверкающей золотом вензловой кирасе, синем кафтане и золоченом шлеме с плюмажем – полковничьем убранстве конной гвардии, – великий князь Павел Петрович. Позади них ехал красавец генерал-адъютант и с недавнего времени граф – Григорий Орлов. В пышной толпе придворных Суворов увидел и своего отца в мундире измайловца. Залпы сорока четырех орудий и беглый ружейный огонь сопровождали процессию на всем пути ее следования.
Были образованы две армии – государыни и Панина. 20 июня панинская дивизия дефилировала двумя колоннами в свой новый лагерь – при реке Пудости, близ деревни Пуско. На следующий день Екатерина произвела с легким корпусом рекогносцировку неприятельского расположения. Сначала Измайлову было приказано занять деревню Технину, не высылая никаких патрулингов, дабы форпосты противника до времени не тревожить, затем императрица отправилась с корпусом к насупротивному крылу. Разумеется, Панин в соревновании с Екатериною был уступчив, при приближении казаков и гусар отвел свои пикеты, хотя и чинил им непрерывные нападения. Наступательными действиями авангарда руководил полковник Суворов.
Характерно, что неизвестный автор, описывающий в официозной брошюре Красносельские маневры, приводит в ней имена только некоторых генералов, не упоминая вовсе штаб-офицеров. Исключение сделано лишь для Суворова. Этим подтверждается, что Суздальский полк уже успел выдвинуться из ряда других полков своей обученностью, маневренностью, быстротой.
При всей условности этих первых в истории русской армии маневров, они, однако, имели немалое практическое значение. Это была игра, но приближенная к военной обстановке, с атаками, обходами и даже главной баталией, которая состоялась 25 июня. 1 июля войска были распущены по квартирам, причем Суздальский полк двинулся в Ладогу снова ускоренным маршем, при этом не оставив в пути ни одного больного.
Опять потекли полковые будни, до предела насыщенные учебой и трудными упражнениями. Менее всего Суворов щадил самого себя. «Знают офицеры, – писал он впоследствии Веймарну, – что я сам делать то не стыдился… Суворов был и майор, и адъютант, до ефрейтора; сам везде видел, каждого выучить мог». В Ладоге он беспрестанно производил походные движения, заставлял полк бивуакировать, переходить реки и ручьи вброд, прыгать через широкие рвы, совершать в пути боевые ученья. Днем и ночью, летом и зимой, в жару, в дождь, в мороз неутомимый полковник водил солдат экзерцировать, маршировать с ружьем, заходить, атаковать. Порою он не спал по нескольку ночей кряду, питался самою грубой походной солдатской пищей, сутками не слезал с лошади.
Внешне он казался подчиненным воплощением силы, энергии, выносливости. Никто даже не догадывался, какой трудной ценой доставались Суворову его навыки. Он все еще продолжал борьбу с природной хилостью и слабостью организма. Процесс этот был долгий и многотрудный, пока наконец дух не одержал победу над плотью. Не раз самому Суворову казалось, что кончина близка, что тщедушный организм не выдержит установленных им же чрезвычайных нагрузок. «Головные и грудные боли не прекращаются, – жаловался он знакомой Л. И. Кульневой. – У меня остались кости да кожа, я раздражен, похож на осла без стойла. Во всем напоминаю настоящий скелет или тень, витающую в воздушном пространстве; я точно беспомощный, поглощаемый волнами корабль. Смерть чуть не перед глазами у меня. Она медленно сживает меня со свету, – но я ее ненавижу, решительно не хочу умирать так позорно. Хотел бы ее найти только на поле сражения». За скупыми строками этого письма, первого из дошедших до нас и датированного 1764 годом, возникает настоящая драма целеустремленного и героического характера.
В Петербурге меж тем уже ходили легенды о «чудаке-полковнике», о его странных выходках, оригинальничанье, необычных действиях. Однако за чудачествами Суворова скрывалась продуманная до мелочей, четкая система. Изучая действия пехоты, Суворов исключил залп, предшествовавший атаке, ради принципа: «в атаке не задерживай». Но, отводя ружейному огню скромную роль, командир суздальцев не отвергал его значения вовсе. Он лишь настойчиво указывал на неэффективность и даже вредность бесприцельных залпов, производя экзерциции и «цельные» стрельбы, занимаясь лично с теми ротами, где было более всего новобранцев.
Пройдя вдоль строя, Суворов взял у правофлангового – добродушного вида гиганта – его ружье и начал объяснять:
– Оружие и амуниция рядового фузилера суть: шпага с портупеею, фузея с медным шомполом, штыком, пыжевником, трещоткою, замочного заверткою, погонным ремнем, натруска, патронная сума с жестянкою и перевязью, ранец и водоносная фляжка.
Солдаты, старослужащие и новобранцы, с одинаковым вниманием слушали своего полкового командира.
– Фузея заряжается дульным патроном с бумажною гильзою, коя именуется картуз… Склеиваешь патрон… Перед заряжанием скуси картуз со стороны пороха… Теперь сыпешь из патрона немного пороху на полку. Остальной заряд – в ствол, закупориваешь пулею с бумажною гильзою и забиваешь шомполом. – Он вернул фузею солдату. – Можешь повторить?..
В огромных ручищах правофлангового фузея казалась игрушкою; тем удивительнее была ловкость, с которою великан зарядил ружье. Но особенно отличился он при стрельбе в ростовые мишени, не сделав ни одного промаха, в то время как многие ни разу не попали.
После учений Суворов по обыкновению собрал солдат для короткой беседы. Суздальцы так тесно обступили его казачью лошадку, что она не могла повернуть морды.
– В деле, хотя бы весьма скоро заряжать, скоро стрелять отнюдь не надлежит! – строго сказал он.
– Пуля виноватого найдет, господин полковник, – пробовал вступиться за своих мушкетеров Набоков.
– Сие могло быть в нашем прежнем нерегулярстве, – молниеносно обернувшись к капитану, отрезал Суворов, – когда мы по-татарскому сражались, куча против кучи! Задние не имели места целить дулы, вверх пускали беглый огонь!
Он нашел взглядом отличившегося солдата:
– Как звать, братец?
– Климов, ваше высокоблагородие.
– Искусен ты в огневом деле. Думаю, что и штычком русским владеешь не хуже…
– Штыковому бою обучен совершенно, – отозвался Набоков.
– Чудо-богатырь! Эдакими-то ручищами и толь быстро и сноровисто фузею зарядил…
– И, вашескородие, – ответил Суворову курносый и румяный солдатик, – что фузея! Наш Климов вошь на г… убьет и рук не замарает!
По толпе прошел хохот.
– Капитан Набоков, – переждав смех, сказал Суворов, – и как же такой чудо-богатырь по сию пору в капралы не представлен? Поздравляю, господин капрал! – И медленно выехал из толпы.
Пятилетнее командование Суздальским полком в мирных условиях позволило Суворову со всей страстностью и целеустремленностью его натуры отдаться преобразовательской деятельности. Нижние чины видели в своем полковом командире не только начальника строгого и требовательного, но и непрестанно заботящегося об «успокоении и удовольствии» солдата, о его «целости», в чем, по выражению Петра I, «все воинское дело состоит». Авторитет полковника зиждился на его безукоризненном, образцовом поведении, несении всех воинских тягот, хозяйственности, бережливости и кристальной честности.
При преемниках Петра полковые командиры часто употребляли солдат на свои личные нужды, не стеснялись пользоваться и казной. Их жалованье равнялось семистам – восьмистам рублям, а доход – пятнадцати – двадцати тысячам. Екатерина II раз так ответила чиновнику, ходатайствовавшему перед нею за одного бедного офицера: «Он сам виноват, что беден: ведь он долго командовал полком». Таким образом, воровство было разрешено, а честность считалась чуть не глупостью. Унаследовавший от отца сугубую бережливость, Суворов всю до копейки экономию употреблял на дальнейшее благоустройство полка.
Посетивший Новую Ладогу в 1766 году губернатор Сиверс нашел уже образцовое полковое хозяйство – выстроенные школы, церковь, конюшни, разведенный на бесплодной песчаной почве сад. В одной из школ имелось даже некое подобие сцены, на которой к приезду губернатора ладожские кадеты разыграли специально поставленную пьесу.
Умный и честолюбивый, предельно волевой и всесторонне образованный, всецело отдающий себя службе, Суворов, следуя заветам Петра, готовил подчиненных исключительно для военного времени: «Надлежит непрестанно тому обучать, как в бою поступать». Огневые испытания для суздальцев были близки: в 1768 году начались военные действия против польских конфедератов и турок.
Возведенный 22 сентября того же года в чин бригадира, Суворов стремился туда, где, по его собственным словам, «будет построже и поотличнее война», то есть на турецкий фронт. Ради этого он был готов даже расстаться со своим полком. Таков смысл его письма А. И. Набокову от 15 декабря 1768 года. 9 января следующего года он вновь повторил свою просьбу Андрею Ивановичу. Могущественный еще недавно покровитель, отец мало чем мог ему теперь пособить. Как раз в 1768 году он выходит в отставку с сохранением полного содержания и переезжает в Москву, где покупает дом в Земляном городе, вблизи Никитских ворот.
Вопреки его собственным желаниям Суворов был вызван в Польшу. В ноябре 1768 года он получил приказ о немедленном выступлении в Смоленск. Новоиспеченный бригадир устремился в поход с такой поспешностью, что даже не успел отдать распоряжений об оставшемся в Новой Ладоге полковом имуществе и посылал указания с дороги. Предстояло пройти восемьсот шестьдесят девять верст, в самое дурное осеннее время, болотистою стороною, по бездорожью, в грязь и распутицу. Но Суворов не был бы Суворовым, если бы не обратил все эти неблагоприятные условия себе на пользу.
До сих пор его марши не превышали ста пятидесяти верст; самым длинным был поход из Новой Ладоги до Красного Села и обратно. Представлялся случай проверить солдат в трудном деле. Посадив полк «на колеса», бригадир привел его в Смоленск ровно через месяц: за тридцать переходов захворало лишь шестеро и пропал один.
Россия вступала в полосу новых войн, которые должны были окончательно решить ее значение как великой державы в Европе и Азии. Суворову, состоявшему в скромном воинском звании бригадира, предстояло сыграть в этих кампаниях роль самую выдающуюся.
Глава пятая
От Смоленска до Вильны
Пасхальный стол полномочного министра Екатерины при варшавском дворе князя Николая Васильевича Репнина ломился от яств. За ним сидело не менее ста вадцати человек.
Хозяин, потомок знатнейшей в России фамилии, ведущей начало от великого князя Владимира, был внуком петровского фельдмаршала Аникиты Ивановича Репнина и племянником екатерининского вельможи Никиты Панина.
Поклонник масонов и сугубый мистик, он придавал числам особливый смысл. Все на столе должно было служить каким-либо символом: четыре кабана, нашпигованные поросятами, ветчиной и колбасами, соответствовали четырем временам года; двенадцать начиненных дичью зубров означали число месяцев; триста шестьдесят пять ромовых баб и столько же куличей, мазурок, жмудских пирогов и украшенных фруктами лепешек указывали на количество дней в году. Не позабыты были и вина: на столе стояло четыре стопы, двенадцать кубков, пятьдесят два бочонка итальянского, кипрского, испанского и триста шестьдесят пять бутылок венгерского; дворне было послано восемь тысяч семьсот шестьдесят кварт меду, по числу часов в году.
Среди однообразно зеленых генеральских и офицерских мундиров выделялись, как цветы на лужайке, яркие женские наряды – розовые, голубые, белые, алые; пышные прически были украшены шелковыми бантами, страусиным пером, целыми сооружениями из шиньонов с бриллиантами и жемчугом. Казалось, во дворце князя, дававшего прощальный обед перед отъездом в Россию, расцвел маленький Париж. Лишь более внимательный взгляд мог выделить в этой ослепительной веренице драгоценных причесок, хорошеньких лиц, роскошных туалетов голубоглазую красавицу, сидевшую подле Репнина, – его фаворитку Изабеллу Чарторижскую.
Кроме нее и десятка паненок, все собравшиеся за пасхальным столом были русскими подданными, и потому разговор тек свободно, без околичностей и политеса. Военные рассуждали о недавних победах над конфедератами, о восстании Железняка и Гонты в Правобережной Украине, о двусмысленном поведении короля Станислава…
Объединившиеся в XVI веке в одно государство Речь Посполитая, Польша и Литва распространили было свое господство на огромные территории к востоку от Днепра и Западной Двины. К XVIII веку, однако, все переменилось. Как отмечает советский историк, «в течение 20-60-х годов XVIII в. политическая жизнь Польши являла собой картину полнейшей» анархии. Бесконечные интриги магнатства и шляхты, бескоролевье и борьба за престол, правительство, не способное провести на сейме никакого решения, малочисленная, плохо организованная и вооруженная армия, лишенная твердой дисциплины, – все это приводило Речь Посполитую в состояние полного развала. Все более значительное влияние на ее политическое развитие стали оказывать иностранные державы, не желавшие допустить ее усиления или рассматривавшие ее как выгодный козырь в сложной дипломатической игре.
Избранный в 1764 году королем польским Станислав Понятовский, фаворит Екатерины в бытность ее принцессою, был наделен честолюбием, но отличался мягким, робким и нерешительным характером. Он сразу же столкнулся с трудностями, разрешить которые у него не хватило ни способностей, ни сил. Речь шла о положении диссидентов – разномыслящих в вере, большею частью православных – украинцев и белорусов, притесняемых католической церковью и искавших помощи у России. Воспользовавшись их жалобами, Екатерина II и Фридрих II потребовали уравнения диссидентов в правах с католиками. Репнин, опираясь на десять тысяч русских штыков, предложил польскому сейму обеспечить свободу вероисповедания и гражданские права иноверцам. Встретив сопротивление шляхты, он приказал ночью арестовать четырех влиятельных вожаков и отправить их под конвоем в Россию. Недовольные депутаты примолкли, и закон о диссидентах был принят.
Взрыв негодования распространился по дворянской Польше. В местечке Бар Каменецкий епископ Михаил Красинский, адвокат Иосиф Пулавский со своими тремя сыновьями 29 февраля 1768 года составили конфедерацию, то есть союз против решений сейма. Они объявили Станислава лишенным престола и послали своих людей в Турцию, Саксонию и Францию за помощью. Число конфедератов быстро увеличивалось, хотя движение это носило характер чисто дворянский: отвлеченные лозунги не могли увлечь подневольное крестьянство. Как отмечается в написанной советскими учеными «Истории Польши», «Барская конфедерация по своей программе в целом была реакционным католическо-шляхетским движением, направленным в такой же мере против каких бы то ни было реформ в Речи Посполитой, как и против царской России».
В ответ на конфедерацию Екатерина II ввела в пределы Польши новые войска, объединив их под командованием генерал-поручика Веймарна. Столкновения с конфедератами повсюду оканчивались их поражением. Тогда фанатизм конфедератов обратился против православного населения. Возбуждаемые католическим духовенством, они преследовали покинувших унию украинцев, издевались над православными священниками, запрягали их в плуги, били каменьями, секли терновыми розгами, насыпали в голенища горячих углей, забивали в колоды. Назревало уже иное восстание – угнетенных украинских крестьян против польской шляхты. Его возглавили запорожец Максим Железняк, оставивший уже войсковое житье и находившийся на послушании в монастыре, и казачий сотник Иван Гонта.
Страшившейся народного восстания больше, чем движения польских дворян, Екатерине II пришлось проявить сословную солидарность. Посланный ею бригадир М. Н. Кречетников обманом захватил гайдамацких вожаков. Железняк был сослан в Сибирь, а Гонта выдан королевским польским войскам, где его предали мучительной казни. Когда с его спины снимали двенадцать полос кожи, Гонта говорил полякам: «От казали: буде боліти, а воно нi крапки не болить, так наче блохи кусають!» Затем его четвертовали.
Между тем военные действия против конфедератов не прекращались ни на один день. Для успешного ведения начавшейся войны с турками и недопущения их в Польшу, где бы они могли соединиться с мятежными конфедератами, надобно было употребить усилия для занятия польских крепостей Замостья и Каменец-Подольского, пограничных с Оттоманской Портою. Гостей Репнина волновал поступок короля Станислава, который в ответ на тайное предложение Репнина уступить крепости собрал своих министров и объявил им о русских намерениях.
– Я заявил королю, что занятие Замостья необходимо для безопасности Варшавы в случае татарского набега из Крыма и что я овладею крепостью хотя бы и с огнем. Если вы хотите, чтобы война шла не у вас, а в турецких границах, сказал я Станиславу, то отдайте нам и Каменец… – слегка гнусавя, цедил французские слова маленький, смуглолицый и изящный Репнин, генеральский мундир которого украшал орден Александра Невского на пунцовой ленте – награда за успешные действия в Польше.
– И что же его величество? – спросил по-немецки генерал-поручик Веймарн, на котором зеленый, шитый золотыми лаврами кафтан сидел неловко, словно снятый с чужого плеча.
– Его величество? – снисходительно усмехнулся Репнин. – Потребовал в ответ вывода наших войск и уничтожения диссидентского дела…
– Императрица не может отступить от своих прав без унижения собственного достоинства, – важно заметил Веймарн, подцепив золоченой вилкой здоровенный кус молочного поросенка.
– Долг наш беспрекословно исполнять все ее повеления, – бесстрастно продолжал Репнин, – хотя, – он тонко улыбнулся, глядя на свет, как переливается бледно-желтое токайское в хрустале, – почему русское правительство так заботится о единоверцах в Польше, раз между ними нет дворян?..
– Зато их слишком много среди наших противников – барских возмутителей, – вкрадчиво сказал секретарь Репнина и будущий знаменитый дипломат Булгаков.
Репнин наградил молодого человека обворожительной улыбкой.
– Король дважды предупреждал меня о грозящей смерти от руки мстителей. – Растягивая слова, тридцатилетний князь покосился на Изабеллу, сидевшую с непроницаемым лицом. – «Вы забываете, ваше величество, – отвечал я, – что мой дом в Варшаве охраняют две тысячи мушкетеров…»
Чарторижская метнула на него быстрый и гневный взгляд.
– Ваше сиятельство, – напомнил Репнину педантичный Веймарн, – у Иосифа Пулавского с Красинским растет число приверженцев, в Галиции все полыхает мятежным огнем. Для его потушения надобно вдвое больше войск, чем мы имеем.
Репнин побледнел и поставил бокал на стол с такой поспешностью, что вино пролилось на скатерть.
– Таковы плоды медленности нашей!.. Ежечасно рождаются новые возмущения, которых предупредить нельзя!.. Нельзя по всей Польше войска иметь… – Волнуясь, он всегда переходил на русский язык. – Нет, я счастлив, что государыня вняла моим просьбам и освободила меня от таковой каторги. Пусть ужо князь Михайло Никитич Волконский тут помучается. – Обычное амообладание постепенно возвращалось к нему. – Иван Иванович, когда прибудет резервный корпус Нумерса?
Лифляндца на русской службе Ганса фон Веймарна переименовали в Петербурге Иваном Ивановичем.
Слегка замешкавшись от гневной вспышки вельможи, Веймарн не сразу ответил:
– Передовой отряд под командованием бригадира Суворова ожидается через месяц-два… Бригадир сей отлично себя проявил в минувшей войне с Фридериком…
– Вы хотите сказать, с Фридрихом Великим… – Вспыльчивый князь еще не остыл. Он провел несколько лет при берлинском дворе, был в близких отношениях с королем Пруссии, состоял с ним в откровенной переписке и преклонялся перед его личностью и военной системой.
– Несомненно! Кто может отнять славу у толь великого полководца! – с неожиданной для него пылкостью воскликнул Веймарн.
– Погодите, – Репнин наморщил смуглый лоб, – Суворов? Сын нашего генерал-аншефа и суздальский полковой командир?
– Да, и еще искусный партизан, хотя и чудак.
– Но ведь он, сказывают, не признает никакой системы и не ставит ни во что самого Фридриха… – Князь отхлебнул из бокала. – Я слышал, он сущий натуралист, а у нас и без того несказанная разладица, коей возмутители искусно пользуются.
– Очень уж мы церемонимся с этими поляками, – вызывающе громко сказал с другого конца стола по-немецки майор. Он один среди остальных военных был одет в голубой гусарский доломан, украшенный черными шнурами и пуговицами, выделялся непудреными волосами, отращенными на висках, и длинными висячими усами.
Князь знал о майоре, командире сербских гусар фон Древице (взявшем Бар и отправившем в Россию тысячу двести пленных), что это храбрый, но свирепый и холодный наемник, уважающий лишь деньги, откровенно презирающий всех славян и даже не пожелавший выучиться русскому языку. Брезгливо поморщившись, он вытер кончики пальцев батистовым платочком, зато Изабелла шумно поднялась и ушла из-за стола.
Репнин пылко любил красавицу Чарторижскую, рожденную графиню Флеминг, но ради своего чувства он ни разу не пожертвовал интересами России и теперь только проводил разгневанную Изабеллу взглядом. Националистически настроенная полька, известная «майка отчизны», она воспитала своего сына от Репнина, Адама Чарторижского, горячим патриотом Польши, ставшим впоследствии одним из вдохновителей восстания 1794 года.
После ухода Изабеллы за огромным столом воцарилось молчание, которое нарушил Репнин.
– Что ж, – глядя в сторону Древица, сказал он, – может быть, нам и нужен против польских партизан таковой натуралист, каков бригадир Суворов…
Высокомерный вельможа, конечно, не предполагал, сколь сложные отношения установятся у него скоро с этим скромным бригадиром, который затмит его воинскими подвигами, породнится с ним, женившись на княжне Прозоровской, наконец обойдет его, бывшего уже в двадцать восемь лет генералом, чинами и наградами. Во всем антипод Репнина, эксцентричный Суворов поведет со своим сиятельным родственником настоящую войну, осыпая его за педантизм, нерешительность, преклонение перед прусскими порядками ядовитыми прозвищами и «кусательными» эпиграммами. В свою очередь, Репнин до конца дней будет упрямо отказывать Суворову в выдающихся военных дарованиях, объясняя его победы удачей и счастьем.
В Смоленске ожидала приказа о выступлении в Польшу дивизия генерал-поручика И. П. Нумерса. 15 мая 1769 года Нумерс назначил Суворова командиром бригады в составе Суздальского, Смоленского и Нижегородского полков. Бригадир поспешно начал обучать солдат и офицеров, незнакомых с его «Полковым учреждением»: проводил штыковые экзерциции, совершал ночные марши и действия. В начале августа ввиду слухов о приближении к Варшаве крупного отряда конфедератов Веймарн потребовал от Нумерса подкреплений. Тот спешно отправил в Польшу Суворова с Суздальским полком и двумя эскадронами драгун. Бригадир посадил свою пехоту в полном вооружении и часть драгун на реквизированные у обывателей подводы и в двенадцать суток прошел двумя колоннами более шестисот верст, не потеряв ни одного человека и рассеяв попутно скопление конфедератов под Пинском. В ночь на 21 августа Веймарн вызвал только что прибывшего Суворова к себе.
Варшава жила тревожными слухами. Король Станислав склонялся то к русским, то к конфедератам, шляхта устраивала тайные сборища, организовывала нападения на одиночек-солдат. Веймарн был растерян и напуган.
– Мне донесли, – встретил он Суворова, – что варшавский маршалок Котлубовский находится вблизи столицы с восемью тысячами возмутителей. Он будто бы готовит нападение на Варшаву и приближается к ней сухим путем и водою, по Висле…
– Я тотчас же соберу сведения сам, ваше превосходительство, – поспешил успокоить его бригадир. – Варшава охраняется надежно – две роты моих суздальцев стоят в караульной команде в Праге, а две другие стерегут посольский двор.
В четыре пополуночи 21 августа Суворов выступил в поиск с двумя ротами Суздальского полка, с орудием при каждой, эскадроном драгун и сотней казаков. В разведку он взял своего племянника Николая Суворова, поступившего в полк поручиком.
В семи верстах выше Варшавы казаки нашли брод, немаленький отряд бесшумно переправился через Вислу. Выслав вперед казачий разъезд, бригадир прошел без остановок около семидесяти верст, собирая по пути сведения о противнике. Был обследован обширный район между Варшавою и Западным Бугом. Обыватели выглядели перепуганными, местечки были разорены.
Весь обратный путь Суворов проделал молча. Отдыхать ему пришлось лишь сутки. В районе Бреста появились крупные партии конфедератов под предводительством Казимира и двадцатитрехлетнего Франца Ксаверия Пулавских. «Староста жезуленицкий, полковник, ордена Святого Креста кавалер, панцирный товарищ, региментарь и комендант войск коронных конфедератских», как пышно именовал себя Казимир, и полковник воеводства Подольского Франц Ксаверий были замечательными силачами, лихими наездниками, мастерски владели оружием, проявляли в военных операциях находчивость и изобретательность. Не удивительно, что они быстро сделались кумирами конфедерации. В мае 1769 года пять тысяч партизан, ведомых Пулавскими, напали на Львов, сожгли несколько улиц в городе, но затем были оттеснены из города слабым гарнизоном. В августе Казимир и Франц Ксаверий во главе восьми тысяч заняли Замостье, но при приближении Каргопольского карабинерного полка фон Рённа отошли к Люблину, энергично преследуемые русскими. Вступив в Литву, Пулавские волновали шляхту и вербовали себе новых приверженцев. Суворов с семью сотнями солдат устремился к Бресту, наращивая скорость при переходах и преодолев в последние тридцать пять часов семьдесят пять верст.
Здесь он убедился, что весть о Пулавских справедлива, и решил с небольшим отрядом – ротою драгун, ротою гренадер, егерями и двумя единорогами – идти по дороге в Кобрин, на соединение с Рённом. Считая Брест важным опорным пунктом, бригадир оставил в нем остальные войска.
За ночь малочисленный русский отряд преодолел тридцать шесть верст. Первого сентября на рассвете он был встречен патрулем Рённа из полусотни карабинеров и трех десятков казаков под командованием ротмистра Каргопольского полка графа Кастели. Первым делом Суворов осведомился о неприятеле. Живой, чернявый Кастели, одетый в синий карабинерский кафтан с красным лацканом и обшлагами, с малиново-голубым каргопольским погоном, был возбужден недавней стычкой с арьергардом Пулавских.
– Мы довольно пощипали их, одних пленных взято двадцать человек…
– А где же господин полковник фон Рённ?
– Он со всем деташаментом идет другой дорогой.
Бригадир недовольно поморщился:
– Что же он толь долго в бездействии обращается вблизи мятежников?… – Он повернулся в седле: – Поручик Сахаров! Пойдешь со своими гренадерами впереди. Гляди, братец, лес, болота, гати, не ровен час потеряем Пулавских.
– Не может быть, – отвечал поручик, – ведь мы суздальцы!
Перестроившись, отряд Суворова с присоединившимся к нему разъездом каргопольцев вступил в довольно густой лес. Около десяти верст было пройдено в глубокой тишине, когда близ полудня на тесной поляне за болотом русским внезапно открылись главные силы Пулавских, готовые к бою. Прикинув, Суворов определил, что тремстам двадцати его солдатам противостоит не менее двух – двух с половиною тысяч конфедератов, исключительно кавалеристов. Решение было молниеносным:
– Господину квартирмейстеру Васильеву вести из единорогов отменный огонь… Сахарову с гренадерами немедля итить через гать, строиться – и в штыки! Драгуны и карабинеры атакуют на палашах!.. Казакам быть на месте для охранения тылу…
С обеих сторон загремела артиллерия. У поляков на фланге действовала батарея из трех медных трехфунтовых орудий. Гренадеры бросились, увлекаемые Сахаровым, по бревнам и фашинам через все три моста. Хотя огонь противника был метким и вскоре у русских оказался поврежденным зарядный ящик, остановить гренадер пальба была не в состоянии. Суворов видел, как, перейдя болото, Сахаров выстроил роту тылом к густому лесу, непроходимому для кавалерии. По сторонам рассыпались егеря поручика Борисова, открывшие прицельный огонь.
С непокрытою головою, без кафтана, в одном зеленом камзоле, бригадир пришпорил казачью свою лошадку:
– Братцы, за мной! С Богом!..
Огонь польских орудий усилился. Проскочив гать, Суворов повел драгун на батарею, а Кастели вместе с гренадерами атаковал польских кавалеристов. Боясь потерять орудия, конфедераты сняли их с позиций. Пользуясь многократным численным превосходством, они вводили в сражение все новые силы. Теперь уже пришлось обороняться Суворову. Был момент, когда в тылу русских произошло тревожное движение, заволновались казаки, и дежурный при бригадире майор крикнул: «Мы отрезаны!» Суворов тут же арестовал его. Бой продолжался.
Раз за разом накатывались на гренадер свежие конфедератские эскадроны, но меткий ружейный огонь и особенно картечные залпы отбрасывали их назад. После четырех неудачных атак повстанцы заколебались. Суворов приказал дать сигнал к общей атаке.
Гренадеры – неслыханное дело! – бросились в штыки на кавалерию и опрокинули ее; карабинеры Кастели и драгуны погнали поляков через горящую деревню. На глазах Суворова огромного роста сержант-суздалец сколол штыком одного за другим трех всадников. Бригадир узнал его: это был Климов, получивший сержантский чин незадолго до выступления полка в Польшу.
Взяв десяток кавалеристов, бригадир сам преследовал конфедератов версты три, нагнал их в поле, где они начали было перестраиваться, но те при появлении русских, потрясенные поражением, снова пустились в бег. Остатки рассеянного отряда Пулавских, наткнувшись 2 сентября на основные силы Рённа, бросили артиллерию и обоз. Вдогонку им поспешил Кастели. В поле он наскочил с пистолетом на Казимира Пулавского, но Франц Ксаверий заслонил своего брата, получив пистолетный выстрел в упор. Он скончался на другой день в плену, оплакиваемый поляками и окруженный уважением русских.
Разгром конфедератов был полный, и это при ничтожных потерях русских: пятерых погибших да десятке раненых. Суворов рекомендовал Веймарну отличившихся – графа Кастели, поручика Сахарова, квартирмейстера Васильева и, наконец, сержанта Климова. В указе Военной коллегии от 21 октября 1769 года подвиг последнего был отмечен особо: «…храброго же Суздальского же полка сержанта Климова, при будущем впредь в корпусе вашем произвождении, произвести преимущественно пред прочими в прапорщики».
Под Ореховом Суворов оставался недолго. В ночь после боя он выступил во Влодаву, надеясь, очевидно, нагнать остатки разбитых конфедератских сил. Во Влодаве он дал своим солдатам вполне заслуженный двухдневный отдых: под руководством своего командира они прошли без дневок сто восемьдесят верст и одержали победу над противником, превосходившим их численностью в пять-шесть раз.
«Отменная храбрость, расторопность и хорошая резолюция господина бригадира Суворова» не укрылись от внимания Военной коллегии. Победа, достигнутая им, сказалась на состоянии целого края. «По разбитии пулавцев под Ореховом вся провинция чиста», – сообщал Суворов Веймарну. Главнокомандующий русских войск в Польше предложил ему выступить в Люблин.
17 сентября Суворов был уже в Люблине.
Люблинский район имел в те дни особенное, первостепенное значение. Благодаря обилию лесов и болот, бездорожью, близости к австрийской границе, многочисленным укрепленным замкам и монастырям, годным к обороне, он словно был создан для партизанских действий. Владея им, конфедераты могли угрожать тылам русской армии, оперировавшей в Оттоманской Порте. Хорошо вооруженные, мобильные отряды состояли из кавалеристов, которые знали эти места как свои пять пальцев, ходили через топи и дремучие леса. О каждом появлении русских их извещали тайные доброжелатели. В ответ на партизанскую тактику противника требовались особые контрмеры – исключительная быстрота и стремительность. Суворов понял это в совершенстве.
Избрав своим капиталем, то есть столицей, сам Люблин, старинный город, расположенный почти на равном расстоянии от Варшавы, Бреста и Кракова, он мог наблюдать отсюда за Литвой, Великопольшей и областями Австрии, где формировались конфедератские соединения. В Люблине бригадир сосредоточил артиллерию, устроил амуничные склады и продовольственные магазины, учредил свой главный резерв. Из Люблина по мере увеличения своего отряда он постепенно растягивал по всему району сеть постов, благодаря которым ему становилось известно не только о сосредоточении, но о самом возникновении новых отрядов противника. Это позволяло Суворову являться как снег на голову в отдаленные городки и местечки. Благодаря внезапности часто удавалось избежать кровопролития: оружие отбиралось, и поляки распускались по домам.
Воспитанные своим командиром маленькие гарнизоны отдаленных постов не терялись в боевых переделках и, сталкиваясь с превосходящими силами противника, сами смело проявляли инициативу. Подросшие за годы ладожского обучения орлята могли уже летать самостоятельно. Когда стало неспокойно на среднем течении Вислы, Суворов выставил в местечке Пулавы, владении Чарторижских, пост под командованием Набокова. Набеги конных партий вынуждали храброго капитана постоянно высылать команду за Вислу.
15 января 1770 года Набоков вместе с поручиком Шипулиным и подпоручиком Железновым, восемнадцатью суздальцами и дюжиной драгун и казаков переправились через Вислу для очередного поиска. Проезжий еврей сообщил им, что в десяти верстах отсюда, в местечко Козеницы вступила партия конфедератов. Ускорив продвижение, команда подошла туда вечером. Решено было разделиться: Шипулин с десятью пехотинцами и четырьмя казаками направился к стоявшей с краю корчме, а Набоков и Железнов должны были тем временем совершить обход Козениц, чтобы зайти неприятелю в тыл. Польский караул поздно заметил шипулинцев, дал залп и скрылся; за ним бросилась горстка солдат. Они добежали до площади и без промедления ударили в штыки. Конфедераты очистили площадь, но дважды атаковали отряд Шипулина с фланга, через боковые улицы. Тем временем Набоков с Железновым вошли в Козеницы с другой стороны. Это и решило исход смелого предприятия: конфедератский отряд в полтораста сабель бежал из Козениц. Переночевав в местечке, команда на обратном пути в Пулавы рассеяла шестьдесят кавалеристов и захватила богатый обоз.
Сообщая о храбрых поисках Пулавского гарнизона, Суворов не без гордости за своих воспитанников писал Веймарну: «Они рекогносцировали, а что так дерзновенны, я один тому виновен. Как в Ладоге, так уже и под Смоленском, зимою и летом, я их приучал смелой нападательной тактике…» Он не только был доволен суздальцами, но и стремился защитить их от гнева пристрастного Веймарна, обвинявшего бригадира и его офицеров в напрасных потерях.
По приезде Суворова в Польшу у него очень скоро начались трения и размолвки с Веймарном. Довольно искусный дипломат и организатор, Веймарн как человек отличался вздорным самолюбием и излишним педантизмом. Защищая русские интересы, он не любил Россию. Мелочная его опека доходила до анекдотичности: так, он упрекнул Суворова в излишней трате денег на лекарства, указывал на недополучение четырнадцати (!) злотых из вырученной суммы за соль и всячески ограничивал самостоятельность начальника Люблинского отряда. В то же время Веймарн явно благоволил к командирам-немцам – Древицу, Рённу, предоставляя им льготы и поблажки.
Еще не добравшись до Польши, Суворов, как мы знаем, просил своего друга А. И. Набокова помочь ему перевестись на турецкий фронт, с такими же просьбами он обращался к разным лицам и позже. Однако Военная коллегия не соглашалась отпустить энергичного командира со сложного и запутанного польского военного театра. Боевые успехи принесли Суворову 1 января 1770 года чин генерал-майора; в том же году были повышены в звании многие его воспитанники-суздальцы – в их числе Парфентьев, Железнов, Шипунин, Набоков, а Сахаров получил крест Святого Георгия 4-й степени. 5 января командиром суздальцев коллегия назначила полковника В. В. Штакельберга, боевого офицера, правда, не отличавшегося какими-либо выдающимися дарованиями. До этого времени Суворов совмещал обязанности бригадного и полкового начальника.
В его распоряжении были теперь батальон и команда егерей Суздальского, рота Казанского и две роты Нашебургского полков, пять эскадронов 3-го Кирасирского, один – Санкт-Петербургского карабинерного, по два – Воронежского и Владимирского драгунских полков и сто семьдесят казаков, а также четыре единорога, восемь медных пушек и столько же чугунных. Всего в суворовской бригаде было три – три с половиной тысячи бойцов.
В начале апреля стало известно, что конфедераты подготавливают нападение на пост в Сандомире. Отряд под командованием Суворова – в двести пехотинцев и сотню кавалеристов при двух единорогах, – идя по следу противника, настиг его 8 апреля неподалеку от местечка Климентов и деревни Наводице, в густом лесу. Польская конница под началом полковника Мощинского находилась в боевом строю – около тысячи всадников под прикрытием шести орудий.
В спешке перестроившись, русские поставили справа драгун, карабинеров и казаков, а слева – пехоту, поместив на флангах егерей. Суворов начал атаку сразу в нескольких направлениях. По его приказу поручик Шипулин с двумя дюжинами егерей занял Климентов, чтобы преградить полякам путь к отступлению. Несколько позже последовала атака в центре: Сахаров ударил в штыки на батарею и «сорвал оную вмиг». Драгуны, карабинеры, казаки и посаженные на коней егеря атаковали конфедератов справа, врубились в их порядки и «все переломали». Поляки после этой атаки были выбиты в поле, но, ретируясь через два буерака и болотистый ручей, отступили в полном порядке. Их мужество и стойкость вызвали восхищение Суворова.
Ожесточенное сражение длилось три часа, пока наконец Парфентьев не провел с казаками и конными егерями решающую атаку, отбил оставшуюся последнюю неприятельскую пушку, после чего конфедераты, по словам Суворова, ударились «в совершенное бегство». Во время этого отступления они лишились лучших своих офицеров; сам полковник Мощинский, получивший в схватке с карабинерами сабельный удар в голову, был спасен от плена хорунжим, который поплатился за свой подвиг жизнью. Всего убитыми поляки потеряли около трехсот человек, в плен попало лишь десять. Были захвачены весь польский обоз и знамя.
«Гнали их по мягкому грунту больше мили. Тако они разбиты в клочки, жаль, что Тарновский и Пулавский… сего не видели», – ядовито замечал Суворов в рапорте Веймарну. Однако вожди конфедерации быстро узнали обо всех подробностях кровопролитного боя. Победа при Наводице, одержанная Суворовым над Мощинским, безусловно, охладила их пыл, и последующие два месяца почти ничто не нарушало монотонности люблинского «сиденья». Вскоре, однако, произошел неприятный инцидент, надолго испортивший настроение Суворову.
В местечке Сокал, в юго-восточном углу Люблинского района, был учрежден пост, который обеспечивал охрану коммуникаций русской армии, оперировавшей против турок. Начальник этого поста поручик Семен Веденяпин не был у Суворова на хорошем счету. Достаточно сказать, что Веденяпин перевелся в Польшу с турецкого театра военных действий, в то время как все лучшие офицеры стремились тогда к берегам Дуная. К тому же в местечке при Веденяпине было, по словам Суворова, «больше обид».
Прослышав о появлении конфедератов, Веденяпин 3 июня прибыл с командою, состоящей из семидесяти кавалеристов, в деревню Старые Соли и остановился у одного шляхтича, который дал ему подробные сведения о неприятеле. «В благодарность», как ехидно замечает Суворов, поручик забрал у гостеприимного хозяина жеребца и отправился дальше. На другой день отряд расположился в местечке Фрамполь. Никаких мер предосторожности Веденяпин не принял и прежде всего занялся экзекуциями: приказал выпороть за какую-то провинность казака, а затем под кнутом принялся допрашивать евреев.
Поручику скоро пришлось раскаяться в своей небрежности. Русский отряд был замечен конфедератами, которыми командовал ломжинский полковник Петр Новицкий. Польская дружина в составе трехсот всадников пробиралась по приказу Казимира Пулавского в Литву. Когда казачий пикет сообщил Веденяпину о неприятеле, поручик взял нескольких драгун и с ними поскакал навстречу Новицкому, не зная толком о численности его отряда. Подскакав к полякам на близкое расстояние, он оробел, приказал дать залп и помчался назад в местечко, преследуемый по пятам конфедератами.
Ворвавшиеся в селение поляки спешились, окружили русских и открыли губительный огонь. В результате трехчасового боя в команде Веденяпина погибло тридцать шесть человек, в том числе герой Орехова граф Кастели. Сам поручик приказал положить оружие и сдаться Новицкому. Молодой поручик Суздальского полка Лаптев и пятнадцать солдат сдаться отказались и, предпочитая смерть позору, ударили в штыки. Лаптев и восемь нижних чинов полегли на месте, остальные попали в плен.
Возмущению Суворова не было предела:
– Разбит в прах русской офицер с толь крупною командой! А почему? Токмо по его безумию, оплошности и неосторожности. Надлежит иметь всегда наиточнейшее разведывание! Малым партиям далее суточного марша с поста не ходить! Сделавши удар, на том месте ни минуты не останавливаться! Идти на свой пост назад, и лучше другой дорогой… Веденяпин с драгунами опешил. По своему расслабленному безумию он с семьюдесятью человеками не сумел разбить трехсот партизан польских! Всем внятно внушено, что на них можно нападать с силами в четыре и в пять раз меньшими, но с разумом и искусством!
Суворов повторил излюбленную свою мысль о решающем значении в бою атаки холодным оружием:
– Еще глупее, что Веденяпин, допустя себя окружить, отстреливаться начал скорострельно. Доселе во всех командах моей бригады едино только атаковали на палашах и штыках, а стреляли егеря. Веденяпин на храбрый прорыв не пошел…
Командир Люблинского отряда был недоволен своим положением и самим характером кампании. Вместо настоящего дела ему приходилось только оберегать коммуникации главной армии, громившей турок, препровождать курьеров да совершать молниеносные перелеты, гоняясь за мелкими партиями конфедератов.
Край был уже совершенно разорен войною, поборами с обеих сторон, где неизвестно даже было, кто приносил мирному населению более тягот – русские войска или польские дворяне-повстанцы. Слыша вокруг непрекращающиеся жалобы, Суворов повел борьбу с мародерами, главным образом из числа казаков. «Ежели впредь будут услышаны какие жалобы, – говорилось в его приказе, – то винные жестоко будут штрафованы шпицрутенами».
Рассеивая и уничтожая конфедератские партии, Суворов с необычною для той поры гуманностью обращался с пленными, требуя соблюдать в отношении к ним «порядок и человечество», кормить, «хотя бы то было сверх надлежащей порции», часто отпуская конфедератов под честное слово, а раненых передавая в монастыри.
– В бытность мою в Польше, – вспоминал он, – сердце мое никогда не затруднялось в добре и должность никогда не полагала тому преград…
Он с жадностью следил за турецким фронтом. Если 1769 год мог порадовать врагов России, то сменивший его 1770-й ознаменовался серией громовых, блистательных викторий, поразивших Европу. Ларга и Кагул, покорение Бендер и занятие крепостей по Дунаю, восстание греков и истребление турецкого флота в Чесменском заливе потрясли до основания весь государственный организм Оттоманской Порты. Помыслами своими генерал-майор был там, вместе с Румянцевым и Долгоруковым, горячо завидуя всем, кому удалось добиться перевода из Польши в главную армию. В августе он проводил на турецкий фронт проезжавшего через Люблин бригадира Кречетникова.
Рослый медлительный Михаил Никитич Кречетников едва поспевал за семенившим генералом. Впрочем, со стороны могло показаться, что генералом пристало быть, конечно, Михаилу Никитичу, дородному и щеголеватому, а не этому сухонькому и маленькому человеку, по случаю прохладного дня надевшему прямо поверх рубахи зеленый длиннополый, закрывающий икры сюртук, или сертук, с высоким стоячим воротником и круглыми красными обшлагами.
– Сколь вы счастливы, что направляетесь к Петру Александровичу Румянцеву! – отрывисто говорил Суворов. – Дела ваши будут видны, лишены невероятных хлопот. Способные случаи имеете отлично блистать!
– Вы доказали, ваше превосходительство, – слегка задыхаясь от непривычной скорой ходьбы, отвечал Кречетников, – что искусной командир и в Польше способен себя проявить.
– Какое там в Польше! – перебил его Суворов, все ускоряя шаг. – Коликая бы мне была милость, если бы выпустили в поле! Я такого освобождения не предвижу. Разве нечаянно благополучная будущая рапортиция сие учинить возможет.
Завидев, что бригадир хочет возразить, Суворов сердито добавил:
– Уповаю, верите, что я не притворствую паче… Я с горстию людей по-гайдамацкому принужден драться по лесам. А Древиц нерадиво, роскошно и великолепно в Кракове отправляет празднества. – Генерал нахмурился, отчего между глаз пролегла резкая морщина.
– Главнокомандующий наш в Польше довольно его выхваляет, – заметил Кречетников, едва сдерживая одышку.
– Не прилеплен он к России! – взорвался Суворов, начавший уже не идти, а бежать. – Купно и с нашим главнокомандующим! Ее императорское величество довольно имеет верноподданных, которые прежде Древица талантами прославились. А господин Веймарн таковым наемникам безмерно потакает!
– О сем генерал-порутчике, – Кречетников старался не отстать, – в Санкт-Петербурге знатную историю рассказывают.
Бригадир в душе давно уже с неприязнью относился к Веймарну, но был осторожен, пока оставался у него в подчинении. Теперь же он чувствовал себя независимо и рад был сообщить ходивший в придворных кругах анекдот.
– Поведай, батюшка Михаил Никитич! – Мучений Кречетникова Суворов не замечал и побежал еще быстрее.
– Извольте, ваше превосходительство… – Голос бригадира прерывался. Он отдувался и вытирал платком мокрое лицо. – Находясь в столице… генерал наш заметил, что из его спальни пропала шкатулка… с дорогими вещами и деньгами… Уф! Он заподозрил своего секретаря… ласково стал увещевать его: «Милый Гейдеман, признайся, тебе известно, кто украл ее». Тот клялся, что не способен на мошенничество… Уф! Тогда Веймарн трижды наказал его батогом, но признания не добился.
– Ай да Веймарн, храброй генерал! – не удержался Суворов, легко беря подъем в гору.
– В отчаянии секретарь на глазах у Веймарна распорол себе живот перочинным ножом… – продолжал вконец обессилевший Кречетников. – На другой день шкатулка нашлась в сарае… Вором оказался канцелярист… – Кречетников перевел дух и снова побежал за Суворовым. – Гейдеман послал жалобу императрице… но Веймарн заставил секретаря отказаться от жалобы… пообещав за это тысячу рублей… Но и тут словчил: отдал только шестьсот… Императрице же донесли… что генерал-порутчик вполне удовлетворил своего секретаря… за нанесенное ему оскорбление… Уф! – На бригадира жалко было смотреть: зеленый кафтан дымился на его полном теле.
– Тонкой Веймарн! – Суворов резко остановился. – Поступает в стыд России, лишившейся давно таких варварских времен. Здесь мне горькая мука. Даруй, Боже, нам скоро увидеться там, куда вы поехали!..
К неудовлетворенности своим положением и обязанностями прибавилась нежданная беда. В начале ноября Суворов стал получать тревожные известия о приближении к Сандомиру большого отряда графа Иосифа Миончинского. Самолично отправившись в поиск, генерал едва не утонул при переправе через Вислу и, вытащенный солдатами, так сильно ударился о понтон грудью, что «к живственным операциям» далее не годился и даже не мог сидеть на лошади. Он вернулся в капиталь, усилив пост капитана Дитмарна в Сандомире командою подпоручика Суздальского полка Арцыбашева.
15 ноября Миончинский с тремястами пехотинцами, почти полуторатысячным отрядом конницы и шестью пушками подошел к Сандомиру. Атака началась днем: после ружейной пальбы поляки бросились в направлении Краковских ворот, спеша ворваться в город через пролом в стене. Здесь их встретил и отразил прапорщик Климов. Главный удар конфедераты произвели с другой стороны, против Опатовских ворот, где действовали их отборные войска под командованием полковника Шица. Он нашел, однако, достойного противника в лице Арцыбашева: прицельный огонь из ружей и пушки заставил поляков отступить.
Двадцать один час продолжался штурм Сандомира. Гарнизон его, насчитывавший менее двухсот человек, раз за разом отражал настойчивые атаки. Сам Миончинский приезжал «на пароль» к воротам, уговаривая капитана Дитмарна уступить силе и сдаться. Потеряв множество убитых и раненых, поляки утром 16 ноября «все разом отступили». Через своего региментаря – командира полка Миончинский пригласил Дитмарна со свитою к себе. Желая отдать дань храбрости русских, граф дружески принял капитана, больше не упоминая о сдаче города. Эта встреча словно бы из рыцарских времен закончилась тем, что Дитмарн снабдил Миончинского провизией, так как поляки ничего не ели уже сутки.
Суворов по достоинству оценил оборону Сандомира, сказав, что «диспозиция его (Дитмарна. – О. М.) обороны может равняться с диспозициями славнейших полководцев».
Заканчивался тревожный 1770 год. Бой под Ореховом сделал Суворова генерал-майором; победы, одержанные в Люблинском районе, принесли ему орден Святой Анны (учрежденный в 1735 году в честь дочери Петра I). Орден этот стал у Суворова любимейшим: уже будучи знаменитым полководцем, он, отправляясь в бой, часто надевал только Аннинский крест.
Наступил 1771 год, с которым оказались связаны главные победы Суворова в Польше.
Дипломатические усилия французского двора и его первого министра герцога Шуазеля оказали немалое воздействие на характер русско-турецких и русско-польских отношений. Франция прибегла к прямой помощи Оттоманской Порты и конфедератам. В Константинополе лил туркам пушки посланец Шуазеля барон Франсуа де Тотт; в пределы Польши был послан с крупными суммами денег опытный офицер де Толес; в Эпериеш, в Венгрии, где собрался верховный совет конфедератов, явился от Шуазеля честолюбивый полковник Дюмурье.
Правда, вместо ожидаемых зрелых государственных и военных мужей он нашел в Эпериеше «вельмож с азиатскими нравами», которые предавались попойкам, карточным играм да волокитству. К тому же силы конфедератов в общей сложности не превышали пятнадцати-шестнадцати тысяч конницы под командованием десятка маршалков, постоянно враждовавших между собою. Для шляхтича, кичившегося своим происхождением, служить в пехоте издавна считалось унизительным, поэтому у конфедератов пехоты как таковой не было. Они щеголяли своими мундирами, оружием, лошадьми, восхваляли польское мужество, вспоминали Жолкевских и Ходкевичей, сравнивали своих маршалков с Александром Македонским и Юлием Цезарем, пировали, пели и плясали.
Чтобы привести шумных и заносчивых конфедератов к согласию, Дюмурье пришлось прибегнуть к услугам женщины – влиятельнейшей графини Мнишек. Он выписал французских офицеров всех родов войск, приступил к организации пехоты из австрийских и прусских дезертиров, предложил вооружить двадцать пять тысяч крестьян, на что, однако, шляхтичи не решились. Давал себя знать резко выраженный классовый, дворянский характер всего конфедератского движения.
К началу 1771 года Дюмурье надеялся собрать шестидесятитысячное войско. План его, столь же остроумный, сколь и авантюрный, заключался в том, чтобы «поджечь Польшу» сразу с нескольких сторон, захватив русских врасплох. Двадцатитрехлетний маршалок великопольский Заремба и маршалок вышеградский Савва Цалинский с десятитысячным отрядом должны были наступать в направлении Варшавы. Казимиру Пулавскому вменялось угрожать русским магазинам в Подолии. Великого гетмана Литовского князя Михаила Казимира Огинского, неудачного претендента на польский престол, просили двинуться с восемью тысячами регулярных войск к Смоленску. Сам же Дюмурье, имея двадцать тысяч пехоты и восемь тысяч конницы, собирался захватить Краков, а оттуда идти на Сандомир, развивая наступление (в зависимости от того, где конфедераты добьются большего успеха) на Варшаву или Подолию. При втором варианте тылы Румянцева оказывались под прямой угрозой и он был бы принужден очистить Молдавию.
Конфедераты приняли план 31 марта 1771 года. Химеричность его заключалась, прежде всего в том, что Дюмурье переоценил возможности польского дворянства; другою и не менее важною причиной невыполнимости плана было то, что французский эмиссар совершенно неожиданно встретил сильного противника. «При крайне трудных условиях своей деятельности, – пишет русский историк Д. Масловский, – Дюмурье нарвался на великого мастера своего дела, тоже открывшего новые пути в партизанской войне, – и в первом столкновении разумные, по существу, меры Дюмурье разбились вдребезги о гениальные распоряжения Суворова, о его образцово составленный и идеально выполненный план обороны люблинского участка».
Из Люблина Суворов внимательно следил за первыми шагами Дюмурье, хотя и не предполагал размаха готовящейся операции. Прослышав о появлении в окрестностях Сандомира генерала Миончинского, он выступил с «легким деташаментом» в начале февраля и в двух стычках рассеял конфедератов. Остатки партии бежали в горы, к старинному местечку Ландскрона, укрепленному замком, палисадником и рогатками. Суворов сразу понял значение этого опорного пункта для Дюмурье и вознамерился захватить его.
Гарнизон Ландскроны состоял из трехсот человек; у Суворова было около восьмисот – из них в штурме участвовало менее половины. 9 февраля в час пополудни пехота перелезла через наружные укрепления местечка, расположенного на скате холма, выгнала конфедератскую конницу и устремилась к замку. Разрубив и разбросав окружные рогатки, егеря овладели двумя пушками. Передовая команда гренадер уже пробила ворота и кинулась на последнюю пушку, когда был тяжело ранен картечью шедший во главе гренадер прапорщик Суздальского полка Подлатчиков; в то же время смертельное ранение получил начальник первой колонны храбрый Дитмарн, а поручику Арцыбашеву пуля пробила левую руку. Колонна отступила.
Суворов, по-видимости, не ожидал столь яростного сопротивления, привыкнув до сих пор легко одолевать польских партизан. Защитники Ландскроны вели непрерывный огонь, поражая наших солдат и офицеров. Надвинулась вторая колонна, но командир ее, поручик Сахаров, получил тяжелую рану, а Николаю Суворову пуля попала в правую руку. Подоспел резерв – его начальник, поручик Суздальского полка Мордвинов, тотчас был ранен. Сам Суворов пострадал от пули, лошадь под ним пала, почти все офицеры вышли из строя. Пришлось вновь отступить.
Возвращаясь к своей неудаче в Ландскроне, самолюбивый Суворов поначалу обвинял во всем суздальцев, «кои ныне совсем не те, как при мне были». Однако, поразмыслив, он понял, что каменную крепость открытым штурмом, без предварительной подготовки не возьмешь. Ему пришлось признать, что русским солдатам не хватало еще опыта.
У Ландскроны генерал-майор получил тревожное известие о намерении соединенной партии Пулавского и Цалинского захватить Люблин, где оставался Штакельберг. Суворов настиг Цалинского ночью 18 февраля, расположившегося в местечке Рахов с четырьмястами драгунами, лучшими кавалеристами в рядах конфедератов. Русская конница, опередившая пехоту, сорвала польский пикет и быстро заняла местечко. Поляки засели в избах и сараях; подоспевшие суздальцы вступили в бой с обороняющимися. Суворов, оставшийся по случайности один, оказался перед корчмою, где заперлось полсотни драгун. Ему удалось уже уговорить их сдаться, как несколько казаков, проезжавших мимо, открыли по ним огонь из пистолетов. Поляки ответили выстрелами. Генерал пригрозил сжечь корчму – драгуны сдались.
Всего взято было около ста пленных и весь конфедератский обоз. Савве Цалинскому удалось уйти, но 13 апреля он был захвачен в плен премьер-майором Салеманом. Тяжело раненный в схватке, он скончался тридцати одного года от роду на руках у своей матери, сопровождавшей его во всех походах. Гибель Саввы тяжело отозвалась на всем конфедератском деле, так как шляхта потеряла энергичного и боевого руководителя.
В то время как Суворов разоружал в Рахове драгун Саввы, Казимир Пулавский безуспешно штурмовал русский пост в Краснике. После девятичасового боя команда во главе с капитаном Суздальского полка Панкратьевым и поручиком Железновым отогнала пулавцев с большими для них потерями. Суворов, посадив пехоту на коней, поспешил на помощь Панкратьеву, но тот уже сам справился с противником, несмотря на его десятикратный перевес. Разгрому конфедератов у Рахова и Красника генерал-майор придавал большое значение, сообщая Веймарну: «Намерение их было одно из наиопаснейших – сорвать Красник, потом Пулаву, впасть в Люблин и потом в Литву».
Храбрость и решительность, проявленные суздальцами в двух последних боевых эпизодах, вернули им уважение Суворова. Как он отмечал, «пехота поступала с великою субординацией), и за то я с нею помирился».
В Люблинском районе, как и во всей Польше, наступило затишье. Но то было затишье перед бурей. Ночью 18 апреля, внезапно атакованные крупными силами к югу от Кракова, русские были отброшены за Вислу. Дюмурье занял Краков, не овладев лишь замком, и тотчас приступил к образованию опорных пунктов в городских окрестностях. Однако первый же успех вскружил головы конфедератам; возобновились раздоры, попойки, к которым прибавились грабежи местного населения. В этот момент, делая стремительные, по сорок верст в сутки переходы, у Кракова появился Суворов. Он присоединил к себе двухтысячный отряд Древица, собрав всего около трех с половиной тысяч пехоты, драгун, карабинеров и казаков.
Спокойно ужинавший в Заторе Дюмурье был застигнут врасплох. Пока французский полковник, спешно собирая войска, скакал навстречу Суворову через деревни, где безмятежно спали конфедераты, русские обложили укрепленный и превращенный в крепость монастырь Тынец. Несмотря на сильный огонь пехоты, набранной из австрийских дезертиров, казанцы во главе с подполковником Эбшельвицем ворвались в редут и захватили два орудия. Развить успех Суворову, однако, не удалось. Уже был сделан выстрел по монастырю из единорога, как со стороны Ландскроны показался Дюмурье. Русские обратили польскую конницу в бегство и двинулись за конфедератами. Суворов решил покончить с отрядом Дюмурье одним ударом.
В седьмом часу утра 10 мая русский генерал с казачьим авангардом уже был у Ландскроны. На противоположной высоте, за глубокою лощиной, выстроилось четырехтысячное войско Дюмурье. В последний момент Казимир Пулавский со своей конницей отказался присоединиться к нему, заявив, что не намерен подчиняться иностранцу и будет воевать самостоятельно.
Дюмурье сразу же учел выгоды своей позиции: конфедераты расположились на крутом гребне, причем левый фланг, занимаемый маршалком краковским Валевским, был надежно защищен тридцатью дальнобойными пушками Ландскроны, а центр и правый фланг, составленные из кавалеристов маршалка пинского Оржешко и князя-Каэтана Сапеги, – обрывистым скатом, где в двух еловых рощах укрылись французские егеря.
Окинув взглядом позиции конфедератов, Суворов принял решение, неожиданное для всех, и прежде всего для Дюмурье. Прекрасно зная польских шляхтичей, их пылкость, отвагу и неустойчивость (мгновенную смену храбрости отчаянием), он решил нанести дерзкий удар казачьей лавой, неопасный при дисциплине регулярных войск, но способный навести панику в рядах конфедератов.
Однако то, что понимал Суворов, не уяснил себе французский предводитель. Когда он с изумлением увидел, как две сотни бородатых всадников в высоких черных шапках с выпуклым красным верхом, зеленых и красных кафтанах, с пиками наперевес и шашками наголо, что-то нестройно крича, кинулись вниз, с занятой русскими возвышенности, то испугался одного – как бы Суворов не отменил атаку. Дюмурье приказал своим егерям пропустить русскую конницу, а затем объявил полякам, что победа в их руках: лишь только казаки появятся на гребне, им будет нанесен удар раньше, чем они успеют перестроиться. Поляки шумно приветствовали план своего командующего.
Расчет Дюмурье оказался неверным. Взобравшись на высоты, казаки тотчас же сомкнулись в лаву и понеслись на центр и правый фланг конфедератов. За ними на гребень уже поднялась тяжелая конница Древица. Пехота выбила из центральной рощи французских егерей. Литовцы Оржешко и драгуны Сапеги стали отступать. Напрасно останавливал их Дюмурье, а Сапега ударами сабли пытался повернуть отступающих против неприятеля. Польский фронт повсюду был сломлен. Генерал Миончинский, раненный, упал с коня и попал в плен; храброго Оржешко закололи пикой; Каэтана Сапегу убили собственные обезумевшие солдаты. Лишь отряд Валевского да французы Дюмурье отступили, сохраняя порядок.
В Ландскронском сражении, продолжавшемся всего полчаса, был нанесен смертельный удар всей конфедерации. Поляки потеряли около пятисот убитыми, в плен попало два маршалка, но что самое важное – разочарованный Дюмурье выбыл из игры. Как иронически заметил Суворов, он «откланялся по-французскому и сделал антрешат в Бялу, на границу». С разгромом подвижного отряда Дюмурье поляки вынуждены были вернуться к чисто партизанским действиям.
Правда, оставался еще Казимир Пулавский, устремившийся в Литву. Суворов нагнал старосту жезуленицкого юго-восточнее Люблина, у крепости Замостье, рано утром 22 мая. Пулавский пытался захватить крепость с ходу, но вошел лишь в форштадт. Не давая противнику опомниться, русский генерал направил туда пехотную колонну с егерями, чтобы расчистить путь кавалерии. Конфедераты подожгли предместье, но пехота уже открыла дорогу карабинерам, которые врубились в левое крыло поляков. Пулавский начал отступать через болото по длинному мосту, разрушив его за собой. Замешкавшись при починке моста, русские энергично его преследовали. Суворов понимал, что, отступая к Люблину, Пулавский попадет в сети русских постов, и отжимал польский арьергард все дальше к северо-западу, пока в короткой схватке не разгромил его.
Генерал-майор приказал привести пленного командира арьергарда. Толстый, с выпученными глазами и уныло опущенными длинными усами ротмистр в красном кафтане, синих штанах и с серебряной портупеей с опаскою глядел на знаменитого генерала. Тот выглядел так странно, словно не состоял в регулярстве, а предводительствовал вольной гайдамацкою дружиной. На лесной полянке прямо на траву была брошена солдатская васильковая епанча, устроившись на которой Суворов быстро черпал деревянной ложкой из котелка горячую кашу. Он был в нательной рубахе, холщовых штанах, босиком.
– Пан разумеет по-французски? – отдав котелок лысеющему рыжеватому денщику, осведомился на скверном польском языке необыкновенный генерал.
– Пан – шляхтич! – с гордостью, которая не вязалась с его расстроенной физиономией, ответил ротмистр. – А для шляхетства французский язык что польский…
– Далеко ли господин маршалок Пулавский? – вскинул Суворов на пленного голубые проницательные глаза.
Ротмистр запыхтел, покрутил головой, буркнув: «Мы свое дело сделали…», и вдруг решительно сказал:
– Очень далеко – под стенами Ландскроны! Суворов вскочил.
– Пока мы отступали к Люблину, он с главными силами обошел войско ясновельможного пана, вывел отряд в тыл русским, на прежнюю дорогу, и ушел за Краков. – Ротмистр замолчал, поглядывая на Суворова.
– Ай да Пулавский… – с расстановкой проговорил, Суворов. – Ай да хитрец… – Досада, сожаление, восхищение сменились на его подвижном, морщинистом лице. – Молодец! Браво, Пулавский! – Генерал уже хлопал в ладоши. – Обманул меня, и как ловко. – Он обернулся к штабной палатке: – Поручик Борисов!.. Выдай, братец, господину ротмистру пропуск до Ландскроны да распорядись привести ему из нашей добычи самого доброго коня…
Ротмистр еще ничего не понимал и только пучил глаза.
– Ефим! – кричал уже генерал денщику, нетерпеливо притопывая ногой. – Неси-ка сюда мою табакерку фарфоровую!.. Вот, господин ротмистр, передашь ее в собственные руки маршалку Пулавскому… Она у меня любимая… Ну да его искусство большего стоит.
Когда ротмистр выезжал из русского лагеря, кончики его усов как-то сами собой поднялись и теперь лихо топорщились. Впрочем, вполне возможно, что он незаметно подкрутил усы, садясь на лошадь.
После полного крушения планов Дюмурье конфедераты могли рассчитывать только на литовского великого гетмана Огинского. Талантливый композитор, музыкант, писатель, инженер, Огинский не обладал только одним даром: военачальника, полководца. Как гетман, то есть главнокомандующий вооруженными силами, он пользовался огромным влиянием, имел свое собственное войско. Огинский долго колебался. Он не начал боевых действий даже тогда, когда это было всего опаснее для русских, – одновременно с Дюмурье. С трех-четырех тысячным войском гетман выжидал благоприятного стечения обстоятельств. Назначенный в 1771 году русским послом в Варшаве Каспар Салдерн и генерал-поручик Веймарн с тревогою следили за его действиями; для контроля над ним был отряжен батальон под командованием полковника Албычева.
Между тем Верховный совет конфедерации поручил подлясскому маршалку Коссаковскому пройти в Литву и побудить гетмана к открытому вооруженному выступлению. Рейд его ускорил развитие событий. Всюду, где проходил Коссаковский, начиналось глухое брожение: казалось, на северо-востоке Польши назревает гроза.
Станислав Понятовский и Салдерн всячески старались удержать Огинского от выступления, однако подстрекательская политика Версаля, сильный нажим сторонников конфедерации, а также требование русских дать в категорической форме ответ, «за или против кого он содержит войска», побудили наконец Огинского сделать выбор. В ночь на 30 августа он предательски напал на батальон Албычева; сам полковник погиб, а его солдаты были захвачены в плен. Направившись в Пинск, Огинский издал манифест о своем присоединении к конфедерации.
К гетману потянулись мелкие отряды повстанцев; он звал к себе Коссаковского и ожидал подхода войск из Курляндии. Русские, находившиеся поблизости, не решались нападать на него и только наблюдали. В Варшаве началась паника. Салдерн совместно с Веймарном срочно составили подробный план военных действий. По этому плану главная роль отводилась Древицу, который должен был собрать в Новом Минске сильный отряд. Суворову оставалось пассивно наблюдать за происходящим. Оттеснить его на второй план, однако, было не так-то просто. Когда Веймарн послал ему свой ордер, инициативный генерал находился уже в пути, направляясь через Коцк, Бялу, Брест навстречу Огинскому.
Ночью 12 сентября, после нескольких быстрых переходов, Суворов получил сведения о том, что сильное трех-четырех тысячное войско гетмана расположилось в местечке Столовичи, лежащем примерно на полпути между Брестом и Минском. Генерал-майор тотчас же отдал приказ своему небольшому отряду, насчитывавшему восемьсот двадцать два солдата, готовиться к атаке.
В полной тишине приближались русские к Столовичам. Тучи, покрывавшие небо, усиливали темноту. Войска шли на огонь, мерцавший в монастырской башне. Великий гетман литовский сибаритствовал с француженкою.
Близ местечка русские разъезды захватили польский пикет из четырех улан, которые послужили проводниками. Между двумя и тремя утра Суворов подошел к Столовичам и построил отряд в две линии. В первой была пехота, правым флангом которой командовал премьер-майор Фергин, а левым, где стояли суздальцы, – секунд-майор Киселев. Орудия и прикрывавшая их резервная рота составляли центр; здесь начальствовал капитан Нашебургского полка Исаак Ганнибал, сын знаменитого петровского сподвижника. Вторую линию образовала кавалерия во главе с премьер-майором Рылеевым. Фланги прикрывали казаки.
Наступление началось до рассвета «со спины» местечка и долгое время развивалось столь бесшумно, что противник ничего не подозревал. Однако у предместья русским внезапно преградила путь обширная болотистая низина, преодолеть которую можно было лишь по узкой и длинной, в две сотни шагов, плотине. Свернув свой отряд в колонну, Киселев вступил на плотину и тут был замечен одним из часовых. Поднялась тревога. Поляки стали поспешно выскакивать из домов, затрещали выстрелы. Огонь конфедератов не мог причинить особого вреда: было еще темно, и едва начинала мерцать утренняя заря.
В ответ загрохотали орудия и выстрелы егерей, но все это покрыло могучее русское «ура», с которым суздальцы двинулись на местечко. Ужас поразил конфедератов. Одни стреляли наугад из окон, другие пытались сопротивляться на улицах, однако суздальцы под командою Киселева и капитана Шипулина шли стеною, очищая себе путь штыками. По этому коридору за ними двинулась кавалерия Рылеева. В это время, перейдя плотину, с другой стороны в местечко вошла колонна премьер-майора Фергина.
Сам Огинский едва спасся, вскочив на коня и ускакав в поле. Он пытался собрать расстроенное войско, блуждавшее в темноте, потерявшее командира и оружие, но не смог выстроить даже роты. Двести его телохранителей-янычар остались в местечке и были переколоты суздальскими гренадерами, которыми командовали поручики Борисов и Маслов.
В хаосе, среди беготни и криков было уже трудно отличить своих от чужих. Прибыв в Столовичи на заре, Суворов окликнул солдата, пробирающегося в дом, приняв его за грабителя. Тот ответил по-польски, выстрелил в генерала из ружья, но промахнулся. Это был один из гвардейцев Огинского.
К утру Столовичи были во власти русских. Однако сражение на этом не закончилось: часть войск Огинского размещалась на ночлег вне местечка, на окрестных высотах. Теперь три сотни пехотинцев выстроились в поле; к ним присоединилось до пятисот кавалеристов, бежавших из Столовичей. Стало уже светло – «белый день». Важно было не дать противнику опомниться, и Суворов бросил в атаку после недолгого обстрела поляков оставшиеся у него под рукой семь десятков кирасир и карабинеров под командованием храброго Рылеева. Тот кинулся на конных конфедератов с такой энергией и решительностью, что обратил их в бегство. Одновременно майор Киселев сломил и опрокинул литовскую пехоту.
Казалось, одержана окончательная победа, но неожиданно отряд Рылеева, преследуя противника, наскочил на подоспевшие два полка улан численностью до тысячи сабель под командованием воинственного конфедератского генерала Беляка. Три эскадрона Рылеева вмиг были отрезаны и окружены. Только ценой величайших усилий с помощью казаков Рылееву удалось прорубиться через строй неприятеля.
К одиннадцати пополудни все было кончено. Огинский бежал в Кролевец-Кенигсберг; его казна, имущество и гетманская булава – все досталось русским. Поляки потеряли более четырехсот убитыми и трехсот пленными. У русских погибло лишь восемь нижних чинов, ранено три офицера и тридцать пять солдат. Победа была неправдоподобной: восемьсот суворовских воинов разгромили трехтысячное войско. Под впечатлением случившегося Суворов писал Кречетникову: «Простительно, если вы, по первому слуху сему, сомневаться будете, ибо я и сам сомневаюсь; только правда». Сомневался поначалу и Веймарн, глубоко уязвленный самовольством Суворова. Огинский жаловался, что его разбили «не по правилам». Историкам же действия русского полководца кажутся безупречными. Объясняя свою уверенность в исходе столь дерзкого предприятия, он говорил: «Я имел храбрых офицеров, привыкших часто сражаться вблизи». Как и во многих других боях с конфедератами, на главных участках здесь стояли суздальцы, приученные к штыковому бою.
Столовичская битва сделала Суворова известным в Европе. Сам Фридрих II обратил на него внимание и рекомендовал полякам его остерегаться. Конфедератское движение шло на убыль. Веймарн пытался лишить лавров Суворова: мелочно выговаривал ему в письмах, старался очернить перед Военной коллегией. Но замолчать победу не представлялось возможным. Всего несколько месяцев назад, 19 августа 1771 года, генерал-майор был награжден орденом Георгия 3-й степени. 20 декабря последовал новый указ. За «совершенное разбитие литовского гетмана графа Огинского» Суворов получил орден Святого Александра Невского.
Не менее важными для него были и перемены, происшедшие в руководстве русскими войсками в Польше: на место Веймарна заступил участник Семилетней войны и автор «Инструкции полковничьей пехотного полку» Алексей Ильич Бибиков. Между ними сразу же установилась стойкая приязнь. Бибиков полагался на богатый опыт Суворова и, давая указание, как распределить войска, писал: «Оставляя, впрочем, вашему превосходительству на волю, как располагать и разделять войска, как за благо вы по известному мне вашему искусству и знанию земли и наконец усердию к службе рассудить изволите».
Конец 1771 года в Люблинском районе выдался спокойный; только под Краковом происходили время от времени вспышки. По приказанию Бибикова туда были направлены суздальцы во главе со Штакельбергом, ничего общего не имевшим с Суворовым, кроме личной храбрости. Служба в Краковском замке отправлялась крайне небрежно, и за несением ее Штакельберг не установил никакого надзора. Этим воспользовались конфедераты, еще в сентябре 1771 года получившие взамен Дюмурье французского генерала барона де Виомениля.
Памятуя о судьбе своего предшественника, Виомениль не задавался какими-то грандиозными планами и лишь стремился возможно долее поддержать агонизировавшее уже конфедератское движение. «В отчаянном положении, в котором находится конфедерация, – считал он, – потребен блистательный подвиг для того, чтобы снова поддержать ее и вдохнуть в нее мужество». В конце 1771 года такую попытку по поручению Казимира Пулавского предприняли несколько дерзких шляхтичей, выкравших из Варшавы польского короля. Однако один из заговорщиков в последний момент переметнулся на сторону монарха и помог Понятовскому вернуться в столицу.
Де Виомениль решился на другую отчаянную демонстрацию – захват Краковского замка. Конфедераты, осведомленные о беспечности коменданта и плохой караульной службе, воспользовались к тому же помощью красавицы польки, которой был очарован Штакельберг. Утверждают, будто он велел снять часового с важного поста, когда эта дама пожаловалась ему, что ночной оклик солдата мешает ей спать. В ночь на 22 января 1772 года из конфедератской крепости Тынец вышло шестьсот человек под началом французского бригадира Шуази. В это время в Кракове шел костюмированный бал.
Конфедераты сели в лодки и с помощью шестов переправились через Вислу. Перед этим выпал глубокий снег, и поляки, надевшие поверх мундиров белые одежды ксендзов, смогли беспрепятственно отыскать отверстия под стенами, где местные жители заблаговременно выломали решетки. Сам Шуази, разделивши отряд на три части, не смог пробраться, как было условлено ранее, через трубу для стока нечистот: она оказалась заложенной камнем. Выбравшись из грязного прохода, бригадир отступил к Тынцу, оставив на произвол судьбы остальных людей. Удача, однако, сопутствовала племяннику генерала де Виомениля Антуану и французскому капитану Салиньяку. Им удалось проползти по скважинам внутрь замка, после чего конфедераты кинулись на часовых при воротах, а затем захватили и главный караул и завалили изнутри ворота замка, оставив свободной лишь фортку – низкую калитку.
Штакельберг был на балу, когда раздались выстрелы в крепости. Несколько поляков вбежали в залу и потребовали, чтобы полковник сдал шпагу. Он едва успел спастись, собрал находившиеся в городе отряды и ринулся к замку.
Суздальцы-гренадеры пытались ворваться в цитадель и взломать ворота, но, поражаемые с башен и из окон, откатились. Через полчаса, раздав необходимый инструмент, секунд-майор Сомов подступил вторично к воротам, а капитан Арцыбашев бросился на вал к фортке. Однако сам Сомов был вскорости тяжело ранен в левое плечо, а Арцыбашев – в руку. В эту злополучную ночь суздальцы потеряли ранеными и убитыми сорок одного человека и около шестидесяти пленными. Такова была расплата за формальное отношение к службе.
Утром 24 января в Краков прибыл Суворов, а с ним небольшой русский отряд и пять кавалерийских польских полков графа Ксаверия Браницкого. Уязвленный случившимся с его суздальцами, генерал выговорил им все, что передумал за время скорого перехода из Люблина в Краков.
– Нужное солдату полезно, а излишняя роскошь – мать своевольства! – Суворов подбежал к ожидавшим его на городской площади офицерам. Рядом с высоченным Штакельбергом он заметил капитана Шипулина. – Неужели и ты, Андрей, стал пить кофий на панских дворах да играть с поляками в таблеи?
Шипулин молчал, не поднимая глаз.
Колким взглядом Суворов зацепил в задних рядах офицера в польской шапке.
– Вот те на! – пропел он тонким голосом. – Уж вам и государева шляпа лоб жмет! Может, и кафтан под мышками тесен?
Суздальцы стояли, понурив головы. Суворов еще долго выставлял им на вид дурные их внутренние порядки – успокоение на обывательских квартирах и забвение службы.
– Есть кошелек? Кофий у пана готов? А боле вам ни до чего дела нет! – Он остывал медленно, отводя душу, внутренне чувствуя, что и сам повинен в случившемся. Ведь докладывал же ему Штакельберг о тревожном оживлении у Тынца, на австрийской границе? И разве не о том же говорил ему в Люблине польский подрядчик? – Господа офицеры могут итить, – сказал Суворов тише.
– А вы, ваше высокоблагородие, останьтесь.
Некоторое время он молчал, глядя снизу на рослого белобрысого Штакельберга.
– Избаловал вас, ваше высокоблагородие, господин Веймарн, – с усилием проговорил Суворов, – а ксендзы и бабы, – он возвысил голос, – повредили вам голову. Сделали чересчур добрым! – Генерал указал на толпившихся неподалеку офицеров: – Чего же мне с них спрашивать? Каков поп, таков и приход! Нет, ваше высокоблагородие, исправляйте провинность вашу, а потом – под суд!
Штакельберг налился краской.
– А сейчас извольте следовать за мною. Осмотрим замок, захваченный благодаря беспечности вашей.
Краковский замок был расположен на высоте, господствующей над городом. У подошвы холма текла Висла. За крепкою, в тридцать футов вышины и семь футов толщины, стеною виднелись шпили кафедрального собора и гребень полуразрушенного королевского дворца. Штурмовать замок без осадных орудий не представлялось возможным. Суворов приказал втащить несколько полевых пушек на верхние этажи наиболее высоких в городе домов и оттуда вести стрельбу. Военный инженер начал подводить к крепости две минные галереи.
Гарнизону осталось надеяться на помощь извне да на удачные вылазки. 2 февраля осажденные внезапно напали на два поста. Первый с успехом отразил вылазку. Зато командовавший вторым капитан Суздальского полка Лихарев, занимавший с шестью десятками мушкетеров каменный дом в форштадте Рыбаки, еще до приближения неприятеля пришел в позорную и предосудительную робость. Сделав несколько выстрелов по конфедератам, он сказал солдатам, чтобы всякий спасал свою жизнь сам, и оставил пост. Рота, оказавшись без командира, в беспорядке бежала. К тому же полякам удалось зажечь предместье.
Это было около полудня, когда Суворов проснулся, разбуженный перестрелками и криками. Он вскочил на лошадь и помчался на выстрелы. Встретив бегущих, генерал остановил их и повел в штыки. Подоспела и мушкетерская рота суздальцев под командованием капитана Мячкова и поручика Парфентьева. Неприятель ретировался.
По словам перебежчиков, положение конфедератов в замке все ухудшалось и порядок поддерживался лишь французами. Однако, осаждая крепость, Суворов сам находился в осаде: вокруг бродили повстанцы; ожидалось, что Пулавский выставит полуторатысячный отряд, а де Виомениль подойдет из Тынца с тысячью солдат. Все это побудило Суворова немедленно захватить крепость.
Для предстоящего штурма он разделил войска на четыре колонны. Главная, под командованием подполковника Гейсмана, должна была взорвать петардами ворота, проникнуть на колокольню и завладеть пушками. Колонны подполковников Елагина и Эбшельвица были вспомогательными: первой надлежало идти на приступ со стороны Зверинца, к малой фортке, а второй – с городской стены по штурмовым лестницам. В резерве оставался секунд-майор Гагрин.
В три пополуночи 18 февраля, поддерживаемые сильным артиллерийским и ружейным огнем, русские двинулись на приступ. Вскоре колонна Гейсмана появилась перед главными воротами, заложенными изнутри бревнами и засыпанными землей. Подложенная под ворота петарда взорвалась, но образовавшееся отверстие было недостаточно для прохода. Расширить же его не давали осажденные. Капитан Шипулин с частью суздальцев пытался ворваться в среднюю башню. Подполковник Елагин столь храбро штурмовал фортку, что пробил две двери, и несколько суздальских гренадер уже вошли в замок. Однако поляки отстояли прорубки, поражая огнем и штыком каждого, кто показывался в них.
Суворов приказал принести штурмовые лестницы. С чрезвычайной неустрашимостью колонна Эбшельвица двинулась на приступ. Солдаты лезли прямо в амбразуры, где стояли пушки. Одним из первых по лестнице, приставленной к валу, взобрался поручик Николай Суворов. Однако пули, камни и сабельные удары спешенных кавалеристов Шуази не давали возможности русским утвердиться на стене. После двухчасового штурма были выведены из строя многие офицеры, начиная с подполковников Эбшельвица и Гейсмана, получившего смертельную рану. Шипулина вынесли с простреленной ногой. Потери достигли ста пятидесяти человек.
В шестом часу утра Суворов приказал бить отбой. Ландскрона и Краков выявили малоподготовленность русской армии к осадным работам. Как писал генерал-майор Бибикову, «неудачное наше штурмование доказало, правда, весьма храбрость, но купно в тех работах и неискусство наше». Теперь оставалось усилить блокаду замка и ожидать прибытия орудий большого калибра. Осажденные терпели уже настоящий голод, ели ворон, конину и помышляли о сдаче. Все попытки Казимира Пулавского и подлясского маршалка Симона Коссаковского помочь им потерпели неудачу. Понимая значение капитуляции Краковского замка, а с нею – гибель последних надежд конфедератов, Суворов сам предложил гарнизону сдаться на чрезвычайно почетных условиях.
8 апреля в лагерь был приведен парламентер с завязанными глазами. Суворов принял французского бригадира Галиберта ласково, посадил рядом с собой и продиктовал главные пункты капитуляции. Назавтра Галиберт явился снова, был угощен хорошим завтраком, но, когда разговор перешел на капитуляцию, стал выдвигать свои условия. В ответ Суворов тут же объявил требования более суровые, чем прежде. Он предупредил, что, если француз явится на другой день снова без полномочий на сдачу, условия будут еще строже.
Поняв свою ошибку, Шуази поспешил со всем согласиться. По двенадцати пунктам подписанного им соглашения осажденные сохраняли свое личное имущество, французы объявлялись не военнопленными, но просто пленными, а лицам гражданским предоставлялась свобода. Больные и раненые получали немедленную медицинскую помощь.
Ночь перед сдачей русские провели под ружьем. Рано утром 15 апреля польский гарнизон стал выступать из замка по частям в сто человек. Суворов ожидал капитуляции на площади, в окружении своих офицеров. Когда Шуази в изысканном поклоне подал ему шпагу, генерал вернул ее, прибавив, что не может лишать шпаги столь храброго человека.
– Вы служите французскому королю. А он состоит в союзе с моей монархиней, – сказал Суворов, обнял и поцеловал бригадира.
Шпаги были возвращены и остальным офицерам-французам. Всех их генерал-майор пригласил на дружеский завтрак. Пленных конфедератов велено было содержать «весьма ласково».
Затем Суворов потребовал к себе провинившегося капитана Лихарева.
– Следовало бы тебя, братец, отдать под суд, – встретил он офицера. – Но так как дурного умысла у тебя не было, ты молод, в делах редко бывал, на первый случай считай, что прощен!
Гневливый, но отходчивый русский полководец не мог долго помнить зло, особенно если дело касалось боевых офицеров. Он помиловал Лихарева и теперь просил за Штакельберга. Вечером в день сдачи Краковского замка он писал в Варшаву Бибикову: «С сим происшествием ваше превосходительство нижайше поздравляю с радостными моими слезами. Простите, батюшка, бедного старика Штакельберга».
С падением замка в Кракове русским войскам оставалось занять лишь последние опорные пункты конфедератов – Тынец, Ландскрону и Ченстохов, но и этого не пришлось делать, так как Австрия и Пруссия, страшившиеся полного подчинения Россией Речи Посполитой, осуществили вооруженное вмешательство в польские дела. Вена и Берлин воспользовались тем, что Россия вела войну с турками. От нее требовали мира и отказа от Молдавии и Валахии, освобожденных русским оружием, а в вознаграждение предлагали взять часть польских земель. В то же время Австрия двинула войска в пределы Краковского воеводства. Невзирая на протесты, австрийцы прорвали русские кордоны и захватили Тынец. В северную часть Польши вошли двадцать тысяч пруссаков.
Суворов страдал от возложенной на него Бибиковым миссии – не допускать в глубь Польши австрийцев и соблюдать при этом по отношению к ним полное дружелюбие. Ему приходилось ловчить, лавировать, отстаивая русские интересы. С горьким простодушием жаловался он Бибикову: «Я человек добрый, отпору дать не умею… Простите мне, пора бы мне на покой в Люблин. Честный человек – со Стретеньева дня не разувался: что у тебя, батюшка, стал за политик? Пожалуй, пришли другого; черт с ними сговорит».
В сентябре 1772 года Австрия, Пруссия и Россия договорились о разделе Польши. По договору Екатерина ввела в восточные польские области два новых русских корпуса. Один из них, под командованием И. К. Эльмпта, расположился в Литве. В этот корпус и был переведен Суворов, получивший наконец после непрерывных трехлетних походов месячный отдых в Вильно. Здесь Суворов посещал вечера и балы.
Он чувствовал себя всякий раз неловко, когда, отдав у входа плащ и шляпу, оказывался среди нарядных кавалеров и дам. Зеркало в бронзовой круглой раме отразило маленькую сутуловатую фигурку, обветренное лицо с резко обозначенной продольной морщиной между глаз.
– Красив! Красив! Воистину Нарцисс! – пробормотал Суворов, подняв брови и сердито поблескивая выцветшими голубыми глазами.
Отвернувшись, он пробежал мимо зеркала в залу. Генерал не любил собственной внешности и потому терпеть не мог зеркал.
Почти равнодушный к женщинам, он не чуждался их общества вовсе, зачастую бывал с ними говорлив, остроумен, даже блестящ. Он увлекся беседою с маленькой, курносой и шустрой паненкой, которой было приятно внимание самого Суворова. Смеясь его быстрой французской речи, она делала вид, будто не верит в русское происхождение знаменитого генерала.
– Запевне пан генерал есть поляк? – улыбаясь, допытывалась она.
– Нет, нет, – поддерживал игру Суворов.
– Конечно, курляндчик! – не унималась бойкая пани.
– Я не курляндец.
– Так пршинаймный малороссиаюнчик? То една кровь.
– Опять не угадали. Я москаль, русской, – говорил Суворов.
После бала, вернувшись под утро к себе, он писал своему бывшему начальнику и по-прежнему другу Бибикову о польских женщинах: «Это оне управляют здешним государством, как всюду и везде. Я не чувствовал себя достаточно твердым, чтобы защищаться от их прелестей…»
В Литве Суворов оставался недолго. «Вот теперь я совершенно спокоен, – сообщал он Бибикову из Вильны, получив в октябре приказ направиться к шведской границе. – Следую судьбе моей, которая приближает меня к моему отечеству и выводит из страны, где я желал делать только добро, по крайней мере всегда о том старался. Сердце мое не затруднялось в том, и долг мой никогда не делал тому преград».
Именно те годы довершили формирование полководца и сделали его тем Суворовым, каким он остался в памяти. Сложился его облик, неповторимый и оригинальный; откристаллизовалась речь, исполненная грубоватого юмора, простонародной сочности и меткой афористичности; определился стиль жизни, строгой до аскетизма и близкой солдату. Его победы под Ореховом, Ландскроной и Столовичами являют образцы новаторской тактики, сформулированной позднее в «Науке побеждать» по-суворовски лапидарно, тремя словами – «глазомер быстрота, натиск».
В 1772 году Суворов писал: «Никогда самолюбие, чаще всего производимое мгновенным порывом, не управляло моими действиями, и я забывал о себе, где дело шло об общей пользе. Суровое воспитание в светском обхождении, но нравы невинные от природы и обычное великодушие облегчали мои труды; чувства мои были свободны, и я не изнемогал».
Кончался 1772 год. Некоторое время Суворов находился на шведской границе, проверяя русские укрепления и готовность войск. Вернувшись в Петербург, он получил наконец долгожданное назначение – в Первую армию к П. А. Румянцеву.
Глава шестая
Туртукай и Козлуджи
А. В. Суворов
- Слава богу, слава вам;
- Туртукай взят. Суворов там.
Военные действия, которые Турция начала против России весною 1769 года, обернулись скоро для Оттоманской Порты рядом тяжких поражений. 17 июня 1770 года тридцатипятитысячная армия Румянцева разгромила семидесятитысячное татарско-турецкое войско на берегу Прута, близ урочища Рябая Могила. 7 июля русский генерал-фельдмаршал в восьмичасовом бою вторично разбил турок и татар у реки Ларга, километрах в семидесяти от Рябой Могилы. Наконец 21 июля Румянцев нанес сокрушительное поражение на реке Кагуле, у деревни Вулканешти, стопятидесятитысячной армии великого визиря Халила-паши. После этой победы русские овладели всеми территориями вдоль Черного моря и по левому берегу Дуная, между реками Днестром и Серетом, крепостями Измаил, Килия, Аккерман, Браилов.
Грому викторий на суше вторили победы на море. В ночь на 26 июля 1770 года турецкий флот был истреблен в Чесменской бухте. «Среди губительных пучин громада кораблей всплывала», – писал о бое Пушкин. Турки потеряли пятнадцать кораблей, шесть фрегатов, пятьдесят мелких судов и десять тысяч человек. В Петербурге выбили медаль с изображением горящего турецкого флота и лаконичной надписью: «БЫЛ».
Турки приступили к переговорам, однако из-за затянувшихся прений они в конце февраля 1773 года были прерваны. Румянцев получил предписание Екатерины перенести военные действия за Дунай. Решение это поставило командующего первой армией в сложное положение. Сорока пяти тысячная русская армия была разбросана на огромном пространстве. Пришлось стянуть войска в крупные группы, всегда готовые к взаимодействию. Правое крыло, в Валахии, состояло из 2-го корпуса генерал-поручика И. П. Салтыкова, сына знаменитого фельдмаршала; левое, в Бессарабии, – из 3-го корпуса барона К. К. Унгерна-Штернберга и отряда популярного в войсках генерала Вейсмана на Нижнем Дунае; в районе Яломицы, с центром в городке Слободзея, находился резервный корпус Г. А. Потемкина. Сам Румянцев с основными силами – кордарме – расположился в Яссах. В начале мая 1773 года к нему явился Суворов, тут же получивший назначение в корпус Салтыкова.
Шестого числа Суворов уже отправился в местечко Негоешти, расположенное против сильной турецкой крепости Туртукай, в сорока километрах от Бухареста. Он вез приказ Салтыкова произвести поиск на Туртукай, дабы отвлечь внимание противника от Нижнего Дуная и тем самым облегчить наступательные действия Вейсману и Потемкину. Участок ему был вверен незначительный, задача поставлена второстепенная, подчиненный отряд не насчитывал и двух тысяч человек. Ядро отряда составил хорошо знакомый Суворову по Петербургу Астраханский полк – семьсот шестьдесят солдат.