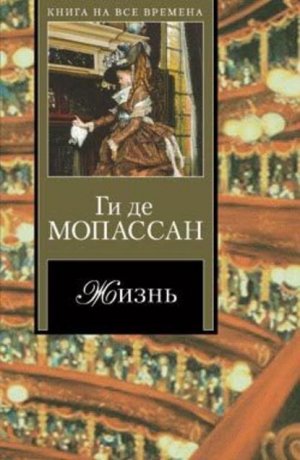
Нас было семеро в бреке, четыре дамы и трое мужчин, причем один сидел на козлах рядом с кучером, и лошади шли шагом, потому что дорога, извиваясь, поднималась в гору.
Мы с рассветом выехали из Этрета осмотреть развалины Танкарвиля и все еще дремали, скованные утренней прохладой. Особенно женщины, не привыкшие вставать по-охотничьи рано, поминутно смыкали веки, склоняли головы или зевали, равнодушные к волнующему зрелищу рождения дня.
Стояла осень. По обе стороны дороги тянулись оголенные поля, желтея короткими стеблями скошенных хлебов, торчавших из земли, словно щетина небритой бороды. Окутанная туманом равнина как будто дымилась. Жаворонки пели в небе, другие птицы щебетали среди кустов.
Наконец на грани горизонта показалось багрово-красное солнце, и, по мере того как оно всходило, светлея с минуты на минуту, природа словно пробуждалась, отряхивалась, улыбалась и, как девушка, вставшая с постели, сбрасывала покровы белых туманов.
Сидевший на козлах граф д’Этрай крикнул: «Смотрите, заяц!» – и указал рукой влево на поле клевера. Заяц удирал, ныряя в густой траве, показывая только длинные уши; затем он поскакал через пашню, остановился, бросился бежать, свернул, опять остановился, тревожно карауля малейшую опасность, не зная, какой путь предпочесть; наконец он снова пустился наутек, подпрыгивая на задних лапах, и скрылся среди гряд свекловицы. Все мужчины встрепенулись и следили глазами за зверьком.
Рене Лемануар произнес:
– Не очень-то мы любезны нынче утром. – И, поглядев на свою соседку, юную баронессу де Серен, которую одолевал сон, вполголоса сказал ей: – Вы вспоминаете мужа, баронесса? Успокойтесь, он вернется не раньше субботы. У вас впереди целых четыре дня.
Она ответила с полусонной улыбкой:
– До чего вы глупы! – И, совсем проснувшись, добавила: – Послушайте, расскажите нам что-нибудь, посмешите нас. Вот вы, господин Шеналь, говорят, вы имели больше успеха у женщин, чем герцог Ришелье, так расскажите нам одно из своих любовных приключений, какое вам вздумается.
Леон Шеналь, старик художник, был когда-то очень красив, жизнерадостен, любим женщинами и знал себе цену; погладив длинную седую бороду, он усмехнулся, задумался на миг и неожиданно нахмурился.
– Невеселая это будет повесть, сударыня; я расскажу вам о самой жалостной любви в моей жизни. Никому из друзей не пожелаю внушить такую любовь.
I
Мне было тогда двадцать пять лет, и я малярничал по нормандскому побережью. На моем языке «малярничать» – значит бродить с мешком за спиной от одного постоялого двора до другого и попутно делать этюды и зарисовки с натуры. Ничего не знаю я лучше этого скитания наудачу. Живешь свободно, безо всяких помех, без забот, без тревог, даже без дум о завтрашнем дне. Шагаешь по любой дороге, какая приглянется, следуя одной лишь собственной прихоти, требуя одной лишь услады для глаз. Останавливаешься только потому, что пленился каким-то ручейком или почуял, как приятно тянет жареной картошкой из дверей трактира. Порой на выбор влияет запах полыни или простодушно манящий взгляд трактирной служанки. Не надо презирать деревенскую любовь. И душу и темперамент найдешь у крестьянских девушек и вдобавок упругие щеки и свежие губы, а пылкий поцелуй их крепок и сочен, как дикий плод. Любовь всегда дорога, откуда бы она ни пришла. Сердце, что бьется, когда вы появляетесь, глаза, что плачут, когда вы уходите, – такие редкостные, такие сладостные, такие ценные дары, что пренебрегать ими никогда нельзя.
Я знавал свидания в оврагах, усеянных первоцветом, за хлевом, где спят коровы, на сеновале, еще не остывшем от дневного зноя. У меня сохранились воспоминания о толстом небеленом холсте на мускулистом и ловком теле и сожаления о бесхитростных, непосредственных ласках, более стыдливых в откровенной своей грубости, чем изощренные радости, какие дарят нам утонченные прелестницы.
Но дороже всего в этих странствиях наудачу сама природа, леса, солнечные восходы, сумерки, лунные ночи. Для художника это поистине бракосочетание с землей. Ты один на один с ней в этом долгом безмятежном любовном свидании.
Лежишь на лугу посреди ромашек и маков и, раскрыв глаза под ярким потоком света, глядишь вдаль на деревушку с остроконечной колокольней, где бьет полдень. Или сидишь подле ключа, пробивающегося из-под корней дуба, среди трав, тонких, высоких, налитых соком. Станешь на колени, нагнешься и пьешь холодную прозрачную воду, смачиваешь в ней усы и нос, пьешь ее с чувственным наслаждением, как будто целуешь в губы струйку ключа. Порой где-нибудь по течению ручейка набредешь на глубокую яму, погрузишься в нее нагишом, и вдоль всего тела с головы до ног ощущаешь холодящую и чарующую ласку, трепет быстрой и нежной струи.
На вершине холма бываешь весел, грустишь на берегу пруда и волнуешься, когда солнце тонет в море кровавых облаков и разбрызгивает по речной глади красные отблески. А вечером, когда луна проходит дозором в глубине небес, мечтаешь о всяких диковинах, какие и в голову бы не пришли при ярком свете дня.
Итак, странствуя по тем самым местам, где мы проводим нынешнее лето, я добрел однажды вечером до деревеньки Бенувиль на самом кряже между Ипором и Этрета. Я шел от Фекана вдоль берега, высокого берега, отвесного, как стена, где выступы меловых скал круто спускаются в море. С самого утра шел я под соленым морским ветром по низкому дерну, мягкому и гладкому, раскинутому, как ковер, на самом краю обрыва. Так, распевая во все горло, размашисто шагая, созерцая то мерный и плавный полет чайки, проносившей по синему небу белый полукруг крыльев, то бурый парус рыбачьей лодки на зеленом море, я вольно и беззаботно провел счастливый день.
Мне указали маленькую ферму, нечто вроде постоялого двора посреди нормандской усадьбы, обсаженной двойным рядом буков, где хозяйка-крестьянка давала приют прохожим.
Спустившись с кряжа, я направился в селение, укрытое высокими деревьями, и явился к тетке Лекашёр.
Это была морщинистая, суровая старуха; казалось, она нехотя, даже с недоверием, принимала постояльцев.
Дело было в мае; яблони в цвету раскинули над двором душистый навес и осыпали людей и траву дождем порхающих розовых лепестков.
Я спросил:
– Ну как, мадам Лекашёр, найдется у вас свободная комната?
Удивившись, что я знаю, как ее зовут, она отвечала:
– Как сказать, в доме-то все занято. Да надо подумать.
В пять минут мы столковались, и я сбросил с плеч мешок на земляной пол деревенской горницы, где вся обстановка состояла из кровати, двух стульев, стола и умывальника. Комната примыкала к кухне, просторной, закопченной, в которой жильцы ели за одним столом с работниками фермы и хозяйкой-вдовой.
Помыв руки, я вышел. Старуха жарила к обеду курицу над огромным очагом, где висел котелок, почерневший от дыма.
– Значит, у вас есть и другие жильцы? – спросил я.
Она отвечала, по своему обычаю, ворчливо:
– Да, живет тут одна дама, англичанка в летах. Я ей отвела вторую горницу.
Накинув еще пять су в день, я получил право в ясную погоду обедать отдельно на дворе.
Итак, мне накрыли у крыльца, и я принялся раздирать зубами тощую нормандскую курицу, прихлебывая светлый сидр и заедая пшеничным хлебом, испеченным дня четыре назад, но превосходным.
Вдруг деревянная калитка, выходившая на дорогу, открылась и к дому направилась странного вида особа. Очень сухопарая, очень долговязая, она была так стянута шотландской шалью в красную клетку, что могло показаться, будто у нее нет рук, если бы на уровне бедер не высовывалась костлявая кисть, державшая типичный для туристов белый зонтик. Подпрыгивавшие при каждом ее шаге седые букли окаймляли физиономию мумии, вид которой невольно напомнил мне копченую селедку в папильотках. Она прошла мимо меня торопливо, потупив глаза, и скрылась в домишке.
Столь диковинное явление развлекло меня; несомненно, это была моя соседка, «англичанка в летах», о которой говорила хозяйка.
В тот день я больше не видел ее. Наутро, едва я расположился писать посреди знакомой вам живописной долины, которая тянется вплоть до Этрета, как, подняв глаза, увидел на гребне холма странный предмет – нечто вроде флагштока. Это была она. Заметив меня, она исчезла.
В полдень я вернулся к завтраку и уселся за общий стол, чтобы свести знакомство со старой чудачкой. Но она не откликалась на мои любезности, оставалась равнодушна ко всяческим знакам внимания. Я предупредительно наливал ей воды, усердно передавал кушанья. Единственным выражением благодарности был едва заметный кивок да несколько английских слов, сказанных так тихо, что я не мог расслышать их.
Я перестал заниматься ею, хотя она и тревожила мои мысли.
Спустя три дня я знал о ней столько же, сколько и сама г-жа Лекашёр.
Звали ее мисс Гарриет. В поисках глухой деревушки, где бы провести лето, она полтора месяца назад остановилась в Бенувиле и явно собиралась задержаться здесь. За столом она не разговаривала, торопливо ела, читая нравоучительные протестантские брошюрки. Такие брошюрки она раздавала кому могла. Сам кюре получил от нее четыре экземпляра, – их за два су доставил ему деревенский мальчишка.
Иногда она говорила нашей хозяйке ни с того ни с сего, без всякого повода для такого заявления: «Я любить господа больше, чем все; я им восторгаться во всех его творениях; я его обожать во вся его природа; я хранить его в моем сердце». И тут же вручала озадаченной крестьянке одну из брошюрок, долженствующих обратить в истинную веру весь мир. В деревне ее недолюбливали. После того как учитель заявил: «Это атеистка», – на нее легла тень. Кюре успокоил сомнения г-жи Лекашёр словами: «Она, правда, еретичка, однако господь не хочет погибели грешника, и, помимо того, она, на мой взгляд, особа безупречной нравственности».
Слова «атеистка», «еретичка», точный смысл которых был неясен, будоражили умы. Вдобавок толковали, что англичанка очень богата, а странствует она весь век по свету потому, что ее выгнали из дому. За что же ее прогнали из дому? Понятно, за нечестие.
На самом деле это была энтузиастка своих убеждений, упрямая пуританка, каких в изобилии производит Англия, одна из тех безобидных, но несносных старых дев, какие обязательны за каждым табльдотом Европы, портят Италию, отравляют Швейцарию, делают непригодными для жизни чудесные средиземноморские города, повсюду приносят свои странные причуды, нравы законсервированных весталок, неописуемые наряды и своеобразный запах резины, как будто этих англичанок на ночь прячут в каучуковый футляр.
Стоило мне заприметить одну из них в отеле, как я спешил прочь, точно птица от огородного пугала.
Однако эта казалась мне такой необыкновенной, что даже привлекала меня.
Г-жа Лекашёр питала инстинктивную вражду ко всему некрестьянскому, и потому узкому ее умишку была ненавистна восторженность старой девы. Она придумала англичанке прозвище, явно презрительное, пришедшее к ней непонятно откуда, возникшее в связи с какой-то смутной и таинственной работой мозга. Она говорила: «Сущая бесовка». И это прозвище в применении к такому нравственному и сентиментальному существу невыразимо смешило меня. Я и сам называл ее не иначе, как «бесовка», потому что мне забавно было произносить вслух это слово при виде ее.
– Ну как, что нынче поделывает наша бесовка? – спрашивал я тетку Лекашёр.
И крестьянка отвечала с возмущением:
– Вы не поверите, сударь, подобрала она жабу – у той, видите ли, лапу раздавили, – в комнату к себе отнесла, в умывальник положила и перевязку ей сделала, все равно как человеку. Ну не грех ли?
В другой раз, проходя низом под скалами, она купила большую рыбину, которую только что выловили, и сейчас же бросила назад в море. А матрос, хотя ему щедро заплатили, изругал ее нещадно, разъярившись так, словно она вытащила у него деньги из кармана. Еще долго спустя он приходил в бешенство и бранился, говоря об этом. Да, конечно же, мисс Гарриет была бесовка.
Тетка Лекашёр гениально окрестила ее.
Другого мнения придерживался конюх, которого звали Сапером, потому что он смолоду служил в Африке. Он говорил, хитро прищурившись:
– Ясное дело, штучка была, пожила в свое время.
Слышала бы это бедная дева!
Служанка Селеста работала на нее с неохотой, непонятно почему. Должно быть, лишь потому, что она была чужеземка, другой породы, другой веры, говорила на другом языке. Словом, бесовка!
Целыми днями бродила она по окрестностям, искала и славила бога в его природе. Как-то вечером я увидел ее на коленях, в молитвенной позе, среди кустарника. Заметив что-то красное, сквозившее в листве, я раздвинул ветки, и мисс Гарриет вскочила, сконфузившись оттого, что ее застигли врасплох, устремив на меня испуганные глаза, точь-в-точь сова, когда ее накроют среди дня.
Случалось, когда я работал между утесами, она вдруг вырастала на гребне скалы, совсем как телеграфный столб. Она жадно вглядывалась в простор моря, позлащенный солнцем, и в ширь небес, алеющую огнем. Случалось, я видел, как она стремительно шагает по долине пружинящей походкой англичанки; и я спешил нагнать ее, сам не знаю зачем, повинуясь одному желанию – увидеть ее лицо, лицо фанатички, худое, замкнутое, озаренное глубокой, внутренней радостью.
Нередко встречал я ее также подле какой-нибудь фермы: она сидела в тени яблони, на траве, развернув книжку и устремив глаза в пространство.
Я не собирался трогаться дальше, покидать этот мирный край, ибо тысячи любовных нитей привязывали меня к его широким и мягким ландшафтам. Мне хорошо было на этой безвестной ферме, вдали от всего и близко к земле, благодетельной, сочной, прекрасной, зеленеющей земле, которую когда-нибудь мы удобрим своим телом. Признаюсь: быть может, и доля любопытства удерживала меня у тетки Лекашёр. Мне хотелось получше узнать чудаковатую мисс Гарриет и понять, что творится в одинокой душе старой странствующей англичанки.
II
Наше сближение произошло довольно необычно. Я только что кончил этюд, весьма смелый на мой взгляд, впрочем, смелый и на самом деле. Спустя пятнадцать лет он был продан за десять тысяч франков. Кстати, он был прост, как дважды два четыре, и вне всяких академических правил. Правый угол полотна изображал утес, огромный утес, весь в наростах и ржавых, желтых, красных водорослях, облитых солнцем, точно маслом. Источник света был скрыт за моей спиной, а лучи его падали на скалу расплавленным золотом. Это было здорово сделано. Такой яркий, пламенный, красочный передний план, что дух захватывало.
Слева – море, но не синее, не свинцовое море, а море, точно из нефрита, мутно-зеленое и суровое под таким же хмурым небом.
Я был так доволен своей работой, что приплясывал, возвращаясь с нею на постоялый двор. Мне хотелось, чтобы весь мир сразу же увидел ее. Помнится, я показал ее корове на придорожном лугу и крикнул ей:
– Взгляни, голубка, такое не часто увидишь.
Подойдя к дому, я принялся во всю глотку звать тетку Лекашёр:
– Эй! Эй! Хозяйка! Пожалуйте скорее да гляньте-ка сюда.
Крестьянка явилась и уставилась на мое произведение тупым взглядом, не разбиравшим, то ли это бык, то ли дом.
Мисс Гарриет возвратилась с прогулки и проходила позади меня как раз в ту минуту, когда я держал этюд в протянутой руке и показывал хозяйке. Я постарался повернуть полотно так, чтобы оно не ускользнуло от взгляда «бесовки». Она увидела его и застыла на месте, ошеломленная, потрясенная. Это, оказывается, был ее утес, тот самый, куда она взбиралась помечтать на свободе.
Она произнесла свое британское «Оу!» так выразительно и хвалебно, что я с улыбкой обернулся к ней.
– Это мой последний этюд, мадемуазель, – пояснил я.
Она пролепетала в комическом и трогательном восторге:
– О! Сударь! Вы так глубоко понимать природа.
Сознаюсь, я покраснел: из уст королевы эта похвала тронула бы меня не больше. Я был обезоружен, покорен, побежден. Даю слово, я готов был расцеловать ее!
За столом я сидел подле нее, как всегда. Впервые она заговорила вслух, продолжая свою мысль:
– О! Я так любить природа!
Я подвигал ей хлеб, воду, вино. Теперь она принимала мои услуги со скупой улыбкой мумии. И я завел разговор о пейзаже.
Мы одновременно встали из-за стола и принялись ходить по двору; потом грандиозный костер, который заходящее солнце зажгло над морем, привлек меня, я отворил калитку, выходящую на кряж, и мы отправились вместе, довольные тем, что узнали и поняли друг друга.
Вечер был теплый, мягкий, из тех благодатных вечеров, которые дают отраду уму и телу. Все вокруг – радость и очарование. Теплый, душистый воздух, напоенный испарениями трав и водорослей, нежит обоняние крепким ароматом, нежит вкус морской свежестью, нежит ум неотразимым покоем. Мы шли теперь по краю обрыва, а в ста метрах под нами безбрежное море катило мелкие волны. Раскрытым ртом, расширенной грудью ловили мы прилетавший из-за океана свежий ветер, соленый от долгого лобзания морских вод, и ощущали на коже его медлительную ласку.
Завернувшись в клетчатую шаль, выставив зубы, англичанка восторженно смотрела, как огромное светило склонялось к морю. Далеко-далеко впереди, у грани горизонта, на фоне пламенеющего неба вырисовывался силуэт трехмачтового судна с поднятыми парусами, а немного поближе плыл пароход, и клубы дыма вились за ним, оставляя нескончаемое облако поперек всего небосвода.
И багровый шар медленно склонялся все ниже. Вскоре он соприкоснулся с водой, как раз позади неподвижного корабля, и тот предстал, словно в огненном кольце, посреди раскаленного светила. Оно все погружалось, пожираемое океаном. Видно было, как оно опускается, сужается, исчезает. Все кончилось. Лишь силуэт суденышка по-прежнему был вычерчен на золотом фоне небесных далей.
Мисс Гарриет страстным взглядом следила за пылающим закатом дня. И, без сомнения, ей неудержимо хотелось обнять небо, море, весь кругозор.
Она лепетала:
– Оу! Я любить… Я любить… Я любить…
Я заметил слезы у нее на глазах. Она продолжала:
– Я хотел быть маленький птичка и улететь в небеса.
Она все стояла, точно шест, как я не раз заставал ее на скале, сама красная в пунцовой шали. Мне хотелось зарисовать ее в альбом. Это была истая пародия на экстаз.
Я отвернулся, чтобы не засмеяться.
Потом я заговорил с ней о живописи, совсем как с товарищем, употребляя специальные выражения, отмечая контраст тонов, яркость колорита. Она слушала внимательно, понимающе, стараясь угадать смысл неясных ей слов, уловить мою мысль. Временами она вставляла:
– О! Я понимать! Я понимать! Это очень интересовать меня.
Мы возвратились.
Наутро, едва завидев меня, она поспешила мне навстречу поздороваться. И мы стали совсем друзьями.
Славное она была существо, душа у нее, как на пружинах, скачками впадала в экстаз. Равновесия ей недоставало, как всем женщинам, оставшимся девицами до пятидесяти лет. Казалось, она замаринована в своей прокисшей невинности, но сердце ее сохранило юный пыл. Она любила природу и животных восторженной любовью, настоявшейся, точно старое вино, на всей той чувственной любви, которую ей не удалось отдать мужчине.
Я сам свидетель, что ее приводил в неумеренное волнение вид кормящей суки, скачущей по лугу кобылы с жеребенком, гнезда с головастыми и голыми птенцами, которые пищат, широко разевая клювики.
Бедные, одинокие создания, бродячие и печальные гостьи табльдотов, смешные и жалкие создания, я полюбил вас с тех пор, как узнал ее!
Вскоре я заметил, что ей хочется о чем-то поговорить со мной, но она не решается, и меня забавляла ее робость. Когда я уходил по утрам с ящиком за плечами, она провожала меня до околицы молчаливо, заметно волнуясь, не зная, с чего начать. И вдруг поворачивала назад, спешила прочь, как всегда подпрыгивая на ходу.
Однажды она все-таки набралась храбрости:
– Я хотела смотреть, как вы делать картина. А вы согласен? Я очень любопытна видеть. – При этом она краснела, как будто произносила очень рискованные слова.
Я повел ее с собой в ущелье Малой Долины, где начал новый этюд.
Она стояла позади, с пристальным вниманием следя за каждым моим движением.
Потом внезапно, боясь, верно, стеснить меня, она сказала:
– Благодарю вас, – и ушла.
Но вскоре она совсем освоилась и стала сопровождать меня каждый день с явным удовольствием. Она приносила под мышкой складной стул, не допуская, чтобы я нес его, и располагалась подле меня. Так она просиживала по целым часам, безмолвно следя глазами за малейшим движением моей кисти. Когда с помощью яркого мазка, смело наложенного шпателем, я добивался неожиданного и удачного эффекта, у нее невольно вырывалось коротенькое «Оу!», полное изумления, восторга и похвалы. Она питала умиленное почтение к моим полотнам, почтение чуть не молитвенное к воссозданию руками человеческими частицы содеянного творцом. Этюды мои были в ее глазах своего рода религиозными картинами; порой она говорила мне о боге, надеясь наставить меня на путь истинный.
И странная же личность был ее господь бог! Какой-то сельский философ, без большого ума и силы, ибо он в ее представлении всегда был удручен беззакониями, творимыми у него на глазах, как будто он не мог предотвратить их.
Впрочем, она была с ним в превосходных отношениях, он, видимо, поверял ей свои секреты и обиды. Она говорила: «Богу угодно» или «Богу неугодно», совсем как сержант заявляет новобранцу: «Полковник так приказал».
Она от души скорбела о моем неведении божественного промысла и пыталась открыть мне глаза; в карманах, в шляпе, если мне случалось бросить ее на земле, в ящике с красками, под дверью, в начищенных к утру башмаках – повсюду находил я каждый день религиозные брошюрки, которые она, несомненно, получала прямо из рая.
Я держал себя с ней по-дружески просто, как со старой приятельницей. Но вскоре я заметил, что ее манеры изменились. Первое время я над этим не задумывался.
Стоило мне расположиться работать в своей излюбленной долине или на какой-нибудь глухой тропинке, как она внезапно появлялась предо мной. Шла она торопливо, подпрыгивая на ходу, с размаху садилась, запыхавшись, как будто бежала перед тем или как будто ее душило сильное волнение. При этом она была очень красна той английской краснотой, какая не свойственна больше ни одной нации; потом она безо всякой причины бледнела, становилась землисто-бурой и, казалось, близка была к обмороку. Однако понемногу лицо ее принимало обычное выражение, и она начинала разговаривать.
Но ни с того ни с сего она вдруг обрывала фразу на полуслове и убегала так стремительно и неожиданно, что я старался припомнить, не рассердил ли, не обидел ли ее чем-нибудь.
В конце концов я решил, что таковы ее обычные повадки, несколько смягченные ради меня в первое время нашего знакомства.
Когда она возвращалась на ферму после долгих часов ходьбы под ветром вдоль берега, ее длинные волосы, завитые в локоны, нередко висели раскрученными прядями, как будто у них лопнула пружинка. Прежде она на это не обращала внимания и шла обедать, не смущаясь тем, что брат ее, ветерок, растрепал ей локоны.
Теперь же она поднималась к себе в каморку поправить свои штопоры, как я прозвал их; и когда я делал ей приятельский комплимент, неизменно конфузя ее: «Вы нынче прекрасны, как день, мисс Гарриет», – тотчас у нее к щекам приливал румянец, девический румянец, какой бывает в пятнадцать лет.
Под конец она снова стала дичиться и уже не ходила смотреть, как я рисую. Я думал: это блажь, это скоро кончится. Но это не кончалось. Когда я говорил с ней, она отвечала либо с подчеркнутым равнодушием, либо с глухим раздражением. Мы встречались только за обедом и почти совсем не разговаривали. Я был уверен, что оскорбил ее чем-нибудь; однажды вечером я спросил ее:
– Мисс Гарриет, почему вы переменились ко мне? Чем я не угодил вам? Вы очень огорчаете меня!
Она ответила тоном возмущения, крайне комического:
– Я с вами совсем похожий на прежде. Вы не прав, не прав, не прав! – и убежала к себе в комнату.
Порой она как-то странно смотрела на меня. С тех пор я не раз думал, что так должны смотреть приговоренные к смерти, когда им объявляют, что настал последний день. Во взгляде ее таилось безумие, мистическое и страстное безумие; было в нем еще что-то – лихорадочная, отчаянная жажда, безудержная и бессильная жажда неосуществленного и неосуществимого! Казалось мне также, что сердце ее оборонялось от неведомой силы, старалось обуздать эту силу, что в ней происходила борьба, а может быть, еще и другое… Как знать! Как знать!
III
Это было поистине поразительное открытие.
С некоторых пор я каждое утро работал над картиной такого содержания:
Глубокая ложбина, заключенная, зажатая между двумя лесистыми откосами, тянется, теряется, тонет в том молочном тумане, который хлопьями витает в утренние часы среди холмов. А вдалеке, из-за густой и прозрачной дымки, виднеются, или, вернее, угадываются, очертания влюбленной четы, парня и девушки; они идут обнявшись, прижавшись друг к другу, она подняла голову к нему, он наклонился к ней, и губы их слиты.
Первый солнечный луч, проскользнув меж ветвей, пронизал эту предрассветную мглу, озарил ее розовым отблеском позади сельских любовников, и смутные тени их движутся в серебряном свете. Это было неплохо, право же, неплохо.
Я работал на склоне, ведущем в Малую Долину Этрета. По счастью, в то утро над долиной как раз колыхалась пелена, нужная мне для работы.
Какой-то предмет вырос передо мной, точно призрак, – это оказалась мисс Гарриет. Увидев меня, она бросилась было прочь, но я окликнул ее:
– Идите, идите сюда, мадемуазель. Я приготовил вам картинку.
Она подошла словно нехотя. Я протянул ей набросок. Она не сказала ни слова, только смотрела долго, не шевелясь, и вдруг заплакала. Она плакала, судорожно вздрагивая, как плачут те, кто долго боролся со слезами и, обессилев, все еще пытается сдержаться. Я вскочил, сам расчувствовавшись от этой непонятной мне скорби, и схватил ее руки движением порывистого участия, движением истого француза, который сначала действует, а думает потом.
Несколько мгновений она не отнимала рук, и я чувствовал, что они дрожат в моих руках так, словно все ее нервы сведены судорогой. Потом она резко отняла, скорее вырвала их.
Я узнал его, этот трепет, я не раз ощущал его; ошибки быть не могло. О! Любовный трепет женщины, будь ей пятнадцать или пятьдесят лет, будь она из простонародья или из общества, все равно проникает мне прямо в сердце, и я без колебаний узнаю его.
Все ее жалкое существо содрогнулось, затрепетало, изнемогло. Я понял это. Она ушла, и я не вымолвил ни слова, я был поражен, словно увидел чудо, и удручен, словно совершил преступление.
Я не возвратился к завтраку. Я пошел бродить по берегу, не зная, плакать мне или смеяться, находя приключение забавным и печальным, чувствуя себя смешным и сознавая, что она-то несчастна до потери рассудка.
Я недоумевал, как мне поступить.
Сделав вывод, что мне остается лишь уехать, я тотчас решил осуществить это намерение.
Я проходил полдня и вернулся к самому обеду несколько грустный, несколько томный.
За стол уселись как обычно. Мисс Гарриет была тут же, сосредоточенно ела, ни с кем не говорила и не поднимала глаз. Впрочем, ни в лице, ни в манерах ее перемены не было.
Дождавшись конца обеда, я обратился к хозяйке:
– Ну вот, мадам Лекашёр, скоро я от вас уеду.
Удивившись и огорчившись, старуха запричитала своим тягучим голосом:
– И что это вы вздумали, сударь вы мой? Уезжаете от нас! А я-то до чего к вам привыкла!
Я искоса поглядел на мисс Гарриет: лицо ее даже не дрогнуло. Зато Селеста, служанка, подняла на меня глаза. Это была толстая девка лет восемнадцати, краснощекая, крепкая, сильная, как лошадь, и на редкость опрятная. Случалось, я целовал ее в темных углах, по привычке завсегдатая постоялых дворов, только и всего.
Так закончился обед.
Я пошел выкурить трубку под яблонями и принялся шагать по двору из конца в конец. Все, что я передумал за день, сделанное утром поразительное открытие страстной и смешной любви ко мне, воспоминания, возникшие в связи с этой догадкой, пленительные и жгучие воспоминания, быть может, и взгляд служанки, обращенный на меня при известии о моем отъезде, – все это переплелось, смешалось, и я ощущал теперь в теле пылкий задор, зуд поцелуев на губах, а в крови то самое, необъяснимое, что толкает на глупости.
Надвигалась ночь, сгущая тени под деревьями, и я увидел, как Селеста пошла запирать курятник на другом конце усадьбы. Я побежал за ней, ступая так легко, что она не слышала моих шагов, а когда она выпрямилась, опустив заслонку на отверстие, через которое ходят куры, я схватил ее в объятия и осыпал ее широкое лоснящееся лицо градом поцелуев. Она отбивалась, смеясь, привычная к такому обращению.
Почему я так поспешно отпустил ее? Почему я обернулся так резко? Каким образом почуял я чье-то присутствие у себя за спиной?
Это мисс Гарриет, возвращаясь, увидела нас и оцепенела, как при появлении призрака. Спустя миг она исчезла в темноте.
Я вернулся в дом пристыженный, взволнованный; я был бы меньше удручен, если б она застигла меня на месте настоящего преступления.
Спал я плохо, нервы были напряжены, печальные мысли томили меня. Мне чудился плач. Должно быть, я ошибался. Несколько раз казалось мне также, будто кто-то ходит по дому и отворяет наружную дверь.
Под утро усталость сломила меня и сон меня одолел. Я проснулся поздно и вышел к завтраку, все еще смущаясь и не зная, как себя держать.
Никто не видел мисс Гарриет. Мы подождали ее; она не являлась. Тетка Лекашёр вошла к ней в комнату, англичанки уже не было. Должно быть, она, по своему обычаю, отправилась гулять на заре, чтобы увидеть восход солнца.
Никто не удивился, и все молча принялись за еду.
День был жаркий, очень жаркий, один из тех знойных, душных дней, когда ни один листок не шелохнется. Стол вынесли во двор, под яблоню, и время от времени Сапер спускался в погреб за сидром, потому что все пили без перерыва. Селеста носила из кухни блюда – баранье рагу с картофелем, тушеного кролика и салат. Потом она поставила перед нами тарелку вишен, первых в сезоне.
Мне захотелось вымыть их, чтобы освежить, и я попросил служанку принести из колодца воды похолоднее.
Минут через пять она вернулась и сообщила, что колодец высох. Она размотала веревку до конца, ведро коснулось дна и поднялось пустым. Тетка Лекашёр сама решила выяснить, в чем дело, и пошла заглянуть в колодец. Она вернулась с заявлением, что там виднеется что-то непонятное. Должно быть, сосед назло набросал туда соломы.
Я тоже решил взглянуть, думая, что сумею лучше разобраться, и нагнулся над краем колодца. Я смутно различил белый предмет. Но что именно? Мне пришло в голову спустить на веревке фонарь. Желтое пламя плясало на каменных стенках, мало-помалу погружаясь вглубь. Все четверо стояли мы, нагнувшись над отверстием, – Сапер и Селеста не замедлили присоединиться к нам. Фонарь остановился над какой-то неопределенной грудой, белой с черным, странной, непонятной. Сапер закричал:
– Это лошадь! Вон я вижу копыто. Верно, сбежала с луга и провалилась ночью.
Но я вдруг весь содрогнулся. Я разглядел сперва башмак, потом вытянутую ногу; все тело и вторая нога были скрыты под водой.
Я забормотал чуть слышно, дрожа так, что фонарь, как бешеный, прыгал в колодце над высунувшимся башмаком:
– Там… там… женщина… там… мисс Гарриет.
Один Сапер и бровью не повел. То ли еще доводилось ему видеть в Африке!
Тетка Лекашёр и Селеста подняли пронзительный визг и пустились бежать.
Надо было вытащить покойницу. Я крепко привязал конюха за пояс и затем стал спускать его очень медленно с помощью ручной лебедки, глядя, как он погружается в темноту. В руках oн держал фонарь и другую веревку. Вскоре раздался его голос, как будто выходивший из недр земли: «Стой!» – и я увидел, как он вылавливает что-то из воды, это была вторая нога; он связал их вместе и крикнул снова: «Тяни!»
Я стал тянуть его наверх, но руки мне не повиновались, мускулы ослабели, я боялся, что веревка выскользнет у меня и человек сорвется. Когда голова его появилась над краем, я спросил: «Ну как?» – как будто ждал вестей от той, что лежала там, на дне.
Мы взобрались на каменный край колодца и, стоя друг против друга, наклонясь над отверстием, начали поднимать тело.
Тетка Лекашёр и Селеста наблюдали за нами издали, из-за угла дома. Увидев, что из колодца показались черные башмаки и белые чулки утопленницы, они скрылись.
Сапер ухватился за лодыжки, и ее, несчастную и целомудренную деву, извлекли в самой нескромной позе. Лицо было страшное, черное, исцарапанное, а длинные седые волосы, совсем распущенные, развитые навсегда, висели мокрыми грязными прядями. Сапер изрек презрительным тоном:
– Ну и худа же, черт подери!
Мы отнесли покойницу в ее комнату, и, так как женщины не появлялись, я вместе с конюхом обрядил ее.
Я вымыл ее жалкое, искаженное лицо. Под моими пальцами чуть приоткрылся один глаз и посмотрел на меня тем тусклым, тем холодным, тем страшным взглядом покойника, который смотрит из потустороннего мира. Я подобрал, как умел, ее рассыпавшиеся волосы и неловкими руками соорудил у нее на голове новую странную прическу. Потом я снял с нее промокшую одежду, со стыдом, чувствуя себя осквернителем, приоткрыл ее грудь, и плечи, и длинные руки, тонкие, точно жерди.
Потом я пошел нарвать цветов – маков, васильков, ромашек и свежей душистой травы – и осыпал ими ее смертное ложе.
Дальше мне пришлось выполнить обычные формальности, так как я был подле нее один.
В письме, найденном у нее в кармане и написанном перед самой смертью, она просила, чтобы ее похоронили в той деревне, где она провела последние дни. Ужасная догадка сдавила мне сердце. Не ради меня ли хочет она остаться здесь?
Под вечер пришли соседские кумушки поглядеть на усопшую, но я не пустил их: я хотел быть один, и я просидел подле нее всю ночь.
При свечах смотрел я на нее, на несчастную женщину, всем чужую, умершую так далеко от родины и так плачевно. Остались ли у нее где-нибудь друзья, родные? Каково было ее детство, ее жизнь? Откуда явилась она, одинокая странница, заброшенная, как бездомная собака? Какая тайна страдания и отчаяния укрылась в ее нескладном теле, в этом теле, точно позорный изъян пронесенном через всю жизнь, в этой смешной оболочке, отпугнувшей от нее всякую привязанность и любовь?
Какие бывают несчастливые люди! Я чувствовал, что над этим человеческим созданием тяготела извечная несправедливость безжалостной природы. Все было кончено для нее, а она, быть может, никогда не знала того, что дает силу самым обездоленным, – надежды быть любимой хоть раз! Почему бы иначе стала она так скрываться, избегать людей? Почему бы любила такой страстной любовью всю природу, все живое, только не человека?
И мне было понятно, что она верила в бога и чаяла в ином мире награды за свои страдания. Теперь она начнет разлагаться и в свой черед станет растением. Она расцветет на солнце, будет кормом для коров, зерном, которое унесут птицы, и, став плотью животных, возродится как человеческая плоть. Но то, что зовется душой, угасло на дне черного колодца. Она больше не будет страдать. Свою жизнь она отдала взамен других жизней, которые вырастут из нее.
Так текли часы нашего последнего, молчаливого и жуткого свидания. Забрезжил бледный свет зари, вот красный луч скользнул к постели, огненной полосой лег на одеяло и на руки. Этот час она особенно любила. Птицы проснулись и запели в ветвях.
Я распахнул окно, я раздвинул занавеси, чтобы все небо, целиком, видело нас, и, склонившись над холодным трупом, обхватил ладонями изуродованное лицо, потом медленно, без страха и отвращения, поцеловал долгим поцелуем никогда не целованные губы…
Леон Шеналь умолк. Женщины плакали. Слышно было, как на козлах упорно сморкается граф д’Этрай. Только кучер дремал. Лошади, не чувствуя бича, замедлили шаг и лениво тянули экипаж. И брек двигался еле-еле, словно вдруг отяжелев под бременем печали.