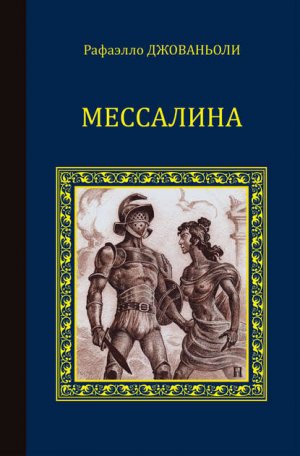
ГЛАВА I
Нескончаемые людские потоки текли по улицам, ведущим к Форуму[1], к храму Кастора и Поллукса[2].
Тысячи взволнованных голосов сливались в один невнятный гул, в котором тонули отдельные слова и фразы, вопросы и ответы.
Тысячи лиц объединяло выражение тревоги и ожидания, смешанного с недоверием к происходящему.
Форум был уже переполнен людьми, в основном мужчинами, хотя не было недостатка и в женщинах и детях. Почти все суетились, отчаянно жестикулировали и толкались. Кто-то старался протиснуться к курии Юлия[3], кто-то пробирался к базилике[4] Цезаря Диктатора.
А горожане все прибывали, напирая друг на друга со стороны улиц Сакра, Нова, Сарино и других входов на площадь. И с каждым новым приливом этой толпы, неспокойной, как бурлящая весенняя река с ее готовностью выйти из привычного русла, нарастало напряжение собравшихся перед храмом Кастора и Поллукса.
Где двигаться уже не могли, там пробовали заводить разговор:
- Это правда?
- Возможно ли?
- Тиберий умер?
- Тиберий мертв?
- А может быть, это одно из тех мошенничеств, к которым он столько раз прибегал? - нахмурившись, воскликнул старый центурион[5], судя по знаку - из германских когорт[6], сухощавый человек лет шестидесяти, с бронзовым, выжженным солнечными лучами лицом.
Глухой рокот прокатился по толпе:
- Кто это?
- Сумасшедший!
- Возмутительно!
- Клеветник!
- Республиканец!
- Доносчик! - взвизгнул толстый парасит[7] в белой тунике, вернее, когда-то белой, до непристойности замусоленной и запачканной, в винных подтеках.
- Эй, ты! - гаркнул в ответ центурион. - Думаешь, если нас разделяет эта толпа евнухов и андрогинов[8], то я не справлюсь с тобой? Клянусь, следующее слово застрянет у тебя в глотке! Я, римлянин из трибы[9] Эмилия, девятнадцать лет воевал под началом божественного Августа[10], да еще двадцать три - под руководством его преемников. И я говорю - великий Октавиан не доверял Тиберию Цезарю! Уж он-то не позволил бы гнусному тирану управлять нами в течение двадцати трех лет! О, если бы это лицемерное чудовище обнаружило свое коварство раньше, чем умер Август, - никогда не видеть бы ему империи!
Новый взрыв негодования толпы был ответом на слова центуриона. Парасит же побледнел и, начисто потеряв весь свой напор, воздержался от дальнейшей перебранки.
- Говорю вам, не верьте слухам о смерти Тиберия. Вот уже семь лет, как он твердит о своих недугах. Сколько раз он на них ссылался, избегая встречи с римлянами! Вся его жизнь была фарсом. Для других же она до сих пор оборачивалась самой кровавой из трагедий. Может быть и теперь он сам распустил домыслы о своей смерти, чтобы узнать истинные настроения патрициев и плебеев, а потом отдать их в руки палачей!
- Если ты говоришь, что не уверен в смерти Тиберия, то ты поступаешь как неблагоразумный наглец, хотя слова твои кажутся гордыми и свободными, - заметил сенатор[11], окруженный толпой плебеев[12].
- А что мне грозит? - сверкнув глазами, ответил центурион. - Потерять восемь или десять лет мучений, которые сулит старость? Плохое будущее суждено тому, у кого нет ни жены, ни детей, а есть только незаживающие раны, полученные в сраженьях и еще вера в достоинство римлян!
- Да кто этот самолюбивый хвастун? - наконец отважился крикнуть парасит, который к этому времени отошел подальше от чересчур решительного старика.
- Пусть назовет свое имя тот, кто оскорбляет величие императора!
- Пусть назовет!
- Кто он? Пусть назовет свое имя!
И толпа взревела в один голос:
- Пусть назовет свое имя!
- Эй! Подлые рабы! Думаете, все так же трусливы, как вы? Я Корнелий Сабин, плебей из трибы Эмилия, центурион, недавно уволенный из десятого легиона. Знаете, что в него не набирают людей робкого десятка, - недаром это был любимый легион Цезаря!
Вот с какой страстностью обсуждалось событие, которое в короткий срок взбудоражило всех горожан. Кто-то делал вид, что сожалеет о смерти Тиберия, кто-то сомневался в этом известии. Однако и те, и другие больше всего желали, чтобы оно обернулось правдой, хотя почти никто не рисковал открыто высказывать свои мысли, как это сделал старый легионер, центурион Корнелий Сабин.
Шел тринадцатый день после апрельских календ[13] (19 марта) года семьсот девяностого с основания города: миновало два часа пополудни.
С предыдущего вечера по Риму пополз слух о том, что 16 числа этого месяца в Мизене на 68 году жизни и на 23 году обладания высшей властью умер император Тиберий Цезарь[14].
Всю ночь и все утро 19 числа эта весть обрастала новыми, порой противоречивыми подробностями.
Одни говорили, что, почувствовав себя плохо, Тиберий стал звать на помощь, но никто не откликнулся - тирана оставили все, даже ближайший его советник, префект претория[15] Невий Сарторий Макрон[16], и племянник Гай Цезарь Калигула Германик. Добавляли, что, не видя ни рабов, ни либертинов[17], он сумел подняться и сделать несколько шагов, но тут силы покинули его, и он упал замертво [I].
Другие утверждали, что Тиберий пожаловался на озноб и это послужило предлогом для Макрона, который набросил на него столько теплых покрывал, что Тиберий задохнулся.
Рассказывали также, что Тиберия отравили, а потом не давали пищи, чтобы голод ускорил действие яда.
Наконец, появился слух, которым делились только с самыми близкими друзьями, да и то под большим секретом. Иной раз можно было услышать, что Тиберий упал в глубокий обморок, который был принят за смерть и позволил Гаю Цезарю завладеть императорским кольцом. А когда Тиберий неожиданно пришел в себя, Макрон испугался мести и задушил его подушкой [II].
В общем, для оживленных пересудов было немало поводов. Новость повторяли на все лады, и каждый старался прибавить что-нибудь от себя.
Многие могли бы ликовать по случаю этой смерти, одинаково желанной для патрициев[18] и плебеев, для бедных и богатых, для свободных граждан и либертинов. Однако недостоверность слухов и страх перед неизбежной карой, если Тиберий на самом деле остался жив, удерживали людей от явного проявления радости. Лишь в глубине души каждый человек был готов благодарить богов за смерть ненавистного деспота.
Долгое ожидание собравшихся на Форуме было вознаграждено появлением сенаторов, чьи строгие тоги белым пятном выделялись на фоне пестрой толпы. Отцы города торопливо пробирались к курии; они казались встревоженными и смущенными. С их появлением сомнения многих рассеялись, а эмоции вырвались наружу.
Над Форумом пронеслась весть о том, что Тиберий действительно умер. И красноречивей любых слов был всплеск радости и облегчения, в котором не было даже тени сострадания к умершему.
- Умер! Умер ненавистный тиран! Рухнула империя доносчиков, шпионов и палачей! Римляне, отныне не бойтесь ни ложных доносов, ни бесконечных поборов, ни казней! Теперь можно не притворяться, не льстить, не лицемерить! Прошло время гнусного деспота, его кровавых злодеяний и порочных забав, которым он предавался на Капри![19] Сегодня можно вздохнуть свободно! Да здравствует Республика!
Собравшиеся посылали проклятия мертвому тирану и с восторгом произносили имя, знакомое всем римлянам.
- Согласно завещанию деспота, - с упоением повторяли они, - вся верховная власть переходит к Гаю Цезарю[20], сыну Германика![21] Вот кто возродит Республику! Вот на кого нельзя не надеяться, как невозможно не почитать имени его матери, достойной Агриппины![22] Вот кто продолжит дело своего великого отца, прославленного победителя варваров!
Некоторые, правда, возражали. До сих пор этот юноша ничем не проявил себя, а то немногое, что о нем было известно, скорее не позволяло возлагать на него слишком больших надежд. Говоря так, люди припоминали и его угодничество по отношению к Тиберию, и склонность к жестокости, и необузданную похоть. Именно такие сведения о нем приходили с Капри.
Но большинство горожан было готово превозносить Гая уже за одно только имя его отца, популярного в народе. Маловерам отвечали: да, юноша был вынужден притворяться и не обнаруживать истинного характера, чтобы избежать участи, которая постигла весь род Германика. Несомненно, потворствуя низким прихотям тирана, он должен был ненавидеть Тиберия, который оставил без крыши над головой и довел до самоубийства его мать, отправил в ссылку одних его братьев и казнил других… Только нужда могла заставить его делать вид, будто он ничем не отличается от тирана и не имеет призвания к общественным делам. На самом же деле он с детства привык к военным походам; даже это имя, происходящее от слова «калига» - «сапожок», он заслужил из-за привязанности к солдатской одежде. А уж если в войске он пользовался всеобщей любовью, то, почитая его великого отца, разве можно было не верить, что Республика нашла в нем доброго правителя?
Подавляющему числу людей эти доводы казались убедительными, а потому общее настроение Форума было близко к ликованию. И не успели в курии провозгласить решение сената, как тысячи голосов дружно прогремели над площадью и крик этот был слышен далеко за ее пределами:
- Да здравствует император Гай Цезарь Германик!
Там же, где преобладали плебеи и бывшие легионеры, к этому приветствию добавилось еще одно:
- Да здравствует император Гай Цезарь Калигула!
Отзвуки этого торжествующего крика доносились и в курию, куда с полчаса тому назад прямо из Мизены прибыл префект претория Невий Сарторий Макрон: он принес весть о смерти Тиберия и завещание императора. Прислушиваясь к шуму толпы, Макрон изучал обстановку в зале.
Там, в глубине, между кармазиновыми и позолоченными ложами, уже больше двух часов переговаривались сенаторы. Многие из них были потрясены случившимся и имели явно растерянный вид. Другие открыто выражали радость.
Еще бы! Вот уже больше шестидесяти лет сенат был лишен реальной власти. Так повелось со времени искусного царедворца Октавиана Августа, который при помощи многочисленных фаворитов умел навязывать сенату свою волю: ведь после формальных обсуждений одобрялось любое его решение!
А за последние двадцать лет, порой из-за уступчивого Сеяна[23], порой из-за Макрона, замещавшего его по указанию прицепса, собрания некогда могущественного общества и вовсе стали походить на его похороны. Каждый чувствовал, что принадлежит к сборищу рабов, которых позвали хлопать в ладоши при первом слове хозяина. Любая прихоть тирана должна была беспрекословно исполняться. Из-за потакания сената его кровожадности самые именитые граждане, в достоинстве которых никто не сомневался, осуждались как преступники.
Итак, настал день, которого сенаторы ждали двадцать лет! Наконец-то! Прошло время постоянной боязни предательства, рассеялась удушливая атмосфера вечной подозрительности! Как свободно дышится! Как неудержимо течет кровь в жилах, оживляя бледные лица! Словно каждый сбросил маску вечно довольного дурачка Макка, которую нужно было носить двадцать лет! И лица вдруг приобрели человеческие черты, а вместе с ними нашлись слова, способные передать то, что таилось в душах!
Такие чувства переполняли большую часть из четырехсот отцов города, собравшихся в курии.
Сенатор Гней Корнелий Лентул Гетулик[24], известный как своим одиннадцатилетним консульством, так поэтическим талантом, громко говорил о необходимости возобновить центуриальные и трибунальные комиции[25], восстановить исконные права сената.
В другом углу зала пятидесятивосьмилетний консуляр[26], Марк Юлий Силлан[27], выступал с призывами не возвращаться к прошлому.
Принцип золотой середины отстаивали Валерий Азиатик[28], энергичный, крепкий, лет сорока, и Юлий Грек[29], сорокашестилетний автор признанного труда о сельском хозяйстве. Их слушатели одобрительно кивали. Отдельно от всех стояли два сенатора, еще не пришедшие к какому-либо мнению.
Сорокашестилетний патриций Сервий Сульпиций Гальба[30], потомок одного из самых древних римских родов, пользовался уважением как способный военачальник, четыре года занимавший должность консула. Он был подтянут, даже сухощав. Рано облысевшую голову обрамляли редкие белокурые волосы. Его горбоносый, резко очерченный профиль обладал какой-то своенравной неопределенностью, но голубые глаза смотрели открыто и простодушно.
Фаворит Ливии Августы[31], он должен был получить от нее наследство в шесть миллионов сестерциев[32]. Однако в завещании эта сумма была указана не прописью, а цифрами, и беззастенчивый тиран уменьшил ее ровно в сто раз. Начавшаяся тяжба затянулась, и в конце концов Тиберий вообще не стал платить денег, попросту присвоив их.
Гальба тяжело переживал эту несправедливость, но иногда находил утешение в мысли о гораздо большем наследстве, возможно, причитавшемся ему. Однажды в детстве он услышал от гадалки, что когда-нибудь станет императором, и теперь, никому не доверяя своих мыслей, любил порассуждать о сбывшихся пророчествах.
Вообще же, благоразумный от природы, он предпочитал меньше говорить и больше слушать. Может быть, именно эта склонность натуры принесла ему успех в сенате, где умение молчать порой ценилось выше, чем самое искусное красноречие.
Второй из двух сенаторов, казалось, ждал только подходящего момента, чтобы присоединиться к небольшой группе отцов города, нетерпеливо поглядывавших на него.
Его круглая, покрытая смолянисто-черной шевелюрой голова сидела на толстой, почти воловьей шее. Свисающие складчатые щеки образовали тяжелые мешки вокруг выпяченных губ и тяжелого подбородка. Черные мрачные глаза и большой нос, своим изгибом напоминавший орлиный клюв, заставляли предположить в этом человеке характер властный и жестокий.
Это был Луций Вителий Непот[33], потомок старинного рода Вителиев, военачальник, успевший сменить должности эдила курии, претора и консула. Одержав победу на Евфрате, он теперь намеревался заняться общественными делами, для чего на три месяца оставил командование армией.
Это он после загадочной смерти Германика, ревностным сторонником которого являлся, публично обвинил Пизона[34] в отравлении своего любимца и преследовал до тех пор, пока тот не покончил жизнь самоубийством.
При Тиберии он впал за это в немилость и был вынужден скрывать свои истинные намерения и мысли: лишь благодаря удачным военным действиям в Сирии он избежал расправы со стороны могущественного каприйского отшельника.
Сейчас он стоял в задумчивой позе, прислушиваясь к различным мнениям и решая, какое ему наиболее выгодно.
И вот, когда страсти накалились, а спорящие еще не утвердились ни в одном решении, в курию вошел Невий Сарторий Макрон, сопровождаемый двумя десятками верных ему сенаторов. Ему было уже сорок пять лет, суровые черты его как бы застывшего лица и подтянутая, мускулистая фигура говорили о привычке к дисциплине, слепом повиновении начальнику и абсолютной власти над подчиненными.
Шесть лет он был послушным исполнителем желаний Тиберия, а с другой стороны - требовательным предводителем преторианских гвардейцев.
И тем не менее этот служака уступил требованиям своей жены, Эннии Невии, состоявшей в адюльтере с Калигулой, и открыто поддержал стремление Гая Цезаря к верховной власти, чем в первый раз нарушил волю бывшего императора.
Сразу после кончины деспота он покинул Мизены, взял с собой завещание и два экземпляра золотых свитков, где говорилось о знатном происхождении сына Ливии. Прибыв в Рим глубокой ночью, он тотчас отправился в казармы преторианцев, где при свете факелов собрал трибунов[35] и центурионов, призвав их не забывать о сыне доблестного Германика, префект претория от его имени попросил поддержки и обещал каждому по двести сестерциев в случае успеха. Кроме того, он заручился помощью префекта вигилий[36], многих сенаторов и всадников[37], с которыми был дружен. Он же подкупил и часть плебеев, наутро приветствовавших Гая Цезаря.
- Макрон! Макрон! - оборачиваясь, перешептывались собравшиеся.
- Сальве, Макрон! Сальве, Макрон!
- Сальве, Невий! Сальве, Невий!
К нему протягивали руки, прикасались к одежде, похлопывали по плечу. Кто-то сокрушался о смерти Тиберия, кто-то справлялся о подробностях кончины, кто-то вспоминал заслуги покойного - и все дружно восхваляли Макрона, всегда справедливого, всегда преданного прицепсу[38] и закону.
- Как же восстановить древние законы в этом городе, - жест презрения вырвался у Валерия Азиатика, демонстративно повернувшегося к Лентулу Гетулику, - в этом городе, погрязшем в невежестве и пороке? Взгляни, Лентул, на этих отцов города, блеск и гордость всего Рима!
- Не совет римских сенаторов, а сборище бессовестных параситов и низких льстецов! - с отвращением бросил Гней Корнелий Лентул Гетулик, наблюдавший за подобострастной суетой вокруг вошедшего.
При этих словах маленькие черные глазки Макрона злобно сверкнули. Однако, справившись с собой, он сделал вид, что не расслышал оскорбления.
- Хватит болтать! - крикнул он хрипло. - Я привез завещание Тиберия Августа и призываю прицепса сената зачитать его!
Тотчас воцарилась тишина. Одного имени мертвого тирана было достаточно, чтобы каждый осекся на полуслове, вспомнив о страхе, накопившемся за двадцать лет.
От этого оцепенения первым оправился Луций Вителий Непот; он уверенно приблизился к Макрону и произнес:
- Приветствую тебя, благороднейший Макрон, и да будет прославлено на небесах величие Тиберия Августа, завещание которого клянусь прочесть и исполнить, даже если оно требует моей немедленной смерти.
Он пожал руку Макрона и сразу же выпустил ее, чтобы в знак особого уважения к нему прикоснуться к собственным губам и ко лбу; затем, взглянув в сторону Валерия Азиатика, он переменил тон:
- Видят боги, даже шуту Мнестеру[39] далеко до иных сенаторов!
Однако Макрон, словно не заметив ни явного заискивания, ни того, что прицепс сената готов был приступить к ведению собрания, поднялся на одну из самых высоких трибун и обратился к присутствующим с речью памяти Тиберия, которая скорее напоминала похвалу Гаю Цезарю, сыну Германика. Закончив ее и по-прежнему не обращая внимания на аплодисменты, он распахнул свою пепельную тогу[40], под которой тускло блеснули звенья кольчуги, и достал завещание мертвого императора: рукоплескания тут же сменились лицемерными вздохами большинства сенаторов.
Согласно завещанию, тиран назначил равные права престолонаследия Гаю Калигуле Германику и Тиберию Гемелу[41], отец которого, Друз, был отравлен ближайшим другом императора Сеяном.
Наступила минута замешательства. Страх перед именем Тиберия, который только что заставил сенаторов восхвалять его, тот же самый страх теперь предостерегал их от власти слишком близкого родственника тирана. Колебания усиливались из-за выступления префекта претории, явно противившегося утверждению Гемела в качестве императора.
Первым взял слово Вителий и стал превозносить достоинства Калигулы.
К нему присоединился Сервий Сульпиций Гальба, за которым последовали оба консула, избранные на этот год, - Гней Ацерроний Прокул и Гай Петроний Негрин Понтийский, консуляры Секст Папиний Гальян, Гай Цестий Галл, Марк Сервилий Генин[42] и многие другие сенаторы.
Против были только Марк Юлий Силлан, Лентул Гетулик, Валерий Азиатик, Марк Анний Минуциан[43] и несколько их сторонников, которые - во имя народа и сената - оспаривали право избирать верховную власть по произволу отцов города. Однако их выступления, беспорядочные и нерешительные, только внесли сухмятицу в обсуждение. Начались шум и неразбериха.
Тогда прозвучал громкий голос Валерия Азиатика:
- Нашего согласия вы не получите! Мы против этого!
- А мы за! Мы за! За! - орали сотни глоток.
- Против! Против! - пытались перекричать их десятки других.
- Кому нужно ваше согласие? - рявкнул Невий Макрон.
- Нас большинство - подхватил консул Гней Ацерроний Прокул.
- Нас в четырнадцать раз больше! - по-бычьи промычал Луций Вителий.
В эту минуту рев толпы, доносившийся с Форума, усилился настолько, что заглушил голоса сенаторов.
- Народ, преданный памяти божественного Германика, единодушно провозглашает императором его доблестного сына, Гая Цезаря! - собрав все силы легких, крикнул Невий Макрон.
- Вот почему мы поддерживаем божественного Гая Цезаря Калигулу, - проревел Вителий.
- Да здравствует император Гай Цезарь Калигула! - стали скандировать четыре сотни отцов города, вторя приветствию толпы, которое звучало все настойчивей.
- Народ желает Гая Цезаря, - надрываясь, снова перекричал всех Макрон, - и если в сенате не хватит нескольких голосов, то, клянусь, их заменят десять тысяч гвардейцев претория!
Слова префекта преторианцев вызвали целый шквал одобрительных аплодисментов.
В тот же миг с треском распахнулись ворота курии, не выдержавшие натиска плебеев, и в зал повалили сотни горожан, исступленно призывавших избрать императором Гая Калигулу.
Толпа в туниках[44] встретилась с толпой в тогах; те и другие рукоплескали сыну Германика.
Вскоре курия перестала напоминать даже видимость собрания, а огромный город стал праздновать провозглашение императором Гая Цезаря Калигулы, сына Германика.
Среди множества людей, наблюдавших за праздником со ступеней базилики Порция, обращала на себя внимание молодая дама, окруженная пятью слугами. Ей было лет двадцать. Несмотря на то, что роста она была среднего, широка в плечах и полногруда, дама казалась стройной благодаря тонкой талии и правильным пропорциям тела. Взгляды мужчин притягивало ее удивительно красивое лицо: у нее были огромные черные глаза, правильный прямой нос, большой рот с немного припухлыми губами, верхняя из которых слегка оттенялась нежным пушком над ней, маленький круглый подбородок с небольшой ямочкой; две точно такие же ямочки появлялись на глянцево-белых щеках, когда она улыбалась. Ее высокий лоб казался довольно низким из-за того, что его наполовину скрывала густая челка иссиня-черных волос.
Хотя дама была одета в дорогую тунику из тончайшего, шитого золотом сирийского льна цвета морской волны, - покрой которой почти обнажал грудь, и, хотя мочки ее ушей были украшены крупными изумрудами, а шея - изящным золотым ожерельем с жемчугом, все же по сравнению со многими другими дамами, носившими куда более дорогие наряды, она выглядела если не бедной, то привычной к скромной простоте.
Позади нее в позе, выражающей не только почтение, но и обожание, застыл евнух-эфиоп. В руках у него был шелковый зонтик, защищавший ее от солнца.
Еще дальше находились антеамбул[45], номенклатор[46] и два сопровождающих. Ниже на лестнице замерли четверо крепких рабов-далматов[47]. Они держали носилки и готовы были отправиться в путь по первому знаку госпожи.
Слева от нее стоял высокий и тучный мужчина лет сорока шести. Его большая голова производила то впечатление благородства, которое создается благодаря правильным чертам и одухотворенному выражению лица.
Широкий, великолепно вылепленный лоб этого человека обрамляла густая шевелюра, длинный прямой нос был слегка заострен книзу, щеки лоснились, так же как и маленький, мягко очерченный рот, под которым свисал двойной подбородок.
Словом, у него была внешность благополучного обывателя, любителя тишины и обильной пищи; если бы не напряженный блеск его глаз, в этом человеке можно было бы предположить добродушный и самодовольный характер.
В его одежде была заметна некоторая небрежность, хотя, судя по зауженной тоге, он принадлежал к избранному всадническому сословию.
Это были Валерия Мессалина, дочь Марка Валерия Мессалы Варбата, племянника сестры Августа Октавии, и Тиберий Клавдий Друэ, брат великого Германика. Он, соответственно, приходился дядей Гаю Цезарю Калигуле, новому императору Рима.
Справа от Мессалины стоял Тит Прокул, высокий элегантный юноша из всаднического сословия. Он старался предупреждать каждое ее желание.
Клавдий что-то говорил голубоглазому человеку среднего роста с растрепанной густой шевелюрой и столь же неряшливой бородой. Тот изредка отвечал, дружелюбно улыбаясь.
Собеседником Клавдия был Луций Анней Сенека[48], сорокалетний мыслитель, автор признанных трудов по философии. Поодаль находились два вольноотпущенника: Паллант[49], управляющий Клавдия, и Полибий[50], исполнявший обязанности его библиотекаря.
Вокруг базилики теснилось столько разнообразного люда, что каждый зритель поневоле смешивался с толпой: надменная матрона обнаруживала рядом с собой куртизанку, блиставшая нарядом юная патрицианка оказывалась бок о бок с чумазой женой мясника, а благоухающий франт сталкивался с закопченным кузнецом или булочником.
Мессалина, безучастно наблюдавшая за плебеями, которые снова и снова рукоплескали Калигуле, казалось, была целиком погружена в свои мысли и не замечала ухаживаний Тита Прокула.
В эту минуту Тиберий говорил с Сенекой об учении Александрины Социона и о его значении, с точки зрения последователей Академии[51].
- Сальве, Тиберий Клавдий Друз! Ты принадлежишь к славному роду Германика! Ты тоже имеешь право быть императором!
Эти слова принадлежали молодому центуриону из девятнадцатого легиона, стоявшему перед ступенями базилики Порция.
Клавдий, Сенека, Прокул, Полибий и все остальные мгновенно обернулись на звуки этого голоса, но, пожалуй, наибольшее впечатление он произвел на Мессалину, в глазах которой заиграл радостный блеск.
Крепкому загорелому центуриону было лет около тридцати. Из-под шлема выбивались непослушные пряди черных волос. Дерзкий взгляд его останавливался то на Клавдии, то на Мессалине. Звали его Деций Кальпурниан.
- Твои слова благородны, но безрассудны! - произнес с добродушной улыбкой Тиберий Клавдий, - увы, я не рожден для житейской суеты. Мой удел - уединенный труд среди мирных отеческих Ларов[52]. Отдаю должное твоему великодушному пожеланию, но еще больше я благодарен моей покровительнице богине фортуне, охранявшей меня от участия в государственных делах. На них я не променял бы и одного тома своей «Истории этрусков»![53]
Клавдий был доволен своими словами, чего нельзя было сказать о его супруге.
Нахмурив черные брови, она пробормотала презрительно:
- Чтоб ты подавился своей «Историей этрусков»!
- Книга хорошая, - примирительно заметил Полибий. - Но империя все-таки лучше!
А Паллант едва слышно прошептал:
- Клянусь Венерой Прародительницей, у твоей жены больше рассудка, чем у тебя, доблестный Клавдий!
- Опять, как всегда, все вы сговорились против меня, - смущенно бормотал Клавдий. Он хотел разозлиться, но не знал, как это сделать. - Я требую, я умоляю вас, - добавил он почти плача, - оставьте меня в покое!
Но Мессалина уже не могла удержаться. Не слушая мужа, она бросила Палланту:
- Попал в самую точку!
- Попала, - шепотом поправил ее Тит Прокул, который слышал ее предыдущую реплику.
- Тебе ли об этом судить? - съязвила дама, со злой усмешкой посмотрев на него.
Ее кавалер осекся и сник.
Минуту спустя Клавдий сказал на ухо Сенеке:
- Ума не приложу, как я дожил до смерти Тиберия? Чего я только не испытал! Каких страхов не перенес! Но, к счастью, Гай избавил меня от этого ужаса!
В это время новая волна неистовых криков прокатилась по Форуму: горожане приветствовали появление гвардейцев претории - Макрон действительно призывал их на площадь! - которые несли восковую фигуру Калигулы, водруженную на древко знамени. За ними следовала огромная толпа народа.
Всех, кто стоял на их дороге, оттеснили к дальним углам площади. Давка была бы неминуемой, если бы преторианцы не направились в сторону Марсова Поля[54], увлекая за собой плебеев и патрициев, желавших присоединиться к шествию.
Форум стал постепенно пустеть.
Случайно или нет, Деций Кальпурниан при первом же напоре толпы очутился на ступенях базилики Порция, где лицом к лицу столкнулся с Мессалиной! Кавалер оказался оттертым от нее, так же как и евнух, который все еще держал бесполезный зонтик.
Увидев, как его слова подействовали на Валерию Мессалину, центурион почувствовал, как кровь застучала у него в висках. На мгновение ему показалось, будто в глазах Мессалины промелькнули такие несбыточные обещания, что, отказываясь поверить в них, он принялся убеждать себя в обратном.
«Возможно ли? Нет, это обман чувств! Всего лишь помутнение рассудка, вызванное безнадежными мечтами! Чтобы дочь Мессалы, жена Клавдия, такая юная и прекрасная могла снизойти до меня? Ах нет, это невероятно! И все же, недаром ведь рассказывают о самых именитых матронах, не пренебрегавших даже мимами и гладиаторами. Чем же центурион хуже их?»
Охваченный противоречивыми мыслями, Деций Кальпурниан прямо перед собой увидел Мессалину, значение взгляда которой было бы понятно любому.
Сломленный этим взглядом, центурион умоляюще посмотрел на нее.
- Благодарю тебя, бесстрашный юноша, за чувства, которые ты только что выразил, - проговорила Мессалина нежным, чуть дрогнувшим голосом.
Деций побледнел. Задохнувшись от избытка чувств, он не мог подобрать слова. Ни одно из них не подходило для того, что он хотел сказать. Наконец он выдавил через силу:
- Спасибо тебе, прекрасная Валерия.
Сказав это, он почувствовал, как на его руку легла другая рука, прохладная и мягкая.
- О прекраснейшая! - прошептал центурион осипшим голосом. - Императрица… Клавдий…
И потерял дар речи.
- Не дрожи, - едва шевельнув губами, тихо сказала Мессалина, - приходи ко мне, ты мне будешь нужен.
- Только прикажи. Ты моя госпожа. Я твой раб.
- Тогда молчи и делай вид, что ничего не слышал, - быстро ответила жена Клавдия, заметив, что толпа стала расходиться и к ней возвращается ее муж вместе с Сенекой, Паллантом, Титом Прокулом и всеми, кого оттеснили от курии.
Деций Кальпурниан перевел дух. В его висках еще стучала кровь, рука еще хранила прохладу женской руки, но все это казалось сном.
Мимо базилики Порция проходили колонны горожан, приветствовавших Калигулу. Плотными рядами в несколько человек они все шли и шли, исчезая за углом арки Тиберия. А за уходившими следовали новые толпы.
Пестрый людской поток переливался тысячами цветов и оттенков: от грязно-белой тоги парасита до белоснежного латиклавия[55] сенатора; от небесно-голубой вуали на голове робкой девушки до вызывающе яркого индиго, в который был окрашен подоткнутый за пояс палий[56] проститутки из городского притона; от бледно-оранжевой свадебной туники до шафранового наряда матроны; от лиловой плебейской лацерны[57] до каштанового далматина на теле раба. Это изобилие красок озарялось ярким полуденным солнцем, придавая зрелищу фантастически-живописный вид.
- Двадцать четыре года, двадцать четыре года с небольшим, - продолжал Клавдий разговор с Сенекой, поглаживая ладонью складки кожи под подбородком, - мне ли этого не знать, когда я его дядя!
- Тем лучше! - вмешался Паллат. - Значит, не в двадцать пять, а в двадцать четыре года Гай завладел всем миром.
- Не знаю, владеет ли он хотя бы самим собой, - хмуро пробормотал Сенека.
- Уверен, он не понял учения стоиков![58] - подхватил Полибий, шедший за Сенекой и Клавдием.
- И платоников[59], - усмехнувшись, добавил философ и принялся разглядывать площадь.
Толпы уже заметно поредели, на ступенях под колоннадой базилики Порция оставались только Валерия Мессалина и отступивший от нее на несколько шагов центурион Деций Кальпурниан.
Мимо базилики Катона спешили зазевавшиеся горожане, которые пытались догнать шествие, направившееся в сторону Марсова Поля.
В их числе ковылял хромоногий старик, одетый как сенатор. Он опирался на посох из черного дерева, инкрустированный серебром и слоновой костью. Примечательна была не только его горбатая фигура, уродливость которой усугублялась короткой кривой ногой, но и совершенно плешивая голова, покрытая растительностью разве что под глазами и на подбородке, откуда редкие седые волосы взбирались к облысевшим вискам.
У него были некрасивые, но волевые черты лица. Щеки и подбородок, тщательно выбритые и умащенные благовониями, несмотря на все ухищрения во время утренних туалетов, были изрезаны морщинами преждевременной старости.
Это был Паоло Фабий Персик[60], три года назад исполнявший обязанности консула. Изящная туника и изысканная тога, котурны[61], украшенные яшмой с ониксом, и крупный бриллиант в золотой оправе, сверкавший на указательном пальце правой руки, говорили не только об изысканном вкусе их владельца, но и о его огромном богатстве. Состояние Паоло Фабия Персика равнялось пятидесяти шести миллионам сестерциев.
Поравнявшись с Мессалиной и стоявшим чуть поодаль от нее Клавдием, он оживился и вкрадчиво произнес:
- Сальве, прославленный Клавдий! Сальве, божественная Валерия!
В знак уважения он приложил правую ладонь ко рту и поклонился. Принимая ответные приветствия, поднялся на лестницу и слащавым тоном обратился к Мессалине:
- Поздравляю тебя с прекрасным днем, Валерия! Сегодня ты стала тетей императора!
- Лучше было бы стать женой императора, - чуть слышно обронила Мессалина, пожимая руку сенатора.
- Увы, твой муж не был бы самим собой, если бы не оказался таким простофилей.
- К сожалению, ты прав, - со вздохом согласилась дочь Мессалы.
- Ах, если бы я имел счастье быть твоим мужем, - еще тише, чем прежде, прошептал Фабий Персик и осторожно коснулся ее белого локтя.
- Уж не была бы я одета беднее всех римских матрон, - едва шевеля губами, шепотом продолжила его фразу женщина и, не высвобождая локтя, нежно посмотрела на Фабия.
- Сколько раз я тебе говорил, - глухо выдавил сенатор, - стоит тебе только захотеть, и все твои желания исполнятся.
В это время Клавдий, до сих пор занятый беседой с Сенекой, увидел, что Форум уже почти опустел, и громко спросил:
- Не желает ли Мессалина воспользоваться этим затишьем и вернуться домой? Обеденный час уже прошел, а мой бедный желудок не выносит подобного пренебрежения к нему.
- Сейчас, - ответила его жена и, взявшись за локоть Фабия Персика; стала спускаться с ним по лестнице. Переступая со ступени на ступень, она чувствовала на себе жаркий взгляд Деция Кальпурниана, который шел в нескольких шагах за ними.
- К твоим услугам носилки, а мы немного пофилософствуем, - сказал Клавдий.
Два патриция и два либертина пропустили вперед носильщиков, предшествуемых номенклатором и евнухом, которые все это время стояли наготове. Спускаясь по лестнице, Клавдий окликнул Деция Кальпурниана, провожавшего носилки красноречивым взглядом:
- Эй, юноша!
И, по-своему истолковав сконфуженность центуриона, он продолжил:
- Благоразумный человек должен удерживаться от опрометчивых поступков, подобных тому, который ты совершил сегодня. Забудь о моем родстве с Германиком, ты мне ничего не говорил, я тебя не слышал.
Степенно попрощавшись, он с достоинством спустился по лестнице и отправился вслед за носилками, рядом с которыми шел Паоло Персик, а чуть поодаль - Тит Прокул.
- Прекрасная Валерия! Позволишь ли ты поцеловать эту прелестную ручку? - прошептал старик.
- Позволю, - не смутившись, ответила Мессалина и протянула сенатору руку, которую тот благоговейно поцеловал.
- Сегодня ночью на улицах будет много народу, - шепнула она на прощание. - Приходи в час контицилия[62] и спроси Перцению.
Она махнула рукой, и Персик отстал от носилок. Но не успели далматы сделать и нескольких шагов, как с другой стороны носилок ее окликнул запыхавшийся Деций Кальпурниан. Она обернулась и произнесла:
- Прими еще раз мою благодарность за твое расположение к нам.
И, пока центурион подбирал ответные слова, она высунула голову за паланкин[63] и, глядя как бы на дорогу, добавила чуть слышно:
- Завтра на рассвете приходи ко мне. Только осторожно. Спроси Перцению.
Она улыбнулась и нежно помахала рукой…
Четверо далматов шагали в ногу, впереди них шел номенклатор, рядом с паланкином осторожно ступал евнух с зонтиком, а сзади плелся Клавдий, с видом знатока рассуждавший об изысканных яствах, которые ожидали его:
- Посмотрим, удались ли повару грибы под мавританским соусом.
И немного погодя мечтательно добавил:
- До чего же хочется обожраться! Просто нет сил!
ГЛАВА II
Перед ростральной трибуной[64] Юлия стояли роскошные похоронные носилки, окруженные запыхавшимися сенаторами и всадниками. В носилках лежало тело Тиберия, многочисленные язвы на лице которого были скрыты под маской из благовоний и редких мазей.
Пространство Форума начиная от арки Фабиана[65] было заполнено людьми. Они теснились и на ступенях храма Весты[66], и даже на широкой лестнице храма Кастора и Поллукса.
На рострах в величавой позе стоял высокий юноша, облаченный в черную тогу; он произносил похвальную речь Тиберию. Это был Гай Цезарь Германик Калигула, восемь дней назад провозглашенный императором.
Удлиненное лицо Калигулы было бы красиво, если бы не выражение мрачной свирепости, никогда не покидавшее его, словно он хотел вызвать ужас у всех, кто его видел.
Широкий и высокий его лоб, на который падала прядь каштановых волос, был грозно нахмурен.
Поредевшая шевелюра была зачесана так, чтобы по возможности скрыть раннюю лысину. Большие голубые глаза обычно выражали то гнев, то подозрительность, и поразительно быстро, почти по-детски меняли одно состояние на другое. Облик дополняли впалые виски, худые щеки, изогнутый аристократический нос, красивый чувственный рот и тонкая шея.
Фигура нового прицепса была, пожалуй, слишком полной, а ноги чересчур тонкими.
Когда Калигула появился на рострах, раздались аплодисменты, но в то же время послышались и голоса:
- Никаких похвальных речей! Хватит прославлять чудовище!
И тысячи глоток сразу подхватили:
- Тиберия в Тибр! Тиберия к Гемониям![67]
Тогда Гай Цезарь решил, что лучше начать с похвальной речи своему прадеду Августу, своим родителям Германику и Агриппине, а далее, как бы невзначай, упомянуть о дяде, имя которого вызывало столько ненависти. С мастерством опытного оратора, неожиданным в столь молодом человеке, он сумел составить выступление из импровизированных похвал Августу и Германику, обожаемым в народе, и из приготовленных накануне прославлений в адрес Тиберия, их потомка.
Его простая и строгая речь в целом вызвала одобрительные рукоплескания, хотя при всяком упоминании Тиберия слова нового императора заглушали яростные крики:
- В Тибр! В Тибр!
Поэтому в заключение Гаю Цезарю пришлось просить разрешения народа: ради памяти Германика и Агриппины позволить сжечь тело Тиберия и достойно похоронить прах.
После некоторого замешательства эта просьба была уважена.
Вскоре несколько сенаторов и всадников, сопровождаемых сотней преторианцев, без всяких почестей понесли тело к Марсову Полю. Им вслед полетели проклятия и ругательства.
Прибыв к мавзолею Августа[68], участники процессии предали огню останки Тиберия, а пепел собрали в урну и поместили в одну из ниш величественного монумента.
На этом погребение закончилось, и Калигула отправился в курию.
Там он оглядел сенаторов, притихших если не из уважения к традициям траурных церемоний, то из страха перед собственным будущим, и стал говорить.
Прежде всего он поблагодарил сенат, здравый смысл которого не позволил разделить верховную власть между ним и сыном Друза, Тиберием Гемелом, как предназначалось в завещании деспота; он заверил, что ни сенат, ни народ Рима не пожалеют о таком решении.
Он сказал также, что, тщательно изучив бумаги Тиберия, приказывает квестору[69] государственной казны без утайки выплатить все суммы, указанные в завещании усопшего императора, хотя в целом оно, конечно, не может иметь силы [I].
Кроме того, он распорядился выдать большую сумму преторианцам, вигилиям и легионерам. Это проявление щедрости нового прицепса было одобрено долгими аплодисментами.
Наконец, говоря о Тиберии, он во всеуслышание назвал его деспотом и призвал восстановить основы Республики: отныне все общественные дела должны были находиться в ведении сената, вобравшего в себя блеск и достоинство всего Рима [II].
Эти слова попали в самую точку. Притихшая на время курия разразилась бурными рукоплесканиями; сенаторы стали наперебой поздравлять друг друга с возвращением золотой поры Республики, которая, казалось, навсегда канула в прошлое. Многие плакали от счастья, обнимались и благословляли Гая Цезаря.
Лишь небольшая группа отцов города, возглавляемая Аннием Минуцианом, Лентулом Гетуликом, Юлием Греком и Валерием Азиатиком, не разделяла общего ликования, опасаясь поддаваться слишком уж обнадеживающим обещаниям.
Не обращая внимания на остальных, эти сенаторы хмуро переглядывались между собой, вполголоса высказывая сомнения в искренности только что прозвучавших слов.
- Как мне известно, Тиберий - а он был великим знатоком людей! - однажды заметил, что не оставил бы в покое Калигулу, если бы не воспитал в нем ядовитую змею для Рима [III].
Это сказал Лентул Гетулик.
- Я вам напомню о другом, - добавил Анний Минуциан, - еще на Капри Калигула так часто превозносил жестокость Луция Корнелия Суллы[70], что даже Тиберий в конце концов не удержался от реплики: «К сожалению, обладая всеми пороками Суллы, ты не имеешь ни одного из его достоинств» [IV].
И многие отцы города подтвердили, что до них тоже доходил подобный слух.
- А моя бедная дочь Юния, - дрогнувшим голосом произнес Марк Юлий Силлан, - которая, как вы знаете, была женой Калигулы и умерла на шестой месяц после свадьбы, говорила мне, что за его внешним безразличием к общественным делам, так же как и за страстью к высоким словам скрывается столько низких помыслов, сколько их не было даже у самого Тиберия!
Тем временем сенат, вызвав обоих консулов, Ацеррония Прокула и Петрония Негрина, предложил им сложить с себя полномочия, чтобы Цезарь мог принять консулат и по своему усмотрению выбрать подходящего помощника: Прокул и Негрин одобрили такое решение. Однако император категорически отверг подобную честь и, поблагодарив консулов за доверие, попросил их исполнять свои обязанности вплоть до календ июля, когда с согласия сената им будут назначены преемники.
Вновь последовали аплодисменты и одобрительные возгласы. Рукоплесканиями были встречены и три закона, которые Гай Цезарь вынес на рассмотрение сената. Во-первых, он пожелал выслать за пределы Рима спинтриев, изобретателей чудовищных сладострастий, и тех, кто открыто торговал своим телом; во-вторых, всем заключенным он дарил свободу, а в-третьих, всем изгнанникам предоставлял право вернуться на родину [V].
К единодушной радости присутствующих, все законы были приняты без промедления.
На этом Гай Цезарь объявил собрание законченным и вышел на Форум под восторженный гул толпы, в которой услужливые подхалимы уже разнесли весть о новых постановлениях верховной власти.
Приняв поздравления, Цезарь со своей свитой направился в Палатинский дворец[71]. Отряд из двадцати четырех ликторов[72] стал прокладывать ему дорогу. Процессия почти скрылась из виду, когда из курии вышел Валерий Азиатик и обратился к Аннию Минуциану:
- Интересно, сколько сенаторов осталось бы в Риме, если бы закон против разврата распространялся на всех соучастников этого греха?
Собеседник широко улыбнулся:
- Пожалуй, столько же, сколько уцелело после разгрома римлян в Каннах[73].
У Палатинского дворца, отстроенного Тиберием на месте старого дома императора Августа, Гай Цезарь Калигула расстался с отцами города, которые по очереди поцеловали его протянутую руку, в последний раз обменялся приветствиями со следовавшей за ним толпой плебеев и вошел в роскошный атрий[74] с колоннами из тибуртинского мрамора[75], греческими статуями и мозаичным полом.
Оттуда он направился в еще более великолепный таблий[76], по обе стороны которого шли двадцать четыре колонны из белоснежного чиполлино[77], а в глубине высился пожелтевший от времени цоколь, украшенный дорогими картинами и мраморными изваяниями всех представителей императорского рода. Расставленные по отдельным нишам, они изображали Юлия Цезаря, Августа, Октавию, Ливию, Марцелла, Антония Великого, Нерона, Клавдия Друза, Тиберия, Агриппину, Луция Цезаря и Германика. Была здесь и статуя Гая Цезаря.
Посредине таблия возвышались четыре золотых канделябра работы искусных греческих ювелиров, символизировавших четыре числа, которым римляне придавали особое значение: один, три, шесть и девять.
Вокруг них были расставлены софа, кресла и подставки для ног из слоновой кости; на полу лежали ковры, подаренные Антиохом из Тира[78].
Миновав двух безмолвных и неподвижных стражников, стоявших у входа в таблий, Калигула прошел внутрь и, сбросив на пол черную тогу, громко крикнул:
- Да провалится к Эребу[79] этот траурный наряд вместе с душой покойного Тиберия! Принесите застольное платье! И холодного фалернского вина с медом!
С этими словами он растянулся на софе, положив голову на подлокотник. На звук его голоса из спальни, примыкавшей к таблию, беззвучно вышла женщина, еще молодая и красивая.
Ей исполнилось тридцать два года, она была невысокого роста и довольно полного телосложения.
Густая копна ярко-каштановых волос наполовину скрывала ее плечи.
Бледное лицо женщины, не обладавшее греческим совершенством, было все же привлекательно благодаря гармоничности черт.
Ее миндалевидные глаза со зрачками цвета морской волны манили глубиной и живостью взгляда. Маленький нос был слегка вздернут над влажными чувственными губами.
Она была одета в безукоризненно белое застольное платье, украшенное розами. Легкий наряд женщины едва прикрывал ее алебастровую грудь и гладкие, полные руки.
Это была Энния Невия, жена Невия Сартория Макрона, два года назад ставшая любовницей Калигулы.
Энния задержалась, увидев слугу, который нес императору халцедоновый кубок на золотом подносе. Калигула отпил из кубка и, возвратив его слуге, вздохнул с облегчением:
- Вот так-то лучше!
Слуга поклонился и вышел. Тогда Энния на цыпочках подкралась к спинке софы, на которой лежал новый властелин Рима, и, наклонившись, приложилась губами к его лбу.
- Ах! Это ты, Невия? - воскликнул Калигула. Он повернулся, обхватил женщину за талию и усадил рядом с собой.
- Я, любимый! - нежно ответила она, поглаживая его по щеке. - И я уже готова к обеду, потому что знаю, как ты проголодался.
- Ты так заботлива, - сказал Калигула, целуя ее, - и так красива.
- Как бы я хотела всегда казаться тебе такою! - произнесла Энния и, неожиданно погрустнев, добавила: - Увы! Теперь, когда ты стал императором, у меня появилось много соперниц. Думаю, они уже начали осаждать тебя.
- Ну, Энния, не мучай меня своей ревностью.
- Ты молод и легкомыслен, - продолжала женщина, не дав прервать себя. - А сегодня ты стал всесилен, как никто в мире!
- Что ж! - помрачнев, медленно произнес Калигула. - Да, я всесилен, как Зевс![80] И даже больше! - Потому что я здесь, на земле, а он так далеко!
Энния Невия помолчала, а потом прошептала сквозь слезы, которых, казалось, не замечала:
- О да! А как ты говорил там, на Капри. О нашей любви.
- Но я и сейчас тебя люблю! Только не плачь, не мучай меня, - произнес Калигула, черты лица которого постепенно разгладились, а голос зазвучал мягче.
- О, Гай! - всхлипнула Энния, - ты знаешь, как я тебя люблю. Я это говорю не потому, что ты стал так велик: мне страшно потерять твою прежнюю любовь. Как я хочу, чтобы Тиберий был еще жив, а ты оставался бы тем же бедным сыном Германика: покинутым и забытым всеми, но моим… только моим!
- Опять за свое! - воскликнул император, снова выходя из себя, - кто же тебя лишает моей любви?
- Да все, все! Мало ли в Риме дерзких и богатых женщин - от Домиции Лепиды до ее дочери Валерии Мессалины, от Поппеи Сабины до Лоллии Паолины, от Элии Петины до Юнии Кальвины, наконец, от грязной Пираллиды до гадкой Лициции[81], - которые только и думают, как бы тебе приглянуться! У них одно на уме - занять мое место в твоем сердце!
- А кто из них сможет приказать моему сердцу? - спросил Калигула таким мрачным тоном, какой Невии был еще не известен.
Она хотела что-то сказать, но вдруг осеклась и повернулась к Калигуле, который хмуро смотрел на нее.
- Кто прикажет мне, императору?!
- Тот, - глубоко вздохнув чуть слышно произнесла она, - кто завладеет твоими чувствами.
- Власть чувств недолговечна! - пожав плечами, безапелляционно заявил сын Германика.
- О, горе мне, несчастной! - внезапно воскликнула женщина, вновь разрыдавшись и закрыв лицо руками, - я так и знала! Я сразу все поняла!
В эту минуту в дверном проеме появился стройный голубоглазый молодой человек лет двадцати восьми, с огненно-золотистой шевелюрой и бледным веснушчатым лицом. Маленькие руки и короткие ноги говорили о его высоком происхождении. Признак породы был виден и в высокой шее.
Одетый в желтую тунику с голубой каймой, он держал в руках наряд императора, предназначенный для застолья. Остановившись у порога, молодой человек согнулся в глубоком поклоне и произнес:
- Да хранят боги императора Гая Цезаря Германика Августа.
- Это ты, Калисто? - спросил Калигула, обернувшись. - Что ты принес?
- Тебе застольное платье и напоминание о том, что настал час обеда.
- Тогда добро пожаловать, ты, как всегда, вовремя! - воскликнул Калигула, улыбнувшись либертину и жестом приглашая его войти.
После того, как Калисто помог ему переодеться, он озорно щелкнул его по щеке и, подмигнув, сказал:
- Ну, Калисто, друг и свидетель моего мрачного прошлого, не пора ли отомстить за все наши страдания?
Затем, неожиданно хлопнув в ладоши, он как-то странно посмотрел на слугу и продолжил:
- О да! Во имя Геркулеса, нам есть за что отомстить! И, клянусь, мы расплатимся сполна! У нас задрожат и люди, и боги!
Он помолчал и добавил уже другим тоном:
- Ладно, Калисто, ладно.
Либертин подобрал траурную тогу Калигулы и, поклонившись, вышел.
Повернувшись, император быстро подошел к софе, схватил за запястья Эннию Невию и, притянув ее к себе, посмотрел ей в глаза долгим взглядом, одновременно выражавшим и ярость, и нежность. Энния, опустив голову, не сводила глаз с ковра Антиоха, лежавшего у нее под ногами.
- Слышала? - наконец выговорил Калигула. - Слышала? Так давай же радоваться. Хватит с нас тех мучений, которые нам пришлось пережить на Капри. Больше не надо плакать. Ну, Энния, милая…
Он опустился на колени, обхватил ее шею одной рукой и припал губами к ее губам. Потом глухо сказал:
- Я тебя люблю и буду любить. Только не расстраивай, меня, не ревнуй, не подозревай. Не забывай, что ты тоже принадлежала Макрону. Такому доблестному мужу и такому услужливому.
Вдруг, припав к груди женщины и покрывая ее поцелуями, он спросил:
- Как по-твоему, я красивей Макрона?
- Красивей всех. Красивей Аполлона!
- Ты действительно ненавидишь Макрона?
- Он мне отвратителен.
Я сделаю тебя своей женой. Августой.
- О, Гай, возлюбленный мой, - прошептала женщина, страстно целуя императора.
- Давай же осмотрим наши будущие брачные покои, - вставая и беря ее под руку, произнес Калигула, - а потом пойдем на обед.
Молча и нежно глядя друг на друга, они направились в комнату, откуда недавно вышла Энния Невия.
- Сальве, Цезарь Август! По твоему повелению, напоминаю тебе, что твой иудейский друг Агриппа[82] из Иродов.
Этот звучный баритон донесся со стороны главного входа в таблий.
Калигула и Энния одновременно обернулись на голос и увидели Невия Сартория Макрона, одетого в белую, окаймленную пурпуром тогу, из складок которой торчала рукоять меча.
- Сальве, мой верный Макрон! - ответил Калигула, остановившись. - Через полчаса мы пойдем на обед, а после него отправимся в тюрьму Мамертин. Вот там ты и расскажешь об Агриппе.
- Будет так, как ты прикажешь, - произнес Макрон.
Калигула, не выпуская руку Эннии Невии, медленно пошел прочь. Однако, пройдя несколько шагов, он снова остановился и вкрадчиво спросил:
- Знаешь ли ты, Макрон, что твоя супруга очень красива?
- Я рад, что она тебе нравится.
- Я ее обожаю, Макрон.
- Благодарю тебя за это.
- Подожди немного и мы вместе пойдем обедать.
- Хорошо, я буду в таблии [VI].
Когда Калигула и Невия скрылись в покоях, префект претория принялся ровными шагами ходить из угла в угол, словно хотел измерить длину комнаты.
Правую ладонь он положил на локоть левой руки, которой подпирал подбородок. У него был вид человека, глубоко погруженного в свои мысли. О чем он думал? Об измене, которой едва не стал свидетелем? А может, хотел отомстить за свой позор?
«Откровенно говоря, я не вижу в Эннии тех достоинств, которые находит в ней Калигула, но тем лучше! Горе тем мужьям, которых наши скромные матроны обманывают по десять раз на дню, но если Энния понравилась Калигуле, то это удача! Во имя Кастора! Уж лучше пусть изменяет с Цезарем, чем с первым попавшимся актером, атлетом, гладиатором, даже с рабом, как все остальные! Цезарь раздает и отнимает почести и богатство. Что верно, то верно. Энния превзошла многих в искусстве нравиться мужчинам! И это все ради меня! Я помню, что она говорила мне на Капри: «Вот кто будет преемником Тиберия: Тиберий скоро умрет, а Гай останется, - молодой, пылкий. Нужно быть рядом с ним. В нем залог нашего будущего!» Так размышлял обманутый муж.
Казалось, Макрон был доволен. Он скрестил руки на груди и, постояв немного, возобновил прерванное хождение из угла в угол.
«Во имя Геркулеса, так все и произошло! С моей помощью он достиг вершин того, о чем может мечтать человек! Он мне обязан всем: и верховной властью, и объятиями моей жены! В июле он примет консулат, а я вместе с ним стану консулом! Консул Сарторий Макрон! Во имя Геркулеса! Вот она, удача! Неслыханная удача для плебея, простого солдата. На следующий год я буду проконсулом[83]. Энния мне поможет выхлопотать назначение в Сирию. Там в долине Евфрата живут парфяне[84]; они до сих пор не покорены. Макрон их победит! Он привезет в Рим столько золота, сколько не было у Марка Красса[85], которого разбили парфяне. Вот за его поражение и отомстит Невий Сарторий! И заслужит триумфальные почести, богатство, покой. И если Гай Цезарь - а он ведь переменчив и капризен! - разлюбит Эннию… да, скорее всего, так и сложится. Тогда у меня будет все: власть, богатство, достоинство и Энния. Вот когда я буду счастлив и спокоен, как и полагается старости».
Мысли роились в голове Макрона, пока он мерял шагами просторный зал во дворце Тиберия.
Час спустя в великолепном императорском триклинии[86], стены которого были украшены роскошными картинами, изображающими пиршества различных мифологических персонажей, сгрудившись вокруг стола, уставленного серебряными блюдами с золотой инкрустацией и халцедоновыми чашами, на трех пурпурных ложах возлежали Гай Цезарь и его восемь сотрапезников. Они были заняты обедом, который, по мудрому совету древних римлян, должен был состоять из легкой и умеренной пищи, но к описываемому времени превратился в апофеоз чревоугодия, вредного как для желудка, так и для души.
На первом ложе, слева от входа в триклиний, удобно расположился сам император Калигула, рядом с ним возлежали Невий Сарторий Макрон и Энния Невия. Посередине устроились Луций Анней Сенека, Тиберий Клавдий Друз, занимавший центральное место за столом и, видимо, на пиру, и его жена, Валерия Мессалина. Справа от входа лежал Гай Петроний Понций Негрин, один из консулов, избранных на этот год. Возле него отдыхала Агриппина, сестра императора, всего лишь двадцать дней назад родившая своего первого и последнего сына, Гнея Домниция Знобарба - того самого, который после усыновления получит имя Клавдия Нерона, а семнадцать лет спустя станет императором, - и, наконец, у самого края непринужденно развалился мим Мнестер, прелестный и стройный, от природы наделенный блестящим даром имитации.
Уже давно были вкушены изысканнейшие блюда: ароматные ионийские устрицы возбудили аппетит участников трапезы; нежнейшее мясо молочного козленка, приготовленное под великолепным пикантным соусом, утолило их первый голод; среди морских деликатесов, красовавшихся на столе, были отведаны девять огромных мраморных краснобородок[87], каждая из которых стоила не меньше трех тысяч сестерциев; даже приправа из фазаньих языков была попробована и заслужила одобрение Клавдия, Петрония и Мнестера, самых признанных гурманов из числа всех собравшихся.
Уже были пущены по кругу цекубы с фалернским вином, и теперь слуги, трое мальчиков рабов в розовых венках и подпоясанных платьях, разливали в кубки отборное Хио.
Сотрапезники Калигулы были облачены в безукоризненные застольные наряды белоснежного цвета. Каждому гостю кравчий[88] водрузил на голову пышный розовый венок.
- Да ниспошлют боги сто лет счастливой жизни моему владыке, императору Гаю Цезарю Германику, и еще пятьдесят лет его непревзойденному повару, приготовившему такие замечательные блюда, - в очередной раз провозгласил тост Клавдий, раскрасневшийся и порядком охмелевший от неумеренных возлияний.
- Долгая жизнь и вечная слава божественному императору Гаю Цезарю! - воскликнула Валерия Мессалина и, встав со своего места, пристально взглянула на племянника.
- Слава! Слава! - подхватили все остальные.
- Благодарю всех, а особенно нашего известного бездельника Клавдия и его очаровательную Валерию.
Присутствовавшие засмеялись, и первым, расхохотался Клавдий, пребывавший в самом веселом расположении духа:
- Конечно, бездельник! А потому прошу не бросать меня на произвол судьбы и почаще приглашать к этому столу!
- О, Август, ты красив и великодушен! - глядя в глаза Калигуле, сказала Мессалина, - позволь же мне злоупотребить твоей щедростью и просить милости, на которую рассчитываю не я одна!
- Говори, я слушаю, - произнес Калигула, который уже давно не сводил глаз с супруги Клавдия. - Все желания моей очаровательной тетушки должны быть исполнены.
Энния Невия бросила на Мессалину взгляд, исполненный ненависти и злости; те же чувства отразились и в бледно-голубых глазах Агриппины.
- Боги давно ведают о благосклонности, - начала Мессалина, - которую ты мне оказываешь, и которую, к сожалению, я не совсем заслужила, будучи далека от государственных дел. Но я прошу всего лишь о небольшом одолжении. Что ты ответишь на просьбу о зачислении в ряды преторианской гвардии человека, всей душой преданного тебе и дому Юлиев[89], центуриона девятнадцатого легиона Деция Кальпурниана, который сейчас в отпуске и находится в Риме?
Клавдий, как ни был пьян, от этой выходки жены похолодел и, повернувшись к Сенеке, проворчал вполголоса:
- Что за глупости у женщины на уме? Безрассудство моей жены скомпрометирует меня перед императором. Будто не знает его характера. Он же подумает, что я хочу стать префектом претории! Нет, не зря греки запирали своих трещоток в гинецее![90] О, мудрые греки, где вы?!
Однако последних слов Сенека не расслышал, потому что их заглушил голос Калигулы:
- Макрон! Сегодня же прикажи записать в когорты преторианцев Деция Кальпурниана, рекомендуемого нашей очаровательной тетушкой. Только не центуриона, а трибуна: отныне он будет носить более высокое звание.
А пока Мессалина рассыпалась в благодарностях Калигуле, многообещающе глядя на него, Луций Анней Сенека, словно забывший знаменитое учение Платона и Зенона[91], с заметным пристрастием рассматривал совершенные формы Агриппины, сестры императора.
Ей недавно исполнился двадцать один год. Она была высока, стройна, несмотря на осиную талию, обладала довольно широкими плечами и роскошной грудью, наполненной молоком для маленького Нерона.
Аристократичность обнаруживала себя в чертах ее лица правильной овальной формы: в высоком лбе, тонком носе, маленьком изящном рте и грациозно приподнятом подбородке.
Чудесные ярко-каштановые волосы были мелко завиты и, обрамляя прекрасную голову, падали на плечи двумя косами.
Восхитителен был разрез ее серо-голубых глаз, блестевших, как лезвие стального кинжала.
Она производила впечатление умной, расчетливой и холодно-высокомерной женщины.
Но последнего никак нельзя было сказать об Эннии Невии, которая в глазах Мессалины, как в открытой книге, прочитала все ее намерения и теперь не могла сдержать вспыхнувших ненависти, страха и желания спасти Калигулу от чар других женщин.
Она слишком исстрадалась. Сколько она пролила слез, сколько раз пробовала жаловаться на Мессалину, и лишь вызывала гнев своего возлюбленного!
- О, божественный Гай, - прошептала она Калигуле, как только тот назначил Деция Кальпурниана трибуном преторианцев, - не верь этой распутнице. Не предавай твою бедную Эннию, которая тебя так любит.
Калигула, не вставая с ложа, приподнялся на локте, а другой рукой придвинул к Эннии халцедоновый кубок, только что наполненный внимательным кравчим:
- Не бойся, Энния, и не огорчай меня. Выпей из моего кубка за милосердие твоего императора.
Зардевшись от этого знака особой благосклонности и словно забыв горечь недавних слов, женщина преданно взглянула на Цезаря и взяла со стола кубок:
- Здоровья и процветания величайшему императору Гаю Цезарю Германику!
Она выпила половину кубка и вернула его Калигуле, который допил остальное.
- А о чем задумался наш философ, - внезапно оживившись, обратился Гай Цезарь к Сенеке, - который так внимательно разглядывает достоинства моей сестры Агриппины?
- Твоя сестра удивительно похожа на твою мать: то же благородство и гармония черт.
- Ты сегодня настроен на комплименты, любезный Сенека, - откликнулась Агриппина. - Богам угодно, чтобы дети походили на матерей.
- Бедная наша мать! - воскликнул Калигула. - Когда я думаю о ее страданиях, то во мне разгорается столько ненависти к Тиберию.
Он ненадолго замолчал, а затем поднялся со своего ложа и продолжил:
- Вы не знаете: три года назад, когда мы жили в доме тирана на Капри, я однажды ночью оказался рядом со спальней Тиберия. Прислуга ушла, внутри было тихо. Только из комнаты возле атрия доносился храп преторианцев. Вдруг я вспомнил детство, мать, бедных братьев Нерона и Друза[92]. И тогда во мне что-то перевернулось, произошло что-то необъяснимое. Точно кровь закипела в жилах и ударила в голову. Мне вдруг послышался какой-то смутный гул, как будто где-то рядом заговорили сотни приглушенных голосов. Не осознавая всего происходящего, я понял только то, что вынимаю из ножен кинжал и иду в спальню Тиберия. У меня помутился рассудок, и я бы не задумываясь убил ненавистного тирана. Я чувствовал, что должен отомстить за истребление всего моего дома.
- Во имя Марса-мстителя, ты должен был убить его! - нарушил тишину возглас Агриппины, которая с напряженным вниманием слушала рассказ брата.
- Я его увидел при слабом свете лампы. Он беззаботно спал. Глаза были плотно закрыты, мерно дышала грудь. Но даже во сне его лицо, покрытое кровоточащими язвами, вызывало ужас.
- А лицо императора - это лицо всей империи! - неожиданно повысил тон Калигула и, помолчав немного, продолжил:
- Я задрожал от страха. На лбу выступил холодный пот. В голове промелькнула кошмарная мысль: а вдруг этот старый притворщик только делает вид, что спит? Вот он смотрит на меня сквозь прикрытые веки. Вот сейчас поднимет свою чудовищную руку - вы ведь знаете, он и в старости был неимоверно силен - и, словно стальными клещами, сожмет мое запястье. Мои нервы не выдержали, и я бросился прочь.
- Ты струсил! - угрюмо заключила Агриппина.
- Да, струсил, - согласился император и, ни на кого не глядя, опустился на свое ложе.
Воцарилась такая тишина, что стало слышно, как Клавдий жует куски недавно принесенного фруктового пирога, которым он, пребывая в глубокой задумчивости, машинально набивал рот.
- Наверное, я правильно поступлю, - спустя некоторое время проговорил Калигула меланхоличным тоном, - если прикажу жрецам и преторианцам отправиться на Пандетерию и Понтийские острова[93], чтобы с подобающими почестями вернуть прах нашей любимой матери и бедного брата Нерона, а потом поместить их в мавзолей Августа. Пусть у народа будет возможность выразить почтение, которое он к ним питает.
- Это будет правильно, - сказала его сестра, - и, если нужно, то я буду сопровождать тебя в этой скорбной поездке. Но лучше было бы покончить с тираном в ту несчастную ночь…
- …Когда ты, по моим сведениям, разбудил нескольких до сих пор неизвестных тебе людей, участвовавших в гонениях на тебя, - добавил консул Петроний Негрин.
- Молчи! - вскричал Калигула, - доносчикам будет закрыт путь ко мне!
- Высокие слова, достойные сына Германнка? - воскликнул Клавдий, положив в рот последний кусок пирога, лежавшего перед ним.
- Слова, достойные самого великодушного прицепса! - поддержал его Сенека. - Милосердие есть первая добродетель того, кто находится на троне. В ответ на твое благородство, я, если позволишь, посвящу тебе трактат о милосердии, который сейчас пишу.
- Если ты напишешь, что посвящаешь эту добродетель другим, то многочисленные критики твоего учения не останутся в долгу перед тобой, - ехидно заметил Калигула.
- Но я бедный философ и никому не даю денег в долг!
- Бедный, да не настолько, насколько требуют от философа стоики, учения которых ты, как говорят, придерживаешься.
Этот разговор, не суливший ничего хорошего для славы мыслителя, чьи слова слишком часто расходились с делом, был прерван появлением кравчих: они принесли мускатное вино Лесбоса в золотых кувшинах.
Новые заздравные тосты привели сотрапезников в состояние необузданного веселья.
- Клавдий! - смеясь, заметил Калигула, наблюдавший за своим дядей, - ты самый ненасытный обжора!
- За столом он всегда голоден, как волк, - вставила Мессалина, - а в библиотеке превращается в мелкого грызуна и может целыми днями не вылезать из своего угла.
Все рассмеялись, включая Клавдия, который наигранно пожаловался:
- Я бедный человек, рожденный для ученья. Не отнимайте у меня моих маленьких радостей, к которым был неравнодушен даже Эпикур[94], которого я очень люблю. Ты же знаешь, Цезарь, мне нужно немного.
- Ты - бедный человек? Бедный? - воскликнул Калигула, давясь смехом. - Во имя Геркулеса, я положу конец твоей нищете. Я сделаю тебя богатым, мой ненасытный обжора!
С этими словами он схватил свой кусок пирога и быстро размазал его по лицу Клавдия.
Раздался дружный хохот, и первым вновь рассмеялся Клавдий, который, вытирая лицо, произнес:
- Безмерно благодарен тебе и, если позволишь, посвящу тебе трактат «История этрусков», который сейчас пишу.
- Ну уж нет! Пускай этруски останутся в своих гробницах и не тревожат моего слуха!
- Но позволь! Они были талантливы, трудолюбивы, умели торговать.
- Хватит! Хватит! Ты, наверное, хочешь, чтобы я заснул после доброго обеда, и для этого рассказываешь про своих этрусков.
Внезапно он придал лицу озорное выражение и резким движением засунул за шиворот Клавдию финик, а потом заговорщически подмигнул остальным и толкнул локтем Эннию Невию, чтобы она сделала то же самое.
И пока Клавдий с неподдельным удивлением оборачивался, ему в плечо ударила спелая слива. Он еще раз обернулся - и, ко всеобщему удовольствию, Мессалина запустила в его спину орехом. Не заставили себя ждать Макрон и Петроний, принявшиеся бросать со стола все, что попадало под руку.
Клавдий, растерявшись, но не обидевшись, немного замешкался, а чуть погодя принял условия игры:
- Вот как! Вы на меня охотитесь? Ну хорошо, тогда я убегаю!
Он вскочил со своего места, подбежал к жене и быстро спрятался за ее спиной, присев на корточки и обхватив голову руками.
Гости одобрительно зашумели, и, ко всеобщему восторгу, Калигула воскликнул:
- Макрон! Пусть квестор государственной казны ежегодно выдает по два миллиона сестерциев моему дяде, Клавдию. Во имя Геркулеса! Брат Германика не должен жить между этрусками и нищетой!
В этой суматохе Энния улучила момент и подошла к Калигуле. Она взяла его руку и прежде, чем поцеловать, слегка сдавила ее своими белыми зубами.
Калигула издал удивленный возглас, в ответ на который она положила руку ему на плечо и нежно улыбнулась:
- Ты испугался, мой повелитель?
Калигула отрицательно покачал головой и нежно посмотрел на нее; а Энния страстно добавила:
- Я хотела укусить и поцеловать тебя, мой единственный супруг.
Калигула почувствовал, как в нем закипела кровь: Энния знала, на какие струны отзывались его чувства.
Император пылко сжал руку любовницы:
- Но твой муж не я.
- Нет, - жарким шепотом проговорила Энния, - мой муж - ты, а не Макрон.
Энния Невия выиграла в этот день битву за обладание Калигулой.
В услужливой суете слуг и рабов, принесших столы двух дам и тоги мужчин, которые они сложили на софе, стоявшей в углу триклиния, в неразберихе прощальных любезностей случилось так, что Валерия Мессалина и Энния Невия случайно оказались рядом друг с другом.
- Не ревнует тебя твой Макрон из-за удивительной благосклонности, которую оказывает тебе божественный Гай? - спросила Мессалина, поправляя складки великолепного кармазинного палия с желтой каймой.
- Не больше, чем Клавдий к центуриону Кальпурниану и к сенатору Персику, - парировала супруга Макрона, бросив язвительный взгляд на дочь Мессалины.
- Макрон готовится стать консулом? - с иронией в голосе продолжала спрашивать Мессалина.
- Лучше скажи, новоявленная Европа, к чему готовится твой Зевс, превратившийся в быка? - в свою очередь задала вопрос Энния Невия.
Мессалина резко обернулась, а потом сделала вид, что разглаживает кайму своего палия на левом плече.
Овладев собой, она желчно и холодно проговорила:
- А может быть, Макрон не станет консулом.
- Кто знает?
- Я знаю! До встречи, Энния.
- До встречи, Валерия.
- Твой муж никогда не будет консулом! - напоследок не удержалась Мессалина.
ГЛАВА III
Прошел месяц после событий, описанных в предыдущей главе.
Сдержав слово, император Калигула побывал на островах Пандетерия и Понта, откуда привез в Рим прах своей матери и брата. С пышной торжественностью урны с их пеплом были помещены в мавзолей Августа.
В течение этого месяца сын Германика во многом оправдал надежды римлян, доверявших ему верховную власть.
Правителем он был милосердным и щедрым: народ в это время увидел захватывающие гладиаторские бои и увлекательнейшие представления на любой вкус. Сословие всадников расширилось, приняв в свои ряды самых достойных граждан Италии, Испании и Галлии. Кроме того, были восстановлены в правах многие незаслуженно гонимые представители этого сословия.
Доносов и доносчиков он не терпел: вынеся на всеобщее обозрение множество тайных писем, оставшихся после Тиберия, он поклялся всеми богами, что не читал ни одного из них и, к бурному ликованию собравшейся толпы, велел сжечь все эти бумаги [I].
Но в частной жизни император отнюдь не старался заботиться о своей репутации. Вечера, которые он проводил в кутежах с актерами, кравчими и куртизанками, порой заканчивались оргиями, продолжавшимися до утра. Была в нем и страсть к различным сценическим представлениям, причем Цезаря занимали в них отнюдь не заезды колесниц или танцы.
Впрочем, эти ночные развлечения никем и нигде не осуждались - верно, потому, что они вовсе не были предназначены для широкой огласки, и, еще вернее, потому, что, к стыду римлян, с их стороны, было бы несуразно требовать от прицепса строгого благонравия в ту пору, когда бедные и богатые, плебеи и патриции - все жили между распущенностью и пороком.
Единственным человеком, осуждавшим безнравственность императора, была Энния Невия, которая больше всего на свете боялась потерять своего молодого возлюбленного. Терзаемая этим страхом, она никак не могла убедить себя, что роскошная суета Рима была для нее лучше мрачного заточения на Капри.
Однако, пока ее венценосный любовник, несмотря на измены, сохранял прежнюю любовь и нежность к давней избраннице, она - не без мудрого совета Макрона - была готова мириться с душевной болью и прощать частые отлучки Гая Цезаря.
Более серьезные страдания ей причиняла Мессалина, очевидным намерениям которой способствовали не только распутные нравы Вечного города, но и родственные узы, связывавшие ее с императором. Энния Невия пришла к мысли, что малопристойные развлечения Калигулы не так для нее опасны, как возможная интрига между Гаем и супругой Клавдия.
До сих пор разные обстоятельства препятствовали исполнению желаний Мессалины.
Во-первых, ее малолетняя дочь Оттавия недавно заболела на вилле в Сабини, куда ее отвезли для летнего отдыха.
Мессалина, еще в молодости доказавшая свою безнравственность, все же была еще не настолько развращена, чтобы забыть материнские чувства. Кроме того, здесь ей приходилось действовать с оглядкой на мужа и сплетни горожан. Итак, в данное время она была прикована к постели дочери, которая, несмотря на усилия всей семьи, выздоровела лишь к пятнадцати годам.
С другой стороны, сам Калигула, днем занятый общественными делами, а ночью - увеселениями, был не очень-то доступен для Мессалины, явные цели которой вынуждали найти время и место для конфиденциального разговора с императором: задача трудновыполнимая, поскольку на улице его всегда сопровождала толпа поклонников, а дома он находился либо на очередном пиршестве, либо под пристальным надзором ревнивой и насмерть перепуганной Эннии Невии,
Тревожась за будущее, она то и дело просила Цезаря освободить от должности прежних двух консулов, Ацеррония и Петрония, чтобы он мог занять их место в паре с ее мужем, Невием Макроном, однако император всякий раз ссылался на необходимость соблюсти старый обычай, согласно которому консулов на, следующий срок - с июля по декабрь - должен был назначить сенат. Таким образом, у него существовали веские доводы против немедленного удовлетворения ее просьбы, если же она продолжала настаивать, то он выходил из себя и заканчивал разговор неизменным обещанием развести ее с Макроном и сделать Августой.
Вот почему Энния Невия жила в постоянном страхе, от которого искала спасения в смутной надежде на то, что когда-нибудь настанет час ее блистательного триумфа.
Так она встретила календы мая 790 года по римскому летоисчислению, когда народ беззаботно отмечал четвертый день праздника Флореалей, что начался в четвертый день майских календ (28 апреля) и должен был продлиться шесть дней, до пятого после девятого дня (3-го по новому стилю) мая.
В первый майский день, продолживший торжества в честь богини Флоры, покровительницы цветов, трав, плодов и фруктов, в Риме собралось немало деревенских жителей. Граждане тридцати одной сельской трибы, все землевладельцы Лация, съехались сюда, чтобы принести жертвы в храме богини, возведенном у подножья северного склона холма Квиринал. Многие стремились и к алтарю, расположенному между Квириналом и районом Публико, на склоне Авентинского холма[95].
Каждый день праздника в изящном и просторном цирке Флоры, возвышавшемся в долине между Пинцием и Квириналом, давались по два зрелищных представления.
С утра до первого часа пополудни многочисленная ватага полуголых проституток устраивала охоту на ланей, зайцев, косуль и прочих безобидных тварей.
В час дня на арену выступал отряд полностью обнаженных представительниц той же профессии, которые изображали борьбу атлетов и гладиаторские игры.
Оба зрелища привлекали такое несметное множество людей, что городские эдилы были вынуждены нарушать традицию, предусматривавшую по три дня послеобеденного показа для каждого из этих состязаний, и назначить сдвоенный, то есть ежеутренний и ежевечерний порядок их проведения.
В первый день мая по-весеннему ласковое солнце сияло в синем небе. В городе продолжалось шумное веселье. По улицам гуляли компании празднично одетых мужчин, женщин и подростков, которые оживленно переговаривались, подмигивали друг другу и старались задеть прохожих своими вольными, но беззлобными шутками. Чаще всего их жертвами становились те, кто вместе с многочисленными толпами народа спешит к стадиону. Последних было нетрудно отличить: почти все они имели на головах цветочные венки, а в руках держали букеты роз, фиалок, олеандров и других цветов, распространявших в утреннем воздухе свой чудесной аромат.
В цирке Флоры уже началось первое представление.
Больше тридцати тысяч зрителей тесными кольцами заполнили его ступенчатые ряды, походившие сверху на огромную цветочную корзину. В ней пестрели яркие тоги, палии, лацерны, туники, столы, вуали и другие праздничные наряды. А тысячи возбужденных голосов, смешавшихся в один ровный гул, напоминали жужжание пчелиного роя над благоухающим цветником.
Многие семьи сразу принимались за завтрак, принесенный из дома. Остальные грызли орехи, лузгали семечки, смачивали горло вином, медом и напитками, настоянными на душистых травах.
Сотни выловленных на воле зайцев и зайчат, обезумев от непривычного шума, носились по арене, некоторые останавливались, настораживали свои длинные уши и, почуяв опасность, задавали стрекача, а вскоре опять замирали, притаившись под одной из колонн или в дальнем углу цирка.
Прелестные охотницы, одни в коротких туниках, открывающих грудь и ноги до середины бедер, другие в настоящих, а чаще в фальшивых шкурах пантер и тигров, обмотанных вокруг талии и по возможности обнажавших тело, преследовали добычу и поражали ее из маленьких луков.
Каждая метко пущенная стрела заслуживала одобрительные возгласы и аплодисменты зрителей; однако подлинная буря восторгов разражалась тогда, когда кому-нибудь удавалось подстрелить зайца на бегу.
Одной из наиболее удачных казалась куртизанка, принятая в самом высшем обществе, двадцатипятилетняя красавица по имени Пираллида.
Это была довольно высокая темноглазая блондинка, голову которой покрывал венок из фиалок, а голубой наряд с серебряной бахромой едва прикрывал гибкое тело. Среди сотни других охотниц она выделялась и красотой, и удивительной меткостью.
- Слава Пираллиде! Ура Пираллиде! Слава восхитительной Пираллиде! - то и дело слышалось в цирке.
И еще одна участница представлений, может быть, не столь заметная в охоте на зайцев, но зато широко известная в схватках между людьми, привлекала неизменное внимание и шумное одобрение публики. Она не отличалась высоким ростом, а, благодаря пышным формам, выглядела еще ниже, чем была на самом деле.
Ее смуглое лицо не было наделено, правильностью черт, но этот недостаток во многом искупался огромными глазами, черными и блестящими, как уголь, горевший пламенем жгучей страсти.
Эти сверкающие глаза в народе назывались «звезды Лициции», потому что их обладательницей была знаменитая проститутка Лициция.
У Лициции была пропорциональная, хотя, пожалуй, тяжеловатая фигура, необычно для женщины волосатая: волосы росли у нее и под мышками, где пучки густой растительности выбивались из-под красивых, сильных рук, и даже над круглым пупком, откуда поднималась узкая полоска нежного пуха и, смеясь проползала между полными, тугими грудями.
Белоснежная звериная шкура, эффектно контрастировавшая с гривой ее черных волос, была перехвачена лентой на правом плече и наискось сходила к правому бедру, где соединялась шнурком из воловьей кожи.
Несмотря на полноту, Лициция была очень подвижна: она демонстрировала сложные гимнастические сальто, из которых ловко поражала цель.
За это ее каждый раз награждали криками:
- Ловкая Лициция! Толстуха Лициция! Да здравствует Лициция! Да здравствуют звезды Лициции!
К началу третьего часа (9 часов утра) охота на зайцев закончилась, а пока готовилась охота на косуль, хор из ста двадцати мальчиков и девочек, сопровождаемый игрой на флейтах и цитрах, в полной тишине исполнил гимн богине Флоре, покровительнице любви и новой жизни.
О Флора, аурой золотистой
Ласкающая людские лица,
Явись на огненной колеснице
Дневного диска
Всю зиму верили мы, что внемля
Многоголосому пенью хора
Придешь ты снова на нашу землю,
Богиня Флора!
Мы просим жаркой любви. И это
Желанье наше единодушно
С мольбой всего, что стремится к свету
На почве южной!
Таковы были первые строки гимна, сочиненного, вероятно, одним из бесчисленных стихотворцев того времени, которые, будучи далеки от ясной образности и высоких мыслей, все как один мечтали превзойти славу Лукреция, Катулла, Вергилия и Горация[96].
И неизвестно, чем закончилось бы выступление хора, если бы на противоположной стороне цирка не началось какое-то смутное волнение, вдруг разразившееся громом аплодисментов и дружных оваций, вскоре подхваченных всеми зрителями:
- Ура Цезарю!
- Сальве, Гай Цезарь!
- Сальве, император!
Калигула появился в императорской ложе и остановился в ее глубине.
Все присутствовавшие вскочили на ноги, стали размахивать платками, вуалями, тогами и палиями, вкладывая всю силу легких в приветствия:
- Сальве, Гай Цезарь!
- Да здравствует род Германика!
- Ура императору!
Стоя во весь рост, Калигула отрешенно смотрел перед собой. Сердце его учащенно билось, лицо побледнело, редкие слезы - чуть ли не единственный раз за всю жизнь - текли по щекам.
Что он видел в этот миг? Может быть, он думал о своем знаменитом отце, прославленном победителе тевтонских варваров, погибшем всего в тридцать четыре года и оплаканном с такой беззаветной преданностью римским народом, что одна из волн той великой любви докатилась даже до его сына, еще ничего не сделавшего, чтобы заслужить ее? Может быть, думал о своей матери, невинной жертве тирана Тиберия, скончавшейся в заточении на далеком острове? А может быть, о своих братьях Нероне и Друзе, не достигших расцвета лет и умерших от рук жестокого деспота? Или о нескончаемых серых буднях, проведенных на мрачном Капри с его удушливой атмосферой подозрительности и страха?
Кто смог бы пересказать его мысли? Кто знает, что он чувствовал, стоя с дрожащими губами и со слезами на глазах?
На его голове была корона из позолоченной бронзы; плечи укрывала искусно расшитая императорская хламида[97]; на поясе висел кинжал, рукоять и ножны которого были усыпаны изумрудами, сапфирами и рубинами.
Некоторое время Калигула стоял неподвижно, точно зачарованный видом огромной пестрой толпы, приветствовавшей его.
Наконец, сделав усилие над собой и твердыми шагами подойдя к парапету императорской ложи, он в знак особой благодарности приложил правую руку ко рту и три раза изящно повел головой слева направо. В ответ со ступеней цирка раздались новые, еще более восторженные рукоплескания.
Император дважды повторил свой жест. То же самое за его спиной проделали оба консула - Ацерроний и Петроний Негрин, а также Луций Авл Вителий, Тиберий Клавдий Друз и Невий Саторий Макрон.
Так прошло несколько минут, прежде чем Калигула устроился на мягком пурпурном сиденье пульвинария[98]. Арена уже была заполнена бегающими по ней ланями и косулями. У открытых загонов в вольных позах расположились охотницы, вооруженные легкими луками и маленькими стрелами в колчанах. Две сотни их блестящих глаз выжидательно следили за императорским подиумом.
Постепенно толпа успокоилась. Все внимание теперь было приковано к окружению императора. И вот Гней Сентий Сатурнин, один из куринальных эдилов этого года, решил, что настал подходящий момент для начала игр. Он махнул рукой небольшой группе волынщиков, стоявших неподалеку от загонов, и они заиграли, объявляя открытие охоты.
Зрелище началось. И хотя многие охотницы еще не успели как следует отдохнуть после предыдущего представления, присутствие императора удвоило их азарт: каждая старалась отличиться перед ним, показать всю свою ловкость, красоту и меткость.
Калигула же не мог не отвлекаться: почти всех присутствовавших куртизанок он видел впервые, а потому ежеминутно поворачивался к свите, интересуясь той или иной из них. Тогда ему на помощь пришли Ацерроний, Петроний и Вителий, которые распорядились, чтобы эдилы принесли грифельную доску, и сами написали на ней имена участниц представления. Как оказалось, им были неизвестны только трое выступавших: Альбуцилла, Лаодиция, и Лициция.
Неожиданно император попросил у Клавдия рассказать о происхождении Флореальских игр.
- Пока ты не начал надоедать с происхождением твоих любимых этрусков, - с усмешкой добавил он.
- Ну, не знаю, что и сказать, - широко улыбнувшись, ответил Клавдий. - Ведь истоки этих игр находятся именно в истории этрусков! Но я боюсь снова наскучить тебе и не буду заходить так далеко.
- И правильно сделаешь, дядюшка Клавдий!
- Тогда я должен заметить, что Флореальские игры издавна посвящаются могущественной покровительнице нашего народа, который обязан ей богатством и процветанием; основываясь на древнейших анналах, я могу утверждать, божественный Гай, что этот праздник возник не позже Консуалий, Фуриналий, Фауналий, и Кампиталий[99].
И Клавдий уже начал пересказывать вступление к своему любимому трактату, когда внимание Калигулы привлекла большая ложа, находившаяся справа от императорского подиума. В ней, так же как и в ложе слева, сидели самые знатные представительницы римского общества: жены сенаторов, патрициев, зажиточных всадников и богатых ростовщиков. Там, среди матрон, блиставших лучшими нарядами и драгоценностями, Калигула разглядел свою тетю, Валерию Мессалину, которая уже давно не сводила глаз с императора.
Как только их взгляды встретились, Калигула сразу охладел к истории и перебил Клавдия:
- Все-таки, мой всезнающий дядя, твой трактат чересчур зануден. Когда-нибудь я постараюсь выслушать его от начала до конца, а сейчас, чтобы не заснуть, пройдусь к соседней ложе и заодно поздороваюсь кое с кем.
Он повернулся к свите и, показав знаком, что хочет сойти с подиума, добавил:
- А вы подождите меня здесь.
Покинув пульвинарий, Калигула вскоре показался в ложе, которая была справа. Появление императора вызвало там немалый переполох: зрительницы, сидевшие в первых рядах, сразу повернули головы и стали возбужденно переговариваться между собой.
Матроны справедливо полагали, что юный прицепс навестил их ложу для разговора с одной из них. И, наперебой стараясь угадать имя избранницы, каждая в душе была уверена, что такая честь будет по праву принадлежать ей.
Калигула же, почтительно поздоровавшись со всеми дамами и выслушав их ответные приветствия, с подчеркнутой любезностью поклонился жене консула Ацеррония, пожал руку Гнею Домицию Энобарбу, женатому на его сестре Агриппине, и, наконец, направился к правой колонне, рядом с которой сидела просиявшая от удовольствия Валерия Мессалина.
- Нравятся ли тебе игры, моя дорогая тетушка? Не скучаешь? - спросил император благодушно.
- Не скучаю, потому что увидела тебя. Я знала, что ты здесь будешь. Клавдий мне сказал под большим секретом.
- У моего болтуна дяди нет никаких секретов от тебя? Даже если они касаются прицепса?
- Прошу тебя, божественный Гай, не держи на него зла! Он так мне предан.
- Неужели твоя неотразимая красота имеет столько власти над ним?
- Умоляю, Гай, не сердись! Не заставляй меня проклинать мою внешность и влияние, которое она оказывает на такого простодушного человека, как мой супруг.
- Но я и не сержусь. Разве ты не видишь? - тихо произнес Калигула, облокотившись на парапет и наклонившись так близко к лицу Мессалины, что она почувствовала его жаркое дыхание. - Наоборот, я благодарен моему дяде за его бестактность, которая подарила мне счастье встретить тебя, моя очаровательная тетушка!
- О, верно, счастье твое не так велико! Иначе ты уже давно позаботился бы о том, чтобы повидать твою бедную Мессалину, которой больше всего на свете хочется быть рядом с тобой. Но, если вправду глаза отражают то, что чувствует сердце, и если мои глаза меня не обманывают, если не я сама внушала себе то, что читаю в твоих глазах, это твое желание. Раньше я его не видела.
Мессалина говорила все тише, пристально глядя в глаза Калигулы, который молча и зачарованно слушал свою прелестную собеседницу, а потом, внезапно прервав ее, прошептал ей на ухо:
- Да, да. Все так. Ты угадала. Ты услышала бессловесный язык любви. Я люблю. Я хочу тебя. Твоя божественная красота сводит меня с ума.
- Почему же ты не приходил?
- Заботы о делах государства. В первое время их так много. Все дела и дела.
- И страх перед ревностью Эннии Невии!
- Не говори мне о ней! Она меня раздражает. Я уже ненавижу ее.
- И все-таки не можешь разорвать цепь, которой она приковала тебя.
- Это мы еще посмотрим! Знай, с тех пор, как я тебя встретил, мною владеет только одна мысль - быть любимым тобой, прекраснейшая моя тетя, первая из римских красавиц…
- Счастье мне, если кажусь тебе такою! О, Гай, если бы ты знал, как я тебя люблю! Как люблю, как желаю тебя!
Наступило молчание.
- Когда же ты придешь ко мне? - вдруг спросила Мессалина.
- Когда хочешь. Сегодня ночью ты примешь меня?
- Хорошо, сегодня ночью. Между дворцом Тиберия, в котором ты живешь, и…
- Это ли дворец для владыки римской империи! Тиберий всегда был скрягой. Вот я построю дворец, достойный императора! - воскликнул Калигула, но тут же добавил извиняющимся тоном:
- Прости, что перебил тебя. Продолжай!
- Так вот, между дворцом Тиберия, в котором ты живешь, и домом Августа, который занимаем мы, есть тайный подземный ход. В дворцовом саду одна дверца всегда закрыта. Она ведет к портику, находящемуся за Палатинским храмом. Оттуда ты сможешь выйти прямо к нашему дому.
- Прекрасно. Я возьму у мажордома ключи от этой дверцы…
- … И ровно в полночь окажешься в объятьях, которые давно ожидают тебя…
- …И в которые я брошусь, чтобы всю ночь целовать мою восхитительную тетушку!
Они снова замолчали.
Вскоре Калигула, у которого от неудобного положения уже затекли руки, выпрямился и, прощаясь с Мессалиной, произнес вполголоса:
- До полуночи.
И громко добавил:
- Прощай, моя уважаемая тетя, и да будут боги благосклонны к тебе!
- Прощай, божественный Гай! - сказала Мессалина так, чтобы ее слышали окружающие, - славы и здоровья тебе, надежда империи!
И, не удержавшись, чуть слышно добавила:
- Остерегайся ревнивого ока Эннии Невии.
Калигула сделал презрительный жест, поклонился
Мессалине и стал подниматься по лестнице, мимоходом поприветствовав супругу Ацеррония и нескольких сенаторов, он дружески пожал руку Гнею Домицию Энобарбу, и, наконец, задержался около Паоло Фабия Персика, который все предыдущее время мрачно наблюдал за Калигулой и Мессалиной. Но, по мере того, как император приближался к нему, морщины на лице старого подхалима постепенно разглаживались. Вскоре у него появилось выражение испуга, быстро сменившееся его обычной слащавой улыбкой.
- Сальве; божественный император Гай Цезарь Август! - заискивающе произнес Паоло Персик, когда Калигула подошел к нему.
- Сальве, Персик, самый богатый человек моей империи.
- О, что ты! Не верь. Не верь слухам.
- На днях я загляну в твой кошелек!
- О Цезарь! Владыка Рима. Владыка всего мира! Ты же знаешь… все скромное состояние и вся скудная кровь твоего преданного слуги Паоло Фабия Персика принадлежат тебе.
- Благодарю тебя за эти слова, мой добрый Персик! - удовлетворенно проговорил Калигула и, на прощанье пожав руку ростовщика, вышел из ложи.
В то же мгновение Персик выпрямился и с выражением превосходства на лице оглядел патрициев.
Император же направился к подиуму, но почти сразу натолкнулся на смертельно бледную, обессиленно прислонившуюся к мраморной стене коридора Эннию Невию.
- Что случилось? Что с тобой? - нахмурившись, спросил Калигула.
- Я… несчастнейшая из женщин, - с трудом выговорила она. - Я все видела. Ты меня предал.
- Ради Марса Мстителя! - посмотрев по сторонам, угрожающе прошептал император, - замолчи. Не устраивай сцен. Ради всех богов!
- Нет… не волнуйся, божественный Цезарь, - тихо проговорила Энния, и ее прекрасные глаза наполнились слезами. - Никаких сцен больше не будет. Я тебя слишком люблю… тебя, а не эту императорскую хламиду. Я в отчаянии. Но пусть оно тебя не огорчает. Я хочу попрощаться с тобой… чтобы уйти… навсегда!
С трудом выговорив эти слова, она вдруг быстрым движением откинула край своего мехового палия и показала Калигуле маленький острый кинжал, который сжимала в правой руке.
- Ради богов! Не делай глупостей! - испуганно пробормотал Калигула. - Отдай мне кинжал!
- Нет, мой бывший возлюбленный… прощай навсегда, - ответила Энния и бросилась бежать вниз по лестнице, которая вела к аркадам цирка.
Хотя и свирепым характером обладал Калигула, кровь и порок еще не стали постоянными спутниками его жизни и не настолько очерствили душу, чтобы он не почувствовал жалости к этой женщине, которую когда-то любил и которая до сих пор так преданно любила его, что предпочитала умереть, чем потерять его взаимность.
Что-то в нем дрогнуло. Он стремглав бросился вдогонку за Эннией, настиг ее через несколько ступеней и, схватив за руку, почти прокричал чужим, срывающимся голосом:
- Постой! Не заставляй меня терять голову. Энния моя, дай мне кинжал! Ты моя единственная любовь. Не терзай мою совесть.
Калигула выхватил у нее кинжал и с силой швырнул в пространство под лестницей, где он воткнулся в песчаную насыпь, покрывавшую землю между нижними арками.
От отчаяния и беспомощности Энния разрыдалась с новой силой. В свою очередь, Калигула возобновил угрозы.
Тем временем Ацерроний Прокул и Луций Вителий, чьи места на императорском подиуме находились ближе других к выходу, встали и, привлеченные непонятным шумом, выглянули за полог драпировки, отделявшей пульвинарий от коридора.
Заметив их появление, Калигула сразу переменил тон и громко сказал:
- Ну, приходи в пульвинарий! Не заставляй себя упрашивать. Твой муж ждет тебя. - И, обратившись к двум неожиданным свидетелям их ссоры, добавил: - Это вы, друзья? А вот Энния Невия не решается присоединиться к нашему обществу!
Оба мужчины восприняли эти слова как предложение проводить в пульвинарий смутившуюся женщину; перебивая друг друга, они воскликнули:
- Но, Энния, тебя просит император!
- Подумай, какую честь тебе оказывает Цезарь!
На звук их голосов из-за полога высунулись головы Понция Негрина и Сартория Макрона.
Растерявшейся Эннии ничего не оставалось, как взять себя в руки и постараться произнести как можно более спокойно:
- Да, конечно, иду, хотя и не заслуживаю такой чести - подняться на самый императорский подиум!
Однако, несмотря на сбивчивую речь, ее лицо прояснилось, когда она вдруг осознала, рядом с кем предстанет перед всеми зрителями: наконец-то сбывались ее самые сокровенные мечты.
Наскоро смахнув слезы и поправив растрепанные волосы, Энния Невия в предчувствии неожиданного триумфа взошла на императорский подиум, сопровождаемая Калигулой и завистливыми взглядами всех женщин, присутствовавших в цирке.
Глаза Мессалины, к которой Калигула, уступивший почетное место Эннии, был вынужден повернуться спиной, сверкнули злостью, становившейся еще более яростной, когда соперница торжествующе посматривала в ее сторону и что-то говорила императору.
По ее красноречивой мимике Мессалина догадалась, что Энния объясняла свое появление в цирке.
Так и было на самом деле. Энния рассказывала Калигуле о том, что она еще не видела этого зрелища и поэтому решила пойти в цирк, что по своему незнанию она оказалась в закрытой галерее, где лучшие места для женщин были уже заняты, что арену ей загораживали чужие спины, что в поисках свободного пространства она случайно взглянула вниз, и на нижнем ярусе, прямо под собой, увидела Цезаря и Мессалину, став таким образом невольной свидетельницей их разговора, что в смятении она бросилась в коридор, где и встретил ее Калигула.
Мессалина ничего этого не слышала, но с болью в сердце поняла, что Энния вновь нанесла ей поражение.
Калигула же, охваченный противоположными чувствами, присматривался к знакомым чертам Эннии Невии и с удивлением обнаруживал в ней романтический ореол отчаяния и самопожертвования, которым она только что пробудила его былую нежность.
Спустя пару минут Энния прикоснулась своей маленькой ножкой к ноге императора и, обменявшись с ним несколькими красноречивыми взглядами, шепнула своему венценосному любовнику:
- Прости меня, божественный… Умоляю тебя, прости.
Эти слова и знакомое обоим касание произвели ожидаемый эффект. Мир был восстановлен, а Мессалина - по крайней мере на сегодня - забыта.
Тем временем охота на косуль и ланей подходила к концу, в ней опять отличились Пираллида и Лициция, сделавшие наибольшее количество метких выстрелов.
Приняв полагающиеся почести, охотницы, предшествуемые двумя эдилами, направились к императорскому подиуму, чтобы просить Цезаря присутствовать на дневном представлении, где они должны были выйти на арену полностью обнаженными и, вооружившись, как гладиаторы фракийцы и санниты, вступить в единоборство друг с другом.
- Хорошо! Посмотрим… Посмотрим! - произнес Калигула, сладострастно оглядывая то одну, то другую куртизанку.
Затем он спросил:
- Кто же будет фракийцем?
- Я! - отозвалась смуглая плотная Лициция.
- И, следовательно, - продолжал император, обращаясь к стройной блондинке Пираллиде, - ты будешь саннитом?
- Я буду саннитом, - улыбнувшись, подтвердила та.
- Прекрасно, я приду. Победительница получит в подарок ожерелье из топазов и изумрудов. Но учтите, я хочу, чтобы побежденной была сохранена жизнь!
Обе кивнули и распрощались.
Вскоре Калигула, сопровождаемый Эннией Невией и всей своей свитой, под шумные рукоплескания зрителей пошел к выходу из цирка, где, спускаясь по крутой лестнице, как бы в поисках опоры, облокотился на услужливо подставленную руку Луция Вителия, которому шепнул на ухо:
- Тебе, дорогой Вителий, предстоит позаботиться о том, чтобы Пираллида и Лициция присутствовали у меня на ужине. Думаю, победительница предстоящего состязания вправе рассчитывать на завтрашний вечер. А побежденная - на послезавтрашний.
- Не сомневайся, божественный, любое твое пожелание я исполню, как волю самих верховных богов, - почтительно ответил Вителий, польщенный оказанным доверием.
- Обязанность хорошего прицепса, - усмехнувшись, продолжал Калигула, - состоит в том, чтобы познать каждого подданного. А каждую подданную - в особенности.
Луций сделал вид, что не заметил оскорбительного намека, скрытого в шутке повелителя.
Обед императора был короче, чем обычно, поскольку ему предшествовал продолжительный разговор с Эннией, которая никак не хотела мириться с тем, что Макрон все еще не стал вторым консулом. В конце концов, снова сославшись на невозможность такого ответственного решения без участия сената, Калигула уже откровенно избегал этой темы за столом, а сразу после обеда отправился в цирк Флоры.
Энния не решилась его сопровождать.
Бои гладиаторов собрали еще больше зрителей, чем утром, и они с восторгом встретили возвращение прицепса.
Поединок между Пираллидой и Лицицией длился двадцать минут. На голове у смуглянки блестел стальной шлем с двумя черными перьями на гребне, в левой руке она держала квадратный щит, а правой сжимала короткий кривой меч с кривым лезвием, доспехи ничуть не скрывали ее наготы.
Белокурая куртизанка вышла на арену в легком стальном шлеме, с большим квадратным щитом, прикрытая стальным поножием от левой щиколотки до колена и железным браслетом на правой руке; вооружена она была широким тесаком.
В бою обе противницы доказали свое мастерство: молниеносно нанося удары и умело отражая их, они не раз заслужили искренние аплодисменты римлян.
Но вот Лициция, легко раненная в левую руку, с сокрушительной силой поразила правое бедро Пираллиды и повергла ее на землю, чем вызвала целую бурю неистовых криков ценителей гладиаторского мастерства и ее привлекательности.
Однако почти сразу взметнулись десятки тысяч рук с повернутыми вверх большими пальцами, вложенными между указательными и средними: это был знак, требовавший сохранить жизнь Пираллиде.
Вслед за тем началась атлетическая борьба между сорока обнаженными куртизанками, часть из которых носили на голове голубую повязку, а остальные выступали с белой тесьмой на лбу.
Гай Цезарь не стал дожидаться конца представления. Справившись о самочувствии Пираллиды, он поручил эдилам заботы о ее здоровье и покинул цирк.
После непродолжительного ужина ровно в полночь Он встал из-за стола и, пройдя через портик, смежный с храмом Венеры Палатинской, вышел в сад возле дома Августа, где тотчас очутился в объятиях Мессалины.
- По правде говоря, - не разнимая рук, сказала жена Клавдия, - после сегодняшней сцены я думала, что тебе предстоит провести вечер с Эннией Невией.
- Энния мне опротивела, ей пора вернуться на супружеское ложе. Не говори мне о ней!
И, пока они осторожно пересекали сад, он, обняв правой рукой ее тонкую талию, тихо добавил:
- Я вижу, ты действительно любишь меня, раз после того, что случилось, не забыла о нашей встрече. Я боялся, что не застану тебя.
- Ты меня еще не знаешь, - поцеловав его в губы, ответила Мессалина. Бесшумно прикрыв за собой дверь, ведущую из сада в дом, она повела его по темному коридору, откуда они попали в одну из самых укромных комнат бывшего августовского жилища.
Мысль о новом адюльтере возбуждала в Мессалине две страсти: желание близости и тщеславие.
Калигула, как уже говорилось, был очень хорош собой. Ни тонкие ноги, ни ранняя плешь, ни свирепое выражение лица, как ни странно, не умаляли благородного изящества и красоты этого юноши, который вдобавок ко всему был императором.
Мессалина видела в нем прежде всего мужчину. Но именно поэтому его желанные объятия открывали ей смутную, но заманчивую перспективу счастливого будущего, о чем она мечтала еще тогда, когда связала себя с бедным неудачником Клавдием, чье единственное достоинство заключалось в его знатном происхождении.
Прилагая все силы к тому, чтобы занять в душе Калигулы место, принадлежавшее Эннии Невии, она добивалась падения Макрона и взлета Клавдия. О более отдаленном времени она пока не задумывалась. Как там сложится ее судьба? Кто знает?…
Мессалина поступала как хорошая хозяйка, которая никогда не отказывает себе в некоторых удовольствиях, идущих на благо семейного очага.
Ночью супруга Клавдия доказала это. На Калигулу она потратила весь запас своего изощренного опыта в науке любви, которую постигла в совершенстве. Император не остался перед нею в долгу. Апофеозом взаимного восторга друг другом стали его слова о том, что в июле ее мужу будут оказаны все положенные почести по случаю его назначения консулом.
Лишь на рассвете Гай Цезарь собрался покинуть гостеприимную комнату. Он уже прощался, когда в дверь неожиданно постучалась Перцения, служанка Мессалины, и испуганным голосом сообщила, что Клавдий желает видеть свою жену.
Калигула смутился. Одна Мессалина не потеряла присутствия духа: с самоуверенной улыбкой она попросила императора задержаться еще немного. Потом настежь открыла дверь и громко обратилась к Перцении:
- Что нужно моему доброму Клавдию? Передай, что я всегда рада ему. Ты разрешишь, божественный, войти моему супругу?
Не успела она договорить, как в комнату ворвался сонный и растерянный Клавдий. В руке он держал листок папируса. Он хотел что-то сказать, но Мессалина, легко прикоснувшись к его щеке, опередила его и с наигранным простодушием произнесла:
- Аве, мой добрый Клавдий, как ты себя чувствуешь? Хорошо спал? Как я рада видеть тебя в хорошем настроении. Только что о тебе справлялся сам божественный Цезарь! Он пришел сообщить нам добрую весть. Догадайся, какую? Он хочет, чтобы ты был избран консулом!
Пока она говорила, у Клавдия трижды менялось выражение лица: сначала оно было испуганным, потом удивленным и, наконец, - радостным.
- Как? Божественный Гай? Так это он к нам пришел? Ну, теперь мне все ясно! Я рад ему. Он наш владыка, а кроме того - хозяин этого дома, жилища великого Августа! В любое время дня и ночи я готов видеть его. Ах, извини, моя добрая Валерия. Прости меня, о божественный Цезарь… я должен просить о снисхождении.
- Но почему? Что случилось? - притворно изумившись, спросила Мессалина. - Почему ты просишь прощения?
Клавдий протянул ей листок папируса.
Она взяла его и, развернув, громко прочитала: «Проснись, Клавдий Друз, и посмотри, с кем твоя целомудренная жена Мессалина провела эту ночь».
- Какая низость! - воскликнула Мессалина, постаравшись изобразить на лице боль и отвращение. - И кого хотели оклеветать! Твою жену и божественного Цезаря, твоего племянника! Цезаря, который мне тоже приходится племянником!
- Ах! Я вновь прошу прощения у тебя и у моего августейшего племянника. Что за подлые клеветники! Какое гнусное письмо!
Он еще не раз вспомнил об огромной чести, оказанной ему Цезарем, и его недавние подозрения окончательно рассеялись.
Вскоре Калигула распрощался с Мессалиной и Клавдием. А три часа спустя он объявил сенату, что, в оправдание огромного доверия, возложенного на него отцами города, он в июле принимает консулат и своим помощником выбирает Тиберия Клавдия Друза, своего дядю по отцу, назначение которого будет данью уважения к памяти великого Германика.
Энния Невия потерпела сокрушительное поражение.
ГЛАВА IV
В описываемые времена всякий, кто входил в город через Триумфальный мост, неизбежно оказывался на широкой улице, которая тянулась вдоль до Яникуленского моста, по пути пересекая часть Марсова Поля, известную как Кампо Миноре.
Улица Ретта - так она называлась - недаром считалась одним из чудес старого Рима. Славу она заслужила уже тем, что продолжала знаменитую Триумфальную улицу, бравшую начало у Триумфальных ворот.
По левую сторону улицы Ретта высился нескончаемый ряд мраморных изваяний, здания простой и величественной римской архитектуры чередовались с великолепными греческими скульптурами. Воображение путешественника поражали размеры Гекатонстилона, прославленного портика с галереей из ста колонн, удобной для встреч, прогулок и разговоров, выйдя из которой, человек попадал в тенистую платановую рощу с многочисленными изящными фонтанами и следовавшим за нею просторным портиком Помпея, излюбленным местом отдыха горожан. Миновав его, зритель справа от себя обнаруживал грандиозное и стройное здание театра Помпея, а слева видел курию, носящую его же имя. За театром Помпея открывался храм Фортуны-всадницы, а еще ближе к Тибру - прекрасный портик Октавии.
За курией Помпея находились портик Филиппа и храм Геркулеса-хранителя. Еще дальше вздымались громада цирка Фламиния, по бокам которого стояли роскошные храмы Аполлона и Беллоны; в стороне от них виднелись внушительные очертания театра Марцелла. И вот среди этих бесчисленных галерей, под кронами платанов и стенами зданий однажды в послеполуденный час собрались бессчетные толпы людей - матроны с дочерьми, патриции, клиенты, параситы и просто всевозможный городской сброд, искавший здесь укрытия от первых порывов холодного ветра, предвестников долгого зимнего ненастья.
Пять месяцев минуло после событий, описанных в предыдущей главе. День перед календами ноября (31 октября) выдался пасмурным: небо с утра было затянуто мглистыми тучами, и, по народному поверию, это сулило студеную зиму. Тема, которую озабоченно обсуждали в портиках Филиппа, Помпея и Ста Колонн, была также печальна и безрадостна. Голоса звучали взволнованно, но приглушенно.
- Как он себя чувствует?
- Что слышно в городе?
- Есть надежда на выздоровление?
Этим и подобным вопросам не было числа.
Карикл, величайший врач, находит у своего августейшего пациента опасную лихорадку.
- Но есть луч надежды!
- Тем более, что самочувствие его в последнее время немного улучшилось!
- И все-таки, состояние еще очень тяжелое. На некоторые вопросы ни у кого не было ответа. Однако матроны, сенаторы, плебеи и клиенты не переставали ждать, что кто-нибудь принесет им радостную весть о выздоровлении больного.
Весь Рим искренне переживал внезапную болезнь Гая Юлия Цезаря.
В первый же вечер после ночи, проведенной с Мессалиной, император принимал у себя в триклинии Лицицию, победительницу гладиаторских игр. Несмотря на раненую руку, знаменитая куртизанка охотно присоединилась к императорской оргии.
Их распутное веселье закончилось лишь следующей ночью; но как ни старалась тщеславная амазонка завоевать сердце или по крайней мере приобрести прочную привязанность прицепса, на этой арене ей пришлось смириться с полным поражением, незначительной компенсацией за которое были богатые воинские доспехи и пять тысяч сестерциев, полученных в награду за потраченные силы.
Гораздо больше Калигулу волновали пылкие поцелуи его очаровательной тети, Валерии Мессалины.
Третьей стороной любовного треугольника могла бы стать Энния Невия, но даже в этом качестве ей не удалось долго просуществовать. В один прекрасный день ее слепая ревность и униженные мольбы, одинаково раздражавшие Калигулу, довели бывшего любовника до состояния беспредельной ярости, и он громогласно объявил, что, поскольку он молод, всемогущ свободен в поступках, больше не желает ни от кого зависеть; что не позволит держать себя на привязи и сам будет решать, когда и с кем ему заводить связи; что, наконец, пора Эннии позаботиться о законном муже; что Макрона он сделает консулом через год, а потом назначит императорским прокуратором в Египет.
Энния разразилась рыданиями, а Калигула в бешенстве выбежал из комнаты для свиданий, выкрикнув:
- Во имя богов! У меня добрый характер, но эти бесконечные упреки сделают меня кровожадным, как Тиберий!
Так закончился адюльтер императора и супруги префекта претория. Однако из самолюбия Энния вместе с Макроном остались в императорском дворце.
Мессалина праздновала победу. Она была теперь настолько уверена в своем влиянии на Калигулу, что порой представляла себе, как разойдется с Клавдием и станет женой прицепса.
Но каково же было оскорбление, нанесенное достоинству этой молодой, знатной и красивой женщины, когда всего через несколько дней она обнаружила, что не меньшей благосклонностью Калигулы пользуется куртизанка Пираллида, которая, едва оправившись от тяжелого ранения, явилась на прием к императору и произвела на него такое неотразимое впечатление, что стала желанной участницей всех его пиршеств и увеселений. Подобному успеху немало способствовало и то, что, гречанка по национальности, белокурая Пираллида была не только хороша собой, но и в совершенстве владела искусством танца, а также превосходно играла на цитре и пире. И, как ни сокрушалась Мессалина о непостоянстве племянника, она не могла ни вернуть его, ни повлиять на его времяпрепровождение.
Оставаясь по-прежнему твердым и уравновешенным правителем, Калигула все глубже погружался в Отвратительные кутежи и оргии, для которых по ночам приглашал своего сверстника Авла Вителия, мима Мнестера, вольноотпущенников Калисто и Геликона, трагика Апелла, Луция Кассия Херею и других развратников. Последствием такой порочной жизни стала острая лихорадка, свалившая с ног двадцатипятилетнего императора.
- Вот уже четырнадцать дней, как болеет Август, - прогуливаясь по портику Ста Колонн, печально произнес тридцативосьмилетний мужчина с лицом, отмеченным благородной бледностью, одетый в латиклавий, который указывал на его принадлежность к всадническому сословию. - И чего только мы не предпринимали, стараясь восстановить его здоровье! Боги не могут не услышать мольбу всех народов земли!
- Ты прав, почтенный Атаний Секондо, - протирая глаза, ответил его спутник, маленький толстый плебей с заплывшим жиром темно-лиловым лицом и глуповатым взглядом, богатая одежда которого позволяла судить о его значительном состоянии. - Если богам небезразличны дела людей, то они должны спасти нашего императора, обожаемого и бесценного сына римского народа.
- Верно, верно! - наперебой воскликнули сразу несколько оборванцев в грязно-белых потрепанных тогах, которые зарабатывали на жизнь ремеслом клиента у того или иного патриция, выполняя его мелкие поручения за стол и кров. - Цезарь нам как родной сын!
- И как родной отец! - с готовностью подхватил обрюзгший пьяница в нищенских лохмотьях, не оставлявших сомнений в том, что их владелец был параситом.
- Наш Цезарь! Он наш, сын прославленного Германика! - дружно заорали другие представители того же сброда.
- Кровь от крови, наш, - согласился всадник Атаний Секондо.
- Чрево от чрева, наш! - выкрикнул богатый плебей.
- Как всегда, прав Публий Афраний Потит, - наклонившись к уху плебея, заметил парасит, - самый щедрый и гостеприимный римлянин, достойный быть прицепсом сената!
Жирное лицо Афрания Потита расплылось еще больше от лести парасита, которого незаметно толкнул локтем высокий, смуглолицый иудей с живыми глазами и щетинистой шевелюрой, плотно закутанный в тунику ростовщика:
- Вот это да! Глянь, как этот глупый боров надулся от твоей похвалы! Сдается мне, что сегодня он пригласит тебя на ужин!
- А знаете ли вы, - спросил Публий Афраний Потит, воодушевленный словами парасита, - сколько жертвоприношений было посвящено богам за то, что они помогли Гаю Цезарю взойти на престол?
- Сколько? Сколько?
- Сто шестьдесят тысяч! - воскликнул Потит и с таким торжеством оглядел слушателей, словно это он удостоился всех названных почестей. - Сто шестьдесят тысяч, я сам слышал от эдилов!
- Он это слышал от эдилов - какая редкая осведомленность в делах государства! - усмехнувшись, шепнул ростовщик на ухо параситу.
- Да здравствует Публий Афраний, самый проницательный и сведущий знаток римских обычаев! Браво, Потит, чье сердце целиком принадлежит Цезарю!
- Его любят все, - перебил всадник Атаний Секондо, - и число жертвоприношений, посвященных богам, - свидетельство тех чувств, которые вызывает у окружающих наш владыка Гай Юлий Цезарь Германик!
- Разве я его не люблю? - продолжал богатый плебей. - Как своего отца, которого уже нет, как свою жену и детей, которых еще нет. Я люблю его больше себя самого!
- Вот человек, достойный быть прицепсом сената! - громко произнес парасит, уважительно поглаживая плечо Потита, который влажными глазами посмотрел на бессовестного подхалима и вполголоса продолжил:
- У тебя добрая душа… но, прошу, не хвали меня слишком громко. Я к этому не привык и настолько смущен, что не знаю, как отблагодарить тебя.
- По-моему, ты нашел человека, который очень долго будет кормить тебя ужинами, - ухмыльнувшись, прошептал на ухо ростовщик параситу.
- Ну что? Что? Что нового? Какие известия, почтенный Кассий?
Эти вопросы, произнесенные сразу несколькими людьми, относились к молодому человеку, который, нетерпеливо расталкивая горожан, вошел в галерею.
Он был молод, высок и весьма изящен. Его бледное, с правильными чертами лицо обрамляла короткая светло-каштановая бородка. Этому юноше, одетому в изысканный греческий наряд, недавно исполнилось двадцать шесть лет.
Звали его Луций Кассий Херея: плебей по происхождению, он был сыном преторианского трибуна Гая Кассия Хереи. Его отец, храбрый военачальник, наделенный исконными добродетелями римского народа, решил, что сын его должен посвятить себя общественной жизни, для чего, потратив все свое небольшое состояние, нанял самых лучших римских преподавателей по грамматике, риторике и философии, а затем отправил сына в Афины, где, по обычаю своего времени, он мог бы совершенствоваться в красноречии. Однако Луций, который в детстве проявлял незаурядные способности к обучению, с годами оказался более склонным к праздности и к порокам, одинаково распространенным как в Риме, так и в Греции, откуда он вернулся окончательным циником, и вскоре очутился в компании таких же бездельников, промышлявших сочинением хвалебных посланий для знати и состоятельных людей: этот труд вознаграждался щедро. Впрочем, когда у состоятельных магистратов появлялась нужда в какой-нибудь кляузе или даже в бессовестной клевете на своих врагов, то они прибегали к услугам тех же писак, готовых на любую низость ради легкого заработка.
Итак, вопреки ожиданиям и к глубокой скорби своего отца. Луций Кассий Херея связался с самыми отборными римскими подонками, в среде которых познакомился и подружился с благородным, но беспутным отпрыском Луция Вителия, несколько месяцев назад сделавшим его завсегдатаем кутежей и увеселений императора.
- Говори! Говори!
- Просим тебя, расскажи о здоровье божественного Гая!
- Ты, имеющий счастье видеть его, скажи нам, почтенный Луций.
Такие вопросы и просьбы со всех сторон сыпались на молодого Кассия Херею.
- Так вот, друзья мои, спешу сообщить вам радостное известие. Опасность миновала. Божественный Гай чувствует себя лучше, и Карикл, наш бесподобный врачеватель, говорит, что его здоровью уже ничего не угрожает.
Эта новость была встречена восторженными криками. Луция Херею обнимали, хлопали по плечу, целовали и просили еще раз повторить его слова.
- Да! Боги хранят Рим! - воскликнул Атаний Секондо. - Спасен божественный потомок Германика, наш великий и щедрый император, который восстановил достоинство и власть сената, возродил и возвысил сословие всадников, а плебеям вернул право быть избранными в центуриальные и трибунальные комиции! [I] Спасен наш обожаемый правитель, отменивший непомерные налоги! С нами Август, наше сокровище! Так вот, слушайте меня, римляне! Сегодня я даю торжественную клятву богам, что, в случае полного выздоровления Цезаря, его верный слуга Атаний Секондо, рискуя жизнью, выступит гладиатором в амфитеатре!
Обещание было встречено аплодисментами и одобрительными возгласами.
В ответ на них Афраний Потит, находившийся в состоянии, близком к помешательству, выкрикнул:
- А я приношу торжественный обет верховным богам, что в день, когда божественный Гай Цезарь полностью оправился от болезни, я лишу себя жизни, потому что счастлив отдать ее во имя спасения нашего повелителя! [II]
Грянул взрыв ликующих восклицаний. И громче всех мужество Афрания Потита превозносил парасит, которого богатый плебей взял под руку, сказав:
- Ты честный человек, и я приглашаю тебя сегодня ко мне на ужин.
- О великодушный! Да возблагодарят боги твою щедрость. А я всегда и везде буду прославлять твою Добродетель!
- Говорил я, что он пригласит тебя на ужин? - прошептал иудей на ухо параситу. - А если сумеешь хорошенько обработать этого глупца, то тебя можно будет поздравить с богатым уловом сестерциев.
Он притянул к себе парасита и чуть слышно добавил:
- Сдается мне, что ты не только честный, но еще проницательный человек. И сможешь справиться с некоторыми поручениями. На всякий случай запомни: Арон из Ефраима. У меня есть небольшая лавочка в большом районе Сигилларий, неподалеку от портика Маргатария. Мне дают кое-какие драгоценности в залог за небольшую сумму денег за расписку, которую в случае необходимости можно подменить на другую и подкупить свидетелей…
- Понятно, - вполголоса заключил парасит. - Что ж, если представится такая возможность, я вспомню о тебе: Арон из Ефраима.
Его собеседник, не проронив больше ни слова, на прощание с силой сжал руку парасита, который после этого присоединился к Афранию Потиту и удалился вместе с ним, продолжая громогласно славить своего благодетеля.
Радостная новость о добрых переменах в здоровье императора с молниеносной быстротой облетела весь Рим, неся надежду и облегчение.
Устав от бесконечных расспросов и поздравлений, Луций Кассий Херея с трудом выбрался из плотного кольца горожан, обступивших его, и поспешил вверх по улице Ретта. Через полчаса ходьбы новый друг Калигулы поднялся на холм, к которому примыкала стена Сервия Туллия, миновал Карментальские ворота и, спустившись по улице Аргилетто, очутился на Рыбачьем Форуме, откуда свернул в узкий проход между двумя зданиями, стоявшими на площади. Это была темная извилистая улочка, пропахшая рыбьим жиром и пропитанная тошнотворным дурманом гнилых водорослей. Слева и справа теснились убогие лавочки рыботорговцев, выставивших большие и маленькие корзины со своим товаром.
На почерневших от сырости деревянных подставках, освещенных тусклыми огнями коптящих факелов, переливались золотыми отблесками груды мелких краснобородок, изумрудом отсвечивали целые горы морской зелени и сверкали нагроможденные друг на друга серебряные мидии. Здесь были представлены все дары моря: от плоской адриатической камбалы до горбатых ионических устриц, от завитых перламутровых раковин до остроносой хрустальной кефалии, от мельчайшей розоватой салаки до щетинистой морской свиньи с ее устрашающе безобразной головой, от стоящей немалых денег скользкой мурены до изысканных желто-зеленых золотых рыбок.
Невообразимый гам оглушал покупателей, в основном плебеев, выбиравших рыбу: сырую или жареную, какая была по карману. Торговцы наперебой расхваливали свежесть и дешевизну своего товара. Хозяйки пытались сбить цену, назначенную продавцами. Полуголые грузчики, надрываясь, тащили корзины по скользкой булыжной мостовой.
Сопровождаемый любопытными взглядами Луций Кассий Херея осторожно пробирался по улице, стараясь не запачкать своего роскошного наряда.
Рыбные лавки располагались на нижних этажах высоких, но ветхих четырех- и пятиэтажных строений с их тесными и грязными каморками, заселенными городской беднотой. Порой перед входом в дом можно было встретить вывеску с названием ремесла, которым занимался его обитатель.
На одном доме висела дощечка с надписью «Аврора, повитуха», немного дальше, на противоположной стороне улицы можно было прочитать объявление «Иларий, нотариус».
Луций Херея вошел в дом, на котором была прибита эта табличка, и, ориентируясь наощупь в темном коридоре, нашел крутую лестницу с шаткими ступенями. Поднявшись на второй этаж, он очутился на квадратной площадке, освещенной узкими лучами света, пробивавшимися сквозь дверные щели. В этом полумраке он различил еще одну лестницу и, поднявшись по ней, постучал в одну из дверей.
Вскоре мужской голос, отозвавшийся изнутри, спросил его имя, после того, как Луций назвал себя, Дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился худощавый молодой человек лет тридцати, одетый в Изрядно потрепанную домашнюю тунику.
Его бледное лицо с живыми маленькими глазками и высоким лбом с залысинами обрамляли черные волосы, спускавшиеся почти до плеч.
- Сальве, Иларий! Меня прислал Авл Вителий, сын твоего бывшего хозяина, - начал говорить Луций Херея, однако нотариус жестом прервал его и произнес с улыбкой, обнажившей два ряда прекрасных белых зубов:
- Приветствую тебя, о почтенный Кассий, подобный лучу сияющих эмпирей, озаривших беспросветный мрак этого скорбного пристанища, сравнимого с подземным царством Плутона, где смертные находят свой печальный удел.
- Ради Зевса-громовержца! Милейший Иларий, не набрасывайся на меня, такой тяжеловесной риторики я не выношу.
- Входи, входи. Да благословит тебя Венера - прародительница, своим напутствием указавшая тебе дорогу в сей забытый край!
Луций ступил в прихожую, оказавшуюся более опрятной, чем можно было ожидать.
Хозяин жилья запер за ним дверь, взял в руки небольшой, но до блеска начищенный светильник и указал на другую комнату, приглашая пройти; при этом он продолжал изъясняться хорошо поставленным голосом:
- Приношу извинения за некоторые риторические обороты речи, привитые мне знаменитым оратором Марком Помпилием Марцеллом, который научил меня наслаждаться божественными плодами и жизнетворными соками из цветущих садов красноречия, возделанных для блага людей. Перлы высокого стиля доставляют мне радость и забвение в этой убогой обители, уныние которой ты развеял своим нечаянным посещением. Чем же я обязан тебе, благородный Кассий, за бесценное известие от моих дорогих и любимых господ Вителиев? И почему ты назвал их моими бывшими хозяевами? Сколько мне суждено жить, столько я буду верным слугой бесподобного Луция Вителия и его достойнейшей семьи. Как поживает мой высокочтимый благодетель? Я знаю, что наш повелитель Гай Цезарь Германик собирается послать его в Сирию, где парфяне объединились для борьбы с Римом и стали опаснее, чем когда-либо. Как мне известно, Авл Вителий уже занял место своего отца возле прицепса. Итак, что мне приказывает почтенный Авл? Чего хочет он от бедного раба, отпущенного на свободу благодаря бесконечной щедрости его отца, но все так же преданного своему незаменимому хозяину?
Эту витиеватую тираду он произнес на одном дыхании и остановился лишь тогда, когда Луций Херея нетерпеливо перебил его:
- Предупреждаю, любезный Иларий, если ты не прекратишь этого пустословия, то я уйду, и вознаграждение, приготовленное тебе благородным Авлом, достанется какому-то менее болтливому грамотею.
- О, не гневайся, великодушный Кассий! Лучше бы разящая десница Зевса покарала меня.
Луций Кассий в ярости вскочил со стула, на котором сидел, и, направившись к выходу из комнаты, проговорил:
- Эреб тебя побери! Это невыносимо!
Нотариус бросился вслед за ним и затараторил, умоляюще сложив руки:
- Постой… постой… я молчу. Нем как рыба.
Луций не удержался от улыбки. Немного поразмыслив, он вернулся на прежнее место и огляделся.
Ветхая, но тщательно убранная каморка Илария чем-то напоминала его старомодную софистку: было видно, что хозяин жилища провел здесь немало времени в уединенных и кропотливых занятиях. Два больших книжных шкафа, симметрично расставленных вдоль противоположных стен, сгибались под тяжестью более чем двухсот томов по риторике, поэзии, философии и юриспруденции. Длинный рассохшийся стол был завален кипой бумаг и рукописей; рядом с чернильницей лежало стило для письма. В углу стоял несгораемый ящик для особо важных документов.
- Если ты способен говорить лаконично, то скажи мне, Иларий, как идут твои дела?
- Увы! Боюсь, что дела миновали нас вместе с прославленным веком великого Цицерона. В наше время все измельчало: и люди, и делишки, которые они вершат. Да ты, должно быть, это заметил, когда осматривал мою скромную лачугу.
- Я могу предложить тебе одну идею, осуществив которую, ты сможешь угодить Авлу Вителию и выбраться из нищеты.
- Да отблагодарят тебя небеса, - заговорил Иларий, подняв кверху свои худые руки.
Однако Луций Херея не дал ему продолжать, резко окрикнув либертина:
- Молчи!
Затем он спросил:
- Ты знаешь Марка Юлия Силлана? Прицепса сената? Почтенного, уважа…
- Его! Его! - нетерпеливо перебил Луций, - но только не уважаемого! Подобных слов не заслуживает человек, вынашивающий преступные замыслы против божественного Цезаря.
- О! Да приберет его Эреб! Да разорвет его Цербер на куски! Да вспыхнет он, как смятый листок бумаги, брошенный в пламя!
- Божественный Гай не хочет показывать, как он обижен тестем: так благородно его сердце! Но Авл Вителий не может сдержать гнева на Силлана!
- Это и мой гнев! Я готов собственными руками растерзать подлеца, осмелившегося строить такие гнусные планы.
- Нужно подготовить против него обвинение в том, что он желал обесчестить Цезаря, отказавшись от траурной поездки на острова Понта и Пандетерию, откуда шесть месяцев назад был доставлен прах Агриппины, матери императора, и Нерона, его брата.
- Во имя Минервы, покровительницы всех наук, сделай это, а за мной дело не станет! Для меня нет большей чести, чем быть полезным моему вечному господину, почтенному Вителию.
- В это обвинение ты должен вложить всю силу своего красноречия. Да смотри же, не проболтайся кому-нибудь о вознаграждении, которое ждет тебя…
- …возмущенному неслыханным злодейством старого мошенника Юлия Силлана!
- Против него ты подыщешь таких свидетелей…
- …которым суд не сможет не доверять!
- Я думаю, что у тебя есть надежные помощники…
- …искусство которых потребует небольшой суммы денег.
- Все расходы по этому важному делу будут оплачены с лихвой. Зайди завтра в дом Авла Вителия. Там тебе передадут сорок тысяч сестерциев. На эти деньги ты подкупишь самых уважаемых людей.
- О них не беспокойся, почтенный Кассий. Мне ли не знать, кто нам нужен в столь деликатном и опасном предприятии? У меня на примете есть одна пожилая матрона, вдова сенатора… В молодости она вела довольно распутную жизнь, но сейчас известна как одна из благороднейших патрицианок. Еще есть два всадника, правда, совершенно разорившихся, но потому и торгующих происхождением. Наконец, два плебея из старинных фамилий, занимающихся чем попало… Но в Риме их слову поверят, как дельфийскому оракулу. Достойные люди найдутся, не сомневайся.
- Ну, вот и хорошо! Не мне тебя учить, Иларий, как нужно вести дела. И ты, конечно, знаешь, что Сил-лан обладает огромным состоянием, которое, в случае удачи, будет полностью конфисковано. Но мне поручено сказать тебе, что по завершении суда имперская казна получит ходатайство Вителия и выплатит обвинителю восьмую часть этой суммы.
Черные глазки нотариуса блеснули, а сам он, до той поры сутулившийся из-за высокого роста и худобы, вдруг резко выпрямился.
- Наконец-то мрак моей нищеты озарится сиянием золотого дождя, а бедный нотариус с Рыбачьей улицы станет знаменитым адвокатом, чтобы приносить еще большую пользу почтенному Кассию, благородному Вителию и божественному Цезарю, чтобы громоподобной риторикой поражать их врагов, испепеляя, пронзая, уничтожая.
- И надоедая своим пустословием божественному Цезарю, благородному Вителию и почтенному Кассию, - улыбнувшись, добавил Луций Херея, поднимаясь на ноги.
Изменив тон, он добавил:
- Надеюсь, мне не нужно напоминать, что наш разговор должен остаться в тайне?
- О! Как ящерица молчалива среди животных, так Иларий хранит секреты среди людей.
- Тем более, что ящерица лишается хвоста так же быстро, как Иларий лишится головы, если не будет держать язык за зубами.
- Разумею. У меня на все случаи жизни припасены слова Пиндара, который среди лириков парит, как орел среди стервятников. Сей поэт однажды сказал: «Как часто уменье молчать бывает вершиною мысли…»
- Прощай, Иларий. Посвети мне на лестнице.
- Сочту за честь. Сейчас иду, - почтительно ответил либертин, пропуская Кассия вперед.
Убогость его жилища теперь просто била в глаза.
- Ты живешь один? У тебя есть женщина или слуги?
- Только один раб… подросток. Он и стирает, и готовит еду, и убирает жилье.
- Это хорошо, - сказал Луций Херея, выходя на лестницу вслед за Иларием, взявшим в руки маленький светильник.
- Завтра в десять часов утра, как весенняя ласточка возвращается к своему гнезду, так и я на крыльях надежды прилечу под крышу моего щедрого хозяина, благородного Авла Вителия.
- Ладно, в десять часов. Только, прошу тебя, не терзай слуха твоего покровителя этой бессмысленной птичьей трескотней! - крикнул Кассий. - Ты человек образованный, и, конечно, помнишь строки Флакха о том, что нельзя слишком надоедать людям.
С этими словами он вышел на Рыбачью улицу, откуда свернул на улицу Малый Велабр и, пройдя сначала Бычий Форум, а потом улицу Сакра, миновал храм Зевса Статора и поднялся по улице Виктории, ведущей к Палатинскому дворцу.
Иначе говоря, вскоре он очутился в ярко освещенном атрии тибериевского дворца, где увидел две молчаливые очереди горожан: тех, кто желал справиться о здоровье Цезаря и тех, кто, уже навестив его, собирался выходить наружу.
С трудом протиснувшись сквозь толпу, к Луцию подошел актер Марк Мнестер, любимец Цезаря и один из самых красивых мужчин Рима.
Марку Мнестеру недавно исполнилось тридцать лет. Обладая стройным и в то же время могучим телосложением, он, казалось, самой природой был создан для выступления перед тысячами зрителей. Так выразительна была его внешность: совершенная, точно высеченная из мрамора фигура; изящные и одновременно сильные руки; черная, перевязанная тесьмой густая шевелюра; наконец, правильные черты умного, живого лица, с большими красивыми глазами.
Мнестеру очень шел его роскошный греческий наряд.
В углу атрия, рядом со входом в таблий расположились человек пятьдесят преторианцев, возглавляемых центурионом и трибуном. Последний, облаченный в тускло поблескивающую кольчугу, стоял, скрестив руки на груди, и, казалось, был погружен в какие-то невеселые мысли. На вид ему можно было дать лет шестьдесят пять. Несмотря на возраст, он был подтянут и мускулист. Его коротко стриженные седые волосы были едва видны из-под увенчанного белым плюмажем стального шлема, надвинутого на смуглый нахмуренный лоб. Взгляд серо-зеленоватых глаз был пристален и суров, а тонкие, неправильно очерченные губы плотно сжаты. Мужественное лицо трибуна преторианцев было в этот день озабоченным и печальным.
Его имя было Гай Кассий Херея. Приписанный к трибе Поллия, он происходил из плебейского рода Кассиев.
Тридцать шесть лет назад, в 753 году по римскому летоисчислению, молодой, тогда еще двадцатилетний Кассий Херея вступил в ряды городской гвардии, а точнее, в ее двадцать первый легион, который вскоре был послан защищать границу на Рейне, подвергавшуюся частым нападениям со стороны германских племен. Ведя кровопролитную борьбу с неприятелем, этому легиону пришлось вынести гораздо больше испытаний на воинскую доблесть, чем выпало на долю римских отрядов, находившихся в Паннонии, в Иллирии, в Сирии, в Галлии или в Испании.
Молодому Гаю Кассию всюду удавалось отличаться: и при несении караульной службы, и на изнурительных маршах, и на учениях, и в боях, где он не раз доказывал свою исключительную смелость.
За отвагу он заслужил гражданский венок и чин десятника; затем был награжден двумя почетными ожерельями; еще позже снова удостоился гражданского венка. Он воевал и при Гае Цезаре, племяннике Августа (сыне Агриппины и Юлия), и при Тиберии, в правление которого был произведен в центурионы.
Во время долгих зимовок, когда легион отдыхал от ратных дел, молодой, но равнодушный к шумным увеселениям центурион запоем читал исторические сочинения Фабия Питтора, Клавдия Квадригария, Порция Катона, Валерия Анциата, Красия Саллюстия, Корнелия Нипота Теренция, Варрона, Тита Ливия и других писателей, уносивших его воображение во времена подвигов и добродетелей, в века утерянной свободы, в эпоху истинного величия римлян.
Человек, благородный по натуре, он искал и находил в книгах понятия о чести и самоотверженной преданности родине, и свойственное ему чувство долга и справедливости укреплялось в нем.
В 762 году он получил известие о смерти отца, оставившего ему в наследство участок земли с небольшим домом в Тускуле, и, выхлопотав надлежащее разрешение, вернулся на берега Тибра.
В Тускуле он встретил и полюбил девушку из бедной семьи земледельца, жившую неподалеку от города, вскоре ставшей его женой. Она умерла при родах, оставив ему мальчика, названного Луцием.
Не в силах оставаться в доме, где все напоминало о таком кратком и безвременно миновавшем счастье, он отдал сына на попечение свекрови и вернулся в двадцать первый легион, с распростертыми объятиями встретивший своего центуриона.
Вновь приступив к службе, Гай Кассий Херея стал больше, чем когда-либо, избегать шумных компаний и дружеских кутежей; он откладывал деньги на образование сына.
В 767 году Кассий Херея доказал свою дальновидность и благоразумие, когда отказался присоединиться к мятежу в войсках, восставших против нового полководца Германика. Это он, Гай Кассий Херея, силой меча и слова сумел навести порядок в двадцать первом легионе, усмирение которого стоило жизни многим центурионам [III]. Молодой Германик не забыл отличившегося командира и, наградив званием трибуна, приблизил к себе Кассия, бесстрашная доблесть и воинские звания которого не раз ему пригодились в прославленных походах 767-770 годов, когда в сражениях между Рейном и Эльбой были покорены германские племена, некогда разбившие армию Квинтилия Вара.
В 771 году Кассий Херея отпросился в долгосрочный отпуск и отправился в Рим, чтобы заняться образованием сына, многообещающие способности которого требовали постоянного отцовского присутствия и наставничества. Вскоре он с головой ушел в хлопоты, связанные с обучением Луция, и, решив навсегда поселиться в вечном городе, по ходатайству Германика был назначен трибуном в когорту преторианцев, где оставался вплоть до 790 года, то есть описываемого времени.
В вышеупомянутый день 31 октября Гай Кассий Херея, вместе с половиной своей когорты несший службу по охране Палатинского дворца, занимал пост у входа в императорский таблий.
Войдя в таблий, Луций лицом к лицу столкнулся с отцом и, смущенный непредвиденной встречей, почтительно сказал:
- Сальве, отец!
Кассий Херея не ответил. Пристально взглянув на сына, он не смог удержать жеста, в котором выразились его презрение и отчужденность.
Тогда юноша приблизился к нему и негромко спросил:
- Ты опять сердишься?… Послушай, не суди меня слишком строго!… Разве ты не видишь, что в наше время фортуна улыбается лишь тем, кто умеет приспосабливаться, а не тем, кто идет против течения!
- Не для фортуны я растил тебя, а для добродетели; не похвалы порочных людей желал тебе, а одобрения твоей совести.
Лицо трибуна, произносившего эти горькие, укоризненные слова, было бесстрастно, а голос то и дело срывался на фальцет: обладая врожденным дефектом речи, Гай Кассий Херея нередко подавал повод для насмешек Калигулы.
- Ты не отказываешься от своих упреков даже теперь, когда я заслужил благосклонность и уважение самого императора?
- Заслужил благосклонность. Не посредничеством ли в грязных интригах ты заслужил расположение прицепса? - презрительно скривив губы, тихо пробормотал трибун и удрученно добавил:
- Не подходи ко мне… не здоровайся… не обращайся ко мне, недостойный сын, позор моей честной жизни и несчастной старости.
Он повернулся и пошел прочь.
Луций, отчасти пристыженный, отчасти раздосадованный неудавшимся разговором, некоторое время постоял в нерешительности, затем беспечно пожал плечами и направился в покои Калигулы.
В первой комнате ему повстречалась бледная и печальная Энния Невия, беседовавшая со знаменитым греческим хирургом; у противоположной двери сидя дремал вольноотпущенник Цезаря, которому, очевидно, было велено не впускать посторонних.
Во второй комнате молча сидели Пираллида, скорее скучающая, чем подавленная, и Руф Криспин, преторианский трибун, который чаще других находился в услужении у Цезаря.
В третьей комнате, непосредственно примыкавшей к спальне императора, в одиночестве расхаживал из угла в угол префект претория Невий Сарторий Макрон.
Луций Кассий небрежно приветствовал Эннию, греческого хирурга, полусонного вольноотпущенника, Руфа Криспина и почтительно поклонился Пираллиде, имевшей успех у Калигулы.
С Макроном он поздоровался, как с человеком, равным ему по силе и влиятельности.
Сын преторианского трибуна уже готов был войти в комнату Цезаря, когда Макрон шагнул к нему и негромко окликнул:
- Послушай меня, Луций.
Луций обернулся и с улыбкой произнес:
- Говори, почтенный Сарторий! Я к твоим услугам.
- Видишь ли… я хотел попросить тебя… ты по праву заслужил благосклонность нашего Цезаря.
- Так же, как и ты, почтенный Макрон.
- Прошу тебя, передай императору, когда выйдет его сестра Друзилла, что его дожидается бедная Энния. Она так мучается, так желает видеть божественного Гая.
- Почтенный Макрон, ты лучше меня знаешь, что врач Карикл запретил излишне волноваться августейшему пациенту. Однако из преданности к тебе и к Эннии я постараюсь и, если сегодня или завтра выдастся подходящий момент…
- Прошу тебя!
- Я сделаю все, что в моих силах!
Луций подал руку Макрону и, осторожно приоткрыв дверь, на цыпочках вошел в комнату больного.
Просторная спальня, где на украшенной черным деревом и резьбой по слоновой кости постели лежал Калигула, сначала показалась ему полностью погруженной во мрак. Но немного погодя, освоившись, он заметил, что она слабо освещена голубоватым мерцанием крохотного светильника, горевшего в углу.
Под пурпурно-золотистым покрывалом, на четырех подушках полулежал бледный, похудевший император. В его ногах на маленькой скамеечке сидел врач Карикл, полный белобородый старик с умным красивым лицом; по другую сторону стоял любимец Калигулы, тридцатидвухлетний вольноотпущенник Геликон, горбун с приятными чертами лица.
У изголовья, с халцедоновой чашей в руках стояла сестра Гая Цезаря, девятнадцатилетняя Юлия Друзилла, внешне очень похожая на своего брата, а еще больше - на свою сестру Агриппину. Муж Юлии, Луций Кассий Лонгин, находился в триклинии, где разговаривал с консулами и сенаторами.
На Юлии было роскошное платье, обнажавшее спину и подчеркивавшее плавные линии ее довольно полной фигуры. Мягкие черты ее чуть горбоносого и удлиненного, как у всех в ее роду, лица казались бледными, но спокойными. Ее пепельные волосы были мелко завиты, красивые зеленовато-голубые глаза нежно и внимательно смотрели на брата, губы плавно двигались в такт словам, обращенным к нему:
- Выпей бульону, мой милый Гай. Он придаст тебе силы.
У нее был певучий, хотя и несколько хрипловатый голос.
Калигула, медленно повернувшись к ней и с любовью оглядев с головы до ног, произнес дребезжащим, жалобным тенорком:
- Не хочу. Оставь меня!
- Так нужно, божественный Цезарь. Если ты не заботишься о себе, то подумай о Риме, об империи, о ста тридцати миллионах подданных, молящихся о твоем выздоровлении.
Эти слова принадлежали врачу Кариклу. Он проговорил их, не поднимаясь с места.
- Выпей за мою любовь, - с нежной улыбкой добавила Друзилла.
Калигула с трудом взял чашу из тонких рук сестры и воскликнул:
- За твою любовь, божественная Друзилла? За нее я готов выпить даже яд!
Он до дна выпил содержимое чаши, которую Друзилла тотчас забрала у него и поставила на столик из черного дерева, инкрустированный серебряными лепестками.
Луций осторожно приблизился к Кариклу и, наклонившись к его уху, тихо спросил:
- Как дела?
- Лучше! Гораздо лучше! - ответил врач. - Опасность миновала.
Калигула, долго смотревший на Друзиллу, вдруг привлек ее к себе. Обнимая и страстно целуя, он взволнованно прошептал:
- Как ты красива, моя Друзилла! Как ты красива!
ГЛАВА V
В день перед январскими календами (28 декабря) 791 года на Рим обрушилась жестокая зимняя буря. С утра до вечера холодный проливной дождь хлестал по каменным плитам мостовых. На опустевших улицах огромного города, где раньше обычного погрузились во мрак все дома, все дворцы и лачуги с их плотно закрытыми ставнями на окнах, не было слышно ничего, кроме несмолкающего шума падающей воды и жалобного, словно оплакивавшего кого-то, завывания ветра, гулявшего в безлюдных переулках и зияющих отверстиях портиков.
Редкий прохожий осмеливался нарушить своими шагами этот протяжный, монотонный гул разбушевавшейся стихии: в такую неуютную пору горожане, затворившиеся кто в роскошных особняках, кто в убогих бедняцких каморках, предпочитали без крайней нужды не покидать жилья, укрывавшего их как от суровой непогоды, так и от многих других неприятностей.
В палатинском доме Августа Клавдий Друз приказал слугам запереть входные двери и всю ночь поддерживать огонь в печах, обогревавших комнаты хозяев [I]. Поступая по сложной системе труб, горячий воздух от этих печей, расположенных в подвале, отапливал и жилые помещения, и роскошную библиотеку, озаренную сиянием двух ярких светильников, горевших на столах Клавдия и Полибия.
Закутавшись в тогу на меховой подкладке, Клавдий удобно устроился за письменным столом и не спеша перелистывал какую-то книгу.
Справа на его рабочем месте находилась золотая чернильница, стило для письма, восковые дощечки и аккуратная стопка тончайших листков папируса, которые вплоть до описываемого времени назывались «августовскими», а несколько лет спустя получили наименование «клавдиевы», в честь самого Клавдия Друза, придумавшего новый способ их изготовления.
С левой стороны стол был завален множеством раскрытых книг. Кипы книг громоздились и на скамейке возле кресла, на котором сидел брат Германика, и на ковре, покрывавшем богатый мозаичный пол.
Вдоль стен тянулись большие книжные шкафы, вмещавшие свыше трех тысяч томов литературы по различным отраслям знаний. Среди их кожаных корешков тут и там темнели пустые, указывавшие на изначальное положение книг, окружавших неподвижную фигуру историка этрусков.
В дальнем углу библиотеки, рядом с двумя окнами, из которых днем можно было увидеть храм Аполлона Палатинского, горбился над своим столом вольноотпущенник Полибий, библиотекарь Клавдия и помощник в его ученых занятиях.
Грек Полибий в юности был рабом Августа, державшего его при своей огромной библиотеке. Занятый многочисленными переводами и перепиской различных латинских и греческих рукописей, молодой раб целые дни находился среди книг императора, где, в свою очередь, большую часть времени проводил Клавдий, предпочитавший нетленную мудрость прошедших веков всем преходящим увеселениям римлян и увлечениям двора, за что заслужил немало ехидных замечаний от Ливии, Августа, Друза, Тиберия и от всей придворной знати.
Вот в этой самой библиотеке и зародилась, а потом окрепла дружба молчаливого раба и всеми презираемого прицепса, побудившая последнего выбрать подходящее время и, почти не надеясь на успех, обратиться к Августу с просьбой подарить ему молодого ученого раба. На счастье обоих, Октавиан, редко пребывавший в добром расположении духа, согласился выполнить эту просьбу в своем посмертном завещании. Жить ему оставалось к тому времени недолго, и вскоре Полибий стал вольноотпущенником и добровольным помощником в литературных занятиях Клавдия. Бывшему рабу исполнилось сорок шесть лет. Фигура его заметно обрюзгла, редкие белокурые волосы, обрамлявшие худое веснушчатое лицо с голубыми глазами, которые он часто щурил, уже имели розоватый, старческий оттенок.
Помимо работы, выполняемой им по указанию хозяина, он занимался переводом на греческий язык «Энеиды» Вергилия и доводил до совершенства латинский вариант гомеровой «Илиады».
Клавдий и Полибий молча трудились над своими книгами: один заканчивал восемнадцатый том «Истории этрусков», другой заново переводил третью книгу «Илиады».
Неожиданно монотонный шум дождя, доносившийся с улицы, был нарушен шелестом женской одежды. Полибий первый поднял голову и, увидев вошедшую Мессалину, встал, чтобы с присущей ему почтительностью приветствовать ее:
- Сальве, моя уважаемая синьора и госпожа.
Прежде чем она успела ответить, Клавдий бросил стило в чернильницу и, потирая руки, воскликнул с видом человека довольного собой:
- Сальве, Мессалина! Уже наступило время ужина?
- Сальве, Полибий, - сказала женщина, - Сальве, Клавдий, скоро ужин будет готов. Я пришла поговорить с тобой.
- Пришла поговорить. Вечно ты находишь темы для разговора, когда пора садиться за стол!
- А ты вечно занят историей своих этрусков и забываешь, что тебя окружают живые люди!
В голосе Мессалины прозвучал горький упрек мужу.
Полибий вышел из-за стола и, решив оставить супругов наедине, вежливо произнес:
- С вашего позволения, пойду выпью чашку меда.
- Полибий, ты можешь не уходить, - поспешил сказать Клавдий, в последнее время избегавший встречаться с женой без свидетелей, - я настолько привык считать тебя членом нашей семьи, что, думаю, что ты не помешаешь небольшой домашней беседе.
Такое мнение, видимо, не разделяли ни нахмурившаяся Мессалина, ни Полибий, который, продолжая пятиться к двери, любезно улыбнулся и проговорил:
- Благодарю, уважаемый Клавдий, но мне нужно идти. До встречи, почтенная Мессалина.
Либертин вышел. За его спиной сомкнулся полог, прикрывавший выход из библиотеки; а чуть позже послышался щелчок затворяемой двери.
Воцарилась тишина. Минуту спустя Мессалина невиданно быстро подошла к Клавдию, ногой отшвырнув в сторону одну из книг, лежавших у нее на пути. Резко взмахнув изящной рукой, она обрушила на пол тома, которые громоздились на скамье возле ее мужа.
- Даже здесь нет места для твоей жены! Твое сердце занято одними книгами! - воскликнула она зло и села на освободившееся место.
Испуганно посмотрев на разбросанные книги, Клавдий произнес с наигранным удивлением:
- Что случилось? Почему тебя так раздражают мои книги?
Он недоумевающе пожал плечами и, возведя глаза к потолку, точно призывал богов стать свидетелями незаслуженных упреков, смущенно пробормотал:
- Ну что я такого сделал, что?
Однако жена не дала завершить этого вопроса. Резко перебив супруга, она громко отчеканила:
- Ты делаешь все, что не должен делать, и не делаешь ровным счетом ничего из того, что нужно!
Клавдий обхватил голову руками, словно защищаясь от града, который вот-вот должен был посыпаться на него, и протянул со стоном:
- Поговорим об этом потом, моя дорогая.
- Потом будет поздно! Тебе нужно очнуться сейчас, сию минуту!
- Да я сплю всего по шесть часов в сутки, - попробовал отшутиться новоявленный консул, все еще надеявшийся избежать неприятного разговора.
Но его слова только подлили масла в огонь.
- Ах вот как! Твоего ничтожного ума не хватает даже на то, чтобы понять простые вещи. Глупец! - скривив рот, презрительно и зло процедила Мессалина.
Клавдий ничего не ответил.
- Через три дня заканчивается твое консульство, - немного успокоившись, продолжала его супруга. - Благосклонность Гая Цезаря, которой мы пользовались первое время, тает с каждым часом. Через три дня ты ее вовсе потеряешь. Ты, который мог сколького добиться! Ты, который мог стать императором!
- Тсс! - испуганно прошептал Клавдий, отчаянно замахав руками, словно хотел развеять отзвуки этих слов.
Чуть погодя, он тихо добавил:
- Что ж, может быть, ты и права. Пусть так. Но недаром все эти книги, - он обвел рукой вокруг себя, - приводят тысячи примеров той страшной участи, которая постигает всякого, кто даже не желает, лишь всего подозревается в желании стяжать высшие почести. О! Боги знают, чего мне стоило казаться глупцом.
Мессалина горько вздохнула.
- Да, казаться глупцом, - продолжил Клавдий, воодушевленный молчаливым согласием жены, - ив течение двадцати трех лет стараться не привлечь к себе внимания Тиберия, избегать его ужасной ревности и подозрительности; как Брут, я должен был прикидываться юродивым, чтобы выжить; и вот сейчас, когда возвращаются кровавые времена преследований и доносов, именно сейчас ты хочешь, чтобы я так безрассудно навлек на себя мрачную тень подозрения! Да, я хочу спать спокойно, а не участвовать в сенатских распрях. Мне нужно заниматься моими книгами. Да, мне нужно, чтобы меня считали глупцом. Да, я боюсь зависти и ревности, крови и яда. Что поделаешь, таким я родился! Но ты, моя любимая супруга, мать нашей обожаемой Оттавии, как ты можешь упрекать своего верного супруга в том, что он не желает собственной смерти?
Клавдий говорил горячо, страстно, как человек, высказывающий то, что давно накипело у него. Мессалина слушала молча и только тогда, когда он остановился, чтобы перевести дух, попыталась снова завладеть нитью разговора:
- Глупости все это, глупости.
Но муж, с неожиданным для него упорством прервав ее, заговорил быстрым, жарким шепотом:
- Глупости? Глупости, говоришь? Неужели ты не видишь, что мой племянник Гай уже давно не носит той маски, которую на Капри ему одолжил старый притворщик Тиберий, научивший его скрывать свое истинное лицо. Неужели ты не видишь всей его кровавой жестокости, всего бесстыдного распутства, которому он предается в компании актеров, пьяниц, сводников и подхалимов? Неужели ты не знаешь, что случилось с Марком Юлием Силланом? В чем была его вина? Может быть, Юния Клавдилла, его дочь, которая была замужем за Гаем и умерла вскоре после свадьбы, могла рассказать отцу о каких-то тайных пороках своего мужа. А может быть, сам Силлан, связанный с Гаем семейными отношениями, понял его порочную душу и, потеряв дочь, не мог удержаться от горьких упреков в адрес будущего, императора? Может быть. Но в чем обвинили Силлана? Этого человека высоких достоинств, благородного римлянина всегда честно высказывавшего свое мнение сенату - в каком преступлении его обвинили? Ему предъявили ложное обвинение в покушении на высшую власть и, подкупив свидетелей, обрекли на такое бесчестье, что он предпочел вскрыть вены и умереть! А в чем провинился Юлий Грек, почтенный сенатор, уважаемый как за величие души, так и за выдающуюся ученость? В том, что он отказался участвовать в преследовании невинного Силлана! Та самая твердость духа, которая не должна была вызвать ничего, кроме одобрения и почета, стоила ему жизни! А разве к нам не переменился Гай Цезарь? Да, в первые месяцы он приглашал нас на обеды, где я так усердно старался заслужить его малоуважительную благосклонность. Но и это прошло! Тогда он смеялся за моей спиной, но все же был добр ко мне! Он пожелал сделать меня консулом! С тобой он был так нежен и ласков, что это даже возбудило ревность Эннии Невии, посчитавшей тебя любовницей Цезаря. Но теперь ему нет до нас никакого дела! Я даже не знаю, получу ли ежегодную выплату в два миллиона сестерциев, которую он мне назначил, и я боюсь новых зловещих признаков немилости.
- Вот именно! Вот именно, - вполголоса заговорила Мессалина, жестом прерывая речь мужа, - он пренебрегает нами, он забывает, кто ты и какие у тебя права! Он теряет народную любовь и приобретает славу кровожадного, отвратительного, порочного тирана. Вскоре былые симпатии сменятся безразличием. А на его место придут презрение и ненависть. И вот тогда сенат, горожане, весь Рим, все будут искать избавителя, способного спасти их от власти деспота. Но на кого смогут обратить свои взоры и надежды римляне? Если они к этому времени успеют узнать тебя, оценить высокие достоинства твоего имени и понять, что ты остался единственным наследником дома Юлия, то ты заслужишь все наивысшие почести, которые тебе суждены по праву твоего рождения и крови. А если тебя не будут видеть, не будут знать о твоем существовании, кто тогда вспомнит о тебе? Гай Цезарь не сможет жить долго, потому что его здоровье, подорванное невоздержанным образом жизни, так же слабо, как и его душа, склонная более всего к порокам и растлению. Это значит, что либо он умрет от болезней, либо его погубят собственные преступления. Что тогда?
Слушая жену, Клавдий все время делал ей знаки не повышать голоса, а когда она задала свой последний вопрос, испуганно прошептал:
- О Зевс! Зачем ты мне говоришь все это?
- Во имя Немезиды! - воскликнула Мессалина, схватив руку мужа и с силой сжав ее. - Что за супруг мне достался! Не мужчина, а мальчик, вечно дрожащий перед розгами воспитателя! Ты, верно, не знаешь, что фортуна выбирает храбрейших и всегда становится на их сторону! Ну хорошо, от тебя не требуется смелости!… Я не прошу тебя устраивать заговор. От тебя нужно только, чтобы ты не сидел дома, жирея от безделья; чтобы с достоинством исполнял свой общественный долг, чтобы чаще посещал зрелища и представления, чтобы несколько раз выступил в сенате, как ты умеешь это делать, чтобы всего лишь был на виду, принимал клиентов и щедро угощал их, чтобы, наконец, разослал во все библиотеки твою «Историю этрусков». Об остальном позаботится твоя жена, у которой в груди, кажется, стучит более мужественное сердце, чем твое.
- О Зевс! Зевс! - шептал Клавдий, запустив обе руки в шевелюру и тряся головой. - Даже одного из этих требований достаточно, чтобы моя голова слетела с плеч под топором ликтора!
- Ты думаешь, что моей голове ничего не грозит? Неужели ты не понимаешь, что в случае неудачи гнев Калигулы падет и на меня?
- Иногда мне кажется, что твоя голова значит для тебя не так много, как все остальное, - с примирительной улыбкой вставил слово Клавдий. - Мне же хватает и того, что находится у меня на плечах.
- Верховные боги! - вырвалось у Мессалины, разгоряченной спором, - если мне остается только такая беспросветная жизнь, то лучше умереть за любую возможность изменить ее!
- Опомнись, дорогая, не давай волю чувствам! Одно дело сказать, другое - сделать. У меня нет тщеславия, нет гордыни, нет желания собственной смерти. Я доволен жизнью! Чего нам не хватает? Мне хорошо жить на этом свете!
- Да ты просто трус! Пугливая овца! Простофиля! - с досадой воскликнула Мессалина и, не в силах сдержать гнева, резко поднялась с места.
Клавдий тоже вскочил на ноги и, бросившись к жене, попробовал успокоить ее лаской и нежными словами. В то же время он встревоженно оглядывался и умолял не повышать голоса:
- Будь добра, не кричи! Мессалина, дорогая моя! Все будет так, как ты хочешь. Послушай… Успокойся… Ты втолковываешь безрассудные идеи этому преторианскому трибуну, Децию Кальпурниану, который часто посещает наш дом. Ну, возьми же себя в руки… любимая.
- Чего нам не хватает? - глухо переспросила Мессалина и вдруг резко обернулась к мужу:
- «Чего нам хватает!» Да у нас нет ничего! И если бы не мои старания, мы бы вовсе не сводили концов с концами! Как бы ты прожил без меня на этом нищенском жаловании, которое тебе назначил Август и сохранил Тиберий? Я уже не говорю о том, что я, жена императорского родственника, вынуждена одеваться хуже всех римских матрон! И о том, что лишь благодаря мне ты заслужил благосклонность Гая Цезаря и удостоился ежегодного вознаграждения в два миллиона сестерциев! А кто помог тебе стать консулом? И кто, наконец, в течение трех лет, с тех пор как я стала твоей женой, постоянно унижается и выпрашивает у Паоло Фабия Персика деньги для поддержания нашего скудного достатка?
- Ты права… ты права… это так, - покорно согласился Клавдий. - Ты замечательная супруга, умная женщина, прекрасная хозяйка дома, но мне не нужны излишества. Я могу довольствоваться малым.
- Вот как? - горько усмехнулась Мессалина. - Ты довольствуешься малым? Право, ты говоришь, как настоящий стоик, однако за столом тебе нужны самые изысканные блюда! Тебе нужны цекубы с фалернским и лесбосским вином, ты выпиваешь по нескольку кубков отборного хиосского! Так-то ты довольствуешься малым! Нет, ты говоришь не как стоик, а как циник, потому что при этом ты позволяешь себе любую прихоть. Для одной кухни ты держишь шестерых рабов! Так-то ты проповедуешь умеренность и воздержание! О боги, послушайте этого пифагорийца, который чуть не каждый день питается устрицами из Тарента, камбалой из Равенны, муреной с Сицилии, сабийскими дроздами, фазанами из Малой Азии, самскими павлинами и всевозможными подливами и лакомствами, которые могли бы украсить стол в триклинии императора! А в это время твоя жена должна надевать старую, порванную тунику и идти гулять с Антонией, твоей десятилетней дочерью от брака с Элией Петиной, которую ты оставил, чтобы жениться на мне! Да одно твое обжорство стоит нам миллион сестерциев в год. И на одежду мы тратим пять или шесть тысяч. Мы даже не можем содержать подходящих рабов! У нас, как у самых последних плебеев, всего двенадцать слуг: две цирюльницы, одна рабыня для украшений, другая для косметики, одна следит за одеждой и шесть рабов на кухне!
- Ты права. Это так. Но, когда ты злишься, моя Мессалина, я совсем теряю рассудок и не понимаю твоих слов. А Фабий Персик… не слишком ли много денег ты у него занимаешь?… Чем мы расплатимся за четыре или пять миллионов сестерциев, которые он одолжил тебе?
- Ох, об этом не думай! Предоставь заботы мне, твоей доброй жене, хозяйке этого дома. Я все устрою. Сейчас Фабий Персик ничего не требует. Он наш преданный друг, который больше тебя самого верит в нашу удачу. Деньги он надеется получить, - и тут Мессалина, понизив тон, наклонилась к уху Клавдия, - не раньше, чем ты станешь императором!
- О боги! Опомнись! Опомнись! - в ужасе прошептал Клавдий и, побледнев, закрыл ладонью рот своей жены. - Опомнись, Мессалина! Не произноси этого слова, прошу тебя, не думай об этом… забудь!
Внезапно он затрясся всем телом и, умоляюще сложив руки, грузно повалился на колени перед Мессалиной.
Она довольно долго смотрела на него, словно изучала это дряблое, склонившееся перед ней тело. Затем отчетливо выговаривая каждое слово, тихо сказала:
- Трусливый дурак!
Но, спохватившись, взяла его за руки и добавила:
- О да, я думаю об этом, не перестану думать днем и ночью, всегда, до тех пор, пока моя мечта не исполнится. О! - воскликнула она убежденно, - ведь ты тоже не можешь не думать об этом всесильном слове! Но произносить его я не буду. Не сомневайся, я не так глупа.
Мессалина помолчала еще немного, а потом спросила:
- Ну, толстый сорокашестилетний ребенок, что же ты будешь делать?
- Все, что скажешь. Только не злись на меня.
- Пойдешь завтра в библиотеку Аполлона? Будешь читать горожанам «Историю этрусков»?
- Начиная с завтрашнего дня буду читать ее всем, кто пожелает услышать.
- Будешь каждые пятнадцать дней рассказывать людям о том, что ты узнал за тридцать лет, изучая право, историю и религию?
- Буду, но предупреждаю, что страх может помешать мне говорить. Ты же видишь, Мессалина.
- Будешь выступать перед людьми каждые пятнадцать дней!
- Да.
- Будешь ходить со мной на все представления и игры преторианцев в амфитеатре Кастро? И вести себя там, как подобает брату Германика, человеку, достойному высших почестей?
Клавдий снова задрожал.
- Нет, только не это! Нет, Мессалина!
- Нет? нет?! - повысила тон его жена, делая вид, что ею вновь овладевает гнев, которого она уже не испытывала, потому что была уверена в победе. - Хорошо же! Я от тебя ухожу. Завтра я покидаю этот дом и возвращаюсь к Мессале, моему отцу. А потом… Почему бы мне не позволить себе кое-какие радости жизни? Я еще красива, привлекательна!
- О нет!… Ради всех богов, нет! - пролепетал Клавдий, - не оставляй меня… я не вынесу этого… я не смогу жить без тебя… без твоей красоты! Запах твоих волос так неотразимо действует на меня. Я люблю тебя больше всего на свете! Для тебя я сделаю все, пойду в амфитеатр Кастро.
- О, как я тебя люблю! Мы пойдем вместе, и ты будешь держать под руку твою Мессалину!
С этими словами она раскрыла объятия Клавдию. Он тут же поднялся с колен и принялся горячо целовать свою жену, называя ее самыми нежными и ласковыми словами.
Обнявшись, они стояли без движения несколько минут. Нежно склонясь к супруге, брат Германика просил ее не уходить сегодня в свои покои, а провести ночь в спальне мужа.
- Но разве не ты мой хозяин? Разве не ты мой повелитель? Разве не ты мой обожаемый…
И, коснувшись губами уха Клавдия, шепнула:
- …император!
Произнеся это слово, она обворожительно улыбнулась, и, взяв мужа под руку, стала расхаживать с ним по библиотеке.
- И ты всегда будешь слушать твою жену, мой милый Клавдий?
- Конечно, буду, конечно, - ответил тот. - Да что же еще я делал все три года нашего супружества?
- О!… многое… многое, - сказала женщина, ласково поглаживая его руку. - До сих пор ты все делал по-своему: пропадал в своей библиотеке вместо того, чтобы быть рядом со мной. На людях оставался слишком мягким, вместо того, чтобы быть решительным и твердым.
- Но ты же видишь, Мессалина, что я…
- Ерунда! Ничего не хочу слушать! Ничего не желаю знать, кроме того, что, начиная с этого дня, ты будешь следовать моим советам всегда и во всем!
- Всегда и во всем! - как эхо, повторил Клавдий.
- Тем более, - игриво добавила Мессалина, - что, да будет тебе известно, твоя нежная и преданная жена больше всего на свете любит отца своей обожаемой Оттавии!
- Я это знаю! Знаю! - с чувством воскликнул историк этрусского племени, останавливаясь и восторженно целуя свою жену.
- И знаешь, что каждое ее слово приносит ему пользу?
- Прекраснейшая, любимейшая Мессалина!
- И знаешь, что жена твоя не лишена некоторой прозорливости?
Знаю, моя Мессалина! Ничто, ничто не укроется от твоих неотразимых глаз!
- Наконец-то даже ты это признал…
- …что ты самая чудесная женщина Рима! - пылко заключил Клавдий, окончательно впавший в состояние восторженного воодушевления.
Он обхватил жену за талию и прижал к себе. Мессалина осторожно высвободилась из его объятий и, нежно улыбнувшись напоследок, направилась к выходу из библиотеки.
Спустя полчаса супруги уже входили в празднично освещенный триклиний, где стоял большой стол, накрытый на восемь персон. Почетное место в центре предназначалось для Мессалины. По правую руку она усадила Фабия Персика, по левую - Клавдия. С одной стороны стола расположились преторианский трибун Деций Кальпурниан и вольноотпущенник Нарцисс; с противоположной стороны удобно устроился философ Луций Сенека, по левую и правую руку от которого разместились медик Веций Валент и либертин Полибий.
Сказав, что не стоит затягивать их скромную трапезу, Клавдий заранее приказал не баловать гостей изысканными яствами. Тем не менее все блюда и вина, поданные к столу, отличались отменным качеством.
Брат Германика, как справедливо сказала Мессалина, не был богат, и в триклинии прислуживали только шесть рабов: один стольник, двое кравчих и трое виночерпиев.
Оживленные разговоры не утихали в течение всего ужина. Они начались с обсуждения недавней болезни императора, которая так искренне переживалась в народе. Весть о выздоровлении Гая Цезаря Германика, встреченная ликованием целого города, была немаловажна и для присутствовавших на вечере. Клавдий снова и снова провозглашал тосты за счастье и благополучие Цезаря, а гости их дружно одобряли и поддерживали, однако среди собравшихся восьми человек едва ли нашелся хотя бы один, в глубине души не сожалевший о подобном исходе событий. Все они, шумно выражавшие радость по поводу полного восстановления сил прицепса, были бы гораздо больше удовлетворены иным окончанием его недуга. Поэтому, оставив в стороне столь щекотливую тему, сотрапезники вскоре заговорили о разительных переменах, произошедших в поведении Калигулы. Жестокость и кровожадность, которые стали проявляться в его характере, многие из них приписывали последствиям перенесенного заболевания. Вынужденное самоубийство Силлана и казнь Юлия Грека взволновали всех, а особое негодование вызвали в прямодушном Деции Кальпурниане, который не удержался от резкого порицания Калигулы, поступавшего, по его словам, «как свирепое безмозглое чудовище». Вступив в спор с преторианским трибуном, Клавдий попробовал защитить племянника; еще одну точку зрения отстаивали Мессалина, Фабий Персик, Луций Сенека и вольноотпущенники, которые отчасти оправдывали поступки императора, пытаясь доказать преступные замыслы его жертв. Но приглашенные не доверяли друг другу и боялись скомпрометировать себя. Вот почему, высказывая какое-либо мнение, каждый прибегал к недомолвкам и общим фразам. Наконец гвардейский трибун, выведенный из себя этими предосторожностями, воскликнул:
- О подземные боги! Вот к чему приводит страх за свою жизнь! Как я понимаю, знатный брат Германика защищает своего племянника, потому что боится потерять его благосклонность.
- Нет-нет! Молчи! Сумасшедший! Я оправдываю своего августейшего племянника, потому что уверен, что он нуждается не в защите, а в одобрении! - громко крикнул Клавдий и, поднявшись с места, ударил кулаком по столу.
Деций Кальпурниан пожал плечами и, не обращая внимания на ярость Клавдия, продолжал:
- Ясно мне и то, почему почтенная Мессалина, как любящая тетя, старается смягчить тяжесть злодеяний Калигулы.
Произнося эти слова в ироническом тоне, Деций Кальпурниан злобно взглянул на прекрасную матрону. Внезапно Клавдий выкрикнул:
- Не Калигула, а Гай Цезарь Август! Дерзкий ты наглец!
Трибун снова пожал плечами, на этот раз презрительно:
- Мы, солдаты, среди которых он вырос, привыкли так его называть за привычку носить короткие военные сапожки. По-моему, в этом нет ничего странного. Мне гораздо труднее понять, почему такой строгий моралист, как Сенека, такой состоятельный и могущественный сенатор, как Фабий Персик, и, наконец, человек, занимающийся таким добродетельным ремеслом, как врач Веций Валент, одобряют кровавые злодеяния, которые не могут быть оправданы даже высшими нуждами государства!
- Во имя Марса Мстителя! - чуть помолчав, уже другим тоном воскликнул Кальпурниан. - Воистину, только страх, только липкий, ползучий страх владеет сердцами в наше подлое время! Это он заползает в души, наполняет их собой и, подступая к горлу, оскверняет язык, но я не боюсь, мне смерть не страшна. И если кто-нибудь донесет на меня, то я под топором палача повторю во весь голос все, что уже сказал. Вы желаете превозносить Калигулу за эту порочную, кровосмесительную связь с его сестрой Друзиллой? У вас хватит бесстыдства открыто, перед всем миром заявить о том, что вы одобряете их союз? О боги! На днях я вместе с сотней сенаторов, всадников и важных сановников видел, как Калигула, не стесняясь нашего присутствия, похотливо прижимал к себе Друзиллу, а когда она мягко напомнила ему о необходимости хотя бы на людях уважать закон и обычай, он, не задумываясь, ответил: «Что мне закон! Закон - это мое желание, а обычай - это мой нрав!»
Услышав рассказ Кальпурниана, Мессалина возмутилась скандальной выходкой Калигулы и встала на сторону преторианского трибуна. С оглядкой порицая великопрестольный инцест, гости последовали ее примеру. Только Клавдий все еще защищал племянника, говоря, что его поведение могло быть неправильно истолковано, что в данном случае полагаться можно только на проверенные сведения, избегать преувеличений.
Однако, не дав ему досказать, Деций Кальпурниан вновь обрушился на неблагодарного Калигулу, полным забвением отплатившего за любовь Эннии Невий и за дружеские симпатии Макрона, которые помогли ему взойти на императорский трон. Если раньше префект претория рассчитывал на консульство или назначение в Египет, то теперь он может лишиться даже своего места, куда уже намеревается заступить Руф Криспин.
Тут на защиту Цезаря встала Мессалина, по мнению которой, адюльтер с Невией был ничем не лучше инцеста с Друзиллой. Негодуя на обе любовные интриги, супруга Клавдия принялась доказывать, что император в данном случае прав: слишком уже долго им помыкала эта жеманная и самонадеянная Энния, забывшая о молодости и привлекательности своего любовника. Слишком уж долго распоряжался им этот тщеславный и расчетливый Макрон, на котором, между прочим, лежит вина в насильственной смерти Тиберия. Вот уж теперь этой парочке досталось по заслугам: и старой блуднице, и бессовестному своднику, ее мужу.
Неизвестно, чем бы закончился этот спор, если бы остальные гости, которые уже немало выпили и теперь находились в благодушном настроении, не пожелали перевести разговор на другую тему. Так получилось, что страсти улеглись сами собой, и началась беседа о недавних великолепных зрелищах, устроенных эдилами в честь выздоровления императора, о самых известных красавицах Рима, об их роскошных нарядах и украшениях, о несметных драгоценностях Лоллии Паолины, самой богатой женщины во всей Римской империи, об актерском даровании Марка Мнестера и вообще обо всем, что можно было обсуждать в свободной, непринужденной обстановке.
Вскоре Клавдий, как часто случалось с ним за столом, заметно опьянел и стал клевать носом. После нескольких неудачных попыток бороться со сном, он откинулся на подушку, предусмотрительно положенную на подлокотник его ложа, и стал тихо посапывать.
Заметив это, Фабий Персик наклонился к уху сидевшей рядом с ним Мессалины:
- Вот видишь, божественная Мессалина, Бахус на моей стороне: так обработал твоего быка, что ему к утру не добраться до твоей комнаты.
- Не надо, мой добрый Фабий, не настаивай. Сегодня ночью я не могу, - чуть слышно произнесла она и, заметив, что гости собираются расходиться, поднялась со своего места.
- Я хочу показать тебе диадему, которую твой бедный Фабий Персик, твой единственный и настоящий супруг, приготовил тебе в подарок, - прибавил вполголоса сановный ростовщик, выходя из-за стола.
- Ну зачем? Зачем? Я так люблю тебя, что не умею отказывать твоим желаниям. Подожди, не уходи.
Произнеся шепотом эти слова, Мессалина на какое-то мгновение алчно блеснула глазами, но тут же отвернулась от Фабия Персика и пошла прощаться с остальными мужчинами.
Улыбаясь и пожимая руку каждому из них, она особенно нежно взглянула на безумно влюбленного в нее Деция Кальпурниана и, слегка коснувшись ногой его ноги, тихо проговорила:
- До завтра! В час контицилия.
Потом Мессалина подошла к Клавдию и, пробуя его разбудить, несколько раз повторила, что он должен подняться, если хочет вернуть Фабию Персику те бумаги, о которых они говорили перед ужином.
Услышав, о чем идет речь, Персик пришел на помощь и тоже принялся тормошить Клавдия, который в конце концов очнулся и, бессмысленно озираясь по сторонам, пробормотал:
- Что случилось? Что происходит, Мессалина?
В триклинии уже не было никого, даже рабов, которые ушли провожать гостей.
- Фабий Персик хочет получить обратно бумаги, которые…
- Персик? Какие бумаги? О чем ты говоришь? Я ничего не знаю. Не надоедай мне. Я хочу спать.
Глаза Клавдия снова закрылись, ему было трудно говорить.
Тогда Мессалина подала знак Персику, чтобы тот оставил их наедине, и, наклонившись к лицу обессилевшего супруга, которого ей приходилось поддерживать за спину, прошептала:
- О да, бедный Клавдий, ты прав, я не буду надоедать тебе, тем более в такой час. Забудь про бумаги Персика. Спи, мой бедный муж! Твоя Мессалина позаботится, чтобы тебя отнесли в постель.
Тихий, ласковый голос Мессалины скоро убаюкал Клавдия. Снова откинувшись на подушку, он стал медленно засыпать.
Тем временем Персик, выйдя из триклиния, подозвал своего антеамбула, дожидавшегося хозяина в комнате рядом с атрием, взял у него кожаный кошелек, с которым обычно отправлялся в Палатинский дворец, и отослал слугу домой вместе с рабами, сопровождавшими сенатора в этот вечер.
Когда через несколько минут, тщательно приведя в порядок одежду и бороду, Фабий Персик вернулся в душный обеденный зал, где в полной тишине, посреди неубранных блюд и опрокинутых кубков пылали полсотни свечей, освещавших всю обстановку недавнего шумного застолья, он увидел беспомощно раскинувшуюся на своем ложе фигуру спящего Клавдия и неподвижно стоящую над ним Мессалину, которая, словно о чем-то глубоко задумавшись, молча и пристально смотрела на своего супруга.
Грудь матроны тяжело вздымалась под туникой; сухие ярко-красные губы были чуть приоткрыты; нахмуренный лоб и полуопущенные веки говорили о том, что мысли женщины находились далеко от сегодняшних событий.
Вспоминала ли она годы замужества? Раскаивалась ли в неверности Клавдию, чувствовала ли угрызения совести, сожалела ли о своей распутной жизни? Или, одержимая тщеславными намерениями, мечтала о будущем величии?
Из этой задумчивости ее вывел голос Фабия Персика, который приблизился к ней и, осторожно взяв за локоть, тихо спросил:
- Что с тобой, моя прекрасная Мессалина?
- Ах! - вздрогнула она, точно очнувшись от какого-то наваждения. - Это ты? Пошли.
Взяв сенатора под руку, Мессалина направилась к выходу из триклиния. Она уже открыла дверь, когда внезапно остановилась и сказала:
- Подожди немного.
Вернувшись в зал и пройдя к его главному входу, она крикнула властно:
- Эй! Заберите вашего хозяина и на руках перенесите его в постель!
Пока она отдавала это распоряжение, Фабий Персик подошел к беззаботно похрапывавшему Клавдию и, презрительно ухмыльнувшись, снял с него домашние туфли, которые после недолгого раздумья надел, наподобие перчаток, на обе руки спящего, чтобы после утреннего пробуждения тот гадливо сморщился от вида того, чем во сне отирал пот с лица.
- Что ты делаешь? - с упреком прошептала Мессалина и, осторожно приблизившись к ложу, собралась снять туфли с рук своего мужа.
- Оставь, прошу тебя, - вполголоса произнес Персик и, открыв принесенный антеамбулом кошелек, достал из него большую шкатулку, содержимое которой молча показал Мессалине.
Супруга Клавдия чуть не вскрикнула от радости и восхищения: в шкатулке лежала серебряная треугольная диадема, которой она еще не видела, ей не было равных ни по красоте, ни по стоимости. Это чудесное произведение ювелирного искусства было украшено восемнадцатью драгоценными камнями: тремя изумрудами, шестью голубыми топазами и девятью рубинами. В центре диадемы сверкал огромный изумруд, размером с голубиное яйцо, окруженный тремя крупными рубинами и двумя топазами. Такой подарок мог стоить не меньше миллиона сестерциев [II]. Рассматривая его, Мессалина неожиданно для самой себя воскликнула:
- Бедный Клавдий!
- Он украл у меня счастье быть твоим мужем. Я хочу отомстить ему… насмеяться… наказать. Я ненавижу его, потому что ревную тебя.
Мессалина, взяв левой рукой шкатулку с диадемой, правой обхватила шею Персика и, целуя его, нежно прошептала на ухо:
- Но ты же знаешь, я люблю только тебя одного… Пошли!… Благодарю тебя.
И она увлекла любовника в отворенную дверь, которую плотно прикрыла за собой.
Во дворце Августа воцарилась тишина, нарушаемая только приглушенным завыванием ветра, который свирепствовал за окнами.
Тем временем в одном скромном, но уютном доме, расположенном на улице Карино, происходила мрачная драма.
Человек, вошедший в этот дом, не нашел бы показной и зачастую безвкусной роскоши, с которой патриции старались обставить свое жилище; и все же многое говорило о завидном благосостоянии хозяев этого особняка на улице Карино.
Мебель, ковры, пологи на дверях, диваны, росписи на стенах и, в особенности, изысканная коллекция статуэток, украшавших комнаты, могли принадлежать лишь очень богатым людям. Но странной казалась тишина, заполнявшая дом, когда в соседних жилищах еще не закончилась пора шумного веселья.
Атрий дома был погружен в полумрак: остиарий[100] давно погасил лампаду и, оставив гореть только крохотный светильник перед алтарем домашних Ларов, ушел спать в отведенную ему каморку. Темно было и в коридоре, ведущем к таблию; из четырех комнат, выходивших в него, не доносилось ни звука. Полуосвещенный таблий сторожили два кубикулария[101]: одного, который, закрыв лицо руками, неподвижно сидел в углу, можно было принять за спящего, если бы не дрожь, то и дело пробегавшая по его телу; другой нетерпеливо прохаживался по залу, изредка останавливаясь и поворачивая испуганное лицо в сторону дверей, находившихся слева от входа. За ближайшей дверью слышался приглушенный звон посуды и какое-то шушуканье. В этой комнате слуги мыли посуду, недавно убранную со стола в триклинии: они старались не производить шума. Дверь, на которую смотрел кубикуларий, вела в уютную, задрапированную дамасским шелком спальню, где рядом с большой бронзовой жаровней стояло высокое позолоченное ложе.
Под потолком этой комнаты ярко горел серебряный светильник с четырьмя рожками. На ложе, молча уставившись в какую-то неподвижную точку, сидела непричесанная Энния Невия. Из ее широко раскрытых зелено-голубых глаз медленно текли слезы. Дрожащие губы и руки, которыми она обхватила колени, выдавали глубокое волнение женщины. По комнате ходил бледный Невий Сарторий Макрон.
Обоих постигло непоправимое горе: то грандиозное здание, строительство которого длилось четыре года и потребовало столько изворотливости, притворства, измен и обманов, вдруг, словно карточный домик, разлетелось на куски. Рухнули все планы, иллюзии и мечты. Энния не только не стала императрицей, но не оказалась даже в числе самых заурядных наложниц Цезаря: более того, отвергнутая прицепсом, она уже не могла надеяться и на объятия простого центуриона!
Сарторий Макрон, правая рука Тиберия и человек, сумевший возвысить Гая Цезаря до императорского престола, тот, кого боялись и народ, и сенат, не только не стал консулом, не только не получил назначения в Египет, но не получил даже должности префекта претория. Презираемый теми, кто еще вчера почтительно склонялся перед ним, он знал, что завтра любой плебей сможет плюнуть ему в лицо. Только солдатская выдержка и крепкие нервы помогли ему не обнаруживать чувств, которые владели им.
В течение получаса Макрон молча шагал из угла в угол спальни. За это время он позволил себе лишь несколько раз до хруста сжать кулаки, которые, скрестив руки на груди, прятал под локтями.
Эту напряженную тишину первой нарушила Энния Невия, которая, наконец, усилием воли поборола свое оцепенение и, поднявшись, дрожащим голосом спросила у мужа:
- Итак? Что будем делать?
Ее вопрос, казалось, застал Макрона врасплох: он растерянно оглянулся и переспросил:
- Что будем делать?
Оба замерли и, словно не виделись целую вечность, уставились друг на друга: Макрон, разглядывавший бледное, мокрое от слез лицо жены, и Невия, с горьким изумлением обнаружившая, что за прошедшие полчаса черные волосы Макрона стали почти седыми. От жалости и от щемящей нежности к супругу она разрыдалась еще сильнее: бросившись на шею мужу, Энния припала белокурой головой к его груди и, всхлипывая, проговорила:
- Ох, Сарторий! Каково же тебе так страдать!
- Бедная Энния! Любимая моя! - воскликнул Макрон, одной рукой прижав к себе супругу, а другой гладя ее по голове. - Если бы мои беды касались только меня!…
Немного помедлив, Энния осторожно высвободилась из объятий мужа и, положив руки ему на плечи, сказала:
- У нас есть большое имение в Волошин и еще усадьба в Кампании. Думаю, что два поместья худо-бедно будут приносить до девяноста тысяч сестерциев в год. Мы покинем этот коварный, порочный город и спокойно доживем до старости… или до лучших времен.
Какая-то странная улыбка скользнула по губам Макрона. Немного поколебавшись, он ответил:
- Бедная Энния! Как у тебя все просто… Бедная моя Энния!
Женщина пристально взглянула в черные зрачки Макрона. Охваченная смутным предчувствием новой беды, она тревожно спросила:
- Почему ты так говоришь?
Макрон взял жену за обе руки и подвел к ложу, на котором она недавно сидела, потом сел вместе с ней и, не выпуская рук, тихо произнес:
- Моя нежная Энния, твой рассудок не представляет всей человеческой подлости. В душах людей жестокости больше, чем ты сможешь выдержать. Теперь, девочка, от тебя требуется много, много мужества.
- Но почему? Почему? Что случилось? - бледнея, спросила Энния.
- Случилось то… что с вершины благосклонности я низвергнут в бездну ненависти. Неблагодарный Гай стал моим непримиримым врагом.
- Что еще ему нужно? - сквозь слезы спросила Энния.
- Моей смерти, - глухо выдавил Макрон.
Протяжный стон вырвался из горла Эннии. Она вновь упала на грудь супруга и в ужасе зашептала:
- Ох, мой бедный Сарторий! За что? Ох, подлый Гай! Ох, бедный Сарторий!
- Ну, мужайся, жена моя, мужайся! Я надеюсь на тебя. Докажи, что ты меня любишь.
Энния закусила губу, чтобы сдержать рыдания, и после минутного молчания, глядя в сторону, спросила:
- Неужели нет никакого выхода?
- Какого выхода? Куда?
- Я брошусь в ноги этому негодяю…
- Тебе закрыта дорога к нему. Помнишь, когда мы сегодня ужинали, наш мажордом ненадолго вызвал меня из триклиния?
- Помню… ты еще никак не хотел объяснить причину такого срочного разговора.
- Так вот. Он передал мне короткое письмо от Гая Цезаря, который обвиняет меня в покушении на безопасность государства и, снисходя к нашей былой дружбе, позволяет только лишь одно - самому избрать себе вид смерти.
- Какая низость! - возмутилась Энния Невия.
- Если я хочу избежать веревки палача или топора ликтора, то должен умереть сегодня ночью.
Последовало долгое молчание, которое нарушила Энния. Она встала и решительно произнесла:
- Что ж, если нужно умереть, мы умрем оба.
- О нет! Никогда! - воскликнул Макрон, резко поднимаясь на ноги.
- А для чего жить? Для кого жить?
Несчастные супруги вступили в упорный словесный поединок, но ни настойчивые мольбы, ни веские доводы Макрона не могли поколебать отчаянной решимости его жены.
- Мы вместе жили, любили друг друга, вместе мечтали о величии и, обманутые нашими надеждами, вместе умрем.
Уже во втором часу ночи бывший префект претория, бессильный перед преданностью своей жены, позвал мажордома, который дожидался в таблиц, и приказал приготовить большую ванную, устроенную рядом с атрием. Потом, выполняя просьбу Эннии, пожелавшей, чтобы они привели в порядок свои дела, он отправился в библиотеку и стал внимательно просматривать хранившиеся у него бумаги. Макрон уселся перед жаровней, куда принялся бросать письма и документы, не предназначенные для посторонних глаз.
Если бы кто-нибудь застал его за этим занятием, то едва ли заподозрил бы, что через час Макрон лишит себя жизни.
Только несколько раз дрогнули мускулы на бронзовом лице Макрона. Только два или три воспоминания о прожитой жизни нарушили его суровое спокойствие.
В то же время Энния, запершись в конклаве[102], со слезами на глазах бросала в огонь бумаги, которые принесла в шкатулке из черного дерева.
Покончив со своей работой, Макрон достал из потайного шкафчика несколько кожаных кошельков с деньгами и вновь позвал мажордома, который, плача и шепча проклятья жестокому тирану, почтительно склонился перед ним.
- Ты всегда был верен нам, и эти слезы еще раз доказывают бескорыстную преданность хозяевам, которые обращались с тобой хуже, чем ты заслуживал, - проговорил Сарторий.
- О господин, повелитель мой! - воскликнул мажордом, которого душили слезы. - Я уже давно в твоем доме. Я служил твоему отцу. Ты был так милостив ко мне. Чего еще может пожелать бедный слуга…
Он запнулся, от рыданий у него перехватило дыхание.
- Не плачь. Смерть - это покой. Смерть - это закон, которому мы подчиняемся и который никому не дано нарушать. Выслушай меня. Завтра мой дом станет добычей императорской казны, но я не хочу, чтобы все досталось алчным прокураторам Цезаря. Возьми вот этот кошель. Он принадлежит тебе. Остальные деньги я, полагаясь на твою честность, приказываю разделить между всеми моими немногочисленными слугами.
- Этот документ, - продолжал он, показывая на листок папируса, лежавший у него на столе, - отпускает на свободу всех моих слуг. Если мои бессовестные преследователи не откажутся признать его, то ты скоро станешь вольноотпущенником. А теперь успокойся и ступай, жди меня в комнате для раздевания.
Однако после этих слов мажордом разрыдался с удвоенной силой и бросился к ногам своего господина, умоляя забрать кошель и не покидать верного слугу. Хозяину стоило немалых трудов заставить мажордома взять деньги и выпроводить его из библиотеки.
Оставшись один, Макрон принялся быстрыми шагами ходить по комнате. Все его чувства вдруг вырвались наружу: глаза помрачнели, то и дело он сжимал кулаки и, точно угрожая кому-то, потрясал ими в воздухе. Гневные гримасы искажали его лицо.
- Вот как! Вот как оплачены все мои благодеяния… Поделом же мне досталось за то, что вот этими руками задушил старца и расчистил дорогу юнцу, за то, что стал сводником Гая, его советчиком, шпионом! Такой монетой ты, подлый негодяй, отплатил за все… за все сразу, без сдачи. Ох, если бы я мог вернуться хоть на один месяц назад! Одного месяца было бы достаточно! Тридцать дней назад ты, коварный Гай, уже с презрением отвернулся от Эннии, уже ненавидел меня, не выносил моего присутствия, но у тебя еще не хватало смелости разжаловать меня, ты еще трусил! Ах, во имя всех подземных богов. Месяц назад я еще стоял в твоей прихожей и мог бы одним ударом вонзить меч в твое подлое сердце. А потом… О, да! Ни величия, ни консульства, ни Египта, ни Сирии. Только смерть. Но, во имя Марса Мстителя, пусть свершится возмездие!
Взгляд Макрона был ужасен: его налитые кровью и дико вытаращенные глаза внушили бы страх любому, кто в эту минуту увидел бы бывшего министра Тиберия.
Но в конце концов его порыв сменился безразличием: обхватив голову, Макрон долго смотрел себе под ноги, потом оторвал взгляд от пола и тихо произнес:
- Теперь все бесполезно.
Он привел в порядок свою тунику и позвал кубикулария.
- Я хочу пить, - спокойно сказал он слуге, появившемуся в дверях библиотеки. - Размешай теплой водой настой тимьяна с полынью и принести сюда.
Как только слуга удалился, Макрон вышел в коридор и направился в комнату, служившую ему спальней еще тогда, когда он не был префектом претории и постоянным спутником императора.
Вскоре он вернулся, держа в руке кожаный ремень с золотыми бляхами, на котором раскачивался из стороны в сторону испанский палаш в самшитовых ножнах, обшитых бронзовыми пластинами и украшенных золотым арабским узором. Вытащив палаш из ножен, Макрон большим пальцем левой руки попробовал лезвие и, вложив палаш обратно в ножны, положил меч на стол. В этот момент кубикуларий принес питье. Макрон принял чашу и с жадностью выпил почти половину ее содержимого; потом, оторвал губы от чаши, повернулся к слуге и спросил:
- Который час?
- Почти час интемпесто [III].
- Дождь идет?
- Льет как из ведра, хозяин.
Макрон снова поднес чашу ко рту и допил все, что там оставалось. Возвращая пустую посудину слуге, он произнес:
- Хорошо, можешь идти.
- Слушаюсь, - промолвил слуга и скрылся за дверью.
Захватив меч, Макрон вышел вслед за кубикуларием и направился в ванную. В комнате для раздевания его встретил все еще печальный, но уже не плачущий мажордом.
- А Энния? - тихо спросил Макрон.
- Она уже в ванной, мой господин. Госпожа приказала служанке принести все ее драгоценности и решила дожидаться тебя в калодарии[103].
- Бедная Энния! - прошептал Макрон, начиная снимать с себя одежду.
- Мой добрый господин, - проговорил мажордом низким, дрожащим голосом, - наша синьора… Она взяла с собой бритвы.
- Знаю, - ответил Макрон и, сняв с указательного пальца правой руки массивное золотое кольцо с ониксом, протянул мажордому:
- Возьми на память. Харону перстни не нужны.
- Но… - медленно произнес слуга, машинально беря кольцо и помогая хозяину раздеваться.
- Значит… наша госпожа… тоже умрет?
- Она так захотела… это ее воля, - чуть погодя ответил Макрон и, уже полностью обнаженный, наклонился над скамьей, на которой лежал его меч.
- О Зевс Повелитель! - воскликнул мажордом. Закрыв лицо руками, он снова зарыдал.
Уже не обращая внимания на бедного старика, Макрон прошел через тепидариум[104] и вскоре перешагнул порог калодария, где горели два светильника, поставленные слугами в изголовье мраморного ложа, называемого лакоником.
В тесной комнате было очень жарко. Напротив лаконика переливался бликами удобный мраморный бассейн, способный вместить четырех человек. Сейчас там по пояс в воде сидела Энния Невия. Ее пышные белокурые косы были наспех собраны на затылке. Великолепные плечи и грудь оставались над полупрозрачным зеркалом воды. На краю бассейна стояла служанка. По знаку госпожи она, отвернув голову, вышла в дверь, через которую только что вошел Макрон.
- Ох! Моя Энния! - произнес Макрон, положив меч на мраморные ступени бассейна и начиная спускаться по ним. - Еще раз умоляю тебя, дай мне умереть одному. Гай ненавидит только меня, только меня он боится: лишив меня жизни, он тебя не тронет. Энния, послушай… Прошу, оставь свою затею…
- …чтобы вызвать ревность Друзиллы, насмешки Пираллиды, гнев Мессалины и презрение всех остальных? Ох, нет. Никогда. Сто раз нет, - решительно отозвалась Энния, целуя мужа, который в последнем порыве нежности обнял ее.
- Ну, что ж, - поникшим голосом сказал Макрон и погрузился в воду рядом с женой, оставив на поверхности только шею и голову.
- Почему ты принес меч? - спросила Энния и, вытащив из воды одну ногу, приставила бритву к лодыжке.
- Потому что его лезвие острее бритвы: это могут подтвердить и германцы, и парфяне, и фракийцы.
В ту же минуту Энния попробовала надрезать плоть, но непроизвольно отдернув руку, в ужасе отвернула голову и прошептала:
- Боги не дают мне сделать этого. У меня не хватает смелости. Я не могу.
- Так оставайся жить, умоляю тебя, Энния… останься жить… прошу, в последний раз докажи мне свою любовь, - воскликнул Макрон и, отобрав бритву у жены, поднялся на верхнюю ступень бассейна. Там он резким движением вскрыл вены на обеих своих лодыжках и перерезал левое запястье, после чего отшвырнул бритву.
Энния Невия, расширенными от ужаса глазами наблюдавшая за мрачными манипуляциями супруга, при виде крови смертельно побледнела и испустила надрывный вопль.
- Не кричи, Энния. Это не страшно… - корчась от боли, проговорил Макрон.
Сказав так, он опустился в теплую воду.
Энния взяла в руку другую бритву и зажмурилась. Потом, собравшись духом, она подтянула к себе правую ногу и с силой резанула по ней. Едва затих ее сдавленный крик, как она, не разжимая глаз, подтянула левую лодыжку и проделала с ней то же самое. Снова вскрикнув, она быстро перерезала пульсирующую вену на левой руке и, переложив бритву в левую, уже кровоточащую руку, открыла вены на правой. После этого она отбросила бритву и погрузилась в воду. На поверхности осталось только мертвенно-бледное лицо с закрытыми глазами.
- Твое желание выполнено, моя нежная Энния, - печально сказал Макрон и, немного погодя, добавил:
- Ты чувствуешь боль. Но скоро она пройдет.
Женщина молчала. Ее голова неподвижно лежала на ступеньке бассейна. Не слыша ответа, Макрон взглянул на безжизненное лицо супруги и прошептал:
- Мертва!
Он поднялся на ноги и, оставаясь по пояс в воде, подошел к жене. После безуспешных попыток получить ответ от Эннии, он поцеловал ее в лоб и пробормотал:
- Странно… Я думал, что не выдержу ее агонии.
Обеими руками взяв рукоять меча, лежавшего на ступенях, Макрон приставил его острие к левой стороне мускулистой груди и с силой рванул на себя. От боли он пошатнулся, но успел вытащить оружие из раны, откуда сразу же хлынула кровь. Меч выпал из рук, и Макрон рухнул в воду, ударившись лицом о край бассейна.
Тело бывшего префекта претория скрылось под водой. Там, где он упал, стало расплываться розовое пятно. Макрон попал мечом прямо в сердце и умер почти мгновенно.
Энния Невия не приходила в себя довольно долго. Наконец она очнулась и тихо позвала Макрона. Не слыша его голоса, она с трудом приподнялась и огляделась, но не увидела мужа. Тогда она громко закричала. На ее душераздирающий крик сбежались рабы и рабыни, но не могли прийти на помощь госпоже. Макрон, проводив служанку, запер дверь на ключ. В тепидариуме началась паника. Когда же, взломав дверь, рабы ворвались в калодарий, то застали в нем только безутешно плачущую Эннию и были вынуждены позвать слуг, потому что госпожа просила найти их хозяина.
Мажордом и двое рабов спустились в ванную и оттуда, где вода была наиболее розовой, вытащили обескровленное тело Невия Сартория Макрона. Лицо его было спокойно, глаза широко раскрыты. Из страшной раны все еще сочилась кровь, стекая на мраморный пол калодария.
- О Макрон! О мой любимый Макрон! - всхлипнула Энния Невия и дрожащим голосом приказала положить рядом с ней тело супруга.
Когда приказание было выполнено, она принялась целовать и гладить его голову. От этого занятия она отвлеклась лишь на минуту и только для того, чтобы заставить замолчать раба-хиругра и мажордома, которые хотели перевязать ей вены.
Тем временем теплая вода и горячий воздух ускоряли обильное кровотечение Эннии Невии. Крупные капли пота выступили на ее прозрачно-бледном лице, во всем теле она стала ощущать какую-то приятную усталость. Эта усталость обволакивала ее, расслабляя напряженные мускулы и гася мысли. Вскоре ею овладели сонливость и апатия.
Она склонила свою белокурую голову на мраморную ступень бассейна, веки ее медленно закрылись, она стала испускать слабые стоны вперемешку с какими-то звуками. Энния шептала то одно, то другое имя:
- О коварный Гай! Ох, мой Макрон!
Ее предсмертный бред продолжался больше часа. Все это время рядом находились две служанки: одна, бледная и неподвижная, стоя, как мраморное изваяние, смотрела на агонию госпожи; другая опустилась на колени перед краем бассейна и плакала, не отнимая рук от лица. Мажордом, который уже выплакал все слезы, молча сидел на ложе и отстранение глядел то на тело своего бывшего хозяина, то на его умирающую супругу.
Внезапно тело Эннии соскользнуло по ступеням и скрылось под водой. В то же мгновение рабыни и мажордом, как были, в одежде бросились в бассейн и общими усилиями вытащили Эннию Невию, которая от сотрясения пришла в себя и стала вновь звать Цезаря и Макрона. Поддерживаемая слугами, женщина прошептала еще несколько слов:
- Оставьте меня в ванной. Не мешайте мне умирать. Я так хочу.
Она закрыла глаза, но через несколько минут вновь их открыла и посмотрела на людей и предметы, окружающие ее. Приподнявшись, обхватила правой ладонью рану на левой руке. Когда в ладони набралось немного крови она отняла правую руку и посмотрела на нее.
Это неожиданно придало ей силы. Слабым голосом, но внятно она медленно произнесла:
- Гай Цезарь… Германик… Да падет на тебя гнев божий… за эту невинную кровь! Да не простится тебе твое коварство… Да покарают тебя подземные духи!
Собрав остатки сил, она подняла правую руку, стряхнула с нее кровь и рухнула на край бассейна. Ее левая рука свесилась почти до воды, в которую стекали последние капли крови Эннии Невии, смешиваясь там с кровью ее супруга, Невия Сартория Макрона.
Наступила гнетущая тишина. Стоя неподвижно, слуги слышали, как свирепо завывает ветер на улице Карино.
ГЛАВА VI
В первое утро 791 года на римских улицах, освещенных яркими лучами солнца, гулял крепкий северный ветер. Было морозно, но день выдался на славу.
На всех дорогах царила необычная суматоха. Клиенты торопились посетить своих покровителей. Сенаторы, всадники и магистры спешили засвидетельствовать почтение императору.
Настал день новогодних подношений. Перед каждым домом знатного или богатого римлянина выстроились по две очереди оживленных людей: они входили внутрь, другие выходили наружу.
Первые держали в руках цветочные венки, разноцветные восковые свечи, плетеные кошелки со сладостями, вазы с сушеными фруктами, шкатулочки для всякой всячины, бронзовые подносы, серебряные канделябры… словом, то, что позволял их достаток. Бедняки прятали под тогами пустые ивовые корзины для предназначенных им остатков с обеденного стола.
Вторые - либо сразу удалялись с доставшейся им снедью, либо обменивались тем, с чем вышли от щедрого благодетеля, либо, всем довольные, хвастались полученными гостинцами.
Исключая самых нищих, все горожане, сновавшие по главным улицам Рима, были одеты в тоги, лацерны и пенулы[105] белого цвета, служившего символом умиротворенности и покоя.
Длинные вереницы людей тянулись к Капитолию, чтобы принести жертвы в храм Зевса Громовержца. Рабы и вольноотпущенники бережно несли подарки своих хозяев, посылавших друг другу знаки уважения и дружбы.
Весь город жил праздником: всюду мелькали радостные лица, слышались возгласы и поздравления.
Дворец Тиберия был переполнен. Вот уже больше часа сюда несметной толпой пребывали сенаторы, консулы, патриции, всадники, благородные дамы и почтенные матроны. Все, чем были богаты стены Вечного города, все, что в нем славилось происхождением, богатством, успехами в искусствах, в общественных делах или в военной службе, - все, казалось, спешило появиться на Палатине.
Посреди громадного тиберианского таблия, рядом с роскошнейшим троном стоял Гай Цезарь Калигула, облаченный в белую тунику с золотым шитьем и увенчанный золотой короной. На его плечи был изящно накинут императорский пурпур.
Справа от него, одетая в изысканно украшенную тунику, стояла грациозная Друзилла. Ее диадема, ожерелья, колье и браслеты, стоившие не меньше двадцати миллионов сестерциев, были украшены крупными рубинами, топазами, изумрудами и ониксом. В правом ухе мерцала нить матового жемчуга ценой в десять миллионов сестерциев.
Чуть поодаль сияли своими ослепительными украшениями Агриппина и Ливилла, а за ними виднелась пышно разодетая Мессалина.
В стороне от женщин императорской семьи, в глубине просторного таблия собрались муж Агриппины Гней Домиций Энобарб, муж Ливиллы Марк Виниций Калатин, Тиберий Клавдий Друз, оба новых консула Марк Аквилий Юлиан и Публий Ноний Аспренат, вольноотпущенник Калисто, Марк Мнестер, Авл Вителий и новый префект претория Руф Криспин. Они были окружены матронами и благородными девицами из богатых домов.
Из-за левого плеча Калигулы выглядывал долговязый, изжелта-бледный вольноотпущенник Протоген, который в этот день исполнял обязанности номенклатора. Протоген вполголоса называл имена людей, по очереди подходивших к семье Цезаря.
Гости торжественно поздравляли Гая и его сестер.
- Аве, Цезарь! Да будешь ты сто лет править миром!
- Да прославится в веках твоя империя!
- Да подарят боги сто лет жизни тебе и твоей семье!
- Вечная слава Гаю Цезарю Германику Августу!
- Вечного процветания роду Германика!
- Аве, Гай Цезарь, божественный и бессмертный!
На широком сирийском ковре либертин Калисто складывал роскошные подарки.
Тот, кому они предназначались, с надменной улыбкой принимал поздравления, изредка кивая головой или обращаясь к посетителям и посетительницам с двумя-тремя словами, приводившими их в немалое замешательство.
- Гней Корнелий Сципион и его жена Поппея Сабина, - прошептал на ухо императору Протоген, когда перед ними предстала ослепительно красивая и великолепно одетая матрона, сопровождаемая сенатором.
- Привет тебе, Сципион, выбравший в жены самую очаровательную женщину Рима. Если не считать моей божественной Друзиллы.
Зардевшись от похвалы, Сципион и Поппея поблагодарили Цезаря и передали в руки Калисто небольшую, но очень дорогую халцедоновую чашу.
- Я признателен тебе за этот подарок, Сципион, - продолжал Калигула со странной улыбкой на лице. - Право, знаешь, как велики расходы Цезаря. Не забывайте же и впредь его нужд, благороднейшие потомки старинных латинских родов! Ведь вам известно, что Цезарь должен содержать и плебеев, и преторианцев. У бедного Цезаря долгов больше, чем денег!
Услышав эти слова, одни удивились, а другие возмутились, хотя никто не выразил ни удивления, ни возмущения. Наоборот, одобрительный шепот пронесся по просторному залу.
Новому претору Луцию Апронию Цезонию, который, кланяясь и заискивая, преподнес Калигуле маленький кинжал с рукоятью, усыпанной бриллиантами, он сказал:
- Что это, Апроний? У тебя не нашлось ни одного слова для моих сестер!
А когда неудачливый претор, смутившись, рассыпался в любезностях перед его семьей, то император вдруг грозно нахмурился:
- Так вот. Вы и весь римский народ должны запомнить, что, обращаясь к кому-нибудь на общественных собраниях или давая обет, отныне нужно добавлять слова: «ради счастья и славы Цезаря и его сестер».
Раздались громкие крики:
- Славы и счастья Цезарю и его сестрам!
И вновь последовали богатые подношения Калигуле, который время от времени обнимал и ласкал Друзиллу, нашептывая ей самые нежные слова.
- Слава Друзилле, твоей очаровательной сестре! - воскликнула прелестнейшая из всех девушек Рима, Домиция Лепида, сестра Гнея Домиция Энобарба и племянница Агриппины.
- И моей любимой жене! - сипло добавил Калигула.
Новая реплика императора вогнала в краску и Домицию, и Друзиллу, которая осторожно упрекнула брата за произнесенные слова. Калигула тут же громко прикрикнул на нее:
- Как ты не можешь понять, что мои желания равносильны закону? Во имя богов, которых я и в грош не ставлю, всему Риму должно быть известно, что желание его повелителя - закон!
После этих слов в таблии воцарилась гнетущая тишина, которая продолжалась больше часа, пока Цезарь принимал подарки и робкие поздравления смущенных гостей. Окончив прием, Цезарь и его приближенные отправились в просторную залу, где для них были приготовлены изысканные угощения.
В тот день в окружении императора оказался один молодой человек, который прежде не был в числе избранных, а потому привлекал к себе множество любопытных взглядов. Выше среднего роста, широкий в плечах, он отличался крепким телосложением. Наклон его головы, прочно сидевшей на могучей шее, говорил о скрытой внутренней силе. У него были маленькие проницательные глаза и темная густая шевелюра, на которую, впрочем, уже наступали ранние залысины. На его белой, окаймленной пурпуром тунике красовался знак отличия эдила курии. Это был двадцатидевятилетний Тит Флавий Веспасиан, избранный эдилом на 791 год. Он только что заступил на свой пост.
Новый эдил родился в 762 году по римскому летоисчислению в плебейской семье, проживавшей в Фалакрине, небольшом предместье Рьети. Его дед, Тит Флавий Петроний воевал в первой гражданской войне на стороне Помпея, но был прощен Юлием Цезарем и даже получил должность сборщика налогов. Его отец долгие годы был государственным казначеем в Азии, потом стал ростовщиком и переехал в Элвецию, где у него и Веспасии Поллии, дочери претора, родились Тит Флавий Сабин и Тит Флавий Веспасиан. Последний немало лет провоевал простым легионером в Иллирии, прежде чем, отличившись при подавлении восстания во Фракии, заслужил звание трибуна и в качестве квестора был послан на Кипр. Недавно вернувшись в Рим, он был полон решимости показать себя образцовым эдилом, чтобы добиться чина претора, а затем снискать желанные консульские почести.
Человек слова и дела, Тит Флавий был от природы наделен здравым смыслом, острой проницательностью и практической хваткой. Отказавшись от ложных предрассудков своего сословия, он научился угождать вкусам сильных мира сего и находить выгоду во всем, даже в своем происхождении. Пользуясь властью денег и влиянием нескольких могущественных покровителей, он ради осуществления своих замыслов не раз прибегал к поддержке простого народа. Его врожденное властолюбие было подкреплено десятью годами военной службы. Они же в нем развили чувство долга и беспрекословного подчинения закону.
В Риме он занимался торговлей рабами и лошадьми, которая, благодаря плебейской сноровке, приносила немалые барыши новому эдилу. Речь его была по-плебейски безыскусна и по-своему выразительна. Порой он позволял себе грубое, но меткое словцо, способное заменить целую тираду напыщенных любезностей. Таков был новый друг молодого прицепса, привлекавший внимание многих гостей Калигулы.
Через час, по желанию сестер, намеревавшихся принести жертвы и предстать перед горожанами в своих роскошных нарядах, Калигула и его окружение отправились к Капитолию, в храм Верховного Божества. Впереди императорского шествия выступала центурия преторианцев.
- Я гениален, - говорил Калигула Друзилле, которая, сжимая руку брата, шла рядом с ним, - потому что для меня нет ничего невозможного. Мне скучно делать то, что делали до меня. Возводить храмы базилики, термы[106], дворцы - что в этом нового? Все это делали до меня и Агриппа, и Август, и Тиберий. Нет, меня привлекает только неожиданное, невиданное прежде никем! [I]
- О да! Новое… неожиданное… невиданное, - низким голосом вторила ему Друзилла, нежно пожимая ладонь Калигулы.
- Да? Тебя тоже вдохновляет моя идея? Вот за что я люблю свою сестру, свою очаровательную возлюбленную! Ну, так слушай, моя обожаемая Друзилла!
Взяв под руку сестру, он продолжал:
- Тебе нравится охота на пантер? Или заезды колесниц, от которых сенаторы без ума? До смерти ненавижу сенаторов. Всеми силами буду издеваться над ними. Спесивые выродки древних родов, я их заставлю целовать подошвы моих сандалий!
- Да, да, - подхватила Друзилла, с каким-то детским восторгом прижимая к груди руку Гая, - унизить всю эту знать. Заставить их скакать в цирке!
- Они ведь любят скачки!
- Да! да!
- А тебе понравится мост из Байи в Поццуоли?[107]
- Мост из Байи в Поццуоли? - с удивлением переспросила Друзилла и недоумевающе посмотрела на брата.
- Ну? Даже ты удивилась? Хорошо! Так вот, твой Гай осуществит эту невероятную затею. И знаешь, где мне пришла в голову такая великолепная мысль? На Капри, во время нашего мрачного заточения! Подлый Тиберий был готов составить завещание в пользу своего сына Тиберия Гемелла, но астролог Трасилий, желавший убедить этого негодяя в отсутствии других претендентов на трон, сказал: «Гай станет императором только тогда, когда сможет проскакать на лошади через Байский залив». Теперь я на престоле, но, чтобы сохранить власть, нужно выполнить предсказание Трасилия. И ты увидишь, я проскачу на лошади через весь залив.
- Как здорово! Как замечательно ты придумал! - хлопая в ладоши от удовольствия, засмеялась Друзилла.
- Чему ты так радуешься? - спросила Ливилла, которая вместе с Агриппиной следовала за братом.
- Потом узнаешь, - бросил Калигула, - сейчас еще рано все рассказывать.
- Гай, скажи мне одну вещь, - задала вопрос Агриппина, - почему сегодня рядом с тобой нет нашего кузена Тиберия Гемелла?
Внезапно побагровев, Калигула остановился и повернулся к сестре. Выпустив руку Друзиллы и жестом показывая Ливии, что она должна идти дальше, он прошипел прямо в лицо супруге Домиция Энобарба:
- А какое тебе дело до Тиберия Гемелла? А? Тебе какое дело?
- Ох! Я не хотела тебя обидеть, мой добрый Гай, - побледнев, пробормотала Агриппина. - Он все время был с нами. Ты даже назначил его главой юношества. Ты любил его. Ты его усыновил.
- А теперь я покончу с ним, - грозно нахмурившись, прошептал Калигула и, схватив локоть сестры, сильно сдавил его.
- Ой! Отпусти, Гай. Мне больно, - простонала Агриппина, пытаясь высвободить руку. - Прости меня, я не хотела…
- Ты его любишь!
- Нет, нет!
- Этого слащавого щеголя! Тибериевский выкормыш, он хотел похитить тебя у императора! А если я ему позволю, то он украдет у меня и трон! Но!
И в его «но» прозвучала недвусмысленная угроза.
- Нет… это не так… я не люблю его… не волнуйся, Гай.
- Во имя Геркулеса, мои сестры должны принадлежать мне, любить меня одного! Вы не должны любить даже своих мужей. Я поступлю с тобой, как поступил с Друзиллой, от которой прочь прогнал ее мужа, Кассия Лонгина. Ливию разведу с ее Виницием. И горе тому, кто будет противиться моей воле!
С искаженным от ярости лицом он пошел дальше, бормоча под нос:
- Шут! Комедиант! Он вздумал носить при себе таблетки с противоядием! Как будто существует средство от гнева Цезаря! Дурак! [II]
Тем временем процессия приблизилась к храму Зевса Громовержца, окруженному плотной толпой народа. Расталкивая тех, кто стоял на пути, преторианцы освободили широкий проход для императора и его свиты.
Внутри все было готово к празднику. Голубым дымком курились благовония и фимиам. Возле алтаря лежали венки, преподнесенные горожанами.
Член коллегии жрецов почтительно поклонился Калигуле, которого сенат недавно произвел в сан Великого Понтифика[108].
Вольноотпущенник Калисто возложил к алтарю Божества золотой венок от Цезаря и серебряные венки его сестер, приготовленные для посвящения в храм. Сбоку от алтаря стоял Тиберий Друз Гемелл, глава юношества, недавно принесший венок от всего всаднического сословия.
Тиберию Друзу Гемеллу, сыну Тиберия Друза, как и сестре Германика, Ливии, исполнилось девятнадцать лет. Он был строен и миловиден. Его непроницаемо черные глаза нравились многим женщинам из высшего общества.
Когда стихли радостные возгласы, вызванные появлением Цезаря и его подарками Зевсу, Тиберий Гемелл, приложив левую руку к груди, а правую подняв над головой, громко крикнул:
- Славы и здоровья божественному императору Гаю Цезарю Германику Августу!
- Здоровья… да, здоровья! - нахмурившись, прошептал Калигула и свирепо добавил:
- Средство против Цезаря?!
Он приблизился к прицепсу юношества и, саркастически взглянув на него, произнес:
- Мне сказали, что ты, неблагодарный Тиберий, которого я так опрометчиво усыновил, принимаешь пилюли с противоядиями. Ты что, не доверяешь мне?
- Ох… да уберегут тебя боги от таких мыслей! - умоляюще сложив руки, воскликнул Тиберий, побелевший как полотно. - Я принимаю только те пилюли, которые Карикл мне назначил от кашля.
Словно в подтверждение своих слов, он вдруг сильно закашлялся. В ответ Калигула как-то странно усмехнулся:
- Ладно, ладно! Нет средства против Цезаря… только против кашля.
Он повернулся к сестрам и спокойно объявил:
- Перед обедом мы идем в городской парк.
И вслед за преторианцами направился к выходу из храма. В это время Агриппина подошла к Друзилле и вполголоса попросила ее заступиться за кузена.
- Гай послушает тебя. Ты единственная, кто может спасти бедного Тиберия.
Друзилла обещала сделать все возможное, чтобы предотвратить несчастье. По ее мнению, гнев брата должен был скоро угаснуть, и тогда осторожными, мягкими увещеваниями, которые всегда оказывали благотворное влияние на Цезаря, можно будет выручить Тиберия Гемелла. Поспешив за Калигулой, Друзилла ласково обняла его и стала умолять не сердиться на юношу. Но, увы, ее старания были тщетны. Более того, неожиданно рассвирепев, император обвинил сестер в том, что они настроены против него. В конце концов, Друзилла не выдержала и с досадой сказала:
- Ты сегодня плохой. Сначала кричишь на меня, а потом хочешь, чтобы я верила в твою любовь! Больше никогда не буду верить тебе!
А когда Калигула нежно погладил ее руку, она прошептала:
- Хочу вернуться к Кассию, к своему мужу.
- Что?! Во имя всех земных богов! - взбеленился Калигула. - Ты хочешь, чтобы я задушил тебя собственными руками?!
Он взял под локоть Ливиллу и, обернувшись к остальным, сообщил, что они возвращаются во дворец Тиберия.
Войдя в атрий, он пропустил женщин вперед и, подозвав преторианского трибуна, дежурившего в этот день на Палатине, прошептал несколько слов ему на ухо.
Приказ был настолько необычным, что трибун отшатнулся и удивленно взглянул на Цезаря, словно хотел спросить, не ослышался ли он.
- Ты меня не понял? Ты что, армянин, или я говорю на языке сарматов? Иди и выполняй.
Трибун молча поклонился и направился к храму Аполлона, видневшемуся невдалеке.
Три часа спустя Тит Флавий Веспасиан, наскоро пообедав и закончив все дела в табулярии, отпустил сопровождавшего его ликтора и покинул Капитолий. Спустившись к Форуму, он прошел через Карментальские ворота, миновал улицу Большой Клоаки и взобрался на вершину холма Авентин. Там, свернув на улочку Сульпиций, он обогнул храм Дианы Авентийской и вскоре остановился у скромного, но изящного домика, выстроенного в коринфском стиле.
Эдил постучал. Ему открыл остиарий.
- Ступай к Локусте, - сказал сановник, - и передай, что с ней желает беседовать эдил Тит Флавий Веспасиан.
Остиарий был прикован к стене длинной цепью, не пускавшей его из атрия и не позволявшей видеть то, что происходило за его пределами.
В ответ на слова Веспасиана дверь закрылась, и за ней послышалось удаляющееся позвякивание цепи.
Дверь отворилась снова и на пороге возник другой раб, который, внимательно оглядев гостя, провел его в таблий, украшенный яркими фресками.
Через несколько минут появилась Локуста.
Это была смуглая полная женщина, от нее исходил сильный аромат духов и благовоний.
Она была одета в белоснежную столу, очень шедшую к темному цвету ее кожи. Умащенное каким-то матовым косметическим средством, лицо хозяйки дома выглядело почти бесстрастным, но это лишь подчеркивало выразительность ее умных, проницательных глаз.
- Сальве, почтенный эдил! - произнесла она тихо, мягким голосом. - Чем обязана чести твоего визита? Локуста, скромная ученица великих магов и чародеев, слушает тебя. Усаживайся поудобнее, я к твоим услугам.
Тит Флавий Веспасиан приветливо кивнул головой и, усевшись на скамью, ответил:
- Перед тобой, мудрая Локуста, человек, который не верит ни в предсказания, ни в волшебство, ни в другие сверхъестественные силы, но хочет узнать кое-какие секреты твоего ремесла. Пусть тебя не смущает, что этот человек наделен властью эдила: простые, дружеские отношения ему нравятся больше, чем обращение к силе.
Казалось, Локуста растерялась от таких слов и в то же время не могла или не хотела скрывать удивления, вызванного просьбой сановника.
- Как? Ты не веришь в сверхъестественные силы, в астрологию, в искусство магии? Невероятно! И при этом желаешь вот так сразу постичь все тайны моей науки… точно они даются по распоряжению сената! Ты не шутишь, почтенный Веспасиан? Ты действительно думаешь, что это так просто?
Веспасиан улыбнулся. Он с любопытством взглянул на колдунью и, отрицательно покачав головой, твердо произнес:
- Хорошо! Ты должна была показать, что удивлена и даже возмущена моими претензиями, неверием, пренебрежением к чудесам и так далее… Еще бы! Какой жрец или предсказатель станет говорить с непосвященным обо всех фокусах и уловках, на которых держится его профессия? Так же, как у лавочников и мясников. Никто из них не говорит о своих секретах! Но во имя Геркулеса, не таи их от меня. Я же прекрасно знаю, да и ты в глубине души уверена, что без надувательства вам не обойтись! А ты, если захочешь, сможешь открыть, я уверен, очень много! Так скажи, я прошу, я требую. Тебя ждет крупное вознаграждение!
На сей раз колдунья снисходительно улыбнулась. Она слушала эдила, насмешливо склонив голову, а когда он закончил, спокойно проговорила:
- Боги свидетели моего уважения к столь почтенному человеку и могущественному сановнику, как ты. Таких твердых и решительных людей, видящих только обман или детскую забаву во всех делах авгуров и прорицателей, когда-нибудь станет очень много. Хотя ты первый, кто так откровенно и прямо говорит мне о своем неверии. Но я, двадцать лет учившаяся у мудрейшей Мастины, овладевшая тайнами астрологии, медицины и магии, я, располагающая тысячью доказательств истинности этих знаний, уважаемый Веспасиан, не могу сомневаться в их беспредельной власти. Ты можешь обвинить меня в колдовстве, заточить в темницу как сумасшедшую. Тебе, эдилу, будет нетрудно найти какие-нибудь преступные замыслы в моих заклинаниях, в непонятных манипуляциях, в необъяснимых с точки зрения здравого смысла явлениях или в магических записях. Но я умру невинной, а перед смертью повторю: моя наука - это не обман!
- Хорошо, хорошо, - с некоторым раздражением сказал Веспасиан, - оставим этот разговор. Думай, как тебе больше нравится. Я не могу заставить тебя отказаться от твоих убеждений, но и ты не поколеблешь моих.
- Кто знает! Кто знает! - перебила его Локуста.
- Как бы то ни было, - продолжал эдил, - я прошу тебя только об одном: дай мне возможность присутствовать при твоих опытах. Если ты по сто раз на дню выслушиваешь тех, кто тебе верит, то почему бы однажды не пойти навстречу человеку противоположных взглядов?
Локуста не отвечала. Слегка потупив глаза, она о чем-то думала. Веспасиан внимательно рассматривал ее неподвижную фигуру и, казалось, был вот-вот готов рассмеяться.
Наконец, Локуста выпрямилась и произнесла:
- Взвесив все за и против, почтенный Веспасиан, я согласна удовлетворить твое желание. Кто знает, может быть, познакомившись поближе с моим искусством, ты переменишь свое мнение о нем? Мне, право, обидно, что меня считают бессовестной плутовкой.
- Кто знает! Кто знает! - передразнил ее Веспасиан, пришедший в веселое расположение духа.
- Тогда будь добр следовать за мной. Ты готов?
- Во мне не сомневайся! - бодро ответил Веспасиан и, предшествуемый колдуньей, направился в лабораторию, которая была устроена в комнатах, примыкавших к таблию.
Войдя в первую из четырех комнат, где дневной свет заменяла большая лампада, освещавшая множество каких-то растений в глиняных горшках, Локуста взяла Тита Флавия Веспасиана за руку и прошептала:
- Я отведу тебя туда, откуда ты сможешь незаметно наблюдать за всем происходящим. Но обещай мне, что ни словом, ни жестом не выдашь своего присутствия. Что бы ни случилось, ты должен быть нем, как рыба.
- Обещаю! - заверил ее эдил и, пройдя по длинному коридору, очутился в крохотной каморке, откуда через маленькое отверстие в пологе из александрийского сукна можно было заглянуть в соседнее помещение.
- Оставайся здесь и не двигайся до тех пор, пока я не приду за тобой, - проговорила ворожея и, бесшумно ступая по толстому ковру, устилавшему пол коридора, удалилась.
Веспасиан непроизвольно коснулся рукоятки своего меча, а затем прильнул глазом к отверстию в пологе. Вначале он не увидел ничего, кроме какого-то голубоватого свечения. Ему показалось, что он смотрит в расплывчатое облако, лишенное определенных очертаний и контуров. Однако понемногу глаза эдила привыкли к полумраку и смогли различить странную обстановку просторной комнаты.
Перед Веспасианом была довольно вместительная прямоугольная зала. Все ее пространство было увешано тяжелыми коврами, замысловато переплетающимися между собой; плавными каскадами ниспадая с потолка, они напоминали какой-то огромный цветок, причудливую розу, перевернутую лепестками вниз, из центра которых свисала круглая серебряная лампада. В этой лампаде горел небольшой шарообразный светильник, наполовину освещавший лабораторию колдуньи. На полу комнаты лежал мягкий ворсистый ковер, посередине которого, прямо напротив входа, высились шкафы и стеллажи, расставленные в идеальном порядке.
В одном шкафу виднелись скрученные в трубки листы пергамента. В другом стояли ряды пузырьков и чаш с какими-то жидкостями. На стеллаже застыли стеклянные вазы с высушенными травами; в других вазах тускло поблескивали различные хирургические инструменты и приспособления: от больших акушерских щипцов до маленьких стальных пинцетов. На подставке лежал деревянный голубой шар, на котором были нарисованы созвездия, знаки Зодиака и обозначены пути движения звезд, какими их представлял Аристарх Самский, смевший утверждать, что Земля крутится вокруг собственной оси. Рядом с этим шаром находились три человеческих черепа и множество анатомических моделей из воска, изображавших части и внутренние органы человеческого тела. На длинном столе были собраны всевозможные тигли, колбы, змеевик, горелки и другие приспособления для алхимических опытов.
Рядом со шкафами стоял изящный терракотовый камин с множеством медных трубок, из которых струился голубоватый дым, стелившийся по комнате и окутывавший все предметы, кроме высокого помоста, на котором стоял стол из черного дерева. К столу было придвинуто большое кресло, обитое пурпурной тканью. Очевидно, на нем колдунья сидела во время своих сеансов.
У самого входа были расставлены четыре скамьи и две софы, покрытые такими же коврами, какие висели в комнате.
Прошло минут пять, прежде чем Тит Флавий Веспасиан, удивленно рассматривавший эту таинственную обстановку, увидел, как раздвинулись складки ковров и прямо перед ним возникла Локуста, облаченная в огненно-красный балахон с черными росписями. Ее талия была перетянута серебряным плетеным поясом. Бросив взгляд на полог, за которым скрывался эдил, она жестом дала ему понять, чтобы он внимательно наблюдал за происходящим, и стала подниматься по ступеням, ведущим к столу из черного дерева. Затем, устроившись в кресле, она взяла со стола серебряный колокольчик и трижды позвонила в него.
Веспасианом овладело такое любопытство, какого он еще никогда не испытывал. Человек по натуре сдержанный, он сам не понимал причин своего волнения. Гадая о дальнейших действиях колдуньи, он еще плотнее прильнул к отверстию в драпировке. Долго ждать ему не пришлось: дверь в лабораторию сразу отворилась, а на пороге появился дряхлый, сгорбленный раб, одетый в длинную тунику зеленого цвета. Локуста повернула голову в его сторону и негромко произнесла:
- Пусть войдет тот, кто желает меня видеть.
Слуга отступил в темноту, а в комнату твердой походкой вошла высокая и стройная молодая женщина. На ней была широкая лацерна на горностаевом меху. Убедившись в том, что раб оставил ее наедине с вещуньей, она сделала несколько шагов и откинула капюшон, который скорее скрывал от посторонних взглядов, чем защищал от холода ее прекрасное одухотворенное лицо.
Веспасиан чуть не вскрикнул от удивления: если бы он заранее не приготовился к любым неожиданностям, то его знакомство с магическими науками на этом бы и закончилось. В молодой патрицианке он узнал Агриппину, дочь Германика и сестру Гая Цезаря.
- Ну? Что привело тебя в этот дом, знаменитая Агриппина? - любезным тоном спросила Локуста и, спустившись по ступеням, приблизилась к гостье.
- Я пришла просить твоей милости, Локуста! - внезапно воскликнула Агриппина и умоляюще протянула руки. - Настал час доказать всю твою мудрость, всю силу твоего искусства!
- Да что случилось? Успокойся… говори, как мои знания смогут пригодиться тебе, - прошептала колдунья, осторожно взглянув в сторону Веспасиана и знаком пригласив посетительницу занять место на софе.
- Что случилось? Нужно спасти Тиберия Гемелла, на которого ни за что ни про что прогневался Цезарь.
- Средство против Цезаря? - тихо пробормотала колдунья, погрузившись в какие-то невеселые мысли.
Она прикрыла глаза и задумчиво добавила, точно отмечая что-то про себя:
- Ох! Я это предвидела!
- Прекрасно, что ты все предвидела!… но сейчас над ним собрались тучи, вот-вот грянет страшный гром. Сейчас нужно любыми средствами спасать бедного Тиберия!
- Тсс! - словно очнувшись от тяжелого наваждения, зашипела Локуста, еще раз испуганно посмотрев в сторону притаившегося эдила.
Взяв Агриппину за руки, она сказала:
- Вставай, пойдем со мной.
И увела ее вглубь комнаты.
- Нас кто-нибудь слышит? - пристально взглянув в лицо колдуньи, спросила Агриппина.
- Нет… нет… но осторожность не бывает лишней.
- Твои противоядия, которые ты дала… твое колдовство… Неужели ничего не поможет?
Беседуя, обе женщины прошли в темный угол комнаты, откуда их приглушенные голоса уже не доносились до Веспасиана.
«Ну и ну! - подумал Тит Флавий. - Эта шарлатанка знает не только секреты своего ремесла! Если я пробуду здесь еще пару часов, то мне, пожалуй, придется вспомнить обязанности эдила».
Заинтересованный разговором, он весь обратился в слух, однако ничего не мог расслышать. Прошло немало времени прежде чем Веспасиан догадался, что женщины вышли из комнаты через какую-то потайную дверь. Ему показалось странным столь долгое отсутствие хозяйки дома. Решив, что она забыла о нем, эдил начал волноваться. Два или три раза он пытался проникнуть в комнату, но все его усилия оказались тщетными: тяжелый полог вплотную прилегал к стенам и к полу его каморки. Он уже подумывал о том, чтобы попросту разрезать его мечом, когда наконец увидел, как в двери, через которую входила Агриппина, появилась Локуста, сопровождаемая худым, почти лысым голубоглазым молодым человеком. Несмотря на то, что вошедший был одет, как плебей, походка выдавала в нем знатного патриция. Веспасиан сразу узнал посетителя. Это был Сервий Сульпиций Гальба.
- С чем пожаловал, знаменитый Гальба? - спросила Локуста таким тоном, словно ей было не в диковинку принимать столь могущественных гостей.
- Как? Ты меня знаешь? - спросил, нахмурившись, Гальба и, остановившись, в упор посмотрел на колдунью.
- Разве можно не знать человека, побывавшего и эдилом, и претором[109], и консулом, человека, который в отличие от многих сановников носит имя древнего, прославленного рода?
Видимо, Гальба был польщен этими словами. Пройдя за Локустой в комнату, он занял предложенное место на софе.
- Мое имя лучше оставить в покое. Я пришел потому, что хочу попросить тебя объяснить одно чудо.
Прежде чем отвечать, колдунья взяла его правую руку и, повернув ладонью вверх, внимательно посмотрела на нее. Потом спросила:
- О каком чуде идет речь?
- Это было пятнадцать лет назад, вблизи Тусколо…
- …где у тебя есть вилла, - опередила его Локуста, не отрывавшая взгляда от руки собеседника.
- …где у меня есть вилла, - продолжал Гальба, не обратив внимания на реплику Локусты. - Там я однажды повстречал гадалку, которая вот так же долго изучала линии на моей ладони.
- Она предсказала, что когда-нибудь ты удостоишься наивысшей власти в империи, - снова перебила его колдунья. Произнеся эти слова самым безучастным тоном, она подняла глаза на посетителя.
На сей раз Гальба вздрогнул и, вырвав ладонь из рук колдуньи, изумленно уставился на нее:
- Откуда ты знаешь?…
- Ох, уж мне эти маловеры… Разве я не смотрела на тайные знаки судьбы, запечатленные на твоей ладони?
- Неужели это возможно? - воскликнул Сервий Сульпиций, еще не оправившийся от удивления. - А нет ли здесь какого-нибудь обмана или надувательства?
- Какой обман? Какое надувательство? Какой может быть обман в том, что я вижу собственными глазами?
Гальба немного помолчал, на его лице промелькнула тень тщеславного самодовольства, потом он опустил голову и пробормотал:
- Все-таки странно! Очень странно!
- Странно? Но почему? Кому странно? - спросила Локуста и ответила самой себе:
- Странно тому, кто не верит в могущество магии и не знает, что наше древнее искусство отражает истину!
После непродолжительной паузы она добавила:
- А теперь, если ты не против, расскажи мне, что произошло после того чудесного пророчества. Может быть, мне удастся объяснить его.
- Хорошо, - неуверенно прошептал Гальба, еще не поборовший своего замешательства. Поразмыслив немного, он вымолвил:
- Тогда я не поверил гадалке и в насмешку воскликнул: «Да, я стану императором, но не раньше, чем разродится самка мула!» [III]
- И был прав! - заметила Локуста.
- Да… вчера, пятнадцать лет спустя, в моем табуне…
- …самка мула принесла потомство! - перебив консулария, заключила колдунья.
- Именно так! Все так и было! - выпалил Сервий Сульпиций Гальба и, не в силах сдержать своих чувств, вскочил на ноги.
- Значит, теперь ты сможешь поверить в правильность того предсказания!
- Почему? - резко спросил Гальба и, побледнев, уставился в бесстрастное лицо колдуньи.
- Потому что ты станешь императором. Так написано у тебя на ладони.
Воцарилась полная тишина. Дрожащие руки Гальбы, погруженного в какие-то свои мысли, выдавали сильное волнение консуляра. Наконец он поднял голову и хрипло спросил:
- Но как, как может случиться, что…
Он хотел спросить о многом, но Локуста вновь помешала ему договорить.
- Да кому же дано понять непостижимые пути судьбы? Кто ты такой, что хочешь узнать, каким именно образом верховные боги позволят свершиться предназначенному? Разве сможешь ты предсказать, куда ударит молния? Известно ли тебе, почему среди бела дня вдруг налетает свирепая буря и сокрушает столетние деревья? Почему? Как? Человеческому разуму не дано постигнуть и сотой доли того, что происходит по воле Рока! Ты знаешь, что станешь императором, а как и когда - предоставь все это заботам Провидения.
Гальба продолжал о чем-то напряженно размышлять. Глядя прямо перед собой, он почти автоматически вытянул из своего пояса стальной крючок, на котором висел маленький пурпурный кошелек и, положив его на софу, тихо сказал:
- Не знаю, чему верить. Все это так непонятно. Во всяком случае, умоляю тебя никому не говорить о том, что произошло со мной. Ни о чудесном предсказании, ни о…
- Не бойся, несчастный ты маловер, - заверила его колдунья, - моя наука обязывает меня хранить молчание. Ты даже вообразить не можешь, что бы произошло с половиной римских матрон и патрициев, если бы Локуста стала раскрывать чужие секреты?
С этими словами она проводила смущенного Гальбу до дверей, где он распрощался с ней и покинул комнату.
Локуста вернулась на прежнее место, взяла кошелек, оставленный Сервием, и бросила его на длинный стол с алхимическими принадлежностями. Несколько монет высыпались на пол и раскатились в разные стороны.
Внезапно она вновь обернулась к дверям. Там появилась высокая, стройная женщина, облаченная в оранжевый палий, полой которого были укутаны ее плечи и голова. Размотав край одежды, вошедшая открыла свое удивительно красивое, тонкое лицо. Это была супруга Марка Юлия Силлана. Ее черные глаза возбужденно поблескивали.
- О, почтенная Юлия Силлана! - воскликнула Локуста, склонившись перед дамой, которая держалась за щеку пальцами правой руки. - Присаживайся, я к твоим услугам. Ну как? Мое лекарство помогло? Да что с тобой? Все еще болят зубы?
Юлия Силлана опустилась на софу.
- Да, моя дорогая Локуста, - сказала она, сплевывая на ковер, - мой зуб болит еще сильнее, чем раньше.
- Мне нужно взглянуть на него, - произнесла Локуста и, позвонив в колокольчик, приказала слуге:
- Свет!
Когда слуга удалился, Локуста принялась перебирать на стеллаже маленькие ложечки и другие серебряные инструменты, приговаривая:
- Сначала я осмотрю его, а потом дам тебе настойку, которую приготовила специально для тебя. Ты будешь капать ее на больной зуб по шесть капель каждый день. Через двенадцать дней все пройдет.
С этими словами колдунья достала из шкафа небольшой синий пузырек и направилась к софе. Как раз в это время слуга принес прекрасный серебряный светильник с тремя зажженными фитилями и, вручив его госпоже, снова вышел из комнаты.
- Ну, показывай свои зубы, почтенная Юлия, - попросила колдунья.
Женщина запрокинула голову и открыла рот. Локуста левой рукой приподняла фонарь, чтобы рассмотреть больной зуб. Затем серебряной ложечкой, которую держала в правой руке, осторожно коснулась его. Наконец, бросив ложечку на софу и поставив светильник на ковер, она открыла синий пузырек, обмакнула в него маленький льняной тампон, заранее скрученный на кончике изящного пинцета, и накапала немного жидкости на больной зуб Юлии Силланы. Та приглушенно вскрикнула, но через некоторое время облегченно вздохнула. Локуста собрала инструменты и вместе со светильником отнесла на алхимический стол.
- Тебе лучше? - спросила она у дамы.
- О! Гораздо лучше, - ответила Юлия Силлана, расслабленно откинувшись на спинку софы.
- Вот тебе маленький фиал с лекарством, которое за пятнадцать дней навсегда избавит тебя от зубной боли, - сказала Локуста и, вернувшись к посетительнице, дала ей пузырек.
- Да подарят тебе боги счастливую жизнь! - воскликнула дама, убирая склянку в кошелек, висевший у нее на поясе, и доставая оттуда золотой браслет с драгоценными камнями в форме змеи, кусающей свой хвост.
- Возьми, - произнесла она, протягивая украшение Локусте, - храни его на память обо мне.
Приняв браслет и поблагодарив гостью, колдунья отнесла его к столу на помосте и спросила:
- А мое зелье? Отдай мне то, что осталось.
- Кажется, оно подействовало, дорогая Локуста.
- Кажется? - нахмурившись, переспросила колдунья. - Почему кажется?
- Кажется, потому что Руф Нервилан…
- Тсс! - прошипела колдунья и тотчас добавила:
- Не называй имен.
- Почему? - удивилась женщина и, испуганно оглянувшись, поднялась с софы, - нас кто-нибудь подслушивает?
- Нет, нет, - поспешно ответила Локуста, - просто это мое правило.
Юлия Силлана обвела комнату подозрительным взглядом и понизила тон настолько, что Веспасиан не мог расслышать всех ее дальнейших слов.
- Потому, что Руф Нервилан расположен ко мне, как никогда раньше. В моих объятиях он теперь так пылок… хотя все еще неравнодушен к Домиции Липеде и к Мессалине, которые хотят украсть его у меня.
- И тебе этого мало? Тебе и вправду кажется, что этого недостаточно? - почти рассердившись, стала допытываться колдунья. - Неужели ты не понимаешь, что хочешь победить свойство человеческой натуры, благодаря которому мужчина и женщина, влекомые друг к другу, одновременно обретают тысячу других разнообразных чувств! Кто может быть несчастнее влюбленных, желающих убить саму любовь! Неужели это тебе неизвестно? Стоит только усталости овладеть тобой и Нервиланом, как вы с безразличием отвернетесь друг от друга и будете рады разорвать узы, постылые для вас обоих. Так нужно ли огорчаться, что от любовной близости в одном человеке растет пресыщение, а в другом, наоборот, еще больше разжигается страсть? Говорю тебе: подчинив себе своего любовника, ты сама скоро охладеешь к нему и будешь рада найти другого, не похожего на того, кто стал всего лишь безвольным отражением твоих собственных желаний. Это ведь то же самое, что глядеться в зеркало перед тем, как идти на свидание!
- Но настоящий любовник - тот, кто всегда находит в себе новые силы, кто вечно горит огнем страсти.
- Браво! Хорошо сказано! - подхватила Локуста, - но что же из себя представляет настоящая любовь? Каждая новая страсть всегда кажется самой настоящей, самой вечной, а потом, когда она проходит, то мы вдруг обнаруживаем в ней всего лишь легкое увлечение, мимолетную забаву. Ну, вот тебе пример. Не казалось ли тебе лет этак пять назад, что ты навеки полюбила Марка Аквилия Юлиана? Однако не прошло и года, как в твоем сердце иссякли все чувства к бедному Аквилию, который по-прежнему был без ума от тебя.
- Нет, с Аквилием все было по-другому, потому что…
- Да каждый раз все бывает по-другому, хотя в конечном счете все и всегда повторяется. Не так ли было с Гнеем Ленцием Сатурнином? Тогда ведь единственное отличие этого твоего увлечения от других состояло в том, что Сатурнин пресытился раньше тебя. Разумеется, - внезапно повысив тон, продолжала Локуста, - против такого непостоянства у нашего искусства есть немало средств, силу которых ты испытала на своем опыте. Но даже эти средства подвержены воздействию определенных флюидов, влиянию звезд, времени, места и способа их применения. Поэтому, вместо того, чтобы жаловаться, тебе нужно быть благодарной моему зелью и постараться доказать своему возлюбленному, что ты его любишь по-настоящему.
- Ты сначала испугала меня, - проговорила Юлия Силлана, вставая, - но теперь я чувствую в себе новые силы.
- А когда зелье кончится, отдай мне фиал. Я приготовлю тебе другую настойку, ее назначенье в том, чтобы твой любовник не перестал любить тебя.
- А потом?
- Не сомневайся, потом он будет любить тебя и без всяких зелий.
- Да помогут мне боги!
- Локуста тебе поможет! - с жаром воскликнула колдунья.
Она проводила Юлию Силлану к дверям и, прощаясь, вышла с ней из комнаты. Спустя некоторое время она вновь появилась в кабинете, сопровождаемая Клавдием Тиберием Друзом, облаченным в длинную тогу, подбитую белоснежным мехом.
- Какие обстоятельства привели в мой бедный дом знаменитого Клавдия Тибе…
- Тсс! Тише! - прошептал Клавдий, испуганно озираясь по сторонам. - Ради всех богов, не называй моего имени. У меня холодеет спина при мысли, что кто-нибудь зайдет сюда. Шесть месяцев я собирался к тебе, и каждый день говорил себе: «Нет, лучше пойду завтра!» Но назавтра мне вновь не хватало мужества. Потому что одно дело сказать, а другое - сделать. К тому же храбрость не относится к достоинствам образованного человека. Но, наконец, сегодня я набрался храбрости за кубком фалернского вина. И Бахус мне помог прийти к тебе. Позволь, я присяду.
- Конечно, присаживайся!
Клавдий в изнеможении упал на софу и, отирая крупные капли пота, выступившие на его багровом лице, принялся со смешанным выражением страха и любопытства рассматривать комнату и приспособления для опытов, находившиеся в ней.
- Ты мудрая женщина, по крайней мере, мне так говорили. И еще мне говорили, что на тебя можно положиться! Это правда?
- Я не знаю никого, кто мог бы пожаловаться на меня, но зато мне известно множество людей, даже таких богатых, как Лоллия Паолина, у которых есть все основания быть благодарными моему искусству.
- Да-да. Сказать по правде, я верю в алхимию, в астрологию, в медицину.
- Еще бы! - воскликнула Локуста, усаживаясь возле Клавдия. - Человек, глубоко изучивший историю и литературу, а тем более знающий, как ты, обычаи этрусков, не может не верить в истинность науки столь же древней, сколь и могущественной.
Клавдий сначала молча уставился на колдунью, а потом, потрепав ее по левой щеке, рассмеялся и сказал:
- Ты умеешь говорить. Это мне нравится!
- Благодарю, я очень рада, - произнесла колдунья и вполголоса добавила: - Чем могу быть полезной?
Брат Германика оперся на левый локоть и, придвинувшись вплотную к хозяйке дома, прошептал:
- Ты получишь двадцать золотых, - он похлопал правой рукой по кошельку, висевшему на поясе его туники, - если расскажешь правду о двух очень важных для меня вещах.
- Спрашивай - я обещаю рассказать всю правду, которая мне известна.
В это мгновение Клавдий, не меняя позы, обернулся в сторону входа. Он заметил, что Локуста внимательно смотрит в этом направлении. В дверном проеме появилась женщина, одетая в просторную люцерну орехового цвета. Новая гостья одной рукой придерживала капюшон на голове, а другой подавала какие-то знаки хозяйке дома. Приоткрыв лицо так, чтобы его видела только Локуста, женщина изобразила одними пальцами нечто вроде знака отрицания. Это была Валерия Мессалина.
Ее поведение заставило Локусту слегка улыбнуться. Мессалина поднялась на ноги и, не глядя на дверь, сказала:
- Хорошо, я поняла!
И она удалилась. Колдунья повернулась к Клавдию и, сделав вид, что предыдущие слова относились к нему, добавила:
- Встань и подойди к тому столу.
Сопровождаемая Клавдием, она поднялась на помост и села в кресло.
- Дай мне твою правую руку, - вновь обратилась она к нему.
Грузный брат Германика с трудом отдышался после восхождения на те несколько ступенек, которые ему пришлось преодолеть, и только потом выполнил ее просьбу. Придвинув к себе светильник, стоявший на столе, Локуста принялась рассматривать линии на его правой ладони. Гость, с волнением наблюдавший за ее занятием, внимательно слушал.
- Искусство хиромантии зародилось в древности. Ты, Клавдий, изучал историю и знаешь об этом. Только глупцы да безнадежные скептики могут не видеть ее правоты. Так о чем ты хотел спросить?
- Мне нужно знать… - тут Клавдий немного замялся, - верно ли, что моя жена, Валерия Мессалина, любит меня? Не изменяет ли она мне?
- Но для этого мне нужна не твоя рука, а Мессалины, - удивленная таким вопросом, ответила колдунья. - Да и вообще, стоит ли интересоваться подобными пустяками? Будь у твоей жены любовник, чем бы она отличалась от любой другой красавицы Рима? Ведь среди них разве что одна на тысячу других предпочитает хранить верность своему супругу. Или Мессалина живет не в Вечном городе? Иногда мудрость проявляется в незнании чего-либо. Тем более - счастье. Только неведение делает человека счастливым. Чем больше люди узнают о том, что их тревожит, тем меньше счастья у них остается.
- Это верно! - пробормотал Клавдий. - Но, думаю, известие, о котором сообщают линии твоей правой руки, должно успокоить тебя.
- О чем ты говоришь?
- О том, что Мессалина любит тебя.
- Правда? Ты уверена в этом? - воскликнул Клавдий с такой горячностью, которой трудно было ожидать от флегматичного толстяка.
- Это так же верно, как то, что ты стоишь передо мной.
- Ах! Как я тебе признателен! Да будут у тебя сто лет счастливой жизни! Это все, чего я желаю! Я знаю, что ты не обманываешь, тому есть тысячи доказательств! Она так прекрасна. Она так внимательна к моей дочери Антонии, к нашей малютке Оттавии. Моя бесценная Мессалина! Как я люблю ее! Я не могу устоять перед ее красотой! Как бы я смог жить без нее!
Клавдий ненадолго умолк, а потом задумчиво добавил:
- Ты права, некоторое неведение дает человеку счастье. А я хочу быть счастливым всегда.
С этими словами Клавдий потянул назад свою руку.
- Подожди! - воскликнула колдунья. - Ты будешь так счастлив, как не можешь даже представить себе! Вот знаки на твоей ладони. Я их вижу!
Локуста еще внимательнее присмотрелась к руке Клавдия и, наконец, медленно проговорила:
- Здесь написано, что ты удостоишься наивысшей власти!
- Молчи! - закричал дядя Гая Цезаря, приложив левую ладонь к губам колдуньи.
- Ты можешь заставить меня молчать, но никто не в силах стереть знаки судьбы, которыми ты отмечен.
- Хорошо, хорошо, но ты все равно молчи, - с дрожью в голосе прошептал Клавдий. - Я ничего не знаю и не хочу знать! Мне ничего не нужно. Я хочу спокойно прожить свою жизнь.
Локуста отпустила руку бледного, трясущегося супруга Мессалины и пристально посмотрела на него. Этот человек, расстроенный и едва ли не озлобленный тем, что у любого другого вызвало бы чувство гордости, тщеславия или, по крайней мере, удивления, был ей любопытен.
- Как? Ты презираешь самые высшие почести, какие только доступны смертным? - воскликнула колдунья, которая пыталась понять, не разыгрывает ли ее Клавдий, и не могла поверить в то, что он не притворяется перед ней.
- Да, да, да! - в порыве отчаяния несколько раз повторил брат Германика. - Я презираю власть. Мне нужны домашняя тишина, моя библиотека и моя Мессалина, а больше мне ничего не нужно!
Он неожиданно вскочил на ноги, чуть ли не кубарем скатился с помоста и, умоляя Локусту никому не говорить о ее предсказании, а еще лучше забыть его и никогда больше не вспоминать, попятился к дверям. По пути он сорвал с пояса кошелек и, бросив его на черный стол, выбежал из лаборатории.
Колдунья последовала за ним, но вскоре вернулась в сопровождении Авла Вителия, который сразу снял с плеч широкий темно-лиловый плащ и бросил его на софу.
- Ну? - спросил Авл Вителий, - ты готова посмотреть мою ладонь, как обещала несколько дней назад на играх в Большом цирке?
- Сегодня ты уже приходил ко мне. Скажи, почтенный Вителий, ты очень хочешь знать, что с тобой случится в далеком будущем?
- Да ты же сама внушила мне это желание, когда я пришел в цирк и сел возле тебя.
- Только не возле меня, а возле моей прекрасной соседки Ливии Орестиллы…
- …и, взглянув на мое лицо, ты сказала, что я не рожден для заурядных дел. Что мне предстоят либо самые высокие, либо самые низкие поступки.
- А может быть, те и другие одновременно.
- Пусть даже так. Но разве наша вина, что нам суждено делать больше зла, чем добра? И что такое зло? Что такое добро? Где кончается одно и начинается другое? Скажи, плохо ли, что мы, никем не спрошенные, хотим того или нет, брошены в этот мир и желаем жить, а кроме того, быть радостными, счастливыми и богатыми? Скажи, если в мире есть волки и есть ягнята, то разве странно, что одним людям суждено всю жизнь дрожать, а другим - быть смелыми и решительными? Я знаю только одно зло - то, которое причиняют мне. И только одно добро - то, что доставляет мне удовольствие.
- Эта философия, Авл, не столь убедительна, сколь удобна в наше время.
- Ни один человек не может не быть человеком своего времени. Если я преклоняюсь перед Манлием Курием и Фабрицием Луцином, чья доблесть была прославлена в век добродетели и достоинства, то в Сократе или в Гае Гракхе, выставлявших напоказ свое совершенство и хваставшихся им, я вижу только неисправимую порочность их эпохи.
Локуста проницательным долгим взглядом посмотрела на своего собеседника. От человека, хорошо знавшего ее, едва ли укрылась бы чуть заметная усмешка, промелькнувшая в уголках ее рта. Однако Авлу показалось, что колдунья в душе была согласна с его словами.
- Ну, как? Хочешь ты или нет составить гороскоп по этой руке? - спросил юноша, протягивая Локусте раскрытую ладонь.
- Не торопись, достойный Вителий. Сначала мне нужно кое-что узнать от тебя.
- Спрашивай, если это так необходимо, и ты получишь любые сведения впридачу к десяти викториалам[110], которые приготовлены для тебя вот в этом кошельке.
- Что случилось с Тиберием Гемеллом?
- То, что случается со всеми смертными, когда приходит их последний час. Он мертв.
- Он убит по приказу императора?
- Ну… Точнее сказать, он убит по воле императора, который слишком уважает кровь дома Юлиев, чтобы оставить жить отпрыска палача Тиберия.
- Когда он убит?
- Только что. Часа два назад. Божественный Гай еще в полдень отдал приказ одному преторианскому трибуну и велел исполнить это поручение немедленно. Но безмозглый Тиберий шлялся по городу с компанией молодежи, над которой он, по благосклонности Цезаря, был назначен прицепсом. Только в шестом часу, когда он, наконец, вернулся домой, приказ был приведен в исполнение.
- Какая жестокость! - прошептала Локуста.
- Ого! Что я слышу! Верно, тебе уже надоело предсказывать счастливое будущее каждому встречному? Учти, стоит только божественному Гаю узнать об этих словах, и я без всякий хиромантии смогу предречь тебе немедленную и страшную смерть.
Авл Вителий немного помолчал, а потом продолжал прежним беззаботным тоном:
- Ладно, только выбрось из головы намерение порицать указы или поступки самого справедливого, мудрого и предусмотрительного божественного Гая! Если угодно, вини во всем этого старого дуралея, которого чернь называет Зевсом! А божественного Цезаря оставь в покое.
- Хорошо, я так и поступлю, - погрустнев, согласилась Локуста.
- К тому же этот парень умер легкой смертью: в одно мгновенье, без жалоб, без агонии. У него уже не было головы, а пульс еще был ровный.
Недолго подумав о чем-то своем, Авл Вителий снова протянул колдунье правую руку и повторил вопрос:
- Итак? Ты будешь предсказывать мне будущее?
- Иди за мной, - ответила колдунья и стала подниматься по ступеням к столу, на котором горел светильник.
Усевшись в кресло, она минут пять внимательно изучала ладонь Вителия. Все это время в комнате стояла тишина, не нарушаемая ни единым звуком.
- Ты не лишен самых тяжких пороков… - наконец начала говорить колдунья.
- Я знал, что ты это скажешь. Но тут возможны и другие толкования: то, что ты называешь пороком, для меня может быть добродетелью, и наоборот…
- …и все-таки здесь написано, что тебе предстоит владеть империей.
Авл Вителий подскочил от неожиданности. Краска бросилась ему в лицо, он схватил обе руки колдуньи и растерянно спросил:
- Что?… Что ты сказала?
- Разве ты не слышал? - невозмутимо произнесла Локуста. - Я сказала, что тебе суждено быть императором.
Вителий пошатнулся и еще крепче сжал руку женщины. Его лицо вдруг смертельно побледнело. В комнате вновь воцарилась тишина. Темно-каштановые зрачки Авл а Вителия медленно скользили от одного предмета к другому, не задерживаясь на них, словно сын Луция ничего не видел перед собой.
- Ты не лжешь? - через некоторое время обратился он к гадалке. - Ты не ошибаешься? Это действительно так?
- Да, это так. Я не лгу и не ошибаюсь. Я не могу прочитать сейчас ничего, кроме того, что написано здесь.
Вителий порывисто припал губами к рукам колдуньи и стал горячо целовать их. Потом бросился ей в ноги и, обхватив колени, стал покрывать поцелуями края ее одежды.
- Какая честь! Как я люблю тебя! Я твой слуга во веки веков. О мудрейшая из женщин! О могущественнейшая!
- Ну, ну, поднимайся. Благодари или проклинай не меня, а судьбу, которой так угодно. Это ею написано, что ты станешь императором, и то, что властвовать ты будешь недолго, не доживешь до старости, вместе с империей ты лишишься жизни, и смерть твоя будет страшной.
С этими словами Локуста с жалостью взглянула на юношу, который, поднявшись на ноги, выпалил на одном дыхании:
- Какая разница? Не все ли равно, от чего умереть: старости, подагры, меча или яда? Быть императором, хоть на один год - вот что важно!
Он оторвал от пояса кармазиновый кошелек с десятью викториалами и, прибавив к нему дорогой перстень, снятый им с указательного пальца левой руки, протянул колдунье:
- Возьми, почтенная Локуста! Возьми и знай, что у тебя теперь есть самый преданный друг, готовый служить тебе всю жизнь.
Спустившись по лестнице, он взял с софы свой плащ, накинул его на плечи и направился к выходу. Уже взявшись за ручку двери, он задержался и медленно произнес:
- А… это пророчество, которое я только что слышал? Ты о нем никому не расскажешь?
- Разве я рассказала тебе, о чем говорила с теми, кто приходил до тебя? Открыла ли я тебе хоть один секрет из тех, что мне доверяют матроны, патриции и горожане, а ведь за десять лет, что я в Риме, их набралось не меньше шестидесяти тысяч!
Произнося эти слова, колдунья бросила кошелек к тем, что уже лежали на столе, и надела на указательный палец правой руки кольцо, подаренное юношей. Получив ответ на все свои сомнения, Авл Вителий еще раз поблагодарил хозяйку дома и, сияя от счастья, вместе с ней покинул лабораторию.
Тит Флавий Веспасиан еще находился во власти чувств и мыслей, вызванных столь стремительной сменой неожиданных для него событий, когда почувствовал, что кто-то взял его за руку. Вздрогнув, он спросил не своим голосом:
- Кто это?
- Это я, знаменитый эдил, твоя верная Локуста.
И после непродолжительной паузы тот же голос добавил:
- Ну как, пойдешь со мной? Не боишься?
Не оказывая никакого сопротивления, Веспасиан позволил повести себя по темному коридору, а потом ответил на ходу:
- Не отрицаю, ты мудрая женщина. Но, по-моему, у тебя получается слишком много императоров!
- Так ты думаешь, что я обманула Гальбу, Клавдия и Вителия? Что ж, сегодня я никак не отвечу на твою насмешку. Но придет время, когда меня уже не будет, а ты еще будешь жив - и вот тогда ты сам увидишь, как одно за другим сбудутся все мои предсказания.
В эту минуту они вошли в лабораторию, где колдунья принимала своих гостей. Последнему из них было любопытно увидеть вблизи шкафы с пузырьками и фиалами, анатомические модели из воска, алхимические приспособления и хирургические инструменты, которые он видел сквозь отверстие в пологе. Уже без прежней усмешки, но все еще иронически покачивая головой, эдил разглядывал просторную залу. Вдруг он замер и, словно в добавление к каким-то своим мыслям, тихо сказал Локусте:
- То, что я здесь видел и слышал, конечно, производит большое впечатление. И все-таки, искренне веря в то, что ты действительно постигла многие тайны своего ремесла, я никак не могу избавиться от некоторых сомнений - в принципах его. Честно говоря, я не могу понять, почему оно не может обойтись без всей этой подозрительной мишуры.
- Какой мишуры? О чем ты?
- Зачем тебе все эти шарлатанские побрякушки, расставленные где попало? Я не видел, чтобы ты ими пользовалась или даже просто брала в руки.
- Знаешь, если у тебя хватит терпения зайти к другим гадалкам, которых в городе развелось великое множество, ты сможешь убедиться в простоте и даже скромности моего кабинета. А то немногое, что кажется тебе в этой комнате пустой мишурой, зародилось очень давно, когда люди, кстати, имели гораздо меньше представления об излишествах, но зато лучше были знакомы с тайными силами природы. Откуда же тебе сегодня знать истинное предназначение этих предметов? Может быть, они служат совсем не тому, о чем ты думаешь!
Веспасиан молча склонил голову, а потом, не поднимая ее, потеребил правом рукой подбородок и чуть слышно пробормотал:
- Пожалуй, нетрудно рассеять сомнения у любого человека, если предсказывать каждому, что он станет императором!
- Каждому?! - удивленно переспросила Локуста. - До чего же ты несправедлив ко мне! Да за десять лет, проведенных мною в Риме, я дала подобное пророчество только однажды Гаю Цезарю, который три года назад просил составить гороскоп по его руке!
Колдунья в волнении схватила правую руку Веспасиана и, притянув его к себе, продолжила вполголоса:
- Я ему предсказала, что он будет императором, потому что так было написано на его ладони, но, зная жестокость его души, я не стала говорить о других знаках, которые ясно видела в линиях.
- Какие это были знаки? - заинтересовавшись, быстро спросил Веспасиан.
- Что он будет властвовать не больше четырех лет, что умрет молодым и насильственной смертью, - едва шевеля губами, проговорила колдунья на ухо эдилу.
Потом она неожиданно отстранилась от него и добавила уже другим тоном:
- И ты это увидишь.
Веспасиан погрузился в раздумье. Локуста продолжала:
- И еще совсем недавно, месяц назад, я предрекала империю мальчику, которого ко мне привела его мать, Альба Теренция. Это был Марк Сальвий Отон, сын консул ария Луция Сальвия Отона: я сказала, что он будет править недолго и умрет насильственной смертью, так и не достигнув расцвета лет.
- Неужели сын Луция Сальвия Отона тоже будет императором? - спросил эдил, по-прежнему продолжая размышлять о чем-то.
- А сегодня случаю было угодно, чтобы ко мне пришли сразу трое из тех, кому суждена верховная власть. Но разве я виновата, что по воле рока она предстоит и Клавдию, и Гальбе, и Вителию? Или в том, что все эти люди пришли именно сегодня, когда ты стал свидетелем всего происходившего здесь? Спроси всех сенаторов, консулариев и патрициев, которые побывали в этой комнате, и ни один из них не скажет, что слышал от меня что-либо подобное.
Бледный и неподвижный, Веспасиан молча смотрел себе под ноги. Если бы не дыхание, то его можно было бы принять за восковую статую. Локуста поднялась по ступенькам к столу, на котором оставила браслет, подаренный Юлией Силланой, надела его на правое запястье и, взяв в руки светильник, спустилась к Веспасиану.
- Ну, благородный эдил, на улице уже ночь, доволен ли ты увиденным? Сегодня больше никто не придет. Хочешь поужинать со мной?
Веспасиан еще немного постоял в задумчивости, потом неожиданно резко поднял голову и с видом решившегося на нечто важное человека обратился к колдунье:
- Может быть, ты составишь гороскоп по моей руке?
Он протянул ей правую ладонь.
- С удовольствием! - ответила колдунья. - Только тебе придется посветить мне.
Веспасиан взял светильник левой рукой и поднял его так, чтобы свет падал на его правую ладонь. Осторожно придерживая ее, женщина указательным пальцем своей правой руки медленно провела по всем линиям его ладони. Все это время в лаборатории стояла абсолютная тишина. Веспасиан испытующе смотрел на лоб ворожеи, которая была полностью погружена в изучение таинственных линий. Наконец колдунья подняла голову и посмотрела на эдила своим долгим, как бы фосфоресцирующим взглядом. На ее губах блуждала загадочная улыбка.
- Странно! - пробормотала она.
Взяв из рук Веспасиана светильник, поставила его на пол и добавила:
- Хватит. Я увидела достаточно.
- Ну? - нетерпеливо спросил Веспасиан, лоб которого покрылся легкой испариной.
- Если я скажу тебе то, что прочитала по твоей руке, то ты мне не поверишь.
- Говори, говори, что ты там прочитала? - весь дрожа, настаивал внук государственного преступника, не отводивший умоляющего взгляда от хозяйки дома.
- Ты мне скажешь, что отсюда выходят только будущие императоры.
- Что? Так и я тоже? - воскликнул Тит Флавий.
Он, казалось, был уже готов разозлиться, но вдруг осекся и произнес уже другим тоном:
- Мне это уже было предсказано!
- Твое правление будет долгим и счастливым… - начала Локуста, но тут же запнулась и спросила: - Уже предсказано? Когда? Кем?
- Три года назад я отдыхал дома в Фалакрине, недалеко от Рьети. Однажды, когда я там обедал, вдруг во двор вбежала собака, державшая в зубах человеческую руку, которую положила к моим ногам.
- Это знак того, что люди вручат тебе власть над ними и всегда будут преданы своему повелителю! - воскликнула Локуста.
- Знаешь, точно так же истолковала это знамение одна гадалка, которую я позже встретил в Фалакрине. А десять месяцев спустя там же произошел другой удивительный случай. Вол, спокойно отдыхавший на поляне, вдруг ни с того, ни с сего пришел в бешенство, сломал ярмо и ворвался в триклиний, где растоптал всех моих слуг, а потом, словно пораженный чем-то, присмирел и, повалившись на землю, положил свою голову у моих ног.
- Кровавые мятежи и гражданские беспорядки омрачат твое правление, но судьбе будет угодно сохранить тебя и твою империю.
- То же самое мне сказал знаменитый астролог Трасил!
- Так начертано на твоей ладони. Ты станешь императором не скоро, но будешь им долго, а умрешь в глубокой старости естественной смертью.
В глазах Веспасиана на одно мгновение зажглись огоньки тщеславия, но только на одно мгновение. Выдержка и воля помогли ему быстро справиться с собой и уже спокойно посмотреть на Локусту, которая продолжала говорить:
- А ведь я не знала всех этих обстоятельств. Значит, теперь ты удостоверился в правдивости моих пророчеств.
- Ты, - улыбнулся Веспасиан, - самая мудрая, самая проницательная из женщин! Я тебе благодарен, и завтра же ты получишь первое доказательство моей признательности.
- Твоя благосклонность будет моей самой желанной наградой, - ответила прорицательница, пожимая протянутую руку эдила.
Выйдя на улицу, Тит Флавий Веспасиан удивленно посмотрел на звезды, ярко сиявшие в бездонном ночном небе. Было холодно.
ГЛАВА VII
Ранним утром майских ид (15 мая) 791 года яркое весеннее солнце озарило живописное побережье, простирающееся от Мизенского холма до горы Низида. В прозрачной небесной синеве не было ни облачка; свежий ветерок раздувал над морской гладью смешанный запах цветущих миндаля, олив, олеандров, персиков, абрикосов, айвы и других деревьев, вызванных к новой жизни вместе с неприхотливой ратью диких кустарников, цветов и трав.
Окружающие холмы с их бескрайними виноградниками, яблоневыми, сливовыми и оливковыми садами, между которыми белели роскошные мраморные дворцы, изящные виллы и опрятные домики крестьян, были заполнены звуками проснувшейся природы. Всюду щебетали птицы; приютившие их дриады тихо шелестели своими густыми кронами. Порой откуда-то издалека доносились то лошадиное ржание, то мычанье волов, то блеяние коз и овец. Иногда слышалось позвякивание колокольчиков и песня пастуха, гнавшего свое стадо на пастбище.
Природа праздновала пробуждение после долгой зимней спячки. Стояла пора, когда распускаются самые дивные цветы, источая свои нежные ароматы, когда соловьи заводят восхитительно звонкие трели, когда все новые и новые ростки, наливаясь соком, пробиваются к теплу и свету. Особенно прекрасны были ранние зори: в это время душистый ковер, покрывающий землю буйными зарослями маргариток, дрока, фиалок и жасмина, так ярко блистал каплями росы, так неудержимо расправлялся вширь, и ввысь, что казалось, будто сама смерть отступила перед этим бурным натиском новой, еще пробуждающейся жизни.
По залитой солнцем консульской дороге Кампана[111], ведущей из Синуэссы на юг, уже давно двигались огромные толпы пеших, конных, едущих на квадригах, на двуколках, в носилках, в повозках и просто в телегах, дружно огибавших Мезенский холм и сворачивавших к Байи. К этой нескончаемой веренице присоединились богатые экипажи, прибывшие по Аппиевой дороге[112] из Рима, и вместе с ними следовали дальше. Их пассажиры оглашали окрестности радостными криками и громким смехом. Почти все они имели при себе корзины и плетеные кошелки с провизией, с кувшинами и цикубами вина, к которым они то и дело прикладывались. Все путники были одеты в лучшие наряды, все были веселы и жизнерадостны.
Со своей стороны, Байи, пестревшие вывешенными на всеобщее обозрение коврами, яркими флагами и знаменами, выглядели не менее празднично. Все главные улицы этого старого города были украшены гирляндами цветов. Мраморные арки увиты миртом и розмарином. Повсюду красовались широкие полотнища с надписями, прославлявшими императора Гая Цезаря Августа. Почти на всех окнах были выставлены горшки с цветами или висели большие зеленые венки.
Неподалеку от гавани императорские архитекторы возвели прочные столбы, точь-в-точь такие же, какие были построены на противоположном берегу, в Поццуоли. Между теми и другими столбами протянулся мост необычайной длины и ширины, соединивший Байи с Путеоланским молом. На протяжении трех миль и шестисот шагов почти вплотную друг к другу были поставлены четырехъярусные галеры, триремы[113] и баржи всевозможных размеров, на которых покоился настил из еловых бревен. На бревнах лежал толстый слой земли, придававший упругость насыпанному сверху кремнию и травертину. Справа и слева на всем протяжении моста были сооружены деревянные поручни для безопасности тех, кто должен был ходить по нему. Через каждые пятьдесят шагов были развешаны многоцветные вымпелы. На равном удалении от обоих берегов располагалась просторная площадка с возвышавшимся над ней великолепным павильоном. Итак, Калигула осуществил свою давнюю мечту, на воплощение которой потратил половину сокровищ, накопленных его алчным и жестоким предшественником ценой преступлений.
На берегу залива собралось не меньше тридцати тысяч зрителей. Навесы, палатки, беседки и прочие временные постройки образовали сплошную пеструю цепь. На солнце переливались красочные наряды тех, кто пришел посмотреть на грандиозное зрелище. Множество людей наблюдало за происходящим, сидя в небольших суденышках, покачивавшихся на волнах Тирренского моря. Толпа сгрудилась вокруг пышного кортежа, готовившегося переправиться через мост.
Между окончанием второго и началом третьего часа (то есть между 8 и 9 часами до полудня) в гавани Байи появился император, восседавший на прекрасном по кличке Инцитат. Он не спеша направился к мосту, чтобы, проскакав по нему через залив между Байи и Поццуоли, исполнить предсказание Трасила.
На Инцитате была золотая сбруя, украшенная крупными драгоценными камнями, и богатая попона из александрийского шелка, расшитая серебром и золотом. Небрежно держа поводья, наследник Тиберия горделиво посматривал по сторонам.
Сам он очень похудел со времени вступления на престол. Его лицо, более бледное, чем год назад, теперь обрамляла короткая круглая бородка, которая в этот день была присыпана золотым порошком и казалась светлее, чем была на самом деле. Во взгляде императора, хмурого, как никогда прежде, порой мелькал тщательно скрываемый страх.
Калигула был облачен в доспехи, согласно преданию, принадлежавшие Александру Македонскому, изумительная тонкость их отделки не позволяла сомневаться в достоверности этих исторических сведений. Поверх доспехов на нем была накинута золототканная императорская мантия, усыпанная рубинами и топазами. На голове Цезаря сверкал золотой шлем, увенчанный короной из дубовых листьев. Правой рукой он сжимал длинный меч, а левым локтем придерживал маленький круглый щит, висевший у него за спиной. Рядом с ним гарцевал отличный арабский скакун белой масти, которым правила сестра императора. Дочь Германика была в ослепительно белой тунике, расцвеченной узором из сапфиров и изумрудов. Плечи Друзиллы укрывала хламида из тончайшего шелка, одетая на греческий манер. Чудесная диадема сияла на копне ее пепельных волос.
За ними следовали повозки с Агриппиной, Ливиллой, Домицией, Мессалиной, Орестиллой, Паолиной, Силланой, Цезонией и другими знатными и прекрасными матронами, которых сопровождала кавалькада консулариев, сенаторов, патрициев и римских всадников. Замыкали шествие четыре когорты преторианской гвардии и ряды легионеров, выстроенных в безукоризненном боевом порядке.
По знаку императора весь этот великолепный кортеж тронулся в путь и, предшествуемый отрядом музыкантов, заигравших триумфальный марш, ступил на мост. Звуки торжественной мелодии тотчас подхватили все остальные трубачи и флейтисты, которые на равном расстоянии друг от друга были расставлены по всему берегу; восторженные приветствия огласили воздух над заливом.
Чуть отпустив поводья, Калигула позволил Инцитату, почувствовавшему радость своего хозяина, слегка пританцовывать. Лоб императора разгладился. Впервые за последние месяцы морщины исчезли с его лица. Удовлетворение, которое он испытывал, глядя на воплощение своей мечты, слыша одобрительные крики многих тысяч собравшихся людей и заглушавшие их звуки торжественной музыки, привело Цезаря в состояние блаженства. Процессия отдалилась от берега шагов на пятьсот, когда Друзилла, поглощенная созерцанием гор, дворцов, садов и виноградников, постепенно открывавшихся ей с моря, неожиданно воскликнула:
- Смотри, Гай, какой чудесный вид!
- Впечатляющее зрелище, - согласился Калигула.
- Боги благоволят к тебе, потому что…
- Горе им, если они не будут делать этого! - резко перебил ее император.
- …потому что, - продолжала Друзилла, словно не слышавшая слов брата, - этот замечательный весенний день как нельзя лучше подходит для праздника, который ты устроил.
- О да, моя обожаемая Друзилла! За двадцать пять лет жизни я еще не видел такой чудесной весны и такого прекрасного дня!
- Это изобилие красок, эти неудержимые силы природы - они как будто хотят доказать, насколько прекрасна жизнь, насколько она могущественней, чем мрачная, бесцветная тишина смерти, которую только что победила эта проснувшаяся земля!
- О да, жизнь прекрасна! - снова согласился Гай Цезарь.
- Жизнь прекрасна… А смерть страшна! - печально произнесла Друзилла. - Когда я думаю о том, что однажды умру и больше никогда не увижу этих очаровательных цветов, этого удивительного берега и чудесного моря, что для меня не будет существовать ни музыки, ни запахов, ни света, ничего… О, я чувствую, как мурашки пробегают у меня по спине, словно я прикоснулась к холодной погребальной урне.
Но Калигула не дал ей договорить. Внезапно к нему вернулось его обычное плохое настроение, и он раздраженно воскликнул:
- Опять ты изводишь меня! Точно не можешь найти какой-нибудь менее печальной темы для разговора!
- Прости меня, Гай. Это потому, что у меня есть печальное предчувствие беды.
- Боги запрещают нам траурные предчувствия! - отрезал Калигула, нетерпеливо перебив сестру. Приблизив к ней своего коня, он добавил более спокойным тоном:
- Ну, пожалуйста, не превращай в траурную церемонию этот замечательный триумфальный парад!
- Ты прав! Прости меня, Гай, - пробормотала Друзилла, стараясь улыбнуться.
Отвлечь ее от мрачных мыслей было непросто. Только употребив все самые нежные и ласковые слова, а также обращая внимание сестры то на одно, то на другое величественное зрелище, Гаю в конце концов удалось возвратить ей прежнюю веселость.
Торжественное шествие продолжалось не меньше часа, прежде чем музыканты, маршировавшие впереди, ступили на берег Поццуоли. Появление императора там было встречено бурными приветствиями бесчисленных толп народа. Децимвиры[114] и декурионы[115] муниципия[116] преподнесли ему гирлянды цветов и бронзовую корону, сделанную под золотую. Калигула немногословно поблагодарил горожан за их подарки и приказал авангарду кортежа следовать на огромную императорскую виллу, тянувшуюся от Поццуоли до озера в Аверно, ту самую, которая девяносто лет назад принадлежала великому оратору и философу Марку Туллию Цицерону, а позже, уже во времена Августа и Тиберия, обновлена и обустроена всем, что могло удовлетворить человеческую прихоть. По распоряжению императора, на ней заранее были накрыты столы и приготовлены места для отдыха его многочисленной свиты.
Процессия снова тронулась в путь и вскоре достигла роскошной виллы, где матрон и самых знатных гостей ожидали несколько просторных триклиниев, в каждом из которых стояли по три обеденных стола с девятью ложами. Таким образом, на один зал приходилось по двадцать семь человек. Однако обед начался не сразу: Калигула был вынужден принять магистратов[117] Поццуоли, желавших представить ему одного очень старого патриция: при Тиберии тот находился в двенадцатилетнем изгнании и вернулся на родину только со вступлением на престол Гая Цезаря, помиловавшего тех, кого преследовал его предшественник-тиран. Плача и целуя руки своего спасителя, несчастный старик рассказывал о благополучном завершении долгих скитаний, когда император неожиданно прервал его, спросив:
- А что ты делал тогда, в изгнании?
- Все это время я молил богов, - ответил старик, - послать смерть Тиберию и отдать верховную власть тебе.
- О Зевс Громовержец! - вдруг, нахмурившись, грозно воскликнул Калигула.
От этого крика все вздрогнули: и оба консула Аквилий Юлиан и Ноний Аспренат, и префект претория Руф Криспин, и городские сановники - хотя никто, включая старика, не понимал причин императорского гнева.
- Так ты молил ускорить смерть Тиберия? - допытывался Гай Цезарь у бывшего изгнанника, чувствовавшего, как земля уходит у него из-под ног.
- И значит, то же самое делают все, - еще больше распаляясь, прокричал Цезарь, - кого прогнал я? Они дают обеты за мою смерть, надеясь на милость моего наследника!
Наступила короткая пауза. Налитые кровью глаза Калигулы пылали яростью.
- Криспин! - властно проговорил он, повернувшись к префекту претория. - Срочно снарядить гонцов во все места изгнаний и ссылок! Каждому вручить приказ о том, чтобы немедленно лишить жизни всех, кто там находится меньше года. Всех, без единого исключения!
И, когда Криспин заверил, что воля императора будет исполнена, он добавил:
- Чтобы эти бездельники не помышляли о моей смерти!
Глубокая тишина воцарилась в таблии, но ни один из присутствовавших не показал даже доли охватившего его смятения.
- Может быть, я не прав? - наконец выкрикнул Калигула, не выдержавший этого всеобщего безмолвия.
- Прав!
- Совершенно прав!
- Без сомнения!
Одобрительные возгласы нарушили напряженное молчание.
- Мы не только одобряем, но и благодарим тебя от имени всего римского народа, - прибавил Луций Кассий Херея, - за то, что, защищая свою драгоценную жизнь, ты заботишься о благе Республики, которая прежде всего нуждается в сохранении своей главы.
- Вот прекрасные слова, - успокоившись, произнес тиран и благосклонно взглянул на придворного.
Распрощавшись с магистратами Поццуоли и со стариком-изгнанником, не перестававшим превозносить его мудрое решение уничтожить всех высланных за границу, он направился в свой отдельный триклиний, где собрались избранные гости вместе с его тремя сестрами - с Домицией, Мессалиной, Юлией Силлана. Здесь были Клавдий, Нонций, Юлиан, Веспасиан, Авл Вителий, Фабий Персик, Марк Мнестер, Калисто, Апеллий, Криспин и Луций Херея.
За обедом начался разговор о необходимости защищать жизнь императора, о его прошлогодней болезни и всеобщей радости, объединившей всех римлян, когда он поправился. И кто больше всех хвастался многочисленными жертвами, принесенными богам до и после его выздоровления, так это Клавдий, который мог бы еще долго распространяться о собственных заслугах перед Республикой, если бы Калигула, сидевший рядом с Друзиллой, распоряжавшейся за столом, неожиданно не воскликнул:
- Кстати! Почему я не вижу здесь Атания Секондо из всаднического сословия и нашего богатого плебея Публия Афрания Потита?
- Атания Секондо я видел вчера. Он должен был сопровождать шествие, - задумчиво протянул Авл Вителий. - Сейчас он, наверное, здесь в Поццуоли.
- А Потита я видел, когда мы проезжали по мосту. Он стоял в лодке и размахивал флагом, - добавил Луций Кассий Херея.
- Разыщите обоих. Я желаю их видеть не позднее завтрашнего утра.
Авл Вителий и Луций Кассий понимающе переглянулись и дружно закивали головами.
- Будет исполнено.
- Мы их найдем, божественный.
Они тотчас поднялись со своих лож, намереваясь, очевидно, немедленно приступить к выполнению приказа. Император тоже вышел из-за стола. Он торопился осмотреть главные монументы Поццуоли, пока в амфитеатре не начались забеги колесниц, назначенные в его честь. Предшествуемый полукогортой преторианцев и сопровождаемый плотной толпой дам, патрициев и всадников, съехавшихся не только из Рима, но и из Мизены, Наполи, Кумы, Помпеи, Геркуланума, Байи и других окрестных городов, он пешком отправился в великолепный храм, выстроенный в коринфском ордере[118] и посвященный Зевсу и Августу. Диумвиры поццуольского муниципия, польщенные, а еще больше напуганные вниманием их всесильного гостя, стали рассказывать ему о самых примечательных статуях и об истории храма.
- Сначала он был посвящен Зевсу Верховному.
- Это мой кузен, - перебив старшего децимвира, небрежно бросил Калигула.
- Твой… кто? - изумленно переспросил диумвир, но, опомнившись, быстро исправил свою ошибку.
- Ах да! Разумеется, Зевсу, твоему кузену, а потом он был посвящен твоему прославленному предку Августу.
- Так уже и прославленному, - раздраженно вновь перебил его Калигула. - Это ли настоящая слава? Это ли настоящее величие?
На сей раз децимвир замешкался с ответом, не зная, что сказать. Он так и замер с открытым ртом, в глазах его застыло затравленное выражение. В голове у него был невообразимый хаос, в котором невозможно было разобраться. С одной стороны, бедняге казалось, что Цезарь мог говорить так, желая испытать его на верность Августу, своему предку - тогда соглашаться было опасно, с другой стороны, противоречить агрессивному самолюбию императора было еще опаснее, и наконец, прицепс мог иметь в виду недостаточность прославления знаменитого Октавиана неблагодарными поццуольцами. В этом случае нельзя было бы ни соглашаться, ни противоречить, а нужно было как-то изворачиваться. Несчастный не находил выхода из создавшегося положения и, чувствуя, как затягивается пауза, приходил в еще большее отчаяние. Холодный пот выступил у него на спине.
- По-твоему, я не прав? - нахмурившись, спросил Калигула.
- Не прав? - совсем растерявшись, переспросил злосчастный децимвир. - Как я могу сомневаться, божественный Цезарь, как я смею?
Больше он не мог вымолвить ни слова.
- Да, Августа сейчас превозносят. Но в чем его заслуга? Уже забыты обманы, преследования, проскрипции[119] и другие злодеяния, которые он совершил, чтобы получить верховную власть. Уже никто не вспоминает, как он был хитер, как водил за нос Ливию, этого Улисса в женском платье! Никто не упрекает его в старческом слабоволии, хотя в последние годы правления он позволил трусливой, коварной и алчной аристократии - этому вампиру, сосущему кровь бедных плебеев, заражающему все общество, - поднять голову настолько, что Тиберий, мой знаменитый, великий предшественник - вот кто был поистине велик! - вынужден был огнем и мечом исцелять государство. Нет, нет, дорогой децимвир! По-моему, Август пользуется незаслуженной славой. Он был всего лишь зазнавшимся шутом, которого окружали толпы глупцов и подхалимов.
В переполненном храме стояла гнетущая тишина. Помолчав, Калигула добавил:
- Мой вам совет, децимвиры: разбейте голову на этой статуе Августа и замените ее другой.
- Неужели они не догадываются, что им нужно сделать? - вдруг пробормотал либертин Калисто.
- Да, да, богоподобный Цезарь! Мы изваяем твою голову и поставим на это место! - подхватил децимвир с такой поспешностью, с какой утопающий хватается за соломинку.
- Благодарю тебя, мой верный Калисто. Спасибо, дорогой децимвир. Да… Я думаю, что мне не следует отказываться от божественных почестей. Если бы мои подданные вспомнили о том, как много я успел совершить всего за один год правления, если бы подумали о том, что я еще смогу сделать для Рима, для империи, для всего мира, то они еще месяц назад должны были построить для меня и алтари, и жертвенники! О неблагодарные, видно, ваши головы так же безмозглы, как кусок камня на этом истукане! Так пусть его судьба станет хорошим напоминанием любому, кто не видит моего превосходства над всеми смертными, даже над императорами!
И, наклонившись в Калисто, он двумя пальцами ущипнул его за щеку, а потом сказал:
- Я знал, как ты меня любишь, как ты проницателен, но я не подозревал, что среди ста тридцати миллионов моих подданных найдется хоть одна признательная душа! Я дарю тебе весь доход имперской казны в провинции Целесирия.
- Благодарю тебя, мой божественный повелитель, - проговорил Калисто, целуя руку Калигулы, - но я просто лучше других знаю твои достоинства и потому не прошу награды за свои слова.
- Я все же вижу, дорогой Калисто, и хотя ты не просишь, я даю!
- Они говорят о каких-то пустяках! - прошептал Авл Вителий на ухо Луцию Кассию. - Подумаешь, всего-то несколько миллионов сестерциев!
- И почему мне в голову не пришла та же идея, которую так ловко использовал этот отъявленный плут Калисто? - отозвался Луций и от досады прикусил нижнюю губу.
После посещения храма Зевса и Августа император осматривал храмы Юноны Устроительницы Браков, Нептуна и Дианы.
Покидая последний из них, Калигула задержался на мраморной лестнице и, повернувшись к консулам Аквилию Юлиану и Нонию Аспренату, произнес:
- Мне кажется, почтенные консулы, наступило подходящее время провозгласить в сенате решение об обезглавливании всех изваяний в храмах империи. Вернувшись в Рим, вы должны будете заставить это сборище вымогателей искупить их пороки и принять закон, обязывающий водружать мою голову на статуи бывших богов.
- Да будет так! - в один голос воскликнули оба консула.
- Еще я думаю, - продолжал прицепс, спускаясь по лестнице, - установить особый культ моей божественности.
- И правильно сделаешь!
- Какая мудрая мысль!
- Достойнейшее решение!
- Как ты благороден!
- Как ты великодушен!
Эти и похожие славословия не утихали все время, пока император, не обращавший никакого внимания на волнение своей свиты, шел в амфитеатр. Придя туда, он взошел на убранный пурпуром и золотом помост императорского подиума, а когда улеглись шумные аплодисменты, вызванные его появлением в цирке, произнес, обращаясь к Друзилле:
- Ну, любимая, теперь ты повеселишься.
И, дав децимвирам знак к началу бегов, он крикнул окружающим:
- У кого есть восковая дощечка и стило?
- У меня! У меня! - раздалось сразу несколько голосов, и к Калигуле тут же протянулись пять или шесть рук, предлагавших письменные принадлежности.
Повернувшись спиной к публике, он оглядел помост, на котором собрались сенаторы и консуляры, и стал что-то писать на дощечке. Вся свита с недоумением и страхом уставилась на стило и на странную улыбку, появившуюся на его губах.
Наконец он поднял голову и сказал:
- Все вы, конечно, знаете, с каким интересом я слежу за всеми бегами колесниц и квадриг. Знаете вы и то, что среди четырех групп, участвующих в заездах, зеленые всегда вызывают у меня наибольшее сочувствие. С другой стороны, мне известно, что вы неравнодушны к цирковым скачкам. Что ж, наверное, пришла пора возродить былую славу этих замечательных состязаний, которые на знаменитых Олимпийских играх давали возможность отличиться самым благородным греческим юношам. Разумеется, престиж наших забегом смогут поднять не безродные возничие, а только самые именитые граждане Рима, которым посчастливится выступать в соревнованиях. Почтенные сенаторы! Сегодня вам предстоит доказать, что лень и другие пороки еще не окончательно развратили вас. Итак, вы будете участвовать в этих забегах.
Казалось, еще немного - и раздадутся возражения: какой-то неодобрительный шорох, хотя и не более громкий, чем шуршание таракана, пополз по подиуму.
- Что?! - грозно блеснув глазами, крикнул Калигула.
Все затаили дыхание.
- Я сказал! - еще больше повысил тон император.
И после непродолжительной паузы добавил:
- Вот список сенаторов, которые выйдут на арену после первого заезда: Гай Меммий Регул, Луций Фульциний Тир, Луций Помпоний Секондо, Марк Фурий Камилл, Фаусто Корнелий Силла, Паоло Фабий Персик, Луций Сальвий Отон, Гней Ацерроний Прокул, Гай Порций Нигрин, Секст Пупиний Гальан, Гай Цестий Галл, Марк Сервилий Гемин, Луций Луциний Ларг, Марк Анний Минуциан, Тит Статилий Тавр, Тавр Статилий Корвин.
Все сенаторы, названные Цезарем, находились среди пятидесяти или шестидесяти избранных гостей, сидевших на пульвинарии. Но из всех них, бледневших или принужденно улыбавшихся при мысли о том, что их громкие имена будут чем-то вроде дополнительного развлечения для презираемой ими публики, из всех них, не представлявших более позорной участи, чем та, которая их ожидала, из всех них единственным человеком, - к счастью, не замеченным Калигулой, - возмущенно протестовавших против подобного глумления, был Марк Анний Минуциан. Только выразительный жест Веспасиана, сидевшего рядом с ним, удержал его от отчаянного и опрометчивого поступка. Первые двенадцать из этих сенаторов уже побывали консулами. Многие были преклонного возраста, некоторые страдали старческими заболеваниями. И несмотря на это, все они, кто молча потупившись, кто с наигранным удовольствием, поднялись на ноги, демонстрируя свою готовность исполнить волю тирана, который тем временем повернулся к децимвирам Пуццуоли и сказал:
- Проводите этих знатных особ в конюшни, оденьте их соответствующим образом, дайте лучших скакунов и квадриги. Они будут выходить на арену четыре раза, в каждом заходе по четыре человека. Затем победители будут состязаться между собой. Тот, кто выиграет все соревнования, получит от Гая Цезаря халцедоновую чашу стоимостью в шестьсот пятьдесят тысяч сестерциев.
Затем, обращаясь к шестнадцати патрициям, он добавил:
- А вы, уважаемые граждане, докажите свою верность императору.
И когда консуляры начали спускаться с подиума, Калигула произнес, обращаясь к децимвирам:
- Эй! Почтенные децимвиры, позаботьтесь о том, чтобы после окончания первого заезда глашатаи зазывали всех желающих посмотреть, как шестнадцать именитых сенаторов и консулариев будут править квадригами.
Сказав это, он целиком отдался созерцанию зрелища. Оживившись, стал громко подбадривать возницу Прассины[120]. Очень скоро он настолько вошел в азарт, что, перегнувшись через парапет, закричал во все горло:
- Ну, смелее! Давай! Давай! Цезарь с тобой!
Он отмахнулся от Друзиллы, которая упрекнула его в несдержанности, непристойной для императора, и воскликнул:
- Не болтай глупостей! Цезарю все пристойно! Цезарь выше всяких приличий!
К его немалому огорчению, зеленые проиграли, а победил возничий Альбаты.
- Ура! Да здравствуют белые!
«Да здравствует Альбата!», «Вива Альбата!» - закричали тысячи зрителей, поставивших на лошадь-победительницу, к которым присоединились те, кто заключил пари на Пурпурную или Турчанку и, проиграв его, хотели немного поддразнить императора.
Взбешенный таким явным неуважением к себе, он принялся проклинать горожан и угрожать им веревкой, называя их сборищем трусов, и подлецов, избегавших поединка с противником.
- Эй, вы, - наконец, рассвирепев, приказал он своему окружению, - уберите полог!
Луций Херея, Протоген и Авл Вителий поднялись и направились за слугами, которым предстояло поднять большой навес над цирком. Калигула нетерпеливо прикрикнул:
- Быстрее! Немедленно поднять этот занавес! Зрелище начинается!
Мрачный, как туча, он устроился между сестрами, приговаривая: - Сейчас вы у меня вспотеете! Сейчас вам будет жарко. Но не только от солнца, висельники несчастные!
И вдруг, ударив кулаком по барьеру, воскликнул:
- Ах! Ну почему у этого народа нет такой шеи, чтобы можно было перерубить ее одним ударом! [I]
Вскоре протрубили глашатаи, объявившие, что в следующем заезде квадригами будут править шестнадцать сенаторов и консулариев. Это неожиданное известие было встречено долгими и всеобщими аплодисментами.
- Хлопайте! Хлопайте, стадо вьючных мулов! Я мог бы вас всех высечь в кровь, всех, одного за другим! - сквозь зубы пробормотал Калигула.
В эту минуту пришли в движение деревянные блоки, смоченные водой, и на них стали медленно накручиваться канаты огромного тента, под которым тысячи людей скрывались от полуденного солнца. Цирк охватило смятение: раздались улюлюканье, свист и проклятия возмущенных зрителей [II].
Ожесточенно жуя несколько колосков, предложенных Ливией, Калигула процедил:
- Свистите, орите, бездельники. Все равно солнышко вас поджарит.
Мессалина, сидевшая дальше всех, у бокового ограждения императорского пульвинария, к которому она прислонилась спиной, не сводила своих томно сияющих глаз с Калисто, молодого и привлекательного либертина Калигулы. Сначала юноша старался не придавать значения ее красноречивому взгляду, слишком невероятным казалось ему предположение, что прекрасная жена Клавдия может снизойти до него. Однако, мало-помалу настойчивость очаровательной матроны тронула его пылкое сердце, и он исподволь стал отвечать ей столь же нежными и выразительными взглядами. Взгляды становились все более обещающими и уже сменились ласковыми улыбками, когда трубачи возвестили о начале нового заезда.
Предстоящее зрелище никого не оставило равнодушным. Раздражение императора и возбуждение публики улеглись, словно по сигналу трубы, и теперь все внимание присутствовавших в цирке сосредоточилось на воротах конюшни, где должны были появиться первые четыре повозки. После некоторой заминки из четырех раздельных загонов выехали четыре квадриги разного цвета.
На зеленой, запряженной четверкой рослых гнедых коней, находился Луций Лициний Ларг, самый молодой и искусный наездник среди шестнадцати несчастных участников представления. Одежда его была тоже зеленого цвета, кожаный капюшон, покрывавший голову, по обычаю возниц был обвязан венком из плюща. Белой квадригой, запряженной четырьмя испанскими скакунами черной масти, правил Паоло Фабий Персик. Его лицо почти сливалось по цвету с белой туникой, которую он кое-как напялил на себя. Затравленно озираясь, знаменитый ростовщик походил на индюка, угодившего в силки. Пурпурный цвет после розыгрыша достался сенатору Аннию Минуциану, яростно скрежетавшему зубами, но крепко сжимавшему в правой руке поводья белых сицилийских жеребцов. На квадриге венецианского, а иначе говоря, голубого цвета, показавшейся вслед за четверкой норовистых пегих кобыл, стоял старый сенатор Папиний Гальан, который, казалось, был больше всех обескуражен и напуган своей новой ролью.
Едва покинув загоны, разгоряченные скакуны стали бить копытами землю и рваться с места. И если Минуциан и Лициний крепко сжимали поводья своих коней, то возницы на квадригах Венета и Альбата сами не могли справиться с лошадьми, которых, помогая наездникам, держали под уздцы служители цирка. Наконец, четыре повозки выстроились перед белой стартовой лентой, прозвучал сигнал - и в тот же миг все шестнадцать скакунов, подгоняемые криком толпы, вихрем понеслись по арене.
Лишь ценой невероятных усилий Паоло Фабию Персику и Сексту Папинию Гальану удалось не выпасть из колесниц. С трудом держа равновесие и думая только о том, как сохранить собственную жизнь, они дали полную свободу лошадям, тогда как экипажи Прассины и Пурпурной мчались быстрым галопом, послушны воле возничих. Между возничими, однако, существовало серьезное различие: если Мину-циан, с хладнокровным бешенством сжимавший вожжи, был решителен и тверд, то Лициний Ларг не переставал нервно подстегивать коней, стремясь во что бы то ни стало выиграть состязание и вернуть расположение Калигулы.
Под громкий смех императора и всех зрителей, с улыбками наблюдавших за двумя шатавшимися из стороны в сторону сенаторами, Паоло Фабий Персик, доведенный в конце концов до отчаяния бешеным темпом этой гонки, вдруг выпустил вожжи из рук и повалился на колени, стараясь удержаться в квадриге. Но не успели четыре повозки закончить первый из предстоявших шести кругов, как его неуправляемая Альбата столкнулась с летевшей во весь опор Прассиной и опрокинулась, чуть не разлетевшись вдребезги от удара. Обезумевшие кони с удвоенной скоростью рванулись вперед, волоча за собой никем не подхваченные поводья, а на помощь сбитому и до полусмерти затоптанному Персику со всех ног бросились служители цирка.
Так случилось, что в вожжах, тащившихся по земле вслед за четверкой испанских коней Альбаты, на втором круге запутались пегие кобылы голубой квадриги, которая сразу опрокинулась и едва не накрыла собой сенатора Папиния Гальана, по счастливой случайности отделавшегося переломом ключицы и чудом избежавшего верной гибели под копытами разъяренных скакунов Прассины, готовой выйти на третий круг. Почти вровень с Прассиной неслась пурпурная квадрига Анния Минуциана. Вскоре служители цирка и стремянные половили восемь беспризорно бегавших лошадей с волочившимися за ними поводьями. Теперь только две повозки остались невредимы. Под громкие рукоплескания публики они уже пошли на четвертый круг, как вдруг Минуциан с невероятной силой дернул вожжи, круто повернув своих жеребцов, на полном скаку направил их прямо на стену подиума, мимо которого стремительно несся его экипаж. Через мгновение бедные животные насмерть разбились о мраморную стену. Но не успели они безжизненной грудой свалиться перед ней, как наездник, с ловкостью гимнаста сделавший сальто назад, уже стоял на обеих ногах на земляной арене цирка. Почти всем зрителям этот инцидент показался случайным, и в цирке раздались дружные аплодисменты возничему, не растерявшемуся в опасной ситуации.
Однако Калигула, смеявшийся, как сумасшедший, над трагическими неудачами Персика и Гальана, видел из пульвинария все подробности последней катастрофы. Приведенный в бешенство поступком кучера пурпурной квадриги, к действиям которого никто не мог придраться, он разразился проклятиями и самой отборной руганью в адрес своевольного сенатора.
Минуциан возвратился к загонам, и трубачи просигналили об окончании заезда. Квадригой-победительницей децимвиры объявили Прассину.
Вскоре музыканты, расставленные на ступенях амфитеатра, заиграли снова. В цирке опять послышались насмешки, ехидные замечания и громкий свист. Все последующие заезды, в ходе которых бледные, трясущиеся от страха консуларии выпускали поводья из непослушных рук, опрокидывали повозки, сталкивались друг с другом и падали под копыта лошадей, были непродолжительными. Порций Негрин и Цестий Галл ушли с пробитыми головами, Сервилий Гемин сломал руку, остальные отделались сотрясениями или ушибами.
В них без особых трудностей победителями стали Лициний Ларг возничий Прассины, Фульциний Тир, наездник Альбаты, Сальвий Отон, водитель Ванеты и Статилий Тавр, который в четвертом забеге выступал на Прассине. Таким образом, в скачках на первый приз участвовали четыре сенатора, и, к великой радости императора, у Прассины были двойные шансы на успех. На этот раз дело пошло лучше: квадриги мчались по арене, полностью подчиняясь воле ездоков, и к концу шестого круга - то ли по счастливому стечению обстоятельств, то ли по тайному уговору между четырьмя патрициями - Лицинию Ларгу удалось выйти вперед, обогнав Статилия Тавра. Победа зеленых доставила немалое удовольствие Калигуле и зрителям, шумно приветствовавшим Прассину, Лициния и Тавра. И, едва фанфары возвестили о завершении бегов, как Калигула, сияя, точно он был победителем этих соревнований, проговорил:
- Ну вот я и провел еще одну полезную реформу. Теперь вместо платных кучеров и безродных плебеев на скачках будут выступать патриции и сенаторы [III].
Так уже под вечер закончились игры, и через некоторое время Калигула вернулся на виллу, где был приготовлен роскошный пир для восемнадцати знатных дам, сорока двух избранных патрициев, двенадцати мимов и шутов, а также для Протогена, Апелла, Марка Мнестера, Авла Вителия, Луция Кассия, Калисто и Дария, сына парфянского царя, который находился при дворе Калигулы как почетный посланник мира, заключенного монархом и подписавшим его от имени императора проконсулом Сирии Луцием Вителием Непотом. В течение всего ужина, начавшегося в час контициния (десять после полудня) и продолжавшегося до середины галлициния (час ночи), в триклиниях стояло шумное веселье, порой переходившее за рамки приличия. К разгару застолья гости уже до упаду хохотали над непристойными песнями и разнузданными выходками актеров, делали соседям двусмысленные предложения и вообще позволяли себе то, что никогда не допустили бы в собственном доме. По столам кочевала огромная халцедоновая чаша с фалернским вином, в котором плавали розовые лепестки. В доме творилась полная неразбериха: все стремились перекричать друг друга, но никто никого не слышал и, казалось, не видел.
Клавдий мирно похрапывал прямо на мозаичном полу, где об него то и дело кто-нибудь спотыкался. Мессалина же не только не была пьяна, но и в отличие от остальных дам в течение всей оргии почти не притрагивалась к вину и сохраняла необычное для нее спокойствие, что заметил даже Калигула и чему еще больше удивился Марк Мнестер, которому уже несколько месяцев старалась понравиться Мессалина. Впрочем, актер не придал никакого значения ее нынешней холодности, приписав ее поведение странностям женского кокетства.
Что было на уме у Мессалины? Весь вечер она не сводила глаз с Калисто. Может быть, этой строгостью и даже неприступностью среди всеобщего разгула она хотела убедить юношу в лживости слухов о ее пороках и распущенности? Казалось, своим глубоким взглядом она предлагала любимцу императора сравнить ее с другими придворными дамами и удостовериться в том, что ее захватило не кратковременное сладострастное желание, а настоящее, благородное чувство. Конечно, Мессалину трудно было представить невинной скромницей. Но может быть, в глубине души именно такой она и была? Недаром, когда Калисто осмелился приблизиться к этой женщине, сидевшей в одиночестве и словно незамечавшей безумия, которое царило вокруг, она предложила ему занять свободное ложе возле себя и сказала, что в самом начале пира ее покинули Гней Домиций Энобарб и Луций Апроний Цезоний, ее соседи по застолью.
- И поэтому ты так печальна среди всеобщей вакханалии? - спросил Калисто.
- Это тебя удивляет, не правда ли? Скажи откровенно, Калисто, ты ждал чего-то иного? Да, я знаю, что говорят обо мне. Каждый мой жест и даже взгляд вызывает кривотолки и порицание. За те три года, что супружескими узами соединяют меня с Клавдием, я не сделала ни одного шага, который не был кем-нибудь прослежен и пересказан так, словно я ничем не отличаюсь от других римских матрон или даже хуже их всех. Но я и в самом деле ничуть на них не похожа!
- О да! ты лучше! И гораздо красивее!
- Ты мне льстишь, добрый Калисто. Но не говори так. Я не Гай Цезарь и не смогу вознаградить тебя доходом от какой-нибудь провинции.
- Ох! Если ты захочешь, то сможешь подарить мне во много раз больше, чем одну несчастную область, - дрожащим голосом произнес юноша.
- Во имя Геркулеса! - с неподдельным изумлением, которое граничило с подозрительностью, воскликнула матрона. - И где я найду тебе такую империю?
- Она в тебе самой! Если бы я смог вызвать в тебе хоть десятую долю того, что сам чувствую, я бы обладал самой великой империей - твоим сердцем, божественная Мессалина!
- Увы, Калисто, эта империя уже завоевана.
- Неужели нельзя свергнуть с престола, - поникнув головой, проговорил Калисто, - того, кто захватил ее, даже не зная истинной цены своих владений?
- Ох, Калисто, Калисто! - грустно вздохнув, ответила Мессалина, - и ты тоже! Ты такой же, как все!
Калисто промолчал.
- Ты мне казался другим, - мягко продолжала супруга Клавдия. - Глядя в твои голубые глаза, такие чистые и нежные, я думала, что вижу зеркало своей души. Я представляла тебя иначе. Мне чудилось, что ты, просвещенный, как все греки, способен понять ту возвышенную, благородную взаимосвязь двух навеки разлученных душ, которую так поразительно описал ваш философ Платон.
- О да, когда я нахожусь возле тебя, когда слушаю чарующую музыку твоей речи, пронзающую мое бедное сердце, то понимаю, что такое родство двух душ, хотя не мог этого постигнуть в чересчур строгом учении Платона. Да, в твоих устах эта небесная гармония звучит гораздо яснее, чем в книгах великого афинца!
Трудно было сказать, чем вызван был такой эмоциональный порыв юноши: диалогами его знаменитого земляка, рассуждениями женщины на метафизические темы или красотой, пленившей его? Во всяком случае, он говорил искренне.
- Неужели мы, люди, - всего лишь соединение нервов, мускулов и крови? - продолжала Мессалина, старавшаяся говорить нежно и ласково. - Неужели нами движет то же самое, что и всеми остальными живыми существами? Точно мы звери, рыскающие по земле в поисках добычи и не способные распрямиться, чтобы, подняв голову, ощутить беспредельную высоту чистого голубого неба, увидеть лучезарный свет божественных светил? Неужели нами правят только животные инстинкты? И нам не дано слышать таинственный и древний зов, повелевающий преодолеть земную обыденность, этот кошмарный сон, от которого только один-единственный раз удается очнуться и вступить в неизведанные, божественные области бытия?
- Да! Да! Это чувство есть во мне, и оно крепнет от твоей божественной эманации, от созерцания твоей олимпийской красоты! - воскликнул молодой грек, воспламенившийся от слов Мессалины. - О, почему мне не дано обладать хотя бы половиной твоих душевных сокровищ!
Калисто умоляюще сложил руки. Глаза его, казалось, наполнились слезами, готовыми вот-вот брызнуть. В свете ярко горевших светильников весь его облик казался воплощением юной мужской красоты.
- Кто знает! - после некоторого молчания произнесла жена Клавдия. - Кто знает, Калисто! Может быть, ты убедил меня. Не скрою, моя душа притягивается к тебе.
- О! Боги позволят мне доказать неподдельность того чувства, которое я питаю к тебе! О моя божественная синьора! Я чувствую себя златокрылой бабочкой, летящей на свет твоих очей!
В суматохе никто не обращал внимания на двух влюбленных. Соскользнув с ложа, Калисто опустился на колени перед Мессалиной и припал губами к ее сандалиям. Потом поднял голову и прошептал еле слышно:
- Умереть у твоих ног! Умереть за тебя!
- Встань, прошу тебя! Встань, пока никто не увидел, - с возмущением, но скорее наигранным, чем искренним, воскликнула супруга Клавдия. Схватив ладонь либертина, она усадила его рядом с собой.
Лихорадочно целуя ее руки, он проговорил:
- Благодарю тебя, моя богиня! Моя синьора!
И оба замолчали. Посмотрев на либертина долгим, изучающим взглядом, Мессалина наконец сказала:
- И главное, молчание! Ничего не стоит выболтанное чувство, даже если о нем говорят самыми прекрасными словами: язык любви нельзя услышать, о ней можно узнать лишь по глазам. Взгляды даже красноречивее поцелуев, Калисто. Весь аромат любви настоян на таинственности.
- Ты права: ни звука, ни звука! Ты увидишь, я твой! Я твой раб! Когда ты поверишь в мою преданность и позволишь целовать подошвы твоих сандалий, то я буду счастлив, как в Элизиуме!
Калисто, которого Мессалина за десять часов обворожительных взглядов и за один час разговора настолько подчинила своим желаниям, что если бы сейчас она приказала либертину вскрыть себе вены, то он, не колеблясь, взял бы нож со стола и выполнил ее волю, был в состоянии экстаза.
Внезапный взрыв хохота, которым пирующие встретили выходку Марка Мнестера, с кубком в руке имитировавшего мимику и жесты Понтифика Максима, прервал уединение двух влюбленных. А часом позже в огромных триклиниях императорской виллы сонные слуги и рабы уже приводили в порядок перевернутые скамейки, убирали столы, заляпанные винными пятнами и заваленные дурно пахнущими объедками, опрокинутыми глиняными кувшинами и кусками пшеничных лепешек. Заодно, желая хозяевам подольше не просыпаться, они опорожнили полупустые кубки с фалернским и хио.
В третьем часу ночи (после 7 часов утра) император вместе со своей свитой отправился в храм Нептуна, чтобы посвятить ему жертвы в честь возведения моста, которое он считал своей великой победой. Затем он посетил храм Ненависти, где принес богам роскошные дары, моля их покарать всякого, кто вздумает повредить его великолепному сооружению. Покидая храм, он обернулся к Калисто, шедшему сзади, и спросил:
- Ну, что? Где же Атаний Секондо и Афраний Потит?
- Они к твоим услугам, божественный Гай, - ответил либертин.
- Где они сейчас?
- Ожидают твоих приказаний в гавани: там, где стоит твоя триумфальная колесница.
- Хорошо… хорошо, - задумчиво проговорил Цезарь и, обратившись к Друзилле, загадочно добавил:
- Сейчас увидишь.
Странная, сардоническая ухмылка исказила его лицо. Потирая руки, он двинулся в сторону небольшой площади перед гаванью, придя на которую, бросил через плечо:
- Приведите обоих.
А пока приближенные выполняли его поручение, он повернулся к Друзилле и, лаская ее на виду у всех, вполголоса произнес:
- Увидишь, какой замечательный сюрприз приготовил тебе твой Гай!
И всегда-то лиловатое лицо Афрания Потита, вскоре представшего перед ними, приобрело теперь еще и мертвенный землистый оттенок; все его тело дрожало. Неподалеку от плебея замер чумазый парасит, не отстававший от него с того памятного дня, когда в портике Ста Колонн он поклялся покончить с собой в случае выздоровления Цезаря.
Атаний Секондо был бледен, но спокоен.
- Сальве, богоподобный Гай Цезарь! - пробормотал Афраний каким-то дребезжащим голосом и, склонившись, поцеловал край императорской мантии, а Атаний почтительно произнес:
- Сальве, божественный Гай Цезарь Германик!
- Назад, клятвопреступники, насмешники над богами! - неожиданно закричал император.
И после некоторой заминки добавил:
- В чем ты клялся, презренный Афраний Потит, когда я болел? Как ты выполнил свое обещание?
Афраний Потит позеленел. Он хотел что-то сказать, но язык его не слушался, и он лишь невнятно прошептал:
- Я- я… мне казалось…
- А ты, Атаний Секондо? Как ты исполнил данный тобой обет?
- Прости меня, божественный Цезарь! Я задержался с выполнением моего обета. У меня болела дочь, а потом умерла жена. Но я готов сдержать свое слово и буду рад погибнуть от меча гладиатора, если так угодно владыке всего мира.
- Хорошо! Ты говоришь, как честный человек, и я предлагаю тебе сразиться с гладиатором-фракийцем сейчас же, в амфитеатре. Обеты, данные богам, должны выполняться, если ты не хочешь, чтобы боги прогневались и послали нам какую-нибудь страшную беду.
Повернувшись к своему окружению, он приказал:
- Приготовьте все необходимое для того, чтобы через полчаса он был облачен в доспехи саннитов и вступил в бой с самым лучшим гладиатором-фракийцем, который найдется в Поццуоли.
Авл Вителий, Протоген и городские децимвиры спешно удалились. А в это время Афраний Потит, которому страх перед неминуемой смертью придал храбрости, упал в ноги Цезаря и, разрыдавшись, стал молить о пощаде и прощении:
- Огромная любовь, которую я питаю к тебе и к твоему отцу Германику, заставила меня дать это необдуманное обещание! Но теперь, когда верховные боги увидели чистоту моих помыслов и сохранили твою драгоценную жизнь, божественный Гай, зачем теперь мне умирать? Ради всех богов, взамен на мою жизнь я посвящу им треть моего состояния.
- Нет! С богами не шутят! Ты мог не давать клятвы, к которой тебя никто не принуждал, но раз уж поклялся, то должен сдержать слово. Посуди сам, если ты не сделаешь этого, то боги могут рассердиться и снова поразить меня болезнью! Может быть, смертельной!
- О горе мне! Горе! - в отчаянии заламывая руки, завопил несчастный.
- Неужели ты хочешь сохранить свою жизнь взамен моей? Как ты не понимаешь, невежда, что в моем здоровье нуждаются сто тридцать миллионов моих подданных и вся слава величайшей Римской империи?
Калигула говорил не терпящим возражений тоном.
- О горе мне! Ничего не поделаешь. Пусть исполнится твоя воля и желание верховных богов! Пускай меня убьют.
- Убьют? Убьют? - с возмущением переспросил Калигула. - Но ты же посвящен богам! Я не могу убить тебя. Ты должен сам покончить с собой, клятвопреступник!
- О нет! Нет, у меня не хватит сил самому сделать это! - катаясь в дорожной пыли, надрывно кричал бедный Афраний Потит.
- Ах нет? Ну это мы еще увидим! - побледнев, прошептал император.
Обернувшись к свите, он распорядился:
- Бросьте в темницу! А когда я отправлюсь в Рим, то закуйте его в цепи и везите за мной. Там я найду способ заставить его уважать богов!
Задумавшись, он приложил ко лбу указательный палец правой руки, а когда бьющегося в истерике Афрания Потита, схватили под локти и поволокли в тюрьму, он с неожиданной яростью хлопнул в ладоши и сказал Друзилле:
- Да… Во имя Зевса, я придумал!
И сразу оживившись, он отрывисто скомандовал:
- А сейчас - в амфитеатр!
Когда же Руф Криспин почтительно заметил, что на мосту его ожидает народ, он разъяренно крикнул:
- Толпа?! Да что такое толпа по сравнению со мной? Стадо баранов перед львом! Оборванцы строптивые, я вас научу подчиняться императору.
Не в силах сдержать раздражение, он пошел к амфитеатру таким быстрым шагом, что Друзилла, семенившая то слева, то справа от него, со стороны казалась настырной юродивой, выпрашивающей подачку у занятого человека.
- Ну-ну! Эка невидаль, толпа дожидается! И дождется, клянусь Зевсом! Что нужно этому сброду, как не один большой крест на всю их миллионноголовую гидру? Что им нужно, как не море крови? И они его получат, клянусь жалом Эриний![121] Мерзкие твари!
Грозно размахивая кулаками, он извергал свирепые проклятия до тех пор, пока Друзилла не тронула его за руку и не сказала просящим тоном:
- Ну, успокойся, Гай, подожди. Не торопись, я еле-еле поспеваю за тобой.
Эти слова произвели эффект холодной воды, которую плеснули в кипящий котел: Калигула неожиданно замер, и, успокоившись, мягко произнес:
- Прости меня, Друзилла. Гнев на этих бездельников помутил мой разум. В целом мире я люблю только тебя одну!
Бережно взяв ее под правую руку, он неспешно вошел в амфитеатр, куда за ним последовали придворные и не отстававшая от них толпа. Поднявшись в пульвинарий, император и его сестры увидели стоявшего на арене бледного, но решительного Атания Секондо, облаченного в доспехи гладиаторов саннитов, которые очень шли к его стройной, мускулистой фигуре. Почти в то же мгновение в противоположных воротах арены показался рослый профессиональный гладиатор, выступавший в полном вооружении фракийцев.
Поединок не был объявлен заранее, и на ступенях амфитеатра собралось не больше нескольких сот зрителей. По сигналу Цезаря противники приблизились друг к другу и скрестили мечи. Битва была долгой и напряженной. В течение получаса она прерывалась только тремя короткими передышками. Атаний Секондо был ранен в правую руку, левое бедро и правый бок. Его грозный соперник получил всего лишь две незначительные раны. Однако, в пятом бою крепкому и выносливому всаднику удалось одним ударом перебить бедренную кость трачита, тут же рухнувшего на землю. Не обращая внимания на поверженного врага, который открыл грудь, прося легкой и быстрой смерти, Атаний повернулся к пульвинарию: он ожидал знака смерти или пощады. Калигула, подняв правую руку с повернутым вниз большим пальцем, свирепо крикнул:
- Убей его! Это не гладиатор, а брадобрей! Убей его!
Друзилла хотела отговорить брата от такого решения, но Атаний Секондо уже разрубил пополам несчастного гладиатора. И не успели затихнуть последние судороги его расчлененного тела, как победитель, сжимавший в руке меч, на котором еще дымилась кровь побежденного, предстал перед императорским подиумом под аплодисменты большей части зрителей.
- Ты был великолепен! - крикнул ему Калигула. - Отдаю должное твоему мужеству и благодарю тебя за это зрелище! Но на будущее запомни, храбрый Атаний, что с богами не позволено шутить никому!
Так Атаний Секондо сполна заплатил за данный им обет [IV]. Встав после этого на колесницу, император, предшествуемый когортой конных преторианцев, и сопровождаемый повозками, в которые сели его сестры и знатные матроны, а также двумя другими когортами преторианцев и легионеров, которые сопровождали бегущие толпы, направился к своему мосту. Промчавшись по нему, он остановился на площадке, построенной посередине этого громадного сооружения, и в наступившей тишине произнес высоким, звучным голосом:
- Мои верные солдаты! Вы знаете, какую великую победу мы сегодня празднуем. Когда Ксеркс построил мост через Геллеспонт, куда более узкий, чем этот залив, он спесиво хвастался, что покорил море. Но его непрочный мост ничего не стоил по сравнению с тем, который построили мы. Поистине только нам удалось приручить море. Я обещал проскакать на коне из Байи в Поццуоли, и я сдержал свое слово! А теперь это сможет сделать каждый! В награду за ваш труд, за те многочисленные тяготы и лишения, которые вы несли вместе с вашим императором, каждому из вас я выплачу по двести сестерциев. Гордитесь своим подвигом и веселитесь со мной! [V]
Поблагодарив слушателей за восторженные аплодисменты, прозвучавшие в ответ на эти слова, Гай спустился с триумфальной колесницы и вошел в павильон, где были приготовлены всевозможные яства и вина для восьмидесяти человек, пировавших на императорской вилле предыдущей ночью. Новое застолье, еще более роскошное, чем прежние, продолжалось вплоть до девятого часа (три часа дня), когда к нему присоединились мимы, странствующие музыканты и очаровательные танцовщицы, развлекавшие императорскую свиту не меньше пяти часов, в течение которых в павильон не допускали посторонних. Уже смеркалось. Наконец Цезарю сообщили, что представление для Друзиллы можно начинать. Взяв сестру под руку, он пригласил ее выйти на мост. Все гости последовали за сыном Германика.
Стояла теплая, безлунная ночь. Окружающие холмы с их садами, виллами и поселениями были почти полностью погружены во мрак. Вдруг, словно по мановению волшебной палочки, всюду вспыхнули тысячи, десятки тысяч факелов, светильников и костров, озаривших Байский залив и все близлежащие окрестности. Мост, на котором зажглись тысячи факелов, казалось, был объят пламенем. Все побережье с городами Байи и Поццуоли, все дома и дворцы, все сады и даже вершины гор осветились множеством огней, составив фантастическое зрелище [VI]. С одного края мыса послышались неистовые приветствия, на другом берегу тотчас заиграла музыка. Под этот неумолкающий аккомпанемент на площадке быстро накрыли новые столы для пиршества, которое вскоре превратилось в оргию с самыми непристойными шутками и сценами. А после полуночи, когда утомленные гости без аппетита закусывали и лениво перекидывались фруктами, слуги по знаку Калигулы подхватили под руки мертвецки пьяного Апелла и, сопровождаемые отчаянными криками вдруг протрезвевшего шута и безумным хохотом всех остальных, бросили его через парапет, в волны еще холодного моря. И пока несколько случайных лодочников, ловивших рыбу при неослабевающем свете факелов, спешили на помощь барахтавшемуся шуту, Калигула вместе с четырьмя преторианцами осторожно подняли с ложа спящего Клавдия и, стараясь преждевременно не разбудить, тоже бросили его в море, чем вызвали взрыв всеобщего веселья.
- А! Помогите! Мессалина! Я умираю! - истошно кричал брат Германика, не понимавший, почему он вдруг оказался в ледяной воде.
Мессалина испустила душераздирающий крик и кинулась к парапету.
- Эй! Клавдий! Спасите его! На помощь!
- Я не умею плавать! Я тону! - захлебываясь, кричал Клавдий, то исчезающий под водой, то появлявшийся вновь.
Калисто сбросил тогу и, описав в воздухе дугу, вниз головой прыгнул с моста. Через несколько минут он, гребя одной рукой, подплыл обратно к площадке, куда несколько преторианцев втащили полуживого Клавдия.
Там уже слышались громкие похвалы плебеев, которых император пригласил отпраздновать его великую победу. Но не успели они приблизиться к столам и по достоинству оценить угощение хозяев, как Цезарь и его свита стали их хватать и бросать через парапет моста. А когда одни несчастные попробовали спастись, уцепившись за парапет, а другие начали взбираться обратно по балкам моста, Калигула, охваченный приступом бессмысленной ярости, закричал:
- Бейте их мечами по рукам! Рубите им головы! Топите! Топите этих бездельников!
Он схватил меч и подал пример Вителию, Кассию, Протогену, Апеллу, Мнестеру и многим другим приближенным, которые принялись разить горожан направо и налево, не давая подняться на мост никому: вода под мостом скоро потемнела от крови [VII]. Среди кровожадных криков и воплей о пощаде то и дело раздавался свирепый крик обезумевшего Калигулы:
- Топите этих бездельников! Топите! Топите!
ГЛАВА VIII
На второй день после возвращения в Рим император вызвал Афрания Потита и еще раз велел выполнить данный им обет. Тщетно молил несчастный о пощаде, напрасно божился отдать в храмы все свое состояние, если ему будет дарована жизнь - Калигула был непреклонен. Более того, видя, что жертве не хватает мужества убить себя, Гай Цезарь приказал высечь его розгами. И пока в атрии тибериевского дворца тюремщики в кровь полосовали пухлую спину злополучного плебея, Калигула, садистски радовавшийся каждому новому удару и каждому новому воплю истязаемого, заглядывал ему в лицо и приговаривал:
- Выполни свой долг, клятвопреступник! Убей себя, нечестивец!
Наконец, давая передохнуть уставшим мучителям, он заставил окровавленного Афрания одеться, с глумливой ухмылкой водрузил ему на голову митру Понтифика, а потом, вдоволь поиздевавшись над ним, отдал на растерзание своре босоногих подростков, как назло, собравшихся на площади перед храмом Аполлона. И как только обезображенный, онемевший от боли и ужаса Потит появился на улице, ковыляя за четырьмя своими палачами и декурионом, приставленными к нему на случай побега, о котором едва ли мог подумать этот обессилевший человек, его сразу же окружила целая сотня несмышленых, но жестоких мальчишек. Они свистели, улюлюкали и пронзительно кричали:
- Афраний, выполни свой долг! Выполни свой долг, Афраний!
Оглушенный их воем, бедный клятвопреступник бросился бежать к холму Победы. Следом тотчас кинулась вся стая его безжалостных истязателей, завопивших громче прежнего:
- Выполни свой долг, Афраний! Афраний, выполни свой долг!
Затравленный беглец не знал, куда деться от этих разъяренных Эриний, число которых увеличивалось с каждой минутой. Его глаза вылезли из орбит, на губах выступила пена. Обезумевший Афраний Потит был похож на обреченного дикого зверя, не понимавшего, кто и за что измывается над ним. Беднягу через три часа нашли мертвым: он лежал с разбитой головой неподалеку от портика Сервия Туллия [I].
Понаблюдав за началом этой пытки из окна тибериевского дворца, Калигула облачился в роскошный греческий наряд и, сопровождаемый ликторами, отправился в курию, по дороге жалуясь Титу Флавию Веспасиану:
- Вот видишь, как тяжела моя ноша? Нет, тебе не понять, сколько безобразия мне приходится выносить. Доконают меня эти мерзавцы.
Рассуждая в том же духе, он вошел в сенат, где, еще даже не заняв курильного кресла[122], грозно прикрикнул на отцов города, почтительно склонившихся перед ним:
- И этим исчерпывается ваше признание, достойное Цезаря, великого покорителя морей?
Глядя на онемевших от страха сенаторов, он вдруг взбеленился и закричал во все горло:
- Вместо того, чтобы с триумфом и с подобающим божественному императору почестями встретить вашего благодетеля, вы прикидываетесь до смерти перепуганными! Верно, вы замышляете какие-то козни против меня!
- Нет, нет, нет!
- Ура Цезарю!
- Да здравствует Гай Германик Август!
- Да здравствует победитель моря!
Возгласы раздались сразу из всех углов просторного зала. Стараясь перекричать соседа, каждый сенатор хотел доказать, что именно он больше других предан прицепсу и больше других ценит его заслуги.
Когда немного улеглось смятение, вызванное всеобщим отчаянием и боязнью какой-нибудь новой кары, Калигула зло усмехнулся и проговорил:
- Слишком поздно вы опомнились! Мне не нужны аплодисменты, выпрошенные у вас, подлые льстецы и подхалимы!
В курии вновь воцарилась тишина. Сбитые с толку патриции затрепетали. Даже у самых мужественных кровь застыла в жилах от этого беспричинного гнева.
- Вы еще поплатитесь, - продолжал Калигула, - за то, что год тому назад заставляли меня позорить Тиберия и скрывать то благоговение, которое я питал к нему.
Его лицо неожиданно исказила свирепая гримаса, и он что было силы крикнул:
- Негодяи!!!
И после непродолжительной, но многозначительной паузы добавил:
- Вы грешны во всех жертвах, которые были во времена Тиберия. Это вы клеветали друг на друга, вы писали ложные доносы, а потом сами осуждали невинных. На что же вы жалуетесь?… За что поносите Тиберия? Вы думаете, я сжег все его тайные бумаги? Нет, я их сохранил: вот они!
С этими словами он взял из рук Протогена, стоявшего позади, большую кипу бумаг и дощечек, которые показал сенату.
- Хотите знать, подлые изменники, что в данную минуту говорит мой великодушный предшественник, который на небесах восседает подле самого Зевса? Слушайте же: вот что он мне вещает, видя с какими коварными злоумышленниками мне пришлось столкнуться.
Он сдвинул брови и, оттопырив ладонью правое ухо, проговорил немного измененным голосом:
- «Правильно, Гай, хватит жалеть тех, кто готовит тебе погибель. Думай только о себе и о своих удовольствиях. Все остальное еще ничтожней, чем толпа льстецов, пытающихся перехитрить тебя. О Гай, не доверяй людям, которые слишком быстро подчиняются твоей воле. Почитать прицепса способны лишь те, кто его боится. Чем больше будет казненных, тем сильнее полюбят тебя оставшиеся».
Затаив дыхание, бледные сенаторы молча переглядывались.
- Вам известно, как я вас презираю, - произнес Калигула прежним свирепым тоном, - и за кого вас держу. Не надейтесь, что, прикидываясь безропотными овечками, вы сможете плести паутину заговоров против меня. С самого высочайшего повеления отныне вступают в силу закон о тысячах бдительных сыщиков, которые будут следить за каждым вашим шагом. И знайте, что в один прекрасный день они сорвут с ваших лиц эти жалкие маски!
- Но мы не враги.
- Ради тебя мы готовы на все, - закричали самые малодушные из присутствовавших.
- Ладно, ладно, хватит об этом, - махнул рукой Калигула. - Неважно, что меня ненавидят - лишь бы боялись!
Помолчав, он добавил:
- Ну, теперь поговорим о судебных делах. Преторы, вам слово.
К нему подошли преторы, и старший из них кратко рассказал о всех гражданских делах, разбиравшихся за последние восемь дней.
- Хорошо, хорошо, - перебил Калигула, - что с уголовными делами?
- Ничего, божественный Цезарь, ведь ты оставил за собой исключительное право рассматривать их.
- Да, да, это верно. Дайте мне список всех, кто содержится под стражей.
Ему тотчас подали длинный перечень узников тюрьмы Мамертин, обвинявшихся в кражах, поджогах, разбоях, убийствах, святотатстве и колдовстве.
- Во имя Геркулеса! - воскликнул Калигула, - а в это время палачи даром едят свой хлеб, точно для них нет работы!
Внимательно изучив весь список, он спокойно сказал:
- Первых двадцать распять на кресте, а тридцать следующих - повесить.
И, обмакнув перо в чернильницу, поставил свою подпись между пятидесятым и пятьдесят первым именем.
- Но… как же? Без суда, без дознания. Не выслушав свидетелей, - хотел было протестовать старший городской претор, но Калигула высокомерно отрезал:
- К чему ваши бесполезные формальности, когда суд вершу я? Или ты знаешь приговор более справедливый, чем тот, который выносит Цезарь?
Оглядев с головы до ног потупившегося претора, Калигула добавил:
- Запомни: суд должен действовать без промедления. Разрешаю брать пример с меня.
Сенаторы тотчас стали расхваливать проницательность и мудрость Цезаря. Он же, не обращая на них внимания, повернулся к эдилам и приказал:
- Пусть говорят эдилы.
Названные магистраты выступили вперед и старший из них церемонно начал:
- Эдилы удручены необходимостью сообщить безрадостное известие божественному величайшему императору Гаю Цезарю Августу.
- О! Во имя богини Друзиллы, ты мне нравишься! - перебив эдила, воскликнул Калигула. - Браво! Ты справедливо назвал меня Величайшим: это правда, как и то, что мои предшественники не заслужили подобного титула. Да, в мире есть только два величайших бога: Зевс, царящий на небе, и я, правящий на земле. Отныне приказываю именовать меня только так! Да! [II]
Удовлетворенно хмыкнув, он вновь повернулся к сановнику и спросил:
- Кажется, ты говорил о каком-то печальном известии?…
- Увы, величайший Август, - ответил эдил. - Ужасный мор напал на домашних животных: гибнут свиньи и овцы, уже начинает не хватать мяса.
- Ну и что? В чем же дело? Если у плебеев нет мяса, то пусть едят хлеб и сено.
- Да, но нельзя же кормить хлебом и сеном животных, находящихся в клетках цирка. Придется их убить.
- Убить животных? Этих чудесных львиц и пантер? Ты с ума сошел!
- Корм очень подорожал, общественная казна уже не может содержать их.
- И это все, что вас огорчает? - удивился император и недоумевающе пожал плечами. - Я здесь не вижу никаких причин для беспокойства. У нас ведь еще есть сотни заключенных, не считая тех, кого я уже приказал казнить. Пусть они заменят бедным зверям их обычную пищу! [III]
Выдержав паузу, он изрек назидательным тоном:
- Мои казначеи должны экономить общественные деньги.
Дав еще несколько указаний такого же рода, он вскоре оставил государственные дела и вышел на форум, по дороге рассказывая консулам о постройке нового дворца, который должен был протянуться через Палатин, от дворца Тиберия до Форума, причем храм Кастора и Поллукса должен был служить входом в будущие грандиозные хоромы.
- Не могу же я, олицетворяющий все величие Римской империи, - сокрушался он, - ютиться в нищенских домах Августа и Тиберия?
В ответ на эти слова Ноний Аспренат почтительно заметил, что дом Августа был хотя и скромен, но изящен, а дворец Тиберия слыл еще и самым большим зданием в городе.
- Говорю тебе, это не дворцы, а лачуги! Риму нужен дворец, достойный славы и величия моей империи. Рассуждая в том же духе, Калигула вернулся в дом Тиберия, где его ждало неожиданное и печальное известие.
У Друзиллы была лихорадка. Узнав об этом, тиран побледнел. Опрометью бросившись в комнату императрицы, он скомандовал на бегу:
- Карикла! Живо!
- Он уже возле нее! - догнал его ответ.
В покоях сестры Калигула застал врача, сидевшего в углу комнаты и тихо разговаривавшего с рабыней-прислужницей. Друзилла неподвижно лежала в постели, сухие, бескровные губы изредка испускали слабый стон. На цыпочках подойдя к изголовью ее ложа, Калигула осторожно поцеловал больную, шепотом справился о ее самочувствии и постарался приободрить ее, сказав, что не нужно падать духом, а лихорадка скоро пройдет. Он бережно отер пот, выступивший у нее на лбу, и, подав небольшую чашу с яблочной водой, которую просила девушка, направился к Кариклу, чтобы узнать о ее состоянии. Врачеватель тихим голосом сообщил ему, что заболевание оказалось очень серьезным. Для облегчения желудка он дал пациентке рвотное и сказал, что не позднее заката солнца нужно ожидать изменений к лучшему, а если больная - да хранят ее боги! - не начнет поправляться, то придется сделать кровопускание.
Слова всезнающего Карикла немного обескуражили Калигулу: он выглядел расстроенным, но не более того. Горько вздохнув и посетовав на то, что в доме Тиберия ни на кого нельзя положиться, император устроился у постели Друзиллы и на время превратился в любящую, хотя и довольно нетерпеливую сиделку. Но какими же долгими показались ему часы вынужденного бездействия! Вспыльчивый, властный деспот, он был готов пожертвовать многим ради своей обожаемой возлюбленной, однако просто сидеть сложа руки у ее постели - это было для него нестерпимой мукой! Но надо было покориться судьбе! Карикл прописал августейшей больной отдых и полный покой. С другой стороны, Друзиллой владели сонливость и слабость: она не могла и не хотела говорить ни о чем, даже о его планах и о праздниках, которые он хотел устроить в ее честь! Вот почему он то вставал и медленно прохаживался по комнате, то возвращался на прежнее место, где, положив ногу на ногу, и нервно теребя свою короткую бородку, мысленно жаловался на то, что так долго тянулось время. Думал ли он о чем-нибудь другом, находясь у ложа своей страдающей и горячо любимой сестры? Вспоминал ли зло, которое причинял людям? Видел ли слезы и кровь Эннии Невии, пролитые по его жестокой прихоти? А может быть, перед его внутренним взором проходили по очереди Юлий Силлан, Сарторий Макрон и множество других людей, ставших безвинными жертвами его свирепого нрава? Или, может быть, он задумывался о той противоестественной, порочной связи, которая существовала между ним и его родной сестрой? Опасался ли он мести богов? И какие клятвы им давал, умоляя отвести беду от Друзиллы?
Кто мог бы рассказать об этом?
Постепенно стало смеркаться. Калигула все чаще и чаще нащупывал пульс Друзиллы, припадал к ее груди, прислушивался к дыханию. Увы! Не было никаких признаков выздоровления.
- Ничего… ничего… Кто знает, может быть, Карикл увидит то, чего я не вижу. У меня самого слишком бьется сердце. Не передается ли мне болезнь моей обожаемой Друзиллы?
Так говорил себе Калигула, когда служанка внесла притушенную лампаду, осветившую сумрачную комнату. И вдруг при ее слабом свечении Калигула заметил, что болезнь не только не прошла, но наоборот - проявилась еще отчетливей и во впалых глазах, и во всей изможденной фигуре несчастной. Он приказал срочно вызвать Карикла. Явившись, тот выпустил полтазика крови из ее левой руки и посоветовал не пугаться, если больная начнет бредить: без сомнения, ее здоровью угрожала большая опасность. Однако врач не терял надежды и, пообещав предпринять все, что в его силах, попросил Калигулу созвать на консилиум лучших лекарей Рима.
- Разве ты не знаешь, что я полностью полагаюсь на тебя? - удивленно спросил император.
- Увы, божественный Гай, в данном случае, я сам не могу положиться на себя, - грустно ответил Карикл.
Услышав это, Калигула вышел в соседнюю комнату, чтобы отдать необходимые приказания. Там неподвижно сидели Калисто, Геликон, Авл Вителий, Луций Кассий, Протоген и Мнестер. Как раз в эту минуту из противоположной двери к ним вбежала Агриппина.
- Жизни твоей сестры грозит опасность, а ты веселишься с этим безмозглым Аннием Сенекой или с этим негодяем Эмилием Липидом, - сквозь зубы процедил Калигула.
- Я не знала, - покраснев, стала оправдываться Агриппина, - мне только что сообщили об этом злополучном событии.
- Что? Распутница! - неожиданно закричал Калигула и отвесил сестре звонкую пощечину. - Как ты разговариваешь со своим повелителем?
Присутствующие оцепенели. Агриппина побледнела и, уставившись на брата, схватилась за левую щеку. Ее глаза блеснули, как меч, вынутый из ножен при ярком солнце. Не обращая внимания на этот взгляд, Калигула свирепо прошипел:
- Вы все! Молите богов, чтобы Друзилла поправилась!
Не проронив больше ни слова, он исчез за дверью, ведущей в покои сестры. Окаменев от испытанного унижения, Агриппина с нескрываемой злобой посмотрела ему вслед. Вихрь мыслей о мести и о кровавой расправе с обидчиком пронесся в ее мозгу. Затаив смертельную ненависть к брату, она тоже молча вышла из комнаты.
Спустя два часа прославленный римский врач Веций Валент и два других знаменитых наследника искусства Гиппократа, грек и халдей[123], собрались на консилиум возле постели Друзиллы. В глубине спальни стояли Ливия и Агриппина, к которой уже вернулась ее обычная невозмутимость. Рядом с ними в неподвижной позе застыла служанка августейшей больной.
Отдельно от всех переминался с ноги на ногу растерянный Калигула. Теребя правой рукой свою круглую бородку, он пытливо всматривался в лица врачей. Слушая Карикла, делившегося с ними своими наблюдениями, служители эскулаповой науки по очереди наклонялись к его пациентке, прикладывая ладони к ее лбу, осматривали язык, вздыхали и продолжали молча слушать коллегу. Лишь однажды, когда Карикл, процитировав на память соответствующие строки из «Трактата о болезнях» Гиппократа, предложил прослушать легкие несчастной девушки, Веций Валент, усомнившийся в пользе такого совета, поморщил нос и иронически подмигнул греку.
- Во имя всех богов! - недовольно воскликнул вавилонский врач.
- Не мешайте слушать.
- Да, да! - подхватил смутившийся грек. - Но главное, нужно обратить внимание на внешние признаки, самые достоверные из всех, что известны науке и богам.
Наконец, после долгого наблюдения за бедной Друзиллой, все четыре врача удалились в соседнюю комнату, где тщательно исследовали кровь, взятую недавно из вены августейшей больной. В результате этого заключительного осмотра грек и халдей выразили единодушное мнение о чрезвычайно тяжелом состоянии принцессы и о необходимости нового кровопускания. Валент и Карикл, немного поколебавшись, согласились с ними. Однако, не успели врачи как следует обсудить методы предстоящего лечения, как в комнату ворвался измученный неизвестностью император и, с мрачной подозрительностью оглядев каждого из четверых, потребовал рассказать, к каким выводам они пришли. Узнав, что случай оказался очень серьезным, Калигула обхватил руками голову и принялся яростно проклинать всех богов и людей.
Задумчивый и печальный, Карикл вернулся в спальню Друзиллы, которой делали уже третье кровопускание. Несмотря на это, лихорадка не проходила. Более того, состояние больной заметно ухудшилось: дыхание стало затрудненным, появился кашель с кровью. Прекрасное лицо Друзиллы пылало от жара, сжигавшего ее изнутри, нежные глаза светились нездоровым блеском, она задыхалась и все время жаловалась на невыносимую духоту. Так прошла эта долгая ночь, оставившая неизгладимый отпечаток в душе Калигулы.
Впрочем, к утру больной стало немного легче, и она заснула.
Надежды Калигулы, Агриппины и Ливиллы, почти уничтоженные неутешительным диагнозом врачей, начали снова возрождаться. У них создавалось обманчивое впечатление, что опасность миновала. Мало-помалу лихорадка стала спадать, к Друзилле вернулся ее обычный цвет лица, хотя и выглядела она такой изможденной, словно проболела двадцать дней. Несчастная девушка уже не задыхалась, а проснувшись, даже смогла обнять сестер и ласково поцеловать просиявшего Калигулу, у которого от радости из глаз хлынули слезы умиления, поразившие всех, кто их видел: никто и не подозревал, что за лютым нравом этого юноши таилась такая нежная и любящая душа. Вскоре Друзилла стала такой же разговорчивой, как и прежде. Забыв предостережения врачей, она говорила без умолку о себе.
- Знаешь, Гай, мне гораздо лучше, - повторяла она, откинув покрывало на своем ложе, - да и как могло быть иначе? Я же так молода, мне всего двадцать лет. Было бы ужасно несправедливо, если бы я умерла. Я ведь не умру, правда? Я скоро поправлюсь, да, мой милый Гай?
- Ну, конечно, в этом нет никаких сомнений, моя обожаемая богиня! Только не надо слишком много говорить. Тебе необходим покой. Будь спокойна, твой верный Гай любит тебя. Ты - вся моя жизнь, я живу только для тебя.
- Хорошо, Гай, хорошо, я больше не буду говорить, - прошептала она, погладив руку императора своей горячей рукой.
Закрыв глаза, она умолкла, но через минуту снова тревожно зашептала:
- Мне страшно… Я боюсь смерти… Я не хочу умирать…
- О моя божественная, не произноси этого слова. Молчи, молчи. Ты ведь только что обещала не говорить.
Друзилла снова умолкла, но опять ненадолго.
- Только одно слово… Прошу тебя, Гай, прикажи во всех храмах принести жертвы за мое выздоровление. Я боюсь за свою жизнь. Всю прошлую ночь я думала об этом.
Калигула пообещал выполнить ее просьбу и, выйдя в соседнюю комнату, велел консулам отправить послания во все жреческие коллегии, чтобы те распорядились о немедленных жертвах и подарках божествам.
Однако было уже поздно. В два часа пополудни новый приступ лихорадки, так и не прошедшей полностью, сразил бедную Друзиллу. К вечеру уже начались сильный бред и галлюцинации. Ночь принесла ей страдания невыносимые. Вместе с ней мучались и все те, кто находился рядом с ее постелью. Ее жалобы и страхи, горячечное возбуждение, обессиливавшее ее, и жар, которого никто не мог унять, приводили в отчаяние и Калигулу, и Агриппину, и Ливиллу. Тщетно врачи пытались спасти ее, пробуя все известные им способы лечения. Напрасно длинные процессии матрон, патрициев и плебеев направлялись во все храмы, чтобы там посвятить жертвы и подарки. Болезнь развивалась стремительно, и к середине следующего дня Карикл, дрожа от страха за собственную жизнь, был вынужден объявить императору, что только чудо сможет теперь предотвратить ее кончину.
Все окрестности Палатина были заполнены плачущими людьми, которые справлялись о здоровье августейшей больной и давали обеты в честь ее спасения. Весь Рим глубоко переживал болезнь Друзиллы: каждый, что входил в город в это время, был поражен царившими в нем обреченностью и печалью, словно над римлянами нависла какая-то неотвратимая беда. И чувства горожан были искренними: Друзиллу любили за нежность, красоту и щедрые милости, о которых знали или слышали в народе. Кто-то питал к ней такие же добрые чувства, какие вся империя испытывала к роду прославленного Германика. Кто-то ценил то благотворное влияние, которое она оказывала на своего свирепого брата. Большинство же людей были уверены, что смерть Друзиллы еще больше ожесточит Калигулу, и уже никто не сможет смирить его безудержной кровожадности. Но, несмотря на чистосердечные пожелания и обеты целого города, Друзилла, испытав страшные муки трехчасовой агонии, к вечеру скончалась на руках императора, еще долго безутешно рыдавшего, проклинавшего весь свет и не перестававшего покрывать поцелуями мертвое тело своей сестры и любовницы.
Потребовалось немало усилий, чтобы упросить его покинуть комнату. Цезарь впал в безумие, продолжавшееся много дней и ночей, в течение которых от него ни на шаг не отходили все участники недавних императорских оргий: Протоген, Калисто, Мнестер, Апелл, Вителий, Луций Кассий и Геликон.
Когда же разум его прояснился, то он первым делом распорядился о роскошном погребении Друзиллы, собравшем почти всех магистратов, сенаторов, патрициев, всадников, знатных дам и больше полумиллиона римских граждан. А перед тем, как траурная колесница отправилась в путь, Клавдий Тиберий Друз, тяжело переживавший потерю племянницы, выступил с проникновенной речью, заканчивавшейся словами:
- Сенат и консулы предлагают оказать божественные почести дочери Германика!
И в тот же вечер на собрании в курии сенатор Ливий Гемин, усердно восхвалив твердость и силу духа Калигулы, который сумел вынести такое суровое испытание, ниспосланное ему богами, поклялся в том, что своими глазами видел, как покойная сестра императора вознеслась на небо. Сенат тут же постановил, что новой богине нужно возвести алтари и посвятить Друзилле отдельные религиозные обряды. К этому декрету Калигула добавил указ о том, что в честь его обожествленной сестры должны быть воздвигнуты храмы во всех больших городах империи. Кроме того, он пожелал, чтобы весь римский народ разделил с ним его безутешное горе, тем самым доказав преданность своему несчастному повелителю. И вот, с готовностью исполнив его волю, все магистраты и большинство граждан оделись в траур.
После этого Калигула замкнулся в себе. Восемнадцать дней он не выходил из дворца Тиберия. Ненадолго появляясь в триклинии, он равнодушно принимал пищу и снова затворялся в своих покоях. Никакими стараниями друзей или родственников нельзя было нарушить мрачной отчужденности Цезаря. Говорил и думал он только о Друзилле, вспоминая те или другие ее слова и поступки. Обычно часами пролеживая на софе, он вдруг резко поднимался и начинал метаться по комнате, а то, увидев какую-нибудь вещь, принадлежавшую Друзилле, покрывал ее поцелуями и вновь заливался слезами. Порой медленными, неуверенными шагами он выходил в коридор или в сад и, всхлипывая, звал сестру, прося ее вернуться. Наконец, на девятнадцатый день, вняв уговорам или, может быть, побуждаемый какими-то иными устремлениями, он собрал самых верных людей из своего окружения и неожиданно объявил:
- Итак… мы немедленно отправляемся в Кампанию[124].
А пока слуги готовили багаж и повозки, он поманил пальцем Вителия, Протогена и Луция Кассия.
- Вы же, друзья мои, останетесь в Риме и будете выполнять одно очень важное поручение, - сказал Цезарь, когда они, вытянув шеи, замерли перед ним. - В мое отсутствие вы распустите слух, что император сражен внезапным сердечным приступом. За эти восемнадцать дней я сделал все, чтобы римляне поверили подобному известию. Затем вы будете ходить по городу и прислушиваться к разговорам патрициев и знати. Сморите, не пропустите ни одного магистрата, ни одного жеста, ни одного слова! Когда я вернусь, вы передадите мне все, что думают эти изменники в тогах и в туниках. Сведения, которые вы добудете таким образом, пойдут на пользу и мне, и вам. Цезарь не забудет ни тех, кто предаст его, ни тех, кто докажет свою верность… Вам все ясно?
Все трое понимающе переглянулись и, поклонившись, сказали, что император может на них положиться. Не прошло и двух часов, как Калигула, одетый в траурный наряд, который ничем не выделял его среди других горожан, уже мчался по Аппиевой дороге, ведущей из Рима. За ним и его небольшой свитой выступили когорты преторианцев; еще позже к ним присоединилось все окружение Гая Цезаря Августа.
Тридцать шесть дней прошло с тех пор, как умерла Друзилла. Последние восемнадцать из них римляне думали, что Калигула лечится в Сиракузе[125], а потому немало удивились его неожиданному появлению в городе. За это время сильно изменилась внешность Цезаря: у него отросли борода и шевелюра, лицо осунулось и стало еще бледнее, чем прежде, теперь он постоянно хмурил брови и с каким-то мстительным выражением лица поджимал губы. Ни один человек из его окружения не мог сказать, что с ним случилось. Говорили только, что, пробыв десять дней в Кампании, император действительно отправился в Сиракузы, но, не проведя там и двух часов, приказал срочно ехать в Рим, и за весь путь не сделал ни одной остановки.
Придя на следующее утро в сенат, он с самым несчастным видом пожаловался отцам города на то, что, судя по многим огорчительным сведениям, некоторые горожане воспользовались его отсутствием для того, чтобы публично оскорблять Цезаря и его семью. В ответ на эти слова среди сенаторов пронесся возмущенный ропот. Похвалив патрициев за их благородный гнев, Калигула спросил, какого наказания они желают для таких подлых изменников.
- То, которое ты сам назначишь!
- Это оскорбление высочества!
- Негодяи! Преступники!
- Не будет для них пощады!
- Казнить их как изменников!
- Кто они? Назови их сейчас же!
- Где имена этих негодяев?
Так выразили свое мнение почти все сенаторы, усердно старавшиеся доказать преданность прицепсу. Тогда, достав из-под полы тоги большой список с именами уличенных в неверности, Цезарь объявил, что все эти преступники, заслуживающие равно беспощадной кары, подразделяются на две категории: те, кто после смерти Друзиллы устраивал пиры или, показывая неуважение к его горю, пребывал в благостном расположении духа, и также те, кто при всем народе осмеливались сожалеть о смерти его сестры и, следовательно, были опечалены тем, что ее возлюбили сами верховные боги, позволившие своей избраннице вознестись на небо. Когда же император назвал имена тех, кого считал виновными в подобных злодеяниях, то отцов города охватила паника: почти все эти имена принадлежали присутствовавшим в курии и если кто-либо из них не был уличен в недостаточном соболезновании трагической кончине Друзиллы, то он непременно осуждался в чрезмерной скорби по тому же поводу. Тщетно шестьдесят несчастных сенаторов, попавших в проскрипционный список, клялись в своей верности престолу и умоляли пощадить их жизнь, все было бесполезно! Калигула твердо заявил, что эти глупцы сами решили свою участь, когда просили его покарать злоумышленников.
Так, заранее приготовив ловушку для шестидесяти самых знатных граждан Рима, Калигула приговорил их к смертной казни и конфисковал все их имущество.
Затем он щедро вознаградил троих доносчиков и Ливия Гемина, который еще раз подтвердил, что собственными глазами видел Друзиллу, возносившуюся на небеса. Еще позже Калигула вернулся во дворец Августа и сказал свите, что вечером будет большая оргия.
- Если смертным не дано бороться с лишениями, которые им посылает судьба, то приходится думать о том, как не умереть от горя и не оставить без присмотра целую империю, - добавил он, пригласив к себе Лицицию, Пираллиду, Альбуциллу и других известных римских куртизанок.
В тот же день Калигулу навестил сенатор Гай Кальпурний Пизон, горячо упрашивавший императора почтить своим посещением его бракосочетание с юной Ливией Орестиллой. Узнав, что свадьба назначена на завтра, Калигула принял приглашение. Всю ночь он провел в разнузданнейших увеселениях, а наутро, одетый, как Зевс Лацальский, с золотой молнией в руке и с великолепной тиарой на голове, уже стоял перед домом Пизонов. Легко представить, как возликовал Гай Кальпурний: видеть на своей свадьбе самого императора Гая Цезаря было заветной мечтой любого патриция. Пылко поблагодарив гостя и его свиту за оказанную честь, он позвал своих родственников, и все они направились к дому Ливии, расположенному на улице Карино. Их уже давно ждали, а потому сразу провели в триклиний, где их встретила невеста, окруженная родственниками и друзьями. Ливия Орестилла оказалась совсем юной, очень стройной шестнадцатилетней девушкой. Черноволосая и черноглазая, она была похожа на хрупкий, только что распустившийся цветок: свежесть ее лица оттеняли нежные пушистые ресницы, под которыми лучезарно светились огромные выразительные глаза, яркие губы были слегка приоткрыты, тонкие изящные руки не носили почти никаких украшений. Густые волосы молодой римлянки искусная служанка тщательно уложила вокруг головы и покрыла свадебной вуалью, поверх которой другая служанка надела венок из вербены. Ее худенькую фигурку плотно облегал белоснежный брачный наряд. Желтые котурны делали ее немного выше ростом. Когда молодые обменялись всеми торжественными приветствиями, положенными по обычаю, и когда отец и мать девушки поблагодарили императора за то счастье, которое он им подарил, согласившись присутствовать при таком радостном событии, и когда рабы предложили гостям лакомства и напитки, Гай Кальпурний Пизон приблизился к невесте, по древней традиции державшей за руку мать, изображая страх перед суженым, а он, в свою очередь исполняя положенную ему роль в свадебном ритуале, с силой потянул ее к себе и властно произнес:
- Иди ко мне, Ливия! Ты должна быть моей.
- Нет… нет… Мамочка, защити меня, - воскликнула Орестилла, еще сильнее прижимаясь к своей родительнице.
Наконец Пизон вырвал Ливию из рук матери и, сопровождаемый гостями, повел по коридору в атрий. Когда они вышли из дома, то к процессии присоединились слуги, несшие золотую шкатулку с туалетными принадлежностями Орестиллы и прялку с пряжей, на которой висело веретено. Не переставая отвечать на поздравления горожан, молодые пересекли Авентинский холм и подошли к храму Дианы Повелительницы, где их поджидали жрецы, авгуры[126] и предсказатели. Через час они поведали о будущем молодых. Авгуры вырезали из жертвенного животного желчный пузырь, и, осмотрев его, объявили, что все магические знаки благоприятны для брака. Печень они поджарили на огне жертвенника и, как подарок от Юноны Прародительницы, разделили между женихом и невестой. Пока молодые были заняты свадебной трапезой, Калигула, зевнув, обратился к отцу невесты Постумию Ливию:
- Никогда бы не подумал, что в наше время еще выходят замуж по любви. До сих пор я видел только браки по расчету и по принуждению.
- Увы, ты прав, божественный Гай, - ответил Постумий, - сейчас девушки слишком рано начинают задумываться о собственной выгоде. Но богам было угодно, чтобы в нашем роду судьбу девушек решал Гименей.
- Знаю, знаю, - перебил его Калигула, еще раз зевнув, - хотя и не понимаю, почему узы Гименея лучше, чем власть какого-нибудь другого бога.
Помолчав, он добавил:
- Но все равно поздравляю тебя, почтенный Ливий. Твоя дочь просто очаровательна.
- О, Август! Да отблагодарят тебя все боги за твои добрые слова! - почтительно произнес Ливии, с трудом скрывая страх, вызванный в нем словами императора.
- Ну, что ты! Мне она действительно нравится, твоя непорочная дева!
Брачная церемония отняла довольно много времени. Только к вечеру праздничное шествие покинуло храм Лионы. Предшествуемые множеством друзей и родственников, державших в руках зажженные факелы, молодые направились домой. Согласно обычаю, невесту взяли под руки две маленькие девочки из благородных семей, у которых были живы оба родителя. Третья девочка шла впереди и освещала дорогу сосновым факелом. Следом за ним рабы несли предметы домашней утвари и подарки на шелковых подушках.
- Ох! Дядюшка Клавдий! - удивленно воскликнул Калигула, увидев супруга Мессалины, который только что вышел из храма и остановился, чтобы перевести дыхание. - Ты тоже здесь? Ты, променявший библиотеку на битвы гладиаторов, на скачки в цирке и на игры преторианцев в их казармах. Ты, наверное, решил отныне не пропускать ни одного события в городе! А как же «История этрусков»? Ха-ха!
- Я? О божественный Гай! Да я и не думал, - смутился Клавдий. - Так, случайно проходил мимо… извини меня, если…
- Да за что же тебя извинять, старый ты дурачина!
Калигула грубо расхохотался, а потом добавил:
- Бедняга. Всего-то ты боишься. Помолчав, он спросил:
- Кстати, как великий знаток истории, ты, наверное, сможешь мне объяснить тайный смысл этих предметов, которые несут рабы?
- А! Эти тряпки, веретено и шерсть значили многое в те давние времена, когда женщина была в доме и хозяйкой, и работницей, - приободрившись, ответил Клавдий. - Ведь наши предки не брезговали никакой черной работой.
- Ох, как же они были скучны, эти честные и доблестные прародители римского народа! - еще раз зевнув, обронил Калигула.
- Увы, это так, божественный Цезарь.
- Но это же невыносимо - жить одними добродетелями! Не позволять себе ни веселья, ни разводов, ни любовниц! Да как же они жили?
- Этот вопрос мне задавали многие, и я сам иногда спрашиваю себя об этом.
- Многое я дал бы за то, чтобы вернуться на четыре века назад и хоть несколько дней посмотреть, как они питаются своим шпинатом или трюфелями. Клянусь Геркулесом Мусагетом, что ты бы там похудел и шатался, как старая жердь!
- Еще бы! - улыбнулся Клавдий. - От такой диеты я бы через месяц протянул ноги!
- А что значит этот сосновый факел, который девочка несет перед невестой?
- О! Он когда-то обладал, а может, и сейчас обладает большой магической силой против ворожбы и дурного глаза. Вот увидишь, когда мы придем домой, все друзья и родственники станут вырывать его друг у друга.
- Это что, тоже доброе предзнаменование?
- Да, сосновый факел сулит долгую жизнь молодоженам, а кроме того, в этот момент он приносит счастье всем, кто держит его в руках.
Калигула странно улыбнулся и, словно разговаривая с самим собой, пробормотал:
- Забавно, честное слово. Смех, да и только.
Они приблизились к дому жениха. Портик, ведущий к нему, был украшен гирляндами плюща и мирта и цветочными венками. Цветами был покрыт и вход перед атрием, а на косяках дверей висели клочья шерсти, смоченной маслом и жирами.
- Эй ты, археолог! - обратился удивленный Калигула к Клавдию. - А шерсть-то зачем? И почему ее испачкали жиром?
- А это тоже от сглаза, - ответил Клавдий, довольный тем, что мог показать свою эрудицию. - Считается, что шерсть, смазанная свиным и волчьим жиром, предохраняет от дурных намерений.
- Какая ерунда! - с ухмылкой буркнул Калигула. Тут началась борьба, предвиденная супругом Мессалины. Самые молодые гости бросились к сосновому факелу и под аплодисменты всех присутствующих стали вырывать его друг у друга. Когда закончилось это веселое состязание, Луций Кальпурний, Пизон встал у входа в дом и спросил у Ливии Орестиллы:
- Кто ты?
- Я Гая, - застенчиво ответила девушка.
- А что тебе нужно?
- Я хочу быть с тобой, Гай, - так же робко произнесла Ливия.
Тогда Луций Пизон взял на руки свою невесту и, внеся в атрий, сказал:
- Ты будешь моей Гаей там, где я буду Гаем.
- А почему они называют друг друга Гаей и Гаем, - вновь удивился Калигула, - если их имена Луций и Ливия?
- Это обращение зародилось в те давние времена, когда правил Сервий Туллий. Наш всезнающий Терренций Варрон в своем знаменитом труде «О латинском языке»[127].
- Знаменитом и скучнейшем! Никогда не мог осилить больше двух страниц этих нудных поучений, - нетерпеливо перебил его император.
- Ты прав, божественный! Книга скучнейшая, но поучительнейшая, - продолжал Клавдий. - Например, она рассказывает о древней повелительнице Транквилле, которая называла себя Гаей. От нее и пошло это ритуальное выражение, означающее: «Я твоя невеста и там, где ты будешь хозяином и отцом семьи, я хочу быть хозяйкой и матерью». А когда жених вносит на руках невесту в дом, то он как бы напоминает о самых первых римлянах, похищавших женщин у сабинян[128].
- Воровское племя, вот кто наши предки! - воскликнул Калигула.
- Пожалуй! Но без применения силы и хитрости они не завоевали бы весь мир.
- О да, они захватили все земли и моря! После них не осталось места для настоящих подвигов! - взволнованно произнес Калигула и, ненадолго задумавшись, повторил:
- Ох, и воровское же племя!
Тем временем мать жениха окропила водой невесту, а отец вручил ей ключи от дома.
- Нужно украсть очень много, чтобы преступление стало добродетелью, - пробормотал Калигула, словно продолжая какую-то свою мысль.
Свадебный обряд продолжался. Большая часть гостей была уже в атрии, где невесту усадили на мягкую звериную шкуру. Затем Луций Пизон и Ливия Орестилла по очереди коснулись воды и огня на алтаре домашних Ларов. И только тогда все приглашенные вошли в просторный триклиний, озаренный разноцветными светильниками и украшенный большими гирляндами благоухающих цветов.
Несмотря на вместительность зала, за тремя столами могли усесться только восемнадцать из пятидесяти четырех гостей, присутствующих на празднике. Ими оказались префект претория Руф Криспин, Калисто, Протоген, Авл Вителий, Луций Кассий, Марк Мнестер, Апелл и сам император. Кроме них, на ложах устроились консулы Юлиан и Аспренат, два эдила - Флавий Веспасиан и Домиций Энобарб, а также Тиберий Клавдий с сенаторами и консулами, дружившими с семьями молодых.
Пока участники торжества занимали свои места, император поманил пальцем Руфа Криспина и что-то прошептал ему на ухо: префект претория тотчас покинул комнату. Отдав приказание, Калигула сел на почетное место возле невесты, по правую руку от которой расположился ее суженый.
В триклинии появились молодые рабы в подоткнутых одеждах, принесшие бронзовые блюда с устрицами. Одновременно с ними в глубине зала заиграли флейты и свирели: там небольшой оркестр начал исполнять музыку эпиталамы[129]; когда запели двенадцать певцов, ударивших в тимпаны, то многие гости подхватили слова гимна, посвященного жениху и невесте.
И едва были допеты первые строфы, как все, кто находился рядом, хором закричали: «О Гименей, Гименей!» Посреди этого веселья в триклиний вернулся Руф Криспин и чуть заметно кивнул головой Калигуле, который вопросительно посмотрел на него. Тогда император встал и, повернувшись к жениху, громко произнес:
- Ты счастливый человек, Пизон! У тебя такая очаровательная невеста, а я до сих пор остаюсь вдовцом.
Певцы начали исполнять следующие строфы эпиталамы, но ни Орестилла, ни Пизон, ни сидевшая рядом с ними Мессалина уже не подпевали, а молча смотрели на императора. Когда прозвучали новые слова гимна, то отовсюду послышались крики:
- Невесту на ее законное место!
- Да, да!
- Невесту на ее законное место!
- На колени Пизона!
- На колени суженого!
Немного подождав, Луций Кальпурний сказал покрасневшей девушке:
- Ну, любимая моя… Сядь. Этого требует обычай. Давай исполним свадебный ритуал.
С этими словами он обхватил руками талию суженой и хотел было усадить Орестиллу к себе на колени, как вдруг Калигула резко встал из-за стола и, грубо ударив по рукам Пизона, закричал:
- Прочь руки от моей жены!
Гости ошеломленно замолчали. По залу пронесся ропот возмущения.
- Что? Божественный Цезарь, ты сказал, что она… - едва сдерживая гнев, прошептал побледневший Пизон.
- Я сказал, что она моя жена, - повторил Калигула и, обняв растерявшуюся Ливию, крепко прижал ее к себе.
Видя, с каким угрожающим видом Луций Пизон поднялся на ноги, император бросил взгляд на всех собравшихся и крикнул во все горло:
- Ах так! Во имя Зевса! Здесь кто-то не желает признавать мою волю? Кто против меня? А ну, покажись!
Отец Луция Пизона бросился к сыну: вместе с несколькими друзьями и родственниками он схватил его за руки, поняв, какая беда нависла над всеми присутствующими. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только шепотом тех, кто пытался успокоить жениха. Этой заминкой воспользовался Руф Криспин, проговоривший в сторону главного входа:
- Мать-владычица!
В описываемые времена такими словами отдавали приказы городской страже. И стоило им прозвучать, как в зал триклиния ввалилась целая толпа преторианцев. Тогда Гай Цезарь взял под руку сраженную, подавленную случившимся Ливию Орестиллу и властно произнес:
- Во имя всех богов! Вы должны радоваться, что я выбрал невесту Пизона, а значит, одобрил его вкус, равного которому нет во всей империи. Среди ее подданных, разумеется. Радоваться должны и родители девушки. И уж, конечно, все остальные должны подчиниться воле синьора! О моей обожаемой Ливии Орестилле я не говорю - она больше всех рада переменам в своей судьбе, позволившим ей стать самой избранной женщиной в мире.
Весь зал затаил дыхание. Бедный Пизон забился в угол и закрыл лицо руками. Родители и друзья невесты пробовали приободрить Ливию. Наконец некоторые перепуганные гости стали поздравлять божественного Цезаря и благодарить его за совершенное благодеяние.
- Ну, не буду мешать вашему веселью, - прибавил Калигула, ведя Ливию к выходу, - продолжайте застолье. Что касается меня и моей жены, то мы закончим ужин во дворце Тиберия. Прощайте, оставайтесь на своих местах.
Он зловеще усмехнулся и вышел из зала, сопровождаемый свитой и откровенно ревнивым, злым взглядом Мессалины, которая не удержалась от того, чтобы не прошептать на ухо Клавдию несколько язвительных замечаний о дурном вкусе императора. На улице он спросил у Ливии, безмолвно следовавшей за ним:
- Ну? Понравилась тебе моя шутка?
Все, кто был рядом, захохотали и принялись наперебой расхваливать поступок Калигулы.
- А что я сделал? В конце концов, я лишь последовал примеру Ромула и Августа[130], которые таким же образом обзаводились женами, - сказал он и, остановившись перед дрожащей Ливией, ласково добавил:
- Моя очаровательная Ливия… Восхитительная моя… Ты меня не боишься, не так ли?
- Ах… Сказать по правде, не очень. Я больше удивлена, - прошептала Ливия.
- Еще бы! Такая неожиданная честь! Ты, наверное, и не мечтала о подобной удаче? Вот почему ты немного дрожишь?
- Да, - слабым голосом отозвалась Ливия Орестилла.
- Будь же послушной, кроткой, люби меня, и будешь счастлива. Ты ведь знаешь, что я нежен с теми, кто любит меня, и беспощаден к тем, кто перечит мне.
- О! Знаю… знаю, мой синьор! - прошептала Ливия.
- Нет, нет! Я не просто твой синьор, как для всех подданных империи! Ты должна звать меня: Гай, супруг мой.
- Да, мой синьор, но… но… у меня не хватает храбрости.
- Моя любовь поможет тебе. Мои ласки, мои поцелуи дадут тебе силы.
- Ох, я боюсь… Я боюсь поверить в это.
- Как? Ты сомневаешься, что идешь с Гаем Цезарем в дом, где тебя ожидает брачное ложе?
- Ох! Прости меня, божественный император! Я неопытная девушка. Должно быть, я кажусь тебе совсем глупой, но ты ведь знаешь, я не была готова к подобной чести и к императорскому ложу. Ох, прости меня, я сама не понимаю, что говорю!
- Бедная девочка, как мне нравится твоя робость и застенчивость! Ты так трогательна и невинна, что я сгораю от желания заключить тебя в свои объятия! Увидишь, через несколько часов от твоего страха не останется и следа.
- Ох, божественный Гай! - теряя последние остатки самообладания, сказала девушка, крепко ухватившись за руку Калигулы.
Внезапно она испугалась мысли о том, что может потерять и этого нежданного жениха, всемогущество которого все-таки было способно утешить ее раненое самолюбие. Помолчав, она добавила
- Надеюсь, что боги помогут мне сохранить благосклонность моего синьора.
Как раз в это время они приблизились к дворцу, в триклинии которого было приготовлено небольшое застолье. В течение короткого ужина Калигула только и делал, что обнимал и ласкал Орестиллу, которая понемногу пришла в себя и даже развеселилась. Когда в первом часу ночи император встал из-за стола и объявил о своем намерении уединиться вместе с женой в брачных покоях, то Ливия со спокойной улыбкой проследовала за ним. Если сначала она хмурилась при воспоминании о бедном Пизоне, то теперь и думать забыла о нем, словно того вовсе никогда не существовало.
Наутро весь город только и делал, что говорил о событии, происшедшем в доме Кальпурниев. Римляне были потрясены случившимся, но негодовали главным образом не они, а римлянки, оскорбленное женское достоинство которых находило выход в резких осуждениях и обличительных тирадах.
- Ну, какова пройдоха! Вот ведь какая хитрая лисица, всех одурачила! Да не лисица, а дохлая кошка, чтоб ей пусто было! С ее-то манерностью, с ее-то жеманностью! Строила из себя недотрогу, и вдруг в пять минут одурачила этого простофилю! - тут женщины понижали голос. - Этого безумца Гая Цезаря! Да ей просто повезло! Но кто бы мог подумать! Какая неслыханная удача, какая улыбка фортуны! Нет, в это невозможно поверить! Не иначе, как между императором и Ливией уже давно существовала связь! У них были самые интимные отношения! О Геркулес! Конечно, это же ясно, как белый день! Никакой сумасшедший, будь он хоть Калигула, хоть еще кто-нибудь, не мог бы так вот сразу взять и влюбиться! Да еще так, чтобы совсем потерять голову! И в кого! Да что она из себя представляет, эта Ливия Орестилла? Ничего! Таких, как она - сотни! А другие сотни еще и в сто раз красивей! - кипятились собеседницы, относившие себя, разумеется, к последним. Должно быть, император лишился рассудка после смерти Друзиллы. Ну разве заслуживает Ливия того, чтобы занять такое высокое место? Какой скандал! Какой неслыханный скандал!
Так говорили дамы, примеряя свои лучшие наряды и собираясь нанести визит вежливости новой императрице. Но прежде чем показаться этим знатным матронам, хозяйка Августовского дворца встретилась со своей матерью, которую успокоила рассказом о том, как нежен был с ней император и как она очарована им. У него оказалось даже больше достоинств, чем приписывала ему молва. Он ее по-настоящему любит. Ей очень жаль бедного Пизона. Она просит утешить его от своего имени и посоветовать ему найти другую жену, с которой он будет более счастлив и которую она готова заранее поздравить с прекрасным выбором. О себе же Ливия сказала, что, конечно, она никогда не мечтала о такой огромной чести, но раз богам было угодно устроить все так, как случилось, и раз ничего исправить уже нельзя, то она довольна хотя бы тем, что может быть полезна своим родителям и друзьям семьи.
В ответ на эти слова ее мать сказала, что очень рада застать свою дочь в добром расположении духа, что всю ночь переживала за нее, но, коль скоро будущее ни от кого не зависит, то она считает разумным покориться воле рока и воспользоваться всеми преимуществами нынешнего положения. Нужно благодарить богов, добавила она, что мужем ее любимой девочки стал император, а не какой-нибудь заурядный сенатор. Наконец, перейдя на шепот, она заметила, что все могло кончиться гораздо хуже и что в интересах того же Пизона, не говоря уже о семье самой Ливии, ей нужно поскорей забыть первого жениха и постараться сохранить благосклонность Цезаря.
Разговор матери с дочерью мог бы продолжаться и дольше, если бы Калигула, взбешенный получасовым отсутствием Ливии, не начал громко и настойчиво стучать в дверь. Робко попросив прощения за то, что заставила себя ждать, она вернулась в объятия императора. Торопясь на беседу с консулами и эдилами, Калигула попросил новую супругу надеть самый лучший наряд, какой можно было найти во дворце: ему не терпелось проехать по городу в колеснице со своей избранницей, чтобы все самые знатные матроны и девушки из самых благородных семей, увидев ее, лопнули от зависти. И спустя два часа Ливия Орестилла, одетая в великолепнейшую тунику и увенчанная сказочно дорогой диадемой, уже восседала бок о бок с Калигулой в изящной двухместной колеснице, запряженной четырьмя чудесными белыми скакунами, правил которыми сам император. Впереди повозки ехали конные преторианцы, а сопровождали ее сенаторы и наиболее знаменитые патриции. Их лошади громко цокали по каменным плитам мостовых. Справа и слева выстроились несметные толпы горожан, приветствовавших свадебный кортеж. Из открытых окон на императрицу дождем сыпались фиалки и венки; отовсюду слышались восторженные крики:
- Сальве, Ливия Орестилла Августа!
- Слава императрице Ливии!
- Да здравствует благословеннейшая из женщин!
- Ура Ливии! Вива Орестилла!
Девушка, столь неожиданным и странным образом вознесенная на трон Цезарей, сияла своей чудесной красотой, ее глаза светились от счастья, щеки горели ярким румянцем. Раздувавшиеся ноздри и дрожащие полуоткрытые губы говорили о том, что она упивалась этой поразительной победой, столь же пьянящей, сколь нежданной. В вечер ее триумфа был устроен роскошный пир, на который Калигула пожелал пригласить всех, кто днем раньше ужинал в доме Кальпурниев.
А пока таблий Цезаря заполнялся возбужденными голосами женщин и громким говором мужчин. Калисто, все больше и больше терявший голову от любви к Мессалине, стоял рядом со своей избранницей и объяснялся в чувствах к ней.
- Обожаемая Мессалина, когда же ты захочешь говорить со мной наедине? Ты моя повелительница, моя императрица.
- Тише, тише! - перебила его Мессалина, иронически улыбаясь, в то время как ее лоб и брови сурово нахмурились. - Не называй меня так, если не хочешь навлечь гнев своего хозяина. Ты должен величать императрицей только ту, ради которой устроен этот вечер. Мы здесь собрались ради нее. Тебе следует целовать сандалии Ливии Орестиллы Августы!
- Ох, не говори мне о ней, любимая Мессалина, я ее не переношу. Чего бы я не сделал, чтобы лишить ее всех почестей!
- Ты меня не обманываешь?
- Разве ты еще не убедилась, что нет? Я не могу тебе лгать, моя богиня!
- И ты действительно ее ненавидишь?
- Мне она не понравилась еще вчера, когда я впервые увидел ее. А сегодня я еще больше невзлюбил ее, когда заметил, что ты на нее злишься.
- О, как я ее ненавижу! - не в силах сдержать ярости, громко воскликнула Мессалина. - Я ее ненавижу так сильно, как люблю свою Оттавию, как люблю тебя, потому что я только вами двоими дорожу в этом мире.
- Ах, Мессалина! - дрожащим голосом перебил ее бледный и смущенный Калисто. - Не говори мне этого, не своди меня с ума здесь, среди всех этих людей, в присутствии которых я хочу пасть перед тобой ниц, обнимать твои колени, целовать следы твоих сандалий. О, как я хочу, чтобы рядом была только ты одна. Я ничего не прошу, позволь мне только лежать у твоих ног. Я буду тих, как ангел, и нежен, как голубь. Я буду служить тебе, как самый преданный раб!
Казалось, что и эти пылкие слова, и весь вид сгорающего от страсти, но все-таки покорного юноши глубоко тронул Мессалину, ее глаза затуманились.
- Прежде, чем кончится ужин, я тебе скажу, где и когда мы сможем встретиться, - тихо произнесла она и как бы невзначай добавила:
- И тогда я узнаю, хочешь ли ты помочь мне низвергнуть новую императрицу!
- Хочу ли я? - глухо переспросил Калисто. - За твою любовь я помог бы тебе, даже если бы обожал ее!
Как раз в это время рабы пригласили гостей к столу, но Мессалина показала Калисто знаком, чтобы тот не торопился, и еле слышно проговорила:
- Ровно в полночь я буду ждать тебя у входа в сад нашего дома. Ты сможешь попасть туда прямо из дворца Тиберия, если пройдешь по подземному ходу через портик за храмом Венеры Палатинской.
- Я знаю этот портик и этот подземный ход, - словно во сне пробормотал Калисто, но тут же опомнился и с жаром выпалил:
- О благодарю тебя, моя госпожа!
В то же мгновение она дернула его за руку: мимо входа в триклиний, возле которого они стояли, проходили Флавий Веспасиан с Цезонией Милонией, вдовой богатого всадника, которая была приглашена на вечер, как дальняя родственница Ливии. А пока гости заполняли триклиний, император беседовал с двумя архитекторами, отдавая последние указания по строительству нового дворца, что должен был протянуться от дома Тиберия до форума:
- Это будет величайшее сооружение в истории. Я хочу, чтобы храм Кастора и Поллукса служил входом в него. Но главное, возвести его надо хорошо и быстро. Возьмите пятьдесят тысяч рабов и немедленно приступайте к делу. Между замыслом и началом стройки времени должно пройти не больше, чем между выдохом и звуком. Понятно? Тогда ступайте.
Архитекторы почтительно склонили головы и по очереди поцеловав руку Цезаря, удалялись. Калигула же направился к входу в триклиний, где в эту минуту появился преторианский трибун, который по-военному отсалютовал и заговорил резким голосом, то и дело срывавшимся на фальцет:
- Божественный Цезарь, какие будут приказания страже?
- А, это ты, Кассий Херея? Когда ты, наконец, перестанешь говорить этим бабьим голосом? Нет, ты не трибун, у тебя даже бороды нет. Впредь называй себя так: Приап![131] Или еще лучше: бабий трибун! [IV]
Он грубо расхохотался и, повернувшись к Херее спиной, за которой мелькнуло покрасневшее лицо испуганного Луция Хереи, пошел в триклиний. Кассий Херея вздрогнул и на мгновение замер, словно на него вдруг вылили ведро помоев. Его лицо смертельно побледнело, но он сдержал себя и, еще раз по-военному поприветствовал удалявшегося Калигулу, не спеша повернулся, а затем ровным шагом вышел из триклиния. Только покинув дворец, трибун позволил себе вздохнуть полной грудью. Стоя на ступеньках, он до боли сжал правый кулак и, поднеся ко рту, вцепился в него зубами.
- Ах! Во имя Марса Мстителя! - прошептал он, дрожа всем телом, - ты еще увидишь, какой я бабий трибун!
Думая о том, как отомстить обидчику, он спустился по лестнице и пошел к лагерю преторианцев.
Ужин был роскошен: императорской казне пришлось потратить на него годовой доход от трех римских провинций. Тем не менее в начале двенадцатого часа Мессалина пожаловалась на сильную головную боль и, приложив немало сил, вывела из-за стола своего супруга, уже успевшего напиться.
- Пожалуй, у моего дяди голова болит еще больше, чем у тебя, - с усмешкой заметил Калигула.
Все, включая Клавдия, расхохотались над грубой шуткой императора. Смолчал только Калисто, который почувствовал, что прозвучавшие слова задевают честь и достоинство его избранницы.
Мессалина покраснела, но тут же справилась с собой и, маскируя ярость принужденной улыбкой, беззаботно ответила:
- Увы, я думаю, что подобным недугом в Риме сейчас страдают все отцы семейств.
- Исключая меня, - язвительно добавил Калигула.
- Может быть, - не успокаивалась Мессалина.
- Без «может быть», тетушка, - грозно протянул император.
- Но, уверяю вас, у меня вовсе не болит голова, - вдруг попытался вставить слово Клавдий.
Все гости дружно рассмеялись над его безуспешными стараниями выглядеть трезвым.
- А также без обид, тетушка Мессалина, - сказал Калигула. Ненароком опрокинув свое ложе, он поднялся на ноги, чтобы поцеловать руку Клавдиевой жены.
- Ну что ты! - ответила она, уже полностью овладев собой и улыбаясь самой обворожительной из своих улыбок. - Обиды между нами? Неужели ты подумал, что я могу обидеться на божественного Августа, своего повелителя?
И, коснувшись рукой его плеча, добавила:
- Ты не будешь против, если я поцелую Ливию Августу?
- Прошу тебя, ты доставишь удовольствие и мне, и ей.
Увидев приближающуюся к ней Мессалину, юная императрица встала и, искренне тронутая, простодушно пошла ей навстречу.
- Итак, Августа, со вчерашнего вечера ты стала моей племянницей! - произнесла Мессалина, ласково взяв ее за руки.
- Да, и наше родство я сочту за огромную удачу, особенно если ты хоть немного полюбишь меня.
- Я тебя люблю, и всегда буду любить тебя.
С этими словами Мессалина поцеловала Ливию в губы, а та от чистого сердца обняла свою новую тетю. И Клавдий с супругой покинули триклиний дворца. На улице полусонный историк этрусков пробормотал:
- До чего же странный у меня пле… племянник… этот божественный Цезарь! Он заставляет меня жаловаться на головную боль, когда, во имя Геркулеса, у меня ничего не болит!
- Твой племянник подлец, - тихо, но твердо произнесла Мессалина. - Если бы не добродетели его матери, Августы, то я бы подумала, что он не сын Германика.
- Как ты смеешь! - охваченный гневом и страхом, вскричал Клавдий. С силой сжав локоть супруги, он жалобно прошептал:
- Ты вынуждаешь меня донести на тебя!
- Ах так? Ну, давай! Ничтожный трус! Ты же сам во всем виноват!
- Я виноват? - растерянно переспросил Клавдий.
- Да, виноват, виноват, виноват! - несколько раз глухо повторила Мессалина и, помолчав, добавила:
- Ох, если бы я была мужчиной! Если бы я была братом Германика, клянусь тебе, бессильное ничтожество, что сейчас в моей руке был бы скипетр всего мира.
- Боги! Опять ты за свое! Что со мной будет? - оглядевшись, вздохнул Клавдий.
К счастью для него, дворец Августа был уже близко. Придя домой, Мессалина не стала слушать ни упреков, ни извинений Клавдия. Она сразу пошла в свои покои и заперлась изнутри. Клавдий уставился на дверь, которая захлопнулась за его супругой, и, почесав затылок, пробормотал:
- Ну, что ты будешь делать! Просто никому невозможно угодить!
Он позвал раба и с его помощью стал осторожно пробираться в спальни, бурча себе под нос:
- Не женщина, а фурия! Бешеная какая-то… О боги, что она со мной делает!
Время уже близилось к полуночи, когда он скрылся в своих апартаментах. А через полчаса дверь в комнату его супруги приоткрылась, и оттуда выскользнула Мессалина. Осторожно ступая по перистилию[132], она неслышно вышла из дома. В саду дул слабый ветерок, едва теребивший полы ее выцветшей голубой накидки. На индиговом куполе неба звезды блестели, словно серебряные головки воткнутых в него булавок. Стояла тишина, нарушаемая только пением сверчка да журчанием воды, льющейся из клювов мраморных лебедей в фонтане, который белел неподалеку. Мессалина направилась к воротам, где ее давно поджидал Калисто. Она протянула руку и после того, как юноша пылко, но безмолвно поцеловал ее, повела его в беседку, увитую плющом и вьюнками. Там Мессалина устроилась на одной из деревянных скамеек и чуть слышно произнесла:
- Садись, Калисто, и веди себя спокойно.
Однако либертин будто и не слышал слов Мессалины. Неподвижно стоя в двух шагах от нее, он был настолько погружен в себя, что, казалось, не различал ни фигуры своей возлюбленной, скрытой густыми сумерками, ни звука ее голоса. Тем не менее он всем телом ощущал ее присутствие, и оно приводило его в дрожь. Мысли отказывались служить ему. Он знал только то, что чувство, зародившееся в нем на празднике в Поццуоли, превратилось в неистовую, безумную страсть.
Эта женщина полностью покорила все его существо: в Рим он вернулся человеком, который не принадлежал себе. Все его желания, чувства и помыслы теперь находились под беспредельным влиянием Мессалины. Не было ничего, на что он не решился бы ради нее: он отказался бы от свободы, которой еще недавно дорожил больше всего на свете, и вновь стал бы рабом, он превратился бы в презренного сводника, в предателя, убийцу, без единого упрека пошел бы провожать ее на свидание с другим, не задумываясь, лишил бы себя жизни. И все это он сделал бы по первому ее требованию.
Калисто понимал и всю безнадежность своей любви, и ту безвозвратность, с которой он терял право распоряжаться собой. Это приводило его в отчаяние, но в то же время давало ему какое-то острое, болезненное наслаждение. Молча замерев перед ней, он благославлял судьбу за то, что она позволила ему быть рядом с этой умопомрачительно красивой матроной, вдыхать запах ее духов и, наполняя им легкие, упиваться каждым мгновением головокружительного ощущения ее близости. Его безмолвное оцепенение продолжалось довольно долго. Наконец Мессалина тихо спросила:
- Ну, Калисто, о чем ты задумался?
Словно очнувшись от звука ее голоса, юноша бросился на землю перед ней и, не говоря ни слова, принялся пылко целовать ее котурны и края одежды.
- Ох… Ради милости всех богов, успокойся, мой прелестный Калисто. Не надо. Прошу тебя, - слабо прошептала Мессалина, начинавшая бояться, что ее собственные чувства могут возобладать над рассудком.
Однако Калисто продолжал целовать ее руки и тело, пока, все больше ободряясь тем, что Мессалина не оказывала ему никакого сопротивления, не прильнул своими горячими губами к ее влажным губам. Они слились в долгом поцелуе. Лишь через несколько минут женщина отстранила от себя либертина, неутоленная страсть которого побудила его вновь упасть к ее ногам и, обвив руками колени матроны, прошептать задыхаясь:
- Вот мое место, я твой покорный раб. Разреши мне остаться здесь, положить голову на твои колени. Я чувствую себя, как в Элизиуме.
Он на самом деле склонил к ее коленям голову, погладив которую и положив обе руки на ее золотистую шевелюру, Мессалина проговорила:
- Успокойся… и выслушай меня… я люблю тебя… и не смогу разлюбить, даже если захочу.
- О благодарю тебя, моя госпожа, моя богиня, - прошептал либертин, снова целуя колени Мессалины.
- Увы, твоя богиня и госпожа сегодня несчастней, чем любая рабыня.
- Ты несчастна? Почему? Расскажи о своей беде, располагай всем, что у меня есть. О! Я самый богатый человек на земле, потому что все ее сокровища не стоят одного твоего поцелуя! Положись на мою руку, на мою голову. Я весь твой, весь принадлежу тебе.
И тогда Мессалина, не жалея красок и ласки, поведала либертину о недавней ссоре с Клавдием. Горько посетовав на свою несчастную судьбу, она рассказала о позорном малодушии человека, приходившегося братом самому Германику, о его неспособности понять чувства гордой женщины, чье достоинство, как и честь ее древнейшего, благороднейшего рода, были унижены грубой выходкой Калигулы. И, пока она говорила, Калисто, сопровождавший ее излияния все более негодующими жестами и восклицаниями, чувствовал, как его сердце наполняется гневом за оскорбление, нанесенное женщине, которую он считал своим божеством.
- А в это время какая-то ничтожная девчонка, самая заурядная, одна из тех, что завидуют моему происхождению и распускают грязные сплетни обо мне, восходит на трон, даже не имея представления о том, какой неслыханной чести она добилась. Этой выскочке нет никакого дела до того, что законной жене Клавдия приходится целыми днями торчать в библиотеке, читая скучнейшую «Историю этрусков» и ожидая высочайшего позволения прийти в триклиний Цезаря, где ее снова оскорбят и выставят на посмешище окружающих.
- Но прикажи мне, божественная Валерия! Если Клавдий трус, то во мне хватит решимости исполнить любое твое желание! Твоя любовь - вот что даст мне силы совершить любой подвиг, пойти на все, пролить всю мою кровь, если тебе это понадобится.
- Да что же ты сможешь сделать, бедненький?
Мессалина хотела что-то добавить, но Калисто прервал ее:
- Все! Все, что пожелаешь!
- Ты либертин, покорный воле Цезаря! Что ты можешь?
- Все! Я сказал и повторяю еще раз, чтобы ты поверила моим словам: все, что пожелаешь! Цезарь? Он уже давно мне не нужен! Я никогда не получу всего, что он мне должен! И я непокорен ему с тех пор, как он оскорбил тебя! Что мне Цезарь! С сегодняшней ночи мной повелеваешь только ты, мое божество! Ты - моя жизнь, моя кровь, мои мысли и желания!
Выслушав юношу, который не переставал целовать ее колени и руки, Мессалина, точно пожалев о недавних жалобах, ласковым голосом заметила, насколько опасно пренебрегать доверием Калигулы и, напомнив о беспощадной жестокости тирана, попросила либертина отказаться от его опрометчивых обещаний. Однако ее слова только распалили Калисто, испугавшегося мысли, что в этом случае он будет выглядеть болтуном или, что еще хуже, трусом. И тогда супруге Клавдия не оставалось ничего иного, как принять предложение вольноотпущенника. При этом она посоветовала ему не порывать связи с Калигулой и, воспользовавшись ею, сделать все возможное для скорейшего ниспровержения Ливии Орестиллы. Как она и ожидала, Калисто заверил свою госпожу, что ее воля будет исполнена любой ценой.
Добившись желаемого результата, Мессалина, горячо расцеловала либертина, однако она была слишком опытной интриганкой, чтобы позволить их отношениям зайти дальше, чем ей было нужно в этот момент. Снова отстранив от себя бедного любовника, она сказала, что, увы, на этот раз ему придется довольствоваться лишь разговором в саду. За ней, чуть слышно добавила она, всегда шпионят. Тем более в таком месте и в такое время. Вот потом, если все удастся… Тогда она найдет способ провести своего возлюбленного в одну из комнат дворца. Ведь их сердца горят одной и той же страстью! И она говорила правду: ей нужно было напрячь всю волю, чтобы не поддаться зову чувства, пробужденного в эту ночь объятиями Калисто. Многое в нем притягивало Валерию Мессалину, многое возбуждало ее желание, И все-таки, понимая его бесполезность и даже вред для своих далеко идущих планов, она сделала над собой усилие и пожертвовала любовью ради честолюбия. Провожая юношу к воротам, через которые он вошел, она коснулась губами его уха и прошептала:
- Люби меня. Думай обо мне.
- Ох! О ком же еще мне думать, любимая моя? Мы скоро увидимся?
- Скоро ли мы увидимся? Я горю желанием, как и ты. Я люблю тебя.
Спустя пять дней после своего эксцентричного бракосочетания Калигула стоял в одной из комнат дворца Тиберия и готовился позировать художникам. Двое рабов и Калисто помогали ему занять непринужденную позу, соответствовавшую наряду Аполлона, который был на нем.
- Тебе нравится моя идея? Скажи, Калисто, что ты о ней думаешь? - спросил император, поправляя лавровый венок на своем полысевшем темени.
- Великолепно, как и все, что исходит от тебя.
- Нет, ты мне скажи правду, без лести, ты ведь знаешь, как я не люблю подхалимов.
- Я говорю правду.
- Правильно. Ты всегда должен говорить мне только правду, потому что я больше всех благосклонен к тебе.
- Это заслуга не моя, а твоих добродетелей…
- …благодаря которым, - перебил Калигула, - меня рисовали в костюмах Зевса, Нептуна, Вакха, Меркурия, Геркулеса, а сегодня я должен предстать Аполлоном. Однако в каждом храме уже воздвигнут алтарь бога Гая Цезаря Германика, и я вовсе не обязан являться в нарядах старых кумиров, словно Цезаря нельзя обожать без того, чтобы он походил на кого-нибудь из них. Наши боги слишком стары, мой дорогой Калисто.
- Увы, они так стары, что порой впадают в детство.
- И почему бы в таком случае не обновить нашу религию, не создать новых богов для толпы: молодых, сильных, наполненных свежей кровью.
- Мы их создадим, конечно.
- Я по своему совету основал храм, посвященный мне одному.
- Правильно!
- Я построил во всех храмах специальные алтари и приказал приносить к ним в жертву павлинов, уток, фламинго с розовыми крыльями, кур из Нумидии. Я назначил к ним священников, которых назвал жрецами Цезаря, и поставил рядом с ними золотые статуи новому божеству. Эти статуи каждый день переодевают в те одежды, которые ношу я.
Вдруг, словно кто-то ему противоречил или возражал, он крикнул хрипло и властно:
- Я желаю, чтобы меня обожали! Во имя всех богов! Я вам докажу, что я выше любого божества!
И пока Калисто пробовал его утихомирить, расхваливая великие начинания императора, он не переставал повторять:
- Выше всех! Выше всего и вся! Ах, они не хотят понимать? Я им покажу, что я хозяин всего и всех!
Тут он заметил, что у него нет цитры[133], и приказал принести ее.
- Ну скажи мне, Калисто, - немного успокоившись, продолжал Калигула, - что говорят обо мне плебеи? Что обо мне говорит эта гидра с двумя миллионами голов, население Рима?
- Ругает тебя, - невозмутимо ответил Калисто, - порицает твой вкус и невесту, которую ты себе выбрал.
- Ах! Если бы у римского народа была только одна единственная шея! - скрипнув зубами, процедил Калигула.
- То ты смог бы перерубить ее одним ударом. Ты уже говорил это! - произнес Калисто, решивший сыграть на малодушии своего хозяина. - Но, к сожалению, у римлян два миллиона шей, не считая трех миллионов рабов, и думать об их поголовном истреблении так же бесполезно, как и мечтать о любом другом несбыточном идеале.
- Увы! - со вздохом согласился Калигула. - Увы, это верно.
- Ты попросил меня сказать правду, и я сказал ее: ты хотел узнать, что говорят о тебе, и я ответил. Император не может обойтись без империи, но в любой империи, к несчастью, существуют подданные, и поэтому иногда приходится слушать, о чем они говорят.
Калигула удивленно взглянул на Калисто, который, как ни в чем не бывало, поправил цитру.
- Что-то ты сегодня уж больно смел! - помолчав, буркнул тиран.
- Я говорю правду, - спокойно повторил либертин.
- Ты хочешь угодить этой черни?
- Скорее, своему повелителю.
- Да? Тогда говори откровенно, что ты думаешь о Ливии Орестилле.
- Ну… Я, конечно, не знаю ее так же хорошо, как божественный Цезарь… - потянул Калисто, желая выиграть время, а заодно убедиться в серьезности чувств императора. По многим признакам он догадывался, что связь с Ливией Орестиллой была всего лишь мимолетным увлечением Калигулы, но ему не хватало уверенности в этом предположении.
- Давай без обиняков. Выкладывай начистоту, не бойся. Мне приятно, что я внушаю страх всему Риму, но ты относишься к тем немногим, кто пользуется моей благосклонностью.
- Вновь замечу, незаслуженной!
- Тем более, ты должен говорить мне прямо, что думаешь.
Юноша заколебался: угрожающие нотки, прозвучавшие в словах тирана, заставили его сердце бешено забиться в груди. Он понимал, какой страшной опасности подвергся бы, допустив малейшую оплошность в предстоящем разговоре: в этой игре все было поставлено на карту. Но понимал он и то, что более подходящего случая, чем этот, ему уже не представится: фортуна ведь любит храбрых, - вспомнил он слова Мессалины, мечтавшей о низвержении Орестиллы. При мысли о поцелуях своей возлюбленной он в одно мгновение собрался с духом и произнес:
- Конечно, ты мне ответишь, что никто не знает Орестиллу лучше, чем божественный Цезарь. Но если бы я был Цезарем… О! Во имя всех богов, я бы не хотел увлечься какой-нибудь девушкой, пусть красивой, пусть нежной, пусть даже умной, но при этом обладающей всеми недостатками неопытной шестнадцатилетней девочки! Да уже после двух-трех ночей, проведенных с нею, я мечтал бы о том, чтобы она поскорее вернулась к себе домой! Во имя Геркулеса, это было бы мое единственное желание! Как! Я Цезарь, я молод, красив, всесилен. Я каждый день окружен прелестнейшими женщинами, любая из которых будет счастлива той милостынью, которую получит из моих объятий, а их мужья будут только гордиться этой мимолетной благосклонностью. И вдруг мне приходится возиться с какой-то девчонкой, не имеющей понятия о настоящих любовных наслаждениях! Ох! Я пожелал бы вырваться на свободу! Мне бы захотелось разделить любовные утехи с женщинами, познавшими все уловки Венеры, а не терять время на обучение этим секретам той, которая их и не примет, и не оценит! И это взамен на всю империю? Нет, я бы повременил. Вот в сорок лет или в пятьдесят… Тогда, кто знает? может быть…
Эту тираду Калисто проговорил на одном дыхании, глядя куда-то в потолок, словно обращался к неведомому плоду своей фантазии. Калигула слушал его с напряженным вниманием. Поначалу он смутно подозревал подвох в рассуждениях либертина. Но постепенно резкие черты деспота стали смягчаться и, наконец, легкая улыбка тронула его губы.
- Браво, Калисто! - воскликнул он, хлопнув ладонью по плечу юноши. - Во имя Зевса, браво! Ты повторил все то же самое, что я говорил сегодня утром, когда вставал с ложа. Эта малютка мне уже надоела, как и ее пресные ласки… «Ты меня не разлюбишь?», «Ты меня не бросишь?», «Я умру от горя», «Я так ревную» - сколько можно все это терпеть! Клянусь всеми богами, ты слово в слово пересказал мои мысли!
- Я рад, что невольно угадал малую часть твоих размышлений. Не смея претендовать на большее, я могу лишь благодарить бога за то удовольствие, которое доставила тебе игра моего скромного воображения.
- Но кое-что ты все же не предусмотрел! - произнес Калигула, прикладывая указательный палец к губам.
Калисто почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине. Ему показалось, что какая-то рука в стальной перчатке безжалостно сдавила его сердце. Едва не поддавшись губительному отчаянию, он все-таки сохранил внешнее спокойствие и, собравшись духом, равнодушно спросил:
- Что же?
- То, что я не хочу выглядеть прицепсом, который делает уступки плебеям.
- Ах, вот ты о чем! - облегченно выдохнул Калисто. - Прости, божественный Цезарь, но я бы не стал из-за этого беспокоиться. Если какой-то мой поступок доставляет мне удовольствие, к тому же, ничем меня не обязывая, приносит радость моим подданным… Ну что ж! Тем лучше! Тогда я одним ударом убиваю сразу двух зайцев: забочусь о себе, и укрепляю империю.
- О! Сдается мне, Калисто, что сегодня некий бог говорит твоими устами! Клянусь, ты мудрее самого Луция Аннея Сенеки, хотя и не так образован.
Калигула ласково потрепал либертина за волосы и, взяв в руки золотую цитру Аполлона, вышел за дверь, куда сразу же хлынула толпа придворных, слуг и шутов, находившихся в комнате. Идя за ними следом, Калисто не переставал поздравлять себя с удачей и благодарить богиню Фортуну, которая, как ему казалось, руководила всеми сегодняшними событиями. Однако юноша был несправделив к себе, не придавая значения своему собственному уму и наблюдательности. Зная непостоянство Цезаря, он еще за ужином в доме Кальпурниев понял, что робкая и наивная девушка быстро наскучит человеку, подверженному порочным страстям. И теперь Калисто размышлял о том, как ускорить катастрофу, грозящую Ливии Орестилле. Проницательный знаток настроений своего господина, он пришел к мысли, что теперь ему большую услугу оказала бы какая-нибудь другая женщина, способная привлечь внимание сластолюбивого деспота. Именно поэтому он старался не отставать от Калигулы, который вышел на улицу в костюме Аполлона, чтобы послушать льстивые замечания и ощущать на себе восхищенные возгласы матрон, прогуливавшихся по городу. Но на его беду ни одна из этих дам не производила никакого впечатления на самодовольного лицедея, упивавшегося собой и своим нарядом. Уже возвращаясь с прогулки, многочисленные придворные, сопровождавшие императора, остановились возле великолепнейшего особняка с мраморными колоннами в коринфском стиле, нравившемся римской знати.
- Это дом знаменитого и древнего рода Меммиев, предком которых Вергилий считает Мнестея, спутника Энея[134], - заметил всезнающий Геликон.
- Ох, опять ты со своим всезнайством. Да что из себя представляет этот Вергилий? Невежда, лишенный какого-нибудь таланта - вот что такое ваш хваленый Вергилий, - неожиданно рассвирепев, бросил Калигула и почти сразу добавил:
- Чтобы избавить вас от предрассудков, я сегодня же прикажу изъять из библиотек и сжечь все сочинения Вергилия. Так же, как и книги Тита Ливия, этого шарлатана и неуча, ничего не понимавшего в истории [V].
- Да здравствует мудрость божественного Цезаря! - воскликнули несколько голосов.
- Так это дом Гая Меммия Регула? - помолчав, спросил Калигула.
- Именно так, божественный.
- Того самого, который был консулом в 784 году и помог моему дяде Тиберию свергнуть Сеяна?
- Совершенно верно, - вступил в разговор Протоген. - Он сейчас наместник в Македонии[135].
- У его жены Лоллии Паолины самые лучшие жемчуга и изумруды в империи, - добавил Геликон.
- Лоллия Паолина? - переспросил Гай Цезарь, наморщив лоб. - Что-то я не могу вспомнить ее.
- О, это очаровательнейшая женщина и к тому же еще молодая, - пришел на выручку Калисто.
- Не та ли это Паолина, чью красоту я хвалил недавно?
- Нет, это ее племянница. Мать Лоллии была прелестна, но ее дочь превосходит красотой всех женщин, живших в империи со времен Августа.
Ничего не ответив либертину, Калигула медленным шагом направился во дворец. Придя домой, он поманил пальцем обоих консулов и приказал немедленно вызвать в Рим Гая Меммия Регула с супругой. Теперь Калисто мог праздновать окончательную победу. Еще раз угадав тайные мысли своего хозяина, он понял, что того увлекла экстравагантность интриги с незнакомой женщиной, находившейся за много миль от столицы. Вечером в триклинии была устроена неслыханная оргия, на которую, кроме проституток, пригласили лучших наездников, выступавших на аренах города под зеленым цветом. В разгар разнузданного веселья Орестилла стала нежно упрекать Калигулу за те нескромные ласки, которые он оказывал то одной, то другой бесстыдной куртизанке, позоря бедную Ливию, и всякий раз император отвечал ей с такой грубостью, что несчастная в конце концов расплакалась. Лучше бы она этого не делала! Ее супруг рассвирепел и, разразившись проклятиями, исступленно прокричал:
- Тупица! Жеманная чистюля! Как ты смеешь перечить мне и указывать, что я должен делать! Ты недостойна быть женой Цезаря!
- Ох, смилуйся, смилуйся, - прошептала Ливия, ошеломленная этими оскорблениями. Она покраснела от стыда и, закрыв лицо руками, чуть слышно добавила:
- Пусть мой синьор делает, что хочет. Но я прошу позволения уйти в мои покои.
- Она стесняется! - весело воскликнула Лициция и, издеваясь над Орестиллой, встала в непристойную позу.
- Какая невинная голубка! - подхватила Пираллида.
- Сущая весталка! - проорала пьяная Альбуцилла.
- Так пусть же и живет среди этих девственниц! - яростно крикнул Калигула.
- Увы! В храме их уже нет, - с усмешкой заметила Лициция.
И все развязно захохотали. Эти наглые выходки куртизанок убедили Калисто, присутствовавшего на оргии, что Ливии Орестилле пришел конец. Словно в подтверждение его мыслей, Калигула грубо толкнул свою несчастную жену, упавшую при этом с ложа, на котором она сидела, и закричал:
- Ты мне надоела! Слишком долго я терпел! Убирайся прочь! Возвращайся домой! Сегодня же, сейчас же! И да уберегут тебя боги от связи с каким-нибудь другим мужчиной, особенно с Гаем Кальпурнием Пизоном.
- О горе мне! Не прогоняй меня! Не прогоняй, я буду делать все, что ты захочешь. Но не позорь меня! - всхлипывая, умоляла Орестилла. Она распростерлась у ног Калигулы и пробовала схватить его за края одежды.
- Убирайся прочь! Прочь! Вон из моего дворца… сию же минуту! В эту ночь императрицей будет Лициция! Геликон! Проводи Орестиллу домой!
С этими словами он грубо отпихнул от себя безумно рыдавшую жену и, подойдя к одному из лож, сел на колени Лициции, которая сразу заключила его в свои объятия. Геликону ничего не оставалось, как взять под руки обессилевшую Ливию и с помощью двух рабов вывести ее на улицу. Так через восемь дней бесславно закончилось царствование Ливии Орестиллы.
А спустя десять дней из Македонии вернулся Гай Меммий Регул и его жена Лоллия Паолина. Они тотчас предстали перед Цезарем.
Двадцатисемилетняя супруга Гая Меммия оказалась восхитительно красивой женщиной с нежной кожей и с густой копной черных волос, искуснейшим образом уложенных вокруг головы и скрепленных серебряным обручем с чудесной россыпью изумрудов. На ее роскошной груди сияло восьмикратно сложенное ожерелье из самого крупного жемчуга, какой только знала империя. На изысканно прекрасном, с тонкими чертами лице матроны сияла улыбка, достойная кисти Евфранора. Очарование Лоллии Паолины настолько превзошло ожидания императора, что он сразу обратился к ее супругу!
- Мне столько говорили о несравненной прелести твоей жены, что я захотел увидеть ее собственными глазами. Сейчас я убедился, что в империи нет лучшей женщины, чем она, и потому объявляю, что беру ее себе.
И, не обращая внимания на пораженного наместника Македонии, Калигула страстно обнял Паолину.
- Но… Как же это, божественный Цезарь? - начал говорить побледневший Меммий, но император, грозно обернувшись к нему, тотчас пресек желание возражать прицепсу.
- Ах, вот как! Ты, верно, недоволен моим выбором? Или ты не знаешь, что по праву хозяина я волен распоряжаться и тобой, и твоей жизнью?
- Да. Ты судья всех и вся, - покорно склонив голову, произнес Регул.
- Эта женщина больше не принадлежит тебе. Она моя! Ступай прочь.
Не в силах что-нибудь предпринять, подавленный Меммий медленно вышел из комнаты, а Калигула, покрывая поцелуями Лоллию Паолину, спросил:
- Ты рада? Я сделал тебя первой женщиной империи, Августой! Ты меня полюбишь?
- Я счастлива… Слишком счастлива, чтобы сказать об этом. Мне это кажется каким-то сновидением, но… я твоя и буду служить тебе, как раба своему господину.
С этими словами Лоллия Паолина порывисто обняла тирана. Она стала следующей женой императора Гая Цезаря Германика.
ГЛАВА IX
Миновало восемь месяцев с того дня, когда Калигула так бесцеремонно отнял жену у Гая Меммия Ре-гула. Заканчивался февраль 792 года. Дул холодный северный ветер, насквозь пронизывавший лацерны и шерстяные тоги тех несчастных горожан, которым приходилось покидать жилище рано утром или поздно вечером. Но, несмотря на стужу, в один из предрассветных часов этого месяца отворилась потайная дверца нового великолепного дворца, построенного Цезарем на склоне Палатинского холма, и оттуда четверо здоровенных нумидийских рабов вынесли изящные носилки с опущенным пологом. Предшествуемые антеамбулом и сопровождаемые двумя стражниками, они направились в сторону Авентина. Через полчаса эта небольшая процессия остановилась возле дома колдуньи Локусты, и из повозки выскользнула женщина, укутанная в желтый плащ на горностаевом меху. Судя по всему, столь ранний визит не был неожиданностью для хозяйки особняка - она сразу вышла навстречу гостье и, почтительно поцеловав ее руку, тихо произнесла:
- Аве, Августа.
Вслед за тем обе женщины поспешили в атрий, откуда быстрым шагом прошли в лабораторию ворожеи. По просторной комнате, наполовину освещенной шарообразной лампадой, струился теплый воздух, тем более благодатный, что на улицах города в эту пору бушевала зимняя непогода. Дама сняла свою богатую накидку и, положив ее на софу, с каким-то недоверчивым любопытством огляделась вокруг. Она была женщиной довольно полной, но миловидной. Характерная округлость ее живота говорила о том, что посетительница Локусты готовилась к рождению ребенка. На ее смуглом лице, обрамленном ярко-каштановыми волосами, кое-где были заметны следы перенесенной оспы, но этот недостаток скрадывали огромные, изумительно красивые глаза, сияющие ласковым, теплым светом. Очарование вошедшей придавала и трогательная улыбка, которая могла бы покорить многих мужчин. Это была Цезония Милония, вдова римского всадника, оставившего после себя троих сыновей. Несколько месяцев назад она стала четвертой законной женой императора Цезаря Германика.
- Итак? - помолчав, спросила колдунья. - Можно ли мне спросить тебя, Августа, благосклонности ли фортуны я обязана этим тайным посещением?
- Фортуны? - переспросила Цезония Милония, беспокойно рассматривая обстановку, в которой очутилась впервые. - Честно говоря, этот визит я не связывала с фортуной, но надеюсь, что ты окажешься права. Послушай, зачем тебе все эти инструменты? Эти фиалы? Эти груды костей? Я никогда не видела ничего подобного, мне немного не по себе.
Чтобы успокоить супругу Цезаря, Локуста подвела ее к стопам и полкам, стоявшим в середине комнаты, и принялась объяснять назначение тех или иных фиалов, пузырьков и медицинских препаратов.
- Ну, теперь тебе не страшно? - спросила она, показав гостье все свои сокровища и усадив ее на прежнее место.
- О нет! Сказать по правде, у меня и не было страха. Скорее, я чувствовала какую-то суеверную боязнь, которую пробудили в моей душе эти мрачные приспособления. К тому же, мне рассказывали о тебе такое…
- Что ты стала бояться меня, не так ли? - с улыбкой спросила ворожея.
- Не отрицаю, хотя многие хвалили тебя. Но, одним словом… В общем, твоя лаборатория меня пугает, а ты мне нравишься.
- Благодарю тебя, Августа.
- И я верю тебе, твоему искусству и твоему умению хранить тайну, - произнесла Цезония, беря колдунью за руки и нежно улыбаясь ей.
- Тогда мне остается заверить тебя, что ты никогда не станешь раскаиваться в этих словах, - сказала ворожея и после непродолжительной паузы добавила:
- Так что же тебя тревожит? Говори, ты увидишь, что Локуста умеет быть нужной и полезной.
- О! Я жду от тебя очень важной для меня услуги! - тихо произнесла Цезония Милония. - В награду за нее ты всю жизнь будешь пользоваться благосклонностью императрицы. Более того, я буду считать тебя своей родной сестрой.
Колдунья порывисто сжала руки своей посетительницы и ответила:
- Мне будет достаточно твоей благодарности. Говори, я сделаю все, что ты захочешь.
Не выпуская рук хозяйки дома, гостья внимательно посмотрела на нее своими черными глазами и чуть слышно прошептала:
- О Локуста, порой мне хочется умереть.
- Это зависит от меня?
- Да, и даже больше, чем от меня самой. Только ты одна способна укрепить престол империи.
- Как же я могу…
Ворожея хотела что-то возразить, но Цезония не дала ей сделать этого. Перебив Локусту, она горячо и быстро заговорила:
- Ты понимаешь, что я хотела сказать. Я не хочу кончить так же, как другие жены Цезаря Германика. Вот уже пять месяцев я нахожусь возле него, пять месяцев делаю все возможное и невозможное, чтобы не надоесть ему. У меня для этого есть все, чем может располагать женщина. Я знаю все любовные ласки и упреждаю каждое желание Цезаря. И все-таки не могу найти покоя. Кто скажет, что со мной будет завтра? Перед моими глазами все время стоит Ливия Орестилла, похищенная на собственной свадьбе с Кальпурнием Пизоном и буквально выброшенная на улицу через семь дней. Я не могу избавиться от мысли о Лоллии Паолине, отнятой у Меммия Регула и отвергнутой Цезарем через двенадцать дней. Я постоянно думаю об их позорной участи и знаю, что не смогу вынести даже половины того издевательства и глумления, с которыми толпа плебеев провожала этих несчастных женщин.
- Но чем же я?… - попробовала спросить Локуста, но Цезония вновь ее перебила:
- Ты? Ты можешь все.
- Так уж и все? - улыбнулась Локуста.
- Дай мне снадобье, которое навсегда привязывает мужчину к женщине. Взамен него ты получишь миллион сестерциев и мою бесконечную признательность.
- А ты в самом деле думаешь, что такое снадобье существует?
- А разве нет? - в некотором замешательстве прошептала Милония. - О таких зельях говорят, как о самом большом секрете вашего искусства. Я слышала, что они неотразимо действуют на каждого, кто их выпьет.
Локуста снова улыбнулась.
- Да какая польза от вашего колдовства, если вы никого не можете приворожить! - неожиданно громко воскликнула императрица.
- Польза в других случаях: при недуге.
- Но не любовном?
- При нем тоже. Но не всегда.
- Так значит, в моем случае ты можешь совершить чудо и приворожить мужчину к женщине?
- Давай договоримся так: я приложу все свои знания и силы…
- Ах, Локуста! Ты возвращаешь меня к жизни.
- Но я еще раз повторяю, что наши зелья не всегда оказывают нужное воздействие. Сила этих напитков зависит от многих обстоятельств, над которыми мы не властны.
- Каких обстоятельств? Что для них требуется? Пожалуйста, не говори со мной таким презрительным тоном, - взволнованно проговорила Цезония. - Я сгораю от нетерпения, а ты не хочешь ничего объяснить!
- Но я не смогу удовлетворить твое любопытство, если ты все время будешь перебивать меня.
- Хорошо, не буду, только пойми, мне нужно, чтобы ты приготовила для меня это зелье!
- Я приготовлю его. По крайней мере, надеюсь.
- Ну, так скажи, - произнесла Цезония, вставая с софы, - что для него нужно?
- Прядь волос Гая Цезаря и клочок какой-нибудь одежды, которую он носил.
- Все это ты получишь сегодня же.
- И еще… - медленно добавила Локуста.
- Что еще? - вырвалось у Милонии.
- Еще прядь твоих волос и часть твоей одежды, хотя бы той, которая сейчас на тебе.
- Разумеется, это тоже у тебя будет.
- Три дня подряд ты должна ходить в храм Венеры Кипрской и посвящать жертвы Купидону и Приапу.
- Я принесу самые богатые дары этим божествам.
- Хорошо. Итак, ты вернешься ко мне через три дня. Тогда я добуду немного крови из твоей вены.
- А почему не сегодня? - спросила Цезония, с готовностью протягивая свою полную, красивую руку.
- Если я извлеку ее сегодня, то через три дня она уже будет непригодна для зелья.
- Неужели только через три дня? - разочарованно протянула Цезония.
- Нужный настой может получиться лишь при благоприятном расположении звезд.
- А вдруг он не получится по каким-либо другим причинам?
- Тогда придется все повторять заново: жертвы и другие приготовления должны находиться в строгом соответствии с действием астральных сил.
Цезония закусила верхнюю губу, словно не могла решить какую-то важную задачу. Немного постояв в нерешительности, она, наконец, взяла в руки свой плащ и стала надевать его наподобие пеплума[136].
- Ничего не поделаешь! - выдохнула она и, внимательно посмотрев на колдунью, спросила:
- А ты меня не предашь?
- Я? - не скрывая возмущения, в свою очередь спросила Локуста.
Тогда Цезония отстегнула от пояса кошелек, полный золотых викториалов, и, протянув его ворожее, добавила:
- Я не подозреваю тебя, но…
- Ты меня совсем не знаешь, Августа. Я никогда никого не предавала, хотя мне известно столько секретов, что они могли бы добрую половину Рима поднять на войну против другой половины.
- В этом кошельке небольшой задаток к тому миллиону сестерциев, который…
- Мне достаточно твоей благосклонности и твоего заступничества.
- Если зелье удастся, то я навсегда останусь твоей самой преданной подругой.
С этими словами императрица бросила кошелек на софу и, сопровождаемая ворожеей, вышла из комнаты. Когда обе женщины очутились в таблии, Локуста наклонилась, чтобы поцеловать ладонь Цезонии, но супруга Калигулы отдернула руку и, положив ее на плечо колдуньи, нежно проговорила:
- Ты мне нравишься… поцелуй меня.
Локуста обхватила шею Милонии и несколько раз поцеловала ее в губы, прошептав:
- Благодарю тебя… Ты так прекрасна, что, будь я Гаем Цезарем, тебе не понадобились бы никакие зелья! Я полюбила бы тебя на всю жизнь.
Наконец она отпустила императрицу и, попрощавшись, проводила ее до порога дома. Вернувшись в лабораторию, она уже хотела заняться чтением одной из магических рукописей, как вдруг в двери неожиданно появился горбатый раб и испуганным голосом сообщил, что его госпожу настойчиво спрашивает Валерия Мессалина. Это известие неприятно удивило Локусту. Немного подумав, она обратилась к слуге:
- Как ты думаешь, Мессалина видела ту даму, которая недавно вышла отсюда?
- Не только видела, но и поджидала ее, прячась в портике у соседнего дома, а когда твоя гостья села в носилки, Мессалина вышла из своего укрытия и постучалась к тебе.
Лицо Локусты омрачилось еще больше. Она долго колебалась, прежде чем сказать:
- Ладно… пусть войдет.
И вновь направилась к двери.
- Аве, почтенная Валерия! - почти сразу воскликнула она. - Что нового? Какая нужда привела тебя в столь ранний час?
- Аве, Локуста! - проговорила вошедшая, снимая с плеч просторный серый плащ. - Час не такой ранний для супруги Цезаря, опередившей меня.
- Ах… да… Она только что вышла отсюда.
- Знаю, - ответила Мессалина, с недовольным видом усаживаясь на софу. - Я ее видела.
- Увы… У нее ужасно болят зубы.
- Да? - усмехнулась жена Клавдия. - Мне известно, какие зубы беспокоят Милонию.
- Ах! Ну, да… - протянула Локуста, стараясь скрыть замешательство.
- По-моему, она боится Цезаря, который может разлюбить ее.
- Неужели? Вечно я все узнаю последней, - ответила колдунья, пытаясь выразить удивление на своем лице.
Мессалина положила плащ рядом с собой и медленно проговорила:
- Умер сенатор Марк Опсий.
С этими словами она пристально посмотрела в глаза Локусты.
С трудом выдержав этот тяжелый взгляд, ворожея произнесла недоумевающим тоном:
- Опсий? Какой Опсий?
- Тот, который в 780 году вместе с преторами Порцием Катоном и Петилем Руфом подло оклеветали и лишили жизни благороднейшего Тита Сабина, виновного только в том, что оставался верен великому Германику и его семье [I].
- Выходит, божественный Цезарь доволен этой смертью, которую он может считать возмездием за убийство одного из своих преданнейших друзей: ведь Тит Сабин воспитывал императора.
- Да, с одной стороны, он доволен, хотя с другой, - готов своими руками растерзать заговорщиков.
- О! Но почему?
- Как ты наивна, Локуста! Почему? Да потому, что благодаря своим грязным делишкам Опсий нажил громадное состояние, и Цезарь - тут ты права - хотел умертвить его, но только так, чтобы эти сокровища перешли к имперской казне!
- Ну и что? Разве божественный Цезарь не может сейчас забрать все его имущество?
- Эх! А еще провидица! Неужели ты не знаешь, что у Опсия было завещание, которое уже нельзя пересмотреть? Разумеется, теперь казне не достанется ни сестерция.
Казалось, супруге Клавдия было досадно оттого, что приходилось объяснять такие азбучные истины; она едва сдерживала свое раздражение.
- Ну, хорошо, почтенная Валерия, а какое отношение ко всему этому имею я?
- Какое ты имеешь отношение? - воскликнула Мессалина. - И ты меня об этом спрашиваешь, когда наследником Опсия является твой брат, который пять лет угождал мерзким прихотям старика ради того, чтобы завещание было составлено в его пользу?
- Мой брат… наследник Опсия? - растерянно проговорила колдунья. - О чем ты говоришь? Я так давно не видела его. Мы уже лет десять не встречаемся. Это все знают. И смогут подтвердить, если понадобится.
- Ах, смогут подтвердить?! - с язвительной улыбкой переспросила Мессалина.
- Да, конечно.
- А ты знаешь, отчего умер Марк Опсий?
- А почему я должна это знать?
- Потому, что он умер от яда!
- Что же из того? Сейчас в каждой смерти ищут отравителей.
- Нет, нет. Врачи обследовали труп Опсия и выяснили, что он умер именно от яда.
- Пусть так: не он первый, не он последний, кому суждено принять такую смерть, - сказала Локуста, увидев, какая опасность угрожала ей.
- Но сейчас магистраты гадают о том, кто участвовал в отравлении, - продолжала наступать Мессалина, все больше выходя из себя.
- Ну и что? Меня-то это разве касается?
- О! Тебя это касается приблизительно так же, как фитиль касается лампады! Потому что сейчас римляне задаются вопросами, кто убил Опсия, и сами себе отвечают: наследник! А когда узнают, кто он, то все в один голос закричат: «А яд ему дала его сестра, колдунья Локуста!» Теперь понимаешь, как это тебя коснется?
- Если праздная молва будет обвинять меня в простом совпадении фактов, то я сумею отстоять себя! - вспыхнув с видом оскорбленной добродетели, ответила Локуста.
- С тобой будет покончено, как только магистраты начнут расследование! Этот твой гнусный брат не выдержит и получаса пыток. Да будь ты невинна, как горлица, все равно, ему достаточно увидеть раскаленные щипцы, чтобы он, не раздумывая, назвал тебя главной подстрекательницей своего преступления.
Локуста смертельно побледнела. У нее подкосились ноги, и она рухнула на софу, стоявшую позади нее. Потом замерла, закрыв лицо руками. Глаза Мессалины торжествующе блеснули. Спустя некоторое время ворожея подняла голову и, вся дрожа, спросила:
- Ну? Продолжай! Зачем все эти угрозы и ложные домыслы? Чем я тебя обидела? Чем оскорбила?
- Ложь и оскорбление как раз кроются в твоей лицемерной приторности! - выкрикнула Мессалина, резко поднявшись на ноги и злобно взглянув на колдунью.
- Ох! Не могу понять, почему ты так ненавидишь меня, точно не дружили мы с тобой целых два года! - чуть слышно прошептала Локуста.
- Да не тебя я ненавижу, а Цезонию, которую ты защищаешь! Цезонию! Ту, которая приходила к тебе и просила приворотное зелье, способное навсегда приворожить к ней Гая Цезаря!
- Нет… нет… неправда, - глухо проговорила колдунья.
- Что? Неправда? Да мне известен каждый ее шаг! Я знаю все, что она говорит и думает, эта отвратительная жирная плебейка! По-твоему, мне не донесли, что вчера она посылала к тебе Геликона, просившего встретить ее? По-твоему, я не знала, что ты назначила ей свидание в такой ранний час именно для того, чтобы она могла прийти к тебе и остаться незамеченной? Да если бы я и не знала, то все равно догадалась бы, что ей нужно от тебя. Цезония так давно жаловалась на свои страхи из-за непостоянства Цезаря, так часто расспрашивала рабов и слуг о приворотных зельях, способных привязать мужчину к женщине, что понять цель ее визита было нетрудно. Тем более, вчера она неожиданно намекнула на некие таинственные силы, будто бы позволяющие ей надеяться, что император никогда не разлюбит ее. Тебе нужны другие доказательства, что я знаю все?
- Нет… - едва шевельнув губами, выдавила из себя Локуста.
- Ну вот и хорошо! Я не ненавижу тебя. Скорей, я могла бы даже полюбить. Но я не хочу, чтобы ты угождала желаниям Цезонии Милонии. Не хочу и не позволю!
Локуста откинулась на спинку софы и, выпятив губы, выдохнула. Мессалина продолжила:
- Я не так плоха. Во всяком случае, лучше, чем ты думаешь. Может быть, когда-нибудь я полюблю тебя, и тогда ты убедишься, что в мире нет более преданной подруги. Но пойми, покуда я бедна и никем не признана, я должна бороться с супругой могущественного Цезаря, а в этой борьбе мне нужно оружие против женщины, которая не по праву занимает место императрицы. И если я нагнала на тебя немного страха, то ты должна признать, что у меня просто не было другого выхода.
- Понимаю, - сказала Локуста, снова выпрямившись на софе.
- Я не желаю тебе зла, наоборот, хочу защитить от опасности, которая нависла над твоей головой, но…
- Ты же знаешь, что я ни в чем не виновата.
- Ах, брось! Кому нужны эти сказки? Но я буду с тобой, если ты тоже будешь поддерживать меня и мою борьбу против этой выскочки.
- Я буду с тобой, но только тайно.
- О боги, ну, конечно! Неужели ты подумала, что я потребую от тебя выйти на открытую войну против Цезонии Милонии? О нет, тут тебе придется проскользнуть между Сциллой и Харибдой![137]
- Хорошо, я согласна.
- Хочется верить в твои благие намерения. Но что ты скажешь завтра? Мы, женщины, так переменчивы в своих симпатиях. Ты ведь сочувствуешь Милонии, это сразу заметно. Но тебе следует перемениться к ней, и тогда…
- И тогда? - нетерпеливо перебила ее Локуста.
- Тогда я оставлю при себе все доказательства твоего злодеяния… точнее, многих злодеяний, потому что я собрала свидетельства о всех отравлениях, совершенных в последнее время. Как ты думаешь, они могут заинтересовать магистратов? Но я не желаю тебе зла и - клянусь жизнью моей обожаемой Оттавии! - не хочу причинять тебе вреда, а только лишь стараюсь защитить свое будущее. Карикл и Веций, обследовавшие труп Опсия, преданы мне. Они не скажут ничего, покуда я не подам им знак, чтобы они подтвердили наличие яда в теле убитого. Твой брат пока находится вне опасности. Он был у меня, и я научила его, как он должен вести себя, если его вызовет квестор. Преторы, эдилы и триумвиры тоже мои друзья. Я разговаривала с каждым из них, и они обещали до поры до времени хранить молчание. Даже один из самых приближенных к Цезарю либертинов будет исполнять мою волю, а я прикажу ему изгнать из головы императора даже малейший намек об отравлении Марка Опсия. Так что через пять-шесть дней все кривотолки об этой смерти сами собой улягутся, и о ней больше никто не вспомнит. Однако стоит тебе воспрепятствовать моим желаниям, как ты… Нет, ты не сделаешь этого, иначе ты будешь распята на кресте.
Локуста поднялась на ноги и, помолчав, тихо проговорила:
- Я твоя… Чего ты хочешь?
Мессалина не отвечала. Она устремила свой пронзительный взгляд в самые зрачки ворожеи, словно хотела прочитать все ее тайные мысли. Эти беспощадные глаза причиняли острую боль Локусте. Ей казалось, что два острых кинжала режут ее плоть.
- Тебе нужен яд, чтобы отравить Цезаря? - спросила колдунья, наконец, не выдержавшая этой пытки.
- Сохрани меня Зевс! - воскликнула ее гостья. - Ты сошла с ума!
- Божественный Гай мой племянник, - тотчас объяснила она, - и я люблю его. Как ты могла подумать, что я способна на такое злодеяние?
- Прости меня, почтенная Валерия. Я никак не могу прийти в себя и сама не знаю, что говорю. Но что же тебе нужно? Говори… Я исполню любое твое желание.
- О! Вот это уже разговор! - сказала Мессалина, взяв Локусту за руки. - Прежде всего я хочу, чтобы ты стала моей подругой.
И, еще раз взглянув на ворожею, задумчиво продолжила:
- Значит, договорились? Я защищаю тебя, а ты заботишься обо мне! И не думай сделать что-нибудь против моей воли! Я все вижу и все слышу: ты у меня в руках. Малейший признак неподчинения - и я безжалостно уничтожу тебя.
- Я твоя. Ты же слышала, - бесцветным голосом ответила Локуста.
- Хорошо, тогда слушай меня. Ты приготовишь для Цезонии Милонии зелье, которое ей нужно, чтобы приворожить Цезаря… Не отрицай, именно за этим она приходила к тебе!
- Да… За этим.
- Так вот, ты приготовишь зелье. Но его воздействие будет не совсем таким, какое желанно для Цезонии. И последствия приема твоего снадобья будут другими.
- Какой же эффект должно произвести мое зелье?
Мессалина не сразу ответила. Немного поколебавшись, она изменила тон и ласково проговорила:
- Тебе известны тайны всех трав. Снадобье, которое ты дашь Цезонии, должно оказать неотразимое влияние на мысли Цезаря, но оно должно не укрепить его разум, а наоборот, еще больше расстроить его.
- Итак, я должна приготовить зелье, которое вызовет помрачение разума у императора? - тщательно подбирая слова, спросила ворожея.
- Вот именно. Тебе это будет нетрудно. Тем более, что у Гая и так уже не осталось почти никакого рассудка.
- Хорошо, - после некоторого размышления согласилась Локуста. - Твое желание будет исполнено.
- И послушай моего совета. Побыстрее принимайся за дело.
- Через три дня зелье будет готово.
- Еще раз предупреждаю: его результаты должны сказаться немедленно.
- Оно подействует молниеносно.
Мессалина удовлетворенно взглянула на колдунью. Поднялась с софы и, облачаясь в плащ, произнесла:
- Ну, тогда за работу: не теряй времени!
С силой сжав обе руки ворожеи, она добавила:
- И не забудь: поддержка за поддержку, молчание за молчание.
- Можешь не сомневаться, - не забуду, - ответила Локуста, провожая гостью к атрию, где распрощалась с ней.
Вернувшись в лабораторию, она обхватила голову руками и надолго замерла, стоя посередине комнаты. Наконец решительным движением отбросила волосы со лба и, направляясь к столу с травами, прошептала:
- Что ж! Чему быть, того не миновать!
С этими словами она достала с полки нужные книги и, изредка заглядывая в них, стала придвигать к себе пучки высушенных трав и корешков. А тем временем супруга Клавдия пересекла Форум, поднялась на площадь Аполлона Палатинского и вошла в свой дом. В таблии ее ждал кубикуларий Поллукс, неестественно полный широкоплечий раб, страдавший от слоновой болезни, которая началась у него недавно, но уже безобразно раздула все тело, особенно лицо, сделавшееся похожим на маску дурачка.
- Почтенная госпожа, - поклонившись, произнес он, - в твое отсутствие пришла Квинтилия, которая хочет во что бы то ни стало видеть тебя.
- Где она? - отрывисто спросила Мессалина.
- Не знаю, хорошо ли я поступил. Твой раб оставил ее в конклаве.
- Молодец, я довольна тобой, - обронила хозяйка дома. И поспешила в свои покои.
На уродливом лице раба, провожавшего ее взглядом, появилась злорадная улыбка. Он вновь поклонился, когда Мессалина, уже подошедшая к дверям в свои апартаменты, остановилась и повернулась к кубикуларию.
- Никого не пускай ко мне до тех пор, пока я буду с Квинтилией, - приказала матрона.
Она проскользнула в дверь и заперла ее за собой. Тогда невольник поднял свое чудовищное, заплывшее жиром лицо. Теперь было видно, что действия госпожи почему-то пришлось ему не по вкусу.
Если бы кто-нибудь в это время наблюдал за Поллуксом, то он бы увидел, как тот закусил свою сливообразную верхнюю губу и, медленно вытянув шею, прислушался. Затем любопытный раб сделал несколько осторожных шагов и попробовал прильнуть к замочной скважине, но тотчас обнаружил, что с той стороны двери в ней торчал ключ, оставленный Мессалиной. Тогда он распрямился и с озадаченным видом посмотрел вокруг. Наконец, развязав мешок, висевший на поясе, достал несколько сушеных фруктов и один из них положил в рот.
- Здесь что-то не так. Ну, ладно, в другой раз увидим, - прожевав свое лакомство, пробормотал Поллукс и задумчиво уставился в потолок.
В конклаве Мессалина застала гостью лежавшей на софе и державшей в руках изящно переплетенную книгу, взятую с полки из черного дерева.
- Что читаешь, дорогая Квинтилия? - спросила Мессалина, войдя в комнату.
- Ох! Наконец-то ты здесь, милая Валерия. Перечитываю отрывки из «Метаморфоз», - зевнув, ответила женщина и поднялась на ноги.
- Что за чудесный поэт этот Овидий! Не правда ли? - воскликнула Мессалина и тут же добавила:
- Ну как? Что новенького?
И, не дожидаясь ответа, бросилась в открытые объятия посетительницы.
Это была очаровательная молодая женщина, ростом почти на голову превосходившая хозяйку дома. Тонкое лицо Квинтилии, обрамленное черными блестящими волосами, привлекало внимание и выразительностью и необыкновенной подвижностью. У нее была длинная, грациозная шея, пожалуй, самая красивая в Риме; ее грудь была высока и упруга. Точеные плечи, осиная талия и изящные руки также не оставляли мужчин равнодушными. Словом, Квинтилия, одна из величайших трагических актрис своего времени, могла считаться самой прелестной женщиной Лацио[138]. Своей замечательной красоте она в немалой степени была обязана триумфами, всякий раз сопровождавшими ее появление на сцене. Актриса наклонилась, чтобы расцеловать Мессалину, а затем, усаженная подругой на софу, выдохнула:
- Ах! Ну что может быть нового, дорогая Валерия!
- Твой гнусный старикашка не отказался от своих намерений?
- Увы, ты угадала. Проклятый мешок с деньгами не желает составлять завещание в мою пользу.
- А если я попробую заставить его? - весело произнесла Мессалина и, обнажив два ряда великолепных белых зубов, вопрошающе взглянула на гостью.
- Ты смеешься надо мной? - воскликнула Квинтилия, с грациозной кокетливостью изобразив на лице какое-то привередливое выражение.
- А что же мне еще делать, дорогая? Или ты хочешь, чтобы я заплакала?
- Этого я не говорила. Но подумала, что либо тебе придется терпеть объятия Абудия Руффона, этого шестидесятилетнего тупоголового старикашки, готового вот-вот рассыпаться от чахотки, либо он, подлый либертин, не оставит мне ни сестерция из своих двенадцати миллионов, за которые я целых три года переносила его омерзительные нежности.
- Ладно, ничего не поделаешь! - воскликнула Мессалина. Раз нет никакого другого способа выудить из этого влюбленного в меня старика его миллионы, которые по праву причитаются тебе, то… Если ты, конечно, не ревнуешь. В общем, я пойду к нему.
Жена Клавдия еще раз улыбнулась.
- Правда? Ты не шутишь? - просияла Квинтилия. - Ты так добра, что готова пожертвовать собой ради меня?…
- Ты во мне сомневаешься? Конечно, не скажу, что это мне доставляет удовольствие. Но ради тебя я готова пойти даже к Абудаю Руффону! Чего бы стоила наша дружба, если бы мы не помогали друг другу?
- О, Мессалина! С этой минуты ты моя госпожа.
- Не госпожа, а подруга, и уже три года считаю себя ею.
- Ох, у моей признательности нет границ. Послушай, я для тебя сделаю все, что ты захочешь! Нет такой услуги, какой я не оказала бы тебе!
- В одной из них я сейчас очень нуждаюсь.
- Правда? - радостно воскликнула Квинтилия, вскакивая с софы. - В какой? Говори скорее, мне не терпится доказать свои слова!
- Вот видишь, я не так благородна, как могла показаться: не успела сделать для тебя доброе дело, а уже требую расплаты.
- Ну говори же, говори! Мне хотелось бы оказать тебе не одну, а сотни услуг. Я горю желанием сделать все, что в моей власти! И даже больше!
Квинтилия говорила порывисто и искренне. Ее глаза светились неподдельным чувством благодарности, которое переполняло ее душу.
- Как же ты восхитительна, Квинтилия! - воскликнула Мессалина, ласково и нежно взглянув на нее.
Затем она переменила тон и добавила:
- Я не только помогу тебе, но буду твоим самым верным другом. Если когда-нибудь в жизни ты в чем-нибудь будешь нуждаться, то вот тебе мое сердце и моя рука. Отныне тебе стоит только прийти ко мне, и ты увидишь, на что способна твоя Валерия.
- Но скажи мне, скажи: как я могу доказать тебе свою преданность?
- Слушай! - произнесла Мессалина, понизив голос и снова усадив гостью рядом с собой. - Ты сейчас пользуешься благосклонностью Гая Цезаря Августа.
- Святые боги! И это ты называешь благосклонностью? Да какая женщина сможет сказать, что она пользуется благосклонностью нашего безумного императора? Вчера он один, сегодня другой, а завтра… Я знаю, что вчера он ласкал меня, но могу ли я быть уверенной в том, что он почувствует ко мне сегодня вечером? А завтра утром? Сдается мне, что все жрецы, предсказатели и сивиллы не способны угадать намерения этого сумасшедшего. Друзилла долго владела им, потому что он предчувствовал ее скорую смерть. Но можешь ли ты сказать, что с ней случилось бы, если бы она имела несчастье прожить еще один год? Как бы то ни было, Ливия Орестилла правила его сердцем - а лучше сказать, желанием - всего восемь дней, Лоллия Паолина, только-то для этого вызванная из Македонии, - двенадцать дней. Теперь настает черед Цезонии Милонии, которая на удивление Рима и, должно быть, самого императора, - продержалась почти четыре месяца. А ведь и в красоте, и в молодости она весьма уступает Ливии Орестилле и Лоллии Паолине… и еще больше - Пираллиде, Лициции, Альбуцилле, не говоря уже об Агриппине и Ливии - его сестрах - или о Домиции или обо мне. Хотя я и не очень высокого мнения о своих достоинствах, но Цезонии до меня, конечно, далеко. А все-таки она целых четыре месяца находится у власти! Как ей это удается? Кто знает?
Разумеется, Калигула чуть ли не каждый день вырывается на свободу из брачных уз! Но она с этим мирится, потому что уверена, что, насытившись подножным кормом, ее Цезарь вернется к оливам, к ней! Скажешь, что я каждый вечер бываю у него в триклинии? Это правда. Он недавно видел, как я читаю «Медею» Овидия, и, кажется, Медея понравилась этому новому Язону. Поэтому он приглашает меня то на обед, то на ужин, но это для него не больше, чем мимолетная прихоть. Что со мной будет потом? Как ему можно верить?
- Мне известно, что прошлым вечером он подарил тебе роскошное ожерелье из жемчуга.
- Это так. Не отрицаю.
- И я знаю, что этой ночью ты оставалась во дворце до самого утра.
- Ты прекрасно осведомлена.
- Да… И он был с тобой.
- Все верно! Но что из того? Кто сейчас придает значение подобным мелочам? Придворная жизнь не обходится без любовных интрижек, но не мы завели этот порядок. Нам просто приходится плыть по течению. И хорошо еще, если из этого можно извлечь какую-то выгоду. Да, так чем я могу быть полезна для тебя? Что тебе нужно от Цезаря? Помолчав, Мессалина спросила:
- Ты знаешь префекта претория?
- Руфа Криспина?
- Да, его.
- Ну, сказать по правде, не очень.
- Хорошо. Тогда задам вопрос по-другому: как он тебе?
- Как он мне… что?
- Ну, он тебе нравится? Тебе приятна его внешность?
- О нет! Я его не так хорошо знаю. Он мне и не приятен, и не противен, скорее, безразличен, хотя его внешность мне не очень симпатична.
- Так слушай, Квинтилия. Когда этот безумный Гай будет особенно нежен и ласков с тобой, ты должна будешь осторожно, как бы невзначай, ни в коем случае не подавая виду, что это имеет для тебя какое-то значение, как бы ненароком обмолвиться несколькими пренебрежительными словами о Криспине. Как бы в насмешку над ним, к примеру, будто он из кожи вон лезет, чтобы угодить патрициям и сенаторам, что он не нравится народу, что у него нет власти над преторианцами.
- И все? Предоставь это мне. Если в ближайшее время Цезарь снизойдет до меня, то… то держись, бедный Криспин!
- Так ты мне это обещаешь? - взволнованно воскликнула Мессалина, словно услышав нечто чрезвычайно важное для себя.
- Конечно, обещаю! Если вообще можно что-нибудь обещать, когда имеешь дело с Цезарем, - энергично заверила ее Квинтилия и тут же добавила:
- А может быть, мне намекнуть на какого-нибудь преемника Криспина?
- Нет, нет, ни в коем случае! Это может вызвать подозрение у Гая. Ты должна говорить так, словно у тебя и в мыслях нет ничего против Криспина! Лучше всего говорить - так, между прочим, будто просто вспоминаешь сплетни, которые ходят в городе.
- Понятно, можешь положиться на меня.
- Тебе нужно только лишь заронить в него недовольство префектом претория, а об остальном я сама позабочусь.
Мессалина встала на ноги и добавила:
- Заранее благодарю тебя за это, моя верная Квинтилия.
И немного погодя спросила:
- Когда я должна пойти к твоему старцу, помешанному на любви ко мне?
- До омерзения помешанному! Когда угодно. Его дом на улице Карино. Он так болен… у него даже нет сил выйти из дома. Ох, прости меня за все, что тебе придется испытать.
- Ничего. Не думай об этом. Если он и вправду так изнемогает от желания подержать меня в своих объятиях, то, думаю, сегодня вечером завещание будет отдано на хранение в храм Весты.
- О, как я тебе благодарна! И как еще буду благодарна!
На этом обе женщины, еще раз заверив друг друга во взаимных симпатиях и напоследок обнявшись, вышли в атрий, где наконец расстались. Мессалина навестила маленькую Антонию и свою дочурку Оттавию, при помощи служанок оделась в один из своих самых обольстительных нарядов и, усевшись в носилки, направилась на улицу Карино, к старому изнеженному вольноотпущеннику Абудию Руффону, который был обвинен (несправедливо) Гнеем Корнелием Гетуликом, выслан за границу Тиберием, а потом вместе со всеми изгнанными возвращен на родину Гаем Цезарем.
Вечером Мессалина вернулась домой, позвала преданного ей раба и отправила его к Калисто с короткой запиской, приглашавшей юношу навестить семью Клавдия. Хотя Валерия все чаще думала о возможной близости между ней и либертином, она всякий раз подавляла и голос своей страстной натуры, и настойчивые просьбы самого Калисто, который уже несколько месяцев не мог добиться от нее желанного свидания. Однако для женщины, столь искушенной в любовных премудростях, какой была Мессалина, не составляло большого труда устроить дело так, чтобы ее поклонник почти каждый день мог видеть ее и еще больше пленяться ее неотразимыми чарами. С этой целью она свела его с Клавдием, и скоро они даже подружились.
Юноша стал частым гостем в Палатинском дворце Августа. Калисто пришел как раз к ужину, но несмотря на это, хозяйка дома приказала кубикуларию не сразу звать ее супруга в триклиний и, воспользовавшись заминкой, рассказала либертину о том, как Квинтилия согласилась скомпрометировать Руфа Криспина перед Цезарем. Тот внимательно выслушал и пообещал на днях - когда тиран уже будет настроен против префекта претория - упомянуть о достоинствах старого трибуна Клемента Аретина, которого Валерия хотела видеть преемником Криспина.
Юноша остался ужинать с Клавдием, тотчас принявшимся любезничать и без умолку говорить о себе. Брат Германика, не видевший рядом ни Палланта, ни Полибия, позволил себе настолько разоткровенничаться, что стал жаловаться на свою позорную бедность. В ответ на это влюбленный либертин упомянул о своем состоянии в сорок миллионов сестерциев и предложил часть этой суммы супругу Мессалины. Калисто казалось, что, сделав Клавдия своим должником, он как бы отплатит за право похищать у него страстные поцелуи его жены. Клавдию Друзу очень хотелось получить деньги, в которых он действительно нуждался, однако он боялся, что этим навлечет на себя гнев своей Валерии, поэтому, пылко поблагодарив Калисто, он ответил, что прежде всего ему необходимо посоветоваться с супругой. Тут либертин вспомнил о предстоящей беседе с Гаем Цезарем и, радуясь случаю выбраться из столь щекотливой ситуации, покинул дом Августа.
Не успело наступить следующее утро, как к Мессалине ворвалась ликующая Квинтилия и с порога бросилась обнимать и целовать подругу. Старый Абудий Руффон подписал завещание и отдал его главной жрице храма Весты. Немного успокоившись, знаменитая актриса сказала, что она тоже сдержала слово, данное накануне. Встретившись с императором поздно вечером, она как бы невзначай убедила его в непригодности Руфа Криспина для должности прицепса городской гвардии. Это оказалось делом несложным: подозрительный Калигула был рад возможности показать свирепый нрав и нагнать страху на всех приближенных. Выслушав гостью, которая гордилась удачей, и в то же время не переставала целовать свою благодетельницу, Мессалина заметила, что мало подписать завещание Абудия. Теперь этого старого вольноотпущенника нужно держать за бороду да получше присматривать за ним, и поэтому Мессалина назначила Руффону новое свидание через три-четыре дня.
- Как ты добра, моя великодушная Валерия! - воскликнула Квинтилия, благодарно прижимая к себе ее руки.
- Еще бы: ведь двенадцать миллионов сестерциев на улице не валяются! - ответила Мессалина, - и ради тебя мне придется еще не раз пожертвовать собой. Хотя, я думаю, здоровье Руффона не настолько хорошо, чтобы он пережил эту зиму.
- О! врач Алкион, который ухаживает за ним, утверждает, что Абудий не увидит следующей весны.
Поболтав еще немного, Квинтилия еще раз поблагодарила Мессалину и покинула ее. На следующее утро супруга Клавдия навестила Локусту, которая показала ей маленький зеленый пузырек, приготовленный для Цезонии Милонии, и подтвердила, что его содержимое подействует молниеносно. Этот пузырек в тот же день очутился в руках Цезонии, выполнившей все указания своей новой подруги и подробно ей рассказавшей об этом.
- А скажи мне, Локуста, сколько раз Гай должен принимать твое зелье?
- Три раза. Подмешивай его в вино или фруктовую воду.
- А… точно ли оно не принесет вреда моему обожаемому Гаю?
- Вреда? Что ты имеешь в виду, когда произносишь это слово?
- Я хочу быть уверенной, что не отравлю его.
- Да ты с ума сошла! Разве я похожа на отравительницу?
- Ох, боги не позволяют мне так думать! Я спросила, потому что теряю голову от любви к моему Гаю и не знаю, вдруг слишком велика доза этого снадобья. Ты ведь понимаешь, дорогая Локуста, любви без страха не бывает.
- В таком случае тебе нечего бояться! - сказала колдунья. - Жизни Гая Цезаря этот напиток не угрожает. Конечно, мой препарат воздействует на отдельные мозговые фибры и в первое время его мысли будут немного другими, но, между нами говоря, особых перемен не произойдет.
- Ну, если это так… то немного безумия Гаю не повредит.
- Ах… Так ты согласна?
- Нужно быть совсем глупой, чтобы не согласиться, - ответила Цезония и, протягивая Локусте кошелек, набитый золотыми монетами, добавила:
- В общем, я бы не была против, если бы это зелье сильнее повлияло на рассудок Гая, потому что тогда он не смог бы разлюбить меня, даже если бы захотел.
- Ну так я ручаюсь, что через восемь дней божественный Цезарь будет одержим такой сильной страстью к тебе, что позабудет обо всем остальном.
- О! Благодарю, благодарю тебя! - прошептала Цезония, целуя руки колдуньи и пузырек с жидкостью. - Мне другого и не надо. Лишь бы он без ума любил меня. Если он будет гореть такой страстью ко мне, как ты говоришь, то я найду применение и его сумасшествию. Еще раз благодарю тебя, и прощай.
На этом императрица рассталась с ворожеей и, усевшись в носилки, отправилась в храм Зевса Капитолийского, чтобы посвятить жертвы богам. Локуста ей не лгала: призвав на помощь весь свой опыт, она постаралась выполнить желание Цезонии Милонии и в то же время угодить Мессалине. Для этого она составила напиток из таких трав, которые с одной стороны должны были вызвать у тирана любовную страсть к его несчастной супруге, а с другой стороны - нарушить умственную деятельность Цезаря. Таким образом, находчивая гадалка не обманула обеих матрон, недовольство каждой из которых имело бы для нее самые печальные последствия. Конечно, она знала, что Мессалина заметит новое влечение Калигулы к жене, но заранее решила объявить его результатом умопомешательства, а не зелья.
Спустя четыре дня Цезония, сумевшая три раза незаметно подмешать содержимое пузырька к вечерним трапезам Калигулы, стала наблюдать за действием снадобья. Тайком от нее за этим следила и Мессалина. Однако их ожидания оправдались только через десять дней, когда император появился в сенате и, выступив там с бессвязной речью, приказал издать указ, позволявший рабам подавать в суд жалобы на своих хозяев. Более нелепого распоряжения невозможно было представить: оно подрывало саму основу римского общества, но не облегчало участи невольников, не имевших возможности обратить во благо полученную ими частичную свободу. Отныне безопасность государства подвергалась угрозе как со стороны рабов, так и со стороны оскорбленных граждан Рима. Тем не менее ни один сенатор не посмел высказаться против этого самоубийственного закона. Наоборот, отцы города единодушно поддержали Цезаря. Радуясь, словно одержал великую победу, он вернулся во дворец и спросил у обнявшей его Цезонии:
- Сколько месяцев ты ждешь ребенка?
- Семь месяцев назад умер мой первый супруг, а через три месяца ты впервые повстречался со мной и сделал меня счастливейшей из женщин. Вот уже восемь месяцев, как я беременна. Я ждала ребенка еще тогда, когда был жив мой первый муж.
- Хорошо! Хорошо! - сказал Калигула, бросая то влево, то вправо лихорадочный взгляд. - Это не имеет значения. Если мужчина и женщина вместе, то у них обязательно должен кто-то родиться. Значит, это будет мой ребенок. Это будет мой сын!
- Ох! Бедный мой божественный Гай! - прошептала Цезония. Она ликовала в душе: слова императора показались ей первым признаком благоволения, обещанного Локустой.
- Это мой плод, - перебил ее Калигула, поглаживая круглый живот супруги под туникой, - потому что я люблю тебя. Ты меня понимаешь? Потому что я люблю тебя, как ни одну другую женщину в целом мире.
С этими словами он внезапно сжал Цезонию в объятиях и, словно обезумев от этой ярости и нежности, сильно сдавил зубами ее подбородок. Вскрикнув, женщина вырвалась из его рук, схватилась за укушенное место, однако, немного овладев собой, вдруг просияла радостной улыбкой и воскликнула:
- Ох! Так вот как ты меня любишь! Как я хотела видеть тебя таким!
И тогда Калигула, приходя во все большее исступление, стал осыпать ее пощечинами и ударами кулаков, попадавших ей то в голову, то в плечо, то в грудь. Но вдруг вновь с яростной нежностью обнял ее и, стараясь не причинять вреда, повалил на ковер. Она обхватила его спину и, словно в каком-то бреду продолжала извиваться в судорогах и шептать:
- Ох… Гай… Божественный Гай… Как я хотела… чтобы ты так любил меня! Бей меня! Дави меня сильнее. Твою рабыню, которая тебя так обожает!
В тот же вечер за ужином в триклинии, где собрались Цезония, Альбуцилла, Квинтилия, Нимфидия и многие постоянные участники дворцовых оргий, император долго говорил о новом законе, позволявшем рабам жаловаться на хозяев, и похвалялся тем, что теперь казна будет чаще пополняться имуществом осужденных. Затем в его голову внезапно пришла какая-то новая мысль, и он приказал срочно привести к нему обоих консулов - Марка Санквиния Максима и Луция Апрония Цезания. Когда появился старый тучный Максим, Калигула молча указал ему на пустовавшее курильное место, жестом велел сесть и, больше не обращая на него никакого внимания, принялся за еду. Вскоре после этого в зал вошел другой консул - Луций Цезаний - и, по знаку Цезаря, уселся рядом с Санквинием Максимом.
- Я вызвал вас, почтенные консулы, для того, чтобы сообщить о деле, имеющем чрезвычайно важное значение для Республики, - наконец отодвинув от себя блюдо, торжественно сказал император.
- Мы к твоим услугам, божественный Гай, - озабоченно произнес консул Санквиний Максим и, откашлявшись, приготовился слушать.
- Потому мы так спешили на твой срочный вызов, - добавил Луций Апроний.
- Дело чрезвычайной важности… чрезвычайной! - с пафосом повторил Калигула, словно хотел заранее переубедить тех, кто вздумал бы отрицать важность дела, из-за которого он вызвал консулов в столь поздний час. В триклинии воцарилась полная тишина. Все гости встали и с напряженным вниманием посмотрели на императора, который тоже взглянул на них и вдруг разразился долгим и громким смехом. Ничего не понимая, консулы задрожали от этого безумного и свирепого хохота. Наконец смертельно побледневший Максим решился спросить:
- Позволь узнать, божественный, над чем ты так заразительно смеешься?
- Да над чем же мнё еще смеяться, как не над тем, что, если я захочу, то по первому моему знаку вы оба лишитесь своих голов?
И снова расхохотался. Но вдруг замолчал - так же неожиданно, как и начал смеяться, и среди, всеобщего безмолвия яростно закричал:
- А теперь убирайтесь прочь!
Ни живы, ни мертвы, консулы, едва переставляя непослушные ноги, вышли из зала. Тогда Калигула обнял Квинтилию и, у всех на глазах лаская ее, увлек, в соседнюю комнату.
На следующее утро город узнал новость, изумившую каждого, кто ее слышал: на место Руфа Криспина, смещенного с поста начальника претория, был назначен Клемент Аретин. Говорили, что прежнего префекта гвардии император отправил управлять какой-то провинцией. Еще через одиннадцать дней Цезония Милония родила на свет девочку. Ее появлению Гай Цезарь радовался как подарку судьбы. Когда новорожденной исполнилось десять дней, Калигула представил закутанную в шелка маленькую Друзиллу (названную так в честь его горячо любимой сестры) сенату и народу, специально для этого собравшемуся в храме Зевса Капитолийского. Взяв малышку на руки, он нежно поцеловал ее и положил на колени статуи Зевса со словами:
- Вот, римляне, дочь вашего божественного наивысочайшего императора Гая Цезаря Августа! Смотрите на эту малютку - она происходит из рода самых верховных божеств. Любуйтесь на этого младенца, дочь мою и дочь Зевса. Вот почему я возложил ее на колени верховного бога Олимпа. Моя Друзилла рождена от двух божеств: от того, кто правит на небе, и от того, кто правит на земле. Вы знаете, кто из них могущественнее!
Когда он замолчал, из толпы раздались голоса консулов, сенаторов, придворных и знатных горожан, призвавших славить Гая Зевса Лацайского, самого могущественного из всех богов, существовавших до сих пор и будущих когда-либо впредь. После этого император приказал всем преклонить колени перед малюткой. Грозно оглядев толпы склоняющихся людей, он передал девочку кормилице и с небольшой свитой направился во дворец.
ГЛАВА X
В последний день ноября того же 792 года высокий голубоглазый юноша одиноко брел по консульской дороге, проложенной на левом берегу Рейна и упиравшейся в стены замка Уби, через двенадцать лет переименованного в колонию Агриппины. Холодный северный ветер раздувал его огненные кудри.
Мутный солнечный диск медленно скользил между черными стволами дубов и каштанов, торчавших из сухой черной листвы, устилавшей мерзлую землю и шелестевшей под ногами путника. Кроме него, на дороге почти никого не было, если не считать тяжелой крестьянской повозки с дровами, запряженной двумя волами, которые с трудом тащили ее по направлению к стране батавов[139], да еле слышного звона колокольчика, доносившегося откуда-то сзади: может быть, там какой-нибудь мул вез мешок пшеницы в Бургундию. Вскоре крестьянин, правивший волами, жалобным голосом затянул песню о богине Фрее[140], оплакивавшей несчастья его родной Германии, и свернул с пути, ведущего в замок Уби. Юноша, оставшийся единственным человеком на всей дороге, был облачен в одежду римского сановника. Судя по знаку на его шлеме и голубому плащу, из-под которого высовывалась рукоять меча, он принадлежал к свите императора Гая Цезаря Калигулы, пришедшего с войском на берега Рейна, чтобы разбить непокорные германские племена. Прошагав еще немного, молодой римлянин остановился и, оглядевшись по сторонам, уселся на ствол ясеня, поваленного на самом склоне холма, под которым, за заболоченными зарослями пожухлого камыша и дрока, текли желтые воды Рейна. Вытащив из-за голенища сапога вчетверо сложенные листки папируса, воин аккуратно развернул их и стал внимательно читать. Потертые края и пятна воска на страницах письма говорили о том, что их уже не раз извлекали на свет и, осторожно разгладив, перелистывали на дневном привале или ночью, в комнате, озаренной дрожащим мерцанием свечи. Вот что было написано в послании:
«Милому и прелестному Калисто от Валерии Мессалины, желающей ему здравствовать.
Наконец-то я получила твои письма от 23 и от 27 октября. Не передать словами, как они обрадовали женщину, живущую ожиданием твоих объятий. Скажу только, что моя радость была так же драгоценна, как и недолговечна: ведь строчки твоих посланий пылали такой горячей любовью, что, читая их, я как будто слышала твой нежный голос, чувствовала твое дыхание, видела твои ясные и чистые глаза. Я настолько поверила в твое присутствие, что была готова протянуть ладонь и позвать тебя, обнять, прижаться к твоей груди. Но увы, дочитав последнее слово, я с горечью обнаружила, что в моих руках нет ничего, кроме листков папируса, а все-таки на них остался след твоих мыслей, твоих переживаний! Тогда я подумала о том, что ты прикасался к этим страницам - и горячо расцеловала их. О, твои поцелуи! Когда они вернутся ко мне? Как я понимаю твое отчаяние, с которым ты пишешь о расстоянии, вот уже шесть месяцев разделяющем нас, и знаешь, почему я так отчетливо представляю твою боль? Потому, что с тех пор, как мы находимся вдали друг от друга, я с каждым днем все сильнее чувствую точно такую же тоску, разрывающую мое сердце! Ох! Когда же я тебя увижу, мой милый Калисто? Я теряю покой, вспоминая о нашей разлуке и надеясь на более счастливые дни. Признаться, меня стало очень тревожить наше будущее, особенно, когда я узнала из твоего письма, что этот сумасшедший, этот кровожадный и порочный безумец отправился на войну только ради собственной потехи, что он привел на берега Рейна двести тысяч человек, каждый день содержания которых обходится казне в немалую сумму, только для того, чтобы насмеяться над их доблестью и боевыми заслугами.
Впрочем, не буду скрывать: я рада тому, что вы не встречаете неприятельских армий, и следовательно, я могу не бояться за твою жизнь, значащую для меня так много. К тому же ты уверяешь, что стоит только появиться вражескому авангарду, как этот безумец сразу обратится в бегство и повернет за собой все войско. Честно говоря, это придает мне сил, хотя иногда я задаю себе вопрос: но зачем тогда нужны все эти войска и походы? Хотелось бы знать, что творится в голове этого помешанного человека, хвастливого, как Улисс, трусливого, как Терсит[141] и куда более свирепого, чем Аякс![142] Что он думает делать дальше? Когда хочет вернуться в Рим? Как проводит время? Как поживает его бесподобная Цезония? И эта бедная малютка, дочь двух Зевсов? Интересно, чем занимаются его неугомонные Агриппина и Ливилла, которых он хотел прогнать из-за их бесстыдного распутства? Что они говорят, как проводят время? А главное, каковы намерения этого нелюдя, позорящего великий род Германика? Собирается ли он покинуть замок Уби и перейти Рейн? Наверное, странно видеть холодное солнце, пробираться через льды и сугробы снега?
Ох, вспомнила! До нас дошло одно удивительное известие, которое в городе почти никто не обсуждает, опасаясь шпионов и доносчиков, расплодившихся в последнее время. Так вот, говорят, в первые дни похода Гай заставлял солдат идти таким быстрым маршем, что преторианцы, не успевая нести за ним знамена, вынуждены были погрузить их на мулов. Потом же, наоборот, в каждом городе задерживался на несколько дней, а продвигался дальше со скоростью черепахи, приказав подметать пыль на дороге перед ним [I]. Правда ли это? Если да, то мне и смешно, и грустно.
Впрочем, подобные чувства у меня вызывают и другие подробности вашего похода. От тебя мне стало известно многое, но я никого не посвящаю в свою тайну и делаю вид, что ничего не знаю. Нашего секрета я не открою даже Клавдию, у которого душа живет в каком-то своем замкнутом мире, если она вообще есть у него. Он по-прежнему восторгается подвигами племянника, будто и не ведает, что Гай убивает самых знатных горожан, встречающихся ему в пути, только за то, что они богаты и только для того, чтобы завладеть их имуществом! [II] Подобные известия чудовищны, но нет никого, кто бы им не верил. Кстати, в последнем письме ты пишешь, что у вас поговаривают о любовной связи между Агриппиной и Марком Эмилием Лепидом. Прошу тебя, не спускай глаз с этой парочки, следи за каждым их шагом, за каждым жестом. Я знаю, как ты умен и наблюдателен, как старательно исполняешь все мои желания, поэтому ты поймешь, насколько важна для меня эта новость и с каким вниманием ты должен отнестись к моей просьбе. Но пиши мне обо всем подробно. Меня интересуют все, даже самые незначительные детали и малейшие признаки этой интриги. Ох, как часто я думаю о вашей походной жизни, о вашем военном лагере и о тебе! Как я была бы счастлива превратиться в птицу и перенестись через все расстояния, разделяющие нас! Как я хочу броситься в твои объятия, целовать тебя, а потом заснуть на твоей подушке. Знал бы ты, как часто у меня возникает мысль нарядиться в военный плащ, одеть два поножия, и спрятав волосы под шлемом, с щитом в руке пойти за тобой, чтобы где-нибудь, наконец, отыскать твою палатку!
О мой любимый! Тогда я смогла бы во весь голос, на всю империю воскликнуть: «Видите этого чудесного юношу, прекрасного, как Аполлон, отважного, как Марс и любвеобильного, как Купидон? Это Калисто, мой Калисто, мой, только мой. Я люблю его!» Ох! Однажды я сказала тебе, что тайна- это душа любви. Я и теперь думаю так же. Но, когда такая любовь, как наша, превращается в одно общее чувство, пронизывающее оба наших сердца и наполняющее нашу кровь. О, тогда любовь уже нельзя скрывать! Тогда нужно, чтобы ее увидел весь мир, как если бы она была помещена на самый высокий из всех алтарей, стоящих на земле! Это письмо тебе передаст мой верный слуга Паллант, который отправляется на место вашей стоянки, чтобы вручить Гаю Цезарю кое-какие официальные бумаги от Клавдия. Паллант скоро отправится обратно: воспользуйся же удобным случаем и отдай ему твои письма ко мне. Через день пошли ко мне весточку с твоим преданным рабом Эвгемером. Остальные послания мне привезут Тевтей и Аман, но, если возможно, то пиши мне, пожалуйста, каждый день. Помни: я сгораю от любви к тебе, а не от любопытства, поэтому не нахожу покоя без твоих посланий, в которых ты рассказываешь обо всем, что чувствуешь и видишь. Эту страницу я приложила к груди и поцеловала бессчетное количество раз. Прикоснись к ней губами, и ты почувствуешь, чем переполнена душа твоей Мессалины.
День шестой ноябрьских ид года DCCXCII с основания города».
Поглощенный чтением письма, Калисто то и дело порывисто целовал его, а когда последние строчки проплыли перед его глазами, то он обеими руками схватил листки папируса и, приложив их к губам, долго не отнимал ладоней от лица. Потом он заново перечитал некоторые фразы из послания Мессалины и задумался, глядя на мутные воды реки, медленно протекавшей перед ним. Наконец, бережно сложив драгоценные страницы и спрятав их на груди, он встал и пошел дальше. Через полчаса быстрой ходьбы - юноша начал замерзать - он поровнялся с зарослями осыпавшегося ивняка, в глубине которых высился большой плетеный шалаш. У входа в него стоял на страже легионер. Обернувшись на звук шагов и увидев приближающегося к нему человека в одежде важного сановника, он громко позвал декана, должно быть, находившегося внутри. Однако не успел его начальник выйти наружу, как Калисто уже вошел в шалаш, где на пнях и больших валунах сидели несколько легионеров, оживленно разговаривавших между собой. Небрежно ответив на их подобострастные приветствия, либертин поманил пальцем десятника и, вполголоса сказав ему пароль, беспрепятственно двинулся вверх, к массивным белым башням замка Уби, который снизу казался каким-то сказочным городом, вознесенным к небу и окутанным дымкой облаков. Вскоре он миновал его стены и, войдя в покои Калигулы, - то были самые просторные помещения замка, вот уже много лет служившие пристанищем главнокомандующих римского войска на Рейне, - хотел разыскать своего хозяина, но вспомнил, что в это время тот должен был играть в кости с избранными представителями галльской знати. Тогда юноша предупредил Геликона и Луция Кассия о своем возвращении на случай, если он понадобится императору, и отправился в отведенную ему комнату. Там Калисто запер дверь изнутри и, устроившись за небольшим столиком, принялся писать. Вот его послание:
«Божественной Валерии Мессалине
ее верный Калисто желает здоровья и счастья.
Вчера вечером получил твое письмо, за которое искренне и глубоко благодарен. Каждая строчка, каждое слово, написанное твоей рукой, проливает живительный бальзам на мою тоскующую душу. Я чувствую, как твое освежающее дыхание успокаивает в моем сердце жар, от которого, знаю, смогу найти спасение только в твоих вожделенных объятиях. Только на твоей груди, вновь и вновь опьянясь твоей божественной красотой! О когда же, наконец, закончится эта комедия, которую мы здесь ломаем, ублажая нашего ненавистного тирана? Прошло всего несколько месяцев, а мне кажется, что я целую вечность не видел тебя, моя обожаемая Мессалина, единственная радость и утешение моей несчастной жизни! Если бы я уже давно не презирал этого безрассудного и свирепого зверя, то возненавидел бы его только за то, что ради его пустого увеселения я должен был лишиться нашего солнца, воздуха, без которого не могут дышать мои легкие, и твоих поцелуев, без которых я не могу жить. Только ты и твоя любовь удерживают меня от того, чтобы выпросить у него разрешения покинуть это невыносимо постылое место и, во весь опор примчавшись обратно, броситься к твоим ногам. Но твое желание для меня превыше закона. Какие бы муки мне не пришлось терпеть, я останусь рядом с этим безумнейшим из безумных, пока какой-нибудь случай (а он становится все более вероятным!) не избавит меня от него.
Но лучше рассказывать по порядку.
Мы покинули Лугдун[143] за пять дней до ид этого месяца (9 ноября) и, продвигаясь ускоренным маршем, прибыли сюда как раз в ноябрьские иды. Замок Уби, где я пишу эти строки, был назван так знаменитым Марком Веспасианом Агриппой: восемьдесят лет назад он переправил через Рейн трибу Уби, которая на правом берегу подвергалась частым набегам варваров. С тех пор замок стал оплотом римских легионов, защищающих границу империи. Вокруг него постоянно обитают до нескольких тысяч местных жителей. В первый же день мы перешли мост через Рейн и сделали пробную вылазку против неприятеля, которого на самом деле нигде не было. Однако нашему храброму полководцу не терпелось одержать победу над несуществующим врагом, и вскоре двухтысячный отряд отборных легионеров уже пробирался по узкой тропинке между холмами, высящимися на правом берегу. Тогда-то и случилось одно из тех смехотворных происшествий, что почти каждый вечер обсуждаются в нашем лагере. То ли Апелл, то ли Геликон - я не знаю точно, так как находился впереди колонны, - неожиданно заметил, что в случае появления противника наше войско будет представлять для него легкую добычу, поскольку в гористой и лесистой местности солдаты не успеют развернуться в боевой порядок. Это настолько перепугало нашего доблестного главнокомандующего, что он немедленно бросил всех своих подчиненных и обратился в бегство. Не разбирая дороги, он бросился назад, к мосту, через который даже не все подразделения успели переправиться. Тогда, трясясь от страха и осыпая проклятиями бедных легионеров, он велел перенести его на руках, передавая над головами людей и лошадей, стоящих на мосту. Успокоился он не раньше, чем очутился за стенами замка [III].
Я уже писал тебе, что он привел с собой две великолепные боевые когорты, составленные из германских, бургундских и батавских солдат, которые вместе с когортами преторианцев служат его телохранителями. Но угадай, какую шутку он решил сыграть с этими верными и бесстрашными воинами! Не догадываешься? Он выбросил пять сотен этих преданных воинов и, велев им переодеться на манер варваров, отправил безоружными в ближайший лес, чтобы они там затаились, изображая отряд неприятеля. Прошло еще два дня, и вот однажды в разгар шумного застолья - какие здесь устраиваются чуть ли не каждый вечер - он неожиданно выскочил из-за стола и, объявив о приближении бесчисленных вражеских полчищ, приказал всем легионам поспешить на берег Рейна. Там он взобрался на плечи рабов и прокричал:
- Коня мне и меч Александра Великого! Трубить во все трубы: мы выступаем на битву с врагом. Сейчас вы увидите, как ваш император сражается за честь и славу Республики!
И, оседлав своего Инцитата, во главе легионов бросился в лес, где прятались бедные германцы. Всех их он взял в плен и, вернувшись с победоносным видом, стал хвалиться своей храбростью [IV].
После этой «блестящей» операции он отправил сенату и консулам послание, в котором превозносил свои заслуги - в особенности, только что одержанную победу - и бранил подлых римских горожан, предающихся несвоевременным увеселениям и забавам в то время, как их прицепс подвергает свою жизнь опасности, борясь за величие империи.
Это послание должно прийти в Рим раньше моего письма, и я думаю, что, наслушавшись немало разговоров о военных успехах Цезаря, ты вряд ли удержишься от улыбки, когда прочитаешь вышеизложенное. Но теперь о главном: как я тебе говорил, события могут принять такой оборот, что наши надежды осуществятся раньше, чем мы думали. Правда, сейчас ты увидишь, что мы с тобой тоже подвергаемся огромной опасности. Поэтому я спешу предупредить тебя, зная, что ты будешь держать в строжайшем секрете все, что я сейчас скажу (мне также известна преданность твоего слуги Полланта, который передаст тебе почту от меня). Речь идет не больше и не меньше, чем о заговоре. Его замыслили - представляю, как ты будешь изумлена! - Гней Корнелий Лентул Гетулик, проконсул и начальник римских легионов в Германии, присоединенных к тем войскам, что привел с собой Калигула, - и - как ты думаешь, кто еще? - Марк Эмилий Лепид, тот самый куриальный эдил, смелость и тщеславие которого тебе хорошо известны. Однако еще больше ты удивишься тому, что в их действиях принимают участие Агриппина и Ливилла, сестры Гая. Такому их решению немало способствовало незаслуженное оскорбление, которое Цезарь во время болезни Друзиллы нанес Агриппине - я сам видел, как он ударил ее по лицу. С тех пор она затаила смертельную ненависть к брату. Тут сыграли большую роль и постоянные унижения обеих женщин - ты ведь знаешь, что этот гнусный тиран не только жил с ними как с любовницами, но и отдавал их на потеху своим приближенным, - из-за этих и многих других его поступков они в последние месяцы заметно отдалились от Гая. Наконец, их растущая ревность к успехам Цезонии Милонии, вытеснившей из сердца императора все былые симпатии и родственные привязанности, тоже повлияла на желание дочерей Германика вступить в сговор против их брата.
Короче говоря, суть их затеи заключается в том, чтобы свергнуть Цезаря и, опираясь на поддержку Гетулика с его легионами, поднять на трон Лепида, с которым Агриппина, уже два месяца ночующая в спальне эдила, намеревается вступить в брак. Но я думаю, что расчетам честолюбивой жены Домиция Знобарба не суждено оправдаться. Главная ее ошибка состоит в том, что она не учитывает существования Клавдия, единственного реального престолонаследника, приходящегося братом самому Германику. Кроме того, она, видимо, плохо понимает, что в Риме нельзя не считаться с властью курии и сената, которых поддерживают мечи преторианцев и которые ни за что на свете не станут подчиняться ставленнику легионов. Новый император может быть избран не иначе, как под бурные приветствия гвардейцев, вместе с отцами города и со всем народом, благославляющим нового главу государства. Так было по сей день, и так будет впредь, но этого не сознают заговорщики, и, конечно, их замыслы обречены на провал. Но именно потому я лью воду на их мельницу, хотя мог бы создать им множество препятствий вплоть до полного пресечения их планов. Я убежден, что им удастся только посеять семена успеха, а урожай достанется тебе и Клавдию. С другой стороны, дело, на которое они решились, потребует долгих приготовлений, и я думаю, что ты успеешь послать мне весточку, если найдешь какой-либо промах в моих рассуждениях. Впрочем, тебе, прекрасная Мессалина, наверное, не терпится узнать, как мне удалось проникнуть в тайну заговора, хотя разумеется, его участники изобрели множество уловок, чтобы скрыть свои намерения.
В когортах германских телохранителей Цезаря есть один молодой центурион по имени Бринион. Он - батав, у него голубые глаза, стальные мускулы, волосы соломенного цвета. Как все варвары, он презирает жизнь и обожает только две вещи: игру в кости и вино. За несколько лет общения с легионерами, он изучил наши обычаи и язык. Разбирается и в торговле, и в некоторых ремеслах. Мы знакомы почти три месяца. Он часто проигрывается в пух и прах, и тогда просит у меня денег. Я уже одолжил ему порядочную сумму и знаю, что никогда не получу ее обратно. Впрочем, это меня ничуть не огорчает, потому что теперь у меня есть надежный человек в германских когортах, охраняющих Гая. Это может очень пригодиться, если все-таки нам самим придется свергнуть нашего безумного императора.
Как видишь, я стараюсь все предусмотреть и, наподобие трудолюбивого муравья, по крохам собираю запасы, которые могут понадобиться, когда кончится лето и наступит зима. Суди сама, как я люблю тебя, раз все свои помыслы и поступки направляю только на осуществление твоих желаний, наполняющих всю мою жизнь и придающих ей единственную, но благословенную цель. Кстати, тебе небезынтересно будет узнать еще одну новость, хотя она, может быть, не особенно удивит тебя. Как и следовало ожидать, Ливилле очень быстро надоела повседневная жизнь военного лагеря, и она от скуки решила выяснить, правда ли, что варвары умеют любить так же, как и римляне. Но на кого же пал ее выбор? На Бриниона! - я уже давно заметил, какими красноречивыми взглядами они обменивались. Как часто батавский центурион находил время и повод появляться в доме, где остановился Калигула и его сестры. Конечно, эти малозначительные признаки могли быть случайными совпадениями, а главное, ничего не говорили о том, как далеко зашли их отношения.
Но однажды мне предоставилась возможность проверить свои предположения. Как-то раз, поднявшись до рассвета, - я плохо сплю, потому что меня лишают сна разлука с тобой и ожидание нашей будущей встречи - так вот, выйдя из своей комнаты и все еще думая о тебе, я стал прохаживаться по коридору, вдоль которого тянутся покои императорской семьи, как вдруг лицом к лицу столкнулся с Бринионом, осторожно выскользнувшим из спальни Ливиллы. На мое удивленное восклицание сконфуженный германец ответил какими-то нечленораздельными звуками, которые, вероятно, должны были оправдать его присутствие в столь неподходящем месте и в столь неподходящее время.
- Послушай, Бринион, - наконец, сказал я ему, - неужели ты думаешь, что мне не известно о твоей связи с принцепессой? Ты видишь, я застал вас врасплох! К чему же тогда стараться скрыть то, за что я вовсе не намерен винить тебя?
Поразмыслив над моими словами, но все еще не оправившись от смущения, Бринион был вынужден сознаться, что любит Ливиллу, и стал умолять меня не навлекать на него гнев Цезаря. Получив от меня это обещание, он взволнованно поблагодарил за такое великодушие и с признательностью добавил:
- Поскольку ты всегда был добр ко мне и моя любовь к сестре Калигулы может причинить мне великие неприятности, то я хочу рассказать тебе об одном деле. Для тебя оно значит очень много, а для меня грозит огромной опасностью, и - кто знает? - может быть, мне еще раз понадобится твоя выручка.
- Если ты имеешь в виду какие-то денежные затруднения, то, разумеется, мой кошелек к твоим услугам, - ответил я, усмехнувшись. - Мне нравится твое бесхитростное прямодушие: я даже скажу, что в нем больше благородства, чем в изысканных манерах людей, с которыми мне обычно приходится общаться. Я уверен, что мы с тобой поладим и станем верными друзьями.
Батав схватил меня за локоть своими стальными пальцами и порывисто прошептал:
- Нет, я говорю не о деньгах… Но все равно я буду твоим другом до гробовой доски.
И, произнеся какие-то чудовищно грубые заклинания, призывающие всех его варварских богов быть свидетелями искренности этих слов, он тут же добавил:
- Это место не подходит для нашего разговора. Когда мне можно будет прийти в комнату, в которой ты остановился?
- Да зачем же терять время? Мы можем туда направиться прямо сейчас, - ответил я, решив, что в знак своего расположения батав намеревается посвятить меня в какую-то чрезвычайно важную тайну. Я не хотел дать ему времени на размышление, опасаясь, что он передумает.
- Хорошо, идем, - согласился Бринион. Я провел его к себе. И вот, взяв с меня торжественное обязательство не доверять услышанного ни одной живой душе, он рассказал мне о том, как сестра Цезаря страдает от беспредельной жестокости и еще большей распущенности своего сумасшедшего брата, позорящего не только ее саму, но и весь дом Юлиев, не говоря уже об оскорбленной чести римского народа и как Ливилла посвятила его в историю Марка Юния Брута, пожертвовавшего детьми ради спасения Республики, и еще она поведала о подвиге Тита Манлия Торквата, который из-за любви к родине был вынужден отрубить голову собственному сыну, как она понимает свою сестру Агриппину, как сочувствует ее желанию последовать этим великим примерам самопожертвования и любви ко всеобщему благу, оставленным нам в назидание доблестными предками, которые, конечно, не остановились бы перед тем, чтобы избавить государство от порочного тирана, даже если бы он был их родным братом. Передав буквально все ее слова, Бринион добавил:
- Так получилось, что из-за своего проклятого неравнодушия к ласкам Ливиллы я против собственной воли оказался замешанным в заговор, который задумали сестры Калигулы, намеревающиеся свергнуть брата с помощью Гетулика и Лепида. Спрашивается, зачем мне все это нужно и как я, несчастный, должен теперь вести себя? Забыть о лучших обычаях моего народа и предать императора, который доверяет мне? Обмануть женщину, которую люблю и которая открыла мне свою сокровенную тайну? Разумеется, я не смогу выполнить требования заговорщиков и участвовать в убийстве Цезаря. Но так же верно и то, что я не в силах причинить зла ни Ливилле, ни Агриппине! Что же мне делать? Где найти выход? Вот о чем я спрашиваю тебя, мой дорогой Калисто.
Мне стало жалко бедного батава, в глазах которого я прочитал отчаянную мольбу о помощи и горький упрек злосчастной судьбе, заставившей его отказаться от беззаботной жизни в родном племени и вступить в римский легион. Немного подумав, я посоветовал ему следующее: прежде всего, оставить все так, как есть, и позволить событиям развиваться своим чередом. Далее, никому не говорить ни слова о том, что он доверил мне. Ни в коем случае не рассказывать Ливилле о том, что я знаю ее тайну, и я тоже буду держать нашу встречу в строжайшем секрете. Внимательно следить за действиями заговорщиков и о каждом их шаге сообщать мне; со временем ситуация прояснится, и тогда мы вместе решим, что нам предпринять. С тех пор прошло десять дней. Бринион каждое утро навещает меня и делится со мной всеми новостями, которые ему удается выведать. Теперь мне точно известно, что четверо сообщников окончательно решились на кровавое злодеяние, но пока они не договорились только о месте и времени его осуществления.
К сказанному следует добавить, что в последние дни Бринион пьет и проигрывается больше, чем обычно. Как следствие, он все чаще прибегает к помощи моего кошелька, в которой я и не думаю отказывать, ведь от поощрения его пороков и, стало быть, от его привязанности ко мне зависит моя осведомленность в делах заговорщиков и в намерениях самого Калигулы. Выгода несомненна, ибо, держа в руках нити их жизней, я могу управлять ходом событий по твоему желанию. Сейчас все в моей власти: стоит тебе подать знак, как я крикну во весь голос: «Берегись, Цезарь, тебе грозит огромная опасность!», а если ты сочтешь нужным, то я даже выдам имена всех заговорщиков, но если тебя устраивают мои рассуждения, то я не буду ни во что вмешиваться, и тогда через пару месяцев мы станем свидетелями гибели тирана.
Впрочем, прочитав эти строки, ты, наверное, мысленно предостерегла меня как от излишнего самомнения, так и от чрезмерного доверия к Бриниону, который - кто знает? - может вводить меня в заблуждение. Но, да сохранят меня боги от того, чтобы я стал жертвой обмана, пусть даже не обмана, а невинного розыгрыша ради тех денег, которые хитроумный батав - а вдруг - решил выудить у меня таким способом… о худшем я, признаюсь, тоже думал и поэтому стараюсь ловить каждое слово Агриппины, Ливиллы, Лепида, Гетулика и, конечно, самого Бриниона. Но чем больше я наблюдаю за ними, тем больше убеждаюсь в правдивости его слов.
А коли так, то ты, моя повелительница и госпожа, можешь распоряжаться мною, как самым преданным рабом. Я же выполню любое твое пожелание.
На этом я должен закончить письмо, в которое вложил всю душу и преданность тебе, обожаемая Мессалина. Надеюсь, что мое послание скоро окажется в твоих руках. Все его страницы я много раз целовал, завидуя им и горько сожалея о том, что не смогу увидеть тебя раньше, чем эти строки.
Я люблю только тебя и знаю, что без тебя не смогу жить.
Из замка Уби в третий день календ декабря
года 792 с основания города».
Дописав последнюю строчку, Калисто поцеловал листки папируса, свернул их трубочкой и положил в ларец из черного дерева, который тут же запер на ключ. Потом он снял щеколду с входной двери, осторожно выглянул в коридор и, убедившись, что в нем никого не было, направился в покои императора.
Там его ждали неожиданные известия.
Едва успев переговорить с Геликоном, Апеллом, Вителием и Луцием Кассием, вокруг которых собрались трибуны легионов и придворные, он увидел, как в помещение вбежал взволнованный Калигула. На нем были доспехи, сиявшие золотом и драгоценными камнями.
Заметив Калисто, он задержался и воскликнул:
- А! Калисто! Разве ты не друг Высочайшему Повелителю Гаю Цезарю Августу, истинному сыну Германика и его достойному последователю? Почему ты не радуешься вместе со мной? Разве ты не слышал нашу великую новость?
С этими словами он остановил на либертине свой лихорадочно блуждающий взгляд и, схватив его за плечи, порывистым движением прижал к груди.
- Разумеется, мой божественный император, я знаю это счастливое известие и благодарю фортуну, заботящуюся о своем достойном избраннике. Подвиги Геркулеса мне кажутся смехотворными по сравнению с твоими! Твой верный раб поздравляет своего прославленного хозяина и заверяет его в своей неизменной готовности служить ему!
- Спасибо, спасибо, мой дорогой Калисто! Я люблю тебя, я знаю твою преданность. Сомневаться в твоих чувствах ко мне - все равно, что сомневаться в любви моей несравненной Цезонии!
И, повернувшись к супруге, на которой были легкие, но изысканно роскошные доспехи и изящный шлем, он раскрыл объятия и бросился к ней. Страстно поцеловав ее прямо на глазах у придворных и легионеров, он возбужденно проговорил:
- Я буквально заворожен твоей красотой, моя очаровательная Цезония. Ты вызываешь во мне столько чувств, что я готов потерять голову от любви к тебе.
И, в ответ на загадочную улыбку на устах Цезонии, добавил:
- О, как ты восхитительна, моя Цезония! Ты мне нравишься в этом мужском наряде! Я хочу, чтобы ты в таком виде предстала перед всем войском.
Затем он резким движением освободился от рук торжествующей Милонии и, радостно ухмыляясь, произнес:
- Как я хочу вспороть тебе живот и вытащить внутренности, чтобы найти секрет твоих чар, которыми ты удерживаешь меня!
- О! Эти чары в бесконечной преданности и в беспредельной любви к тебе, божественный Цезарь! - воскликнула женщина. - А также в твоей безмерной доброте, которой ты окружаешь свою верную рабыню. Знай, мой повелитель, что если ты действительно захочешь увидеть мои внутренности, то - да благословен будет тот нож, которым я сама разрежу свой живот, чтобы доставить тебе удовольствие.
- О любимая моя! - прорычал император, снова прижимая к себе Цезонию и страстно лаская ее.
Вскоре он повлек ее к выходу из зала, крича собравшимся:
- Идемте! Идемте все! Сегодня самый счастливый и великий день! Идемте, наши легионы и наши пленники ждут нас!
И покинул свои покои с такой поспешностью, что не все придворные, о которых он словно тотчас же позабыл, могли его догнать. Вот этим небольшим замешательством и воспользовался Калисто, чтобы ненадолго затвориться у себя в комнате и, достав из шкатулки письмо к Мессалине, сделать следующую приписку.
«Постскриптум.
Сейчас произошла настолько уморительная сцена, что если бы ее описать в духе нашего остроумнейшего Плавта[144], то она, вероятно, вызвала бы не меньше рукоплесканий, чем его «Золотой осел». Сегодня к нам прибыл молодой Адмоний, сын британского царя Кинобеллина[145], выгнанный из дома за свой дурной нрав и недостойное поведение. С отрядом в тридцать таких же беспутных юнцов, как и он сам, этот несчастный царевич сбежал под защиту Цезаря, надеясь на его милость и на великодушие римского народа. Увы, они пережили страшное потрясение, когда наш свирепый безумец тут же приказал заковать злополучных беглецов в цепи и заточить в темницу, потому что посчитал их пленниками в войне, которую прежде даже не замышлял и, уж конечно, не начинал. Более того, он выстроил перед собой все легионы, чтобы выступить с торжественной речью и, показав войску бедных узников, поздравить солдат с тем, что под его началом они завоевали Британию - о существовании которой многие новобранцы из местных жителей даже не ведали - и в честь этой выдающейся победы потребовать, чтобы отныне его величали не иначе как Британик [V]. И вот, легионы, никогда не видевшие этой далекой страны, дружно приветствовали божественного Августа Германика Британика. Сегодня вечером он хочет послать пространное донесение консулам, приказав не читать его, прежде, чем сенат в полном составе не соберется в храме Марса. Паллант, которого он назначил гонцом, готов отправиться в путь немедленно, и это вынуждает меня торопиться. Я хочу, чтобы мое письмо как можно быстрее попало в твои руки, а для этого лучше всего воспользоваться удобным случаем и передать послание императорскому курьеру, которому велено не слезать с колесницы до тех пор, пока он не прибудет в Рим. Поэтому я спешно прощаюсь с тобой, хотя и мог бы писать до рассвета, представляя, что разговариваю с тобой и чувствую твое нежное дыхание. Тысячу раз целую твои руки и губы».
Это письмо, аккуратно свернутое, запечатанное и вложенное в тростниковую трубочку, Калисто передал Палланту, который в ту же ночь отправился в Рим. А на следующее утро Калигула покинул замок Уби и во главе трех легионов выступил в сторону Лугдуна. Германцев и британцев, плененных столь странным образом, он взял с собой. Через восемь дней войско, продвигавшееся ускоренным маршем, достигло цели своего похода. Там его уже ждали магистраты и жители города, размахивавшие ветвями оливы, лавровыми венками и букетами цветов. Они восторженно приветствовали покорителя Германии и Британии. Довольный этим торжественным приемом, император со своей армией на несколько дней остановился в Лионе. В честь гостя в городе были устроены иллюминации, битвы гладиаторов, охоты на зверей и другие пышные зрелища.
Множество знатных галлов из окрестных городов съехались в Лион, чтобы принять участие в празднествах, посвященных Цезарю, присутствие которого, несмотря на его необузданный нрав, льстило самолюбию людей, желавших, чтобы их небогатая провинция хотя бы на несколько месяцев превратилась в столицу империи, с ее роскошным дворцом и великолепным нарядами придворных Калигулы. Он же вел себя так, словно хотел превзойти собственные прежние безумства и жестокости, раз от разу становившиеся все более изощренными. Казалось, он страдал от того, что не мог одним махом покончить со всем римским народом. Так, он однажды пожаловался, что его дни не отмечены ничем необычным и запоминающимся, как например, истребление легионов Вара, которым прославились времена его предка Августа, или крушение Фиренского амфитеатра, в руинах которого погибли двадцать тысяч и были покалечены тридцать тысяч человек. Вспоминая об этом печально знаменитом событии, случившемся при Тиберии, он искренне сожалел, что в его правление ничего подобного не происходит [VI]. А вскоре ему почудилось, что он должен неминуемо впасть в нищету, еще бы - ведь из-за его безудержного расточительства казна таяла прямо на глазах, о чем ему кто-то ненароком заметил. Перепуганный, как ребенок, он тотчас предпринял самые жесткие меры для защиты своего благосостояния. Начал он с того, что спустя два дня после прибытия в Лион написал в Рим и попросил прислать ему большую часть его дворцовой обстановки. Никто не мог понять, зачем ему это понадобилось, - если вообще кто-то еще старался искать смысл в высказываниях, указах и поступках этого человека - однако распоряжение было выполнено. И вот, через несколько дней к дому Гая Цезаря подъехали шестьдесят громоздких повозок, груженных ложами, креслами, скамейками, полками, шкафами, светильниками, канделябрами, этрусскими вазами, статуэтками, гобеленами, доспехами, мечами, кинжалами, шляпами, пурпурными нарядами, книгами и прочими предметами, которые невозможно даже перечислить. Увидев весь этот багаж, Калигула радостно хлопнул в ладоши и со свирепой улыбкой произнес:
- Слава богам! Наконец-то мы сможем пополнить нашу оскудевшую казну! Наконец-то!
И, помолчав, добавил:
- Кто бы мог подумать! Бедного Цезаря совсем разорила его любовь к подданным, и никто не хочет помогать ему. Ну ничего, теперь он сам о себе позаботится!
Затем он повернулся к супруге, сестре и придворным, сгрудившимся вокруг императорского казначея Протогена, и воскликнул:
- Завтра вы увидите, что я умею не только тратить, но и наживать богатство! Подождите до завтра, и вы убедитесь в этом!
Он еще раз хлопнул в ладоши и приказал Геликону разгрузить все привезенные вещи у алтаря в величественном портике Августа, который в честь первого императора возвели шестьдесят городов Галлии, поставивших в нем также шестьдесят мраморных статуй, по одной от каждого муниципия.
Наутро этот огромный монумент и прилегающая площадь были уже заполнены народом, радостно приветствовавшим Цезаря и сопровождавших его легионеров. Когда воины, потеснив толпу рукоплещущих людей, освободили дорогу императору, он прошел к алтарю и показал жестом, что хочет говорить. Собравшиеся сразу умолкли, и Калигула произнес своим хриплым, но звучным голосом:
- Почтенные граждане! Ваши аплодисменты еще раз доказывают, что в ваших великодушных сердцах живет чувство благодарности. Вот почему вы так счастливы видеть императора, жертвующего собой ради процветания своих подданных и ведущего кровопролитную борьбу за спасение империи от многочисленных врагов. Однако вы, добродетельные граждане Лионской Галлии сегодня не можете не замечать того, что ваш правитель, несущий на себе непомерные расходы, связанные с ведением войн и строительством грандиозных памятников, доведен до нищеты.
Тут он услышал недоверчивый ропот и удивленное перешептывание собравшихся людей. На мгновение он замер, а затем неожиданно громко прокричал:
- Доведен до нищеты! Во имя моей божественной Друзиллы, я знаю, что говорю!
Сорок или пятьдесят тысяч перепуганных людей затаили дыхание, и тогда он продолжил:
- И вот этот император, настолько любимый своим народом, спрашивает у вас: готовы ли вы поддержать его в трудное время? Откажетесь ли вы от того, чтобы помочь ему?
- Нет! Нет! Нет! - дружно прокричали тысячи голосов.
- Хорошо! Я знал, как добры и благородны жители моей прекрасной Галлии! Итак, за вашу преданность вам будет оказана великая честь и вместе с тем вы получите право прийти на выручку Цезарю. Я предлагаю вам приобрести эти предметы, ценность которых состоит не только в их собственной стоимости, но и в драгоценной памяти, связанной с ними. Все эти вещи являются истинными сокровищами императора Гая Цезаря Августа Германика Британика. Все они представляют собой достояние дома Юлиев; среди них есть те, которыми пользовались божественный Юлий Цезарь, Август, Ливия, Марк Антоний, Агриппа, Германик и Тиберий. Теперь вы понимаете, насколько бесценно все то, что вы видите перед алтарем? Так приступим же к делу: музыканты, трубите в горны! Цезарь выставляет на продажу все свое богатство, чтобы восполнить убытки императорской казны!
И действительно, не успел он договорить, как протрубили горны, объявившие начало торгов. А вслед за тем, выполняя негласный приказ Цезаря, в толпе стали рыскать его придворные и магистраты Лиона, просьбами и угрозами заставлявшие наиболее знатных граждан покупать предлагаемые им вещи.
Сам же он, назначая цену за одну статуэтку, говорил, что она принадлежала Ливии, а поэтому стоит не меньше двух миллионов сестерциев, но из-за своей крайней нужды он может уступить ее всего за один миллион. В другом случае у него спросили, сколько денег нужно отдать за один изящный канделябр, и он ответил, что этот канделябр стоял в комнате божественного Августа, который по вечерам любил читать книги, и предложил покупателю заплатить восемьсот тысяч сестерциев. Такого рода торговля продолжалась в течение трех дней и ночей, пока все наиболее состоятельные горожане, занесенные в специальный список и принуждаемые грозными окриками трибунов, не купили тот или иной предмет. Собрав таким образом двести миллионов сестерциев, император полностью разорил множество галлов, которые имели несчастье быть до сих пор богатыми и многие из которых, приобретая какое-нибудь курульное кресло стоимостью не больше нескольких тысяч сестерциев, вынуждены были продать все свое имущество, оценивавшееся в миллионы. Однако и эту наживу, доставшуюся ему в результате такого циничного, наглого и беззаконного грабежа, он принялся тратить на новые роскошные ужины, чудовищные оргии и дорогостоящие зрелища. Вот почему, проклинаемый всеми преуспевающими людьми, он был весьма угоден сброду плебеев, благодаривших его за многочисленные увеселения, устраиваемые в городе. Так он провел почти весь декабрь, чуть ли не ежедневно отдавая приказ легионам быть готовыми к замышляемой им - во всяком случае, так он говорил - экспедиции в Британию.
И днем и ночью он был занят игрой в кости, во время которой мошенничал, как мелкий жулик в субуррской таверне. Впрочем, ему это мало помогало, и вот однажды, расстроившись от своего невезения и пожаловавшись Протогену, что ему не по душе проигрывать такие крупные суммы, он неожиданно закричал во все горло:
- Стойте! Как это может быть, что в моей кассе не осталось денег? Это невозможно! Подайте мне кадастровую книгу с описанием всех состояний, известных в Лионской Галлии.
И снова обратился к игре, то и дело бормоча себе под нос:
- Ах вот как? Значит, вы богатые, а Цезарь бедный? Ну хорошо… хорошо же…
Потом он неожиданно крикнул:
- Ну, где эти кадастровые книги? Может, их вообще нет?
- Подожди еще немного, мой божественный Гай, - попробовала успокоить его Цезония, сидевшая рядом с супругом, - сейчас тебе принесут списки, которые ты просишь.
Наконец, он получил все регистрационные записи и оторвавшись от игры, принялся с особым вниманием изучать их. Просмотрев все перечни и подчеркнув имена наиболее состоятельных владельцев, он передал регистры Протогену.
- Помеченные мной горожане должны быть преданы смерти, а их имущество должно быть конфисковано для пополнения оскудевшей имперской казны, - сказал он слуге и, оглядев всех остальных, хмуро добавил: - Может, вы хотите знать, в чем провинились те кого я лишаю жизни? Они осмелились быть богаче меня - разве этого мало? Или вам известно более дерзкое преступление, чем оскорбление Цезаря, достоинство которого эти негодяи унижают собственным богатством?
И хотя все сделали вид, что полностью согласны с его словами, он гневно выпалил:
- Что, не понятно? Не нравится? Тогда я вам самим докажу справедливость моих приказов!
Он смерил свирепым взглядом каждого из присутствующих и, помолчав, произнес спокойным тоном:
- Ладно, больше к этому не возвращаемся. Возобновляем нашу игру.
В тот же день Калисто, как обычно, встречался с Бринионом и, к своему немалому удивлению, узнал, что в предыдущий вечер тот совершенно случайно оказался свидетелем того, как Ливилла, стараясь остаться незамеченной, осторожно постучала, а потом вошла в дом Аникия Цериала, потомственного всадника, служившего трибуном в двадцать первом легионе. На багровом лице центуриона, рассказывавшем о своем печальном открытии, было написано такое отчаяние, вызванное мучительной ревностью и жалостью к себе, какого Калисто даже не подозревал в этом мужественном человеке, способном, по его мнению, сохранять невозмутимость в любой ситуации. Однако, еще больше его, как и Бриниона, изумила та инфантильная безрассудность, с которой Ливилла - застигнутая легионером на месте свидания с трибуном - принялась в присутствии своих мужчин рассуждать о враждебных замыслах против Гая Цезаря, вынашиваемых ею, ее сестрой, Лепидом и Гетуликом. Последнее не давало покоя Бриниону, который не доверял Аникию Цериалу и боялся, что тот обо всем донесет императору. Тем не менее либертин постарался приободрить его и посоветовал не отступать от своего, то есть продолжать посещать Ливиллу новая интрига которой была все-таки маловероятной, наблюдать за заговорщиками и рассказывать ему обо всех их действиях. Со своей стороны, он тоже будет следить за Гетуликом, Лепидом и Агриппиной. Как бы то ни было, даже если произойдет худшее, и Калигула прознает о готовящемся покушении на него, то с помощью Калисто и его денег батав сумеет избежать гнева Цезаря, скрывшись на правом берегу Рейна.
Воодушевив Бриниона этими обещаниями и расставшись с ним, Калисто принялся перечитывать недавно полученное письмо Мессалины, в котором она писала о том, что разделяет мысли юноши и тоже думает, что в случае смерти Гая Цезаря, нового императора будет избирать сенат, преторианцы и народ, а не германские легионы, как полагают несчастные сестры Калигулы. Валерия Мессалина соглашалась и с тем, что Рим, безусловно, предпочтет Лепиду Клавдия, единственного наследника, в чьих жилах течет кровь Августа и Германика, поэтому она предлагала незаметно подливать масло в огонь заговора, чтобы ускорить развязку.
Таким образом, события близились к неминуемой катастрофе. И отчасти она наступила даже раньше, чем рассчитывала супруга ничего не подозревавшего Клавдия.
Вечером пятого дня перед календами января Ливилла позвала Бриниона в комнату Агриппины, где уже находились Гней Корнелий Лентул Гетулик, Марк Эмилий Лепид и Аникий Цериал. Там, после краткого разговора о необходимости торопиться с осуществлением их замысла, было решено, что завтра в полдень Гней Корнелий Гетулик войдет в покои Цезаря, якобы для сообщения какой-то важной новости, касающейся легионов. К этому времени в прихожей императора уже будут Агриппина и Ливилла, которые скажут, что хотят повидать брата. Чуть позже к ним присоединятся Бринион и Лепид. Как только все будут в сборе, в комнату вбежит Аникий Цериал, во все горло крича, что дом горит и всем нужно срочно спасаться. Было ясно, что в таком случае все придворные бросятся к входным дверям: одни для того, чтобы тушить пожар, а другие - чтобы звать на помощь. Среди всеобщей паники Лепид и Бринион, вооруженные кинжалами, кинутся в комнату Гая Цезаря и вместе с Гетуликом покончат с ним, а Агриппина, Ливилла и Аникий будут стоять у двери, не впуская никого из посторонних. Когда дело будет сделано, Гетулик отправится в лагерь легионеров, среди которых он пользовался большим авторитетом, и склонит их к тому, чтобы провозгласить императором Лепида, объявившего себя мужем Агриппины. Таким образом, заговорщики выполнят все, что от них зависело. Остальное будет решать фортуна.
Приблизительно в два часа той же ночи Калисто проснулся от осторожного стука в дверь своей комнаты. Несмотря на возраст, юноша, измученный неутоленной любовью к Мессалине, спал плохо. Поднявшись с ложа, он прямо в ночной рубашке подошел к двери и спросил, кто там. Узнав голос батава, он впустил его, и Бринион пересказал либертину Калигулы все, что слышал в покоях Агриппины. В заключение он добавил:
- Что же делать? Как мне быть? К тому же, сам не знаю, почему, но я никак не могу поверить Аникию Цериалу.
- Пусть тебя не тревожат эти сомнения, по крайней мере, сейчас, - ответил Калисто и, опустив голову, надолго задумался.
- Выслушай меня, Бринион, - наконец, сказал он, подняв свое бледное лицо и внимательно посмотрев в темно-синие зрачки центуриона. - Я не думаю, что Цериал хочет выдать своих сообщников по заговору. Его чувства к Ливилле должны препятствовать ему совершить такой поступок. Но, в любом случае, допуская, что все может произойти, будем готовы к самому худшему. Если Аникий все же собирается открыть тайну заговора и спасти Гая Цезаря от смерти, нависшей над ним, то он сможет это сделать не раньше, чем завтра утром и, конечно, никак не позже того часа, на который назначено исполнение вашего плана. Сейчас для меня важнее всего, чтобы в случае несчастья я смог бы помочь тебе спастись - я больше верю в поддержку людей, чем фортуны - и поэтому нам нужно согласовать все наши действия.
Ты должен сохранять спокойствие и с самого рассвета быть в перистилии дома, занимаемого императором, в то же время, оставь какого-нибудь преданного человека с быстроходной колесницей у ворот Ренана. Как только Цезарь проснется, я буду находиться возле него. Если не произойдет того, чего ты опасаешься, и я не дам тебе знать об этом, то в условленный час ты сможешь смело войти в прихожую и исполнить уготовленную тебе роль. Если же Цериал раскроет заговор или тебе будет угрожать какая-нибудь другая опасность, то я немедленно пошлю к тебе в перистилий моего верного раба Докомофена, который произнесет всего одно слово: «Агафокл». Он скажет его не тебе, а так, словно ищет раба, служащего в конюшне императора. Этот раб там действительно служит, и его имя не вызовет подозрений. Но услышав этот пароль, ты поймешь, что твоя жизнь висит на волоске. Тогда тебе нужно будет не потерять присутствия духа и как ни в чем ни бывало пройти через таблий, спокойно добраться до ворот Ренана, а потом, опрометью доскакав до замка Уби, скрыться на том берегу. А чтобы твое спасение было более верным, вот тебе двести тысяч сестерциев. С ними, с твоим конем и мечом тебе как истинному германцу будет нетрудно найти надежное убежище за Рейном.
Насмерть перепуганному Бриниону пришелся по душе план, предложенный либертином. Горячо поблагодарив его и спрятав на груди кошелек, битком набитый викториалами и золотыми, батав почувствовал себя намного увереннее и спокойнее. Однако Калисто, мнительный, как все греки, выпроводив позднего (миновало три часа после полуночи) гостя, спешно оделся и тотчас последовал за ним, чтобы разузнать о его дальнейших действиях.
Впрочем, он волновался напрасно. Бринион, которому не суждено было унаследовать коварство Клавдия Мирного, тридцать лет назад поднявшего батавов и фризонов на восстание, не думал об измене. Убедившись, что центурион пошел снарядить быстроходную колесницу и приказал солдату-батаву держать ее наготове возле ворот Ренана, Калисто избавился от подозрений, возникших у него. Когда юноша вернулся в дом императора, уже начинало светать, и он увидел, что все небо было задернуто густой пеленой облаков, предвещавших пасмурную погоду. Либертин проскользнул в свою комнату и сменил ночной наряд на изысканную тунику, к поясу которой был прикреплен длинный кинжал. Затем он пригладил волосы и вышел в перистилий с видом человека, только что поднявшегося с ложа и спешащего узнать новости от Цезаря. Краем глаза он заметил Бриниона. Тот стоял рядом с центурионом, командовавшим отрядом императорской стражи, и беззаботно балагурил с ним, вертя в руках большую черную трость. Не глядя на легионеров, Калисто направился в покои Калигулы. Там, в комнате, примыкавшей к спальне Калигулы, он застал уже давно проснувшихся Протогена, Апелла, Геликона, Вителия, Луция Кассия и трех или четырех магистратов Лиона. Они приветливо поздоровались с либертином. Дружелюбно ответив придворным, он завел с ними разговор, который вскоре коснулся одной темы, интересовавшей всех, а именно, предстоявшей экспедиции в Британию.
Пока они обсуждали множество проблем, связанных с этим походом, которого никто из собравшихся не одобрял, но вместе с тем и не осуждал сумасбродный замысел императора - в дверях комнаты появился Аникий Цериал. Он был бледен и задумчив. Весь его вид говорил Калисто, знавшего тайну заговора, о тяжелой борьбе, происходившей в душе трибуна легионеров. У либертина защемило сердце от жалости к этому несчастному, совесть которого не позволяла совершить подлого предательства, требуемого Ливиллой. Но ведь, кроме сочувствия бедному воину, существовали и его любовь к Мессалине, чье письмо хранилось в заветном ларце из черного дерева, и дружба с Бринионом, и, наконец, страх за собственную участь, неминуемо плачевную, если бы Цезарь счел его участником раскрытого заговора. Поэтому, подавив свой благородный порыв, Калисто решил подбросить углей в топку, которая полыхала в груди трибуна. Он приблизился к вошедшему и сказал:
- Аве, Цериал! Что привело тебя так рано в покои императора?
- Аве, Калисто! Ох! У меня очень важное дело! Настолько важное, что ты даже не можешь себе представить!
Смысл этих слов был очевиден. Аникий Цериал пришел для того, чтобы донести Калигуле о готовящемся покушении на него. Не зная, что ответить волновавшемуся всаднику, Калисто немного смутился. Наконец, овладев собой, он улыбнулся и со всей непринужденностью, на которую был способен в эту минуту, воскликнул:
- О, Геркулес! Не иначе, как против нас восстали фрезоны, бургундцы или германцы. Или парфяне перешли Евфрат и захватили все наши восточные провинции вплоть до Босфора.
- Ох, почтенный Калисто! Богам угодно, чтобы мы с тобой не шутили над известием, которое я принес Цезарю!
Тогда, понимая всю серьезность положения и стараясь оттянуть время, либертин сказал, что утренние новости Цериала, разумеется, должны быть серьезными настолько насколько тот утверждает, что он готов оказать необходимую помощь трибуну легионеров, ибо они оба должны верой и правдой служить божественному Гаю Цезарю. Всю жизнь он, либертин, был предан своему повелителю и поэтому научился предвидеть все неприятности, ожидающие…
- Ох! Как было бы угодно всемогущему Зевсу, чтобы самые близкие родственники императора были также верны ему, как ты! - прервав либертина, воскликнул Цериал.
И Калисто понял, что не сможет удержать Цериала. На мгновение в его голове мелькнула мысль: под каким-нибудь предлогом выманить Аникия в перистилий, незаметно вытащить кинжал и… Он быстро оглядел зал, прикидывая в уме возможные последствия такого оборота дел, потом вновь повернулся к трибуну и попробовал намеками убедить его в том, что их разговор лучше продолжить без свидетелей. Однако Цериал был непоколебим в своем решении не покидать покоев Цезаря прежде, чем встретится с ним, и либертин, боявшийся показаться чересчур подозрительным, вынужден был оставить свои тщетные попытки. С трудом скрывая отчаяние, он вышел в перистилий, неторопливо приблизился к батаву, который уже расстался со своим недавним собеседником, и проходя мимо, произнес:
- Агафокл!
Услышав пароль, Бринион побледнел и, растерянно прошептал:
- Неужели Цериал? Мы преданы?!! Все открылось?
- Тихо!… Ни слова больше… Уходи и старайся не привлекать внимания.
С этими словами Калисто не спеша направился в сторону таблия, дойдя до которого повернулся и медленно пошел обратно. Вернувшись в перистилий, он заметил своего раба Докомофена, ожидавшего хозяина у входа в покои Цезаря, и тихо сказал ему:
- Ты мне больше не нужен… Ступай.
Докомофен молча кивнул и удалился.
Через полчаса все придворные и слуги императора трепетали от грозных криков, доносившихся из комнаты Цезаря, куда недавно вошел Цериал и рассказал все, что ему было известно о заговоре.
- Ах! Во имя всех богов! Слышали? Не слышали? Все на помощь! Во имя Геркулеса, скорее на помощь! Преторианцы, к оружию! Калисто! Немедленно арестуй Марка Эмилия Лепида! Не дай ему сбежать! А ты, Цериал, мой верный друг и спаситель, хватай Гнея Корнелия Лентула! Ты, Протоген, сейчас же займись моими сестрами Ливиллой и Агриппиной! Вителий, вели срочно разыскать и заковать в цепи центуриона по имени Бринион! Быстро! Бегом! Выполняйте!
Так кричал рассвирепевший и насмерть перепуганный Гай Цезарь. Получая приказания, придворные опрометью бросались их исполнять, довольные тем, что они избежали императорского гнева. Вскоре из соседней спальни высунулась на крик полуодетая Цезония и спросила, что случилось. Калигула кинулся к ней и, схватив за волосы, завопил:
- Ах, ты не знаешь! Меня хотели убить! Всего через два часа меня должны были зарезать на этом месте! И кто! Мои недостойные сестры!
- Говорила я тебе! Сколько раз я тебя предупреждала, а ты все нежничал с ними! Приласкал двух змей на своей груди!
- Ладно, говорила… Но ведь у них сообщниками были и Лентул Гетулик, и Эмилий Лепид, и этот Бринион, и Цериал. Они все хотели убить меня, и если бы не Цериал. О мой благородный Цериал, спаситель Рима и империи! Если бы он мне все не рассказал, через два часа я был бы мертв!
Он обхватил голову руками и, всхлипнув, проговорил:
- Какие сестры! Эринии! Менады![146] Убить меня, никому не причинившего зла, меня, только и думающего о славе и величии римского народа!
И вновь сорвался на истерический крик:
- Немедленно перебить всех сообщников! Я требую возмездия! Немедленно привести приговор в исполнение! Немедленно! Сейчас же!
И вновь всхлипнул и произнес:
- И высшую награду Аникию Цериалу… Или нет… Для начала отдать ему треть имущества Гетулика и Лепида!
Пять часов спустя Гней Корнелий Лентул Гетулик и Марк Эмилий Лепид были казнены, а их имущество конфисковано. Ливиллу и Агриппину, признавших свое участие в заговоре, Цезарь выслал в изгнание на Понтийские острова, перед этим предупредив, что для них у него есть не только острова, но и мечи [VII]. Бринион бесследно исчез, и все подумали, что он скрылся в предвидении событий.
В тот же вечер Гай Цезарь отправил в Рим письмо, в котором рассказал о готовившемся на него покушении и привел неопровержимые доказательства вины Гетулика, Лепида и своих сестер. К этому посланию он приложил три кинжала, которые должны были лишить его жизни и которые он приказал посвятить (передать как реликвию) в храм Марса Мстителя [VIII].
ГЛАВА XI
Что делали в Риме предприимчивая Мессалина, любезный Клавдий, задумчивый Херея и молчаливый Поллукс
Пока в лионской Галлии происходили описанные события, в Риме продолжалась жизнь, особенности которой были обусловлены нравами горожан, укоренившимися привычками и неотвратимым вырождением латинского племени. Как и прежде, бесчисленные толпы плебев и клиентов с самого раннего утра осаждали дома богатых покровителей, чтобы, собрав подачки, разбрестись по своим лачугам в Сабуре, на Эксвилине или на Авентине.
Просыпаясь и покидая убогое ложе, сотни тысяч римлян сразу же сталкивались с двумя трудноразрешимыми проблемами: как утолить голод и как сделать это раньше, чем наступит вечер. Пытаясь найти ответ на эти мучительные вопросы, многие из них спешили к Камицию, к Форуму, на Марсово Поле, в палестры[147], в базилики и термы, чтобы узнать новости, проведать о какой-нибудь легкой наживе или просто поболтать и почесать языки отборной руганью. В местах этих сборищ, как в кишащих муравейниках, или точнее, в зловонных навозных кучах, постоянно копошились в своих темных делишках люди все возрастов и выходцы из всех частей света, известных в то время. Нумидийцы и бревки, далматы и мавританцы, греки и иудеи, персы и галлы, парфяне и сарматы, эфиопы и фракийцы, - все, коверкая латинский язык и смешивая его с родной речью, говорили о своих заботах, нуждах и вкусах, торговались, хвалились, заискивали, продавали себя и своих приятелей. При этом почти каждый старался как-нибудь обмануть другого, выманить или отобрать чужую добычу, а то и просто украсть кусок хлеба, оставленный без присмотра.
Граждане всех сословий, какие только существовали на семи холмах, обнесенных городской стеной, торопились попасть сюда. Представители всех профессий и ремесел находили себе пристанище в этих местах, испускавших миазмы таких грязных помыслов, что все благовония Арабии, ароматы всех садов и фимиамы всех храмов не смогли бы их даже приглушить, а тем более уничтожить. Привлеченные трупным запахом разлагающего общества, сюда тянулись и шайки параситов, жуликов, лжесвидетелей, воришек, вымогателей, нищих, попрошаек, притворявшихся калеками, бродяг, бездомных. Словом, здесь промышляли все группы и слои населения, за исключением только одной его части, той, которую составляли честные люди.
В полдень эта отвратительная возня внезапно сменялась полной тишиной, точно некое многоголовое чудовище, обитавшее в лабиринтах огромного города, возвращалось в какое-то свое, никому не известное логовище. Это случалось во время обеденного часа, когда сразу пустели все улицы и площади. Народ разбредался по домам, задворкам и каморкам, люди устраивались в портиках, галереях, под деревьями римских садов - везде, где можно было передохнуть от дневной суеты.
Но раз все жители в эту пору оставляли свои занятия, то и римское чудище с тысячами ртов покидало свои нечистоты только затем, чтобы преобразившись, словно Протей, и приняв человеческий облик, насытить тысячи своих голодных утроб, радовавшихся любой пище: сосискам или кровяному паштету, кошатине или баранине, сыру или рикоттэ, орехам или сухим фруктам - как у всякого животного, у него был зверский аппетит. Кроме того, оно было неприхотливо, как многие тысячи горожан, которые коротали обеденные часы, пережевывая горсть сушеных фруктов и вдыхая дразнящие ароматы, доносившиеся из триклиниев патрицианских домов на улицах Карино, Целий или на Палатинском холме. Там, веселясь и умоляя богов, чтобы они не лишали их аппетита вплоть до самой вечерней трапезы, с ее избытком фалернского вина и свободного времени, восседали за столами матроны, сановники, всадники, ювелиры, ростовщики, сенаторы, консуларии и потомки знатных родов, каждый из которых знал толк в говядине, свинине, волчатине, муренах, угрях, краснобородках, устрицах и многих других яствах.
Но вскоре безлюдные улицы вновь оживали, и начиналась еще большая суматоха, чем та, что была до обеда. Повсюду сновали колесницы, повозки и колымаги всех видов. Престарелые дамы в изящных носилках ехали принимать молочные ванны, делать прически, массаж, заказывать парики, умащать благовониями свои дряблые тела, увядшие прелести которых не мешали множеству молодых и красивых поклонников добиваться обладания ими, мечтая о выгодном супружестве или о наследстве. Не было недостатка и в знатных молодых красавицах, которых гурьбой сопровождали возницы и атлеты, желавшие насладиться их объятиями. Толпы вновь собирались и на Вилла Публика, и в галереях портика Ста Колонн, и на Форуме, и на берегу Тибра. Вот сотни людей разных сословий обступили какого-то акробата, прямо на мостовой показывавшего сложные гимнастические трюки. Ему помогала вся его семья, демонстрировавшая более легкие атлетические номера. В другом месте выступали заклинатели змей по прозвищам Марс и Египтянин; в третьем месте публику развлекали ученые птицы дрессировщика Сабина, в четвертом знаменитый халдейский гадатель предсказывал будущее сыновьям и дочерям самого великого племени на земле. Где-то играли музыканты, где-то пели песни под сопровождение свирели и тимпанов. Тысячи горожан собирались на Марсовом Поле, чтобы посмотреть конные состязания или ристалища преторианских команд. Кто-то шел в палестры, предпочитая игру в мяч или соревнования дискоболов. Многие наблюдали за гонками гребцов, чьи лодки бороздили воды Тибра.
Но когда эдилы или сенат от имени прицепса объявляли о скачках, о боях в цирке или о постановке комедий и трагедий в театрах Помпея, Бальба, Тавра или Марселла. О! эти дни и эти игрища не обходились без настоящего столпотворения: за каждое место зрители дрались, пуская в ход кулаки и кинжалы. Многие зрители всю ночь дежурили под колоннами цирка или театра, чтобы первыми попасть в него. За лишний билет были готовы с утра до вечера льстить и угождать устроителю спектакля или его друзьям. Для многих эти зрелища были дороже насущного хлеба. Иные горожане, поставленные перед необходимостью выбора между первым - стоившим немалых денег - и вторым - отнимавшим уйму времени на его поиски - предпочитали отказаться от обеда, но не пропустить любимое развлечение. Впрочем, порой хлеб порождал зрелища. Когда наступал день раздачи пшеницы, которую казначейство бесплатно отмеряло каждому горожанину в зависимости от количества детей в его семье, то открывались сотни общественных амбаров, и тогда толпы плебеев кружили вокруг дармового зерна, озабоченно посматривали на раздатчика, ссорились друг с другом из-за несправедливой, по их мнению, дележки, старались перехватить чужую порцию и, наконец, с довольным воркованием возвращались к насиженным гнездышкам, где, словно прирученные птицы, радовались полученному корму.
Иногда всех жителей города император одаривал деньгами. Тогда начинались долгие переклички у столов цензоров, где каждому полагалось по пятьдесят, сто или двести сестерциев, в зависимости от нужд и чувств, питаемых к прицепсу. За длинными очередями бедняков присматривали преторианцы, спешившие получить свою подачку и поторапливавшие их. Вперед, вперед, самые гордые и самые нищие. Вы римляне, вы обладатели целого мира! Благодарите Цезаря, вашего великодушного покровителя! Он возвращает вам крохи богатства, украденного у вас! Прославляйте же того, кто разоряет вашу страну! Превозносите того, кто истощает ваши поля и леса! Любите того, кто презирает вас!
История сыграла злую шутку с исконным народовластием латинского племени. Когда его стала вытеснять римская олигархия, то божественный Юлий Цезарь решил защищать демократию с помощью деспотизма. Вот тогда-то плебеи, наконец, получили желанную возможность отомстить за все былые обиды. И они, обрадовавшись новому заступнику, дружно бросились строчить доносы на консулов и патрициев. Увы, кровь Нервия и Юлия Силлана, пролившаяся в отместку за убийство Гракхов, доставила немало удовольствия победителям Ганнибала и Митридата, покорителям Карфагена и Нуманции. Весь восточный мир был завоеван ими. Весь Запад принадлежал им. Им, которые не видели и не хотели видеть того, что творилось у них под ногами, где люди жили хуже животных, а миллионы и миллионы рабов пресмыкались перед ними. И саму землю, на которой они стояли, вырывали у них же из-под ног, чтобы разделить между все новыми и новыми тиранами. Да только кто хотел все это замечать? Не лучше ли посмотреть на борьбу гладиаторов? Не похлопать ли в ладоши, наблюдая за охотой на зверей? Право, это зрелище, достойное Республики! И свободные граждане толпами валили в амфитеатры и рукоплескали при виде чужих мучений и чужой крови.
Жизнь Вечного города оставалась такой и при Калигуле, и никто не знал, когда она началась и когда наступит ее предел. Все было как прежде, и все так же незыблемо стоял на своем месте город с его величественными храмами, роскошными дворцами, просторными термами и пышными базиликами. В доме Клавдия Тиберия Друза, как и раньше, царили раздоры, разговоры о лишениях и безысходной нужде. Паоло Фабию Персику надоело одалживать миллионы сестерциев супругу Мессалины, прелестям которой все с большим трудом поддавался тугой кошелек ростовщика. Увы, Персик обнаружил, что поцелуи Мессалины не только стоят ему слишком дорого, но и пагубно отражаются на его здоровье. И он решил отдалиться от семьи Клавдия. Прежде всего, он позаботился о том, чтобы сделать свои визиты более редкими и по возможности более краткими. Затем, убедившись в бесполезности этих мер, стал чаще наведываться к своим друзьям, живущим на Палатине. А поскольку Мессалина не принадлежала к числу женщин, быстро смиряющихся с собственным поражением, и еще потому, что, стремясь наверстать упущенное, она стала сама навещать его особняк, ростовщик вскоре нашел единственное средство против такой назойливости и переехал на виллу в Куме.
Его бегство из города ударило по привычному достатку в доме брата прославленного Германика. Мессалина, плохо переносившая повороты судьбы, теперь почти постоянно бранила мужа, кричала на Антонию, изводила рабов, плохо обращалась со слугами и раздражалась по любому поводу. Не раз она порывалась обратиться за помощью к Калисто, который не знал счета деньгам, однако неизменно удерживала себя от такого поступка, боясь опошлить свою искреннюю любовь к юноше. Помимо того, Мессалина метила слишком высоко и поэтому думала, что богатых людей много и, приложив известные старания, деньги всегда можно найти, в то время как услуга, которую Калисто мог оказать ее супругу и ей, не имеет цены, как не сравнимы все сокровища мира и власть над ним. Она не могла себе представить, что, с таким трудом очаровав юного грека и добившись его преданности, она должна будет растратить привязанность императорского либертина на получение каких-то нескольких несчастных миллионов сестерциев!
«О нет! Ни за что! - думала она. - Калисто предстоит расчистить дорогу к престолу, занятому тираном! Им нельзя рисковать ни в коем случае!» И вскоре она была вознаграждена за свое терпение. В мае умер Абудий Руффон, и имуществом старого вольноотпущенника завладела Квинтилия, унаследовавшая его не без участия Мессалины. Квинтилия была не только красивой, но и великодушной женщиной, и большую часть своих миллионов она предложила подруге.
- Конечно, я не могу отказаться от твоего подарка… мне необходимо расплатиться с множеством долгов, - сказала Мессалина в ответ на предложение актрисы и, вздохнув, грустно посмотрела на нее, - но у меня нет потребности в твоем богатстве. Может быть, я сумею осуществить один план… И тогда я сразу отдам тебе три миллиона, которые сейчас с благодарностью возьму у тебя в долг.
Так охота за старым вольноотпущенником поправила финансовые дела Мессалины. И супруга Клавдия не видела в том ничего предосудительного, поскольку подобный промысел в ее время был распространен не менее, чем охота на зайцев или кабанов, куропаток или жаворонков. По городу и его окрестностям рыскали целые толпы молодых и красивых женщин, располагавших целым арсеналом различных средств и способов обольщения и старательно выслеживавших желанную добычу. Впрочем, заманчивая надежда получить богатое наследство вдохновляла и многих знатных, но покинутых фортуной матрон на то, чтобы пытаться соблазнить своими прелестями состоятельных одиноких стариков, которых всегда хватало в Риме. Такое занятие было небезвредным, ибо пресыщенных холостяков ежедневно осаждали опасные соперники этих охотниц - привлекательные молодые люди, преследовавшие ту же цель… И пожалуй, только эти юноши осуждали подобное поведение римлянок.
«Но если природа наградила женщин красотой и очарованием, то почему бы им не извлечь выгоду из своих достоинств? Да и как может быть дурно то, к чему прибегают почти все дочери латинского племени?» Так размышляла Мессалина. Последовав примеру Квинтилии, она решила попытать счастья в этой азартной охоте, и вот, через два месяца упорных поисков, опробования различных замыслов, ошибок и неудач, ей показалось, что она, наконец, нашла то, что было нужно. Луцию Фонтею Капитону, сенатору и брату консула, который был избран на эту должность двадцать семь лет назад, близился седьмой десяток. Страдавший от хронического катара, подверженный множеству недугов и пороков, он держался довольно бодро благодаря изощренному искусству рабов, следивших за его внешностью, и усилиям всевозможных целителей, старавшихся бороться с человеческой природой и со временем. Он был богат, расточителен и глуп. У него не было ни жены, ни детей. Правда, в его доме было немало племянников, но, ухаживая за дядей, они не могли оказывать ему те услуги, которые пожилому холостяку предлагали многочисленные дамы, окружавшие его. Впрочем, они тратили силы впустую. Капитон, как ни был щедр, надеялся прожить долго и, склонный к суевериям, предпочитал не думать о завещании. Мессалина впервые обратила на него внимание в театре Бальба, где Квинтилия представляла «Андромаху» Еврипида. В тот день у нее и зародилась надежда подчинить себе Луция Фонтея. И вот, в течение двенадцати последующих дней не было ни одного праздника, спектакля или зрелища, посещаемого им, где бы не присутствовала Мессалина, пускавшая в ход свои обольстительные взгляды и в то же время остававшаяся столь неприступной и равнодушной, что это не могло не возбудить воображения старого патриция.
Через пятнадцать дней соблазнительница решила проверить правильность выбранной ей тактики. Три вечера подряд она вообще не появлялась на публике. А на четвертый вечер Луций Фонтей Капитон сам заявился в дом Клавдия, принеся с собой рекомендательное письмо от Марка Аврелия Котты, связанного узами дружбы с братом Германика. Представившись таким, образом, Капитон сказал, что весьма ценит образованность знаменитого историка и хотел бы выяснить у него некоторые подробности, касающиеся происхождения рода Фонтеев. Он также заверил хозяина дома в своих искренних симпатиях к нему и в желании оказать любую товарищескую услугу, если таковая понадобится. Мессалина, уведомленная о приходе гостя, подождала, пока он и ее супруг скрылись в библиотеке, а затем, сделав вид, что не замечает находившегося там Луция Фонтея, с детской беззаботностью вбежала в убежище Клавдия. Там она притворно смутилась перед Капитоном и сделала вид, что хотела уйти, но Клавдий, представив новому знакомому свою супругу, попросил ее не стесняться и относиться к нему как к своему хорошему другу. Довольная своей уловкой, обольстительница сразу приняла это предложение и очаровательно улыбнулась старому Луцию. Тот самым почтительным тоном выразил одобрение вкусу Клавдия, обладавшего таким сокровищем.
- А разве это не так? Разве она не сокровище, моя нежнейшая женушка? - воскликнул Клавдий, обрадованный тем, что у его супруги было хорошее настроение. - О, дорогой Луций… если бы ты знал обо всех ее достоинствах!
И пожилой патриций, тая от собственной слащавой любезности, сказал, что он смеет надеяться на право посещать столь изысканный дом, украшенный благородным радушием его замечательных хозяев. Польщенный Тиберий Друз, разумеется, не имел ничего против, и с того вечера Луций Фонтей Капитон, быстро сошедшийся с ним, стал довольно часто заходить к Клавдию, время от времени принося с собой то дюжину роскошных краснобородок, то несколько нежнейших мурен, то отборные вина, то редчайшие и бесценнейшие книги - таким образом потворствуя обеим его главным страстям: обжорству и библиомании. Неудивительно, что старый угодник превратился в нередкого сотрапезника Друза и Мессалины, которая с величайшим искусством оказывала ему различные знаки внимания, причем в девяти случаях из десяти немедленно раскаивалась, словно женщина, в чьей душе происходила тяжелая борьба между супружеским долгом и зовом искреннего, глубокого чувства. Она так умело изображала душевное смятение, что это вскружило бы голову и более хладнокровному человеку, чем Фонтей Капитон.
Подолгу разговаривая с ним, знатная матрона только и делала, что жаловалась на условия своей жизни. Она горько сетовала, что Клавдий интересуется только историей этрусков и не способен заботиться о семье, что свою супругу он принес в жертву библиотеке, что в его сочинениях нет никакого толка, а из-за их бедности страдает в первую очередь она, Мессалина. Что если она до сих пор не рассталась с ним, то это только из-за ее любви к дочерям, что ей не нужна ни литературная, ни любая другая слава, а мечтает она лишь о тихом и спокойном существовании. Что же может быть ближе сердцу скромной женщины, воспитывающей двух дочерей? Разумеется, эти доводы вкупе с обаянием и красотой Мессалины заставили его признать, что подобная жизнь не подходит для такой женщины, как она. А кроме того, разве когда-либо видел Рим другую столь же восхитительную женщину? Во имя всех богов, как же не согласиться с ней! Такие женщины рождены для того, чтобы ими очаровывались и восторженно преклонялись им! Ах! Если бы он только мог… Если бы она пожелала разрешить ему! О, он окружил бы ее самым чутким вниманием, самым искренним обожанием, самыми драгоценными украшениями, достойными ее и необходимыми ей, как оправа для чудеснейшей из жемчужин!
Сколько раз Мессалина прерывала на этом их разговор, а он все-таки продолжал его на следующий день, умоляя больше не произносить ни слова. О, если он действительно хочет ей добра, то не нужно делать таких предложений, не надо так говорить, она не может этого слушать. Так она шептала ему и в то же время награждала собеседника то нежными и пламенными взглядами, то чарующими и неотразимыми улыбками. И грустно вздыхала, словно не могла совладать с противоречивыми чувствами, терзавшими ее сердце. Так, заронив крохотную искорку страсти, которая не спешила разгораться в холодном сердце старого патриция, Мессалина принялась осторожно пробовать свое искусство обольщения, раздражая его самолюбие и не давая угаснуть надежде на более счастливый завтрашний вечер. Позже, когда он - без единого намека с ее стороны - посетовал на возраст и сказал, что снова хотел бы стать молодым, она горячо возразила и, прежде всего выразив сожаление о том, что они не были знакомы лет восемь назад, поделилась собственными взглядами на эту область человеческих отношений. Хотя ей трудно понять, как такой хорошо сохранившийся мужчина может желать чего-то еще, но если уж на то пошло… любовь зрелого человека во многом превосходит те мимолетные увлечения, которые свойственны всем молодым людям. Юноши быстро воспламеняются, но так же быстро и остывают. Для них не так важно чувство, как прелесть новизны и еще неизведанных наслаждений. Совсем другое дело - мужчина, который уже испытал все, что можно было испытать, а потому способен управлять своими чувствами и дорожить ими. О! Если бы она… Конечно, это слишком невероятное предположение, но если бы она имела любовника, то он уж, конечно, не был бы одним из этих нахальных, распущенных юнцов. И, разумеется, не каким-нибудь тридцати-сорокалетним отцом семейства со всеми домашними заботами, от которых ему никуда не деться.
Короче говоря, Мессалина вскружила-таки голову престарелому Фонтею. Он же, размышляя над их взаимоотношениями, считал, что имеет все основания хвастаться перед друзьями - а он был весьма тщеславным человеком - ее расположением к нему. Радуясь возможности поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, он превозносил до небес красоту и добродетели этой женщины, так хорошо понимавшей его. Многие его знакомые смеялись над этой старческой слабостью. Другие, жалея его, рассказывали о многочисленных любовных интригах Мессалины и ее распущенности, но этим ничуть не уменьшали ни его веры, ни пылкой страсти. В ответ на подобные замечания он только пожимал плечами и говорил, что они плохо знают ее. О, эти злобные клеветники, скептики, готовые опорочить все и вся! Нет, они ничего не понимают. Вот если бы хоть один раз послушали ее… Тогда они не стали бы так скверно отзываться о той, которая не сделала им ничего дурного! В результате же случилось то, что и должно было случиться: несчастный старик прямиком угодил в расставленные сети. Он потерял покой, если не видел Мессалины, если не слышал ее голоса и не чувствовал на себе ее нежных взглядов.
И вот, когда наступило нужное время, супруга Клавдия стала понемногу и с величайшей осторожностью как бы уступать своей жертве, которая приписывала собственным заслугам то, что было с математической точностью рассчитано этой коварнейшей охотницей. Луцию Фонтею Капитону вдруг стало казаться, что порой, когда Мессалина оставаясь наедине с ним… нет, не то, чтобы она была очарована его красотой и стройностью. Он ведь не восторженный безусый юнец, а потому осознает свои недостатки. Но его жизненный опыт позволяет беспристрастно взглянуть на себя… и увидеть, что он еще может нравиться женщинам! Все меньше сомневаясь в своем успехе, он полагал, что в нем могут быть привлекательны и та неизменная преданность, которую он выказывал в течение трех месяцев, и изысканные манеры, и тонкий вкус, и, наконец, умение понять и оценить красоту женской души. Как-то Фонтей Капитон преподнес Мессалине роскошнейшее ожерелье с рубинами, стоившее два миллиона сестерциев, однако супруга Клавдия, совершив поистине спартанский подвиг, с возмущением отклонила подарок. Ее якобы строгие нравы не позволяли настолько терять голову.
- Мы, бедные женщины, - сказала она томно, - так слабы, что от похвалы, от решительности и настойчивости однажды можем поскользнуться и пасть, почти не сознавая этого. И тогда мужчина, своим упорством добившийся желанной цели, первым отвернется от той несчастной, которую обольщал с таким коварством.
- О нет, нет! - воскликнул Капитон. - Что бы ни случилось, я всегда буду преклоняться перед моим единственным божеством!
В другой раз, когда Луций Фонтей вспомнил о сотнях знатнейших матрон, безо всякого стыда живущих с десятками любовников, Мессалина воскликнула:
- Вот видишь! Ну кто же еще может так испортить репутацию женщины, как мужчины! И ты такой же, как все, у тебя нет глубокого чувства, которое может испытывать только женщина!
Смущенный старик стал оправдываться. Да, раньше он действительно жил так, как ему велели порядки, заведенные не им. Но с тех пор, как он познакомился с ней, столь непохожей на остальных женщин - с тех пор он отвернулся от всего, что его окружало прежде. Это так же верно, как то, что если бы она узнала о предложении, с которым он пришел, то она бы смилостивилась над его муками и по достоинству оценила бы человека, считающего себя счастливейшим из смертных. Предположение же было таково: она покидает Клавдия и выходит за него, а он после первой брачной ночи завещает ей все свое наследство. С трудом удержав в себе целую бурю чувств, вызванных словами Фонтея, Мессалина вежливо поблагодарила его. Конечно, это предложение доказывает его любовь, но как она может оставить Клавдия, который, конечно, никуда не годится как супруг, но так сильно любит ее! А дочь? А его Оттавия? О нет, никогда! В таких разговорах прошел почти весь август. По уши влюбленный старик уже почти тронулся умом, а его дама все еще колебалась, изводя его своей нерешительностью.
Наконец отчаявшийся Луций Фонтей попробовал последнее средством он сказал, что, раз он так невыносимо страдает, а она не желает ему полного счастья, а поскольку он же, увы, уже не в силах продолжать жить такой жизнью, то хочет составить завещание и назначить ее своей наследницей.
Услышав это, Мессалина горячо возразила: у него же племянники. Как он откажет своим законным наследникам в том, что им по праву принадлежит? И к тому же, что скажут люди? О нет, никогда, никогда! Тогда Фонтей сказал:
- Племянники? Они и так богаты. Да и какое мне дело до моих племянников? Что они сделали для меня, для моего счастья? Знаешь ли ты, чем они изо дня в день занимаются? Они молят всех богов, чтобы я поскорей умер и не успел составить завещание! Что за подлый, бездушный народ! Не думай о них, они тебя не достойны. Увы, мои родственники не могут жить без того, чтобы не запятнать саму честь, само достоинство. Они говорят о тебе мерзости, хотя не знают тебя. Они не способны понять твоей души. Они оскорбляют тебя, потому что ты выше и чище их. О, они заслужили только одного - вовсе забыть их!
Придя к Мессалине с предложением о завещании, Фонтей привел с собой знаменитого врача Карикла. Заботливый старик хотел показать ему Оттавию, у которой слегка побаливало горло. А поскольку Карикл считался лучшим врачом Рима, то со стороны Мессалины было вполне естественно пожелать, чтобы тот осмотрел и самого Фонтея, чье здоровье, как она сказала, не могло не волновать семью Клавдия, встревоженную самочувствием своего доброго друга. Сначала Луций Фонтей отказывался, но потом согласился. Врач уложил его на софу, пощупал пульс и долго выслушивал грудь. Наконец, распрямившись, он объявил о прекрасном состоянии своего пациента. Однако, вернувшись вечером в дом Клавдия, лекарь Тиберия и Калигулы по секрету сообщил ему, что нашел у Луция Капитона порок сердца, от которого тот может умереть в любой роковой для него момент, даже и не подозревая о его близости. В последующие дни Луций Фонтей, не отказывающийся от намерения оставить наследство Мессалине, получил новое доказательство ее любви. Как-то утром этот престарелый воздыхатель с торжественным видом вручил ей искусно выполненное и собственноручно подписанное завещание. Вот когда наступил долгожданный триумф Мессалины! Она порвала бумагу на сотни мелких клочков и, бросившись в объятия Фонтея, повлекла его в самую укромную комнату своих покоев. Ей не нужно было ничего взамен, она не помышляла о богатстве, а только хотела дать волю тем чувствам, которым больше не могла сопротивляться. О, если бы с такой самоотверженностью и с таким самозабвением она любила Клавдия! На другой день Капитон снова принес ей завещание, и Мессалина еще раз порвала его. При этом она сначала пристыдила недогадливого любовника, а потом как бы вскользь заметила, что если уж он так решительно настроен подарить ей все состояние, то она может принять его только ради своей маленькой дочурки Оттавии. Избегая прямых выражений, она намекнула, что в таком случае наследником должен быть Клавдий Друз.
- Но как же… А вдруг он бросит тебя? - в замешательстве спросил Фонтей.
- О, можешь не сомневаться, он меня не бросит! - немедленно заверила его Мессалина.
И через день верховной жрице храма весталок было передано завещание, назначившее Клавдия Тиберия Друза единственным и полноправным наследником всего состояния Луция Фонтея Капитона, его преданнейшего друга. Такова была история обретения богатства, которое должно было свалиться на голову ничего не подозревавшего Клавдия.
Описанные события происходили между маем и сентябрем года 792 с основания города. И так получилось, что все они стали известны одному из слуг семейства Клавдия, а именно, рабу Поллуксу, которому само его положение не позволяло проявлять излишнюю любознательность.
Разумеется, хозяевам не было никакого дела до того, что могли подумать их рабы.
По давно заведенной и передававшейся от отца к сыну традиции, к этим несчастным римляне относились не иначе, как к вещам, владельцами которых они были или могли быть. Вот почему их присутствие при разговорах и поступках господ для последних имело не больше значения, чем наличие мебели, статуэток, этрусских ваз и прочих предметов, составлявших обстановку любого мало-мальски респектабельного жилья. Однако Поллукс, у которого, несмотря на его прогрессировавшую слоновую болезнь, оказалось достаточно хитрости и ума, был о себе более высокого мнения, чем об этрусских вазах или статуэтках. И если он мог слышать и наблюдать, то уж тем более никто не мешал ему думать. Кроме того, выполняя свои обязанности то тут, то там, он мог еще и сопоставлять увиденное. В результате наблюдений он пришел к выводу, что в доме его хозяев творится что-то неладное. Мало того, зная и о визитах Фонтея, и о его длительном пребывании в библиотеке Клавдия, он в конце концов пришел к некоему умозаключению, которое, правда, не совсем соответствовало истине, но в то же время многое объясняло. Вот почему, подметая пыль в таблии или в комнатах Мессалины, он порой застывал на одном месте и начинал что-то бормотать себе под нос. Во весь голос он не рискнул бы высказывать свои мысли, зная, что хозяевам вряд ли пришлись бы по вкусу его слова.
Иной раз, делая домашнюю работу, Поллукс останавливался и, опираясь левым локтем на ручку метлы, прикладывал указательный палец правой руки к своем наморщенному лбу, потом протягивал тот же самый палец в сторону покоев Клавдия, переводил его в направлении комнат Мессалины, задумчиво обводил им вокруг себя и, наконец, торжественно соединял пальцы обеих рук, отчего метла с грохотом падала на пол. Однако он этого не замечал, словно человек, решивший какую-то чрезвычайно важную задачу и убежденный в правильности полученного ответа. А иногда, медленно шаркая ногами в тишине пустого таблия - ему часто приказывали сторожить дом по ночам, - он закладывал руки за спину и, покачивая головой, ухмылялся какой-то ядовитой и злой улыбкой.
Над чем же так напряженно размышлял раб Мессалины? Что ему пришло в голову?
Это оставалось его тайной, и он молча наслаждался мыслью о том, что она принадлежала только ему. Но вот другой человек, хорошо известный в Риме как ревностный исполнитель обязанностей трибуна преторианцев, которым он являлся, не мог держать при себе мыслей, преследовавших его. Когда он был свободен от занятий в лагере гвардейцев, то удалялся в самые безлюдные части города и, ступая твердым строевым шагом, подолгу ходил из квартала в квартал, словно не находил места, где бы мог избавиться от каких-то мучительных раздумий, терзавших его душу. Этим человеком был Гай Кассий Херея. Глубоко почитая древние традиции римского народа, давние и еще свежие примеры его величия, он презирал ту ничтожную, суетную и развратную жизнь, которой Рим жил в последние два столетия.
- Что случилось за эти два века? Куда девались традиции и обычаи времен старейшего Фабия Максима Веррукоза, обоих Сципионов, цензора Катона, Ливия Салинатора, Тиберия Семпрония Гракха - покорителя испанцев и отца двух прославленных трибунов - Тита Квинция Фламиния, вышедшего победителем из многих знаменитых битв, Луция Эмилия Паоло, триумфатора над персами. Как могли римляне с их величием, их удивительными добродетелями и с их отвращением к любому пороку, как они могли всего за два века предать забвению или осмеять все, что было завещано великими предками? Как могли они отказаться от свободы и принести себя в жертву деспотизму, подчиниться не только хитроумному Августу и притворщику Тиберию, но и этому безрассудному Гаю Цезарю?
Таковы были размышления старого республиканца. Занимаясь безнадежными поисками причины, которая привела к крушению всех прежних идеалов и породила столько подлости и трусости, окружавших его, он с болью осознавал собственную обреченность и ненужность своему времени, а потому горько сожалел о том, что не родился между окончанием пятого и началом шестого века с основания Рима, в эпоху, когда добродетели, данные ему природой, могли бы раскрыться в полную силу, принеся немало пользы для его родины. Но те же самые добродетели настойчиво требовали, чтобы он нашел способ применить их и воскресить былую славу римлян. Ему было бы стыдно признать себя пустым мечтателем и фантазером. О! Он поклялся, что не будет мириться с пороками, встречавшимися на каждом шагу! Порой он невыносимо страдал от мысли, что даже его единственный сын, на которого он возлагал столько надежд, пренебрег его гневом и опустился на самое дно зловонного разврата, став участником оргий, служащих для удовлетворения прихотей разнузданного тирана. Того самого, кто, вдобавок, не переставал глумиться над его отцом! Чувствуя, как на его глаза наворачиваются старческие слезы, он сжимал кулаки и умолял всех подземных богов помочь ему отомстить за позор, испытанный им во дворце. Ежедневно возвращаясь к этим мыслям, не дававшим ему покоя в течение целого года, Гай Кассий Херея, наконец, пришел к твердому решению покончить с тираном.
План действий не сразу сложился в его голове. Несколько месяцев он вынашивал эту идею. Еще несколько месяцев ему понадобилось для того, чтобы всесторонне ее обдумать и постараться предусмотреть все трудности и неожиданности, с которыми он мог встретиться, выполняя то, что считал своим долгом. Но настал день, когда лихорадочно работавший мозг Кассия Хереи справился и с этой работой. И тогда, тщательно проанализировав все возможные способы осуществления замысла, трибун уяснил для себя две вещи: осуществить его можно, однако ничего нельзя сделать в одиночку.
И вот, где бы с тех пор ни находился Кассий Херея - на прогулках, в лагере преторианцев, на охране Палатинского дворца, на занятиях с когортами гвардейцев на Марсовом Поле, - теперь всюду он искал людей, чьи души могли бы откликнуться на его чувства.
Сначала он нашел только несколько таких. Одним из них был Анний Минуциан, сорокалетний сенатор, некогда занимавший должность претора. Он был известен как своей физической силой, так и тем, что, презирая всеобщий страх, почти во всеуслышание порицал злодеяния Калигулы. Другого сообщника Кассий видел в новом префекте претория, Клементе Аретине, шестидесятилетнем старике, сохранившем крепкое телосложение и твердость духа, а кроме того, воспитанном на уважении к великим традициям Республики и на желавшем подчиняться произволу деспота. Клемент был на военной службе тридцать пять лет; семнадцать из них он провел в сирийских легионах, постоянно сражавшихся с непокорными парфянами. На взгляд Хереи, этот человек обладал только одним недостатком: он был дружен с семейством Мессалы, которое пользовалось благосклонностью императора и, конечно, не поддержало бы заговор против него.
Как бы то ни было, Кассий Херея думал, что если Клементу Аретину придется по сердцу его замысел, то он станет неоценимым приобретением для заговорщиков, число которых, по мнению трибуна, должно было ограничиться только самыми необходимыми людьми, теми, без которых было невозможно претворить его план и избавить империю от позора. Третьего сторонника Херея полагал обрести в лице старого центуриона Корнелия Сабина, уже распрощавшегося с его десятым легионом, но, благодаря хорошим отношениям с Криспином Руфом, назначенным трибуном преторианцев. Закаленный душой и телом, Корнелий Сабин глубоко почитал античную доблесть и дисциплину, а потому Кассий считал его надежным помощником в осуществлении своих намерений. Четвертого соучастника он хотел найти в сорокадвухлетнем Папинии, еще одном преторианском трибуне, который должен был в душе ненавидеть тирана за тяжелое оскорбление, нанесенное им семье Кальпурниев, долгие годы покровительствовавшей плебейскому роду Папиния.
Перебрав в уме еще несколько имен и отбросив их, Херея заключил, что нашел достаточное количество сообщников, требовавшихся ему для достижения поставленной цели.
И вот в конце сентября старый преторианский трибун пришел в дом Марка Анния Минуциана. Сорокатрехлетний сенатор обладал внушительной внешностью: его крепкое телосложение и стальные мускулы все еще позволяли ему с равной легкостью действовать мечом, управлять лошадьми и выходить победителем из любого рукопашного поединка. У него было бледное, словно восковое лицо, черная короткая бородка и такие же черные глаза; высокий лоб удлиняла большая залысина, доходившая почти до макушки головы, обрамленной густой темной шевелюрой. Лицо его было сурово и мужественно. Приняв трибуна в одной из самых укромных комнат своих апартаментов, он сделал несколько шагов ему навстречу и с улыбкой произнес:
- Сальве, почтенный Херея! Ты всегда желанный гость в моем доме!
С этими словами он взял его за руку и пригласил сесть.
- Здоровья тебе, знаменитый Минуциан, известный своим радушием и теми добродетелями, которые сделали тебя одним из немногих римлян, достойных уважения в наши дни.
- О, ты слишком снисходителен ко мне! Если бы я не знал, что твои губы никогда не оскверняла лесть, то я не стал бы гордиться такой похвалой. Ну, какие новости ты принес? Должно быть, когда ты назначаешь стражникам пароль, то от тебя уже не ждут отзыва «Венера», «Приап» или «Евнух»?
Вскочив на ноги, Кассий Херея воскликнул голосом, дрожащим от гнева и возмущения.
- А ты назови мне пароль «Свобода», тогда я буду знать, что не зря пришел к тебе, а ты увидишь перед собой человека, готового вместе с тобой пойти на любые испытания.
- Я полагаю, что ты разделяешь мои мысли, и поэтому хочу рассказать тебе о своем замысле. Я принес с собой кинжал, который может послужить одновременно тебе и мне. Итак, я предлагаю объединить наши усилия в общем деле и идти вместе. Если ты хочешь, то командуй, и я последую за тобой. Если прикажешь, я пойду впереди, чувствуя твое дыхание и веря в твою помощь. Оружие докажет справедливость своего действия, если его будет сжимать десница достойного воина. Сам я готов исполнить свой замысел немедленно, не раздумывая над тем, что со мной случится, у меня не осталось времени на размышления, мне слишком больно видеть в рабстве отечество, рожденное для свободы. Горе, причиняемое забвением законов, и опустошение, производимое Гаем, изводит весь человеческий род. Это говорю я, и богам угодно, чтобы мои слова нашли отклик в твоей душе, чувствующей то же, что и я [I].
Голос Хереи то и дело срывался с баса на фальцет, однако его пылкие слова звучали убедительно. Слушая их, Анний Минуциан поднялся со своего места, словно притянутый флюидами, которые исходили от взволнованного трибуна. Глаза его просияли радостью и надеждой. Дав Кассию договорить, он положил руку ему на плечо и растроганно воскликнул:
- О, не все потеряно для родины и свободы, пока есть такие сердца, как то, что бьется у тебя в груди!
Ободренные тем, что не ошиблись друг в друге, они сразу приступили к обсуждению плана расправы с тираном и спасения Рима от этого ненасытного чудовища.
Минуциану пришелся по душе план Кассия Хереи. Во многом одобрив его, он разделил надежды, которые трибун преторианцев возлагал на Корнелия Сабина и Секста Папиния. Правда, участие в заговоре Клемента Аретина вызывало некоторое опасение у сенатора. Он полагал, что было бы более разумно не доверять всей тайны префекту претория. Однако и тут они пришли к общему мнению, решив, что до определенного времени не будут посвящать Аретина в их замысел. От Минуциана Кассий Херея вышел человеком, чувствовавшим, как у него вырастают крылья: наконец-то начинали сбываться его самые заветные мечты.
В течение нескольких последующих дней Херея сумел переговорить с Корнелием Сабином и Секстом Папинием, ни одному из них, однако, не сообщив о встрече с другим и оба раз умолчав о визите к Минуциану. Эти два преторианца горячо поддержали его предложение и даже выразили готовность пойти на смерть ради общего дела. Оказалось, что Корнелий Сабин уже давно вынашивал мысли, схожие с теми, которыми с ним поделился старый трибун.
А пока все это происходило и пока Кассий Херея подыскивал новых сообщников и ждал только возвращения Калигулы в Рим, чтобы привести свой план в исполнение, из Галлии пришло известие о провале заговора Гетулика и Лепида, преданных Цериалом. Однако эта новость ничуть не охладила четверых римских заговорщиков: наоборот, она лишь поторопила их, особенно Минуциана, который был связан дружескими узами с Лепидом и теперь, во-первых, хотел отомстить за его смерть, а во-вторых, должен был спешить из-за возможной опалы, грозившей ему вследствие его близости к казненному Эмилию.
И как раз в то же время, примерно в середине декабря, Мессалине понадобились деньги, чтобы вернуть три миллиона сестерциев, взятых в долг у Квинтилии. Кроме того, несколько миллионов ей были нужны на покрытие домашних расходов. Не имея возможности воспользоваться наследством, завещанным Клавдию, она вновь обратилась за помощью к Фонтею, с которым уже не считала нужным церемониться и который с радостью принес деньги, сказав при этом:
- Бери, не стесняйся! Ведь это все принадлежит тебе! Я хочу сказать, что ты получишь гораздо больше после моей смерти.
- Тихо! Не говори о смерти! - перебила его Мессалина, - ты должен жить ради моей любви. И быстро поцеловала его. С недавнего времени она, ее супруг и любовник стали вместе ходить в театр. Там почти каждый раз им встречался красавец Марк Мнестер, которым Мессалина когда-то была увлечена и даже пробовала, правда, безуспешно, подчинить его себе. Однако теперь она решила возобновить те давние попытки, чтобы поскорее забыть об отвращении, которое в ней вызывали объятия ее престарелого поклонника. Разумеется, это ей не мешало по десять раз в месяц писать своему обожаемому Калисто пламенные послания, изобиловавшие самыми изощренными приемами словесного обольщения. Так уж была устроена Мессалина, что этим она не только не тяготилась, но наоборот, не могла обойтись без того, чтобы не вести одновременно две-три любовные интриги, в которые вкладывала весь свой пылкий темперамент и которые доставляли ей равное удовольствие. Если она при этом не видела перед собой хотя бы одного из своих любовников, то мучалась оттого, что не чувствовала себя красивой и соблазнительной матроной. Вот почему она не оставляла в покое мима и заставляла Клавдия, бывшего с ним в дружеских отношениях, приглашать его на ужин всякий раз, когда знала, что к ним не придет Фонтей. В один из таких вечеров она попросила Мнестера навестить их дом на следующий день, во втором часу после шести. Придя в назначенный срок, актер нашел ее лежащей на софе в полутемной комнате. Ее прекрасное тело было полностью обнажено. Увидев его, она сказала, что любит его и хочет, чтобы он заключил ее в свои объятия. Однако Мнестер, немало смущенный таким необычным приемом, вскоре пришел в себя и, стараясь не обидеть женщину, ответил, что слишком уважает Клавдия, а потому не может позволить себе удовлетворить ее желание.
- Право, ты оказался верным другом! Это тем более удивительно в наше время, когда от таких Пи-ладов[148] и след простыл! - усмехнулась Мессалина, не выдавая горького разочарования, которое жгло ее душу. - А скажи-ка, преданный друг, если тебе прикажет Клавдий, то ты доставишь мне это удовольствие?
- Ну… Если Клавдий прикажет мне, то, конечно, я выполню твою и его просьбу. Но как ты себе это представляешь?
Однако Мессалина больше не дала ему сказать ни слова, а только взяла с него обещание прийти завтра к ним на ужин. Мнестер вышел, недоумевая, каким образом его друг сможет обратиться к нему с подобным приказанием! И вот, на следующий вечер, просидев за столом с супругами не меньше трех часов и переговорив с ними обо всем, о чем только мог, он уже собирался прощаться, как вдруг Мессалина стукнула локтем по спине Клавдия, и тот проговорил укоряющим тоном:
- А кстати, Марк, я должен высказать тебе один важный упрек!
- Мне? - спросил сбитый с толку комедиант. - А в чем дело? За что?
- Как за что! И ты еще спрашиваешь? И ты еще спрашиваешь с таким невинным выражением лица, с таким простодушным удивлением? Ах, Мнестер, Мнестер! Я знаю, что моя жена вчера просила об одной милости и ты отказался удовлетворить ее желание!
- Да знаешь ли ты, дорогой Клавдий, что твоя жена…
- Не хочу ничего слышать! - закричал историк этрусков. - Никаких извинений! Я приказываю тебе доставить это удовольствие моей Мессалине, как подобает истинному другу семьи!
Не находя слов, Мнестер замер с открытым ртом. Вытаращив глаза, он смотрел то на хозяина дома, то на его супругу; пораженный изворотливостью матроны, он, наконец, пробормотал с покорным видом:
- Ну!… тогда… Если ты так хочешь и приказываешь мне, то я подчиняюсь тебе и Мессалине.
Так, благодаря своей неслыханной дерзости, Мессалина сумела победить сопротивление и щепетильность Марка Мнестера [II].
Вскоре, в первый день года 793-го, когда Рим все еще оставался без консулов, потому что в декабре умер один из них, а второй - не кто иной как сам император Гай Цезарь Германик - еще находился в Галлии, все сенаторы пришли к храму Зевса Капитолийского, чтобы во имя здоровья прицепса совершить жертвоприношения у статуи Олимпийского Божества и возле золотого изваяния божественного Гая Цезаря. Затем они направились во дворец, где возложили щедрые подарки к золотому трону Калигулы, и, обращаясь к пустому месту, расхваливали императора, словно тот находился перед ними [III].
В день перед январскими идами в Рим прибыло напыщенное послание Гая Цезаря, в котором тот, позоря сенат за его трусливое бездействие во время, когда сам он подвергается величайшим опасностям, сообщал, что готовит армию и флот к высадке в Британию для завоевания варварских племен этого острова, не желавших признавать власти римского народа.
Далее он приказывал назначить консулами Луция Геллия Публиколу и Марка Кокцея Нерву, а также велел продолжить процессы против патрициев, замеченных в действиях или высказываниях, приносящих вред его правлению. Главное же, он настаивал на новых конфискациях имущества, ибо расходы, связанные с его военными кампаниями, требовали денег, денег и денег.
А тем временем Мессалина, как ни странно, еще находившая силы для политических интриг между надоедливыми ухаживаниями Фонтея Капитона, изнуряющей любовной связью с Марком Мнестером и платоническим влечением к Калисто, которому не переставала писать пространные нежные письма, вынашивала свой план заговора против Калигулы. Она не без умысла добилась того, чтобы Клемент Аретин сменил Руфа Криспина на посту префекта претория.
Как и прежде, она думала, что безумства и злодеяния Гая Цезаря скоро переполнят чашу народного терпения. Именно в тот момент и должно было произойти убийство чудовища, выглядевшее бы в этом случае как выражение общей воли всех горожан. И вот наступил тот час, о котором она мечтала больше двух лет. Час, на приближение которого давно направляла все свои усилия.
После смерти Гая Цезаря императором мог стать только один человек, а именно: брат Германика, Клавдий Тиберий Друз. Следовательно, на место Цезонии Милонии, правившей сейчас целым миром, должна была стать Валерия Мессалина. Всю зиму 793 года она вела дело к тому, чтобы, дождавшись возвращения Цезаря, сразу же отправить его на тот свет. Мало-помалу она начала посвящать в свой замысел Клемента Аретина. Новый начальник императорской стражи обладал не только внушительной и властной внешностью старого, солдата. Его прямая, честная душа была глубоко возмущена произволом и беззакониями Калигулы, а потому дочери Мессала, семья которого была связана многолетней дружбой с префектом претория, не стоило большого труда убедить его в необходимости освободить мир от тирана. Пообещав же ему великие почести, Мессалине было еще легче заставить его одобрить вторую часть ее плана, предусматривавшую замену племянника на дядю, то есть на Клавдия. Принимая во внимание возраст Клемента, - так сказала она, - на него возлагается именно эта, вполне безопасная задача: когда императора уже не будет в живых, он должен добиться от преторианцев, чтобы они единодушно встали на сторону Клавдия. Кроме того, Клементу предстояло оказать заговорщикам и другую немаловажную услугу, в назначенный день послав на охрану Палатинского дворца трибуна, посвященного в их планы. В качестве непосредственных исполнителей своей воли Мессалина выбрала двоих людей, не только пользовавшихся особыми привилегиями при дворе, но и способных на самые решительные действия.
Ими были Калисто, любимый либертин Цезаря, и Квинтилия, одна из его фавориток. В Калисто она не сомневалась: ради нее он пожертвовал бы даже собственной жизнью. Квинтилия же, узнав об отведенной ей роли, ответила, что одинаково готова как нанести первый удар Цезарю, так и перенести все муки, но не предать ее, если заговор провалится. Таким образом, дело уже приближалось к трагической развязке, когда наступила весна. В конце апреля Мессалина получила очередное письмо от Калисто, отправленное из Везонция (Безансона). Отрывок из этого послания она показала Клавдию, Клементу и Квинтилии. Вот он:
«…А теперь я хочу рассказать тебе о бесславном конце того великого подвига, который намеревался совершить этот шут в императорском пурпуре. После всех его раздумий и колебаний, двадцатого марта мы опять двинулись в страну батавов. Численность наших легионов вместе с войсками союзников превышала сто двадцать тысяч человек. С такими силами божественный Юлий покорил бы Арабию, Армению, Персию, Скифию и Сармацию, однако богоподобный Гай со всей этой армадой завоевал - поверишь ли? - морские ракушки! В несколько переходов преодолев весь путь, в начале апреля мы вышли к устью Рейна, откуда было видно, как над океаном, словно крылья больших белых птиц, поднялись тысячи парусов нашего огромного флота. В голубой дали смутно проступала узкая полоска британского берега. Был дан приказ построиться в боевые порядки, привести в полную готовность сотни баллист, и катапульт. Наконец, протрубил сигнал к атаке, хотя никто не замечал даже тени врага, на которого мы должны были сейчас броситься. И вот император взошел на золотой трон, который был уже поставлен для него, и, напыщенно поблагодарив солдат за их мужество, позволившее войску достойно справиться со всеми опасностями этого похода, отправил их… собирать раковины, валявшиеся на берегу моря.
- Это, - заявил он во всеуслышание, - добыча, отвоеванная у Океана! Мы доставим ее в Рим и с триумфом возложим к Капитолию.
В честь этой величайшей победы он приказал в тридцать дней построить башню. Когда сто двадцать тысяч солдат, руководимых военными архитекторами, возвели это сооружение, то император велел на его вершине разжечь огонь и впредь поддерживать его, чтобы освещать и указывать путь мореплавателям [IV]. Затем, раздав легионерам щедрое вознаграждение, он повел их обратно в Галлию. Отсюда он скоро отправится в Рим, где я наконец-то смогу…»
Спустя четыре дня после получения этого письма, когда Мессалина проводила послеобеденные часы в своем конклаве, к ней с визитом явился Луций Фонтей Капитон, который все больше и больше терял голову от любви.
Однако не прошло и получаса с момента, когда старый патриций закрыл за собой дверь в заветную гостиную Мессалины, как вдруг отчаянный душераздирающий вопль, раздавшийся из этой комнаты, заставил туда стремглав броситься Квинтилию, которая дожидалась матрону в таблии. Там глазам актрисы предстала поистине трагическая картина. Мессалина, с растрепанными волосами, с безумно вытаращенными глазами, дико крича и зовя на помощь, раскинув руки, лежала на широкой софе, прижатая к ней сверху неподвижным телом Луция Фонтея Капитона.
- В чем дело? Что случилось? - глядя на Мессалину, воскликнула ошеломленная актриса.
- Ну же… сними его. Он болен, у него обморок. О Зевс! Какой ужас! Какой позор! Помоги мне, Квинтилия. Ради всех богов! Лишь через несколько минут смертельно бледная супруга Клавдия, испускавшая то жалобные стоны, то вопли ужаса, смогла избавиться от груза тучного старческого тела, что потребовало немало усилий и от нее, и от Квинтилии, которая сразу же пришла на помощь подруге. Оказавшись на свободе, Мессалина встала на ноги, пошатнулась и, ухватившись за спинку софы, чтобы не упасть, проговорила слабым, задыхающимся голосом:
- Ничего не понимаю. Он был здесь, разговаривал. А потом вдруг… Не знаю, как… Так страшно застонал. Но больше этого не повторится. О боги!
- Поправь волосы. Приведи в порядок одежду, - быстро прошептала Квинтилия, услышав приближающиеся голоса встревоженных слуг.
С огромным трудом актрисе удалось пристроить спиной к стене тело старого патриция, лицо которого становилось все более бескровным. Рот его был полуоткрыт, широко раскрытые глаза остекленели. Одна рука лежала у пояса, другая свесилась через спинку софы. Не успела Мессалина поправить прическу и одежду, как в конклаве появились две рабыни, спросившие в один голос:
- Что случилось, госпожа? Мы здесь!
- Мы к твоим услугам, синьора!
Однако их хозяйка, все еще не оправившаяся от пережитого, не могла выговорить ни слова, и поэтому вместо нее Квинтилия, усилием воли заставившая себя быть хладнокровной, ответила громким, властным голосом:
- Ничего особенного - Фонтею стало плохо! Не кричите! Ну, что встали? Ты - быстро за врачом! Ты - живее принеси воды и уксус. Ничего не случилось, это просто обморок!
- Ну, держись! - глухо проговорила она, обращаясь к Мессалине, как только рабыни удалились.
- Смотри, не выдай себя. С ним уже ничего не поделаешь.
- Что? Он мертв?! - спросила Мессалина и вновь испустила истошный крик. Мысль, что она лежала под трупом, едва не лишила ее рассудка.
- Да, умер в твоих объятиях. Вот это истинный любовник.
И, видя, что Мессалина, безучастно закрывшая лицо руками, никак не отреагировала на ее слова, Квинтилия добавила, взглянув на бездыханное тело Фонтея:
- Он оставил тебе свои миллионы, но заставил дорого заплатить за них. Ты будешь вспоминать его, пока не потратишь все его наследство.
Такова была надгробная речь, произнесенная Луцию Фонтею Капитону. Вскоре вернулись рабыни, которые привели с собою потрясенного Клавдия. За ним появились все домашние рабы, они заполнили всю комнату. Раб-медик приблизился к телу Капитона и, быстро осмотрев, его, прошептал: - Тут уже ничего не поделаешь… Он умер!
И когда в комнате перемешались стоны, крики жалобы и соболезнования, вызванные известием об этой неожиданной смерти, один из рабов, стоявший у входа в дом, вытянул голову, стараясь понять причину такого переполоха, а потом вытаращил глаза и изо всех сил захлопал в ладоши. От этих звучных ударов еще долго сотрясалось его безобразное тело, пораженное слоновой болезнью.
ГЛАВА XII
Четыре месяца прошло после смерти Луция Фонтея Капитона. Известие о наследстве, которое он целиком завещал Клавдию, произвело немалое впечатление на римлян. И чем неожиданней была эта новость, тем подробнее она обсуждалась на людных площадях, на перекрестках улиц, в базиликах, в галереях и в термах.
- Клавдию? Но почему Клавдию, а не Кальвицию, не Виницию, не Рубеллию, не Фульцинию или не первому встречному, попавшемуся на глаза бедному Фонтею? Каковы заслуги Клавдия? Чем он отличился перед покойным? И в чем причина такого удивительного предпочтения, такой непонятной благосклонности? Должно быть, между ними была какая-то тайна. Но какая?
Вопросов было предостаточно. А поскольку каждый горожанин на них отвечал по-своему и вдобавок торопился поделиться своими соображениями со знакомыми, то, многократно перетолковываясь, эти догадки порождали новые, уже совсем невероятные слухи. В результате весь Рим на какое-то время заполнили самые фантастические сплетни, начавшиеся, заметим, по одной простой причине. Дело было в том, что по крайней мере половину городского населения в то время составляли досужие бездельники, главным занятием которых было чесать языки по любому поводу.
Неудивительно, что ответов - зачастую казавшихся вполне убедительными и правдоподобными - было еще больше, чем вопросов. Странно было только, что, небезынтересные сами по себе, все эти подозрения, предположения и домыслы касались чего угодно, кроме любовной связи между Фонтеем и Мессалиной, а значит, основывались на ложной аксиоме о домашней идиллии, царившей в семействе Клавдия.
- О!… Понять причину такого завещания совсем нетрудно. Это же очевидно: Фонтей оставил наследство Клавдию за то, что тот однажды спас его от гнева Гая Цезаря, который хотел казнить Фонтея, забывшего прибавить почетный эпитет к его имени.
Такое объяснение случившемуся давали всезнающие цирюльники с улицы Табернола, слову которых их многочисленные посетители доверяли больше, чем гласу оракула.
- Да нет же! Причем тут божественный гай Цезарь? Я знаю из надежных источников, как было дело. У этого глупца и выскочки Фонтея - кто же его не знал? - была навязчивая идея: он хотел доказать, будто его род является одним из самых древних в Риме, одним из тех, что берут начало от этрусских князей. Хотя даже ему известно, что Фонтей - самые настоящие плебеи. Это подтверждается хотя бы тем, что, когда Публий Клодий Пулкр, патриций чистой воды, пожелал быть избранным в трибуны плебеев, то - тогда еще не нарушались законы Республики - ему отказали, а на это место назначили одного из предков Фонтея. Ведь в те времена главой плебеев мог быть только плебей! Так вот, у бедного Луция точно гвоздь в голове засел: разыскать в древнейших анналах свою фамилию! Тогда-то он и обратился к Клавдию, к этому педантичному археологу - ну, даровитому, если хотите, - который, позарившись на обещанную награду, все-таки сумел - одному Зевсу известно, какими ухищрениями! - удовлетворить желание покойного. А в благодарность за это Капитон оставил ему наследство.
Таково было мнение самых отъявленных и коварных мошенников, каковыми считались римские адвокаты и нотариусы, известные при этом своей проницательностью и беспримерной изворотливостью ума. Кроме того, один ростовщик, чья лавка находилась неподалеку от портика Помпея, утверждал, что завещание было составлено не без участия некой колдуньи, которой Клавдий обещал немалую долю своего будущего состояния. Наконец, множество самых разных людей подозревали, что документ, назначавший наследником имущества дядю императора, был фальшивым. Итак, завещание Фонтея целых десять дней будоражило умы городских сплетников, давая пищу для разговоров на всех площадках, во всех лавочках, портиках и садах. Затем новые происшествия завладели вниманием праздной толпы, и о последней воле Фонтея почти перестали вспоминать.
Приблизительно четыре месяца спустя после смерти Луция Фонтея Капитона, а точнее, в день перед календами сентября (31 августа 793 года) немалая часть римского населения заполнила улицу, соединявшую Форум с Радуменскими воротами. Больше сорока тысяч человек, вышедших за эти ворота, собрались на Марсовом Поле, и еще стотысячная толпа народа вытянулась вдоль Фламиниевой дороги, почти до самого мавзолея Августа. Так римляне встречали императора, который возвращался домой после великих походов в Германию и Британию. Из скромности он отказался от триумфа, решив довольствоваться одними овациями. Среди этих горожан не хватало только сенаторов: два месяца назад сенат отправил своего посланника в Лугдун, чтобы тот попросил поторопиться божественного Цезаря, задерживавшегося там из-за новых зрелищ, пиров и оргий. Выслушав посланника, Калигула велел сенаторам не показываться ему на глаза, ибо он знает об их ненависти к нему.
- Я вернусь, я вернусь! И со мной будет вот это! - кричал он на посланца, стуча кулаком по рукояти меча. - Я вернусь, но не для сената, а для народа, для сословия всадников! Сенаторов я не желаю видеть, и горе тем из них, кто будет мешаться у меня под ногами! [I]
В третьем часу на Фламиниевой дороге показались знамена конницы, открывавшей триумфальный кортеж. За ними следовали военные музыканты, оглашавшие воздух звуками победного марша. Далее шествовали легионеры, шлемы которых были украшены лавровыми венками. За легионерами шагали новые группы музыкантов и новые колонны солдат. Вскоре, окруженный отрядом германских телохранителей, появился и сам Калигула, облаченный в роскошные золотые доспехи и стоявший на триумфальной повозке, запряженной восемью белыми лошадьми. С ним была Цезония Милония, одетая тоже по-военному. За императорской колесницей шли британцы и германцы, которых император посчитал взятыми в плен и приказал заковать в цепи. За пленниками опять двигались музыканты и когорты охраны, замыкавшие парад. На всем пути его встречали восторженные крики и приветствия, которые Гай Цезарь принимал с презрительной ухмылкой. По прибытии к Капитолию, после того, как цепи, снятые с пленных, вместе с другими смехотворными трофеями его шутовской войны были помещены в храм Зевса и после того, как консулы, преторы, квесторы, эдилы, коллегии понтификов и прочие магистры благоговейно пали ниц перед Гаем Цезарем, он взошел на лоджию базилики Юлия[149] - находившейся ближе других к нему - и приказал Протогену и Калисто подать ему мешки с золотыми и серебряными монетами. Затем он обратился с речью к людям, сгрудившимся вокруг базилики и на Форуме. Он рассказал об опасностях, которые ему пришлось преодолеть для спасения империи, и о том, как он ненавидит патрициев, злобных притеснителей бедного плебейского люда, защищаемого и любимого только одним Цезарем.
- Я это вам докажу! - воскликнул он. - Прямо сейчас… смотрите!
И если уж его слова вызвали шквал аплодисментов и радостных криков, то можно себе представить, во что превратилась площадь, когда ему принесли мешки с мелкими монетами и он начал пригоршнями бросать деньги в воздух, крича:
- Берите, берите, бедные плебеи! Получайте! Божественный Гай Цезарь любит вас!
Одной рукой обняв Цезонию, он предложил ей делать то же самое. Толпа, собравшаяся внизу, безумно взревела, увидев посыпавшийся на нее золотой дождь. Потные люди, с истерическими воплями бросились к базилике, топча, сминая друг друга, пытаясь завладеть желанной добычей или стараясь вырвать ее у более удачливых. Задние напирали на передних, давили, не давали подбирать деньги с земли и не позволяли подняться тем, кто упал. А над всем этим нечеловеческим воем, над всей этой чудовищной давкой стоял свирепо усмехавшийся император и, упиваясь зрелищем кровавого хаоса, швырял все новые и новые пригоршни золотых брызг, сверкавших на солнце и разлетавшихся в разные стороны. Ужасное побоище продолжалось до тех пор, пока он не опустошил до дна все мешки с мелочью. Покидая лоджию базилики Юлия, он мог убедиться, что немалая часть горожан, недавно приветствовавших его, осталась неподвижно лежать или корчиться в судорогах на каменных плитах Форума. Но в то время, как великое множество людей было убито, раздавлено, задушено, покалечено и ранено, тиран, не обращая на них внимания, направился во дворец, поздравляя себя со счастливым возвращением и не без удовольствия вспоминая события минувшего дня. На следующее утро он вновь пришел на Форум и, посетив курию, приказал преторам ускорить рассмотрение дел по объявлению в оскорблении власти. Они должны были торопиться - во имя всех богов! - чтобы избавить Республику от полчищ ее врагов и пополнить государственную казну конфискованным имуществом. Консулам он велел заставить сенат немедленно и безжалостно осуждать всех, на кого падал гнев Цезаря. Последствиями этих распоряжений стали казни, грабежи и людское горе. От них не спасали ни бессовестная лесть, ни дорогие подношения, ни фимиам, который курили у алтарей божественного Гая Цезаря, ни даже самое хитроумное притворство и уловки, на которые пускались зажиточные горожане, чтобы скрыть от цензоров истинные размеры своего состояния. Гай Цезарь действовал с педантичной непреклонностью, как и полагалось сумасшедшему. На десятый день своего пребывания в Риме он призвал во дворец консулов и квесторов, которых собрал в роскошном зале своей библиотеки. Пригласив их сесть, он сказал:
- Раз вы так позорно бездельничаете, раз не занимаетесь общественными делами, то и Цезарь вынужден действовать жестоко. Только зря вы получаете ваши ежегодные почести и вознаграждения - словом, раз от вас толку все равно не добьешься, то вместо вас буду все решать я. Все эти дни я размышлял над новыми финансовыми мероприятиями, которые пополнят императорскую казну. У меня родился следующий план. Все, что вы сейчас услышите, должно быть немедленно одобрено, объявлено и выполнено сенатом. И горе вам, если хоть один римлянин не подчинится моим приказам.
И тут он изложил свое безумное постановление, объясняя и расхваливая каждое его слово. В нем Цезарь объявлял, что впредь сыновья и племянники богатых горожан могли пользоваться их состоянием лишь до той поры, покуда живы их родители и дяди, смерть которых влекла за собой передачу наследства в пользу казны. Помимо этого, считались недействительными те завещания, которые не предусматривали Цезаря в числе сонаследников. Отныне взимались и новые налоги: сороковая часть от суммы любого спора, раздела имущества или тяжбы. Восьмая часть от заработка проституток, - для которых он устроил на Палатине вместительнейший лупанарий[150], - столько же со сводников и прелюбодеев, как, впрочем, и с заработка носильщиков и грузчиков. Тяжелейшие кары назначались для тех, кто вздумал бы не платить этих налогов. А чтобы показать, как об ненавидит патрициев и обожает плебеев, он предлагал в скором времени обнародовать закон об отмене налога на продажу продуктов питания, введенный еще Августом для пополнения военной казны [II].
- Этот налог, - сказал он, - бьет по карману бедняков, а я хочу, чтобы все государственные издержки ложились только на богатых, на этих презренных патрициев. Плебеев же нужно вообще освободить от налогов. Я хочу, чтобы народ меня любил… Мой народ.
И, просвистев несколько нот какой-то городской песенки, добавил со злорадной ухмылкой:
- А вы забавляетесь тем, что называете меня сумасшедшим!
Консулы и квесторы, одни из которых похвалили полезность, другие - своевременность, а некоторые - даже высокое нравственное значение этих финансовых нововведений, вскоре стали расходиться. Напоследок они заверили, что завтра же все законы будут одобрены, опубликованы и вступят в силу.
- И обратите особое внимание на то, как их надо объявлять, - сказал Калигула на прощание. - Не нужно ждать, пока мои слова будут начертаны на бронзовой доске. Если вы признаете их справедливость, то приступайте к делу прямо сейчас. Не теряйте времени! Пусть их сегодня же примут к действию во всех судах!
Когда консулы и квесторы вышли, Калигула свирепо усмехнулся и обратился к Калисто, который вместе с Протогеном присутствовал при разговоре прицепса с магистратами:
- Ну, Калисто, ты понял, какая ловушка таится в этом новом способе объявления законов?
- Прости, божественный Гай, но, честно говоря, не совсем.
- Эх! Неужели это ты, мой смышленый Калисто! - перебив либертина, разочарованно протянул тиран. - Так слушай. Если законы не будут записаны на бронзовой доске и никто не сможет прочитать их в храме Сатурна, то что произойдет? А? А произойдет то, что либо никто не будет знать о них, либо их будут быстро забывать. А это значит, что удвоится, утроится, учетверится сумма штрафов за несоблюдение законов. Таким образом увеличатся поступления в казну, вызванные новыми налогами!
И, направляясь в комнаты Цезонии, добавил:
- Вот так! Меня держат за глупца! А у меня столько ума, сколько патрициям и не снилось!
Расставшись с обоими либертинами, он вошел к жене, которой рассказал о своих замыслах и о мошенничествах, затеваемых его подданными. Затем он велел принести маленькую Друзиллу и, усевшись на полу, стал играть с ней.
- Ты еще не знаешь, мой божественный, - произнесла Цезония, улегшись на софу и ласково проводя рукой по голове тирана, - что вчера наша обожаемая малютка, играя с девочкой Куспии Квадраты и с мальчиком Джиовенцы Цельсы, так разозлилась, что расцарапала ручками глаза обоим детишкам.
- Ах, ты мой маленький звереныш! Тигрица ты моя ненаглядная! - воскликнул обрадованный тиран, прижимая к себе и покрывая поцелуями пухлое тельце ребенка. - Вот в чем я вижу лучшее доказательство моей крови! [III]
И, растянувшись на ковре, принялся молча рассматривать супругу, которая в свою очередь нежно посмотрела на него и придвинулась немного поближе.
- Эрния! - крикнул Калигула после продолжительной паузы. - Эрния! Эрния!
- Что ты хочешь, божественный Гай? - порывистым движением поднявшись на колени, спросила Цезония. - Может быть, я тебе помогу?
- Нет. Благодарю тебя, не нужно!
В этот момент в дверях появилась удивительно красивая женщина, одетая в национальный наряд генуэзцев.
- Забери малютку, - приказал ей Калигула.
Кормилица Друзиллы приблизилась, взяла тотчас на руки расплакавшуюся девочку и, укачивая младенца, пошла к выходу. Калигула прокричал вслед:
- Ухаживай за ней! Не забудь, что вы доверены друг другу! Жизнь за жизнь!
Когда кормилица удалилась, Калигула повернулся к супруге и сказал:
- Я хочу услышать от тебя одну вещь. Говори мне правду.
- Ты сомневаешься в моей любви? - спросила Цезония, снова придвинувшись к мужу и нежно обняв его.
Взгляд тирана упал на стройную белую шею женщины; прикоснувшись к ней губами, он прошептал:
- Какая у тебя красивая шея! А стоит мне захотеть, и по моему первому знаку она слетит с плеч [IV].
- Да будет так, если тебе это доставит удовольствие! - воскликнула Цезония и положила голову на его плечо.
- О, как ты прекрасна, - проговорил Калигула и, немного помолчав, добавил:
- И все-таки я хочу знать: каким колдовством или другим искусством ты так привязала меня к себе? Открой мне эту тайну, пока я не начал искать ее в твоем животе!
- Не колдовство и не искусство, а беспредельная любовь к тебе. И не жена, а покорная раба, готовая для тебя пожертвовать всем, даже жизнью - вот причины, из-за которых ты так благосклонен ко мне!
Умиленный таким ответом, Калигула припал к ее груди и стал жадно целовать ее. Потом он поднялся на ноги и, поманив ее за собой, отвел в одну из самых укромных комнат своих апартаментов, где убедившись, что их никто не увидит, осторожно открыл железную дверь, встроенную в стену, пригласил ее подойти поближе. Глазам Цезонии предстала комната, весь пол которой был по колено завален золотыми викториалами, ауреями[151] и другими монетами. Этот просторный тайник освещался небольшим зарешеченным окном, расположенным под самым потолком. Дневной свет, льющийся сверху, переливался на грудах золота и, отражаясь от них, расцвечивал стены причудливыми желтыми бликами. Казалось, что там, под слоем драгоценного металла были спрятаны какие-то таинственные светильники, распространявшие это сказочное сияние. Калигула сделал несколько шагов вглубь комнаты и остановился. Сложив руки на груди, он оглядел свои сокровища. Действительно, эти маленькие золотые кружочки, сваленные в таком бесчисленном множестве, были способны заворожить не только любого смертного, но и самого императора. Он попробовал задержать взор на какой-нибудь одной монете и не смог сделать этого, ибо целые горы точно таких же маленьких радужных искорок отвлекали внимание и не давали ему сосредоточиться. Его зрачки расширились: он почувствовал, как у него закружилась голова и как вся эта золотая почва стала уходить у него из-под ног. Калигула пошатнулся и рухнул навзничь. Немного полежав на спине, он, не меняя положения, принялся обеими руками зачерпывать деньги и пригоршнями подбрасывать их над собой. Насладившись золотым дождем и перевернувшись на живот, он пополз на вершину одной из бело-желтых гор, погружая руки по локоть в нее, словно плыл по поверхности какого-то бескрайнего моря [V]. Потом, дико захохотав, он снова принялся осыпать себя горстями монет, которые падали на него, топили под собой и со звоном катились в разные стороны.
Его руки мелькали все быстрей, быстрей, быстрей… как вдруг у него потемнело в глазах, а в ушах послышался какой-то далекий звон, чем-то напоминавший звук трубы. Он в ужасе замер: ему показалось, что сияние, только что озарявшее комнату, скрылось под волной густой черной крови, накатившей неизвестно откуда и захлестнувшей его с головой. В этом кромешном мраке заплясали молнии. Постепенно они превратились в бледный квадрат окна, из которого лился мутный дневной свет. Тогда, испустив истошный вопль, Калигула в страхе бросился прочь, точно за ним кто-то гнался и уже готов был вот-вот настигнуть, чтобы нанести удар кинжалом. Отчаянно зовя на помощь, он опрометью выбежал из своего тайника и захлопнул железную дверь. Потом обессиленно свалился на руки Цезонии, из-за спины которой выглядывали перепуганные лица слуг, подоспевших на шум. Наконец, переводя дух, он шепотом пересказал супруге то, что с ним произошло.
- Я боюсь… - проговорил он с дрожью в голосе. - Ты же знаешь [VI]. Когда трубят трубы. И когда ударяет молния… мне страшно оставаться одному!
Никто не мог его успокоить. Уткнувшись, как ребенок, в грудь Милонии, он попросил Калисто запереть железную дверь, а потом, поддерживаемый женой и Протогеном, медленно направился в спальню.
Через двенадцать дней Гай посетил сенат, собравшийся в курии Юлия. Там его давно ждали и боялись его прихода. Сенаторы должны были обсуждать три предложения: первое, исходившее от Луция Вителия, пять месяцев назад отозванного из Сирии, где он командовал легионами, и предлагавшего, чтобы Божественному, Благому и Величайшему Гаю Цезарю было предоставлено право занимать в сенате самую высокую трибуну, куда никто, кроме него, не будет подниматься; второе, поданное Фабием Персиком, который требовал, чтобы Божественный, Благой и Величайший Гай Цезарь мог входить в помещение сената, сопровождаемый вооруженными телохранителями; и третье, выдвинутое несколькими патрициями, настаивавшими на том, чтобы впредь возле каждой статуи Божественного, Благого и Величайшего Гая Цезаря стояла почетная стража. Когда Гай, еще более свирепый и мрачный, чем обычно, появился в курии, то к нему подошел Тит Флавий Веспасиан - в этот год дослужившийся до претора - и, встав рядом с прицепсом сената, громко произнес:
- Здоровья тебе, Божественный, Благой и Величайший Гай Цезарь, триумфатор над германцами и британцами! От имени всей нашей ассамблеи прошу тебя снисходительно выслушать чтение трех проектов закона, подготовленных сенатом, который надеется, что ты их соизволишь одобрить.
Польщенный этими словами, Калигула выслушал три предложения сената и, немного смягчившись, велел, чтобы все они немедленно были провозглашены как законы [VII]. Тогда Веспасиан, ободренный удачным началом собрания, попросил разрешения говорить от своего имени и, получив его, сказал, что желал бы на свои средства - хотя это не возбранялось ему с тех пор, как он перестал быть эдилом - устроить публичные зрелища в честь великих побед, одержанных Гаем Цезарем в Германии и Британии [VIII].
Это предложение, встреченное громкими и долгими аплодисментами сенаторов, было с заметным удовольствием одобрено тираном, который в первый раз забыл о своих свирепых интонациях и произнес обычным человеческим голосом:
- Я от души благодарю сенат за внимание ко мне и хочу выразить самую глубокую признательность тебе, благочестивый Флавий Веспасиан, не только за то, что сегодня ты дал мне возможность убедиться в твоей преданности, но и за другой твой благородный поступок - которого я, поверь, не забуду, - ведь когда в конце прошлого года я рисковал жизнью в борьбе с врагами империи, ты, вот в этом зале, браня и проклиная двоих коварных негодяев, осмелившихся занести кинжалы над моей священной особой, добился, чтобы обоим изменникам, уже лишенным жизни, было отказано и в погребении [IX].
Однако, пока Калигула рассыпался в этих благодарностях, произошло следующее. Среди сенаторов, один за другим подходивших к Протогену, чтобы пожать ему руку, оказался Скрибоний Прокул, которого он - то ли по своим собственным наблюдениям, то ли по чьим-нибудь наветам - подозревал в неверности прицепсу. Увидев перед собой Скрибония, Протоген оттолкнул протянутую ему руку и возмущенно воскликнул:
- Как смеешь ты приветствовать меня, если ненавидишь божественного Гая Цезаря?
Услышав эти слова, почти все сенаторы повскакали со своих мест и, бросившись к несчастному, который хотел что-то сказать в оправдание, принялись громко бесчестить и позорить его.
- Прочь отсюда! Прочь, богохульник!
- Предатель! Негодяй!
- Убирайся вон, изменник!
На голову и на плечи несчастного Прокула, безуспешно пытавшегося закрыться руками, посыпался град кулаков и стальных палочек для письма. Иные сенаторы, превратившие стило в кинжал, старались поразить лицо, спину и грудь беззащитной жертвы. Вскоре Скрибоний Прокул был до неузнаваемости изуродован сотней своих товарищей, с которыми только что решал важные государственные вопросы. Он еще был жив, когда с улицы прибежали плебеи, позванные отцами города. Они продолжали истязание до тех пор, пока по всему полу не были разбросаны куски тела и внутренности бедного сенатора. Так закончилось заседание ассамблеи, начавшееся с боязливого трепета и с заискивания перед тираном.
К началу октября, когда все суды и тяжбы, происходившие в Риме, и его провинциях, окончательно запутались в противоречивых постановлениях сената, а подданные изнемогали под бременем несправедливых штрафов за несоблюдение законов, о которых никто даже не слышал, император стал получать бесчисленные жалобы и просьбы о своевременном обнародовании всех принимаемых законов. И вот однажды Калигула разразился безумным смехом, означавшим, что у него появилась какая-то новая идея, и сказал:
- А ведь правы подданные! Как же им соблюдать законы, которых они даже в глаза не видели? Пожалуй, я был не прав, когда запретил объявлять законы обычным способом. Теперь надо исправлять ошибку! Да, надо немедленно выручать мой бедный народ!
Он вызвал претора Тита Флавия Веспасиана и приказал впредь писать законы на бронзовых досках, но такими маленькими буквами, чтобы их никто не мог разобрать, а сами доски он велел вывешивать так высоко, что прочитать их было почти невозможно [XI].
Между тем Мессалина, избавившаяся от невыносимо претивших ей ухаживаний Фонтея, отвернувшаяся от Марка Мнестера и бросившаяся в объятья Калисто, жила одним-единственным желанием, которое давно лишало ее покоя и которое вот-вот должно было сбыться. Однако грезила она не ласками прелестного юноши, чьи самые заветные надежды исполнились при первой же встрече после его долгого отсутствия. Нет, теперь ее мучила другая мечта, гораздо более властная и, к тому же, неотделимая от самых похвальных патриотических устремлений. Ей не терпелось уберечь родину от новых злодеяний тирана, ставшего настоящим бедствием для римлян. Преданный либертин, появившийся в городе в мае, был готов совершить любой подвиг ради своей матроны, тем более, что в июле та обнаружила себя на втором месяце беременности. Этим известием втайне гордились и Калисто, и Мнестер, которые скрывали свою радость друг от друга и от ничего не подозревавшего Клавдия. Квинтилия также могла в нужный момент приступить к осуществлению замысла. То же самое можно было сказать и о Клементе Аретине, чья добродетельная душа не могла мириться с жестокостями и безрассудствами деспота. И, наконец, в расправе над Калигулой пожелал принять участие еще один человек. В стане заговорщиков он появился благодаря неуемной энергии Квинтилии, состоявшей в любовной интриге с сенатором Марком Помпедием, в верности которого она не сомневалась. Помпею недавно исполнилось сорок два года. У него было бледное благородное лицо, черные красивые глаза и густая шевелюра с обширными проседями, какими изобиловала и его борода.
Помпедий был умен, хитер и хорошо образован. Он преклонялся перед великим поэтом Титом Лукрецием Каром и во всех своих поступках руководствовался философскими максимами эпикурейцев, позволявшими ему пользоваться всеми сиюминутными благами жизни, не откладывая их на какое-то неопределенное будущее, в щедроты и воздаяния которого он не особенно верил. Человека, отважного по натуре, книги научили его презирать опасности. Зная его больше года, Квинтилия смогла открыть в нем качества, которые женщинам того времени редко удавалось встретить в мужчине: искренность, постоянство и бескорыстие. Однако она не заметила в нем того свойства ума, или скорее души, благодаря которому он относился к ней как к некоему объекту наблюдения, а точнее, как к некоему подопытному существу, загадки которого ему были достаточно любопытны. И вот, когда Квинтилия, любившая заводить с ним разговоры на самые разные темы, однажды обмолвилась о своей ненависти к тирану, то ее собеседник сказал, что испытывает к нему такие же чувства, а потому надеется на его скорую кончину. Тогда прекрасная актриса стала понемногу посвящать сенатора в план заговора, а в конце августа уже прямо, хотя и не называя имен, спросила, готов ли он принять участие в столь важном деле, как избавление народа от безумного деспота, ведущего весь мир к гибели.
- Моя дорогая Квинтилия, - ответил Помпедий, - тебе я доверяю, а поэтому скажу, что, если это дело серьезное и если его задумали серьезные люди, то я непременно присоединюсь к ним.
Тогда, с разрешения Мессалины, Квинтилия все рассказала своему любовнику и получила от него решительное согласие участвовать в их действиях. И теперь жене Клавдия оставалось только назначить время и место убийства тирана. Однако это было труднее, чем казалось на первый взгляд.
Во дворце Калигула был все время окружен своими фаворитами и либертинами, а в атрии постоянно находился отряд преданных ему германских солдат. Если же император выходил на Форум, в курию или еще куда-нибудь, то его всегда сопровождали большая свита друзей и множество германских телохранителей.
В сенате, где проще всего было бы действовать сообщникам; Калигула уже давно занимал самую высокую трибуну, вокруг которой обязательно стояли вооруженные германские солдаты. Такой порядок проведения заседания был предложен самими патрициями: увы, страх перед тираном, заставивший их выступить с этим нововведением, создавал одну из самых труднопреодолимых преград против заговорщиков.
Далее. Какое время дня лучше всего было выбрать, чтобы напасть на деспота и нанести ему смертельный удар кинжалом? Конечно, можно было бы воспользоваться ядом. Но как его незаметно подмешать в еду императора? И кто способен это сделать? Пытаться подкупить придворных поваров было опасно, а рассчитывать на возможность подлить яд прямо в кубок Цезаря было бы просто наивно.
Приходилось ежечасно быть начеку и надеяться на какое-нибудь удачное стечение обстоятельств. Кроме того, заговорщикам нужно было расширять ряды своих сторонников, привлекая сильных и мужественных людей, которые могли бы справиться с многочисленными телохранителями Калигулы и покончить с тираном. Однако и здесь нельзя было терять бдительности: ведь чем больше людей было посвящено в тайну заговора, тем выше была вероятность того, что из-за какой-либо случайности или по злому умыслу он окажется раскрытым. Вот почему Мессалина, Квинтилия, Помпедий, Клемент и Калисто встречались почти каждый день и тщательно обсуждали каждого, в ком они замечали неприязнь к деспоту и кто мог бы присоединиться к ним. После принятия таких мер предосторожности в конце октября к их сообществу примкнули сенаторы Луций Кальпурниан Пизон, Публий Ноний Аспренат, Луций Норбан Флакх, несколько всадников и пятеро преторианских центурионов.
С другой стороны, Кассий Херея и Минуциан тоже не сидели сложа руки, без устали ища новых надежных сообщников, они заручились поддержкой сенаторов Карнелия Регула, Гая Валерия Азиатика и Понца Аквила, а также Юлия Лупа, еще одного трибуна преторианцев. Азиатик и Регул были консулярами. Влияние одного из них распространялось не только на Рим, но и на всю Италию и Галлию. Другой пользовался большим уважением в Испании. Поэтому оба этих человека были чрезвычайно удачным пополнением рядов заговорщиков, особенно Аквил, которого они ценили за его выносливость и невероятную физическую силу.
Кассий Херея, ставший мозгом и сердцем этого заговора, тоже потратил несколько месяцев на поиски места и времени, подходящих для осуществления его замысла. В результате долгих размышлений он пришел к выводу, что им трудно будет обойтись без префекта претория, который один мог в нужный момент послать нескольких преданных людей на охрану Цезаря.
Вот почему, заручившись согласием Минуциана и Валерия Азиатика, однажды, в середине ноября Кассий Херея отправился к Клементу Аретину и после короткого предварительного разговора открыл ему свою душу.
- Я уверен, достопочтенный Клемент, - добавил он, - что ты, долгие годы сражавшийся за честь и славу Рима, не можешь не чувствовать того, что сегодня чувствуют все его граждане. Жестокости и безумствам Гая Цезаря должен быть положен предел, иначе в скором будущем Республику постигнет катастрофа. Что касается меня, то я убежден: никакие увещевания, никакие доводы разума не смогут остановить это чудовище, оскверняющее императорский пурпур! Настало время, когда долг римлянина велит мне взять в руку кинжал и избавить родину от тирана! Более того, я сознаю свою вину в страданиях латинского народа и думаю, что ты разделяешь мою боль, ибо только поддержка наших мечей позволяет деспоту делать все, что ему заблагорассудится. Он правит лишь благодаря нашему безответственному попустительству, без нас он не смог бы ничего сделать. Итак, мы виноваты еще больше, чем он сам. Следовательно, именно мы должны взять на себя всю тяжесть и опасность, с которыми связано убийство тирана [XII].
Голос взволнованного трибуна то и дело срывался с баса на фальцет, однако Клемент внимательно выслушал его, а потом сказал:
- Я полностью одобряю твои слова, благородный трибун, хотя ты и сам знаешь, что вокруг рыщут сотни доносчиков, а поэтому от нас требуется большая предусмотрительность! Но я верю в твою искренность. И в доказательство своей преданности скажу, что со мной и с тобой произошел случай, который бывает с людьми, роющими два разных подземных хода, но ищущих один и тот же клад. Тогда, после долгих поисков, которых снаружи никто не видит, эти два человека неожиданно встречаются: знай, что то же самое произошло и с нами, знай, что вместе с многими сенаторами и всадниками я уже много месяцев вынашиваю план, схожий с твоим.
- Ах! Во имя всех подземных богов! Жива еще латинская добродетель! - воскликнул Херея и, просияв от радости, обнял Клемента.
Немного успокоившись, он продолжил:
- Ох, если бы ты знал, Клемент, сколько раз в императорском таблии или в триклинии мною владело непреодолимое желание обнажить меч и одним ударом покончить с тираном, упивающимся своей жестокостью! И знаешь, что меня удерживало? Только одно: мысль о свободе, о Республике и о моей родине, которая не увидела бы в моем поступке ничего, кроме безумной выходки человека, обиженного деспотом. Нет, нужно, чтобы сенаторы и преторианцы объединили свои усилия и вместе пришли к торжеству справедливости. Недаром ведь, отказавшись от власти отдельных людей, наши мудрые предки пожелали, чтобы любой суд вершили ежегодно избираемые консулы и вечные законы, которым никто не в силах противиться.
Эти слова немного смутили Клемента. Должен ли он был открыть Кассию истинные побуждения главных организаторов заговора, намеревавшихся всего лишь поставить Клавдия на место Калигулы, тогда как Херея и его сообщники метили не в тирана - это было ясно, - а в саму тиранию, занявшую исконное место Республики? Подумав, он решил назвать преторианскому трибуну только те имена своих сообщников, которые ничего не знали о планах Мессалины и Калисто. Разумеется, умолчал он и о них самих, и таким образом, вдохновители предстоящего покушения остались известны лишь ему одному. С тех пор до начала декабря все заговорщики собирались регулярно и, окружая тайной каждую встречу, решали, как им довести свой замысел до конца. А поскольку тиран еще не отказался от привычки разбрасывать деньги с лоджии базилики Юлия, то Кассий Херея предложил убить его как раз тогда, когда тот будет занят этим отвратительным делом. Он пообещал вооружиться кинжалом и с помощью Минуциана, Аквила или Аспрената зарезать деспота, а потом сбросить его вниз, вслед за его проклятым золотом. Но, хотя эту идею поддержали Минуциан, Аквил и Помпедий, все же остальные ее отклонили, базилика была слишком тесным местом для успешного осуществления намерений преторианского трибунала. Гораздо более удачной заговорщикам показалась мысль убить тирана на его же алтаре, когда, одетый в костюм своего Божества, он начнет принимать жертвы от жрецов Цезаря - как раз в ту минуту, когда будет вдыхать фимиам всеобщего подобострастия и бессовестной лести. Однако и этот план неожиданно рухнул. Произошло событие, которое посеяло панику в рядах сообщников и подвергло огромной опасности жизнь каждого из них.
На девятый день декабря (5 декабря) 793 года из дома Клавдия Тиберия Друза бесследно исчез раб по имени Поллукс. Его хватились еще на рассвете, когда мажордом стал раздавать слугам их обычные утренние поручения, - и с тех пор нигде не могли найти. Этот случай вызвал немало удивления, ибо никто не мог себе представить раба более исполнительного и более чуждого тех развлечений, к которым были неравнодушны другие слуги, готовые воспользоваться каждой минутой свободы, чтобы поскорей покинуть дом своих хозяев, если даже это грозило им распятием за Эсквилинскими воротами.
Рабы, слуги и либертины сбились с ног, разыскивая Поллукса, и весь день только и делали, что обсуждали это непонятное бегство. О причине же его знала только Мессалина, которая еще накануне вечером получила запечатанное письмо, переданное ей рабом небогатого плебея Луция Тремидия, бывшего клиентом семьи Помпедиев. Письмо содержало следующее:
«Самой красивой женщине Рима Валерии Мессалине
от ее преданного раба Поллукса, желающего ей счастья и здоровья.
Прочитав это послание, ты не удивишься моему бегству из твоего дома. Воспользовавшись законом Цезаря, позволяющим рабу свидетельствовать против хозяина, я побывал у претора и обвинил Клавдия Тиберия Друза в том, что он собственноручно подделал завещание Луция Фонтея Капитона: для этого у меня нашлось достаточное число прямых и косвенных улик, так что скоро твоему супругу придется предстать перед строгим и суровым судом. О тебе я не сказал ни слова, даже тогда, когда претор спрашивал меня о том, как ты вела себя с Фонтеем Капитоном, часто появлявшимся в твоем доме, и какие отношения были между вами: я неизменно отвечал, что ты держалась скромно и что между вами были самые благопристойные отношения. Ты знаешь, что именно я утаил. Но догадываешься ли ты, почему я это сделал и почему дал показания против Клавдия? Сейчас я все объясню, и тогда ты поймешь причину этих и других моих поступков. Я ненавижу Клавдия и люблю тебя. Я люблю тебя с тех пор, как ты впервые вошла в дом моего хозяина, такая красивая и неприступная. С тех пор я объявил себя врагом того человека, который обладает тобой. И чем больше я презирал этого трусливого обжору, недостойного владеть подобным сокровищем, тем больше я обожал тебя. Конечно, мои слова тебя удивляют. Как, - ты думаешь, - раб посмел поднять глаза на его госпожу? Раб позволил себе испытывать ненависть и любовь? О, моя прекрасная синьора, ты не виновата в этих мыслях… В них виноваты римские обычаи и моя дерзость. Вы, римляне, повелители всего мира, привыкли относиться к рабам не как к людям, а как к животным, даже хуже, как к мебели, как к вашим собственным вещам. Поэтому вам трудно представить, что у нас могут быть и чувства, и мысли, и желания! О, моя госпожа! Может быть, мысли и чувства есть даже у стройного олеандра, растущего в твоем саду, даже у цепного пса Атрея, сторожащего твою дверь, даже у осла, приводящего в движение мельничные жернова! Почему этого не может быть?
Видишь, сколько дерзости у того, кого ты считала своей вещью? Я чувствую, что я такой же человек, как твой Клавдий, как твой Калисто, как сам император! Чудовищные слова, не правда ли? И все же, моя божественная синьора, это так.
У меня есть разум, есть сердце и есть язык: я понимаю, что все люди равны перед природой. Я умею любить, ненавидеть, чувствовать жалость, гнев, боль или радость. Я могу рассказать об этом. И о том, какое насилие над природой вы совершаете с помощью ваших мечей. Эта несправедливость переполняет мою душу болью, и вы не сможете отнять у меня этого чувства, даже если закуете меня в каторжные цепи: и тем более, если сделаете это! Знай, что если вы даже распнете меня на кресте, то все равно вы не лишите изначального равенства всех людей, которое было положено богами! И еще знай, что такие же чувства и мысли испытывают миллионы ваших рабов, в чьих жилах течет человеческая кровь, в чьих душах живут человеческие мысли, надежды и мечты о справедливости. Я не уверен, что все это понимал божественный Цезарь, когда принимал мудрый закон, позволяющий рабам обвинять хозяев. Но я уверен, что теперь для рабов наступит эра избавления и мести. Повторяю: сейчас ты пожимаешь плечами - своими великолепными олимпийскими плечами - и презрительно сжимаешь губы - те губы, в которых заключено самое высокое блаженство из всех, существующих под небом! Я это знаю, моя обожаемая синьора. Но послушай! Вот уже пять лет, как ты вошла в дом моего хозяина, и вот уже пять лет, как я люблю тебя со всей силой страсти, кипящей в моей крови! Поймешь ли ты дерзкую прихоть твоего раба, наблюдавшего твои объятия с Децием Кальпурнианом, Паоло Персиком, Мнестером и Калисто. Почувствуешь ли ты, какие страдания пять лет терзали душу человека, безумно любящего самую прекрасную женщину в мире и не имеющего возможности сказать ей хотя бы одно нежное слово, обратить на нее хотя бы один ласковый взгляд? Можешь ли ты вообразить ежедневные муки этого человека, не только лишенного права поднять глаза на ту, которую он обожает, но и вынужденного видеть, как ее ласкают другие! И при этом не издать ни единого крика, ни единым движением не облегчить свою боль! Подумай об узнике, которого в течение пяти лет подвергают ежедневной пытке, и ты получишь бледное представление о том, что я перенес! Итак, я дал показания против Клавдия и ничем не выдал тебя. Но я еще могу рассказать претору, в чьих объятиях умер Луций Фонтей Капитон. Могу поведать всем о любовных похождениях Персика, Кальпурниана, Калисто, Абудия Руфона, Фонтея, Мнестера: тому доказательствами будут, во-первых, их щедрые подарки и вознаграждения. Во-вторых, их частые посещения, в-третьих, завещание, составленное в пользу Квинтилии, в-четвертых, твои уединенные встречи с Фонтеем, что смогут подтвердить все слуги твоего дома, особенно если палачи развяжут им языки. О, каждая мельчайшая подробность этих свиданий запечатлена в моей памяти так же неизгладимо, как и те муки ревности, которые я не в силах забыть!
Но я не только не пытался изгнать из памяти то, чему был свидетелем, наоборот, старательно схватывал и удерживал в себе каждый твой взгляд, каждый вздох, каждое объятие и поцелуй, которые ты дарила своим любовникам на протяжении пяти лет, ничуть не заботясь о присутствии рабов и слуг, словно мы и в самом деле ничего не видим, не слышим и не понимаем! О, ты даже не представляешь, как ты заблуждалась! Разве я мог не заметить этих таинственных козней, которые замышляете вы все - ты, Квинтилия, Клемент, Помпедий и Калисто? Мне известны все ваши поступки, хотя я до сих пор не знаю, против кого они направлены. Может быть, против Цезонии Милонии? А может быть, против самого Цезаря? Повторяю, я этого не ведаю. Однако я совершенно точно знаю, что даже моих скудных сведений хватило бы магистратам для того, чтобы уготовить страшную участь всем твоим любовникам вместе с тобой и твоим супругом.
Ты и не вообразишь, моя обожаемая госпожа, как трудно мне было сдержаться и не открыть претору многого из того, что мне известно! Однако не для того я страдал целых пять лет, чтобы забыть обо всем и не потребовать награды за мое молчание! Вот почему я пишу это письмо. Настало время, когда я чувствую в себе силы просить и надеяться на твои божественные поцелуи. Пусть одну только ночь, но подари ее мне! Тебе это ничего не будет стоить, а для меня… О, для меня тогда сбудутся самые блаженные грезы и мечты! Потому что я тоже человек, пусть даже бедный и презренный, как все рабы, но все-таки наделенный желаниями, мыслями и душой. Пусть я твой раб, но я люблю тебя, и моя страсть велит мне взять в руки меч - о, как я благодарю закон Гая Цезаря, вооруживший меня! - и на какое-то время стать хозяином положения, чтобы вырвать у судьбы счастье, положенное мне природой! Итак, слушай, моя обожаемая госпожа. Либо сегодня вечером ты одна - обрати внимание на это слово: одна, без слуг, без сопровождающих, явных или тайных - в час первых факелов придешь на Африканскую улицу, где неподалеку от портика Божественного Санкта я буду ждать тебя, чтобы отвести в одно благопристойное место, которое ничем не оскорбит тебя, - и тогда я забуду о своем обвинении, либо ты не придешь, и тогда завтра в три часа претор начнет суровое расследование против тебя и всех твоих сообщников, мужчин и женщин. Тот раб, который передаст тебе мое письмо, должен будет сообщить мне об этом, поэтому ты не сможешь потом оправдываться, будто тебя не было дома или ты поздно вернулась и не успела вовремя собраться. Предупреждаю: любая попытка причинить мне зло обернется против тебя. Я знаю, что некоторые строки моего послания могут свидетельствовать не в мою пользу, но, конечно, ты их никому не покажешь, ибо если даже меня распнут на кресте, то это не поможет ни тебе, ни Квинтилии, ни Кальпурниану, ни Клементу, ни Калисто. Приходи ко мне, и ты спасешься. О! Не только спасешься, но и получишь такие доказательства моей любви, моей преданности и обожания, подобных которым не знает никто! О, приходи, приходи ко мне, самая прекрасная, самая желанная из женщин!»
Не дочитав этого послания до конца, Мессалина брезгливо разжала пальцы, и коряво исписанные страницы, кружась, упали на пол. Смешанное чувство гнева и страха охватило матрону. Проглотив комок, подступивший к горлу, она прошептала:
- Что же теперь делать? Что делать? Поднявшись на ноги, Мессалина принялась ходить вдоль стен комнаты, то ускоряя, то замедляя шаги, в зависимости от хода тех мыслей, которые беспорядочно роились у нее в голове. Постепенно она поняла весь ужас своего положения. Начавшись, процесс обязательно расстроил бы весь заговор, организованный с таким трудом и уже близившийся к успешному завершению. И это еще не все! Кто мог знать, как далеко зайдет расследование, вызванное обвинением подлого Поллукса? Гай Цезарь уже давно не был благосклонен ни к Клавдию, ни к ней самой. Цезония же ненавидела их обоих. Кроме того, на поверхность могли всплыть ее отношения с Локустой, и это было хуже всего! Перед той страшной тайной меркли и казались невинной забавой все ее интриги с Капитаном, о которых, кстати, непременно заявили бы его племянники. Да и разве трудно было найти в Риме лжесвидетелей, готовых давать показания какие угодно и на кого угодно?
Неожиданно для себя, Мессалина упала ничком на софу и, закрыв лицо руками, глухо зарыдала. Что за перемена произошла с этой женщиной! Никогда и ни при каких обстоятельствах не чувствовавшая мук раскаяния, не жалевшая никого и ничего, лишенная малейшего стыда и незнакомая с угрызениями совести, в эту минуту она горько плакала от собственного бессилия, от необходимости подчиниться уродливому чудовищу, не имевшему даже права называться человеком, но в этот момент властного и над ней, и над всеми ее горделивыми мечтами. Ее душили слезы.
И все же! Что делать? Попробовать расправиться с этим негодяем, не дожидаясь, пока он обратится к претору? Нет! Ни в коем случае! Поллукс ясно сказал, что он предусмотрел и такой ход событий. Значит, у него есть ответ на любое применение силы. Поговорить о письме с Клавдием и Калисто? Но что это даст? Какая польза будет в том, что она раскроет себя? Мало того, они узнают об интригах, о которых даже не подозревали, но еще оба будут вынуждены пойти к Поллуксу, чтобы защитить ее… и тем самым навлекут на нее неотвратимую гибель! Ах! Во имя Плутона! И это случится в тот момент, когда должно было осуществиться все, о чем она мечтала целых четыре года. И именно в тот момент, когда она меньше всего ожидала подобной катастрофы!
Супруга Клавдия размышляла долго и напряженно: она все обдумала. И, наконец, пришла к выводу, что ей ничего не остается, как только признать поражение и сдаться на милость победителя. Приняв же такое решение, она срочно послала за Квинтилией. Когда та появилась, то она ей все рассказала и попросила тайно проследить за ее встречей с Поллуксом, чтобы, незаметно сопровождая их, запомнить дом, куда он ее приведет, и если вдруг… Словом, если произойдет беда, то назавтра хотя бы знать, жива она или мертва. Затем она написала две короткие записки: одну для Клавдия, другую для Калисто. В первой она говорила о величайшей необходимости покинуть дом в этот вечер, просила супруга не беспокоиться и не ждать ее к ужину. Завтра она расскажет, почему. Во второй просила ради всех богов молчать! Молчать и ждать ее в императорском дворце. Заговор вот-вот может быть раскрыт, и она делает все возможное, чтобы предотвратить несчастье.
Завершив эти приготовления, она облачилась в широкий потрепанный плащ, в рукаве туники спрятала маленький кинжал и, наконец, отправилась в условленное место. Но удивительное дело! Рассчитывая на худшее, Мессалина начинала находить забавные и даже приятные стороны в своем опасном приключении. Ночная прогулка без спутников, по незнакомой улице, где в этот час, конечно, не было ни дам, ни матрон, ни просто приличных женщин, эта прогулка к мрачному портику, в котором гладиаторы, мимы, атлеты и прочий пьяный сброд развлекались о проститутками самого последнего сорта - уличными потаскушками, давно утратившими женский облик, эта прогулка навстречу пугающей неизвестности, когда она не знала ни куда ее поведет Поллукс, ни сколько времени продержит у себя. При всей своей рискованности эта прогулка обладала какой-то заманчивой притягательностью! И вот, быстрым шагом проходя мимо грязных переулков, мимо темных личностей, делавших в ее адрес непристойные жесты, она от страха крепко сжимала зубы, но при этом не переставала удивляться силе необузданной страсти отвратительного урода Поллукса.
Что за отчаянная, дикая прихоть заставила его совершить этот гадкий поступок! Пять лет он обожал ее и, страдая от невыносимой ревности, скрывал малейшие признаки своего чувства! Да если бы даже его зеленые глаза хоть чем-то выдали эту страсть, то разве обратила бы на нее внимание она, наследница рода Мессалы, супруга Клавдия, родственница императора? Какая невероятная дерзость, необъяснимая для раба! Неужели он не понимал огромной разницы между рабом и свободным человеком? Раб. Но кто, в самом деле, сказал, что раб не может испытывать сильных чувств? Разве не были рабами знаменитые комедиографы Публий Теренций Африканец и Цецилий Стаций? Разве не был рабом все еще здравствующий Федр, развлекавший своими чудесными сказками Августа, Тиберия, Клавдия и самого Калигулу? Действительно, чем же отличается раб от гражданина если к обоим природа бывает одинаково благосклонна? Размышляя таким образом, Мессалина пришла к портику Божественного Санкта на Африканской улице. Едва она к нему приблизилась и услышала множество грубых голосов, доносившихся изнутри, как увидела перед собой безобразное толстогубое лицо ее беглого раба Поллукса.
- Благодарю тебя, божественная госпожа, - тихо проговорил раб, - что ты пришла, и одна. Ведь за тобой никто не следует? Я еще раз должен предупредить, что любое использование силы будет крайне вредно для тебя. Но если ты меня послушалась, то я благодарю тебя и обещаю, что ты не пожалеешь о своем приходе.
Помолчав, он добавил:
- Прости меня за те меры, которые я употребил: у меня не было выбора.
И он печально улыбнулся.
- Итак? - спросила Мессалина, не скрывая страха, овладевшего ею в эту минуту. - Что тебе от меня нужно? И куда ты хочешь меня повести?
Тогда Поллукс, похвалив ее за неприметную скромность наряда, в который она облачилась, сказал, что отведет ее в небольшую коморку, предложенную ему в доме плебея Карло Тремидия. Он заверил, что хозяин этого жилья не только не знает, кого приведет Поллукс, но и вообще не подозревает о том, что жилец придет не один, а с женщиной. Он попросил ничего не бояться и пообещал не причинить ей зла. И вот, сопровождаемая Поллуксом, Мессалина отправилась в небольшое местечко, прозванное районом Циклопа, где находилась лачуга Тремидия. Когда она подошла к этому убогому жилищу, то Квинтилия, все время незаметно следовавшая за супругой Клавдия, потеряла ее из виду.
На другое утро в Риме пронесся слух, что законные наследники Фонтея Капитона возбудили тяжбу против Тиберия Клавдия Друза, обманом завладевшего состоянием их дяди, и что поводом для суда стали показания раба Поллукса, обвинившего своего хозяина в подделке завещания. В течение нескольких дней горожане только и делали, что говорили об этой новости. Как часто бывает в подобных случаях, они разделились на два лагеря: одни, утверждавшие, что Клавдий не способен на такой подлог, считали обвинение необоснованным. Другие, в основном завистники и злобные сплетники, составлявшие большую часть римского населения, надеялись, что брат Германика будет осужден. Клавдий Друз, немедленно впавший в отчаяние, носился по дому, как безумный, жаловался на свою несчастную судьбу, плакал и проклинал бессовестного раба, которому он не сделал ничего плохого и который так подло оклеветал хозяина. И тщетно Мессалина, призывавшая его проявить выдержку и мужество, просила супруга взять себя в руки и отстоять честь семьи.
- Какая честь! О какой чести ты говоришь, когда все рухнуло, когда я так безнадежно опозорен! И в этот момент ты думаешь о какой-то чести! Ах! Будь проклят тот день, когда Луцию Фонтею Капитону взбрело в голову завещать мне свое наследство! Не кричи на меня, довольно мне твоих советов! Я все верну его племянникам. Все до последнего сестерция!
От такого опрометчивого шага его удержали только дружные усилия и общий авторитет Мессалины, Калисто, Полибия, Санквиния Максима и Валерия Азиатика. Друзья пообещали вступиться за него, если потребуется, и защитить его как в сенате, так и в трибунале.
Чего же добилась Мессалина от Поллукса? Это был первый вопрос, с которым Квинтилия обратилась к своей подруге, когда, придя к ней наутро после их ночной прогулки, была рада увидеть супругу Клавдия здоровой и невредимой.
- Я получила все, что могла получить! - спокойно ответила хозяйка дома. - Но сколько мучений, дорогая Квинтилия, нужно было пережить ради этого! Какое унижение! Но теперь все позади. Он ничего не скажет ни обо мне, ни о тебе, ни о ком другом. Кроме того, когда в городе немного утихнет волнение, он заявит в суде, что передумал, и заберет обратно обвинение против Клавдия.
- И это тебе дорого стоило? - поколебавшись, спросила актриса.
- Ну… а ты как думаешь? Нужно было исполнять его желания, - чуть слышно произнесла Мессалина и густо покраснела при воспоминании о том, что ей пришлось перенести.
- Увы… это было необходимо.
- И это нужно будет делать еще несколько дней.
- Да, пока он не откажется от показаний на Клавдия, а потом, когда твоему супругу ничего не будет грозить…
Женщины посмотрели друг на друга и немного помолчали.
- Ох… мне кажется, - наконец, нарушила тишину Мессалина, задумчиво водившая пальцем по спинке софы и как будто сосредоточившаяся на этом занятии, - мне кажется, что нужно будет… Видишь ли, он дает мне понять, что ему мало нескольких встреч.
- Но тогда ты вечно будешь у него в подчинении. Кто знает, сколько времени он еще будет шантажировать тебя?
- А если мне и Клавдию улыбнется фортуна?
- То у него вместе с неутолимой жаждой твоих объятий возникнет желание получать от тебя деньги. Значит, нужно как можно быстрее…
Тут Квинтилия запнулась.
- Да, это единственный выход. Но у меня не хватает решимости.
- Ну! Тогда мы найдем того, у кого ее хватит!
На том они и порешили. Однако, если в это время все римляне горячо спорили об обвинении, выдвинутом рабом против хозяина, а друзья Клавдия пытались его успокоить и обещали ему поддержку, то Калигула был вполне доволен происходящим. Он надеялся, что в результате сможет отделаться от своего надоедливого дяди, который, кроме всего прочего, стал ему подозрителен. К тому же, вскоре случилось событие, повергшее в отчаяние всех, кого обвинял Поллукс. Дело было в том, что Гай Тремидий неожиданно дал показания против своего покровителя Марка Помпедия, которого обвинил в том, что тот поносил Божественного, Благого и Величайшего Гая Цезаря Августа, называя его тираном и безумцем. А для доказательства этих слов плебей попросил подвергнуть допросу Квинтилию, любовницу Помпедия.
Новый процесс был связан с оскорблением верховной власти: вот почему публика сразу потеряла интерес к делу Клавдия Друза, которое, конечно, было менее значительным, чем обвинение Тремидия. Заговорщиков охватила паника, когда пришло известие об аресте Марка Помпедия.
Один из них взят под стражу! Как далеко зайдет расследование? Каковы будут последствия? А вдруг Помпедий испугался пыток и уже раскрыл имена всех своих сообщников?
Эти вопросы, замешанные на жутком страхе, не давали покоя многим участникам заговора, не считая Кассия Херею, Корнелия Сабина, Понция Аквила и Анния Минуциана, которые были готовы ко всему. Не боялись за себя и Валерий Азиатик с Нонием Аспренатом, хорошо знавшие Помпедия и уверенные, что никакие пытки не вырвут ни слова признания из его уст.
Так или иначе, переполох был немалый. Все население Рима, в большинстве своем праздные бездельники и досужие зеваки, с нетерпением ожидали исхода двух шумных процессов, вызвавших в городе множество толков и предположений.
Но чем бы ни закончились оба дела, основное ядро заговорщиков было настроено при первой возможности напасть на Гая Цезаря и убить его. Решительней всех была настроена Мессалина, уставшая от своих постоянных тревог: от страха, что Поллукс, к которому она приходила каждый вечер, не сдержит обещания и донесет на нее; от все возраставшей ревности Калисто, обеспокоенного ее ночными отлучками; от жалости к либертину, которого она любила и на которого очень рассчитывала в будущем; от напряженного ожидания, с которым она следила за ходом суда над Клавдием; от горя и отчаяния, не покидавших ее с тех пор, как были брошены в тюрьму Помпедий и Квинтилия, которые могли не выдержать ужасных пыток и выдать своих сообщников; от этих горьких переживаний дочь Мессалы не находила себе места. На ее счастье, скоро настал день, когда сенат должен был разбирать иск наследников Капитона к Клавдию. И, хотя в курии присутствовал Гай Цезарь, явно настроенный против его дяди, суд все-таки решил дело в пользу Клавдия, не столько из-за его умелой защиты, сколько из-за очевидной противоречивости доводов противоположной стороны. В ту же ночь Мессалина, воспользовавшись советом Квинтилии, сказала Поллуксу, что по дороге к нему она обнаружила за собой слежку, что из-за опасности быть скомпрометированной, ей нужно переменить место свиданий. У нее на примете есть вполне надежное убежище на Авентинском холме, в одном укромном домике, принадлежащем одной плебейке, мужу которой давно покровительствует Мессала. Если они пойдут туда, то их встречи продолжатся. И на следующий вечер Поллукс, испытывавший некоторые подозрения и захвативший с собой на всякий случай кинжал, отправился на Авентинский холм. Однако, увидев поджидавшую его Мессалину, влюбленный раб сразу успокоился и вместе с матроной безбоязненно вошел в дом, где находились двое наемных убийц, подосланных Квинтилией. Первым же ударом выбив оружие из рук Поллукса, они быстро превратили его тучное тело в безжизненное кровавое месиво, которое зарыли во дворе так, чтобы никто ничего не узнал. Между тем сенат вскоре приступил к рассмотрению дела, возбужденного Тремидием против Помпедия. На этом суде обвиняемый хладнокровно обвинил своего клиента в том, что тот давно завидовал его богатству и с помощью ложных свидетельств рассчитывал завладеть деньгами покровителя. Он просил божественного Цезаря учесть тот факт, что плебей оскорбил не только его, но и самого императора, к имени которого тот кощунственно прибегнул для получения собственной выгоды. Кроме того, он обратил внимание отцов города на то, что его обидчик осквернил святые узы дружбы, которые уже восемь веков связывали клиентов и их покровителей.
- Все это болтовня! Пустая болтовня! - вскричал Калигула. - Твой обвинитель ссылался на Квинтилию, о которой ты умолчал. Итак, приведите Квинтилию.
Через несколько минут, спокойная и невозмутимая, актриса предстала перед тираном.
- Квинтилия, - сказал он, мрачно посматривая на актрису, - я не раз доказывал тебе свою благосклонность. Так вот, сейчас я прошу тебя…
- Приказывай своей верной рабыне, Божественный Величайший и Благой Цезарь!
- …говорить мне правду.
- И я скажу правду!
- Итак, говори, - спросил Калигула. - Верно ли, что Помпедий при тебе и в присутствии Тремидия называл меня безумцем?
- Нет, это не так! - громко воскликнула Квинтилия. - Ни в присутствии, ни в отсутствии этого лжеца Тремидия я не слышала, чтобы Помпедий произнес хоть одно слово, оскорбляющее тебя, о божественный Цезарь.
Однако Тремидий тут же завопил, что она сама лгала, потому что была любовницей Помпедия. Видя, что Квинтилия не решается опровергать слова обвинителя, рассвирепевший Цезарь прокричал.
- Ах так! Пусть Кассий Херея проводит ее туда, где ее подвергнут пыткам!
Херея почувствовал, как у него закипела кровь в жилах: стать палачом? Нет, это для него было уж слишком! Выйдя из себя, он схватил меч, и если бы не вмешательство Клементия Аретина, стоявшего рядом, то наверняка бросился бы на императорский трибунал, но, конечно, ничего бы не смог сделать - тот располагался чересчур высоко. Между тем Валерий Азиатик, Минуциан, Понций Аквила, Аспренат и другие сенаторы, вовлеченные в заговор, побледнели, решив, что все кончено. Разве сможет слабая женщина, - думали они, - противостоять истязаниям тюремщиков? Однако Квинтилия, сохранившая внешнее спокойствие, незаметно наступила на ногу Клементу, который шепотом умолял Кассия не привлекать внимания Калигулы. Префект претория поднял глаза на Квинтилию и по бесстрастному выражению ее лица понял, что ни ему, ни его сообщникам бояться нечего [XIII]. Когда же Херея, как в бреду, вел ее в темницу, где ей предстояло испытать на себе ужасные муки, она чуть слышно произнесла:
- Исполняй свои обязанности. Не волнуйся за меня, я тебя не предам. Нужно спасти наше дело, и на днях оно успешно завершится.
Обнаженное и брошенное на землю тело Квинтилии, изумительные пропорции которого были достойны резца самого Фидия, попав под безжалостные бичи палачей, скоро было исполосовано в кровь и истерзано так, что на нем не осталось живого места. Однако женщина стойко перенесла пытки и не издала ни единого крика. Когда ее привели обратно к Цезарю и она вновь подтвердила все, что говорила раньше, то сам тиран сжалился над ней и высказал ей свое восхищение. А поскольку она даже после всех истязаний продолжала обвинять Тремидия во лжи, то Гай Цезарь приказал сенату признать Помпедия полностью оправданным и освободить его из-под стражи.
Кроме того, удостоив Квинтилию высшей похвалы за ее твердость и силу духа, он велел подарить актрисе пятьсот тысяч сестерциев, заслуженных ею как награда за все, что она так героически перенесла [XIV]. Когда заседание суда закончилось, Кассий Херея вызвался проводить Квинтилию домой, где со слезами на глазах преклонил перед ней колени и, целуя ее руки, дрожащим голосом проговорил:
- О благородная душа! О поистине римская доблесть!
ГЛАВА XIII
В день перед январскими идами (12 января) 794 года все кварталы Рима[152] отмечали праздник городских Ларов. На каждом перекрестке стояли алтари этих божеств. Жители окрестных домов украшали их миртовыми гирляндами, зажигали крохотные светильники и возлагали возле них скромные подношения, посвященные незримым покровителям их района. Наиболее состоятельные горожане не скупились на расходы, щедро угощая своих соседей фруктовой водой, вином, кусками жареной свинины и пирогами. На улицах толпились люди всех сословий и возрастов, радовавшиеся подаркам и веселившиеся вместе с детьми, которым раздавали игрушки и сладости. Небо было пасмурным, но не дождливым. Дул слабый сирокко[153], не портивший добродушного и беззаботного настроения римлян.
Оживленность уличной толпы благоприятствовала замыслам врагов императора, по одиночке пришедших в дом Марка Анния Минуциана, где должна была состояться их тайная встреча. К полудню в библиотеке знатного сенатора собралось почти тридцать человек. Среди них были Валерий Азиатик, Ноний Аспренат, Марк Помпедий, Публий Антей, Норбан Флакх, Понций Аквила, Клемент Аретин, Калисто, Квинтилия, еще не совсем оправившаяся от ран, нанесенных ей палачами, Корнелий Сабин, Папиний, Кассий Херея и Гней Сенций Сатурнин, которого вместе с Гаем Цезарем сенат выбрал консулом на этот год.
Когда все были на месте, Минуциан запер двери комнат, примыкавших к библиотеке, и опустил плотные пологи, висевшие на ее выходах. Затем он встал посередине зала и сказал сообщникам, что, по его сведениям, император намеревается совершить поездку в Египет, куда он отправится сразу после игр, посвященных божественному Августу и намеченных на время с 24 по 26 января. Следовательно, если до этого срока они не объединятся в решительных действиях, то дело можно считать окончательно проваленным.
Тогда вперед выступил Кассий Херея и взволнованно произнес:
- Мы потеряли слишком много времени. Это не может не служить основанием для упрека нас в равнодушии к нашему судьбоносному замыслу. Что мы делаем? Мы только разговариваем, и больше ничего! Мы занимаемся только тем, что тратим драгоценные часы на пустую болтовню! И это тогда, когда в городе уже прошел слушок о наших приготовлениях. Когда о них знают многие сенаторы. Когда все очевидней становится опасность, что эти толки скоро достигнут ушей тирана, и тогда все наши благородные начинания будут обречены на бесславную гибель! И не только они. О! Во имя всех богов, если вы не боитесь общего позора, неизбежного из-за вашего бездействия, так испугайтесь хотя бы страшной участи, которую сулит вам раскрытые заговора! Может быть, вы надеетесь, что в Александрии найдется какой-нибудь египтянин, более храбрый, чем вы, и что, устав от безумств Гая Цезаря, он освободит римлян от их тирана? А если вы на это не рассчитываете, то кто же спасет вас и вашу родину? О, друзья мои, никто, кроме вас, не может удостоиться великой чести быть избавителем нашего многострадального государства! Итак, вот вам моя рука, чтобы общими усилиями спасти нашу священную страну. А если вы еще колеблетесь, то я один берусь выполнить свой долг: сокрушить все препятствия и убить Калигулу, чего бы мне это ни стоило! Я готов ко всему, даже к смерти. Она для меня ничего не значит по сравнению с лучами моей славы, которая озарит жизнь грядущих поколений! [1]
Слова трибуна, решившегося пойти на любые жертвы ради достижения благородной цели, тронули сердца многих собравшихся и были одобрены ими. После короткого и жаркого спора заговорщики остановились на том, что Гай будет убит во время Августовских игр, когда он будет выходить из какого-нибудь театра или смотреть какое-нибудь представление.
Расходились сообщники так же как и приходили: по одиночке и небольшими группами. Покинув дом Минуциана, Кассий Херея быстрым шагом направился в сторону лагеря преторианцев. Желваки, выступившие на его щеках, свидетельствовали о том, с какой силой он стискивал зубы. Может быть, он обдумывал событие, которое должно было произойти через несколько дней? А может быть, представлял себя с мечом в руке, занесенной над головой тирана? Кассий Херея уже проделал половину пути, отделявшего дом Минуциана от лагеря преторианцев, как вдруг остановился, словно пораженный какой-то мыслью, а потом резко повернулся и пошел по улице, ведущей к Палатинскому холму.
Войдя в дом Тиберия и миновав длинные коридоры, недавно построенные Калигулой, он очутился в великолепном новом дворце, сиявшем мраморной и золотой отделкой. Там он разыскал таблий и спросил у одного из рабов, где находится его сын, Луций Херея.
- Недавно он был здесь вместе с божественным Гаем Цезарем, а сейчас он скорее всего пошел в пинакотеку[154], где Вителий, Геликон и Протоген играют в кости.
- Иди к нему и скажи, что его отец хочет поговорить с ним.
Пока раб исполнял его приказание, трибун медленно прохаживался по роскошному залу, стену и колонны которого были сделаны из прекрасного тибуртинского мрамора и порфира, а на мозаичном полу стояли изящные статуи и золотые вазы. Между ними сновали трое рабов-кубикулариев, а возле дальнего окна расположились два германских центуриона из личной охраны Калигулы. Наконец появился Луций. Приблизившись, он почтительно произнес:
- Вот и я, отец, к твоим услугам. Как поживаешь? Мы несколько дней не виделись. А встречаясь, как всегда, оба были на службе: ты на своей, а я на своей.
- Мне нужно поговорить с тобой без посторонних, с глазу на глаз, - перебив сына, сказал трибун. - У тебя есть полчаса времени, чтобы целиком посвятить его мне?
- Да хоть целый час, дорогой отец! Император предоставил мне полную свободу до девяти часов.
Кассий Херея хотел улыбнуться, но вместо этого губы его искривились в презрительной гримасе.
- Полную свободу до девяти часов! - пробормотал он, повторяя слова Луция. - Какая насмешка над святым для римлян понятием!
И, изменив интонацию, добавил:
- Проводи меня в твою комнату.
- Ступай за мной, отец, - с готовностью согласился сын.
Они прошли по длинному коридору, свернули в перистилий, откуда вышли в другой коридор, по обе стороны которого тянулись два ряда дверей. Отворив ключом одну из них, Луций Херея вместе со своим отцом вошел в роскошную, великолепно убранную комнату. Трибун запер дверь на замок и, внимательно оглядевшись, спросил у юного друга Калигулы:
- Мы одни?
- А у тебя есть сомнения? Одни, отец, одни.
С этими словами Луций выжидательно и нежно посмотрел на отца. Тем не менее, тот, не торопясь, обошел комнату и только потом тихо произнес:
- Да… В такой изящной обстановке не спали даже прославленный Германик и благочестивая Агриппина, родители твоего хозяина!
В этом наблюдении прозвучало столько горечи, что Луций не мог не ответить извиняющимся тоном:
- Но тогда были другие времена, отец. Сейчас все не так, как раньше.
Однако трибун, не дав ему продолжить, негромко проговорил, точно обращался к себе самому:
- Ты прав: тогда были другие времена. И сейчас все не так, как раньше. Ты прав! Но это различие между прошлым и настоящим, увы, разделяет отцов и детей: грубых предков и их образованных - или, может быть, точнее, развращенных сыновей, становящихся дряхлыми стариками в двадцать шесть лет!
Он замолчал, глядя в мозаичный пол. Немного погодя, его сын, чтобы хоть как-нибудь нарушить мучительную паузу, произнес:
- Ну, что же мы стоим, отец? Присаживайся, если хочешь. О чем ты хотел поговорить со мной?
Кассий Херея медленно, точно находясь в каком-то забытьи, поднял голову: он сел на софу и, повернувшись всем телом к Луцию, устроившемуся рядом, посмотрел на него не прежним суровым, а нежным и проницательным взглядом. Ласково разглядывая красивое и правильное лицо юноши, он замечал в нем свои собственные, только гораздо более совершенные черты. В этом изучающем отцовском взоре Луций почувствовал столько любви и печали, что от смущения заерзал на софе. Трибун не отводил глаз. Любимец императора как бы случайно выронил из ножен небольшой кинжал, висевший у него на поясе. Это был повод, чтобы отвести глаза, нагибаясь за кинжалом. Его отец нежно посмотрел на густую светло-каштановую шевелюру, обрамлявшую голову Луция Кассия, который тем временем стал с особой тщательностью возвращать свой клинок в изначальное положение. И все равно он продолжал ощущать на себе то же пристальное внимание, понемногу начинавшее ему надоедать своей назойливостью. Старый трибун переживал волнение, которого не старался скрыть.
Кто знает, какие воспоминания, какие надежды или иллюзии ненадолго пробудились в его душе? Наконец он очнулся от своего наваждения и проговорил дрожащим голосом:
- О Луций! Как часто я думаю о тех сокровищах бесконечной нежности, которые двадцать лет назад я хотел передать твоей белокурой голове. Тогда ты был блондином. И еще я думаю о твоей бедной матери. Она умерла в таком юном возрасте! И, может быть, это для нее было лучше, чем жить.
- Но, отец, почему ты терзаешь себя этими воспоминаниями, которые…
- О, дитя мое! Поверь, не они меня терзают: наоборот, я был бы самым счастливым человеком, если бы мог вернуться в те благословенные годы! О, тогда с твоей белокурой головой были связаны вся моя гордость, вся вера и надежда. Тогда я мог обнять тебя, прижать к своей груди и покрыть тысячью поцелуев. О! Как я тогда любил тебя! Как любил!
- А кто тебе запрещает, - нежно проговорил юноша, обеими руками беря обветренную правую ладонь своего родителя, - обнять меня сейчас, а тем более - поцеловать? Я же твой сын. И кем бы я не выглядел в твоих глазах, кровь, которая течет в моих жилах, это твоя кровь. И я не могу не любить меня!
И отцовская нежность победила суровую патетику Корнелия Непота и Тита Ливия. Сердце Кассия Херея сладко защемило, и он, бросившись к сыну, обхватил руками его голову, горячо целуя светло-каштановую шевелюру и в то же время чувствуя, как крупные слезы брызнули из его глаз. Всхлипывая, он прошептал:
- Да, ты мой сын. Кровь от крови. О, сын мой! О, мой дорогой!
- Благодарю тебя, отец мой. Благодарю. Позволь же и я обниму тебя!
Однако, произнося эти слова, Луций оставался сидеть на софе, обхваченный крепкими руками своего отца. Не без труда высвободившись из них, он поднялся на ноги и прижался губами к мокрому от слез лицу Кассия Хереи. Они обнялись и долго стояли неподвижно. Первым шевельнулся трибун, который, отступив на шаг и нежно поглаживая сына по щеке, проговорил с непередаваемой любовью:
- О, ты не знаешь, как я страдаю, оттого, что мы живем порознь. Что у тебя заблудшая голова, но доброе сердце. Что порочный тиран превратил тебя в покорного раба, а ты не можешь покинуть его, как Семирамида оставила раскаленный трон Вавилона! О, если бы ты хоть на один час оказался на моем месте! Ты бы понял мои страдания. Увидел бы, что никакие деньги не стоят одного-единственного часа отцовских тревог! Когда я смотрю на тебя, такого красивого и умного, но занятого разговорами с этим грязным сбродом императорских угодников и думаю, с какими постыдными предложениями они к тебе обращаются, то у меня сердце готово разорваться от боли! О, ты мне не поверишь, пока не испытаешь то же самое! Для этого тебе нужно быть отцом. Одиноким, всеми оставленным в этом мире, не знать никакой радости и счастья, кроме единственного сына, и - какого сына! О поверь, ты вспомнишь мои слова, если когда-нибудь переживешь то, что я переживаю каждый день!
Тут старик запнулся и, положив левую руку на плечо сына, тыльной стороной правой ладони вытер слезы на своих щеках. Луций, бледный и растерянный, жалобно произнес:
- Но… видишь ли, отец мой, ты слишком строг. То есть, я хочу сказать, что ты несправедлив ко мне. Ты подходишь ко мне со своими мерками: они хороши, но это мерки другого времени. Сегодня они только причиняют тебе скорбь и страдания. Такая максималистская непреклонность - поверь мне! - в наши дни может принести одни лишь несчастья и беды.
Однако старый трибун отрицательно покачал головой и, не дав сыну договорить, убежденно воскликнул:
- Нет! Тысячу раз нет! Добродетель никогда не бывает излишней! Она неизменна для всех веков! И даже наоборот: когда наступают такие мрачные и порочные времена, как наши, то она еще больше нужна.
- Хорошо! Хорошо! Не будем продолжать эту тему. Мы уже столько раз все обговаривали, но никогда не приходили к согласию. Зачем возвращаться к старому спору, когда мы только что примирились?
- Примирились? - с горьким удивлением переспросил Кассий Херея. - Как примирились? На чем? К сожалению, Луций, я вижу, что между нами лежит непреодолимая пропасть. И что бесполезно пытаться перейти через нее. Но все-таки я в последний раз хочу попытаться тронуть твое каменное сердце, а потому обращаюсь к тебе с одной единственной просьбой.
- В последний раз? Почему ты так говоришь? - испуганно воскликнул юноша. - Тебе угрожает какая-то опасность?
- Не угрожает, если, конечно, опасностью не считать смерть, последнее убежище для людей, чья жизнь так разбита.
- Смерть? Зачем ты говоришь о смерти?
- Я умру. Скоро. Я это знаю, - печально проговорил старик.
- Но почему? И как? Да что с тобой?
Юноша хотел спросить еще о чем-то, но отец, перебив его, проговорил:
- Не важно, почему, как, или где. Достаточно того, что я пришел сказать тебе об этом… и просить тебя, чтобы ты дал мне сойти в могилу, не расставшись с болью, которая мучает мою душу. Я умоляю об этом - но не ради себя, а ради тебя. Ведь ты не знаешь, как будешь несчастен, когда меня не станет. И если по твоей вине я умру, не избавившись от отчаяния! О, какую же горечь ты тогда ощутишь! Поверь мне, вокруг тебя будет праздник, люди будут смеяться и веселиться, а ты заплачешь от горя и скажешь себе: «Ах, если бы я сделал счастливым этого человека! Если бы я утешил его!» И ты захочешь вернуться назад, чтобы увидеть меня живым, чтобы исправить хоть что-нибудь в твоем прошлом. Но будет поздно. И тогда ты забудешь про радость, разучишься улыбаться. И будешь печален даже в самые светлые твои часы.
- Да ответь мне, наконец, какую тайну ты скрываешь? Почему ты так говоришь? Зачем расстраиваешь меня такими разговорами?
- Не важно. Я сказал то, что хотел сказать, - ответил трибун и после непродолжительной паузы добавил:
- Словом… Я был бы счастливейшим из людей, если бы ты покинул этот двор, оскверненный всеми пороками этого мира. Итак, я спрашиваю: оставишь ли ты гнусного тирана, который, благодаря тебе, бросает тень на седины твоего отца?
Поколебавшись, Луций произнес тихим и нежным голосом:
- Но, учитывая существующее положение вещей, ты слишком преувеличиваешь.
- Ладно. Хватит, - оборвал сына трибун, к которому вернулся его прежний суровый и безразличный тон. - Больше мы не будем говорить на эту тему.
Он медленно прошелся по комнате и, снова приблизившись к юноше, спросил:
- Можешь ты хотя бы не сопровождать тирана и не веселиться с ним в течение тех нескольких дней, что остались до его отъезда в Египет?
- А почему? - вместо ответа настороженно спросил Луций и пристально взглянул на отца.
- Да или нет? Ты можешь доказать мне свою любовь? - нетерпеливо и раздраженно повторил трибун.
- Может быть, какая-то опасность угрожает жизни Гая Цезаря? - с той же настороженностью спросил сын Херея.
- Какая опасность? Что ты? - пожав плечами, произнес старик.
- Конечно! Так оно и есть.
- Тебе так кажется? Ты действительно так думаешь? - спокойно ответил Кассий Херея, бросив на сына презрительный взгляд.
Затем, взяв его за локоть и, подтолкнув в сторону двери, добавил:
- Ну, давай, беги к своему хозяину, донеси на отца.
- О нет, никогда! - отпрянув и закрыв лицо руками, воскликнул Луций.
- Раз ты так боишься за жизнь тирана - хотя я не подозреваю никого, кто мог бы угрожать ей! - то тебе остается только обвинить меня в каких-нибудь коварных замыслах.
- Но ведь ты о чем-то знаешь? - с укоризной произнес юноша.
- А если нет?
- Тогда почему ты не хочешь, чтобы я сопровождал Гая во время зрелищ?
- Почему? Я надеялся, что, не видя тебя у своих ног все эти дни, тиран забудет взять тебя в Египет. Тогда ты остался бы здесь, а я приготовил бы для тебя невесту, которая наверняка пожелала бы выйти за тебя замуж. Если бы, конечно, поговорила со мной. Поэтому я и решил сначала спросить своего сына. Я тебе рассказывал об Атерии Туридиане?
- О моей кузине? О прекрасной Туридиане?
- Да, это твоя кузина, бывшая жена Куспия Педуция… После трех лет брака она осталась вдовой и была бы рада стать невестой.
- Не надо, отец! Прошу тебя! Я чувствую, что не создан для супружеской жизни, хотя мне очень нравится Туридиана.
- Увы! Твой родитель ничего не может добиться от тебя. Увы! Прощай, Луций, и пусть фортуна тебе сопутствует, как я того желаю.
С этими словами Кассий направился к выходу. Лицо его выглядело смущенным и в то же время мрачным. Однако сын преградил ему дорогу и проговорил:
- Нет, отец… постой… не уходи с такими чувствами! Мое сыновнее уважение и прямодушие, свойственное потомку доблестного Кассия Хереи, заставляют меня сказать тебе одну вещь. Слушай. Может быть, я ошибаюсь, но по твоему разговору я понял… точнее, догадался, что над Гаем Цезарем нависла какая-то опасность. Ну, так вот, я уже говорил тебе, что в данный момент Луций Херея не может покинуть своего покровителя, которому грозит беда. Но если я сообщу ему о своих подозрениях, то, зная свирепый нрав прицепса, я уверен, что он заставит меня произнести и твое имя, а тогда ты умрешь, хотя и не скажешь ни одного нового слова. Итак, моя откровенность и твоя гибель не принесут никакой пользы императору. Поэтому я буду молчать. Тем не менее я предупреждаю тебя, что обеспечу Гаю надежную охрану во время предстоящих зрелищ.
Трибун снисходительно усмехнулся и, пожав плечами, буркнул себе под нос:
- Вот уж, обоим услужил… Смотри, за двумя зайцами погонишься…
И после непродолжительной паузы, жестом заставив сына посторониться, добавил:
- Ладно… делай, что хочешь… только пропусти меня.
- И ты уйдешь с таким настроением?
- А что мне, радоваться? К чему продолжать этот бесконечный разговор? Прощай, Луций, и да сопутствуют тебе боги.
С этими словами старик отпер дверь и вышел в коридор: идя вслед за ним, юноша сказал:
- Да сопутствуют и тебе, отец мой. И да будет им угодно, чтобы ты не судил так строго своего сына, который всей душой любит тебя.
Не поворачиваясь к Луцию, Гай Кассий Херея на ходу махнул правой рукой и направился в перистилий.
Когда он вышел из дворца, то почувствовал, что у него заныло сердце, а к горлу подступили слезы.
Все-таки этот гордый человек был прежде всего отцом. И одна мысль его волновала, одна тревога лишала покоя.
А если его сын, сопровождая тирана и подвергаясь опасности вместе с ним, будет убит? И вдруг, - эта неожиданная мысль пронзила самое сердце мужественного старика, - Луций окажется между его карающим мечом и Гаем Цезарем? Тогда он - Херея это чувствовал - должен будет, последовав примеру Юния Брута и Манлия Таравата, без колебаний нанести удар. Да, но что потом?
Когда, сгибаясь под бременем этих тревог, Кассий Херея медленно брел в сторону лагеря преторианцев, одна римская дама в душе превозносила его образ и благословляла его имя.
Этой прекрасной дамой была Валерия Мессалина. От Калисто ей стала известна пылкая речь, произнесенная Хереей на собрании заговорщиков.
- Это человек старой закалки, - сказал Калисто Мессалине, - в нем столько доблести и он так предан свободе, что если другие будут колебаться, то он, презирая собственную жизнь, один убьет тирана.
- О, как мне нравится этот бесстрашный Херея! И как жаль, что я не могу увидеть его, воодушевить.
- Я тебя понимаю: но я уже говорил тебе, моя божественная Мессалина, что, если бы Херея знал о твоем участии в заговоре, если бы он догадался, что, возможно, не лелеемая им свобода последует за свержением чудовища, а новый император, то, пожалуй, он не стал бы так рисковать ради смерти Цезаря.
- Твои рассуждения абсолютно справедливы. Именно поэтому я воздерживаюсь от встреч и разговоров с Хереей. Более того, скажу тебе, что если, с одной стороны, этот человек и его стальной характер кажутся мне бесценными находками для убийства Гая, то, с другой стороны, я думаю, что и он сам, и его характер, и его пламенные речи будут крайне опасны для полного осуществления наших замыслов.
- Но, Мессалина моя, я ведь уже говорил тебе, что пробудить свободолюбивые чувства в нашем народе - праздном, порочном и к тому же, за шестьдесят лет привыкшем подчиняться одному правителю, - дело трудное, а то и невозможное. А кроме того, Клемент Аретин и я, не скупясь на щедрые вознаграждения, переманили на нашу сторону почти всех центурионов из лагеря городской гвардии, а, как ты сама понимаешь, сегодня Римом правят не сенат и не народ, а десять тысяч преторианских мечей. Пусть же тебя не волнуют ни республиканские взгляды Азиатика, Минуциана и других сенаторов, ни упорное стремление Хереи к свободе. Важно то, что он покончит с Гаем Цезарем, а потом ты увидишь, как все они, словно стеклянные побрякушки, вдребезги разобьются о броню преторианских щитов, которые для них уготовлены.
С этими словами Калисто нежно обнял и поцеловал Мессалину, которую любил еще сильнее, чем прежде, считая себя - конечно, втайне, - отцом ее будущего ребенка. Затем он попрощался и удалился.
Оставшись одна, Мессалина погрузилась в сладкие грезы, мысленно представляя себе картину будущих событий. Ибо чем ближе был день решительных действий, тем больше супруга Клавдия хотела верить в удачу и сгорала от желания видеть долгожданное завершение ее трехлетних стараний. Калигула мертв, Клавдий - император, а она - императрица! Вот почему, используя каждую свободную минуту, она уже несколько дней перебирала в уме всех заговорщиков, не спеша оценивала храбрость, стойкость и авторитет каждого из них. Она боялась упустить и не учесть малейшую опасность, которая могла бы помешать исполнению ее замыслов. И так уж получалось, что чаще всего Мессалина думала о Кассии Херее, с авторитетом которого она не могла не считаться, а потому иногда пыталась вообразить, как можно было бы подчинить себе доблестного трибуна. Однако, хотя жена Клавдия была все еще прекрасна, красота ее заметно поблекла из-за беременности. Стесняясь перемен, происшедших с ее внешностью, она избегала попадаться на глаза своим поклонникам и носила просторные одежды, скрывавшие ее полноту. До сих пор - редко выходя из дома - ей удавалось прятать недостатки фигуры. Однако она никак не могла скрыть пятна на лице, темные круги под глазами и некоторую отечность. Она испытывала ежедневные страдания, принимая все меры для того, чтобы Клавдий, почти покинутый ею и расстраивавшийся из-за этого, не заметил располневшего живота. Ее супруг даже не подозревал о будущем ребенке, а Мессалина, хотя и сожалела о своем поведении, но порой говорила себе: «В конце концов, что из того, что я плохо обращаюсь с Клавдием. Разве сейчас это важно? Можно заставить молчать все угрызения совести, если подумать, что я ему готовлю немалое вознаграждение: императорскую корону, которую он получит лишь благодаря мне и моим заслугам!»
И вот наступил двенадцатый день перед календами февраля (24 января) 794 года. Специально для представлений, назначенных в честь торжеств, посвященных божественному Августу, на Палатинском холме, неподалеку от дворца был построен удобный и вместительный деревянный театр [II].
Там с утра до вечера было полно зрителей. Гай Цезарь велел продать большое, даже слишком большое число билетов, позволявших посещать зрелища. Кроме того, он разрешил горожанам занимать все места без разбора, не делая различий ни между богатыми и бедными, ни между знатными и безродными [II]. Эту свою прихоть он объяснял тем, что хотел подать повод для сутолоки и для давки, и следователь, но, и для жестоких побоищ, которые развлекали бы его во время праздников.
Не подозревая о своих смертельных врагах, старавшихся быть поблизости от него, утром 21 января божественный Цезарь отправился в театр. Его сопровождали Тиберий, Клавдий, Аспренат, Аквила, Мину-циан, Антей, Калисто, Авл Вителий и отец Авла, Луций Вителий, который из-за ревности тирана, завидовавшего его успехам в Сирии, недавно был вынужден вернуться в Рим. Проявляя исключительное благоразумие, он приписывал свои победы вмешательству сверхъестественных сил.
Вместе с императором были также Протоген, Мнестер, Апелл, Геликон и один из самых удачливых возниц, выступавших за команду зеленых, юноша по имени Евтих. На узкой улице собралось множество горожан. С трудом протиснувшись сквозь толпу, императорское окружение перемешалось, и тот, кто прежде находился сзади, очутился впереди. Кассий Херея, который до этого шел в нескольких шагах от свиты, увидел, как сразу рухнули все его планы и надежды. Если, выйдя из дворца, император был между заговорщиками, то теперь вокруг него оказались люди, преданные ему. Луций Кассий внимательно следил за всеми движениями и жестами своего отца, однако суровое лицо трибуна не выдавало его волнений. Так Калигула, не ведая об опасности, которой только что избежал, целым и невредимым прибыл в театр, где, усевшись на место, окруженное преторианцами, с удовольствием принялся наблюдать за склоками, потасовками и драками, затевавшимися то тут, то там. От этого зрелища он отвлекся только для того, чтобы выполнить долг, полагающийся ему как Понтифику. Вместе с коллегиями жрецов и священников он возложил жертвы к статуе Божественного Октавиана Августа. Соблюдя ритуал, император вернулся обратно и вместе со своими друзьями и приближенными стал бросать подарки в толпы зрителей, сгрудившихся перед ним. И чем больше сумятицы, жадных выкриков и отчаянных воплей вызывали в толпе кидаемые им золотые монеты и изысканные фрукты, тем в больший восторг приходили Цезарь и его близкие. Вскоре император стал проявлять признаки радостного настроения, которое случалось у него так редко.
- О, щедрый Божественный Благой и Величайший Бессмертный император Гай Германик Британик Парфяник! - угодливо кланяясь, воскликнул, Луций Вителий Непот, самый известный льстец того времени. - Я восхищен великолепной конюшней, которую в новом роскошном дворце ты построил для твоего коня Инцитата.
- Тебе и вправду понравилось, Вителий? - спросил Калигула, просияв от похвалы. - А ты видел, каким прекрасным мрамором отделана эта конюшня?
- О, я видел и мраморные стены, и украшения из слоновой кости, и пурпурную драпировку, и узоры из драгоценных камней [IV], а когда я подумал, какой бесценный конь будет стоять среди всей этой роскоши, то я сказал самому себе… и сейчас - поскольку я всегда говорю то, что у меня на сердце - сейчас я повторю свои слова… тем более, что и юный Луций Вителий, и мудрый Протоген, как мне кажется, согласятся с моими мыслями… так вот, я думаю, что по этой роскоши и красоте можно судить о величии твоей империи! Во имя богов! Да ведь даже дома благочестивого Августа и достойнейшего Тиберия - при всем моем уважении к твоим прославленным предкам -…ради самого Вулкана[155], я не могу молчать об этом! - перед конюшней Инцитата выглядят, как жалкие лачужки по сравнению с пышными хоромами! Вот об этом я думал и не могу не произнести еще раз, что это дворец, достойный Рима! Это творение, достойное хозяев всего мира! Несомненно, твоя замечательная конюшня подошла бы даже для Буцефала, верного коня Александра! О! Я не могу удержаться, чтобы не воскликнуть: поистине, боги благоволят к Риму, если ниспослали ему такого добродетельного правителя, как Божественный, Благой и Величайший император Гай Цезарь Август Германик Британик Парфяник, угодный народам целого мира!
- Браво, Вителий! - воскликнул Калигула, хлопая его по плечу. - У тебя изысканный вкус, ты глубоко чувствуешь прекрасное!
- Но почему он прибавил к имени нашего божественного Цезаря прозвище Парфяник? - произнес Марк Мнестер, который завидовал мастерству красноречия Вителия, хотя мог позволить себе любую дерзость, благодаря непристойной связи, существовавшей между ним и Калигулой [IV].
- Как почему? О, какие кощунства приходится выслушивать моим ушам! Да чьим же именем сирийские легионы обратили в бегство парфян во главе с их Артабаном, если не именем божественного Гая Цезаря? Неужели ты думаешь, что наша победа была бы возможна без этого дополнительного имени? И, следовательно, кто, как не император, заслужил почетное прозвище Парфяник?
А пока Калигула с еще большим одобрением отзывался о словах Вителия, Валерий Азиатик прошептал на ухо Минуциану:
- Сказать тебе одну вещь?
- Какую?
- Мне кажется, что нет равных Вителию в искусстве лести!
- Еще бы! Приписывать влиянию одного только имени Цезаря ту победу, которую сам же Вителий и одержал в Армении, - вот уж, действительно, вершина подобострастия!
- А как ты находишь, - продолжал между тем Калигула, обращаясь к Луцию Вителию, - моего чудесного Инцитата?
- О! Как всегда, строен, умен и благороден! - ответил его собеседник. - Подобного коня мир еще не видел!
- Это правда! В этом году я хочу назначить его консулом. О, во имя богов, я так и сделаю! [VI]
- И будешь совершенно прав! Он этого заслуживает больше, чем любой патриций, мечтающий о консульстве! - с жаром подхватил Луций Вителий.
Тем временем сцена ожила, и представление началось. Ставилась трагедия Еврипида «Вакханки».
Но в то время, как зрители и Калигула вместе с ними внимательно следили за действием, Кассий Херея, стоявший на две ступени выше того места, где сидел Цезарь, неожиданно обнажил меч, и если бы не властное вмешательство могучего Минуциана, находившегося рядом с ним, то он наверняка набросился бы на тирана.
- Стой… Во имя твоих богов! Здесь и сейчас у тебя ничего не выйдет, - прошептал сенатор на ухо трибуну. - Потерпи еще немного! Еще немного!
И он заставил его вложить оружие в ножны, осторожно оглядываясь вокруг, чтобы понять, не видел ли кто-нибудь действий Хереи. Осмотревшись, Анний Минуциан решил, что никто не заметил или, по крайней мере, не понял намерений старика. Однако чуть погодя к ним приблизилась Квинтилия, которая вместе с другими актерами сидела неподалеку и от внимания которой не ускользнуло оживление между сенатором и трибуном. Она догадалась о причине их спора и, мгновенно очутившись рядом, постаралась отговорить Херею от опрометчивого поступка. Нехотя признав правоту Квинтилии, он пробормотал сквозь зубы:
- Ладно. Ты показала силу духа, достойную самых смелых из наших трибунов и центурионов: я прислушаюсь к твоим предостережениям, зная, что они могут быть продиктованы чем угодно, но не малодушием.
Эти слова задели Минуциана, и он сказал, что тоже не заслуживает упреков в трусости. Когда настанет время решительных действий, то он докажет свою доблесть.
- Не обижайся, Анний! Он имел в виду не тебя, а некоторых наших друзей, щедрых на слова, но не на поступки, - ответила Квинтилия сенатору.
Однако в этот день у них больше не появилось возможности покончить с тираном. В конце третьего акта Калигула, вопреки всяким предположениям, поднялся со своего места и, сопровождаемый Луцием Вителием и другими преданными придворными, отправился во дворец. Все заговорщики были разочарованы подобным поворотом событий, а самыми огорченными казались двое из них: Кассий Херея и Мессалина. Вдохновительница заговора находилась на восьмом месяце беременности и поэтому не смогла пойти в театр, тем более, что там были отменены отдельные места для матрон. Оставшись дома, она тщательно пыталась найти какое-нибудь занятие: ходила из угла в угол, садилась, принималась читать и отбрасывала книгу, а потом снова вставала, выглядывала в окно, прислушиваясь к любому шуму, доносившемуся снаружи, и все повторялось сначала. Нервничая, они ни за что бранила служанок, и те никак не могли понять причину дурного настроения своей госпожи. Десять раз ей казалось, что она слышит отдаленные крики, и тогда она посылала рабов на Форум, узнать о случившемся, но десять раз рабы возвращались и говорили, что все спокойно и ничего нового не произошло. Наконец, в десятом часу ей показалось, что где-то в городе действительно раздаются какие-то восторженные приветствия, хотя и приглушенные расстоянием. Она насторожила слух… Ах! Да, она не ошиблась! Это, конечно, были рукоплескания и рев толпы, который мог значить только одно: «Сальве, император Тиберий Клавдий!»
Ее сердце забилось так, словно хотело выскочить из груди; кровь ударила в голову с такой силой, что немедленно запылали и щеки, и губы. Глаза заискрились, как два жарких угля. Она уже хотела броситься прочь от окна, когда на ее плечо легла чья-то рука. Вскрикнув, она резко обернулась и увидела стоявшую перед ней Квинтилию, лицо которой было сурово.
- Что с тобой? - спросила актриса.
- Ну? - прошептала Мессалина, не отвечая на опрос.
- Ничего!
Так, среди надежд и разочарований, среди волнений и тревог, прошли два дня, не принесшие заговорщикам ни малейшей возможности осуществить их замысел. Основным препятствием для их действий было присутствие Цезонии Милонии, которая сопровождала Калигулу на все представления и приводила с собой множество дам и матрон, широким кольцом рассаживавшихся вокруг ее супруга и, разумеется, не позволявших занимать почетные места, отведенные для других женщин.
Однако утром девятого дня перед календами февраля (24 января) Калигула покинул дворец с небольшой свитой: обоими Вителиями, Веспасианом, Протогеном, Геликоном, Апеллом, Луцием Кассием и Евтихием, которые все были его верными друзьями. Из заговорщиков только консул Гней Сенций Сатурнин, Помпедий, Аспренат и Минуциан смогли пробраться в театр, где, как и в предыдущие дни, совершалось жертвоприношение в честь божественного Августа.
Во время этого ритуала случилось так, что одно из жертвенных животных, уже убитое, упало на землю, забрызгав кровью белую тогу Нония Аспрената [VII]. Увидев смущение сенатора, Калигула, пребывавший в хорошем настроении, разразился громким смехом. Однако это происшествие отнюдь не рассмешило одного из авгуров, сенатора Гая Фурия Гемина, который вместе с консуляром Публием Сильвием Нервой находился недалеко от алтаря.
- О, во имя Геркулеса! Это недобрый знак! - воскликнул авгур.
- Неужели? - испуганно спросил его сосед.
- Безусловно! Нынешний день омрачится кровопролитием!
- Наука предсказаний поведала тебе об этом?
- Именно так! И я за все золото мира не хотел бы сегодня оказаться в одежде Аспрената.
- Ох, как ты меня огорчил. Значит, бедному Нонию грозит опасность?
- Поверь моим словам: ему суждено умереть.
А между тем Ноний смеялся вместе с императором. Больше того, случившееся с ним он воспринял как верный знак смерти Калигулы. Точно так же подумали и все заговорщики, присутствовавшие при неожиданном происшествии.
Вскоре Гай сел на свое место: справа от него устроились Марк Виниций и Протоген, а слева Ноний Аспренат и Веспасиан. Сверху расположились Помпедий, Луций Кассий, Гней Сенций Сатурнин и Авл Вителий. Внизу уселись Апелл, Клавдий, Минуциан, Валерий Азиатик и Публий Арунций. Перед спектаклем прицепс занялся любимым развлечением: он разбрасывал подарки и наблюдал за суетой, которая затем следовала. И пока Калигула был поглощен этой забавой, сенатор Публий Ватиний, стоявший неподалеку от группы преданных друзей императора, громко спросил другого сенатора, Гнея Клувия, сидевшего несколькими ступенями выше:
- Ну как, Клувий? Это правда, что сегодня будут показывать убийство тирана?
И Клувий, чуть погодя, откликнулся:
- Дорогой Ватиний, я отвечу тебе словами божественного Гомера: «Если не хочешь прогневить другого ахейца, молчи!»
И вот началось представление. В этот день ставилась трагедия на сюжет «Мирры»[156].
Кассий Херея, боле мрачный, чем когда-либо, в одиночестве прохаживался по деревянному настилу верхней ступени, там где находился вход, через который Калигула вошел в театр и через который должен был выйти. Он уже дал знать Калисто, Корнелию Сабину, Понцию Аквилу, Папинию и другим заговорщикам, чтобы те расположились вдоль наружного портика, ведущего ко дворцу. Минуциан изредка поворачивал голову и посматривал за действиями Хереи. Нервы у сенатора, как и у всех его сообщников, были напряжены до предела.
В какой-то момент представления Минуциан не выдержал и, поднявшись, чтобы пройти к выходу, попросил посторониться Нония Аспрената и Авла Вителия, сидевших на той же ступени, где на пурпурных подушках устроился император. Однако Калигула неожиданно остановил его, взяв за руку и спросив беззаботным тоном:
- Куда ты, уважаемый? [VIII].
Минуциан покраснел и, с трудом сохраняя спокойствие, ответил:
- Мне… Мне нужно выйти по очень важному делу. Но если ты, божественный Гай, хочешь, чтобы я был здесь, то я останусь.
Патриции немного подвинулись, и он сел рядом с императором. На какое-то время заговорщики оцепенели от ужаса: им показалось, что Калигула знает об их намерениях. Затаив дыхание, они стали ждать, что случится дальше. Однако ничего не произошло: пожав руку Минуциану, Цезарь вновь переключил свое внимание на сцену. Так прошло полчаса.
Наконец, Минуциан предпринял еще одну попытку и, поднявшись, попросил разрешения императора покинуть представление: решив, что у сенатора есть какая-то настойчивая нужда, Цезарь больше не возражал [IX]. Таким образом, Минуциану удалось пробраться на последнюю ступень, где его с нетерпением ждал Кассий Херея: он вывел его за руку на пустое пространство, которое в этом временном сооружении заменяло обычные наружные арки и колонны. Оказавшись за стенами театра, трибун негромко сказал:
- Сейчас Аспренат, Сатурнин и остальные наши друзья должны будут под тем или иным предлогом вызывать Калигулу оттуда. Он пойдет через крытый портик, соединяющий дворец и театр. Но, как тебе известно, в одном месте коридор раздваивается, и, поскольку мы не знаем, какое направление выберет тиран, то в обоих должны находиться наши надежные люди. Необходимо все тщательно предусмотреть, чтобы сегодня он не ушел от нас: завтра времени уже не будет. Итак, Минуциан, ступай: пусть Калисто, Сабин, Аквила, Луп и еще кто-нибудь займут левое ответвление портика, а Норбан, Антей, Папиний и ты будете в правом. Стойте так и внимательно прислушивайтесь к крикам, чтобы в случае надобности быть готовыми броситься на помощь.
- Сейчас иду. Но скажи: а если наши друзья не смогут заставить Калигулу покинуть представление?
- Тогда я один убью его. Прямо в театре. На глазах у всего народа. У меня хватит решимости!
- Но ведь там его окружают германские телохранители…
- Мы справимся с ними. Пусть даже нам придется ценой собственной жизни купить избавление от тирана! Колебаться больше нельзя [X]. Иди, не теряй времени.
Минуциан быстро спустился по наружной лестнице театра и, очутившись на песчаной насыпи, окружавшей его стены, свернул в сумрачный портик с невысокими арками. Вскоре туда же отправился Кассий Херея.
Между тем Ноний Аспренат пытался уговорить императора покинуть представление. Тот, казалось, не был склонен следовать советам своего консула. Однако Луций Кассий, прислушавшись к вкрадчивому голосу Аспрената и краем глаза увидев, как его отец выходил из театра, встал со своего места и тоже двинулся наружу.
- Мне нравится эта трагедия, я хочу посмотреть ее кульминацию.
- Но ведь третье действие уже закончилось. Можно послать кого-нибудь к актерам и предупредить, чтобы они подождали твоего возвращения. Тем более, что представление почти завершилось и осталось только выступление хора. Финал близок! Тебе нужно передохнуть. Подкрепись немного и наберись сил перед решающим моментом.
- Но если я так же перегружу желудок, как сегодня за завтраком?
- Нет, тебе нужна только небольшая передышка. А потом ты сможешь посмотреть на тех стройных юношей, которых ты приказал привезти из Азии, чтобы они исполнили для тебя зажигательные танцы.
- Ах вот как! Мальчики уже прибыли? - спросил Калигула, с готовностью поднимаясь на ноги. - Так идем же, я хочу их видеть.
И в сопровождении друзей и заговорщиков вышел из театра. Спустившись вниз, он знаком подозвал рабов-носильщиков, стоявших рядом с богатой, изящной императорской колесницей.
- Ах! Не нужно носилок! - воскликнул Ноний Аспренат. - Нам осталось не больше пятисот шагов!
- О да! Лучше пройтись пешком! - согласился император. Он отпустил рабов и вместе со свитой направился к крытому портику. Держась немного поодаль, за ними последовали германские телохранители прицепса.
А в этот момент на развилке портика уже начинался пролог будущей кровавой драмы. В коридоре, который вел в левую сторону от дворца, спрятавшись за колоннами и почти сливаясь с полумраком, освещенным только редкими оконцами, выходившими на склон Палатинского холма, стояли: Кассий Херея; в тридцати шагах за ним - Понций Аквила; в шестидесяти - Сабин. Калисто, Луп и еще трое заговорщиков находились в ста шагах от поворота, где галерея раздваивалась. Каждый на своем месте, они стояли молча и неподвижно, когда в гулком переходе неожиданно послышались торопливые шаги какого-то человека. Первым насторожился Кассий Херея, находившийся ближе других к входу. Размышляя, кто бы это мог быть, он спиной прислонился к мраморной поверхности своего укрытия и затаил дыхание. Приближавшийся человек свернул в левый коридор и, не заметив Кассия, прошел мимо. Однако, когда его худая фигура попала в луч света, падавшего из окна, то у трибуна внезапно сжалось сердце, словно сдавленное рукой в железной перчатке. Человеком, спешившим к противоположному выходу, был его сын Луций. И как раз в это мгновение любимец Калигулы увидел впереди Корнелия Сабина, скрывавшегося за одной из колонн следующей арки.
Не сразу узнав сенатора, он отпрянул назад и крикнул:
- Кто ты? Что ты здесь делаешь?
Сабин выступил из темноты и, приложив ладонь ко рту, проговорил приглушенным голосом:
- Тише! Мы не хотим тебе зла. Ступай, куда шел!
Однако едва он это сказал, как Луций, не поворачиваясь к нему спиной, с проворностью серны отпрыгнул назад и закричал еще громче:
- Ах, негодяи! Предатели! Вы собираетесь убить императора!
В тот же миг Кассий Херея бросился наперерез своему сыну, чтобы не дать ему убежать. Сделав резкое движение левой рукой, он успел схватить только край его развевавшейся туники, однако этого было достаточно. Дотянувшись правой рукой до складок одежды на груди Луция, он рванул его к себе и сжал с такой силой, что не всякий атлет смог бы теперь высвободиться из его объятий.
- Молчи… Не кричи… Ни слова! Твой отец приказывает тебе! - отчетливо и тихо произнес Кассий Херея, но его сын, быстро опомнившись, закричал во все горло:
- Пусти, отец! Я спасу императора! Гай! Берегись! Спасайся!
Тут издалека послышались звуки голосов. Дальнейшие события развивались с такой стремительностью, что рассказ о любом из них займет больше времени, чем было отведено на всю драму.
- Тише! Молчать! Во имя твоих богов! - тихо, но грозно прошептал Кассий Херея.
Однако, пока трибун вместе с Сабином и Понцием Аквилой, подоспевшими ему на помощь, пробовали зажать рот Луцию, он, пытаясь вырваться из их крепких рук, продолжал надрывно кричать:
- Спасайся! Гай! Здесь засада! Беги! Прочь отсюда!
Голоса, приближавшиеся со стороны театра, стали уже вполне различимыми, а Кассий Херея все еще не мог заставить замолчать своего сына. Его пронзительного крика нельзя было удержать ни словами, ни руками. Каждое потерянное мгновение грозило полным провалом. Тогда трибун одним мощным движением выхватил меч и по рукоять погрузил его в грудь Луция. И, опустив левую руку, он сказал, обращаясь к Лупу и к остальным подбежавшим:
- Заткните ему рот! Тиран идет сюда.
Наступило краткое замешательство. Луций Херея рухнул на землю. Первым опомнился Юлий Луп. Он склонился над умирающим, намереваясь закрыть ладонью его рот, но увидев, что это уже не требуется, с помощью одного центуриона и двоих всадников оттащил окровавленное тело вглубь коридора. Херея, Сабин, Аквила и еще трое заговорщиков едва успели спрятаться за выступами стен. Они увидели Клавдия и Виниция, шедших впереди императора. Из-за их спин раздавались насмешливые реплики Калигулы:
- Вечно он чего-то боится, мой дядя Клавдий! И что он кричит?
- Мне тоже показалось, что кто-то зовет на помощь.
Супруг Мессалины и Виниций уже прошли мимо, когда Кассий Херея отделился от стены и, стиснув рукоять меча, на котором еще не остыла кровь Луция, сделал несколько шагов навстречу Гаю Цезарю. Смертельно бледный, он произнес глухим, дрожащим голосом:
- Цезарь, назови сегодняшний пароль!
- Зевс! - ответил Калигула.
И тогда Кассий Херея, подняв меч, с чудовищной силой нанес удар прямо в середину его груди, крикнув во все горло:
- Так получай, подлый тиран!… Умри! [XI]
В тот же миг Калигула испустил душераздирающий вопль: меч трибуна застрял между его плечом и горлом. И, пока Херея силился вытащить оружие из ключицы, Гай кричал, падая на колени:
- Я жив! На помощь!
Однако ему за спину уже зашел Корнелий Сабин, и если Клавдий, Виниций, Протоген и другие придворные в панике побежали прочь, то Калисто, Папиний, Минициан, Аквила, Луп, Аспренат и все остальные заговорщики подоспели к телу поверженного чудовища и принялись по очереди вонзать в него стальные мечи, каждый раз издавая один и тот же крик, долго не смолкавший под мрачными сводами портика:
- Еще! Еще!
Этот жестокий клич, сопровождаемый глухими стонами Калигулы, звучал до тех пор, пока Аквила последним ударом не поразил его в сердце [XII]. Однако сразу же послышались топот ног и шум голосов, которые приближались со стороны перехода, ответвлявшегося от театра. Это бежали носильщики и германские телохранители, уже бессильные помочь своему хозяину. Вооруженные кто палками от носилок, кто мечами, они набросились на заговорщиков, однако ни те, ни другие не могли в полную силу сразиться с противником. Узкий коридор не позволял вступить в схватку больше, чем четырем людям одновременно. И пока те, кто был впереди, бились с императорской охраной, а остальные разражались громкими угрозами и проклятиями, Корнелий Сабин, оказавшийся позади дерущихся, во всю силу легких закричал сообщникам:
- Наша победа ничего не значит, если мы не поднимем преторианцев! Если не присоединится сенат… если не будет провозглашена Республика!
С помощью Кассия Хереи, у которого тоже не было возможности скрестить мечи с германцами, он заставил заговорщиков отступить назад, к выходу, ведущему во дворец.
На месте кровавого побоища уже лежали несколько трупов, а среди них тела Нония Аспрената, Норбана Флакха и Публия Антея. В это время германцы, также потерявшие несколько человек убитыми, разделились на две части: одни бросились вслед убегавшим, а другие поспешили назад, чтобы призвать к оружию преторианцев и когорты своих соотечественников, состоявших на службе у императора [XIII].
Среди зрителей, услышавших о смерти Гая Цезаря, началась невообразимая суматоха: перепуганные и неверившие в это известие, они не знали, сожалеть ли им о случившемся или радоваться, выражать скорбь или восторг, когда в театр ворвались разъяренные батавы и, обнажив мечи, пригрозили, что на месте прикончат всех, кто замешан в заговоре. Воздух огласился отчаянными мольбами женщин и пронзительными криками детей. Тогда вперед вышел бледный, но решительный Публий Арунций и, чтобы успокоить германских солдат, к которым обращался с особой почтительностью, рассказал о том, как погиб Калигула, и о том, что бедные зрители к этому непричастны. Узнав о смерти своего хозяина, батавы поняли, насколько бесполезной и даже опасной для них была бы расправа с невинными. Кроме того, они испугались преторианцев, явно причастных к заговору, и поэтому вложили мечи в ножны и отпустили народ с миром.
Между тем Мессалина, чувствовавшая себя самой счастливой из смертных, выслушивала противоречивые рассказы о событиях, из которых могла выяснить только то, что Гай Цезарь был действительно убит. Но как же Клавдий? Где Калисто? Где Клемент? И где преторианцы, почему они еще не провозгласили нового императора? Пока она задавалась этими вопросами, Херея, Корнелий Сабин и часть заговорщиков, возглавляемых Калисто, вышли на Форум, и, обратившись к толпе горожан, горячо поздравили их с наступившей свободой. В это же время сенаторы, большинство из которых знали и о заговоре, и об убийстве тирана, собрались в курии и, радуясь долгожданному событию, приветствовали восстановление Республики и многих привилегий для патрициев.
А Клавдий, пустившись в бегство после первого удара, нанесенного Кассией Хереей его племяннику, и сам чуть не умерший от страха, никак не мог найти в себе мужества, чтобы подняться на Палатин и пробраться в особняк Августа. Он прятался в одной из комнат дома Германика, дверь которого нашел открытой, когда удирал из крытого портика. Но вскоре и здесь услышали о заговоре. Когорты преторианцев, охранявшие дворец и не знавшие о намерениях своих центурионов, принялись рыскать повсюду в поисках убийц императора. И случилось так, что обыскивая все окрестности происшествия, солдат по имени Грат заглянул в убежище Клавдия и заметил чью-то массивную фигуру, скрывавшуюся за пологом. Преторианец отдернул пурпурное полотно и увидел перед собой бледного, дрожащего человека, в котором узнал брата прославленного Германика. Тот сразу повалился на колени, умоляя пощадить его жизнь, уверяя в своей невинности и предлагая в награду сто тысяч сестерциев.
- Но кто же хочет убивать тебя, почтенный Клавдий? Ты брат Германика, дядя Гая и единственный наследник дома Юлиев. Мы провозгласим тебя императором!
Не обращая внимания на Клавдия, просившего не выдавать его присутствия и оставить в покое, среди его любимых книг и занятий, Грат позвал своих товарищей по оружию и они бережно подняли с земли отбивавшегося от них супруга Мессалины. Держа нового императора высоко над своими головами, они на вытянутых руках вынесли его на улицу. И в этот миг за их спинами раздался торжествующий женский крик:
- Браво, доблестные преторианцы! Вот он, мой добрый Клавдий! Вот кто достоин стать вашим императором! Вы получите щедрое вознаграждение за вашу преданность. Каждому из тех, кого я сейчас вижу, императорская казна выплатит по шесть тысяч сестерциев!
Это была Мессалина. С трудом переводя дыхание, она опиралась на руку Калисто, которого встретила на Форуме. Больше не в силах оставаться дома, она решила пренебречь положением будущей матери и, изнемогая от тяжести своего тела, бросилась разыскивать супруга. И вышло так, что нашла его как раз в тот момент, когда преторианцы, движимые непредвиденным душевным порывом, сами провозгласили Клавдия императором! Кто бы мог вообразить более счастливое стечение обстоятельств! Услышав обещание жены ошеломленного Тиберия Друза, солдаты дружно вскричали:
- Да здравствует император Клавдий! Ура императору Клавдию!
Отовсюду уже доносились восторженные приветствия собравшихся толп, когда, перекрывая и этот нараставший шум, и счастливые возгласы Мессалины, прозвучал чей-то громкий призыв:
- В казармы преторианцев!
И тридцать луженых глоток разом подхватили:
- В лагеря претория! В лагеря претория!
- Да здравствует наш император!
- Ура императору Клавдию!
Ободряемые солдатами и плебеями, присоединявшимися по пути, они направились в сторону Эсквилинского холма. А в это время другая толпа, состоявшая из патрициев, всадников и клиентов, возглавляемых Кассием Хереей, Сабином и Папинием, двигалась к Марсову Полю, радостно крича:
- Да здравствует свобода!
- Да здравствует Республика! Свобода! Да здравствует свобода! Республика! Свобода!
ГЛАВА XIV
Клавдий в лагере преторианцев - Херея и Сабин получают свободу - Сальве, императрица Мессалина Августа!
Три часа спустя Кассий Херея покинул заговорщиков, перед тем приказав Юлию Лупу отправиться в дом Калигулы, найти там Цезонию с маленькой Друзиллой и обеих предать смерти. Уничтожению подлежала даже семья тирана. И, пока Луп выполнял данное ему поручение, бледный Кассий Херея, медленно переставляя ноги и бессильно опустив голову на грудь, - словом, больше напоминая зыбкую тень, чем человека из плоти и крови, неуверенно брел в сторону крытого портика, где недавно происходило побоище. Там, в конце длинного коридора, ведущего к дому Германика, отца Калигулы, находились несколько помещений, которые занимал отряд преторианской стражи. В одном из них были собраны трупы тех, кто пал в сегодняшней подземной битве. Гвардейцы оставили свой пост, чтобы присоединиться к товарищам по оружию, провозглашавшим нового императора.
Пустота и безмолвие царили в этом месте. Было темно - уже приближалась ночь. Кассий Херея поднялся к главному входу особняка и прошел в каморку остиария. Прикованный цепью, тот не мог двинуться дальше, чем она позволяла, а потому, свернувшись калачиком на лежанке, дрожал всем телом, напуганный странным шумом, доносившимся сначала, и еще более странной тишиной, наступившей впоследствии. Атрий освещала лампада, которую он зажег, чтобы рассеять мрак, усиливавший его страхи. Кассий Херея снял светильник с крюка, вбитого в стену, и, не сказав рабу ни слова, направился в комнаты преторианской охраны.
Держа лампаду над головой, он заглянул в первые два помещения и, наконец, вошел в третье, где увидел несколько человеческих фигур, неподвижно распростертых на земле. Сделав три или четыре шага вглубь этой комнаты, Херея почувствовал, что его ноги ступают по чему-то липкому, покрывавшему мозаичный пол. Тогда он опустил светильник и обнаружил, что стоит в луже густой, черной крови, следы которой широкими полосами тянулись к порогу. Вздрогнув от отвращения, трибун отпрыгнул туда, где заметил островок сухой поверхности. Там он поставил лампаду на землю и провел рукой по лбу. Затем осмотрелся и увидел три обезглавленных тела, беспорядочно сваленных в ближнем углу, рядом с головами. Два часа назад Кассий Херея уже видел эти головы. Они были насажены на германские пики, воткнутые посередине театральной арены. Все три принадлежали сенаторам Нонию Аспренату, Норбану Флакху и Публию Антею, погибшим от мечей германцев. Позже те отрубили их головы от туловищ и с триумфом отнесли в театр. В дальнем углу на полу лежал труп Луция. Кассий Херея встал на колени перед этим телом. В его груди между двумя краями рассеченной туники зияла глубокая рана. Старик молча припал к телу своего сына и несколько раз поцеловал его холодное, бескровное лицо.
Через какое-то время приглушенные рыдания нарушили мертвую тишину.
Кассий Херея долго и безутешно плакал, склонившись над каменным лицом сына. Потом поднялся, взял лампаду и, поставив ее возле трупа Луция, снова встал на колени. Глаза мертвеца были широко раскрыты, в неподвижных зрачках застыли страх и отчаяние. Трибун попробовал прикрыть веки Луция, но они не слушались его дрожавших пальцев, словно не желали избавлять отца-убийцу от этого ужасного предсмертного взгляда. Тогда Херея выпрямился и вытащил меч из ножен, но едва он приставил к своей груди острие, а рукоятью уперся в стену, как почувствовал, что на его правое плечо легла чья-то рука, и в тот же момент чей-то голос тихо произнес:
- Ты уже выполнил свой долг, раз хочешь покончить с собой?
Кассий резко обернулся и увидел Корнелия Сабина.
Несчастный отец опустил глаза, из которых еще текли слезы, и, ничего не ответив, потупил голову. - Ты уже выплатил весь свой долг? Смертью тирана куплена свобода? Ты сделал все, что мог и что должен был сделать для твоей родины?
- Во имя богов! - выдохнул Херея. - Я убил своего сына.
- Это верно: высота твоего самоотречения достойна самых древних времен нашего народа. Но неужели ты убил своего сына и не позволил спастись тирану только для того, чтобы увидеть, как империя переходит от Калигулы к Клавдию? Неужели ты думаешь, что у тебя не осталось никаких обязанностей в то время, как почти все центурии и когорты преторианцев в нашем лагере провозглашают императором этого отъевшегося борова, приходящегося дядей Германику?
Херея снова промолчал, и тогда Сабин добавил:
- Убери оружие и ступай за мной, чтобы придать силы свободным людям и пробудить души трусливых. Умереть ты еще успеешь.
Он заставил Кассия вложить меч в ножны и повлек его за собой, говоря:
- Я сразу понял, куда ты захочешь пойти и что захочешь сделать. Будь я на твоем месте, то после всего, что произошло, я бы тоже мог прийти к такому решению, если бы не нужно было завершать начатое. Вот я и последовал за тобой, чтобы помешать тебе выполнить то, что ты задумал.
С такими разговорами Сабин привел Херею на Форум, где в курии сенат уже давно обсуждал, как быть с неожиданными препятствиями, возникшими на пути к восстановлению Республики. Перед курией стояли две тысячи преторианцев из четырех когорт, которыми командовали Сабин, Херея, Папиний и Луп. Солдат окружали толпы клиентов и вооруженных патрициев, полных решимости отстоять древние порядки. На ассамблее сенаторов выступал консул Гней Сенций Сатурнин, произносивший речь о благородной любви к родине и свободе. На примере грабежей, учиненных Гаем, он доказывал, что единоличная власть губительна для достоинства каждого человека, ибо в этом случае все пороки правителя передаются народу. В лености и праздности римлян, обнаружившейся в последнее время, он обвинял прежде всего Гая Цезаря, успевшего разорить страну всего за четыре года. Консул говорил о необходимости вернуться к старым формам правления, когда волю диктовали не люди и их страсти, а обычаи и
справедливые законы. Поэтому, - убеждал Сатурнин, - сенаторам необходимо срочно принять декрет, назначающий почести всем, кто освободил их от тирании. В заключение он сказал, что первым такую славу заслужил Кассий Херея, который за свою доблесть и энергию достоин большего восхищения, чем Юний Брут и Кассий Лонгин, ибо они, убив Цезаря, спасли Рим от гражданской войны, а Кассий Херея, избавив родину от тирана, излечил ее от смертельной болезни [I].
К этим словам присоединились Минуциан, Помпедий и Валерий Азиатик, которые, правда, посетовали, что не смогут принять деятельного участия в почестях по случаю убийства Гая Цезаря [II].
Итак, сенат утвердил публичные мероприятия, призванные возвеличить благородный поступок Кассия Хереи. Однако, получив известия о мятеже среди преторианцев и о провозглашении ими нового императора, отцы города разошлись во мнениях, хотя все вместе решили оставаться в курии, чтобы проследить за дальнейшим развитием событий и пресечь гражданские беспорядки, если таковые начнутся.
После жаркой и продолжительной дискуссии они, наконец, согласились в том, что необходимо направить в лагерь претория послов, выбранных из числа наиболее авторитетных сенаторов и трибунов. Эти посланцы должны были дать понять Клавдию, насколько неподобающе и даже вредно для него было бы оказаться орудием бунтарских страстей преторианцев, восставших против сената, всадников и народа, в чьих руках находится законная власть и право распоряжаться судьбами Рима.
Затем сенаторы разошлись, предварительно поручив спокойствие города Херее и Сабину, а все верховные полномочия передав консулу Секцию Сатурнину и еще одному преемнику Калигулы на этом посту, который готовился возложить на себя фасцы[157] в день отъезда императора в Египет. Этим вторым консулом, тотчас вступившим в предназначенную должность, был Квинт Помпоний Секунд.
Когда сенат был распущен, трибун Юлий Луп в сопровождении нескольких преторианцев отправился во дворец тирана, где занялся поиском Цезонии Милонии и маленькой Друзиллы. Обойдя пустые покои дома, покинутого рабами и слугами, он, наконец, в одной из самых дальних комнат нашел Цезонию, ползавшую на коленях перед окровавленным и обезображенным тридцатью ранами трупом Гая Калигулы. Растрепанная и перепачканная кровью, она, словно безумная, громко причитала, обращаясь к телу супруга. Неподалеку от нее на полу сидела малютка, игравшая с окровавленными сандалиями тирана. Луп дал знак солдатам, чтобы они оставались за порогом, а сам вошел в комнату. Увидев трибуна, сжимавшего в правой руке обнаженный меч, Цезония не выразила ни страха, ни удивления.
- Я ждала этого! - сказала она.
Потом она встала на ноги и, указав рукой на труп, повернулась к Лупу и преторианцам, которые с любопытством заглядывали в дверной проем.
- Вот, - произнесла Цезония, - вот он, ваш император! Молодой, красивый, отважный. Вот он! Его тело изуродовано тридцатью ранами. Это вы, это ваши центурионы и трибуны доставили удовольствие подлым патрициям, убив моего бедного Гая, который вас так любил, так щедро одаривал милостями и наградами!
Немного помолчав, она добавила:
- О, я это заслужила! И Гай это заслужил, потому что слишком доверял вам и не хотел меня слушать. А ведь я знала, я догадывалась о предательстве. Сколько раз я говорила ему, чтобы он приказал убить этих трусливых патрициев. Всех убить! Всех, до единого!
- Ах, вот какие советы ты давала этому чудовищу, жаждавшему человеческой крови! - рассвирепев, воскликнул Луп и поднял над головой меч. Преторианцы разом ввалились в комнату, крича:
- Смерть ей! Смерть ей!
Тогда Цезония раскрыла грудь и подставила ее под меч трибуна, который тут же нанес ей удар огромной силы. Женщина упала на колени. Ее белая кожа мгновенно обагрилась кровью, хлынувшей из ужасной раны. Вдова Калигулы с приглушенным стоном повалилась на спину.
Один из преторианцев схватил маленькую Друзиллу за ножку и, широко размахнувшись, размозжил ее голову об стену [III].
А пока все это происходило на Палатинском холме, в лагере претория к шестнадцати когортам гвардейцев, желавших, чтобы преемником Гая стал Клавдий Друз, присоединилось войско германцев. Кроме них, нового императора хотели провозгласить бесчисленные толпы городской черни и клиенты родов Юлия и Валерии, оцепив земляную насыпь вокруг казарм. Клавдий, поначалу перепуганный, но затем ободренный грозной мощью преторианцев, а также настойчивыми просьбами супруги, Калисто, Палланта и Полибия, в конце концов решил больше не противиться судьбе и принять корону из ее рук. Он пообещал каждому преторианцу по шесть тысяч сестерциев в случае победы и, хотя был уверен в успехе, время от времени спрашивал о вестях из курии, всякий раз добавляя:
- А если сенат будет против? Вдруг он не захочет поддержать меня?
- Ничего… захочет… вот увидишь, - досадливо морщась, отвечала Мессалина.
Ночью император и императрица позвали своих друзей на ужин в комнату, предоставленную им префектом претория. В течение всей трапезы Мессалина то и дело вставала из-за стола, чтобы отдельно переговорить с Клементом Аретином, с Калисто или с Квинтилией, которая приносила новости из города и, получив очередное поручение, вновь исчезала. Дело было в том, что, сохраняя внешнее спокойствие, супруга Клавдия не могла не думать о двух тысячах преторианцев, решившихся отстоять древнее республиканское правление. Вот почему «она, не открывая своих опасений мужу, который впадал в панику по любому поводу, принимала все меры, чтобы потушить пожар, разожженный на Форуме Хереей и Сабином. Ее главной заботой было вернуть в лагерь четыре когорты гвардейцев и присоединить их к шестнадцати, уже присягнувшим Клавдию.
- Все может случиться, пока две тысячи солдат подчиняются сенату, - повторяла она. - Нужно любой ценой заполучить эти когорты. Любой ценой!
С этой целью ее посланцы один за другим отправлялись на Форум. К счастью, Клемент Аретин, сначала колебавшийся между республиканцами и Клавдием, теперь явно склонялся на сторону последнего.
По предложению префекта претория, она поочередно вызывала самых надежных центурионов, которым, обещая щедрые вознаграждения и почести, велела идти к курии и во что бы то ни стало вернуть в лагерь когорты, преданные сенату. Они должны были уговаривать декан и солдат, сулить им деньги и повышения по службе, использовать каждую представившуюся возможность… Главное - добиться своего! О, они добьются, добьются! А тогда весь мир узнает, как она отблагодарит их! И те, польщенные и воодушевленные, уходили, смешивались с четырьмя когортами Хереи и Сабина и делали все, что от них зависело, чтобы выполнить просьбу Мессалины. Она же вновь садилась за стол, но не притрагивалась ни к питью, ни к пище. Ее лицо пылало, словно озаренное восходом славы. Она слышала звуки завтрашнего триумфа и упивалась ими. Мессалина чувствовала озноб, ее действительно немного лихорадило.
За ужином Клавдий три или четыре раза выразил желание, чтобы его избрание императором было одобрено сенатом.
- Доверься мне и ни в чем не сомневайся! - тихо сказала Мессалина, устроившаяся с ним на одном ложе. - Позволь твоей Мессалине руководить событиями!
И, наклонившись к самому уху супруга, нежно прошептала:
- Разве твоя жена плохо тобой руководила? Не она ли, приложив столько самоотверженной любви и настойчивости, за четыре года подготовила все, что сейчас произошло?
- О да! Ты была моей доброй путеводной звездой, которая влекла меня за собой по этому тернистому пути, полному опасностей и препятствий. А я даже не знал, что он меня приведет к трону Цезаря! Ты навсегда останешься госпожой и повелительницей твоего преданного Клавдия, послушного каждому слову своей супруги.
В этот момент Мессалина почувствовала, что кто-то тянет ее за край одежды. Она обернулась и увидела проконсула Луция и Вителия Непота, стоявшего на коленях возле ложа, на котором она возлежала.
- Что ты здесь делаешь? Чего ты хочешь? - с удивлением спросила Мессалина, увидев победителя парфян в такой странной позе. Произнося эти слова, она опустила ноги на пол и села.
- Прошу тебя об одной милости, божественная Мессалина! Только об одной милости, в которой ты не можешь и не должна отказать мне.
- Да встань же. Во имя Зевса! И говори… Чем бедная женщина может быть полезной тебе, почтенный Вителий?
- Ты бедная женщина? Ты, прекраснейшая, очаровательнейшая, мудрейшая среди всех самых знатных женщин, живущих в Риме? Ах, божественная Мессалина, ты себя не знаешь и не умеешь ценить себя. Я, давно обожающий тебя, как свою богиню, преклонившись возле твоих ног, прошу тебя о высочайшей милости позволить мне снять с твоей изящной ножки одну из твоих сандалий, чтобы я всегда мог держать ее в руках и покрывать нежнейшими поцелуями.
И, прежде чем просиявшая от удовольствия Мессалина успела что-либо ответить, Вителий, точно охваченный неудержимым порывом чувств, бережно, но быстро снял обувь с ее правой ноги и, приложившись к ней губами, спрятал под туникой у себя на груди.
- Здесь, возле самого сердца я буду носить ее, - воскликнул он, - чтобы каждый день покрывать поцелуями!
Многие с улыбкой зааплодировали поступку и словам подхалима. Клавдий его поблагодарил, а Мессалина, покраснев от радости, дружески упрекнула Вителия. Он же, поднявшись и вновь возвратившись в прежнюю позу, вытащил из-под туники сандалию и с величайшей осторожностью надел ее на ногу хозяйки [IV]. Как раз в этот момент в комнату вошел Агриппа, царь, правившей половиной Иудеи. Он был в добрых отношениях с Калигулой и несколько дней назад прибыл в Рим, чтобы застать его перед отъездом в Египет. Часто посещая Вечный город и подолгу живя в нем, он завоевал расположение многих патрициев и магистров, ибо не жалел денег ни на роскошные пиры, ни на развлечения. Его встретили как почетного гостя. С достоинством ответив на приветствия, он пожелал поговорить наедине с Клавдием, и Мессалина отвела их в таблий. Там правитель евреев посоветовал Клавдию не терять мужества и не поддаваться сенату, уговаривавшему его отказаться от империи.
На его стороне были не только почти все войска, но и большинство плебеев, желавших продолжения единоличной власти. А через несколько часов и сама курия должна была расколоться: уже сейчас там одни сенаторы выступали за передачу империи Аннию Минуциану, другие же предлагали избрать на престол Валерия Азиатика, третьи же выдвигали ставленников от своих сословий [V]. Передав эти сведения, бывший друг Калигулы заверил Клавдия, что если тот проявит выдержку, то скоро сенат будет вынужден признать его силу.
- Ты видишь. Ты слышишь? - торжествуя, сказала Мессалина супругу. - Что тебе говорила твоя жена, то подтверждает наш доблестный и почтенный Агриппа.
Затем матрона любезно вызвалась проводить к выходу главу иудеев, который пообещал использовать все свое влияние, чтобы убедить сенат в необходимости провозгласить Клавдия императором.
- И когда ты, знатнейшая из женщин, - заключил он по дороге, - узнаешь о моем содействии твоему триумфу, то я буду просить тебя о покровительстве и ходатайстве перед Клавдием, благодаря которому я, наконец, смогу получить власть над второй половиной Иудеи, сейчас принадлежащей Ироду, моему брату.
- Употреби свой авторитет в наших интересах, и можешь быть уверен в благорасположении Клавдия к тебе и к твоим замыслам. Это я тебе гарантирую. Поверь, Агриппа, душа моего супруга подчинена мне и никогда не избавится от моей власти.
- О, я это знаю! Позволь же мне уйти, а завтра ты увидишь результат моих действий.
Достигнув такого соглашения, Агриппа распрощался с Мессалиной. Для нее же потянулись долгие часы ожидания. Часы, которые ей показались вечностью, ибо еще ничего не было решено окончательно: судьба империи все еще колебалась на весах строгих небесных судей, не спешивших склониться в ту или в другую сторону. И оставалось только ждать и надеяться, Что ж, в конце концов, пусть будет так, как захотят боги! Завтра все встанет на свои места! И уже раннее утро принесло Мессалине добрую весть! На площади республиканцы с каждой минутой теряли опору. Сенат дрогнул и начал раскалываться. Только Кассию Херее и Корнелию Сабину с их бесхитростным, но могучим красноречием еще удавалось поддерживать свободолюбивые желания в душах своих сторонников, уже готовых поддаться на уговоры слабых и безвольных.
В третьем часу к Клавдию прибыли посланцы сената, которые скоро убедились в том, что преторианцы и их избранник намерены идти до конца. Поэтому гостям не оставалось ничего иного, как устами Верания - трибуна плебеев - сказать, что они боятся возникновения гражданских беспорядков в городе. Чтобы их не допустить, трибун попросил успокоить гвардейцев до тех пор, пока сенат не скажет свое слово.
По совету Калисто и Мессалины Клавдий отверг эти просьбы. А в это время Агриппа, приглашенный в сенат, явился туда и, воздав должное похвальному желании) отцов города, решившихся восстановить республиканские формы правления, призвал патрициев подумать о том, как именно они будут противостоять огромному войску преторианцев, готовых оказать вооруженное сопротивление их замыслам. Стремясь принести пользу августейшему римскому сенату, - сказал глава иудеев, - он предлагает не спешить с постановлением, которое будет иметь чрезвычайно важные последствия для их народа. Пусть благоразумные сенаторы дадут себе отчет в том, какие волнения начнутся в Риме, если они сделают хоть один неверный шаг. Нельзя забывать о том, что Клавдия поддерживают и плебеи, и школы гладиаторов, и солдаты, пришедшие ему на подмогу из Остии, и германские телохранители, а кроме них, еще и шестнадцать монолитно сплоченных преторианских когорт. Если допустить возникновение гражданских беспорядков, то кровопролитие будет столь же неизбежно, как и падение сената, бессильного перед могучим войском. Оно же без труда справится как с наемниками, набранными среди трусливых рабов и плебеев, так и с четырьмя когортами, сохраняющими преданность Херее и Сабину [VI].
Слова Агриппы переполошили большую часть сенаторов. Было решено, что несколько отцов города во главе с ним снова отправятся к Клавдию и попробуют спасти город от назревающей междоусобицы.
А между тем Калисто, Квинтилия, Нарцисс, Полибий и Паллант ходили по самым населенным кварталам, где с помощью центурионов и торговцев гладиаторами вербовали вигилиев, атлетов и борцов, готовых за немалое вознаграждение вступить в ряды сторонников Клавдия.
Весь день 25 января продолжались переговоры консулов с сенаторами - с одной стороны, и Клавдия с преторианцами - с другой. Но при этом лишь центурионы, исполнявшие тайный указ Мессалины, развивали свою деятельность в когортах Хереи и Сабина. Плоды их активной пропаганды показали себя на рассвете 26-го, когда, забрав свои знамена из курии, эти когорты изъявили желание уйти и присоединиться к их товарищам по оружию в лагере претория. На их пути встали Херея, Сабин, Папиний и Луп, попытавшиеся обратиться к солдатам с речью, но те подняли крик:
- Мы хотим единоличную власть над собой!
- Желаем императора!
Вспыхнув от негодования, Херея не удержался от грубости и назвал их жалкими, презренными, трусами. Они получат то правление, которого заслуживают. Он сам дает им императора: не Клавдия, потому что, если тот достигнет верховной власти, то он сам, Херея, убьет его, не перенеся стольких трудностей и столько крови, пролитой ради безвольного, жирного борова, вставшего на месте безумца [VII]. Они хотят единоначалия? Они желают императора? Что ж, пусть они выберут того, кто достоин и их, и сената? пусть примут единовластие какого-нибудь ничтожного плебея, пусть назначат над собой возницу Евтиха! [VIII] Но преторианцы уже не слушали ни глумлений Хереи, ни угроз Сабина, ни уговоров Лупа и Па-пиния. Они маршировали в сторону Эсквилина, где вскоре присоединились к своим соратникам, присягнувшим Клавдию.
Это происшествие настолько перепугало сенаторов, что они толпами повалили в лагерь претория, надеясь вымолить прощения у Клавдия. И тому пришлось употребить весь свой авторитет, чтобы отговорить гвардейцев от немедленной расправы над ними.
Кроме того, Клавдий обратился к беглецам с речью, уверяя их в своей человечности и благорасположении. Он не удивился тому, что сенат не захотел подчиняться воле одного-единственного человека, ведь его предшественники, действительно, немало притесняли отцов города. Однако он будет править милосердно и приложит все силы к тому, чтобы для его родины настали добрые времена. И тогда, под всеобщие аплодисменты Клавдий был поднят на плечи преторианцев и вместе с курульным креслом, на котором он сидел, тотчас был отнесен к триумфальной повозке, дожидавшейся его у главных ворот лагеря. По желанию солдат Мессалина заняла место рядом с супругом. Так, с почетом, подобающим победителю, новый император прибыл на Палатинский холм. Там сразу состоялась непродолжительная беседа Клавдия с главными сенаторами, а также с консулами Гнеем Сенцием и Марком Помпонием. Нужно было решить судьбу убийц Гая Цезаря. Во время их встречи большинство патрициев поддержало предложение Мессалины о том, чтобы простить всех, кроме двоих трибунов, а именно, Кассия Херея и Юлия Лупа, которые, как зачинщики беспорядков, были приговорены к смерти. Услышав эту новость, Херея горько усмехнулся, а Луп впал в отчаяние. Тогда Корнелий Сабин отправился к императору и спросил, что он собирается делать с ним.
- О, что за вопрос! - добродушно воскликнул Клавдий. - Разумеется, собираюсь сохранить тебе жизнь и звание трибуна преторианцев!
- B убить Кассия Херею, моего друга и брата по великим свершениям, благодаря которому ты стал императором и который был доблестнее всех душой, мыслями и поступками? О, как плохо ты меня знаешь! Я презираю тебя, равно как и жизнь, которую ты хочешь подарить мне!
С этими словами он удалился, отправившись вслед за кортежем, сопровождавшим Херею на казнь.
Когда конвой прибыл к назначенному месту, находившемуся за Эсквилинскими воротами, Кассий Херея, суровый, как всегда, снял тяжелый шлем и, повернувшись к солдату, который должен был отрубить ему голову, спросил:
- Не дрогнет ли твоя рука? Ты уверен, что верно нанесешь удар? Или ты в первый раз будешь обезглавливать человека?
Солдат заверил его, что не промахнется. Тогда Кассий сказал:
- Я был твоим капитаном, и ты не мог упрекнуть меня ни в малодушии, ни в подлости. А сейчас я прошу тебя об одном одолжении.
- Говори… я сделаю все, что в моих силах. Ты всегда был достоин своего звания.
- Так вот: я хочу, чтобы мне отрубили голову тем самым оружием, которое недавно отобрали у меня. Этот меч привык бить без промаха.
- Если это облегчит тебе смерть, то я убью тебя твоим же оружием. Мне будет не так горько выполнять свой долг, когда я буду знать, что удовлетворил твое желание.
Ответив солдату, какой именно центурион обезоруживал Херею, тот обернулся и иронически посмотрел на Сабина, скрестившего руки на груди и с состраданием наблюдавшего за их разговором.
- А! Корнелий? Ну как? Мы верили, что солнце свободы рассеет мрак беспросветного рабства, а наше светило всего лишь отогрело замерзших червей, копошащихся в этой выгребной яме! Тьфу.
Он презрительно сплюнул на землю, а потом, спокойно улыбнувшись, добавил:
- По мне, если человек просчитался в планах и не смог дать свободу родине, то расплата за эту немощь может только обрадовать его.
- Ты ведь понимаешь, что, если даже новый Цезарь соблаговолил оказать мне милость, то я последую за тобой и собственноручно убью себя. Товарищи по великому заблуждению должны быть товарищами и по великому искуплению своих ошибок.
- Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы пытаться отговорить.
- Нет, это мне не нужно.
- У нас есть человеческое достоинство, и если мы с честью пережили порочнейшую эпоху, то жить среди хрюкающего и блеющего стада нам было бы тем более невыносимо!
И, видя, как, поддавшись малодушию, Луп внезапно стал стучать зубами и жаловаться на холод, Кассий Херея ему сказал:
- Ну… мужайся. Когда ты не один, то даже волчий [IX] холод не причинит тебе вреда!
Когда меч Кассия передали солдату, который должен был привести приговор в исполнение, трибун поднял к небу свои большие серые глаза и воскликнул:
- Тебе посвящен, о великая богиня Свобода, и умираю без скорби!
Послышался сухой стук: голова могучего трибуна упала на землю. Чтобы лишить жизни Юлия Лупа, у которого дрожала голова, потребовалось несколько ударов, но и он вскоре был убит. В тот же самый момент Корнелий Сабин обнажил свой меч и бросился на него с такой силой, что острие вышло между лопатками, а рукоять впилась в грудь доблестного трибуна.
А пока эти события происходили за Эсквилинскими воротами, на Палатинском холме продолжали звучать частые и шумные приветствия, обращенные к императору Тиберию Клавдию Друзу.
Наконец новый Август заметил супруге и либертинам, что одними этими восторгами да рукоплесканиями сыт не будешь, а потому самое время идти во дворец и садиться за стол.
- Сказать по правде, если империя не сможет без того, чтобы мне не надоедать, а еще хуже - не недоедать! Ах! Тогда я, сказать по правде, не знаю, что и делать, - «августейше» пошутил Клавдий.
Болезненный щипок за левый локоть заставил его вскрикнуть так громко, точно от укуса змеи. Вытаращив глаза и растирая опухшее место правой ладонью, он услышал тихий голос Мессалины, прошептавший ему на ухо:
- Вечный обжора! Доморощенный эпикуреец! Да во имя твоих богов! Хотя бы сегодня ты можешь вести себя достойно?
Клавдий сделал примирительный жест, но в то же время не смог удержаться, чтобы не шепнуть на ухо Полицию:
- Ох! Вот так всегда. Но она меня удивляет, моя жена! При чем тут достоинство, когда я говорил об аппетите? Можно подумать, что император это тот» кто должен достойно принять голодную смерть!
Высказав такое умозаключение, преемник Калигулы направился во дворец. В это время Калисто, бросив в воздух фетровую шапочку, которая покрывала его голову, крикнул во всю силу легких:
- Сальве, императрица Мессалина Августа!
Этот крик, несколько раз подхваченный толпами народа, как эхо в пустой комнате, отозвался на площади Апполинея.
Мессалина побледнела. Она почувствовала такую слабость, что была вынуждена опереться на руку Клавдия.
Два часа спустя в просторном триклинии дома, построенного Калигулой, многочисленные сотрапезники нового императора передавали по кругу чашу дружбы, наполненную фалернским вином, и позолоченную корону в форме дубовой ветви, которую Клавдию подарил консул Помпедий. Немного поколебавшись, историк этрусков водрузил подарок на голову. Тотчас же новые аплодисменты, и поздравления прозвучали в честь трибуна плебеев, цензора, верховного понтифика, императора Цезаря Августа.
В конце застолья Калисто, все еще без ума влюбленный в Мессалину, приблизился к ней и по случаю такого счастливого дня, попросил разрешить обнять и поцеловать в губы ту, которая после стольких испытаний, наконец, стала его императрицей.
- Неужели прямо сейчас?
- Один поцелуй, - проговорил Калисто. - Вот уже три дня, как мечтаю только об этом. Я так люблю тебя!
- Сейчас мне надо идти в свои покои, чтобы одеться так, как подобает в моем положении. А потом будет видно.
И она действительно отправилась в императорские апартаменты, раньше принадлежавшие Цезонии и приведенные в порядок теми же рабынями, что служили предыдущей императрице.
- Мой милый Калисто. На виду у всех этих служанок… - сказала она юноше, остановившись перед входом в свои покои, - ты же видишь, это невозможно. Тебе сюда нельзя. Подожди, я переоденусь и позову тебя.
Калисто остался в таблии. Облако печали бросило тень на его лицо. Погрустнев и задумавшись, он стал медленно прохаживаться по роскошной комнате.
Тем временем служанки наряжали Мессалину в самые богатые пурпурные одежды, какие нашлись в гардеробе Цезонии, а в пинакотеке уже собирались самые знатные и состоятельные римские дамы, пришедшие, чтобы поздравить новую императрицу.
Клавдий, накинувший на плечи императорскую мантию и опиравшийся на руку Полибия, обходил свое новое жилище, попутно делая замечания о некоторых изменениях, которые нужно было внести в расположение мебели и в назначение помещений. Калисто поглядывал на него, когда он изредка появлялся в коридоре, ведущем из таблия в атрий. Внезапно либертин услышал шелест одежды за своей спиной: он обернулся и увидел Мессалину, вышедшую из ее комнат и поправлявшую на мочках ушей две чудесных жемчужины, принадлежавших сначала Друзилле, а потом Цезонии. Калисто посмотрел на нее с непередаваемой нежностью и пошел навстречу, чтобы сказать о своем восхищении, однако она, не стесняясь его присутствия и продолжая на ходу возиться с непослушными украшениями, по пути в пинакотеку произнесла спокойно и безразлично:
- Ох, Калисто! Знаешь, извини меня. Но ты ведь понимаешь, что теперь я уже не смогу ворковать с тобой, как раньше. Ну, не волнуйся. Будь благоразумен. Я всегда буду любить тебя. Только сейчас мне нужно идти. Все дамы Рима ждут меня и хотят мне поклониться.
И, рассеянно улыбнувшись каким-то своим мыслям, она удалилась. Калисто прислонился спиной к дверному косяку и провожал ее печальным, задумчивым взглядом до тех пор, пока она не скрылась в пе-ристилии, ведущем к пинакотеке. Его прекрасные глаза стали наполняться слезами.
- Ох, Полибий… Кто бы мне сказал? Быть императором! Я все еще не верю самому себе! Не верю! Мне этот день предсказывала колдунья Локуста. Но я ей даже вот настолечко не верил!
Это говорил Клавдий, который, продолжая осмотр своих новых владений и по-прежнему опираясь на руку Полибия, как раз проходил за спиной либертина, неподвижно стоявшего у открытой двери.
- И все же надо поверить! Надо, чтобы ты убедил себя, Август, - отвечал Полибий. - А ведь этот величайший день наступил благодаря твоей мудрейшей и достойнейшей Мессалине…
- О конечно, конечно! Ах, какая она несравненная женщина, моя жена.
И через несколько шагов повторил:
- Несравненная женщина. Несравненная женщина, моя Мессалина!
В это время послышались бурные рукоплескания и приветствия. Там, в Форуме, сорокатысячная толпа горожан кричала:
- Ура императору Тиберию Клавдию. Друзу!
- Да здравствует императрица Мессалина Августа!
Две крупные слезы медленно стекали по щекам Калисто, который неподвижно стоял и смотрел в длинный коридор, за поворотом которого исчезла его Мессалина, облаченная в пеплум императрицы.
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
(ссылки на античных историков)
I - Светоний
II - Светоний, Дион
I - Светоний, Тацит, Дион
II - Светоний, Тацит, Дион
III - Светоний, Дион
IV - Светоний, Дион
V - Светоний, Сенека, Дион
VI - Об адюльтере между Калигулой и Эннией рассказывают Светоний, Тацит, Сенека, Дион.
I - Светоний, Сенека, Дион
I - Светоний, Сенека, Дион
II - Об этих обетах рассказывают Светоний, Сенека, Дион
III - Тацит, Дион
I - Об устройстве римского дома того времени рассказывает Витрувий.
II - Примерно две тысячи итальянских лир (во времена Джованьоли - прим. переводчика)
I - Светоний, Дион, Сенека
II - Светоний
III - Светоний
I - Светоний, Дион, Кассий
II - Светоний
III - Светоний, Сенека
IV - Светоний, Дион, Сенека
V - Светоний, Дион
VI - Светоний, Дион
VII - Светоний, Дион
I - Светоний, Дион
II - Светоний, Дион
III - Светоний
IV - Светоний
V - Светоний, Дион
I - Тацит
II -Тацит, Дион
III - Иосиф Флавий
I - Светоний, Дион, Кассий
II - Светоний, Дион
III - Светоний, Дион
IV - Светоний, Дион
V - Светоний, Дион
VI - Светоний, Дион
VII - Светоний, Дион, Сенека, Плиний
I - Разговор Кассия Хереи с Минуцианом описан у Иосифа Флавия
II - Тацит, Дион
III - Дион, Кассий
IV - Светоний, Кассий, Дион, Аврелий, Виттор
I - Светоний, Дион
II - Светоний, Сенека, Дион
III - Светоний, Сенека, Дион
IV - Светоний, Сенека, Дион
V - Светоний, Дион VI - Светоний
VII - Светоний, Дион
VIII - Светоний, Дион
IX - Светоний
X - Светоний, Дион
XI - Светоний, Дион
XII - Подлинные слова Хереи, записанные Иосифом Флавием и с небольшими изменениями переданные автором
XIII - Иосиф Флавий
XIV - Иосиф Флавий
I - Иосиф Флавий
II - Иосиф Флавий
III - Иосиф Флавий
IV - Иосиф Флавий
V - Светоний, Дион
VI - Светоний, Дион
VII - Иосиф Флавий
VIII - Иосиф Флавий
IX - Иосиф Флавий
X - Иосиф Флавий
XI - Иосиф Флавий
XII - Иосиф Флавий, Светоний, Дион, Сенека
XIII - Иосиф Флавий, Светоний, Дион, Сенека
I - Иосиф Флавий
II - Светоний, Дион
III -Иосиф Флавий, Светоний, Дион
IV - Факт, о котором с осуждением писали Светоний и Дион
V - Иосиф Флавий
VI - Светоний, Дион
VII - Иосиф Флавий
VIII - Иосиф Флавий
IX - Иосиф Флавий, Светоний, Дион. (Игра слов: «луп» - «волк». - Прим. переводчика.)