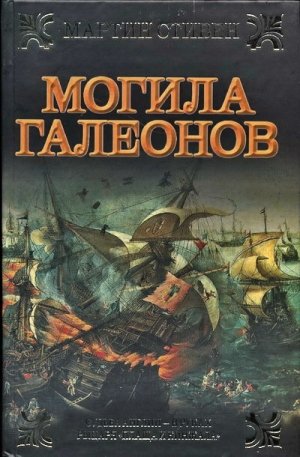
Мартин Стивен
«Могила галеонов»
Пролог
26 марта 1587 года Кембридж
От случая зависит, вытащит человек карту любви или карту смерти. Над унылой кембриджской равниной занимался рассвет серого дня. Лошади во дворе, словно чувствуя страх своего хозяина, вели себя неспокойно, фыркали и били копытами. Фонари в руках конюхов раскачивались на ветру. Туман был еще слишком густым, и они не отбрасывали теней на стены, а только освещали потные лица и руки людей. Запах пота, исходивший от людей и лошадей, смешивался с запахом конского навоза. Если бы испанец, хозяин одной из этих лошадей, покинул Кембридж под покровом ночи, у него был бы шанс остаться в живых. Но он испытывал судьбу, полагая, что может без опаски по-человечески поужинать и поспать несколько часов в чистой постели. Такое умозаключение и погубило его, лишив времени, необходимого для бегства. Правда, немногие люди решаются скакать верхом ночью. Самая лучшая лошадь видит в темноте не дальше человека, а дороги в Англии в эту пору превращаются в болото, в котором могут, сдается, утонуть и лошадь, и всадник. Лучше трогаться в путь на рассвете, в надежде на ясный погожий день в стране вечной сырости. Человек, идущий навстречу судьбе, не должен быть похож на преступника, сбежавшего из темницы и боящегося дневного света. Мужчина, да к тому же испанец, скачет вперед с открытыми глазами, как воин и рыцарь.
Двоих испанских слуг, сопровождавших хозяина, выполнявшего деликатную миссию в Англии, унесла лихорадка, которую обильный болотами Кембридж порождал с такой же неутомимостью, с какой севильские крестьянки рожали детей. Сменившие их слуги-англичане казались нерадивыми и ненадежными. Но кто из сородичей осудил бы их за это, если известно, что Испания готовится нанести удар по Англии? Вообще-то только один из английских слуг испанца находился рядом с ним в то утро: дюжий малый лет пятидесяти, хладнокровный и волевой, умевший управляться с сильными вьючными лошадьми. Испанец не мог запомнить, как его звали, да он особенно и не старался запоминать имена простолюдинов. Его даже раздражала английская манера обращаться со слугами словно с настоящими людьми. Все же испанец снисходительно улыбнулся слуге, поблагодарил его за его мастерство и пришпорил (вероятно, слишком сильно) своего благородного скакуна. Прочь из Англии! Надо быстрее рассказать тем, кто его послал, что они хотят сделать страшную глупость.
Настроение испанца улучшилось, когда он отправился в путь. Его конь разбрасывал копытом грязь на немощеных улицах, как будто тоже хотел поскорее оставить позади вонючий городишко. Скоро они минуют лачуги бедняков и спесивые здания колледжа. Испанец решил бежать через Грантчестерские луга. Даже его сердце невольно тронул этот цветущий край, образчик пасторальной идиллии, чьим украшением, несомненно, являлась прекрасная университетская Королевская церковь… Странная тишина за спиной заставила испанца замедлить езду. Он вдруг понял — его слуга больше не следует за ним, а исчез вместе с вьючными лошадьми. Затем всадник услышал уже другой стук копыт. Он обернулся и впервые почувствовал смертельный страх, увидев преследователей. Его слуга остановил своих лошадей и спокойно ждал чего-то около небольшой рощицы, из которой по направлению к испанцу мчались двое всадников. Один из них — дюжий детина на коренастой сильной лошадке, а его более изящный спутник гордо восседал на сером коне. Расстояние между ними быстро сокращалось. Испанец знал преследующего его всадника. Он слишком поздно понял: его слуга-англичанин, платный агент этого молодого человека, предупредил своего настоящего хозяина об отъезде хозяина мнимого. Да, испанцу стало по-настоящему страшно, но трусом он никогда не был. Он развернул коня, выхватил меч из ножен, выставил его, словно копье, и поскакал навстречу молодому преследователю. Если испанец надеялся смутить противника, то его расчет оказался неверным. В ту же секунду тот также обнажил меч, и они поскакали навстречу друг другу, будто два рыцаря на турнире. Испанец смотрел только на грудь англичанина, готовясь вонзить меч в сердце врага, но совершил ошибку: на какое-то мгновение его взгляд встретился со взглядом англичанина, взглядом холодным и беспощадным, как стальной клинок.
Испанец сделал смертоносный выпад, но в последнюю долю секунды его противник с невероятной ловкостью сумел уклониться от удара и вонзил острие меча в горло испанца. Сила удара была такова, что англичанин с трудом удержал в руке собственный меч. Голова его противника оказалась наполовину отсеченной. Тот упал на шею скакавшей во весь опор лошади, еще сжимая в руке меч. Но в следующее мгновение оружие выпало из обессилевшей руки всадника, сам он слетел на землю, а его правая нога ещё оставалась в стремени. Некоторое время конь продолжал тащить за собой седока, потом остановился. Приятная прохлада разлилась на Грантчестерских лугах. Ярко-синее небо сияло в вышине. Легкий весенний ветерок словно нехотя шевелил траву, и солнечные лучи щедро согревали землю. Речка весело журчала, птички, пережившие зиму, пели, утверждая торжество жизни. В столь прекрасный день Генри Грэшем отмечал свой день рождения — и только что убил человека!
Конечно, убитый, лежавший теперь перед ним, был всего лишь испанским шпионом. Но разве от этого убийство становилось делом более приятным?
Грэшем, высокий и статным, широкоплечий, узкобедрый, с длинными темными волосами, обрамлявшими его точеное лицо, был хорош собой, и, похоже, он сам понимал это. И вот теперь он стал убийцей и стоял над своей жертвой, неподвижный, словно мраморная статуя. Манион, мощный, словно дуб, слуга, лет на пять старше своего хозяина, молча стоял с ним рядом. Когда приступ рвоты у Грэшема закончился, слуга заговорил.
— Нужны камни и веревка, — сказал он. Грэшем поднял голову. — Нельзя брать тело домой, — рассудительно заявил Манион, — и оставлять так его тоже нельзя. На берегу есть камни, у меня в дорожной сумке лежит веревка. Грэшем посмотрел на слугу невидящими глазами. Манион знал: первые убийства всегда даются человеку нелегко. После возбуждения битвы наступает чувство подавленности.
— Надо его утопить в речке, — терпеливо продолжал Манион. — Здесь глубоко. Принесите камней, а я достану веревку.
Грэшем механически повиновался. Он отправился на берег собирать камни.
«Лучше бы хозяин сейчас поплакал», — подумал Манион. Это не шутка — отнять человеческую жизнь!
Но вот чего Генри Грэшем не умел совсем — так это плакать.
Глава 1
Март 1587 года
Лондон Королевский двор
Долгое время оба всадника неслись опрометью, словно их преследовал сам дьявол, хотя причина была на самом деле в том, что Грэшем просто любил быструю езду и опасность. На всех станциях по дороге от Кембриджа до Лондона его ожидали свежие лошади. Прошла уже неделя с того дня, как он убил испанца.
— Тогда мне было даже полегче, — проворчал Грэшем, когда гонец привез ему вызов ко двору. — Там по крайней мере я точно знал, кто враг.
— Тысячи людей готовы отдать жизнь за приглашение ко двору королевы, — заметил Манион, ненавидевший Кембридж.
— Сейчас хозяин и его слуга находились всего милях в пяти от столицы.
— Еще больше людей погибло, последовав этому призыву, — мрачно ответил Грэшем. — Когда я оказываюсь при дворе, среди толпы льстецов, интриганов и доносчиков, я чувствую себя так, будто иду по незнакомому ночному лесу, где за каждым деревом могут скрываться враги, а узнать об этом я могу не раньше, чем когда кто-нибудь из них нанесет удар в спину.
— Тогда это действительно напоминает Кембридж, — заметил Манион.
Даже в лучшие времена двор королевы Елизаветы I был полон интриг и тайного соперничества. Между тем со временем положение там еще ухудшилось. Верности и преданности там и прежде не хватало, а сейчас дело с ними обстояло и вовсе плохо, зато подозрительность и ненависть росли вместе с ростом угрозы войны с Испанией, с каждым днем становящейся все реальнее. Королева уже явно вышла из детородного возраста, поэтому даже если бы она действительно нашла мужа, наконец ее устроившего, то что бы это изменило? Кто же будет теперь следующим королем Англии? Или (Господи, помоги стране!) ее следующей королевой? Над старым порядком нависла смертельная угроза. При самом королевском дворе и вне его разные партии боролись между собой за власть. За разговоры о том, кто наследует королеве, можно было в лучшем случае лишиться ушей, но при дворе редко говорили о чем-либо еще. А в последнее время «что либо еще» все же появилось: какая-то странная враждебность по отношению к нему, Грэшему. Люди отворачивались, когда он проходил мимо… Или его живое воображение чересчур разыгралось?
— Поэтому-то вы туда и отправились, — сказал Манион, продолжая разговор. — Вечно вы ищете опасности и любите власть. А еще — хорошеньких девиц.
— Ну, без внимания самой пожилой из девушек я бы обошелся, — заметил Грэшем.
Королева старела, и параллельно с этим росло ее желание окружать себя молодыми мужчинами. Грэшем не без тревоги осознавал, что он сам является теперь частью ее «коллекции». Они уже чувствовали особый запах столицы. Запах дров, горевших в печках Кембриджа, легче и приятнее запаха горевшего угля, а лондонцы сжигали горы угля в своих печах. Ко всему прочему добавлялась вонь от огромного количества мусорных свалок и нечистот. Огромный город был весь насыщен отбросами его обитателей, двуногих и четвероногих, помоями, которые выливали из кухонь прямо на городские улицы. Большая река принимала столько дряни, сколько могла принять, и запах от нее исходил странный — пахло одновременно затхлостью и свежестью. Зато в центре Лондона перемена ветра могла принести свежий, приятный воздух с полей Хайбери и Ислингтона, откуда каждым утром во дворец приносили свежее молоко. Ночную темноту разбавлял свет факелов, фонарей и свечей. В дневное время над городом висел туман или смог, и только серебристая Темза оставалась самой светлой частью города даже в ненастное время. А еще в Лондоне постоянно стоял страшный, оглушительный шум. Казалось, весь свет собирался на лондонских рынках, и все по очереди оглушительно выкрикивали там новости, обращаясь к тем, кто желал и не желал слушать. Улицы города напоминали бурную реку, попавшую в тесное ущелье. Они кишели людьми, лошадьми, быками, овцами, неуклюжими деревенскими телегами и гремящими экипажами.
Поскольку Грэшем и Манион приехали из Кембриджа, им следовало въехать в город через Восточные ворота, а затем — через весь город, чтобы добраться до величественного, но пришедшего в запустение особняка, унаследованного Грэшемом от отца. Удобнее было бы оставить лошадей около Тауэра и добраться до места по Темзе на лодке. Но Грэшему хотелось, чтобы лондонская суета подбодрила его унылый дух, напомнив ему о тех днях, когда он еще ребенком без гроша в кармане бродил по этим узким улочкам где и сколько хотел, когда, не имея друзей и близких, учился трудной науке выживания и сумел овладеть ею. Он ждал в библиотеке — своей любимой комнате в особняке, — уже одетый в придворное платье. Манион сидел рядом. Высокие витражные окна выходили на Темзу. Кто знает, может быть, во время его следующего визита здесь, на Темзе, уже будут стоять испанские корабли, а ядра из их пушек будут крушить дорогостоящие окна? Внезапно его размышления нарушил шум и стук копыт во дворе, а потом Грэшем услышал громкий, жизнерадостный мужской голос. Появление дворянина Джорджа Уиллоби, который после кончины своего престарелого отца должен был стать лордом Уиллоби, никогда не оставалось незамеченным. Джордж Уиллоби по праву мог считаться одним из самых некрасивых людей на свете: его лицо, изуродованное многочисленными оспинами, из-за ошибки повитухи к тому же выглядело слегка перекошенным — рот с левой стороны съезжал книзу, создавая впечатление постоянной гримасы на лице, а левое веко над черным глазом всегда оставалось полузакрытым. Дюжий детина, он всегда любил идти напролом, не считаясь с препятствиями. — До чего же ты страшен, сукин сын! — добродушно сказал Грэшем, обрадовавшийся приходу своего единственного друга (если не считать слуги). Входя в библиотеку, Джордж тут же свалил маленький столик с возвышающимся на нем кувшином с водой.
— Ах, черт побери! Мне, право, очень жаль! — начал извиняться Джордж. Он часто ронял разные вещи, но так и не привык к такому своему свойству, крайне неприятному ему самому. Он всегда что-то крушил, и всегда его мучили угрызения совести из-за этого. Но вот его странное лицо озарилось улыбкой. — Ты ошибся, господин из Грэнвилл-колледжа, по крайней мере, в одном отношении. Я страшен, а ты — сукин сын.
Друзья обнялись. Грэшем редко бывал в таком хорошем расположении духа, как сейчас, когда снова видел старого друга. Только два человека могли так фамильярно обращаться с Грэшемом, и только одному человеку, кроме него самого, позволялось безнаказанно говорить с Джорджем о его уродстве.
— Не обращай внимания на слугу, — сказал Грэшем. — Он опять слишком много себе позволяет.
Джордж разжал свои медвежьи объятия и выпустил Грэшема. Повернувшись к Маниону, он сказал, обращаясь к нему:
— Ты опять говоришь его милости правду? Я же тебя предупреждал! Я ведь знаю его дольше твоего. Надо ему льстить. Люди богатые не воспринимают правду. Особенно люди молодые, у которых ум не в голове, а в чреслах.
Он протянул Маниону свою лапу как равному, и тот пожал ее. Джордж нравился слуге, не обращавшему внимания на его внешность. Манион судил о людях по их сердцу, а сердце у Джорджа было большим и справедливым.
— Нынче вечером лести и так будет довольно, — заметил Грэшем, открывая бутылку доброго испанского вина, принесенного слугой из погреба. Если и было что-то странное в том, что два джентльмена и слуга вместе сидели за бутылкой, то никто из троих уж точно не замечал подобных вещей.
— Все верно, — сказал Джордж. — Королеве будут говорить, будто танцует она несравненно, выше всяких похвал, и что она вообще идеал красоты. В ее честь тут же напишут несколько сонетов, хотя она — старуха, бледная, как беленая стенка.
— Ты ведь сообщишь об этом сегодня ее величеству, не так ли? — осведомился Грэшем невинным тоном. — Интересно, что тогда случится с твоей головой?
— Моя голова крепче держится на плечах, чем твоя, Генри, — ответил Джордж. В его тоне появилась неожиданная резкость, удивившая его друга. — Говорю тебе, ты играешь с огнем! Кому-кому, а тебе сегодня лести не дождаться. Ты столкнешься только с завистью, если не с ненавистью. Ты все еще намерен оставаться одним из людей Уолсингема? Сейчас наступили опасные времена.
Уолсингем являлся главным шпионом Елизаветы. Человек пожилой и подорвавший свое здоровье, он долгое время финансировал из собственного кармана обширнейшую и достаточно вредоносную сеть информаторов в Европе. Уолсингем завербовал Грэшема, когда тот еще был бедным студентом-первокурсником. Когда же благодаря неожиданному наследству Грэшем вдруг сделался сказочно богат, то остался на службе у Уолсингема: Генри не мог обходиться без чувства риска и игры с опасностью, ставшими для него чем-то вроде зелья.
— Жизнь вообще штука опасная, — заметил он беспечно.
При всех своих дурачествах Джордж Уиллоби обладал острым умом. Он также до странности хорошо знал придворную жизнь. Если Грэшем чувствовал себя по-настоящему только в Кембридже, то для Джорджа стали повседневной жизнью рассуждения о том, кто — в фаворе, а кто — не в фаворе, чья звезда сейчас восходит, а чья уже закатилась. Странно, но человек, столь простой с виду, обожал заниматься жизнью ненадежного придворного мира.
— Но именно сейчас время на редкость опасное, — возразил он. — И опасное вдвойне с тех пор, как мы решили казнить королеву Марию Шотландскую.
Грэшем ничего не ответил.
В жилах Марии Стюарт, дважды законной королевы — и Франции, и Шотландии, текло достаточное количество крови английских королей, и она могла стать не только преемницей королевы Елизаветы, но и ее наследницей в настоящее время. Она бежала в Англию, когда Шотландия восстала против нее, и, к несчастью для себя, оказалась пленницей своей кузины Елизаветы, хотя и потом Мария оставалась центром заговоров. И вот в феврале ее казнили. Одна королева приказала убить другую. Католическая королева была убита по воле незаконнорожденной протестантки Елизаветы. Причем Генри Грэшем знал: он до конца своих дней будет сожалеть о той роли, которую он сам сыграл в этом деле.
— Хоть ты лично и участвовал в этом, — продолжал Джордж, подливая себе вина, — многие у нас говорят, что казнь Марии Шотландской — роковая ошибка. В политическом смысле это действительно так.
— Уолсингем придерживался совсем другого мнения, — сказал Грэшем. — Он считал, что держать у нас католичку — королеву с законными правами на престол — значит пригреть змею на груди и провоцировать свержение Елизаветы. Кажется, я достаточно точно его цитирую.
— Можешь цитировать его как угодно, но не забывай: в наше время все меньше людей к нему прислушиваются. — Джордж в возбуждении встал со своего места. — Ты никогда не знал жизни двора, — продолжал он, обращаясь к другу, словно отец, наставляющий сына. — То, что столь долго считалось само собой разумеющимся, теперь больше таковым не является. Королева постарела, Генри, пусть говорить так для придворного и значит рисковать головой. И лорд Бэрли стар…
При этих словах все трое встали и преувеличенно низко поклонились друг другу. Чужаку это показалось бы странным, но трое молодых людей лишь выполнили издавна принятый у них ритуал, совершаемый, когда они упоминали Бэрли, статс-секретаря королевы, поскольку лорд Бэрли отличался слишком большим пристрастием к протокольным формальностям.
— Смейтесь-смейтесь, — заметил Манион, — только не забывайте: вы смеетесь над самым могущественным человеком в Англии.
— В самом деле? — переспросил Джордж. — Скорее, он считался таковым раньше. Ходят слухи, будто он выжил из ума. Старая гвардия уходит, надо осознать это. Уолсингем серьезно болен. У королевы нет наследника, да нет и ясного закона о престолонаследии. Диво ли, что при дворе начинается смута? У нас довольно внутренних угроз, чтобы добавлять к ним еще и внешние.
— Внешние? — переспросил Грэшем, невольно заинтересованный.
— Да, после казни королевы-католички при дворе началась настоящая паника. Для Испании это событие стало последней каплей.
Король Филипп Испанский однажды уже правил Англией в качестве супруга Марии. Сие обстоятельство и злосчастное родство с Тюдорами дали Испании некоторые основания для притязаний на английский трон. Но самое главное — Филипп, и так уже имевший власть над многими странами, яро ненавидел протестантскую Англию, восставшую против римско-католического правления. Джордж захохотал, вспомнив в связи с этим пикантную шутку.
— Наши епископы наложили в штаны, — сказал он. — Говорят, один из них упал в обморок, когда кто-то жарил мясо на огне. Сказал: запах напоминает ему запах костров инквизиции. — Говорят еще, половина наших епископов начала учить испанский язык, — усмехнулся Грэшем.
— Да многие из них и на родном языке говорят через пень колоду, — заметил Манион. Он не жаловал, во-первых, английское духовенство, а во-вторых — испанцев.
— А что серьезные люди при дворе думают о престолонаследии? — спросил Грэшем. Джордж должен знать подобные вещи. Если об этом вообще что-то говорится, то ему это известно. Ближайшим наследником, вероятно, считают Якова VI Шотландского, сына казненной Марии Стюарт.
— Мнения разделились, — отвечал Джордж. — Одни ставят на короля Испании, другие — на короля Шотландии; есть и такие, которые считают, что королеве еще не поздно выйти замуж за кого-то из английских аристократов, человека моложе ее, и тогда мы получим короля.
— Замечательно! — воскликнул Грэшем. — Ведь каков выбор! Либо нашим королем становится король Испании, и тогда страну раздирают религиозные войны. Либо король враждебной Шотландии — причем мы только что казнили его мать — и тогда нас ждет гражданская война. Или же это будет кто-то из Эссексов, Лейстеров или даже Уолтер Рэйли — причем любой из них начнет распрю с двумя другими и будет угрожать половине знатных семей страны как гражданской, так и религиозной войной!
Граф Лейстер — старинный фаворит королевы — постепенно уходил в тень, вытесняемый молодым красавцем Робертом Деверю, графом Эссексом. Сэр Уолтер Рэйли пользовался славой «джокера» в придворной колоде.
— Хватит думать об опасностях для страны, — заметил Джордж. — Подумай лучше об опасности для себя самого.
— Ну да, — вставил Манион. — Я ничего не смыслю в политике, но и мне ясно: эти политики вам завидуют. Завидуют вашему богатству, внешности, вашему успеху у женщин и все такое. Ну и конечно, тому, что королева на вас обратила внимание. А вы с этими… вашими девушками… не слишком досаждали другим мужчинам? — спросил он вдруг.
Грэшем усмехнулся. Он никогда в жизни не обидел ни одну женщину, общаясь со многими из них ко взаимному удовольствию.
— Чего никогда не видел, о том не горюешь, — отвечал он.
— Может, и так, — сказал Манион, — только есть два или три лорда, видевшие вас в постели со своими молодыми женами.
Теперь наступил черед Джорджа.
— Известно, что ты имел отношение к Уолсингему, — сказал он. — Конечно, точно никто ничего не знает, иначе тебя убили бы в какой-нибудь темной аллее. Уолсингем стар, и дни его сочтены. Звезда его закатилась. Никто не знает, что будет, когда после его кончины обрушится вся его империя. Но для многих при дворе ты — молодой выскочка, вовлеченный во множество темных дел за последние годы. А теперь еще королева тебе благоволит. Мало ли что, по их мнению, ты мог ей нашептать! Для придворных ты превратился в головную боль. К тому же у тебя нет друзей, если не считать меня и этого верзилы. — Он указал на Маниона. — Господи, помоги нам!
— Что же ты мне советуешь? — спросил Грэшем. — Благодарю за предупреждение об опасностях, но теперь скажи, как от них избавиться.
— Во всяком случае, ты можешь сделать это дело чисто и опередишь их, — добавил Джордж весело. Одним из свойств этого человека было умение уйти от серьезного разговора, сняв напряженнее помощью, как ему казалось, веселой шутки. — Разве что тебе самому удастся найти решение, которое мне и не снилось, так что я разину рот от удивления. Знаешь, как ни странно, я умею просчитывать шансы. Большинство людей (кроме тебя) считают меня дураком, но я действительно умею это делать. А твое дело — выбрать лучший из шансов.
— Ты знаешь, что Уолсингем заставлял меня делать, ты и еще Манион. — сказал Грэшем. — Ты советуешь мне отречься от него?
— Если бы я мог знать точно! — ответил Джордж. — Считаю ли я, что это умно — посещать тайные мессы по указанию Уолсингема? Конечно, нет. Для этого у нас тут климат не тот. Особенно если учесть, что я не знаю, до какой степени твоя тяга к католицизму является игрой.
— Я же говорил тебе, — усмехнулся Грэшем. — Моя первая кормилица была католичкой. Когда я не мог сосать ее грудь, я сосал ее четки. Знаешь, это ведь накладывает отпечаток на человека.
— Я мог бы заметить тебе, — ответил Джордж, — что твое легкомыслие и болтливость раздражают людей. Но так как ты обожаешь злить людей, это только доставит тебе еще больше удовольствия. Все, о чем я говорю тебе, — будь осторожен. Слишком много влиятельных людей умолкают, как только речь заходит о тебе. А теперь пошли еще и новые разговоры. Можно тебя кое о чем спросить?
— Конечно.
— Получал ли ты какие-то деньги из Испании? По правде сказать, возникли слухи, будто ты испанский шпион. Я знаю, ты никогда не предашь Англию, но ты мог втянуться в какую-то игру просто ради риска и интереса. Ну, что скажешь?
— О чем именно? Ты ведь, кажется, задал два вопроса: не испанский ли я шпион и беру ли я деньги от испанцев.
— Перестань болтать! Я твой старый друг и заслуживаю прямого ответа.
— Ну ладно, — ответил Грэшем. — На один вопрос я отвечу «да», а на другой — «нет». А ты уж сам поработай головой и реши, какие вопросы я имею в виду.
Джордж выругался, услышав его ответ, и через минуту оба молодых человека катались по полу, как два школьника, которым вздумалось бороться.
— Ну вот что, — вмешался Манион, привыкший к тому, что разговоры двоих друзей иногда заканчивались драками, — я всего лишь простолюдин. Но я твердо знаю, хозяин, — если ваша голова попадет на плаху, то и моя последует за ней. И я сам хотел бы, чтобы вы послали подальше милорда Уолсингема, мастера темных дел. Тогда и мне будет спокойнее.
На сей раз схватка двух друзей кончилась победой Грэшема, положившего Джорджа на лопатки.
Они добрались на лодке до Уайт-холла. Пристань была ярко освещена факелами. Их отражения создавали причудливые фигуры в темной воде Темзы.
— Умно ли это? — спросил Грэшем, перед тем как выйти из лодки на берег.
— То, что ты сюда явился? — осведомился Джордж.
— Нет, олух несчастный! Я имею в виду все происходящее.
— Ты хочешь сказать, умно ли, что ее величество королева Елизавета устраивает большой прием в честь заурядного дворянина из Нидерландов, именующего себя послом, хотя у него даже нет денег, чтобы не выглядеть голодранцем? Может быть, и не очень. Ясно же — мы просто поддерживаем мятежников в стране, которую Филипп Испанский считает своей, ведь он, судя по всему, хочет напасть на Англию и покончить с протестантской ересью раз и навсегда… Нет, должно быть, мудрости тут нет никакой. Но во всяком случае, для этого нужно иметь мужество.
Уже много лет продолжалось восстание протестантских Нидерландов против католической Испании, считавшей эту страну своей провинцией. Английские деньги и английские войска (хотя и того и другого было не слишком много) помешали испанцам одержать полную победу над Нидерландами. И все же испанская армия, самая могущественная в Европе, стояла в Нидерландах под командованием герцога Пармского, слывшего непобедимым; и многие полагали, что король Филипп II пошлет ее в Испанию, когда его терпение лопнет. И вот сейчас Елизавета устраивала официальный прием в честь посла протестантских Нидерландов, хотя это было все равно что дразнить быка, от которого нечем защититься. Что же совершала в этом случае королева: вела хитрую игру или просто делала глупость?
При дворе Елизаветы все было не тем, чем казалось. Казалось, будто свет факелов, свечей и ламп прогнал темноту прочь, пока человек не открывал, что в большей части дворцовых покоев свет вообще не горит. Во время ужина при дворе объявляли блюдо за блюдом, но вскоре гости начинали понимать: каждое из них приготовлено в небольшом количестве, и каждому достается очень немного (если вообще что-то достанется), а дворецкий нарочно назначает ужин на довольно позднее время, давая людям возможность успеть поесть дома.
Что до вин, то дворецкий предлагал «дорогим гостям» лучшие напитки, но они как-то слишком быстро кончались, хотя далеко не все успевали их даже попробовать.
Грэшем с грустью смотрел на странную, подозрительного цвета жидкость в своем кубке, размышляя о том, как бы ее не выпить и в то же время соблюсти приличия. Королева пока не приставала к нему, но впереди маячили танцы, и она еще могла с лихвой восполнить свое «упущение».
— Граф Лейстер шел прямо на тебя, как будто тебя тут нет, а граф Эссекс демонстративно повернулся к тебе спиной, — заметил Джордж.
— Они ревнуют, вот и все, — махнул рукой Грэшем, еще не пьяный, но расслабившийся и почувствовавший легкость. — Они боятся, что королева поймет, насколько я лучший любовник по сравнению с ними. — Он поставил перед собой цель напиться по-настоящему, и как раз в это время кто-то подошел к нему сзади и заговорил так, будто прочел его мысли:
— Не надо сегодня пить слишком много. Вам еще может понадобиться ваш разум.
Черные глаза сэра Фрэнсиса Уолсингема смотрели все так же проницательно, и рамки придворной любезности по прежнему не могли скрыть силы и властности, присущей этому человеку. Грэшема поразило его внезапное появление здесь. Уолсингем обычно избегал увеселений, предпочитая проводить вечера в тишине своего дома в Барнсе.
— Сэр Фрэнсис! — воскликнул он, маскируя поклоном свое смущение. Джордж тут же куда-то исчез, а Манион оказался на таком расстоянии, откуда он мог наблюдать за происходящим, не слыша ни единого слова.
Какая-то игривая молодая дама, делавшая вид, будто хочет ускользнуть от навязчивого кавалера, случайно оказалась между двумя мужчинами, но, увидев Уолсингема, побледнела, пролепетала извинения и поспешно удалилась. Мало кто при дворе мог внушать людям такой страх, как он.
Появился наконец и посол. Действительно, как предсказывал Джордж, неказистый, в будничной одежде. Он стоял с глупой улыбкой на лице, пока слуга торжественно докладывал о его появлении. Уолсингем бросил повелительный взгляд на Грэшема.
— Пойдемте, — сказал он. — Речи будут продолжаться еще долго, а ее величество не появится здесь еще полчаса (именно столько времени нам всем следует здесь находиться).
Он показал молодому человеку на дверь в смежную комнату, где у горящего камина располагался столик со свечами и два стула. Уолсингем явно все подготовил заранее. Старомодный широкий плащ, подбитый мехом, подчеркивал худобу старого, но властного человека. Жестом он указал Грэшему на стул и сел сам.
На столе стояло подогретое вино, хотя было неясно, кто и когда успел его приготовить.
— Я вас благодарю за то, что вы уже сделали и продолжаете делать, — заговорил старик, наполняя кубки, — ведь вы при этом рискуете.
— Риск меня устраивает, милорд, — отвечал Грэшем. — Меня беспокоит одно — я слишком мало знаю о том, чего ради мне предлагают выполнить то или другое.
— Я всю жизнь стремился как можно больше знать, — ответил Уолсингем. — Я полагал: знание — корень реальной власти. Теперь же я понял: самую надежную защиту часто дает незнание. Слишком большие знания мешают нам быстро принять решение, заставляя нас чересчур много думать. Умерьте вашу молодую жажду познания. Если бы кому-то из людей возможно было знать все!
Грэшем не стал продолжать спор. Он знал: спорить с Уолсингемом бесполезно. Имело смысл лишь слушать его доводы, чтобы потом исполнить его поручения (если удастся их исполнить). И слишком многие люди, те, кто не мог или не хотел следовать его распоряжениям, лежали теперь на дне Темзы, так что у его агентов не осталось никаких иллюзий насчет свободы выбора.
— А видеть я вас хотел вот почему, — продолжал старик. — Сейчас мы наконец-то начали что-то предпринимать против наших врагов — после того как не стало проклятой проходимки.
Уолсингем говорил спокойно, но Грэшем знал всю силу его ненависти к Марии Стюарт. Этот человек был не из тех, кто боялся, что ее казнь спровоцирует войну между Испанией и Англией. Для него Мария являлась знаменем всех католиков в Европе и в самой Англии, которые только и ждали удобного случая, чтобы попытаться уничтожить Елизавету и протестантов.
— С опухолью на теле не вступают в переговоры, ее вырезают, — заметил как-то Уолсингем по этому поводу.
Грэшем знал: старик — фанатичный приверженец протестантизма, Англии и ее королевы.
— Вместе с тем, — продолжал он, — королева подозревает о моем участии в этом деле, и я потерял ее расположение, как и все, кто слишком добивался гибели Марии.
Грэшем старался не показывать своего удивления. Уолсингем потерял ее расположение! Один из тех людей, которые и были опорой ее власти.
Уолсингем криво усмехнулся.
— Министры время от времени теряют расположение королей, это в природе вещей, — продолжал он. — Королева не может не опасаться за свою жизнь, когда казнят такую же королеву, как она сама. Но это пройдет. Королева прежде всего реально смотрит на вещи. Пока же для меня доступ к ее величеству ограничен. К тому же я хвораю, а ее величество не любит напоминаний о старости и о том, что та за собой влечет. Насколько вы знакомы с придворной политикой, Грэшем?
— По правде говоря, весьма мало, милорд.
— В таком случае я преподам вам ускоренный урок. Лорд Бэрли играл главную роль при дворе королевы с момента ее воцарения. Только не надо из лести убеждать меня в обратном. Я принимаю свою вторую роль. Но сейчас мы оба уже стары. Наши дни идут к закату, особенно мои. Графы Лейстер и Эссекс видят себя преемниками Бэрли, и, кажется, даже пират Рэйли готов попытать счастья.
— Да ведь это повод для гражданской войны! — откровенно заявил Грэшем.
— Вполне возможно. Но Бэрли надеется, что его второй сын, калека Роберт Сесил, станет вместо него первым министром. Битва между Эссексом и Сесилом обещает стать интригующей. Порода против способностей. Физическая красота против увечья.
Интересно, зачем Уолсингем ему все это рассказывает? Но каковы бы ни были неизведанные причины действий загадочного человека, упоминание о Сесиле вовсе не обрадовало Грэшема. Хотя Роберт Сесил был старше Грэшема, у них случались столкновения и в Кембридже, и здесь, при дворе. Сесил не был ни другом, ни союзником Грэшема.
— Роберт Сесил меня не жалует, — заметил он.
— Сесил считает, вы придумали прозвище, которым его наградила королева. Не очень умно с вашей стороны, если это правда.
Являлись ли его слова предостережением? Королева называла низкорослого и кривобокого Сесила «мой пигмей».
— Клянусь, я здесь ни при чем! — заверил Грэшем. Он не соврал, хотя вполне мог сделать нечто подобное, если бы это ему пришло в голову. А ведь из таких недоразумении рождались ненависть и вражда, пропитавшие маленький, но злой придворный мир.
— Как бы там ни было, мы готовы нанести католикам новый удар, — продолжал Уолсингем. — Я не в фаворе, но мне удалось убедить ее величество разрешить Дрейку провести атаку в Лиссабоне или в Кадисе. Это наша единственная надежда. У нас нет армии, способной противостоять испанцам, если армия герцога Пармского высадится на наших берегах. Наша мощь — в нашем флоте, и мы должны нанести по испанцам удар на море прежде, чем они атакуют нас.
Грэшем терпеть не мог море.
— А при чем здесь я? — спросил он.
— Мне нужны глаза и уши за границей. Для вас найдется место в экспедиции Дрейка. Он высадит вас на берегу в ночное время, чтобы вы могли, добравшись до Лиссабона, дать мне столь необходимую нам информацию о флоте Филиппа. А после атаки мне понадобится ваша информация из первых рук — о боевых качествах наших моряков и наших кораблей. Ну, и о том, как проявят себя их командиры.
— В такое время, как наше, трудно быть англичанином в Испании или в Португалии, — заметил Грэшем.
— Стоящее дело редко бывает легким, — отвечал его шеф. — А для вас это все же легче, чем для многих. Вы свободно говорите по-испански, и, кажется, у вас есть испанцы друзья, по крайней мере благодаря мне. — Взгляд Уолсингема ничего не выражал, но молодому человеку показалось — шефа разведки беспокоят его испанские связи. — Итак, согласны ли вы выполнить мое поручение?
Грэшему было не по душе, что его воспринимают как вещь. Он очень не любил море и, по его мнению, заслуживал чего-то лучшего, нежели поручение считать корабли в чужеземных портах. Поручение, несомненно, опасное, но в нем отсутствовала всякая романтика, делавшая опасность привлекательной. И потом, зачем Уолсингем упомянул о Сесиле?
— К вашим услугам, милорд, — ответил Грэшем. — Но почему вы заговорили о Роберте Сесиле?
— Дело, которое я собираюсь вам поручить, слишком деликатное, чтобы использовать агента-связника. Вы, очевидно, в близком будущем будете общаться с Робертом Сесилом, а он и даст вам окончательные распоряжения. Поскольку я болен, он может быть мне полезен. Вам надо забыть ваши детские разногласия и воспринимать его как моего представителя.
Роберт Сесил, цепкий карьерист, карабкался вверх по лестнице власти, поддерживаемый своим могущественным отцом; однако отец нажил себе сильных врагов, которые чинили препятствия как ему, так и его сыну. Но каковы планы самого Уолсингема? Действительно ли он сделал ставку на Сесила?
— Сейчас мы должны вернуться и ожидать прибытия королевы, — снова заговорил Уолсингем. — И прощу вас умерить ваше самомнение. Королева вызвала вас сюда не ради ваших мужских прелестей, а потому что я попросил ее об этом. Кое-какое влияние у меня, кажется, осталось.
Уолсингем поднялся, но внезапный приступ боли заставил его согнуться вдвое. Если бы Грэшем не поддержал его, он бы упал на пол.
— Милорд! Сэр… — бормотал смущенный Грэшем. Он ни разу не видел всесильного человека в таком состоянии. Молодой человек сообразил усадить Уолсингема на стул. Тот два раза простонал, и лицо его исказилось от боли. Потом, видимо, боль стала утихать, и старик открыл глаза.
— Камни, — проговорил он. — С ними ничего не поделаешь. Боль острая, но проходит. Самое скверное; она возникает без предупреждения… Однако вам надо идти. Важно, чтобы королева заметила вас, когда она придет приветствовать посла. Это даже важнее моего присутствия. Идите.
Когда дверь за молодым человеком затворилась, Уолсингем легко встал со стула как ни в чем не бывало. На самом деле он знал, когда примерно может случиться приступ. Настоящее недомогание наступит в другое время. Уолсингем разыгрывал боль и слабость, когда он хотел от кого-то отделаться.
— Мы одни. Вы можете свободно выходить, — сказал он, обращаясь к невидимому собеседнику.
Роберт Сесил выбрался из-за гобеленов, где подслушивал разговор Уолсингема с Грэшемом. Он неуклюже прошествовал к стулу, слегка поклонился Уолсингему и дождался его позволения сесть.
— Ну, сэр, вы узнали то, что хотели? — спросил Уолсингем.
— Я очень признателен вам, сэр Фрэнсис, — начал Сесил. — Я…
— Я не люблю задавать вопросы, — прервал его Уолсингем. — И откровенно говоря, я бы не поверил вашим ответам. Ваш отец попросил меня встретиться с вами в отплату за прежние услуги, и я согласился. Вы попросили о возможности увидеть одного из моих… молодых людей. Так как это не мешало моим планам, связанным с этим человеком, я согласился. Я заплатил долг. Вы получили то, что хотели… Но если бы в жизни все было так просто!
Они некоторое время помолчали.
— Признаюсь, я удивлен, милорд, тем, что вы не хотите узнать больше о моих мотивах, — сказал наконец Роберт Сесил.
— Я понимаю — вы, конечно, можете мне о них рассказать, но ведь, если быть честным, ваш рассказ с одинаковым успехом может быть и правдой, и ложью.
— Сэр! — возвысил голос Сесил с видом оскорбленного достоинства. — Для меня оскорбительны ваши обвинения во лжи!
Уолсингем поглядел на него и насмешливо улыбнулся.
— В таком случае вы слишком легко обижаетесь, а значит, недолго продержитесь при дворе, — сказал он. — Я ведь знаю вам цену. — Последние слова прозвучали емко и веско. В них Уолсингем словно вложил свой многолетний опыт, знание людей с их слабостями и глупостями, тщетой их устремлений.
— Простите, сэр? — На сей раз Сесил явно смутился.
— Вы родились в мире власти, воспитывались в нем и смотрите на власть как на свое право. Вы всосали любовь к ней с молоком матери и усвоили ее через отцовское воспитание. А теперь источник вашей власти, ваш отец, слабеет так же, как и я, ведь время — единственный враг, победить которого мы с вашим отцом не в состоянии.
— Я готов скромно служить ее величеству…
— Полно, не такой уж вы скромник, мистер Сесил. А служите вы прежде всего собственной власти и собственным интересам. Да не волнуйтесь. — Уолсингем поднял руку, предупреждая новый приступ красноречия, и продолжал, уже почти с сочувствием: — Многие люди сослужили хорошую службу своим монархам, служа на деле самим себе. Вы, кажется мне, из таких.
Сесил оправился от смущения.
— Кажется, вы слишком много знаете, — ответил он ледяным тоном.
— Я понимаю, кто вы, — ответил старик. — Вы готовы изворачиваться, ища преимуществ, вы держите нос по ветру и чувствуете опасность, подобно зверю, как чувствуете и благоприятный ветер. Мы с вами разные люди. Вы отличаетесь даже от вашего отца. Господь свидетель, я достаточно честолюбив. Но я всегда знал, что служу прежде всего Господу, потом моей стране, затем моей королеве. Вы можете нести такую же службу и делать это прилично, но на деле вы служите лишь себе.
— Королеве было бы интересно услышать, в каком порядке вы перечислили ваши приоритеты, — ухмыльнулся Сесил.
— Она пока что не станет слушать подобные вещи от вас, — ответил Уолсингем. — Вам еще долго предстоит карабкаться по лестнице успеха, прежде чем вы удостоитесь подобного доверия с ее стороны.
Ненадолго снова воцарилось молчание, затем Уолсингем заговорил:
— Отвечая на вопрос, который вы не решаетесь задать, скажу: у вас будет возможность узнать Генри Грэшема, и я не сомневаюсь, что вы сможете использовать это знание с пользой для себя. Я со своей стороны не вижу для этого препятствий… пока не вижу. Но учтите — у этого молодого человека есть свои идеи. Ну, на том и порешим. Будьте здоровы, Роберт Сесил!
Уолсингем добился своего. Пусть Роберт Сесил будет новым человеком у власти, но он, Уолсингем, уйдет из жизни, только когда будет угодно Небу. А пока пусть этот новый человек остается под его контролем. Уолсингем сомневался в доброжелательности Сесила по отношению к Грэшему. Но кто знает, насколько ценным окажется знание планов Сесила для Уолсингема, когда он должен будет принять окончательное решение.
— Рад видеть тебя живым, — прошептал Джордж, когда Грэшем вернулся в большой зал. Манион стоял рядом, по своему обыкновению, прислонившись к стене — он делал это, чтобы люди принимали его за одного из королевских слуг. — Расскажи, чего он хотел от тебя?
— Хотел, чтобы меня прихлопнули или повесили в Лиссабоне в качестве английского шпиона, — мрачно ответил Генри. Он тут же рассердился на себя за то, что излил свою горечь перед своим другом, и не стал поддерживать дальнейший разговор, тем более что обстоятельства не располагали к разговорам. Музыканты на галерее, одетые в роскошные зеленые ливреи (цвет Тюдоров), встали и затрубили в трубы, возвещая появление ее величества королевы-девственницы.
Грэшем с усмешкой отметил про себя: канделябры с самыми большими свечами были укреплены над сиденьем на возвышении под балдахином. Казалось, это не имеет смысла, пока из дверей позади сиденья, укрытых за портьерами, не вышла сама королева. Двери раскрыли перед ней двое ангелочков — пажи, с поклоном отошедшие в стороны, пропуская королеву вперед. И тогда все многочисленные драгоценные камни на ее платье, в ее колье, на ее перстнях засверкали, словно при ярком солнечном свете. Королеву нельзя было назвать высокой женщиной. Ее фигура, напоминавшая по форме песочные часы, стала с возрастом несколько более грузной. Ее роскошное черно-коричневое платье, украшенное искусным узорным шитьем, стоило столько, что на эти деньги можно было прокормить небольшой город в течение года. И хотя ее платье почти сплошь покрывали самоцветы, она носила еще и жемчужное колье, а жемчужная диадема покоилась на ее волосах.
— Вот это, я понимаю, выход, — прошептал Грэшем, наклонившись к Джорджу.
Гости невольно ахнули при виде Елизаветы. Затем раздались аплодисменты. При этих знаках восхищения со стороны придворных и гостей на губах Елизаветы появилась едва заметная улыбка. Она протянула послу руку, на одном из пальцев которой сверкало большое изумрудное кольцо. Бедняга, подавленный всем этим великолепием, не разглядел небольших ступенек, ведущих на возвышение, но не поднявшись на возвышение, он не мог дотянуться до руки королевы. Она бросила быстрый взгляд на одного из придворных, тут же подскочившего к послу, взявшего его под локоть и помогшего подняться. И все же посла угораздило споткнуться. Елизавета усмехнулась.
— Не бойтесь, сэр, — заговорила она (голос ее звучал странно низко для женщины), — я протягиваю вам руку дружбы, а не войны.
Взрыв смеха стал ответом на не самую удачную шутку королевы.
Однако придворные радовались и этому. Они знали по своему опыту — в любой момент их королевой может овладеть мрачный дух ее отца Генриха VIII. Они могли порицать, даже ругать ее в ее отсутствие за то, что она не дала Англии законного наследника, но здесь, в ее собственном дворце, когда она представала перед ними во всем царственном великолепии, нетрудно было понять, как ей удалось так долго удерживать прочную власть.
Королева пригласила на танец Грэшема совершенно неожиданно для него (то есть он предполагал такую возможность, но не думал, что это произойдет так быстро). Пока он танцевал с другими, сложные па поглощали все его внимание, и он и не заметил, как Елизавета оказалась рядом с ним. Королева по-прежнему прекрасно танцевала медленные танцы. Капли пота оставляли следы на ее набеленном лице. Глаза Елизаветы были маленькими и узкими, точь-в-точь как у ее отца на портретах, которые не раз видел Грэшем. Весь вечер королева уделяла внимание графу Эссексу, к великому неудовольствию графа Лейстера. Но сейчас она, с видимой легкостью выполняя сложные движения танца, смотрела только на своего партнера.
— Вы еще не истратили все свои деньги, мастер Грэшем? — спросила королева. Общаясь с ним, она постоянно упоминала о его богатстве и так же постоянно говорила о собственной бедности. — Наверное, у вас ушло много денег, полученных в наследство, на все то, на что вы, мужчины, тратите деньги?
— Я бы охотно потратил свое наследство на подарки вашему величеству, — заметил Грэшем (он чувствовал себя очень напряженно, как всегда в таких случаях, но показывать этого было никак нельзя), — однако и самое большое в мире состояние мало что может добавить к той красоте, которой вас одарила природа.
По правилам танца они должны были уметь вовремя проскользнуть между другими танцующими парами (всего их было пятнадцать или двадцать), и Грэшем иногда замечал брошенные на него ненавидящие взгляды других придворных.
— Ваши слова производят впечатление, молодой человек, — заметила королева, — тем более у вас почти нет возможности их обдумывать. — Она помолчала немного и добавила: — Будьте осторожны. Здесь есть люди, относящиеся к вам как к придворному выскочке.
«А к вам, ваше величество, — подумал Грэшем, — кое-кто здесь относится как к незаконнорожденной дочке блудницы Анны Болейн, которую к тому же многие считали ведьмой. Но ведь вам это не мешает».
— Благодарю вас, ваше величество, — сказал он скромно. — Но все же иногда выскочки держатся в жизни лучше, нежели те, кому в жизни все доставалось легко.
Господи, что он такое болтает! Ему оставалось только сказать королеве: «Незаконнорожденные должны держаться вместе». Глаза королевы оставались непроницаемыми. Они расстались, поклонившись друг другу, как того требовал этикет, он — низко, она — слегка, так, чтобы это не выглядело пренебрежительным, но и не расценивалось как знак внимания.
— Ну, это было занимательно, — объявил Джордж, усадив его за один из столиков для гостей. Он где-то раздобыл какую-то еду и наполовину полную бутылку вина. Слугам не позволялось сидеть за одним столом с господами, а потому Грэшем отослал Маниона на кухню, где, как свидетельствовал опыт, можно было найти даже лучшую еду и напитки, а заодно Манион мог поразвлечься там с какой-нибудь служанкой.
— Что именно? — переспросил Грэшем. — От её дыхания может свернуться молоко на расстоянии пятидесяти шагов, и никто никогда не угадает, какой камень может оказаться у нее за пазухой. Я…
— Да я не о том, дуралей, — перебил его Джордж. — Кто говорит о тебе? Я о том, как сегодня принимали злополучного посла. Ты сам это заметил, олух из олухов?
— Что я должен был заметить? — Грэшем сейчас был озабочен прежде всего тем, как бы чего-нибудь выпить. События сегодняшнего вечера не располагали к трезвости.
— Королева не присутствовала, когда прибыл посол, и не слушала приветственную речь. Конечно, все выглядело весьма дипломатично, но он поднялся не выше определенного, довольно скромного, места. Нет, королева вовсе не стала выслушивать посла, как я опасался. Она просто пришла произвести на него впечатление. Продемонстрировать силу и богатство. Предполагается, он вернется в Нидерланды и расскажет там, как богата Англия и как великолепен ее двор.
— Но это бессмысленно, — заметил Грэшем. — Ведь когда они попросят у нас денег и людей, королева сможет только сказать, что она и так еле сводит концы с концами. — «Надо тратить меньше денег на собственные наряды, миледи», — подумал он.
— Нет, это имеет смысл! — воскликнул Джордж, в отчаянии от того, что его друг не понимает простых вещей. — Пока Нидерланды воюют с герцогом Пармским, у него вряд ли появится желание послать половину своего войска против Англии. А пока протестанты думают, будто Англия может дать им много денег и прислать солдат, они скорее всего будут продолжать драться с герцогом, а не пойдут на соглашение с ним. Ты что, совсем ничего не смыслишь в политике?
«Ничего или по крайней мере мало, — подумал Грэшем. — Но сейчас, когда я все больше втягиваюсь в это дело, мне надо учиться этому. Даже тот, кто хорошо умеет выживать, нуждается в уроках выживания».
Глава 2
Март-апрель 1587 года
Кембридж
В часовне пел хор. Певцов было немного, поскольку для Грэнвилл-колледжа лишь недавно наступили лучшие времена, но пели они здорово. Чистые, красивые голоса благодаря полуоткрытой двери слышались далеко. Видимо, дела Грэшема шли плохо, если его не трогала музыка. Он, часто для своего возраста знавший тяжелые переживания, сбрасывал груз гнетущих эмоций благодаря наслаждению музыкой. Но сейчас он с отсутствующим видом смотрел в окно, выходившее во внутренний двор. Комнаты на одного являлись роскошью в Кембридже. Членам совета нередко приходилось разделять комнаты со студентами. На самом кембриджском дворе покой (если он там и был вообще) нарушал шум, создаваемый рабочими, строившими новый флигель (первые последствия денег, которыми Грэшем подпитывал свой старый колледж). Две недели назад строительные леса обвалились, а на них находились пятеро человек. Один сломал обе ноги, другой — руку.
Грэшем пребывал в меланхолии. Снова и снова перед его мысленным взором появлялось лицо человека, убитого им на лугу.
— Выбросьте его из головы, — ворчал Манион. Он тревожился за хозяина. И почему он так остро все воспринимает? Мало кто знал правду о молодом человеке, с гордый видом шагавшем по улицам Кембриджа и Лондона, будто все окружающее его не волновало. Это была лишь маска, скрывавшая внутренний мир человека, склонного к сомнениям и страданиям. Кажется, лишь Манион знал истинное лицо хозяина.
— Что выбросить из головы? — спросил Грэшем тусклым голосом.
Маниона раздражало, что хозяин не любит, когда о нем заботятся. Генри был незаконнорожденным, имя его матери никогда не упоминалось. Эта странная история оставалась темным пятном на успешной карьере блестящего сэра Томаса Грэшема. К общему удивлению, он признал сына своим. Но детство мальчика было холодным, лишенным ласки и радостей. Сэр Томас скончался, когда Грэшему исполнилось всего девять лет. Он помнил: у него напрочь отсутствовало желание оплакивать эту кончину. Он видел, как другие дети плакали в подобных случаях, но считал слезы признаком слабости. С тех пор Грэшем стремился подавлять проявления эмоций.
И все же ему часто хотелось плакать.
Маленький Генри, у которого не было ничего, кроме кровати, стола и скудного пособия, рос нелюдимым и угрюмым, часто бесцельно слонялся по огромному особняку, а то и просто по улицам. Причем никто и не пытался удержать его от этого. Он ходил в школу один. И никто не замечал ни дырок в его одежде, купленной слугой, ни синяков на его теле — следов многочисленных драк с другими мальчиками, каким-то образом узнавшими о его происхождении. У него была еда, одежда, крыша над головой, но не было любви. И Генри даже не позволял себе желать, чтобы его любили.
Джордж впервые появился в его жизни, когда пятеро мальчишек загнали Генри в угол в школьном дворе. Двоих он тогда сбил с ног, но у третьего оказался камень, и он швырнул его Генри в голову, чуть не выбив тому левый глаз. У Генри кружилась голова, кровь заливала ему глаза, но он продолжал отбиваться вслепую. Тут Джордж и решил вмешаться. Он не любил неравных драк, и его восхитило неожиданное мужество и стойкость мальчика, на которого он прежде не обращал внимания. А потом в жизнь Генри Грэшема вошел слуга Манион, человек, заботившийся о нем и ставший вторым близким человеком для своего хозяина.
Грэшему тяжело далась степень бакалавра. Пытаясь свести концы с концами, он прислуживал за столом, терпя насмешки богатых, избалованных старшекурсников. Джордж предлагал ему деньги, Генри гордо отказывался. Джордж тогда учился в Оксфорде, он происходил из семьи, всеми корнями и традициями связанной с этим университетом. Визит юриста явился для Генри полной неожиданностью.
— Вы — богатый молодой человек, сэр, — заявил высохший, высокомерный старец, смотревший на Генри с таким выражением лица, как будто он обнаружил на дороге какое-то досадное препятствие. — Вы очень богатый молодой человек. Оказалось, отец Генри, являвшийся финансистом королей и королев, решил завещать свое огромное состояние незаконнорожденному сыну, как только тот получит степень.
Грэшем стоял перед ним в своей убогой комнатке (которую делил еще с тремя бедными студентами), где давно погас очаг, стоял в своей латаной-перелатаной одежде, уставившись на завещание. Неожиданно появившаяся в его жизни бумага означала: он никогда больше не будет терпеть холод и недоедать. Более того — он становился не только самым богатым человеком в Кембридже, но и одним из богатейших людей страны.
До сего момента задача казалась простой — выжить во враждебном к нему мире. Теперь же обстоятельства еще больше усложнились для Генри.
Его трудности в колледже не исчезли, только изменился их характер. Теперь все завидовали его богатству и к тому же почему-то считали его тайным приверженцем католицизма и осуждали за любовь к церковной музыке. Не помог и тот факт, что Генри стал не только одним из самых блестящих старших студентов Кембриджа, но и самым непредсказуемым. Его отсутствие в колледже из-за государевой службы также вызывало раздражение против него. Члены совета сговорились не дать ему степень, несмотря на прекрасное качество его работы. Жесткое послание Тайного совета (одна из немногих любезностей Уолсингема) поставило их на место, и Грэшем получил заслуженную степень. Но даже его сторонникам не понравилось вмешательство правительства. А избрание Грэшема членом Совета колледжа подлило масла в огонь.
— Все это похоже на странную шутку, — рассуждал Генри, расхаживая по маленькой комнате. — Люди рождаются на свет с криком. Несколько лет они стараются избежать болезней, и если повезет, это им удается. Они изобретают себе разные дела, чтобы было чем заняться. Затем они уходят из жизни и гниют в могиле. Много шума из ничего.
— Зря вы ходите в церковь на мессы, еще и меня с собой таскаете, — объявил Манион, поддерживавший религию больше теоретически, чем практически. — Я знаю одно: мы здесь, чтобы пить, есть и доставлять себе маленькие радости. — Манион понятия не имел ни о каких депрессиях. — Посудите сами. Разве Господь дал бы нам возможность получать удовольствия, если бы не желал, чтобы мы их вообще получали? Вот чего бы я не хотел, так это чтобы мною распоряжались поганые испанцы. — Манион имел зуб на испанцев, и его неприязнь особенно возросла теперь, когда все говорили о возможном испанском вторжении.
— В Испании по крайней мере есть цельность, вера людей в себя. Хотел бы я видеть в Англии что-либо подобное.
— Все-то вы чего-то хотели бы, — заметил слуга. — Вам бы поменьше хотеть, а побольше — просто жить!
— Значит, мне следует перестать думать, не так ли? — насмешливо спросил Грэшем.
— Ну, по крайней мере для начала перестаньте думать, будто Испания так уж хороша. Что там хорошего? Эти варвары хотят отнять у нас наших женщин и сжигают людей ради удовольствия. Вы дождетесь, что, когда на вас нападет враг, вы начнете думать, вместо того чтобы пырнуть его ножом. — Манион допил остатки эля из кружки, стоявшей на столе. — Главное — вы живы, а поганый испанец убит.
— Ладно, пошли, старина, — сказал Грэшем, внезапно вставая с места. — Поднимай свой зад со стула. Сейчас пытливая молодежь готова утолить жажду в «Золотом льве».
Хозяин вновь надел маску. Манион привык к его внезапным переменам настроения. Но чего человеку может стоить все время носить маску?
Ученые мужи зарабатывали репутацию и деньги благодаря студентам, привлекая их на свои лекции. Грэшем пользовался наибольшей популярностью среди студентов: в этом году пришлось искать новую гостиницу, чтобы вместить все возрастающее число тех, кто желал послушать Генри Грэшема. Боролся ли он таким образом с депрессией, или была тут иная причина, только он стал блестящим преподавателем.
Манион чувствовал себя чем-то вроде почетного профессора. В конце концов, здание, где Грэшем проводил свои занятия, изначально предназначалось для того, чтобы пить и есть, а кроме того, представляло собой вполне подходящее место для любовных утех.
— Не правда ли, Кембридж великолепен? — спрашивал, бывало, Грэшем.
— Чертовски, — отвечал Манион.
Пиво здесь было хорошим, но сейчас на улицах толпились студенты, преподаватели, извозчики, торговцы и просто местные жители. При всем великолепии колледжей, Кембридж, как считал Грэшем, больше похож на деревню, чем на город.
Только что прошедший дождь забрызгал прохожих грязью. Старик фермер гнал на базар стадо овец с помощью мальчишки, еще слишком малого для такой работы. Овечки не утомились от долгого перехода, а напротив, выглядели живыми и бодрыми. Они шли по той же дороге, что и люди, заставляя их потесниться, и то и дело сталкивались с кем-то из прохожих.
— Лучше не придумаешь, — продолжал слуга, шедший рядом с хозяином по какой-то раскисшей от грязи тропке. — Он стоит глубоко в низине, и воздух здесь воняет, как овечье брюхо. Чума здесь бывает так же часто, как в других местах восход или закат. Да еще университет ненавидит город, а город — университет, и эти ослы не могут понять, до какой степени они нужны друг другу. — Тут подул ветер и донес до них воздух с реки. Она по-прежнему являлась главной артерией Кембриджа и его главной сточной канавой.
— Ты стареешь, — усмехнулся Грэшем. — Здесь люди дерзают познавать мудрость, здесь жар горячих дебатов выжигает болотные испарения. Бурлит жизнь, молодая жизнь!
— Спасибо, просветили, а то мне и невдомек, — проворчал Манион.
Грэшем проигнорировал его ответ. Он с уверенным видом шел вперед, похожий скорее не на члена совета, а на наследника богатого дворянского дома, решившего выйти на прогулку.
Они шли по многолюдным улицам, все же казавшимся спокойными после ужасной лондонской сутолоки. Здесь стояли покосившиеся деревянные домишки (казалось, иные из них вот-вот рухнут). Они явно контрастировали с великолепным кирпичным университетским зданием. Недаром горожане и университетские воспринимали друг друга настороженно и неприязненно. Эти здания казались людям кичливыми, как и их обитатели, профессора и студенты.
— И что вы только здесь нашли? — спросил Манион. — Любой другой колледж примет вас с распростертыми объятиями.
«И действительно, что?» — подумал Грэшем. Эта мысль занимала его самого, ведь добрая половина членов совета изнывала от зависти и ненависти к нему.
— Дурацкое самолюбие, — сказал он с неожиданной откровенностью. — Я буду считать, что ничего не стою, если им удастся заставить меня уйти из моего колледжа. — Генри был воспитанником Грэнвилл-колледжа. Немногие могли забыть, чем они обязаны этому месту, давшему им настоящее образование.
Полдень был здесь главным временем еды. Теоретически члены совета сидели за главным столом, а студенты — ниже. На практике студенты побогаче сами устраивали себе главный стол, иногда заказывая себе более экзотические кушанья, чем те, что подавали членам совета. Эти же студенты нанимали бедных товарищей прислуживать за столом, и даже, если находили, что они ловко справляются с этим делом, угощали их остатками пищи.
Они вошли в большой парадный зал, где в огромном камине даже в полдень пылало пламя. Раздался грохот от упавших на пол студенческих скамей. Если никто не переворачивал скамеек, это означало, что студенты или не знали о традиционном способе приветствовать ректора, или слишком напились, чтобы помнить о таких вещах. Грэшем уселся на свое место, не обращая внимания на ледяные взгляды, которыми наградили его некоторые из членов совета. Сосед напротив также бросил на него ненавидящий взгляд.
Это был Уилл Смит, член Совета Грэнвилл-колледжа, живое свидетельство овладевшего Кембриджем в последнее время жестоковыйного пуританизма. Тощий как щепка, низкого роста, с очень высоким лбом, обрамленным белокурыми локонами, он смотрел на мир взглядом, от которого могла бы замерзнуть вода. Грэшем видел — Смитом руководило не благочестие, а ненависть. В особенности ненависть ко всему жизнерадостному.
Один из студентов начал читать обязательную молитву на латыни. Он очень волновался, а его товарищи страшно скучали. Кто-то намеренно громко пустил ветры, прежде чем студент успел дочитать до конца. Студенты захихикали, а члены совета стали подозрительно оглядывать зал.
Потом в Грэнвилл-колледже начался обед.
Смит наклонился к Грэшему и обнюхал его.
— От вас пахнет пивом, — изрек он с презрением.
— Вполне понятно, — просто ответил Грэшем, чувствуя, как хорошее настроение, вернувшееся к нему этим утром, снова испаряется. — Ведь именно пиво подают в «Золотом льве».
— У вас что, совсем нет стыда? Вы оскверняете священное место пустой музыкой. Вы пьете, ругаетесь, совокупляетесь… И не желаете слушать слово Божие.
— О Небо! Неужели все это одновременно? — спросил Грэшем притворно спокойным голосом.
При его словах кое-кто за столом засмеялся. Один из присутствующих, толстяк Том Плезанс, весьма склонный к питию и чревоугодию, являлся одним из немногих союзников Грэшема.
«Как быть, если добрая половина членов совета вашего колледжа вас ненавидит?» Для Маниона ответ был прост. Все явления в мире интересны только с четырех точек зрения: можно ли это есть, можно ли это пить, можно ли с этим спать и можно ли это побить. Таких, как Уилл Смит, нельзя есть, нельзя пить, спать с ними тоже нет никакого смысла, значит, остается только одно.
— Надо их бить, если они лезут на рожон, — говорил он хозяину. — В конце концов, если их хорошо отделать, они перестанут приставать.
— А что, если они первыми меня побьют? — мрачно спросил Грэшем.
— Ну, тогда вы будете просто идиотом, — ответил слуга.
«Что правда, то правда», — подумал Генри.
Не так уж редко восходящие придворные «звезды» считали своим долгом почтить своим посещением Кембридж (то же относилось, между прочим, и к угасшим «звездам»). Грэшем воспринял появление Роберта Сесила в парадном зале без энтузиазма, тем более ему вовсе не хотелось отправляться на море. А появление Сесила означало одно — он привез приказ Уолсингема для Грэшема. Сесил прибыл сюда посмотреть, как используются пожертвования на новые здания, — так гласила официальная версия. Все знали: лорд Бэрли, все еще самый могущественный человек в стране, обучал своего сына, готовя его себе в преемники на посту первого министра. Всем также было известно: большая часть аристократии настроена решительно против этих поползновений. Возникшая волнующая интрига занимала умы университетского общества.
Сесил вежливо кивнул Грэшему, а затем быстро наклонился к нему, когда внимание соседа переключилось на появление новых блюд.
— Нам с вами надо поговорить наедине после трапезы у вас в комнате, — сказал он. — Я прибыл от Уолсингема. — Он тут же отвернулся и стал участвовать в разговоре ученого начальства.
— Я вам скажу, сэр, об этом говорит весь город, — заметил Алан Сайдсмит, старший член совета и также один из друзей Грэшема. Он недавно вернулся из Лондона. Флегматичный вид этого человека маскировал его развитой ум. Впрочем, Сесил всем своим видом показывал, что вовсе не желает слушать своего собеседника. — Все только и говорят об этих пророчествах, — продолжал Алан. — Я понял так: королева должна издать указ, осуждающий ересь, встревожившую власти.
— Это ничего не значит, — перебил его Сесил, недовольный тем, что помешали его разговору с ректором. — Просто бредни суеверных людей.
Явное нежелание Сесила говорить на животрепещущую тему только подлило масла в огонь.
— А о каких пророчествах идет речь? — спросил один из членов совета.
— Ими занимался человек, живший сто лет назад, — пояснил Сайдсмит. — Его обычно называют Региомонтан-Царегорец, хотя настоящее его имя, кажется, Мюллер, Иоанн Мюллер из Кенигсберга.
— Мюллер? Математик, составлявший для Колумба расчеты и навигационные таблицы? — подал голос Адам Бальдерстон, пьяница и один из худших врагов Грэшема в колледже.
Грэшем снова наблюдал своеобразную силу чар колледжа, объединявшего не просто очень разных людей, но соперников и врагов. Теперь члены совета колледжа сгрудились за столом вокруг Сайдсмита, объединенные общим интересом. Многие студенты, и бедные и богатые, встали из-за своих столов и подобрались поближе к компании старших, занятых беседой. Наступило временное перемирие для тех, кто еще вчера готов был убить друг друга.
У Грэшема потеплело на сердце. При всех раздорах, вражде, тщете, присущих колледжу, он переживал и те моменты гармонии, благодаря которым Грэшем только здесь чувствовал себя как дома и не жалел денег (не обращая внимания на ропот завистников), стремясь возродить дорогое его сердцу заведение. «Мы сами себе не хозяева, — подумал он. — В лучшем случае — просто квартиранты. Но иногда мы можем сотворить то, что останется в будущем и переживет наше суматошное, суетливое бытие». Генри, привыкший жить в чисто мужской компании, был еще слишком молод, чтобы понять — ради этого же люди заводят детей.
— Да, но пророчества можно найти и у других, — заметил Сайдсмит.
— В их основе лежат в такой же мере математические принципы, как и библейские, — вставил Бальдерстон. Сейчас его можно было бы назвать вдохновенным, и недаром он умел привлекать студентов, когда только начинал преподавать в колледже. Кто бы мог подумать, что некое темное пророчество его так взволнует! Не раз и не два Грэшем убеждался: ни об одном человеке нельзя знать всего.
— Мюллер, Меланхтон, Штофлер, Постель, — продолжал Бальдерстон, — учили: вся человеческая история состоит из серии циклов.
— А есть в этих циклах что-нибудь библейское? — спросил декан.
— Только частично, — ответил Бальдерстон. — Их аутентичность поверяется писанием, выдержками из книг Откровения, Даниила и Исайи, но их структура нумерологическая, основанная на перестановке чисел десять и семь.
По кружку собеседников прошелестел испуганный шепот.
Нумерологию здесь признавали важной отраслью знания, но в то же время считали чем-то сродни колдовству.
— Но какое все это имеет значение? — спросил ректор, которого интересовал разговор, но беспокоило недовольство Сесила.
Сайдсмит и Бальдерстон переглянулись и пожали плечами.
— Пророчество Региомонтана основано на вере, будто предпоследний цикл человеческой истории закончился а 1518 году, когда Лютер бросил вызов папе, — пояснил Сайдсмит.
Снова раздался ропот. Кембридж был насквозь пуританским, а пуританизм стал возможен как раз благодаря выступлению Лютера. Однако Грэшем знал: здесь были и такие, кто тайно посещал мессы, также тайно отправляемые священниками, которых могли бы стереть в порошок, если бы это открылось.
— Значит, весь мир погибнет в нынешнем году?
— Нет, в следующем, — ответил Сайдсмит. — По одной из версий последний цикл состоит из семи десятилетий (десять, умноженное на семь).
— Срок Вавилонского пленения? — спросил кто-то из студентов.
— Да. Говорят, в 1588 году будет сломана Седьмая Печать.
Наступило молчание. Стало слышно, как на кухне кто-то позвал слугу.
— Говорят еще, в этом году будет ниспровергнут Антихрист и начнется Страшный суд.
На мгновение в зале, казалось, потемнело. Может быть, туча закрыла солнце?
— А как звучит пророчество? — спросил еще один молодой голос.
Сайдсмит начал читать по-латыни, и звучные слова разносились по всему залу.
Члены совета мысленно мгновенно переводили с латыни на английский, но на лицах многих студентов Грэшем заметил замешательство. Он вмешался, прежде чем они успели обнаружить свое невежество, прочитав стихи в английском переводе:
На сей раз воцарилось более продолжительное молчание.
— Ерунда! — заявил самый нервный из членов совета. — Суеверная ерунда, произведенная теми, у кого голова и зад поменялись местами. Нам нет смысла воевать с Испанией, если наши солдаты и моряки отправятся на войну с мыслью, что они обречены, как и весь мир.
— Что вы, сэр — возразил Толстяк Том, считавший себя потомком Цезаря и таким же великим стратегом, как и его мнимый предок, хотя войска он видел только со стороны. — Нам не стоит вовлекать задние места в дискуссию. Я лично всегда стараюсь не смешивать одно с другим.
Студенты рассмеялись, как и рассчитывал Том. Он называл всех «мой дорогой» и обладал высоким и тонким голосом. Однажды какой-то нахальный студент обозвал его содомитом. Ответ Тома потом передавался в Кембридже из уст в уста.
— Молодой человек, — сказал он, — несколько лет назад мне пришлось выбирать: получать ли мне удовольствие от еды и питья или от половой жизни. Я выбрал первое, и потому пришлось исключить второе: теперь на кровати умещаюсь только я один. Поэтому если я и мог бы быть содомитом, то лишь в теории. Поскольку вы показали полную неспособность воспринимать любые теории, я полагаю, с такими обвинениями следовало бы выступить человеку, у которого ум находится выше задницы.
Сейчас Том говорил так, будто обращался ко всему собранию. Но все понимали — он обращается только к человеку, чей отец являлся одним из правителей страны.
— Если кто-то чего-то боится так, это только оттого, что люди видят то, чего не видит правительство.
— Что вы хотите этим сказать, сэр? — тихо спросил Сесил. Он не делал вид, будто не понял, к кому обращался Том, но отвечал подчеркнуто вежливо, стремясь показать, что замечание Тома его не оскорбило.
— У нас в государстве начинается смятение, сэр, — ответил Том также вежливо. — Известно, что Испания собирает флот, а в Нидерландах, докуда по морю рукой подать, стоит враждебная нам огромная армия под началом герцога Пармского, самого могущественного полководца в Европе.
В зале одобрительно загудели. Том действительно выразил общие опасения. Нигде так не боялись католической Испании, как в пуританском Кембридже. В Англии тогда пугали непослушных детей герцогом Пармским и свирепыми испанцами.
— У нас… не такое уж смятение, как вам может казаться, — отвечал Сесил, осторожно подбирая слова. — Королева всегда на страже интересов страны.
— Ее величество? Само собой! — ответил Толстяк Том. — Однако нам тут мнится, что о ее военачальниках такого не скажешь. Где у нас армия, способная отразить испанское нашествие? И какова наша стратегия? Собираемся ли мы защищать каждый наш порт, распределив нашу армию по всему побережью столь тонким слоем, что наши люди смогут повсюду встретить врага, но нигде не смогут его одолеть? Или же мы сконцентрируем наши войска в определенных важных пунктах, рискуя при этом, что враг высадится там, где мы не ожидаем, и, не встречая сопротивления, дойдет до Лондона? Обе тактики опасны, но опаснее всего вовсе не иметь тактики!
Слова Тома прозвучали почти грубо. Прямота, свойственная некоторым ученым мужам, нередко граничила с грубостью. Сесил предпочел не замечать этого.
— Солдат у нас достаточно, — ответил он.
Грэшем не питал подобной уверенности. Англия тогда не имела постоянной армии, а небольшое профессиональное войско находилось во Фландрии и воевало с герцогом Пармским.
— Но гораздо больше у нас военных кораблей, — продолжал Сесил. — У нас достаточно сильный флот, чтобы потопить неуклюжие галеоны короля Филиппа, возможно, вместе со знаменитыми солдатами герцога Пармского.
— Море весьма обширно, и даже самый «неуклюжий» из галеонов слишком мал по сравнении с его просторами, — заметил Том, одержимый страстью спорщика. — Их корабли и наши корабли могут ночью разойтись в море, не заметив друг друга.
— Наконец, у нас есть Дрейк, — ответил Сесил. (Грэшем заметил, что его левое веко слегка дергается.)
Испанцы действительно боялись знаменитого Дрейка (они называли его Эль Драко). Ходили слухи, будто у него есть волшебное стекло, с помощью которого он мог видеть расположение всех испанских кораблей на море. Иначе невозможно было объяснить его умение всегда находить испанские корабли с сокровищами на борту. Реакция зала на слова Сесила была одобрительной. Дрейк считался чем-то вроде талисмана, устрашающего врагов.
— Это могучий человек, — продолжал Сесил. — И он капитан одного из наших новых замечательных кораблей, которые могут скользить по волнам, как танцор по дворцовому полу.
В то время перед лицом опасности, грозившей стране, и преодолев сопротивление капитанов, королевский адмирал Хокинс велел сломать огромные бастионы, находившиеся на носу и на корме каждого военного корабля. Он наладил производство новых кораблей, более легких и более маневренных, которые могли идти вперед даже при встречном ветре. Бастионы предназначались для солдат, ведущих мушкетный огонь по противнику и отражавших атаки врага при попытке взять судно на абордаж.
Но огромные сооружения задерживали ветер и делали корабли почти не маневренными, способными двигаться вперед только при попутном ветре.
— У нас есть корабли, способные крушить вражеские суда, находясь от них на расстоянии, — заговорил Грэшем. Он вовсе не собирался обижать Сесила (пока Генри вообще не знал, есть ли у них причины для конфликта), но поскольку его вовлекли в дело обороны страны, было бы полезно сейчас услышать, что думают в Лондоне о некоторых очевидных вещах. — Однако Дрейк никогда не командовал нашим флотом в бою против неприятельского флота. Даже сама королева именует его «пиратом». — Некоторые из слушателей засмеялись. Грэшем продолжал: — Он до сих пор нападал только на торговые корабли или на менее сильного противника, захватывая грузы и обогащая как нашу казну, так и самого себя. Доблестный моряк, что и говорить. Но испанцы участвовали в крупных морских сражениях против флотов нескольких стран. А наши капитаны, даже те, которые знают свое дело и не очень жадны до сокровищ, говорят, чаще враждуют между собой, чем дерутся с неприятелем. — В Англии все знали, как Фробишер угрожал «вырвать сердце» Дрейка. — Каждый из наших кораблей сейчас действует по прихоти его капитана. Это как если бы в армии офицеры воевали друг против друга и каждый выбирал бы противника по своему усмотрению.
— Я думаю, — спокойно ответил Сесил, — наши капитаны сумеют объединиться сейчас перед лицом испанской угрозы. И если уж вы, молодой человек, не имеющий никакого опыта мореходства, видите эти проблемы, то, как вы понимаете, те, кто имеет богатый опыт в этом деле, и их начальники понимают их не хуже и имеют какие-то планы решения возникших трудностей.
Здесь было вполне уместно закончить разговор. Слушатели одобрительно загудели. Людям хотелось верить в лучшее. Понимая это, Грэшем также понимал — сегодня он вовсе не увеличил число своих друзей, возражая высокому гостю и ставя под сомнение репутацию Дрейка. Было очевидно: именно Сесил привлек к себе симпатии большинства членов совета.
Стук в дверь раздался, как только Грэшем вернулся к себе. Маниона он отпустил, и тот скорее всего сейчас сидел в какой-нибудь местной таверне.
Сесил сделал знак своему слуге, и тот удалился, закрыв за собой две двери. Грэшем считал, что в своей комнате он сам должен решать, открывать или закрывать двери, но промолчал.
— Благодарю вас зато, что уделили мне время, — вежливо сказал Сесил, прекрасно знавший, что у Грэшема не было другого выбора.
— Это честь для меня, — также любезно ответил Грэшем, считавший, что особой чести для него здесь нет.
У его гостя были маленькие, острые глазки. Длинный плащ, который он носил, как и его костюм, был сшит таким образом, чтобы замаскировать его физические недостатки, а свои длинные волосы он причесывал, чтобы частично прикрыть странную вмятину над ухом, которая, по утверждению недоброжелателей, образовалась после того, как пьяная нянька уронила его на каменный пол.
— Вы хорошо вели спор, — заметил он.
«Однако я проиграл его», — подумал Грэшем. Но недаром Уолсингем как-то сказал ему: признать свою слабость иногда означает обрести силу.
— Если бы у нас с вами состоялся официальный диспут, вы бы его выиграли, — ответил он.
Такие диспуты составляли сердцевину ученой жизни Кембриджа.
— Те, кто говорит то, что хочет услышать аудитория, часто побеждают тех, кто говорит правду, — заметил Сесил с усмешкой.
Грэшем подумал, что его гость иногда тоже говорит правду. Вслух же он сказал:
— Я забыл о вежливости. Позвольте предложить вам вина.
— Как это любезно! — ответил Сесил. В его голосе, тонком и скрипучем, все же чувствовался напор. Грэшем налил гостю вина в хрустальный венецианский бокал. Если тот и оценил всю прелесть поданного ему сосуда для вина, то вслух этого никак не выразил. Грэшем также решил не нарушать молчания первым. — К сожалению, вы правы, — заговорил Сесил. — У нас нет армии, способной защитить наши берега. Дрейк ненадежен. Флот у нас разрозненный, а у испанцев — единый боевой флот, испытанный в сражениях. Грэшем не показал собеседнику, как его взволновало услышанное признание. Ведь, по сути, оно исходило от первого королевского министра.
— Вы, вероятно, будете осуждать меня, — продолжал Сесил, — за то, что я опровергал ваши доводы перед вашими товарищами по совету, сознавая всю их справедливость.
— Я никого не осуждаю, — ответил Грэшем, — оставляя это судьям и политикам. — Для такого человека, как я, естественно успокаивать тех, кто беспокоится, пусть даже необоснованно, — заметил гость.
— Я не моряк. — Грэшем повторил то, что уже говорил Уолсингему. — Какую роль я могу сыграть во всех этих великих событиях?
— Я знаю только, что вы можете стать глазами и ушами Англии в Лиссабоне. И… кажется, вы одно время были… агентом Уолсингема?
— Вам же все известно, — просто ответил Грэшем.
— Как шпион? Можем мы употребить такое выражение? — Теперь в тоне Сесила появился оттенок яда.
— Если не вы, так другие употребят. В конце концов, шпионы необходимы, — ответил Грэшем. — Как собаки, например. Да, говорят, даже вши зачем-то нужны.
— Безусловно, — ответил Сесил с таким выражением лица, как будто он рылся в куче мусора. — В общем, у меня бумаги, которые сэр Фрэнсис просил вам передать. Он также просил вас предостеречь. Вы, конечно, знаете, что такие указания, которые он дал вам, будут означать вашу гибель, если их найдут у вас в чужой стране. Сэр Фрэнсис полагает…
— Что я уничтожу их после прочтения? Не беспокойтесь, я знаком с протоколом, — ответил Грэшем с легкой улыбкой.
— Понимаю, — ответил Сесил с явным одобрением. — Ну, и я желаю вам доброго пути. По-моему, сэр Фрэнсис надеется на великую победу благодаря бочарной клепке.
— «Благодаря бочарной клепке»? — в недоумении переспросил Грэшем. Он не считал Сесила склонным к юмору. — Не собираются ли наши бить испанцев по голове бочарными клепками?! По-моему, пики и мушкеты будут надежнее.
Собеседник не принял его насмешливого тона.
— Милорд полагает, таким образом мы сможем нанести удар Армаде не хуже, чем с помощью пушечных ядер, — ответил он. — Великой Армаде требуются тысячи тонн провизии, вина, воды, пороха — и все это хранится в бочках. А вы пробовали пиво из бочек, сделанных из невыдержанного материала?
Кислое пиво! Теперь Грэшем понял, о чем идет речь. Даже он знал, что происходит, когда на корабле такая бочка трескается и содержимое просачивается наружу. К тому же он слышал: при варке пива для королевского флота использовалось слишком мало хмеля, и варево становилось кислым еще до того, как попадало в бочки.
Сесил продолжал, словно читая лекцию школьнику:
— Поскольку бочарная древесина должна быть выдержанной и так как испанцы сейчас располагают гораздо меньшим количеством бочек, чем им нужно, они заказывают подходящую древесину по всей Европе. Сотни небольших грузовых кораблей направляются к Лиссабону. Уолсингем полагает; если мы захватим и потопим достаточное число таких судов, испанцы получат гнилой провиант и вредоносное питье для своего флота. Дрейк получил приказ совершать рейды от Лиссабона до Кадиса, нападая на грузовые суда. Он должен, по возможности, блокировать всю береговую торговлю испанцев.
— Звучит интересно, — заметил Грэшем, — но, опять-таки, при чем тут я?
— Все очень просто. Сэру Фрэнсису нужны от вас сведения не только о знаменитых кораблях, которые собирает король Филипп, но и как можно больше о вовсе не славных судах, возящих припасы, поскольку от этого зависит боеспособность испанского флота.
«Вовсе не славная миссия», — подумал Грэшем.
— Верно ли, что ваш отец и Уолсингем враждуют между собой? — спросил он неожиданно. Ему отчего-то хотелось задеть Сесила. Он сам не мог понять, за что его так не любил.
— Да нет, — ответил Сесил. Либо Грэшем неправильно поставил вопрос либо Сесила было не так легко задеть. — Будь так, разве я стал бы выполнять поручения сэра Фрэнсиса?
«Действительно, зачем бы тебе их выполнять?» — подумал Грэшем. Эта неясность беспокоила его. Он вообще терпеть не мог придворные интриги. И все же до сих пор Сесил, кажется, говорил правду (конечно, насколько Грэшем мог судить об этом).
— Как я понимаю, вам будет дано формальное разрешение, — продолжал собеседник.
«Формальными разрешениями» назывались письма из Тайного совета с требованием «не чинить препятствий» Генри Грэшему, которому необходимо временно отсутствовать в колледже «в интересах службы Ее Величеству». В колледже это, конечно, вызовет неприязненную реакцию, как будто Грэшему и без того недостаточно проблем. И еще надо будет заплатить кому-то, кто прочтет вместо него лекции.
Тут, словно заподозрив что-то неладное, вернулся Манион. Сесил сразу же выскользнул из комнаты. Разговор временно пришлось отложить.
— Вот кого не люблю, так этого малого, — заметил слуга. — Ваш Сесил лезет вверх, и ему все одно — что лезть по ступенькам, что по чужим головам. Знаю я этих сукиных детей — придворных. Ручаюсь, он вам не рассказал и половины правды.
— Ясно одно: будут морские сражения, и они-то решат судьбы Англии, а то и всей Европы. И мне предлагается во всем этом одна из первых ролей. Какой же мужчина откажется?!
— Тот, у кого побольше здравого смысла, чем у вас, — ответил Манион. — Ну, хорошо хоть, я научил вас плавать.
Это было правдой. Грэшем не терпел море, но любил чистые, холодные речки и озеро в отцовском имении. Манион действительно учил его плавать несколько лет назад.
— Надеюсь, мне все же не придется применить свое умение, — с чувством сказал Грэшем.
Глава 3
Апрель 1587 года
Гоа, Плимут, нападение на Кадис
Ее детство в Испании было идиллическим, а ее юность мешала ей замечать нарастающие признаки их разорения. Первый удар постиг их, когда ее беспомощному отцу пришлось отправиться на службу за тридевять земель в Гоа, взяв с собой в ссылку жену и дочь, в край страшной жары, населенный чужим и странным народом, жившим в крайней бедности. В Гоа делали состояния, но ее отец не был на это способен. Для нее же явился испытанием дальний переезд. Затем семья пережила поистине страшный удар — кончину ее отца от какой-то неведомой смертоносной лихорадки, причем большую часть их драгоценных средств перед этим они зря потратили на услуги врачей. Она и сама не понимала, как любила неудачника-отца, пока не потеряла его. Она знала о тяжелом положении своей обожаемой матери, и она решила спасать семью от нищеты, согласившись выйти замуж за французского купца Жака Анри, мрачного толстяка, с которым перед тем виделась всего лишь раз.
Сейчас им с матерью предстояло сесть на огромный корабль «Сан-Фелипе», перегруженный товарами из обеих Индий. В другое время такое длительное и опасное путешествие по морю волновало бы ее, но сейчас другие заботы ее тревожили. Кажется, если бы судно пошло ко дну, она бы это едва заметила. Даже кораблекрушение казалось ей приятнее брака с тучным стариком. Нянька некогда рассказывала ей, что мужчины делают с женщинами, и сейчас ее тошнило при одной мысли об этом. Она никогда не знала близости с мужчиной, и ее пугала перспектива такой близости даже с молодым красавцем. Но с таким человеком, как ее муж… это было бы просто отвратительно!
Анна Мария Люсиль Риа де Сантана ожидала поднятия на борт корабля с непроницаемым видом. Она приняла решение, а проявление эмоций означало слабость, разрушительную для брони, защищавшей ее душу. Пусть жирный купец разделит с ней ложе. Она будет недвижной и холодной, как статуя. А ее ненависть к мужу будет подпитывать ее ненависть к Испании, где и произошло, по ее мнению, настоящее предательство. Несколько поколений ее предков жили здесь и принадлежали к правящему классу, и вот теперь эта страна не колеблясь вышвырнула их, наказав испанца-отца за его женитьбу на англичанке.
Когда они начали подниматься по высокому трапу, мать Анны споткнулась и упала ей на руки. Обе женщины чуть не свалились.
Анна взглянула на мать. Ее она в последние недели тоже пыталась ненавидеть. Анна отметила про себя: на лице матери появились новые морщины, оно стало более бледным, приобретя какой-то нездоровый оттенок.
— Хорошо ли тебе? — спросила она просто из чувства долга. — Не дать ли тебе напоиться?
Английский был для Анны вторым языком, и иногда она говорила с ошибками.
Мать, ничего не ответив, просто кивнула. Ей было не до оговорок дочери.
Настроение у Анны еще ухудшилось, когда они поднялись на борт корабля, призванного стать их домом на несколько недель. Она почувствовала странный смешанный запах дерева, смолы, пота, к которому добавлялся не гармонировавший со всем этим аромат пряностей. Расставание с землей казалось Анне символичным. Кончатся ли когда-нибудь их скитания? Ответа она не знала.
— Чувствуешь ли ты себя достаточно сильной, чтобы меня поддерживать? — спросила мать.
— Я? Еще бы! У меня миллион энергии.
Неловкое выражение дочери заставило мать невольно улыбнуться. Анна покраснела. Она не хотела показывать свою слабость никому, даже родной матери. «Тебе очень скоро потребуется твой „миллион энергии“, моя дорогая девочка, — подумала та. — И хотела бы я, чтобы ты могла поделиться ею со мной, чтобы вести бой, который я проигрываю».
Прежде всего его поразили мачты, упиравшиеся в небеса, словно гигантские причудливые деревья. В плимутском порту парил хаос, чьим центром стало судно «Елизавета Бонавентура». Сотни грузчиков наваливали как попало на тележки бочки с сухарями, пивом и порохом, а затем вкатывали их на корабль и так же, как придется, сваливали на палубе. Бочки катались по палубе, распугивая людей и налетая на мачты. В результате общего беспорядка поддон с уложенными на нем пушечными ядрами, упакованный в большую сетку, скользя по палубе, запутался в толстых канатах, создав угрозу для главной мачты. Множество суденышек, подобно жучкам, скользили по волнам, доставляя грузы на другие большие корабли, стоявшие на рейде. Как и во всех больших портах, здесь воняло гнилой рыбой, солью, водорослями, канатами, смолой и парусиной.
— Проклятые трусливые ублюдки! — прорычал сэр Фрэнсис Дрейк. Его сильный голос, казалось, с легкостью перекрывал портовый шум.
— О чем думают эти подонки, дезертируя из своей страны в час испытаний? Испанские холуи!
Дрейк, невысокий, коренастый, рыжебородый, краснощекий, одевался как аристократ. Роскошные кружева украшали его костюм из лучшего темно-зеленого шелка, а на башмаках красовались значительных размеров золотые пряжки. И напротив, плащ секретаря Дрейка, худого, невзрачного, бледного и изможденного человека, выглядел так, будто его сшили из старого, давно отслужившего свой век черного паруса. При всем том секретарь старался вести себя с достоинством, держал в руке грифельную доску и кусок мела, словно старый учитель.
— Моряки бегут, — заговорил секретарь тоном сельского проповедника, что было несколько неожиданно в данной ситуации, — так как они полагали, будто их пошлют грабить испанские корабли, полные сокровищ. А теперь до них дошло — их посылают напасть на порты в самой Испании. А это гораздо более опасно и менее выгодно. Это…
— В задницу и их, и их резоны, и вас заодно! — заорал Дрейк. Теперь его красное лицо стало багровым. Казалось, он вот-вот взорвется. — В задницу всех трусов!
Секретарь молча выслушал тираду своего хозяина. Он стоял, подняв глаза к небу. Молился он или просто думал о чем-то своем, так и осталось неизвестным.
Для Генри Грэшема этот день оказался нелегким. Да и вся неделя тоже. Его мучили сомнения, не следует ли, пока не поздно, отказаться от предложенной ему миссии. Почему он должен рисковать жизнью только ради того, чтобы сообщить Уолсингему, как обстоят дела с качеством бочек в Кадисе? К тому же погода выдалась мерзкая. Когда они покинули Лондон, начался ливень, и он промок до нитки. Плащ Грэшема, набухшим от воды, стал, кажется, втрое тяжелее и вонял мокрой шерстью. Он весь продрог, но все же не временные неприятности досаждали ему больше всего. Грэшем ничего не смыслил в мореходстве. Он ненавидел собственное невежество и понимал: его отлаженной системе самоконтроля может прийти конец, а ведь именно в ней заключалась его сила. Он чувствовал тоску и страшную головную боль, как будто находился не на пути в Лиссабон, а на пути унижения, страданий и, возможно, бесславной гибели в волнах Атлантики.
К тому же Генри Грэшем, одержимый страстью к чистоте, ненавидел грязь, связанную с морским ремеслом. Он любил мыться и носить нарядную шелковую и бархатную одежду. А здесь мыло было бессильно помочь: морская вода, в которой он мылся, всегда оставляла на теле соль и приносила с собой неприятный запах, как казалось Грэшему, всегда связанный с морем. К резкому запаху соленой воды примешивался странный, непонятно откуда исходящий запах гнили. Даже Маниона оставили его обычные живость и энергия, и он сам с момента, когда покинул столицу, пребывал мрачном настроении. Не раз прежде Грэшем с нетерпение: ждал, когда его слуга закроет рот, теперь же стал мечтать том, чтобы Манион заговорил снова. Наконец, если этот вот производящий впечатление помешанного крикун действительно сэр Фрэнсис Дрейк, то для Грэшема сейчас не время ему представляться.
Но Дрейк опередил Грэшема. Он сам заметил молодого человека и его слугу, находившихся на пристани.
— Вам незачем называть ваше никчемное имя. Мне оно известно, — изрек Дрейк, всегда остававшийся грубияном. Грэшем с трудом удержался от желания взяться за шпагу. — По условиям этого путешествия, я обязан взять вас на борт. Но в остальном на мое внимание можете не рассчитывать.
Грэшем молча поклонился. Что ему еще оставалось делать? Дрейк явно не любил шпионов.
— Мы когда-нибудь закончим грузиться?! — снова заорал Дрейк. — Мы когда-нибудь выйдем в море?! Когда кончится весь этот хаос?!
— Если вы не перестанете каждую минуту отвлекать меня вопросами, на которые я не могу ответить, то мои слабые усилия проследить за тем, что за грузы попадают на борт «Елизаветы Бонавентуры», так ни к чему путному и не приведут, — ответил секретарь, положив свою грифельную доску на ближайшую бочку. Здесь он был, пожалуй, единственным человеком, не боявшимся Дрейка. Бочку тут же подхватили два дюжих матроса, и секретарь едва успел снова завладеть доской. — Откровенно говоря, сэр Фрэнсис, — продолжал он, — я даже не знаю точно, погрузили сейчас двадцать тонн пороха или двадцать тонн сушеного гороха.
Дрейк задумчиво взглянул на своего секретаря, затем вдруг безо всякого перехода повернулся к матросам и рабочим, собравшимся на пристани, и прокричал:
— Вперед, в Испанию, навстречу славной смерти!
Толпа, собравшаяся на пристани, ответила на его призыв восторженным гулом. Дрейк помахал толпе рукой, после чего направился к трапу. Поднявшись на борт корабля, он сразу же куда-то исчез.
— Вот кто настоящий ублюдок, — мрачно заметил Манион, глядя ему вслед. Но тут они услышали стук копыт, а в толпе раздались вопли и проклятия. Моряки и женщины, пришедшие сюда попрощаться с мужьями, бросились в разные стороны, уступая дорогу тяжелым бочкам, катившимся по земле.
— Прошу прощения, прошу прощения! — раздался зычный голос. — За ущерб, конечно, всем будет заплачено. Очень сожалею!
Джордж Уиллоби (а кто же еще это мог быть!) внезапно появился на пристани, похожий на чудом ожившего ископаемого мамонта.
— Боже милосердный, ты как сюда попал? — Грэшем не скрывал радостного изумления.
— У моего отца есть контракты с Дрейком, — отвечал Джордж. — Отец участвовал в финансировании одной из его экспедиций еще лет пять назад. Да и сейчас он, кажется, поставил половину пороха для нужд Дрейка. Не все ли равно, за что платят? Были бы деньги.
— Да сам-то ты отчего явился сюда? — спросил Грэшем, улыбаясь другу.
— Устал от теорий, старина, — весело ответил Джордж. — А здесь сейчас решается судьба нации! — Он был возбужден, глаза его горели. — Что для меня лучше — комментировать события или рассказывать девчонкам о том, что я сам совершил, борясь против орды испанцев?
Грэшем понимал друга. Очень многие горячие молодые люди не отказались бы уйти в море вместе с Дрейком. В его бесконечных экспедициях они могли доказать свое мужество. А Джордж Уиллоби был человеком не робкого десятка.
— Ты будешь так же кричать на врагов, как кричишь, разговаривая со мной? — с улыбкой спросил Генри.
— Виноват! — Джордж театральным жестом приложил палец к губам.
«Ну, с таким гигантом на борту „Бонавентура“ будет казаться не такой огромной», — подумал Грэшем. Настроение у него несколько улучшилось.
Двадцать английских кораблей бороздили просторы океана, чьи лазурные воды так светились на солнце, что у смотревших на водную гладь слепило глаза. Издали паруса напоминали белых чаек, то спускавшихся к воде, то взлетавших над ней. Море выглядело спокойным и мирным. Свежий попутный ветер дул в сторону Кадиса, куда направлялась флотилия. Суда, сооруженные из дерева и металла, подобно мухам, облепили множество людей на палубах. Эти создания людей, морские корабли, выглядели со стороны довольно красиво, но по сути являлись не такими уж надежными: их корпуса, их мачты с реями, их паруса, раздуваемые ветром, — все части сложной и удивительной системы находились под постоянным напряжением, и все это было по-своему хрупким. Ветер мог разорвать парус, а канат мог лопнуть и, движимый силой ветра, хлестнуть человека, на свою беду оказавшегося поблизости. От постоянного действия морской воды, вымывавшей паклю, могли разойтись швы между досками корпуса. Эти живописные создания человеческих рук были самонадеянным вызовом могуществу морской стихии.
На одном из кораблей сидели за обедом Грэшем, Манион и присоединившийся к ним Джордж. Все трое уже привыкли к тому, что палуба судна постоянно то опускалась, то поднималась. Три-четыре дня, когда Грэшем страдал от ужасной морской болезни, остались позади, он успокоился и привык к плаванию по морю. На палубе «Елизаветы Бонавентуры» негде было повернуться из-за большого количества путешествующих джентльменов вроде Джорджа и запасных членов команды, нужных для того только, чтобы заменить тех, кто выбыл бы из-за морской болезни ила во время предстоящих боёв. Хорошо, если ночью, ложась спать, можно было вытянуться на палубе во весь рост, укрывшись плащом, но грубые доски палубы причиняли боль и при качке, и просто когда человек поворачивался с боку на бок. Об утренней ванне нечего было и мечтать. Грэшем привык к затхлому запаху, исходившему как от него, так и от его соседей. Он понимал: плавание по морю представляет собой постоянную борьбу со стихиями, и у него теперь почти не оставалось времени для борьбы с самим собой.
На английских морских судах даже капитан, вроде самого Дрейка, работал руками, если в том приключалась нужда. Для Грэшема тоже, случалось, находилась посильная работа. Например, он вязал узлы на толстых веревках, фиксируя на палубе бочки и ящики. В его работе положительный результат был очевиден: бочки и другие емкости с грузами переставали ерзать по палубе, а от этого выигрывали все, кто на ней находился. Неожиданно для себя Грэшем почувствовал гордость, когда он в первый раз удачно завязал узлы, зафиксировав первый ящик, и бывалый матрос одобрительно похлопал его по спине. В суровом морском мире проблемы были ясными, а успех в делах очень наглядным. Не слишком ли просто все это выглядело?
Сэр Уиллоби-старший закупил большую часть вина и пороха для экспедиции Дрейка, тем самым оплатив путешествие своего сына, и теперь Дрейк приглашал Джорджа в свою каюту, чтобы угостить его этим вином.
— Здесь, в Лиссабоне, слишком много кораблей, чтобы даже Дрейк мог их взять на абордаж, — взволнованно рассказывал он другу, — и очень сильна береговая охрана. Мы идем в Кадис. Тамошний порт забит кораблями, но защищены они гораздо хуже. У нас все-таки будет сражение!
Грэшем попросил аудиенции у Дрейка.
— Сэр Фрэнсис, — заговорил он-с почтением, которого в действительности не чувствовал, — говорят, мы покидаем Лиссабон, между тем мне нужно здесь высадиться. Не будете ли вы любезны предоставить мне лодку, чтобы я мог добраться до берега?
Не поднимая глаз от плана порта в Кадисе, Дрейк ответил:
— Мы уже слишком далеко от берега. Я сомневаюсь, что лодка сможет вернуться ко мне вовремя. Кроме того, не в моих интересах, чтобы вас сейчас захватили в плен, а это вполне может случиться, если я выполню ваше требование. — На самом деле это было не требование, а просьба, но Дрейк, видел вещи по-своему. Он продолжал: — Для успеха экспедиции важно, чтобы испанцы не узнали о моем присутствии здесь, пока я не возьму их за глотку.
— Сэр, — ответил Грэшем, пытаясь скрыть раздражение, — единственная цель моего пребывания здесь — выйти на брег в том месте, где я могу ознакомиться с состоянием испанского флота.
— Вы сможете высадиться в Кадисе и там увидите испанские корабли с близкого расстояния. Или слишком близкое расстояние мучительно для вашего спокойствия? Не хотите ли вы сойти на берег прежде, чем может начаться бой?
Обвинение в трусости прозвучало достаточно явно для того, чтобы джентльмен вызвал обидчика на поединок. И все же… Грэшем чувствовал — его хотят проверить. И хотя он кипел от возмущения, ответил он возможно более спокойным тоном:
— Я не уверен, сэр Фрэнсис, следует ли мне расценивать ваше замечание как оскорбление моей чести или как оскорбление моего ума. — Разговаривать так с капитаном было небезопасно, но Грэшем не мог совсем не дать выхода своим чувствам. — Поэтому я отвергаю оба эти предположения и расцениваю ваши слова как унижение вашего собственного ума.
Грэшем применил обычный риторический прием из тех, которым обучали в университете; два первых положения составляют защиту, а последнее — нападение. Однако Грэшем, только высказав все это, понял, как глупо выглядят словесные упражнения здесь, посреди моря, перед человеком, который может приказать убить его в любую минуту. Но Дрейк вовсе не разразился гневом, а просто хмуро поглядел на собеседника и сказал:
— Мне плевать, как вы там что-то «расцениваете». Я высажу вас, когда найду нужным, в Кадисе, где вас, я не сомневаюсь, найдут и повесят через несколько часов. Пусть ваши хозяева на суше следят за происходящим после нашего расставания. А здесь, на море, командую я. Все, можете идти.
Грэшем не заставил себя просить дважды. Когда он вышел из каюты, в нос ему ударил запах нечистот. Он так и не привык к дурным запахам за время путешествия. Здесь всем желающим справить большую или малую нужду приходилось идти к носу корабля, где существовало приспособление для стока нечистот в море. Но многие не хотели утруждать себя таким путешествием, особенно в скверную погоду или когда они вставали среди ночи. Ведра или бочки, обрезанные до половины, устанавливались в конце каждой палубы и в середине главной палубы, и запах в таких местах стоял соответствующий.
Грэшем знал: у англичан нет плана предстоящей операции, как нет и четких указаний. Просто Дрейк задумал безумное фронтальное нападение на испанцев. Откровенно глупая авантюра, и потому она явилась для испанцев полной неожиданностью.
В безоблачном небе над Кадисом сияло солнце. Ветер с моря принес свежесть и легкую прохладу. Жаркий полдень миновал, и публика выходила на улицы подышать воздухом и себя показать. На берегу бродячие актеры играли перед толпой прохожих, чей смех и возгласы заглушал шум ветра. В винных лавках шла бойкая торговля, но моряки только начали пить и вели себя сравнительно тихо. Вообще на берегу царила обстановка беспечного веселья.
— Смотри, вон новые корабли! — сказала хорошенькая горожанка, обращаясь к мужу, кадисскому купцу. Тот повернул голову, глядя на море. Действительно, около пятнадцати больших кораблей под белыми парусами стояли у входа в порт. Ежедневно в порт Кадиса прибывали новые и новые корабли, участвовавшие в грандиозных предприятиях короля Испании. Купец подумал: скорее всего со своей флотилией прибыл Хуан Мартинес де Рикальде, один из храбрейших королевских адмиралов. Это было бы очень полезно для торговли, даже если король часть счетов оплатит лишь через го, Моряки, стоявшие у причала, закричали и замахали рукам обращаясь к своим товарищам на торговой шхуне; видимой они требовали спустить на воду лодку. И тут они в изумлении уставились на корабли. Купец вытянул шею, пытаясь понять, что происходит. Что там говорят?
Док? Дюк? Неужели «Дрейк»?
— «Дрейк»! — как ветер пронеслось по толпе. Моряки узнали английские корабли, лишенные башен, поджарые, словно борзые псы, в отличие от величественных испанских галеонов. В толпе началась паника.
Представители городских властей выкрикивали какие-то приказы.
— Быстрее в замок! Укройтесь в крепости! — кричал кто-то из имеющих власть.
Некоторые из военных, пытаясь перекричать городских начальников, пробовали навести порядок на площади, но это оказалось бессмысленно. Бегство уже началось. Людской поток хлынул к крепости, не разбирая дороги. Улочка, ведущая к главным воротам, была слишком узкой для такого количества людей. Началась давка, раздались вопли. Какую-то мать с маленькой девочкой на руках сбили с ног, и никто из окружавших их беглецов не обратил на это внимания. Одни мужчина не удержался на ногах и ударился о каменную стену так, что разбил голову. Прижатый толпой к стене, он не мог даже поднять руку, чтобы пощупать рану на голове… Толпа неслась вперед, потеряв голову от страха.
— Отворите ворота! Впустите их! — завопил часовой.
— Идиоты! Ослы! — заорал в ответ командир крепостного гарнизона. — Как я теперь смогу начать бой с противником, когда тут целая куча женщин, детей и стариков? Как я смогу послать гонца с просьбой о подкреплении, если они блокировали дорогу? Я должен дать знать дону Педро де Акуне. Освободите дорогу!
Действия командира крепости по крайней мере ограничили число гражданских, о которых ему предстояло беспокоиться. Когда он наконец отворил ворота, подчиняясь неизбежному, двадцать пять безжизненных тел неподвижно лежали на мостовой… Дон Педро де Акуна, капитан флотилии галер, был единственной надеждой города. К нему защитники крепости и послали бравого гонца, решившегося пробиться через толпу. Смогут ли его шесть мощных боевых кораблей, недавно прибывших из Гибралтара и способных маневрировать даже на мелководье, защитить Кадис? Хватит ли сил у солдат гарнизона оборонять Пуэнталь, скалистую пустошь, отделявшую внутреннюю гавань от внешней, место, где скорее всего высадятся еретики?
Английские корабли вошли в порт Кадиса столь нагло, как будто это была флотилия под командованием самого короля Испании. Группа галер (другие военные корабли в то время в Кадисе отсутствовали) вышла им навстречу. Пушки англичан дали залп, и галеры отступили, повернув к берегу. Орды английских моряков, подобные хищнику, не встретившему естественного врага, брали на абордаж испанские суда, захватывали, а то и просто сжигали грузы и корабли. Бессмысленное уничтожение ценностей делало налет англичан еще более жутким.
Они захватили хорошее торговое судно, вышедшее из доков, судя по всему, не более пяти лет назад. Построенное искусными мастерами, десятки лет копившими знания и опыт, в нормальном мире оно служило бы людям долгие годы, возило бы масло и соль, вино, оливки и ткани для растущего населения Европы, давая работу капитану и команде, кормя и одевая их жен и детей и принося новую прибыль разбогатевшим купцам. Теперь же огонь за несколько минут охватил деревянное просмоленное судно. В порту стало темно, и все звуки заглушил адский рев пламени, в котором гибли испанские корабли. Повсюду сновали шлюпки, перевозившие захваченную добычу на те суда, которые Дрейк велел отправить на родину. Всем людям Дрейка здесь хватало работы.
— Эй вы, там! — заорал Дрейк, обращаясь к Грэшему был их первый контакт после разговора в капитанской каюте). — Я хочу посмотреть, чего вы стоите в драке! Вон есть мост, связывающий Кадис с Большой землей. Берите две лодки и захватите его для меня. Поработаете и на себя тоже.
Бездеятельность в такое время, когда противник может тебя случайно подстрелить, томила и Грэшема, и Джорджа. Оба они спрыгнули в ожидавшую их лодку. Матросы признали в них командиров просто потому, что оба они были одеты как дворяне.
— Наконец начинается дело! — воскликнул Джордж. Его весьма непривлекательное лицо даже казалось краше благодаря его радостному возбуждению. Если он и чувствовал какой-то страх, это было совершенно не заметно. А может, он и вовсе не чувствовал страха. Грэшем неплохо знал своего друга. Тот едва ли умел скрывать свои чувства, хотя сам всегда старался раскусить чужие хитрости.
— Отчего у нас так мало людей? — с беспокойством спросил Грэшем. — Если этот мост — действительно единственная связь с Большой землей и если Дрейк хочет захватить Кадис, то он очень серьезная цель.
— Да не хочет он захватить Кадис! — ответил Джордж. — Сам подумай, старина, что бы он стал делать с этим городом? Пытаться удержать его, воюя против всей испанской армии? Его дело — совершить налет и поджечь корабли в порту. Корабли и их груз — все, что ему нужно. А захватив мост, он лишит испанцев связи на время и заставит их дважды подумать, прежде чем они пошлют за подкреплением до рассвета. Вот и все.
Обе лодки быстро направились прямо в сторону моста. В результате пустой юношеской бравады двух друзей англичане оказались как на ладони, когда их противник неожиданно появился сзади. Галеры устремились к их лодкам, внезапно возникнув из густых облаков дыма. Они стояли в укромном месте, ожидая подобной атаки врага. Манион в тревоге схватил Грэшема за руку. Его лицо выражало смятение, чего прежде хозяин никогда не замечал за своим верным слугой.
— Хозяин… — начал он. Так Манион никогда не называл Грэшема, которому он в жизни часто заменял и брата, и даже отца. Грэшем хотел было сказать Маниону, чтобы тот разговаривал по-человечески, но, посмотрев на лицо слуги, воздержался от этого. — Хозяин, — повторил Манион, — мы погибли! Вы меня слышите? У них на этих галерах нет пушек для стрельбы по кораблям. Они стреляют из пушек по людям. Они убьют нас. Выведите нас отсюда!
Манион впервые подобным образом умолял Грэшема о чем-то. Но тут он и сам заметил: галеры даже ближе к ним, чем казалось Маниону. Джордж смотрел на них, вытаращив глаза. Он, видимо, раньше Грэшема понял — им всем пришел конец. Но тут передовая галера открыла огонь по лодкам! На глазах потрясенного Грэшема вторая лодка, в которую угодило тяжелое ядро, пошла на дно вместе с еще уцелевшими после выстрела людьми.
— Прочь отсюда! — заорал Грэшем, и рулевой тут же повернул руль, а гребцы налегли на весла с силой отчаяния. Грэшем почувствовал, как им овладело безумие обреченного. — Мы погибли, — объявил он своей потрясенной команде. — Мы погибли по всем расчетам: наша лодчонка на веслах не может тягаться с этой бестией. — Он указал на вторую галеру, быстро нагонявшую их лодку, и продолжал: — Или, точнее говоря, мы погибли, если не будем грести как дьяволы и не натянем нос проклятым испанцам.
Матросы повеселели, и лодка вдруг сорвалась с места, словно в нее ударила молния. Ветер донес запах нечистот с ближней галеры.
«И как эти там, на галерах, выносят эту вонь? Или они притерпелись?» — подумал Грэшем. Он обернулся. Вторая галера оставила их в покое, занявшись преследованием двух английских катеров, подошедших слишком близко. Первая же продолжала гнаться за ними. Теперь уже отчетливо слышалась барабанная дробь — под ритмичные удары гребцы на галере поднимали и опускали весла. Их небольшая лодка пока шла быстрее, но галера продолжала набирать скорость. Будут ли они снова стрелять? Надо думать, будут. Грэшем помнил, сколько времени требовалось матросам на борту его собственного корабля на перезарядку пушки. Видимо, испанцам нужно не больше времени. Его мозг лихорадочно заработал. Он попытался вычислить время для всех операций, которые требовались испанским пушкарям. Вот испанские матросы отводят свое орудие назад, довольные столь метким выстрелом по первой лодке англичан. Вот они чистят ствол. Вот они заряжают орудие порохом, затем выбирают ядро, то, которое выглядит наиболее гладким и круглым. Плохой пушкарь проверяет, как ядро будет входить в ствол орудия, чтобы определить, правильного ли оно калибра, а хороший просто оценивает калибр ядра на глаз. Потом они закладывают ядро в ствол так, чтобы оно прилегало к пороховому заряду. Затем надо прицелиться и навести ствол орудия на лодку с наглецами, решившими, будто им удастся захватить Кадис. Потом надо выбрать момент, чтобы качка не помешала точному выстрелу в цель, зажечь фитиль и поднести его к запалу, требуется совсем немного времени, чтобы вспыхнул основной пороховой заряд…
«Вот сейчас!» — пронеслось в мозгу у Грэшема. Он быстро и резко повернул руль, пытаясь развернуть лодку, так что гребцы едва успели сохранить равновесие. Через секунду громыхнуло вражеское орудие. Ядро упало в воду примерно в трех футах от борта лодки, как раз на то место, где они находились бы, если бы Грэшем вовремя не сманеврировал. Матросов окатило водой, поднятой в воздух при падении ядра. К удивлению Грэшема, эти олухи засмеялись, как будто в том, что они едва избежали гибели, было нечто веселое.
Грэшем снова механически просчитал время, необходимое для перезарядки орудия. Они находились слишком далеко от берега, а потому лишены возможности причалить к берегу и бежать. Кто-то из матросов поднял руку:
— Капитан, капитан, посмотрите! Капитан!
Когда он, Грэшем, успел заработать высокое звание? Впрочем, не важно. Главное, по его подсчетам, у них оставалось девяносто секунд до нового выстрела. Однако почему все же испанцы не стреляют из двух других носовых орудий? Считают цель слишком ничтожной? Или сосредоточили лучших стрелков около основного орудия? «Осталось восемьдесят пять секунд», — отметил он про себя. Там, где вода отражала пламя, охватившее горящие корабли, Грэшем разглядел рябь на воде, на которую указывал ему матрос. Должно быть, там находилось мелководье. Но означало ли это, что там слишком мелко для их лодки или же для галеры их преследователей? И разглядит ли впередсмотрящий на галере с высоты рябь на воде? Ведь такие вещи тем легче заметить, чем короче до них расстояние. Теперь уже оставалось семьдесят пять секунд.
Жизнь и смерть — предметы азартной игры. Грэшем глубоко вздохнул. Шестьдесят секунд. Теперь задача Грэшема как командира состояла в том, чтобы удачно миновать мелкое место. Если они окажутся на мели, им конец. Последует ли за ними галера? Вполне вероятно, последует, попытавшись подойти к ним на мушкетный выстрел или спустить на воду две-три собственные лодки, рассчитывая взять их на абордаж… Пятьдесят пять секунд. И тут пуля, выпущенная из мушкета, ударила в борт лодки, осколки дерева разлетелись в разные стороны, задев некоторых из его людей и его самого. Грэшем потрогал плечо. «Хороший выстрел», — произнес он про себя. Их разделяли сейчас около шестидесяти футов. Похоже, мушкетер рискнул, использовав двойной заряд пороха. Оставалось сорок пять секунд. Галера последовала за ними! Теперь уже ясно слышались ритмичные удары многих весел. Двадцать секунд. Бессознательное, почти звериное чутье подсказало Грэшему: они выстрелят сейчас!
Он до боли в руке сжал руль, и сразу же раздался пушечный выстрел. Он мог поклясться, что почувствовал, как ядро пролетело над его головой, так что его даже обдало жаром, после чего оно упало перед лодкой, подняв в воздух столб воды. Пушкарь стрелял, когда судно находилось на подъеме, с очень высокой позиции. К тому же ему помешал резкий поворот галеры.
Тут Грэшем услышал скрип дерева о гальку. Он поглядел вниз. Даже на темной воде было заметно — здесь волны отражали свет по-иному. Они дошли до мели! На мгновение лодка замедлила ход, а затем вдруг быстро устремилась вперед, как стрела, выпущенная из лука.
Грэшем оглянулся на испанскую галеру. Теперь она находилась примерно на расстоянии мушкетного выстрела от их лодки. И действительно, с вражеского корабля раздалось несколько выстрелов. Один из гребцов вскрикнул: пуля попала ему в руку.
В гавани несколько кораблей все еще были охвачены пламенем и дымом. На берегу портовый командир приказал расположить в нескольких местах бочки с горящей смолой, и от этого количество пламени и дыма еще возросло. Ветер гнал тучи дыма по небу, так что они закрывали луну, словно все демоны ада собрались здесь готовить какое-то колдовское варево. Грэшем стоял на корме лодки не пригибаясь. Не то чтобы он считал ниже своего достоинства кланяться пулям: он просто отчего-то не осознавал опасности. Он предельно сосредоточился, ни на минуту не упуская из вида вражеский корабль. Пятнадцать человек на его лодке продолжали налегать на весла. Силы их были на пределе, лица покрылись потом, они задыхались. Раненый корчился от боли, обхватив руку. Рукав его плаща весь пропитался кровью.
Вдруг двое или трое из его людей, смотревших так же, как и Грэшем, на корабль преследователей, вскрикнули и, не дожидаясь команды, перестали грести. Они заметили, как содрогнулась галера, достигнув мели. Капитан, видимо, понял опасность только в последний момент. Он приказал, очевидно, изменить направление движения, так как корабль начал медленно разворачиваться. Галера слегка накренилась, но она не выправилась, чтобы взять новый курс, напротив, крен корабля усилился. Гребцы на правом борту судна, так красиво и ритмично работавшие веслами прежде, теперь стали бессмысленно махать ими в воздухе: их борт оказался слишком высоко, и весла не достигали воды, Длинные весла стали ударяться одно о другое или о борт корабля. Затем раздался скрежет, и галера остановилась. Испанцы сели на мель.
Четырнадцать англичан на лодке вскочили и закричали от радости. А некоторые стали даже подбрасывать шляпы в воздух. От всей этой возни лодка чуть не перевернулась. Грэшем с трудом удержался на ногах, схватившись за борт.
— Садитесь, вы, полудурки! — заорал на них Манион. — Иначе вам придется добираться домой вплавь. — Моряки посмеялись, шутливо отдали ему честь и уселись на места. Манион рявкнул на громоздкого Джорджа: — А вы извольте сесть посередине, чтоб вам пусто было! Нечего тут крен создавать. Не то еще потопите нас после того, как поганые испанцы не смогли это сделать.
Джордж расхохотался и пересел на другое место.
Где-то за галерой заиграли трубы. Даже здесь, издалека, было слышно, как на берегу воины садились на коней. Испанцы увидели: их огромный корабль сел на мель. Часовые решили, что это один из английских военных кораблей подошел к берегу, собираясь высадить десант и отрезать Кадис от подкреплений, за которыми послали испанцы.
Грэшем поглядел на моряков в лодке. Он разговаривал с ними спокойно и властно, несмотря на свой юный возраст, и они подчинялись ему. Неужели эти люди не заметили его страха перед смертельной опасностью, перед пушечными ядрами, которые могли убить или покалечить любого из них и его самого?
Вскоре они подобрали двоих своих товарищей со второй лодки, живых и здоровых, еще одного, раненного в руку, и четвертого, смертельно раненного в живот… Все понимали: с каждым из них могло случиться нечто подобное, если бы старший пушкарь на испанской галере сначала решил выстрелить по их лодке. «Не так уж много стоит жизнь, если все здесь зависит от счастливого случая, как при игре в кости», — подумал Грэшем.
Когда они благополучно добрались до «Елизаветы Бонавентуры», ожидавшие их товарищи подняли раненых на борт. Грэшем отметил про себя, что их корабль погрузился в воду гораздо заметнее, чем прежде, — очевидно, его сильно нагрузили захваченной добычей. Он уже собрался подняться по лестнице на корабль, как вдруг, словно пораженный какой-то мыслью, повернулся к стоявшему рядом Маниону.
— Дрейк знал о галерах в засаде? — спросил он. — Да знал ли он вообще, что именно меня посылает захватить мост? Может быть, он впотьмах принял меня за кого-то еще?
— Кто его разберет, этого Дрейка? — пожал плечами Манион. — Говорят, будто он колдует, чтобы узнать, где стоят вражеские корабли.
— Но если он знал о галерах, — продолжал Грэшем, — то не пытался ли он просто убить меня?
— Однако если бы вы сгинули, Бэрли бы ему этого не спустил, — заметил Манион.
— Да ведь на войне трудно бывает разобраться, что произошло, — возразил Грэшем. — Просто какой-то горячий молодой человек хочет доказать, что он храбрец, и бросается в темноту, не зная о поджидающих его испанских кораблях. Хороший предлог для Дрейка.
— Но если так, — поразился Манион, — значит, Дрейк собирался убить еще пятнадцать, а то и тридцать своих людей!
— Выходит, так, — ответил Грэшем. — И если это правда…
— Да это ерунда какая-то! — вмешался Джордж. Он уже стоял на палубе и теперь помог другу подняться на борт. — Рассудим здраво. А вдруг тебя послали шпионить за самим Дрейком? Ну и что из этого? Для него ты — что-то вроде назойливой мухи. Но скажем прямо: твоя персона для Дрейка не так уж много значит, чтобы из-за этого ссориться с большими шишками в Лондоне.
— Или моя персона вообще ни для кого не важна, — меланхолически заметил Грэшем.
Неизвестно, применял ли Дрейк колдовство для обнаружения вражеских кораблей, но Грэшема он всегда находил без всякого колдовства. Если он и удивился, увидев возвращение молодого человека, то на его бесстрастном лице это никак не отразилось.
— А почему вы здесь, а не на мосту?! — рявкнул Дрейк. — Я послал вас взять мост, а не бежать домой подобно зайцу от ничтожных испанцев! Снова оскорбительное обвинение в трусости!
Грэшем молча извлек свинцовый осколок мушкетной пули, застрявший в ткани его левого рукава, и, глядя в глаза Дрейку, швырнул ему этот осколок. Дрейк не пытался поймать его, и кусочек свинца, отскочив от его пуговицы, упал на палубу. Грэшем никогда прежде не испытывал такой злости, как в этот момент, но сумел сохранить хладнокровие.
— Я готов доказать свою храбрость, сэр Фрэнсис, и могу сделать это теперь же. Но я не хочу, чтобы меня считали за дурака. Одиннадцать ваших людей погибли, и еще один, боюсь, долго не проживет. Только идиот мог послать баркас с людьми, вооруженными только мечами и мушкетами, против галеры с полным вооружением. Но я сам лично вместе с моим слугой готов сесть снова в ту же лодку и отправиться в пасть испанской галеры, по-прежнему следящей за портом. Моста вы не получите. Тридцать человек на двух лодках не завоюют его для вас, но вы получите мою гибель, если именно это вас интересует. А я сохраню свою честь.
Среди моряков, стоявших позади Грэшема, раздался ропот. Дрейк внезапно выхватил пистолет и прицелился в лоб Грэшема, застывшего в двух шагах от него. Затем Дрейк спокойно взвел курок. Грэшем скорее почувствовал, чем увидел, как Манион сделал едва заметное движение. Скорее всего он готовился метнуть в Дрейка один из двух ножей, которые он прятал в рукавах. Грэшем слегка покачал головой, и Манион отступил на шаг назад. Дрейк заметил их немую перекличку и сказал:
— Если я захочу убить вас, я вас убью!
С этими словами он выстрелил, отведя руку с пистолетом в сторону на дюйм или два. Грэшем видел вспышку выстрела, но ничего не почувствовал. К его собственному изумлению, он остался жив и невредим. Пуля пролетела мимо и упала где-то за пределами корабля. Дрейк заткнул пистолет за пояс и разразился хохотом.
— Испанцы не смогли убить вас, Генри Грэшем, с трех раз, — заявил он. — Я мог бы убить вас с одного. И между прочим, — добавил он уже спокойным тоном, — вы правы. Мне следовало послать туда два-три катера, а не два баркаса без артиллерии. Это моя ошибка. Ошибка, стоившая жизни моим людям. Я буду молиться за них. Свою промашку я осознал почти сразу. Поэтому вторая галера стала преследовать два катера, которые я выслал на подмогу. А вам, — продолжал он, обращаясь уже не столько к Грэшему, сколько к его товарищам, — я советую молиться за меня, так как я решил не убивать вас. Я это делаю куда лучше испанцев.
С этими словами Дрейк удалился в свою каюту. Его приближенные наградили его речь смехом.
— О Господи! — простонал Манион, только теперь отпустивший рукоять. — И откуда он только явился, этот Дрейк?
— Откуда угодно, но к Господу он явно не имеет отношения, — заметил Грэшем. Сейчас ему хотелось только одного — поскорее заснуть и спать без сновидений.
— Интересное дело, — сказал Джордж, уже раздобывший где-то кусок вяленого мяса и начавший его жевать. — Возможно, мой отец заплатил за порох, которым заряжен его пистолет!
Герцог Медина Сидония хорошо знал: от испанской знати требуется, помимо истинной католической веры, еще два обязательных качества. Во-первых, каждый знатный человек должен хорошо управлять имением, быть достойным землевладельцем, берущим на себя ответственность и за урожай, и за людей, которые его выращивают. Во-вторых, он должен быть хорошим военным, а значит, уметь убивать (возможно, даже тех же людей) и разрушать все, созданное другими землевладельцами и земледельцами. Правда, сейчас любимые апельсиновые рощи герцога находились вне опасности, а люди, ухаживавшие за апельсиновыми деревьями, жили относительно благополучно. Только в этих местах он мог по-настоящему отдохнуть и получить удовольствие от жизни. В своем огромном особняке он никогда не бывал один. Здесь же царили тишина и покой, а те, кто работал на его землях, знали привычки хозяина, старались не беспокоить его и говорили с ним только тогда, когда он сам заговаривал с ними. Здесь он мог отдохнуть и от тяжелого бремени обязанностей, связанных с его имением и его положением в обществе.
Вот даже сейчас мыслями он невольно возвращался к последним новостям. Чему именно верить? Вероятно, вчерашний гонец отбыл слишком рано и сообщил только слухи, прежде чем совершились реальные события. Ясно одно: королева Шотландии действительно казнена, а это скорее всего изменит политическую ситуацию в Испании. Что теперь будет делать король Испании Филипп, затворившийся в горном замке Эскориал, корпевший над своими нескончаемыми бумагами и страдающий от приступов подагры? Заставит ли испанского короля католической веры начать войну казнь королевы той страны, которой и Филипп некогда фактически правил? Герцог, конечно, будет верен своему королю, об ином и помыслить невозможно. Но все же здесь, на землях предков, в своем родовом имении, Сидония иногда позволял себе помыслить о немыслимом. Воевать из-за королевы Марии — не похоже ли это на фарс? Эта женщина выбрала католицизм, как другие берут плащ в холодную ночь. Она сначала вышла замуж за идиота-сифилитика, причем пол-Европы считает, будто она его и убила, а потом еще связала свою судьбу с шотландским военачальником — пьяницей и гулякой. К тому же она — француженка по происхождению, а французские короли издавна являлись злейшими врагами испанцев. Ну и зачем Испании воевать из-за распутницы и сумасбродки?
Сидония не считал себя гением, но втайне полагал, что все же обладает большим здравым смыслом, чем его король, живущий к тому же в изоляции. Конечно, монарх есть монарх, но глупо полагать, словно он всегда поступает по воле небес. Люди (даже короли) вообще не всегда в состоянии постигнуть высшую волю. На то они и люди. И вообще, если Господь некогда обращался к своему избранному народу через пророка Моисея, то почему такую же роль, как Моисей, сегодня могут играть разумные министры и советники испанского короля? Может быть, его величеству следует прислушаться к их мнению? А прежде всего вся натура герцога возмущалась против идеи морской войны. Шторм может задержать отправку армии, а может погубить весь флот — ведь ни люди, ни животные не властны над стихиями. Война и так во многом зависит от поворота судьбы, зачем же вмешивать во все это стихии волн и ветров, которыми люди управлять не могут?
Новости или слухи, взволновавшие герцога сейчас, касались человека, который будто бы мог обратить море на пользу испанцам. Маркиз Санта-Крус не был просто адмиралом Испании. Он был самым искусным адмиралом в мире. Именно его галеры разбили турецкий флот в битве при Лепанто и спасли Европу от завоевания неверными. Иначе и в Мадриде сейчас стояли бы мечети. Известно, что суровый и жестокий старик долгое время болел. Теперь же, если верить гонцу, он находился на смертном одре.
Сидония дошел до конца одной из своих рощ и с удовольствием оглядел открывшуюся перед ним равнину. Насколько надежнее твердая земля, чем море, на которое никогда нельзя положиться! А между тем король собирался послать свою Армаду против испанцев — без своего лучшего адмирала. Разумно ли так поступать? Вообще-то всегда можно добиться успеха, имея достаточно денег и достаточно времени, если Господь будет на твоей стороне. Но без Санта-Круса подобное начинание обойдется слишком дорого. На сей раз удивительный аромат апельсинов не оказал на герцога успокаивающего действия. Он покинул рощи с тревогой на душе.
Только в полночь к нему прибыл гонец из Кадиса и сообщил: порт подвергся нападению превосходящих сил английского флота под командованием, вероятно, самого Дрейка. Герцог проснулся среди ночи, как только слуга принес в его спальню это известие, и тут же позвал секретаря. Слуги одевали его без особой спешки, ведь он мог диктовать приказы, сидя на постели, пока они суетились вокруг него, предлагая ночной горшок, а затем — рубашку и панталоны, чья стоимость была достаточной для того, чтобы любой из его крестьян мог на эти деньги питаться целый год. Всего его обслуживало человек десять — пятнадцать. Что ж, как говорил сам герцог, великие мира сего должны жить так, как от них того ожидают.
Андалусия являлась военной провинцией Испании. Войско, прежде всего местное ополчение, стояло здесь как раз для того, чтобы отражать набеги корсаров. Герцог мог за несколько часов собрать в поход триста кавалеристов и три тысячи пехотинцев из разных местных гарнизонов. Он раздумывал, собрать ли их у себя дома, в Сан-Лукаре, или приказать им присоединиться к нему по дороге. Или лучше отправить их прямо в Кадис? Решив, что сейчас важнее всего — быстрота, герцог выбрал последний вариант. У себя он не соберет войска раньше полудня, а многие придут и к вечеру. Что из того, если он сам пока не будет командовать ими? Герцог едва заметно усмехнулся. Может быть, даже лучше, если командование возьмет на себя комендант крепости Кадиса. Еще немного промедления, и Дрейк получит возможность высадить десант, опустошить город, а его матросы сделают беременными столько женщин, что впоследствии появится целый город, населенный потомством еретиков.
Подавив в себе желание тут же пойти и сесть на коня, хозяин уселся в столовой, где слуги подали ему разные холодные мясные блюда, оставшиеся от вчерашнего ужина. Он располагал не больше чем двадцатью минутами.
Небольшой свиты герцога — всего тридцать всадников и пятнадцать слуг — было пока достаточно. Верховые солдаты, обычно сопровождавшие его, являлись отборными кавалеристами, сидевшими на лучших конях, и только человек, лишенный разума, мог в такое время не послать их в гарнизоны и на аванпосты, собираясь отправить войска и ополчение в Кадис.
Герцог не оглянулся на любимые им апельсиновые рощи. Он только кивнул на прощание своим домашним, вышедшим проводить его. Дать сейчас волю чувствам значило бы проявить слабость публично и не соблюсти поддерживаемую им дистанцию между ним самим и простыми людьми, которыми он управлял. Он не уступил побуждению оглянуться и посмотреть в глаза жене. О нем болтали, будто он подкаблучник, женатый на португальской ведьме. Как мало знают люди!
Вскоре после того как провожатые скрылись из глаз, Сидония пришпорил коня. Даже великий герцог не будет защищен от ярости короля, если прибудет в Кадис, когда от города останутся дымящиеся руины. Герцог невольно посмотрел на небо и тут же выругал себя за глупость. Расстояние до Кадиса было, конечно, слишком велико, чтобы увидеть дым пожарищ, — разве что Дрейк подожжет все побережье.
Глава 4
Май — 18 Июня 1587
Нидерланды, захват Сан-Фелипе
Правитель Нидерландов Алессандро Фарнезе, герцог Пармский, прочел письмо своего родича Филиппа II Испанского с великим вниманием. Помощники герцога безмолвно ожидали его указаний. Письмо оторвало его от позирования художнику, писавшему портрет герцога. Именно поэтому он красовался сейчас в экстравагантном наряде: при непокрытой голове шею его окаймляли широкие, по моде, брыжи, камзол украшало золотое шитье, причем сам камзол и рукава в кружевах различались по цвету. Однако прежде всего привлекало к себе внимание лицо герцога. Но не прямой нос, коротко стриженные черные волосы или ухоженные борода и усы. Взгляд приковывали темные глаза герцога: в них ощущались какая-то загадочность и глубина, как у человека, много повидавшего и пережившего. Посторонним людям казалось странным, что у него такой грустный взгляд. В конце концов, он являлся внуком императора Карла V, племянником короля Филиппа II, человеком, о котором можно сказать, что он не просто родился в сорочке, а при его рождении мир лежал у его ног. Кроме того, это был человек сильный, красивый и, бесспорно, умный. Чего же ему недоставало? Главу дома Фарнезе уважали не только в Италии, но и во всей Европе. К тому же с самого начала герцог Пармский выбрал для себя карьеру военного. В двадцать шесть лет он служил помощником коменданта во время битвы при Лепанто. Многие молодые люди погибли в той легендарной битве, а те, кто остался жив, покрыли себя неувядающей славой. Ведь именно тогда удалось остановить орды неверных; и победа эта свершилась не ради людей, но во имя Бога.
А потом в тридцать восемь (всего лишь!) лет герцога назначили командующим королевской армией во Фландрии, тревожной провинции, где голландцы-еретики воевали не только с испанцами, своими временными хозяевами, но и с истинной верой. Ему удалось снова завоевать большую часть Фландрии благодаря своей блестящей стратегии, тактике и умению использовать фанатичную преданность своих солдат. Говорили, будто Антверпен станет могилой для этого военачальника, которого ждет унизительное поражение, но он посрамил болтунов, взяв Антверпен. Если многие испанцы считали Дрейка исчадием ада, то не меньше англичан так же оценивали герцога Пармского.
Герцог дочитал письмо, аккуратно сложил и вернул секретарю.
— Мы готовим вторжение в Англию, — объявил герцог своим помощникам. Те вопросительно посмотрели друг на друга. — Король сейчас собирает великую Армаду, — продолжал он, — намереваясь послать ее к берегам Англии. Она отвлечет на себя английский флот, а мы, воспользовавшись этим, переправимся через Ла-Манш и высадимся в Англии.
Герцог говорил спокойно, никак не выдавая своих чувств. В его распоряжении находилась тридцатитысячная армия, лучшая в Европе и в мире. Никто не сомневался: если только эта армия сможет высадиться на английских берегах, она пройдет через Англию, как нож через кусок масла. Его подчиненные не знали, что сказать. Наконец один из них решился нарушить молчание. Он служил герцогу со времени битвы при Лепанто, пользовался его наибольшим доверием и нередко говорил и от имени своих товарищей.
— У нас здесь нет глубоководных портов, — сказал он. — Голландцы выходят в море на мелководных судах, патрулируя свое побережье, и могут входить в гавани, куда не войдет ни один большой португальский галеон.
Ни для кого не являлось секретом, что после недавнего присоединения Португалии ядро испанского военного флота составляли лучшие португальские корабли. Испанские галеры предназначались для сравнительно тихих вод Средиземного моря. Португалия же, ныне вассальная по отношению к Испании, давно умела строить океанские галеоны, и некоторые из них считались самыми прочными и надежными в мире. Герцог Пармский молча посмотрел на своего помощника. Тот продолжал:
— Легкие голландские суденышки смогут потопить наши баржи, прежде чем мы встретимся с испанской Армадой.
— Да, и «мы никогда не возьмем Антверпен», — ответил герцог с намеком более чем прозрачным. — Они все же взяли Антверпен, совершив невозможное.
— Но как? — спросил вдруг один из старших офицеров, которого герцог также знал как одного из самых верных людей. Они вместе бывали на переднем краю боевых действий. Герцог Пармский чаще бывал со своими офицерами на фронте, чем в своем штабе. Это была одна из причин, почему его любили подчиненные.
— Как мы взяли Антверпен? — переспросил герцог. — Мне казалось, вы знаете это. Разве не вы планировали ту операцию? — Люди, сидевшие за столом, рассмеялись, напряжение смягчилось.
— Речь не об Антверпене, государь. — Офицер с улыбкой поклонился герцогу в знак принятия шутки. — Каким образом наши солдаты смогут попасть в Англию, обойдя голландские суда?
— Существуют каналы, старые и новые, — задумчиво ответил герцог. Все знали: по его приказам на голландских равнинах его люди роют новые каналы за несколько дней, так что его солдаты появились там, где их никто не ждал. — Есть пустые суда, которые можно послать к побережью и отвлечь внимание треклятых голландцев от их настоящего противника. Существуют высадки на берег в полночное время, когда никто, даже голландцы, не может разглядеть, что происходит, если все происходит достаточно быстро. — Неожиданно он встал, и его помощники почтительно склонили головы. — Но прежде всего у нас есть армия. Что, если мы возьмем Слис? Остенде? Наконец, всю Фландрию?
Офицеры невольно напряглись в ожидании дальнейших слов герцога. Их командующий предлагал последний сокрушительный удар, чтобы наконец покончить с войной, стоившей Испании больших денег и большой крови.
Герцог Пармский сделал знак секретарю, и тот снова передал ему письмо короля.
— У меня будет достаточно времени все это продумать, — заметил герцог. — Я не поеду в Парму. Король пишет: мой долг — оставаться здесь.
Итак, герцог не получил разрешения навестить свою родину и имение, недавно им унаследованное. Он официально запросил отпуск в зимнее время, когда кампания не ведется и враждующие войска находятся на зимних квартирах.
Ему отказали. Конечно, ведь сейчас он необходим здесь, в Нидерландах. А может быть, король опасался, что, приехав из холодной, дождливой Голландии на свою теплую и прекрасную родину, герцог уже не захочет вернуться назад. Приближенные герцога огорчились: они-то хорошо знали, как их военачальник стосковался по родине.
— Ну что же, — заметил герцог, — хотя нам еще предстоит покорить Фландрию, придется подумать о завоевании еще одной страны.
Грэшем не мог уснуть. Дрейк уже готовился покинуть порт Кадиса. Как ни удивительно, для него все обошлось благополучно. Пушкари, обстреливавшие английскую флотилию из двух огромных береговых орудий, так и не смогли попасть ни в одно судно и ни одна из испанских галер не прибыла блокировать выход англичан из гавани. Испанские войска, вошедшие в Кадис в полном боевом порядке, не имели возможности достичь английской флотилии. Испанцы пробовали направить к ней для поджога корабли-брандеры, но при отсутствии ветра это не дало ожидаемых результатов. Дрейк стоял на капитанском мостике в прекрасном настроении. Его секретарь, как обычно хмуро сосредоточенный, пытался учесть все захваченные англичанами товары. Дрейк скучал. Секретарь взглянул на горевшие в гавани испанские брандеры и заметил:
— Ну, милорд, кажется, испанцы делают вашу работу за вас.
Дрейк с интересом посмотрел на секретаря, потом спустился вниз и прошел к носовой части судна. Там собралась большая часть его команды, но мало кто спал.
— Эй, ребята! — гаркнул Дрейк, махнув рукой в сторону горевших кораблей. — Испанцы за нас делают нашу работу!
Моряки ответили на его шутку дружным хохотом. Грэшем подумал о том, что смеяться пока рано: горящие брандеры пока представляли некоторую опасность.
Утром штиль закончился, и попутный ветер погнал корабли Дрейка в открытое море. Сам он стал теперь гораздо богаче, чем до прихода в Кадис.
— Ну, — заметил Джордж, оглядывая опустошенный порт, — это не поможет Филиппу совершить вторжение в Англию!
— А предотвратит ли это его? — спросил Грэшем.
— Нет, — ответил Джордж, подумав с минуту. — Испанского короля не так легко запугать. Но он отсрочит его на несколько месяцев.
Джордж тоже не спал и теперь пытался поднять на ноги Грэшема. Тот мягко отстранил руку друга и сел на палубе.
— Наконец-то мы сдвинулись с места, — объявил Манион. — А то я больше не мог выносить этих испанцев.
— Они могут выносить и не таких, как ты, — ответил Грэшем, зевая. — За что ты их так ненавидишь? — спросил он, скорее для того, чтобы отвлечься от усталости после трудного дня и после ночи, проведенной на палубе. — Я знаю, я сам должен их ненавидеть — ведь я англичанин. Но я не могу поверить в порочность целой страны, чьи жители возводят такие прекрасные здания. И сколько удивительной красоты в их мессах, в их музыке! И разве не они спасли Европу от турок в битве при Лепанто? Их страна не лишена славы. За что ты ее ненавидишь?
— Я не так ненавижу всех испанцев, как одного поганого дона Альваро де Базана, первого маркиза Санта-Круса, — неожиданно ответил Манион. Он выговорил имя первого адмирала Испании четко, даже с испанским выговором, причем ядовитым тоном, которого раньше Грэшем у своего слуги не замечал.
— А за что ты ненавидишь человека, которого никогда не встречал? — спросил Грэшем, теперь уже с интересом.
— Вот тут вы не правы, — ответил Манион, не глядя на хозяина. — Я его встречал.
— Расскажи, — попросил Грэшем. Он знал: если подгонять слугу, тот может и передумать. Манион делал то, что хотел, а не то, чего хотели от него. Еще и поэтому Грэшем уважал его и ценил его дружбу.
— Ну ладно, — как бы нехотя заговорил Манион, — оно можно бы и рассказать… Да как бы из этого какого вреда для ваших испанских дел не вышло. Давайте уговоримся: пусть все это останется между нами. Никому об этом не болтайте, даже тем красоткам, с которыми вы спите. Или в колледже, когда выпьете. Ну, если мы вообще туда доберемся. — Манион посмотрел на Джорджа, лежавшего рядом. Он, очевидно, надеялся, что тот слит и не услышит рассказа.
«Кому я могу раскрыть твои секреты? — подумал Грэшем. — У меня и нет никого, кроме тебя и того детины, храпящего рядом со мной».
Вслух он сказал:
— Болтать не стану.
Манион кивнул и уселся рядом с ним.
— Ну так вот, — начал он рассказ, — служил я, знаете, корабельным боем. Родителей я не помню. Рос я приемышем у какого-то сапожника, и сапожник он был так себе, народ к нему не очень-то шел чинить обувь. Он мне и говорил, что я — подкидыш, а он возится со мной, так как он — очень уж добрый человек. Хотя доброты-то я от него никого не видал. А когда я подрос немного, он сбыл меня с рук: продал капитану судна, отправлявшегося из Дептфорда.
Грэшем знал: корабельных мальчишек-боев использовали для самой грязной работы. Они, если выдерживали такую жизнь, могли стать корабельными уборщиками, и только после этого перед ними открывалась дорога в матросы. Они проходили очень тяжелый путь освоения морской профессии, и во всех портах передавались зловещие слухи о том, как матросы используют мальчишек вместо женщин, или о том, как строптивых из их числа сбрасывают за борт в открытое море…
— Ну, капитан Чикен был неплохой мужик, — продолжал свой рассказ Манион, — хотя для капитана фамилия у него не самая подходящая. Ну, лет пять я там проболтался, пока смог стать настоящим матросом. Вы, поди, удивились, что я так много знаю о кораблях? А я знаю больше, чем половина этих придурков. — Он махнул рукой в сторону членов команды, спавших вокруг них. — Тогда-то капитан получил новый корабль. Мы ходили в Кадис, везли хорошее сукно из Англии, а обратно — хорошее испанское вино.
— В Кадис? В тот самый порт? — изумленно переспросил Грэшем, поворачиваясь к слуге.
— В тот самый. В проклятую сучью дыру. Ну, мы пришли в порт, разгрузились и стали, значит, ждать, когда вино погрузят. И вышла какая-то проволочка, не помню уж из-за чего. Наши матросы сошли на берег (я-то на корабле остался служить капитану и его доброй жене). Ну, наши, стало быть, сошли на берег и подрались там с какими-то испанцами. А дальше случилось вот что: человек пятьдесят солдат поднимаются на борт нашей старушки «Розы Дептфорда», и не успели мы глазом моргнуть, как все оказались на берегу, в испанской тюрьме, помилуй Господь наши души! Они со своими животными обращаются лучше, чем обращались с нами!
Ну, потом, когда они покуражились над нами, они нас потащили, как они это называют, в суд. А теперь угадайте, кто из ихних старших командиров был в суде за главного, кто заворачивал всем этим делом?
— Маркиз Санта-Крус? — тихо спросил Грэшем.
— А то кто же еще! Его поганые галеры зачем-то тогда пришли из Меда в Кадис — они вроде тех проклятых галер, которые нас вчера чуть не утопили. Они, наверно, хотели доказать, что это настоящие морские суда, не просто стоящие у берега. Но на самом деле, скажу я вам, это не настоящие морские корабли. Для Северного моря они, по-моему, не годятся.
— А что произошло дальше? — спросил Грэшем.
— Нас обозвали пиратами-еретиками. Хорошенькое дело! Я-то думал, мы английские христиане, пытающиеся честно заработать себе на жизнь. Сучий лорд Дрейк — вот уж точно пират и еретик, но его-то они не схватили. Схватили они нас и тут же вынесли нам приговор.
— Приговор?
— Капитана приговорили сжечь как еретика. А нас всех заставили смотреть на казнь, и его жену тоже. Такая уж у испанцев вера! А потом тех из нас, у кого оставалось хоть немного силы, отправили на галеры. А этот запах… когда человека жгут на костре заживо… В жизни его не забуду…
— Так ты был рабом на галерах! — воскликнул Грэшем, не веря своим ушам. — Но это ужасно… это невероятно… — Грэшем не находил слов. Он знал, что, хотя в это трудно было поверить, часть гребцов на испанских галерах делали это «добровольно», точнее, их вынуждала к этому нищета и угроза голода. Знал он также, что среди гребцов находилось немало преступников, приговоренных, по существу, к медленной смерти.
— Для меня не так уж «невероятно», — горько сказал Манион. — На все время, пока ты в море, они приковывают тебя к скамье. Ну, правда, на скамьи подкладывают что-нибудь мягкое, не то за полчаса у тебя слезет вся кожа с задницы. Да и кормят, надо сказать, нормально, что есть, то есть. Им же надо, чтобы ты долго мог работать. И все это — благодаря маркизу Санта-Крусу Никогда его не забуду! Ну, и мы там были все в грязи и в дерьме, и от мух деваться было некуда… Они называли это судом, но они все уже решили задолго до того, как нас к ним притащили.
— Как же ты выбрался оттуда?
— Мне просто повезло. Турки-то на море остались и после ихней битвы при Лепанто. Однажды послали наш корабль выбить отсюда дерьмовых турецких корсаров. Ан вышло по другому. У них на кораблях есть здоровенные тараны, окованные медью. Наш капитан, видать, чего-то не рассчитал, и нас протаранили. Ихний таран расколол корпус как скорлупу. В того, кто сидел справа, ударил таран… Мокрое место осталось. А тому, кто сидел слева, в живот попал здоровенный осколок корпуса…
— А ты?
— А мне ничего не сделалось. Таран разбил ту скамью, к которой прикреплялось кольцо с цепью. Я освободился, если не считать того, что сама цепь, дьявольски тяжелая, все еще оставалась на мне. Да и наша галера пошла ко дну, и на палубе уже в это время воды набралось по колено.
— И как же ты спасся? — спросил Грэшем, как ребенок, желающий знать конец сказки (хотя сказок ему в детстве никто не рассказывал).
— Ну, а вода все прибывала. И тут я увидел — рядом со мной плавает ключ от кандальных замков. Надсмотрщик держал его у себя в кожаном футляре, да, видать, обронил. Вода уже дошла мне до пояса. Пришлось мне набрать воздуха в грудь и присесть, чтобы открыть замки на ногах. Один-то я открыл, да тут корабль накренился — и я сам обронил ключ. Мне хотелось вздохнуть, но голова находилась под водой, и я, вместо того чтобы подняться, принялся как сумасшедший шарить руками вокруг и нашарил его.
— Ключ? — спросил Грэшем.
— Ну да. Ну, я открыл второй замок — ноги мои освободились!
— А что было дальше?
— Плохо помню. Помню только, как я плыл и дышал чистым воздухом.
— Да домой-то ты как добрался? — не унимался Грэшем.
— Ну, это уже другая история, — ответил Манион, решивший, что он уже достаточно разоткровенничался сегодня. — Главное, я опять попал в Англию. Ваш отец взял меня на работу садовником! Вы не поверите, как мне по нраву это дело. Стоишь обеими ногами на Божьей земле! Да чтоб я еще когда-нибудь встал ногами на ту зыбкую палубу. Но, скажу я вам, когда я услыхал, что мы отправляемся в этот Кадис, да еще с Дрейком, я подумал: «Спаси нас Господь!» А когда я опять увидал галеры… Я готов был просить вас убить меня, только бы не попасть в руки к этой сволочи!
— Но ты не попросил об этом.
— Да мне самому показалось, что я спятил. Да я и так решил, что нас все одно убьют, хотя и надеялся, что, может быть, все обойдется. Ну, и не зря надеялся.
Грэшем взглянул в глаза слуге. Только теперь он понял, чего стоило Маниону их совместное путешествие.
— Почему же ты решился отправиться сюда со мной? — спросил он.
— Ну, знаете, люди вроде меня не выбирают сами, что им делать. Если им везет, они могут выбирать, от кого это зависит. Я выбрал вас. Ну, а дальше все понятно. Любите Испанию, если она вам так нравится. Я не разбираюсь в странах. Я понимаю только в людях.
Когда Сидония прибыл в Кадис, в городе начался хаос. Отряды войск стояли вокруг города, каждый — со своим командиром. Часть солдат уже напилась, и потребовалось не так много времени, чтобы они вышли из-под контроля и начали грабить или насильничать. Единственное, что несколько успокоило Сидонию, — дым поднимаемся только над портом, а город остался невредимым.
— Что прикажете, сеньор? — спросил командир ополченцев. Он знал репутацию Сидонии. Тот считался жестким, но справедливым военачальником. Сам же Сидония, хотя и не обучался военной стратегии, знал, что здесь следует делать. Он взял пятьдесят лучших конников и отправился в город, задерживая дебоширов и пьяниц и отправляя их в тюрьму при замке. Из людей, способных на организованные действия, Сидония сформировал небольшие смешанные отряды из конных и пеших. Эти мобильные отряды он расположил вдоль берега на случай возможной вылазки англичан. Командование отрядами он поручал либо тем, кого знал лично, либо просто авторитетным офицерам. Затем он велел расположить в нескольких точках легкие орудия, имевшиеся в городе. Теперь пусть противник высаживает десант! В каменных складских помещениях он велел собрать запасы пороха и пуль, сделав боеприпасы легко доступными для его береговых отрядов, но недоступными для противника. Затем Сидония послал гонцов на галеры и установил связь со всеми испанскими кораблями. Заодно послал верхового в соседнюю рыбацкую деревню с достаточным количеством золота, решив отправить целую рыбацкую флотилию в море на поиски военных кораблей под началом Рекальде, с тем чтобы вызвать его обратно в Кадис.
Сидония сильно устал к концу этих приготовлений, а одежда его стала пыльной и грязной. Для командующего это не годилось. Он выбрал какую-то лачугу бедняков по соседству и велел своим солдатам выгнать оттуда ее обитателей, невзирая на их протесты. С ними все равно ничего плохого не случится, а потом еще пойдут разговоры об их знакомствах, ведь у них дома переодевался сам великий герцог. Слуги Сидонии переодели его в новый наряд, более роскошный, чем его дорожный костюм. Пусть люди видят перед собой блестящего представителя государя, это даже полезно.
Мог ли он достойно ответить на наглость англичан, вторгшихся в испанский порт? Возможности его были невелики. Можно послать против англичан корабли-брандеры, но ветра сейчас почти нет, и те смогут легко оттащить их в сторону с помощью небольших судов. Сидония не позволял себе недооценивать противника, как поступали многие из его собратьев, испанских аристократов. Пусть англичане — проклятые еретики, но они профессионалы. И все же надо послать брандеры. Даже в случае неудачи это поднимет дух гарнизона и жителей города.
Герцог сделал перерыв, чтобы перекусить и выпить вина, прежде чем снова сесть на коня и инспектировать результаты своих дневных приготовлений. За несколько часов беспорядок превратился в порядок. Лицо герцога было спокойным, оно не выражало ни удовлетворения результатом своей работы, ни ненависти к английским захватчикам. Но про себя он впервые пожалел, что у Испании не было сильного флота, чтобы отомстить англичанам.
Дрейк приказал послать баркас, намереваясь осмотреть все корабли, вышедшие из гавани в открытое море — не нанесено ли им какого-то ущерба. Моряки, выполнявшие это задание, удивлялись все больше.
После первого залпа пушек, которые испанцы установили на берегу, был пробит корпус «Золотого льва» и оторвало ногу старшему пушкарю на этом судне; однако в дальнейшем, несмотря на яростную канонаду противника, больше ни на одном корабле не случилось ни пробоин, ни потерь. Английские команды находились в хорошем расположении духа. Более того, у людей появилась уверенность в собственной неуязвимости.
Манион и Грэшем располагались на этом баркасе, и Манион рассказывал хозяину об особенностях артиллерии.
Грэшем поинтересовался, отчего испанцы так часто не попадают в цель.
— Ну, тут вот в чем дело, — начал Манион.
— У них пушкари — безмозглые придурки, — вмешался один из матросов. В небольшой компании приватный разговор практически невозможен. — У них там задницы вместо голов! — Он сам засмеялся своей, как он считал, удачной шутке.
— Ну, кроме того, порох стоит страшно дорого, — продолжал Манион, — а потому им не очень-то дают практиковаться. Они выпустили нынче утром больше зарядов, чем за целый год.
— Что взять с идиотов! Ничему путному их не научишь, полудурков, — вставил тот же матрос, решивший взять на себя роль главного оратора.
— Теперь возьмем ядра, — продолжал Манион. — Хороших-то очень мало, если вообще есть. Есть такое название — «поправка на снос ветром». Ну, должно быть расстояние между ядром и внутренней частью ствола. Если оно больше, чем надо, толчок получится не той силы. Если оно — в самый раз, ядро летит дальше.
— Снос ветром, говоришь, — опять вмешался матрос. — Я говорю: их пушкарям только ветры пускать.
— Теперь возьмем порох. — Манион никак не реагировал на его комментарии. — Он весь разный и горит по-разному. Даже в одной партии может быть сегодня — один, а завтра — другой.
— А в результате, — закончил матрос, — ни один пушкарь не может точно попасть своей струей в ночной горшок!
В Англии было мало запасов селитры. Только умелое применение мочи могло в то время компенсировать естественный дефицит. Все артиллеристы знали — без этого пороха не получишь. Данное обстоятельство и служило пищей для их своеобразного юмора.
Никогда в жизни Анна так не тосковала. Конечно, они взяли с собой на корабль книги, но большую часть книг составляли проповеди или нравоучительные сочинения. Она перерыла их не один раз, боясь оставаться наедине со своими мыслями. Иногда она прогуливалась по палубе, ловя на себе восхищенные взгляды мужчин, смотревших ей вслед. Сначала это занимало и волновало ее: приятно ощущать себя в центре внимания. Но однажды она обернулась, заметила выражение откровенной похоти в глазах мужчины, не успевшего отвернуться, и ей стало тошно. Ее отец на Гоа пытался разводить лошадей, не столько ради дохода, сколько для приятного времяпрепровождения. Однажды Анна случайно оказалась на ранчо, когда там спаривали жеребца с кобылой. Она также помнила маленьких, славных жеребят, которых ей разрешили приласкать. Жеребята выглядели ужасно милыми и трогательными, но то, что привело к их появлению на свет, выглядело грубо, жестко и неприятно. Выходит, и французский купец овладеет ею таким же образом?
Анна не перестала прогуливаться по палубе. Гордость не позволяла ей поступить так. Кроме того, она чувствовала потребность в движении, свойственную молодости.
Однако прогулки доставляли ей меньше удовольствия, чем прежде, когда она созерцала бескрайнее волнующееся море, заключавшее в себе постоянную опасность и одновременно наглядно являвшее собой величие природы. Анна заучила названия птиц, круживших над кораблем. Она любовалась ими и завидовала их, как ей казалось, свободе и беззаботности. Однажды на корабле стреляли из пушки, и это событие ей запомнилось. По правде говоря, большинство корабельных пушек нельзя было ни перемещать, ни стрелять из них: они были завалены всякого рода вещами, составлявшими корабельный груз, но одна или две находились в рабочем состоянии. Матросы бросили в море сломанную бочку в качестве мишени, навели орудие и сделали пробный выстрел. Анна слышала грохот выстрела и видела пламя. Ядро упало далеко в стороне от бочки; на том боевое обучение и закончилось.
Из других развлечений у Анны оставалось чтение и декоративное шитье, которое должна была освоить каждая молодая леди. Кроме того, она практиковалась в изучении языков. Для этого у нее имелось достаточно книг на испанском, английском, итальянском, латыни и древнегреческом. Ее отец считал: девушки должны быть образованными и знать несколько языков.
Ее матери нездоровилось. Иногда у нее даже начинался бред, и она не воспринимала происходящего вокруг. В другое время с ней можно было общаться, но она оставалась бледной и слабой. Анна не задавала ей вопросов о вещах, способных усилить ее страдания. Приходил к ним и корабельный врач, но он хорошо умел только отнимать конечности у моряков получивших серьезные повреждения в результате травм.
Анна ухаживала за матерью, понимая нависшую над ней смертельную угрозу. От нее теперь зависело слишком многое.
Дни проходили словно в тумане. Они зачем-то зашли в дыру под названием Сагрес, недалеко от мыса Св. Винсента. Тысяча с лишним человек высадились на берег, прошли пятнадцать миль под огнем противника, а затем вернулись, причем многих ранило, а еще больше было озлобленных, готовых взбунтоваться. Боро, один из капитанов, написал было жалобу Дрейку, а тот судил его военным судом и посадил под арест на его собственном корабле. На его место Дрейк назначил капитана Марчанта. Корабельные пушки англичан превратили замок Сагрес в руины.
— Наша цель — Лиссабон! — объявил своей усталой и измотанной команде Дрейк.
Видимо, он любил ставить своих людей перед фактом не давая им времени подумать. Обращаясь к секретарю, как обычно, стоявшему рядом с ним, Дрейк сказал:
— Мы потянули за бороду короля Испании.
Секретарь слегка покачал головой и тихо проговорил слово, которое Дрейк даже повторил, проверяя, не ослышался ли он. Слово «натягивать» на жаргоне означало «заниматься сексом». Секретарь, все с тем же отсутствующим видом, повторил это слово, к восторгу Дрейка. Он повернулся к членам своей команды и гаркнул:
— Мы натянули бороду королю Испании!
Грэшем обратился к Дрейку с просьбой высадить его на берег в Лиссабоне, но снова получил отказ, на сей раз — безо всяких объяснений.
Не собирались ли они атаковать Лиссабон? Среди моряков начался ропот. Команды устали, многие нуждались в медицинской помощи, а Лиссабон был прекрасно защищен, не в пример Кадису. Потом подул северный ветер, корабли Дрейка изменили курс и снова отправились на юг, к мысу Св. Винсента. Все больше людей заболевали. Дрейк отправлял их на берег и даже снарядил два судна для доставки тяжелых больных домой. Его флот грабил окрестное побережье, уничтожал сотни маленьких грузовых судов, снабжавших Армаду бочками (именно этого хотел Сесил в Лондоне!). Кроме того, они уничтожали множество рыбацких суденышек и разрушали до основания рыбацкие деревни. Именно рыба, пойманная этими людьми и провяленная, составляла одну из основ питания для всех испанских моряков.
Грэшем оказался замкнутым в затхлом мирке корабля «Елизавета Бонавентура». Он уже почти потерял надежду выйти на берег для выполнения задания Уолсингема. Он тосковал по колледжу и по Лондону, чувствуя себя изъятым из близкого ему мира. И главное, он не мог побороть какого-то странного «шестого» чувства — чувства неведомой опасности. Ему иногда казалось — это чувство как-то связано с долговязым Робертом Ленгом, якобы придворным, которого Дрейк представил как собственного биографа. «Хоть один человек расскажет правду о моей экспедиции», — объявил Дрейк. Грэшем знал: Дрейк повсюду видит врагов, даже там, где их и быть не могло.
А потом, дней через пять, Дрейк вывел свою флотилию в открытое море, отправил корабли с больными и ранеными на родину и взял курс на запад. Его матросы потирали руки в предвкушении поживы.
— Вот так-то! — говорил один из них. — Не иначе, увидел испанский корабль через свое волшебное стекло. Теперь-то, ребята, мы наконец заполучим настоящие сокровища!
— А ты сам когда-нибудь видел «волшебное стекло»? — насмешливо спросил Джордж, не веривший в эти россказни о Дрейке.
— Где там! — с сожалением отвечал матрос. — Все знают: оно теряет всю свою силу, когда в него смотрит кто-то, кроме самого Дрейка.
Грэшему до всего этого не было дела. Он не знал, что ему предпринять. Дрейк явно не собирался высаживать его на берег, а проплыть пять миль от корабля до португальского берега он бы не смог, даже если бы точно знал, куда надо плыть.
— Земля, в двух румбах от носа! — заорал впередсмотрящий. А потом он вдруг снова пронзительно завопил: — В двух румбах… А впереди такой здоровенный португальский корабль, что…
Матросы возбужденно загудели, а потом Дрейк заорал на весь корабль:
— Отставить сквернословие! Слышал, ты?!
— Да, да, виноват, сэр, — отвечал впередсмотрящий. — Но ведь действительно можно обделаться.
В ответ грянул общий хохот. Дрейк молча стоял на своем месте с непроницаемым видом.
— Вот это корабль! — воскликнул Грэшем. — Никогда еще не видел такого громадного судна. — Корабли Дрейка были довольно внушительными, но этот огромный португальский галеон водоизмещением равнялся, наверное, трем или четырем галеонам королевы Елизаветы. — Интересно, будут они драться?
— Навряд ли, — ответил Манион, спокойно взиравший на португальского гиганта, стоя у перил. — Эта штуковина, так вас поразившая, создана вовсе не для драки. Она пришла из испанской Индии, может быть, с Гоа, и снизу доверху нагружена пряностями. Перец, гвоздика, корица — словом — пряности! — Манион произносил наименования специй с чувством, будто имена бывших любовниц. И в самом деле, он любил деликатесы, сдобренные пряностями, не меньше, чем любил женщин, хотя не отказывался и от самой плохой еды, когда иной не было. — Ну, еще там полно шелка, коленкора, слоновой кости, — продолжал Манион уже с меньшим энтузиазмом. — И конечно, изрядное количество драгоценностей. Ну, может, золота и серебра там будет поменьше, чем на судне, пришедшем из Панамы, но все равно этого добра хватает.
— А женщины есть? — с надеждой спросил Джордж.
— Наверно, — ответил Манион, — несколько пассажирок или там служанок… Храни их Господи! Ихний капитан сделает два-три выстрела из пушек, но не стараясь действительно попасть, чтобы не злить Дрейка, а потом они спустят флаг — вроде как сдались с честью. У них, наверно, много больных на борту. Путь-то их далек! И, понятно, все палубы там завалены грузами. Бойниц то на ихнем корабле много, да из пушек стрелять все одно нельзя, даже если бы они захотели. Такие посудины не для встреч с пиратами, а для спокойного плавания.
Дрейк приказал дать по кораблю (как потом они узнали, он назывался «Сан-Фелипе») залп из четырех корабельных пушек. Грэшему это показалось странным. Поскольку они стояли носом к кораблю, четыре ядра просто упали в море по обе стороны от «Елизаветы Бонавентуры». Три орудия с «Сан-Фелипе» ответили почти сразу. Если их пушкари и целились в противника, результата заметно не было. Все три их ядра также упали в море в нескольких сотнях ярдов от английских кораблей, полукольцом окруживших португальский галеон. Дрейк велел развернуть «Елизавету» боком к «Сан-Фелипе», и теперь их корабельная артиллерия могла разнести его на куски. Затем он приказал артиллеристам дать залп… Казалось, теперь португальский корабль пойдет ко дну, но каким-то чудом он остался невредимым. В ответ оттуда выстрелила одна пушка, и ядро снова упало в море, не задев ни единого английского корабля. Вскоре на португальском судне спустили флаг.
— Неужели так легко? — спросил Грэшем, повернувшись к своему слуге. Он, как и многие на их корабле, слегка стыдился такой дешевой победы.
— Легко, — отвечал Манион, — если ты в союзе с нечистым. Дрейку вовсе не хотелось всерьез повредить корабль, а их капитан об этом догадывался.
Дрейк щелкнул пальцами, как бы подзывая Джорджа:
— Эй вы, там! Это плата вашему отцу за его затраты. Ступайте сейчас со мной на судно!
— Могу я попросить взять с собой моего друга? — спросил Джордж. Необдуманный вопрос, однако Дрейк молча махнул рукой в знак согласия. Оба друга удалились, оставив на корабле недовольного Маниона.
На «Сан-Фелипе» единственный печальный и испуганный трубач попытался изобразить нечто вроде приветственного салюта. Дрейк снисходительно отнесся к его усилиям, не обратив внимания на низкое качество исполнения. Он подошел к капитану «Сан-Фелипе», поклонился и сказал несколько слов на ломаном испанском. Тот ответил ему на ломаном английском. И тут вдруг в разговор вмешалась какая-то молодая женщина:
— Вы позволите вашим людям меня изнасиловать? Или они вольны делать все, что им угодно, с беззащитными пассажирами? — Женщина говорила по-английски с акцентом, но довольно хорошо. Высокая и довольно красивая, она нежной рукой придерживала край платья на плече в том месте, где его пытались разорвать. Рядом с ней стоял английский матрос из их авангарда; он тяжело дышал и переводил взгляд с девушки на Дрейка. Впрочем, смотрел он только одним глазом — второй, подбитый, заплыл. Грэшем смотрел на девушку как завороженный. Вообще-то он терпеть не мог красавиц за ту власть, которую они имели над мужчинами. Чувствуя свою власть, они пользовались ею беспощадно, и новые победы подпитывали их надменную гордыню и жестокость.
— Так что же, вы изнасилуете меня сейчас или позднее?
В первый (и единственный) раз в жизни на сэра Фрэнсиса произвели сильное впечатление чьи-то слова.
— Взять его и заковать в цепи! — заорал он, указывая на матроса.
— Вы предприняли на наш корабль фарсированную… форсированную атаку, — поправилась девушка и слегка покраснела, отчего стала еще более хорошенькой. Моряки засмеялись, а Грэшем подумал: первое название, от слова «фарс», больше подходило к случаю. — А эти испанские трусы на нашем корабле… — Она не могла подобрать нужных слов, но в тоне ее сквозили ненависть и презрение. Вообще, как показалось Грэшему, ненависти в ее душе скопилось предостаточно. Но к кому и почему? Хотел бы он знать ее историю.
Дрейк явно не знал, как себя вести. Грэшему потребовались секунды, чтобы взять на себя инициативу. Он знал, как общаться с красивыми женщинами.
— Миледи, — заговорил он, поклонившись ей, — среди английских моряков-героев не найдется ни одного, кто бы не согласился, что покорить вас — значит больше, чем победить любой испанский флот, когда-либо выходивший в море.
Англичане повеселели. Его придворное красноречие здесь, на грязной, вонючей палубе, выглядело весьма забавным. Лед растаял. Девушка же, не ожидавшая таких речей, не нашлась с ответом.
— Но мы, англичане, прежде всего джентльмены, — продолжал Грэшем, повернувшись к своим товарищам, морякам с «Елизаветы». Те одобрительно загудели, поддерживая его. Им по душе пришелся лондонский джентльмен, сумевший вывести их из-под огня испанской галеры, который вел себя с ними как командир и боевой товарищ. И вообще, все происходящее казалось им хорошей забавой. Они знали: он действительно может «покорить» испанскую стерву — и желали ему удачи.
— Мой командир, — продолжал Грэшем, — сам легендарный сэр Фрэнсис Дрейк, гроза морей! — Судя по реакции моряков, они и на сей раз согласились с Грэшемом. — Вам нечего бояться его или его подчиненных. — Тут англичане засмеялись. Каждый из них чувствовал вожделение к испанке — и ей «нечего было опасаться»! — Вам только, — закончил он свою речь, снова поклонившись девушке, — следует относиться к сэру Фрэнсису с таким же почтением, с каким он, несомненно, отнесется к вам.
Дрейк наконец вновь обрел дар речи. Он повернулся к Грэшему и прошипел ему на ухо:
— Если я справился с делом в дерьмовом Кадисе, то как-нибудь управлюсь и с испанской шлюхой без вашей помощи.
И все же он не мог скрыть чувства некоторого облегчения. И конечно, эта испанка являлась вовсе не шлюхой, а девушкой из приличного общества.
Испанка продолжала стоять молча. Идти ей было некуда, а ответа от нее не последовало. Теперь заговорил Дрейк.
— Мадам, — начал он, поклонившись не менее учтиво, чем Грэшем, — отныне вы находитесь на борту английского корабля. А мы, англичане, с уважением относимся к нашим женщинам. Мы не дикари и не насильники.
«Если бы так!» — подумал Грэшем, много слышавший о лихих рейдах Дрейка. Но тот умел хорошо говорить, когда считал это нужным.
— Вы можете удалиться в свою каюту, пока я поговорю о деталях сдачи корабля с вашим капитаном. Я лично ручаюсь за вашу безопасность и выделяю вам вооруженного охранника.
— Сказав так, он величавым жестом протянул ей руку с перстнем для поцелуя.
Продолжение оказалось неожиданным для всех присутствующих.
Беззащитная пленница, которой всемогущий Дрейк гарантировал личную неприкосновенность, высоко подняла голову (казалось, она стала еще выше ростом) и отчеканила:
— Я не целую руки своих покорителей! — И испанцы, и чужаки-англичане ахнули. — Я не подчиняюсь ни одному мужчине. Я принимаю ваше обещание личной безопасности для меня и для других невинных женщинов нашего корабля. — Испанские моряки захихикали. На их корабле находилось немало «женщинов», но лишь немногие из них могли действительно именоваться невинными. — Вашей заботе подлежат все бедные души на борту «Сан-Фелипе»: женщины, дети, команда… и офицеры. — Она бросила насмешливый взгляд на своего капитана.
«Будь она здесь капитаном, они бы скорее пошли ко дну, чем сдались», — подумал Грэшем. Почему все же красивые женщины столь высокого о себе мнения? Отчего они считают, будто мир должен лежать у их ног?
— Но все мы не ваша собственность, — закончила испанка свою речь и, подобрав длинные юбки, направилась в каюту. Она заблудилась и пошла вовсе не к нужной ей двери (войди она в нее — то, пожалуй, свалилась бы в трюм). Один из английских моряков галантно указал ей на нужную дверь.
А Дрейка захваченная богатая добыча волновала больше, чем всякие женские капризы. Он потребовал от капитана показать ему корабль и, прежде чем уйти, сказал, обращаясь к своим людям:
— Здесь денег столько, что вы можете купить себе всех женщин в Девоне!
Сэр Фрэнсис Уолсингем скорчился от приступа боли, вызванного камнями в почках. Он уже изучил течение приступов и знал, когда примерно это должно закончиться. Боль прошла, как проводит всякая боль («Как проходит и жизнь», — подумал Уолсингем), и он с облегчением откинулся на спинку кресла.
Он снова взглянул на исписанный лист бумаги на столе. Его агент вручил листок одному из больных моряков, отправленных Дрейком домой (хотя болезнь этого человека, похоже, состояла только в желании получить деньги от Уолсингема). Рапорт оказался интересным. Значит, Дрейк учинил погром в Кадисе и нанес большой ущерб торговому флоту Испании. Тем лучше! Однако Дрейк упорно отказывается высадить на берег молодого Грэшема. Чем же вызвано подобное неповиновение? Уолсингем — могущественный человек, и если Дрейк не сошел с ума (что тоже не исключено), тогда его нежелание высадить Грэшема на берег должно означать чей-то приказ держать его на корабле — приказ человека еще более сильного, чем Уолсингем. Кто же занимает более высокое положение и может позволить себе пойти наперекор Уолсингему? И конечно, это мог быть Бэрли. А если Бэрли, то и его сын Роберт Сесил.
Уолсингема волновало не только, кто именно мог отдать такой приказ, но и с какой целью. Знание имело для этого человека не менее важное значение, чем кровь, — оно являлось для него источником жизни. Кто-то мешает одному из его агентов выполнить его приказ. Кто и зачем — выяснить это стало теперь главной задачей Уолсингема.
Глава 5
Июнь 1587 года
Фландрия, Азоры, Эскориал
Это были испытанные вояки, и подобно многим своим товарищам они пьянствовали, сквернословили, распутничали, подобно сынам ада, но и дрались с адским ожесточением, добывая победу в одной кампании за другой. От них на вид ничем не отличался один военный, окруженный ими со всех сторон, вместе с другими пробиравшийся вперед по пояс в воде и так же ругавшийся, как остальные. Все они держали личное оружие высоко над головами, хотя все равно лил дождь, и неизвестно, в какое состояние мог из-за этого прийти порох. Человек, шедший в середине отряда, вдруг споткнулся и едва не упал в воду.
— Осторожнее, государь! — Один из солдат бросился к нему и поддержал его.
— Спасибо, — отвечал герцог Пармский. — Проклятие! И кто только все это придумал?!
Промокшие и утомленные солдаты невольно рассмеялись, услышав его слова.
— Наверное, государь, вы помните, что это были вы, — с улыбкой ответил тот же солдат.
Они с трудом выбрались на другой берег канала. Кадзанд, где они сейчас находились, являлся захолустной дырой. Перед ними открылась голая песчаная равнина, без малейших признаков хоть какого-нибудь деревца. И все же этот район, очень важный для обороны канала, мог открыть дорогу на порт Слис.
Конечно, полагал герцог, лучше бы они достигли Остенде — лучшего глубоководного порта для испанского флота, который хотел послать сюда король. Ведь, овладев Остенде, они могли бы потом не испытывать трудностей в самой Англии, где в то время не было настоящей армии. Но Остенде слишком хорошо защищали отборные английские войска. Значит, Слис был самым реальным вариантом. Этот порт не был глубоководным, но находился в сердце системы каналов и протоков, тем самым обеспечивая герцогу единственный военный план, в который тот верил.
Его армия стояла во Фландрии, в сорока милях от английского берега. Попади его войска в Англию, они бы прошли через эту страну, как нож сквозь масло, потому что англичане могли выставить против них только ополченцев, вооруженных дубинами и топорами. Испания же вполне может теперь послать большой флот: после присоединения Португалии она получила в свое распоряжение настоящие океанские корабли. Но как быть с голландским флотом трижды проклятого Юстина из Нассау? Он-то больше всего и беспокоил герцога Пармского. На своих приспособленных к мелководью, легких, но при этом хорошо вооруженных суденышках голландцы могут перекрыть дорогу его людям на уязвимых барках при выходе из каналов в открытое море. А великая королевская Армада в этом случае сможет быть только свидетельницей их разгрома, стоя вдали, в глубоких водах, но не сможет войти в мелкие воды, где хозяйничают голландцы.
Если бы он только мог захватить глубоководный морской порт! Это позволило бы королевской Армаде войти в порт, взять на корабли его войско и разгромить английский флот в Ла-Манше. Но у него не было времени.
Нет, помочь ему одержать победу может только хитрость, благодаря которой он до сих пор и одерживал победы, так что о его армии люди теперь говорят в таком же тоне, как о древних победоносных римских легионах. Слис для герцога Пармского будет означать власть над всей паутиной каналов и водных путей. Тогда он сможет послать свои барки на север, отвлекая внимание поганых голландцев.
Потом его войско вторгнется в пределы южных каналов под покровом ночи, когда темнота спутает карты голландским морякам, если они сдуру решатся выйти в море в ночное время. Фонари, скрытые щитами, будут освещать путь испанским баркам, и они смогут пройти по мелководью прежде, чем голландцы сообразят, что происходит. Если же голландцы последуют за их барками в открытое море, пушки на огромных галеонах разнесут их суденышки в одно мгновение. А если Испания пошлет достаточно большой флот, он станет непреодолимым барьером между барками и английским флотом. Но прежде всего он должен захватить Слис.
Герцог Пармский взобрался на песчаный холм — самую высокую точку Кадзанда. Где же баржи с припасами и оружием, нужные ему для достижения ближайшей цели? Он вздохнул. На войне никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Он знал: они должны появиться здесь, их появление просто отсрочено превратностями войны. Несколько часов испанцы провели в тревожном ожидании: лишь бы противник не атаковал их со стороны моря. Ведь с подмокшим порохом они могли сражаться только холодным оружием. Они ждали прихода барж, но одновременно рыли окопы и готовили позиции для пушек.
Один из солдат передал что-то своему командиру — подмокшую галету, на которой отпечатались следы грязных пальцев солдата. Проклятие! Почему он вечно, отправляясь в военный поход, забывал приказать слугам упаковать провизию? Могли бы, впрочем, и сами научиться этому. Но сейчас он был слишком голоден. Он кивнул солдату в знак признательности и принялся есть. На вкус галета оказалась приятной.
Верный слову, Дрейк действительно поставил вооруженного охранника у дверей каюты Анны.
— Интересно, он сделал так, чтобы нас не впускать или чтобы ее не выпускать? — пошутил часовой, обращаясь к товарищам.
Джорджа отправили осматривать помещения на корме, и, поскольку никто не давал иных распоряжений Грэшему, он отправился с другом. Инструкции им дал капитан Фенер, пока Дрейк разговаривал с испанским капитаном в его бывшей каюте.
— Быстро и подробно перепишите все ценное, что найдется в каютах. — С этими словами капитан дал листок бумаги Джорджу и хотел вручить ему также перо и чернильницу, но потом почему-то предпочел отдать их Грэшему. — Я не желаю, чтобы эти вещи попали в руки кого-то из команды, так же как не желаю, чтобы они попали в ваши карманы, — продолжал он, обращаясь к друзьям.
Они открыли одну из дверей и инстинктивно отпрянули. «Ай да завоеватели!» — подумал Грэшем с грустной иронией.
— Войдите, пожалуйста! — обратилась к ним женщина. Голос ее звучал слабо, но говорила она на чистом английском языке.
Грэшем и Манион вопросительно посмотрели друг на друга, а затем осторожно вошли в каюту. Присмотревшись к женщине, лежавшей в постели, они поняли: это мать уже известной им девушки. Те же роскошные, хотя уже седые волосы, тот же овал лица, те же полные губы, те же прекрасные голубые глаза. Однако пожилая женщина выглядела очень больной. Лицо ее, покрытое глубокими морщинами, было болезненно бледным. Она еле ворочала языком, и, очевидно, ее изнурила долгая борьба с болью и страдания. Лоб ее покрывала испарина.
— Пожалуйста, скажите мне, что здесь произошло, — заговорила женщина. — Служанка убежала, как только начали стрелять.
— Ваш корабль захвачен, мадам, — сказал Грэшем. Он чувствовал себя не очень уверенно, общаясь с пожилыми женщинами, хотя в общении с женщинами молодыми затруднений не испытывал. — Захвачен флотилией сэра Фрэнсиса Дрейка. Бой (назовем его так) уже закончился.
— Но моя дочь! Не видели вы ее? Как она? — Тревога придала больной женщине силы, и она сделала попытку подняться.
— Успокойтесь, мадам, прошу вас, — поспешил заверить ее Грэшем. — Если ваша дочь — это та… необычная девушка, беседовавшая с нашим капитаном, то сейчас она в полной безопасности.
— Можно сказать, сегодня она сделала особенно много для того, чтобы покорить английских моряков, — вставил Джордж. Обеспокоенный состоянием пожилой женщины, он хотел на свой лад успокоить ее.
— Должно быть, это моя дочь, — тихо сказала женщина. Она почувствовала добродушие громкоголосого великана и предпочла не заметить его беззлобной иронии. Она не кричала, не рыдала. Как все женщины на кораблях, она знала, что бывает после захвата. Но, похоже, эти захватчики не чужды человечности. С удивлением почувствовала она, как ее лба коснулась приятно холодная материя. Другой здоровенный малый, видимо, слуга, заметив в каюте ведро с водой и фланелевую тряпку, смочил ее в воде и осторожно и заботливо приложил ко лбу пожилой англичанки самодельный компресс, после чего сразу отошел в сторону, подчеркивая отсутствие у него агрессивных намерений. По щекам женщины потекли слезы. Обычное проявление доброты оказалось сильнее ее готовности к сопротивлению: она ожидала не этого, а применения грубой силы.
Ее слезы явно смутили молодого человека, заговорившего с ней первым. Он, видимо, не мог выбрать, что лучше — остаться и утешать хозяйку каюты или удалиться и больше не беспокоить ее. Она решила избавить его от сомнений. Молодой человек явно был джентльменом. Даже его морской костюм выглядел почти роскошным. Глядя на молодого джентльмена, англичанка пожалела о том, что у нее никогда не было сына. Может быть, он был бы похож на этого статного красавца. Молодой англичанин производил впечатление человека умного и образованного. У него было очень приятное лицо, и вместе с тем взгляд его, как ей показалось, выражал какую-то скрытую печаль. Она решила сесть на постели, хотя знала: это, как и всегда в последнее время, будет стоить ей нового приступа боли.
Ее усилия, конечно, заметили молодой джентльмен и его слуга, и они приблизились к ее постели, готовые оказать помощь.
— Благодарю, благодарю вас. — Она говорила едва слышно, но старалась сохранить достоинство и чувство независимости. — Предваряя ваши вопросы, скажу: я — англичанка из семьи Риа.
Грэшем кивнул. Он знал этот древний род, происходивший из сторонников Генриха VIII, которых тот щедро вознаградил за поддержку. Однако многие из них потеряли свои земли позднее, при королеве Марии. Говорили, они оказались единственным католическим родом, которому не повезло в то царствование. Они попытались поправить свои дела в Ирландии, но и там скорее разорялись, чем наживали богатство.
— Когда же судьба отвернулась от нашей семьи, — продолжала пожилая англичанка, — я вышла замуж за испанского дворянина. Сильный и добрый, он совсем не умел вести хозяйство, и его семья была почти такой же бедной, как и семья Риа. После того как он скончался от лихорадки на Гоа, мы решили вернуться на родину.
Силы снова начали оставлять англичанку, и она сказала, обращаясь к Грэшему, к которому странным образом прониклась доверием (ведь он мог быть сыном пирата, а то и самим пиратом):
— Пожалуйста… найдите мою служанку и пришлите ее ко мне. Видите ли… я при смерти. — Последние слова она произнесла как-то странно просто и буднично.
Грэшем подивился мужеству этой женщины. Понятно было и поведение ее дочери, в чьих жилах текла кровь гордого испанца и благородной английской леди. Между тем она продолжала:
— У моей дочери нет никого. Ей необходимо добраться до Европы и выйти замуж за ее жениха. Вот здесь… — Она потянулась к сумочке, инкрустированной жемчугами и лежащей на кровати, и достала оттуда листок бумаги. — Вот здесь его имя и адрес. Пожалуйста, возьмите это, — продолжала она, обращаясь к Грэшему. — Я могу в любую минуту впасть в беспамятство, и я не так глупа, чтобы думать, будто я смогу защититься от воров.
Силы оставили ее, и она снова опустилась на подушку. Она закрыла глаза и почти беззвучно произнесла имя дочери — «Анна». Грэшем послал Маниона за служанкой и сам оставался в каюте, пока тот не привел насмерть перепуганную девчонку-мулатку.
Друзья продолжили осмотр судна. В большинстве кают пассажиров вовсе не обнаружилось: они были забиты ящиками с пряностями, а одна из них — ящиками со слоновой костью. Возить такие товары тогда было выгоднее, чем перевозить людей. Выполнив задачу, они вернулись на верхнюю палубу. Вскоре появились и Дрейк вместе с испанским капитаном. Дрейк покровительственно похлопывал его по спине, и оба они хохотали. Капитана с его офицерам)! посадили на катер, который должен был доставить их на остров. Всем, кто пожелал служить новому хозяину, разрешили остаться на борту. На английских кораблях насчитывалось немало больных, и новые моряки пришлись очень кстати. Пассажиров решили отправить на берег, где те ожидали бы прибытия следующего испанского корабля. Долго ждать им бы не пришлось: в то время много кораблей шли на материк с юга через Азоры.
Дрейк явно находился в хорошем расположении духа. Сейчас было уместно обратиться к нему, и Джордж решился взять это на себя.
— Милорд, — спросил он с поклоном, — могу ли я просить вас за одну пассажирку на борту захваченного корабля? — Прежде чем Дрейк успел ответить, Джордж вкратце объяснил, о ком идет речь. — Эта леди — англичанка, а ее дочь англичанка наполовину. Думаю, дочь — та самая девушка, на которую мы все обратили внимание, когда ступили на борт корабля. А ее мать — по-видимому, настоящая леди.
— Может ли эта женщина сама прийти сюда? — осведомился Дрейк. По крайней мере он выслушал Джорджа и не приказал выбросить его за борт. Он стоял с важным видом, в лучшем камзоле, богато украшенном драгоценными камнями. Дрейк явно хотел быть похожим на вельможу.
Джордж и Грэшем переглянулись. Конечно, для больной женщины сейчас здоровее находиться на свежем морском воздухе, но вряд ли она смогла бы самостоятельно добраться сюда из своей каюты.
— Увы, милорд, ей не выдержать такого путешествия, — ответил Джордж. — В ней едва теплится жизнь.
Дрейк слегка нахмурился. Однако он был слишком переполнен собственным успехом, чтобы у него ухудшилось настроение. Его можно было понять. Плавание на корабле «Елизавета Бонавентура» обходилось в четырнадцать шиллингов в месяц. Корабль можно было нанять за двадцать восемь фунтов в месяц. Содержание всей команды стоило примерно сто семьдесят пять фунтов в месяц. Новый корабль можно было построить за две тысячи шестьсот фунтов. Между тем весь груз «Сан-Фелипе» стоил, по словам капитана Феннера, сто десять, а то и все сто тридцать тысяч фунтов — к такому выводу он пришел на основании описи. Это не считая стоимости самого корабля. Понятно, что Дрейк был просто счастлив.
В каюту пожилой англичанки пожаловала странно разношерстная компания: сам Дрейк, Феннер, секретарь Дрейка, Джордж, Грэшем и, конечно, неразлучный с ним Манион.
— Сэр Фрэнсис, благодарю вас за ваше любезное посещение, — сказала она.
Дрейк почему-то посмотрел на Грэшема с явной неприязнью. Выражение его лица показалось Грэшему даже нервозным. Что касается пожилой леди, то, стараясь сберечь силы, она даже и не пыталась встать с постели.
— Мадам, — сказал Дрейк, почтительно поклонившись, — я весьма сожалею о вашем нездоровье. Как вам, полагаю, известно, я дал вам и вашей дочери гарантии безопасности.
— Я чрезвычайно признательна вам, сэр Фрэнсис. Могу я попросить пригласить сюда мою дочь?
Дрейк кивнул, и капитан Феннер крикнул охраннику, чтобы тот привел девушку в каюту. Анна появилась через несколько минут. Теперь она шла опустив глаза. Сделав реверанс, как требовали условности, она произнесла только «сэр», чем и ограничила свое приветствие.
Затем заговорила ее мать, но было заметно, что разговаривать ей трудно.
— Хотя я была замужем за одним из ваших врагов, я такая же англичанка, как и вы все.
— Мадам, я не сомневаюсь… — начал Дрейк.
— Пожалуйста, прошу вас. — Умоляющий тон женщины служил извинением за то, что она перебила его. Ясно было, что она хотела сказать. Будучи между жизнью и смертью, она боялась не успеть сказать все важное для нее, а потому не хотела, чтобы ей помешали говорить. — Моего мужа нет на свете, и скоро я последую за ним, — продолжала она. Девушка, сидевшая в углу, старалась сдержать слезы, слушая слова матери. Она по-прежнему не поднимала головы. — Моя семья, как и семья моего мужа, бедна. Если она и примет мою дочь, то Анна будет занимать в их семье место, немногим лучшее, чем служанка. На этом свете у моей дочери есть только один защитник — ее жених, француз, который сейчас в пути. У меня нет ни власти, ни богатства, у меня есть только моя просьба, просьба бедной англичанки: разрешите мне выбрать опекуна для моего единственного ребенка защитника, который доставил бы ее к жениху.
Речь женщины звучала просто, но вместе с тем с удивительным чувством собственного достоинства. Дрейк гордо выпятил грудь. Он заговорил снова:
— Мадам, я рад оказанному мне доверию…
— В таком случае… — голос старой англичанки вдруг окреп, приобретя даже властность, видимо, прежде ей свойственную, — я назначаю опекуном моей дочери человека по имени Генри Грэшем.
«Но ведь опекуном должен стать не я, а Джордж! — подумал Грэшем. — Именно он, и никто другой. Она ошиблась!»
За ее словами последовало тяжелое молчание. Всем показалось безумным предложение умирающей. Кто даст гарантию, что молодой человек, о котором только что шла речь, подобно множеству других молодых людей, не уступит своим плотским желанием и что эта девушка найдет в себе силы не подчиниться его воле? И если все так и будет, что скажет ее жених, узнав, что его невеста лишилась девственности и что у нее может быть ребенок от другого мужчины?
Грэшем годами учился контролировать собственные реакцию не допускать появления пота на лице, не поглаживать бороду, не дотрагиваться до носа и, конечно, контролировать выражение лица. Он хотел, чтобы собеседники (а чаще всего он общался с врагами) как можно меньше могли узнать о его чувствах. Но сейчас он ощутил, как заливается краской, и не мог ничего с этим поделать. Потом он взглянул на лицо женщины, даже и теперь, когда она была тяжело больна, сохранившее свою красоту и выражение благородства, и различил на нем едва заметную улыбку. И улыбалась она ему, Генри Грэшему.
— Принимаете ли вы эти обязанности? — спросила она очень тихо.
Девушка подняла голову. Взгляд ее выражал только ненависть и гнев. Грэшем почувствовал: он совершил ошибку, заглянув в огромные темные глаза, бездонные и загадочные. Ему вовсе не хотелось поддаться их магии, и он молил Небо не позволить выдать себя каким-нибудь невольным жестом. Даже в ту ночь, когда они удирали на лодке от испанской галеры, он, казалось, не чувствовал себя так неуютно, как сейчас. Грэшем глубоко вздохнул. Такие реакции следовало тоже подавлять, но сейчас ему это вдруг стало безразлично.
— Мадам, — сказал он с поклоном, обращаясь к матери Анны, — я не заслуживаю подобной чести. Я молод и глуп. Мне еще самому следует учиться жить, что уж говорить об ответственности за других! — Старая леди продолжала улыбаться. Понимала ли она его речь? Грэшем продолжал: — Но конечно, вы можете отвечать за чужую жизнь. У вас есть опыт, у вас есть мудрость. Вы встречаете конец жизни с таким достоинством, которому могут позавидовать и мужчины. И если вы верите в то, что я смогу выполнить этот… долг, то, может быть, и я сумею стать достойным вашего доверия и оправдать его. С тяжелым сердцем я отвечаю на ваш вопрос: да.
— Благодарю вас, — просто ответила старая леди. Затем она с трудом повернула голову, взглянула на Дрейка и сказала: — Вот мое последнее желание, сэр Фрэнсис. Если вы джентльмен, вы уважите его.
Тонкий ход показывал — мать Анны пребывала в полном сознании. Дрейк-то джентльменом как раз не являлся. Разночинец, чьи дерзость и удачливость принесли ему богатство, он старался быть похожим на джентльмена. Те, кто стал джентльменом по рождению, ненавидели удачливого выскочку и не упускали случая его унизить. Прирожденный джентльмен мог и не согласиться на просьбу женщины. Тот же, кому постоянно приходилось поддерживать репутацию джентльмена, отказать ей не мог. На какое-то мгновение сэр Фрэнсис Дрейк забыл о непомерных амбициях, об алчности, об интригах и просто ответил:
— Я уважу вашу просьбу.
Тут хлопнула дверь, и в каюту влетел Роберт Ленг, джентльмен-авантюрист и самозваный историк Фрэнсиса Дрейка. Все сразу уставились на него, и в тот же момент навсегда закрылись глаза матери Анны. Единственной, кто заметил уход старой леди, была сама Анна, не сводившая с матери взгляда. Последним, что видела старая леди, были широко открытые, полные слез глаза ее дочери.
— Сэр! — взволнованно начал Ленг, пораженный открывшейся ему картиной. — Простите, что помешал… я не имел представления… Но я просто обязан вам сообщить… Я узнал о страшной измене…
Все присутствующие, кроме Анны, по-прежнему внимали пришельцу. Он продолжал:
— Речь, сэр, идет об измене, замышленной и направляемой негодяем Генри Грэшемом.
Грэшем при его словах почувствовал даже не гнев, а изумление и тоску. Он никогда не любил Ленга, впрочем, игнорировавшего его на всем протяжении их путешествия, но и не чувствовал к нему ненависти. Глядя на потное рябое лицо Ленга, Грэшем в одну секунду осознал — тот готов сейчас действовать решительно.
— Вот это, — продолжал «историк», — мы нашли в вещах Грэшема. Взгляните, это четки и католический молитвенник. А главное, — Ленг выдержал эффектную паузу, — письмо от короля Филиппа, где король Испании предписывает всем оказывать всяческое содействие Генри Грэшему как своему агенту!
Он театрально вытянул вверх руку с письмом. Дрейк с мрачным видом взял письмо. Анна, на которую по-прежнему никто не обращал внимания, закрыла глаза своей матери. Дрейк перевел взгляд с письма на Грэшема, потом положил письмо на стол. Ленг взял его. Он явно торжествовал. И вдруг он обратил внимание на покойницу, лежавшую на постели.
— О Господи! — воскликнул он и сел на пол.
Теперь и все остальные увидели то, что видел он. В ужасе взирали они на постель. Анна, обнимая мать, беззвучно рыдала. Все присутствующие для нее сейчас не существовали. Они же почувствовали неловкость и стыд, невольно вторгшись в область чужого горя. Дрейк первым подошел к девушке.
— Из уважения мы похороним ее, — заговорил он так мягко, как ни с кем прежде, — в соответствии с вашими католическими ритуалами и не в открытом море: ее тело не достанется рыбам. Леди не принадлежала к нашему бродячему морскому племени. Мы похороним ее в Сан-Мигеле, где ее будут помнить и чтить ее память, а ее дети и внуки смогут всегда посетить ее могилу на доброй Божьей земле.
Грэшем про себя подивился, как столь жестокий человек может быть и столь добрым.
— Отнесите тело в капитанскую каюту и положите там. А вас, — обратился он к Анне, — я прошу последовать туда и проследить, чтобы все было сделано как должно.
Моряки выполнили его приказание, а девушка пошла за ними, погруженная в свое горе. Офицеры остались в каюте.
— Я-то думал, вы шпион английский, — заговорил Дрейк. — Теперь оказывается — испанский.
— Вы поверите, если я скажу, что никогда прежде не видел ни этого письма, ни четок и молитвенника? Полагаю, не поверите. Тем не менее я говорю правду.
— Все это нашли в его вещах. Клянусь, милорд! — возвысил голос Ленг.
Дрейк усмехнулся.
Грэшем заговорил вновь:
— Если сэр Фрэнсис Дрейк, капитан «Елизаветы Бонавентуры», не желает меня слушать, то, может быть, меня выслушает бывший капитан «Юдифи»?
Дрейк застыл на месте. Грэшем продолжал. Он знал: это его единственный шанс.
— В молодости вы были капитаном маленького суденышка под названием «Юдифь». Ваш корабль вместе с другими кораблями однажды зашел в испанский порт: Вашим людям требовался отдых, а кораблю — срочная починка. Тогда Англия не воевала с Испанией, все вы были просто моряками, плававшими в одних водах и подвергавшимися одинаковым опасностям. Вы попросили о помощи, вам помогли и обещали безопасность и сопровождение.
Дрейк стоял не шевелясь, Грэшем продолжал рассказ:
— А потом испанцы решили захватить английский корабль, а английских моряков — заточить или отправить на костер. Ваше судно являлось самым незначительным и неинтересным для испанцев из всей добычи. Вам удалось уйти от вероломных испанцев и с боем пробить себе дорогу домой. Но вас предали. Вас тогда обозвали трусом, якобы бросившим в беде товарищей.
В каюте воцарилось полное молчание. Теперь взгляды всех присутствующих устремились на Дрейка.
— Точно так же, — продолжал Грэшем, — и я оказался в положении «маленького лишнего суденышка», от которого решили избавиться, и меня предали, хотя я не знаю, кто именно. Меня назвали трусом, хотя я вел лодку под вражеским огнем, как и вас назвали трусом при всей вашей храбрости. Поверите ли вы моим словам, как бывший капитан «Юдифи», вернувший ее на родину? Поверите ли вы, что есть люди, пытающиеся обмануть вас и использовать, сделав моим палачом?
Несмотря на критическое положение Грэшема, его аналитическое мышление продолжало работать. Он старался подогреть самомнение и страшную подозрительность Дрейка, считавшего, что его всегда готовы предать. Кроме того, Дрейк только что обещал признать Грэшема опекуном Анны, а для человека, тщившегося разыгрывать настоящего джентльмена, весьма невыгодно нарушить свое слово. И все же Дрейку дали основания считать, будто Грэшем обманул его. Не письмо само по себе могло воспламенить гнев Дрейка, а то обстоятельство, что его мог провести какой-то мальчишка вроде Грэшема.
— Судите сами, сэр Фрэнсис, — вновь заговорил Грэшем. — Не требуется большого ума, чтобы подкинуть в наш багаж все, что угодно. Наши вещи свалены на палубе как попало. Неужели я, по-вашему, такой осел, чтобы разбрасывать столь опасные для меня письма? Кто может так поступить с письмом, представляющим собой его смертный приговор?
Грэшем на мгновение умолк. В каюте наступила мертвая тишина. Он продолжал:
— Вы не высадили меня на вражеском берегу. И ведь вам кто-то велел так поступить. Что же, тот, кто выступил против Уолсингема, потребовал также убрать меня с дороги? Разве человек не должен знать, кто хочет убить его? И можете ли вы быть уверены, что то же лицо не поступит с вами так же, как со мной?
— Никто не приказывает мне, Генри Грэшем, — заговорил наконец Дрейк. — Мне могут лишь предлагать. И никто не приказывал мне вас убивать. Я сам властен над жизнью и смертью людей на моих кораблях.
Дрейк принял решение с удивительной быстротой. Ясно было: Грэшем ему не по душе. Но Грэшем надеялся: еще больше ему не по душе те, кто пытался распоряжаться им самим.
— Хорошо ли вы знаете историю? — вдруг спросил Дрейк. Грэшем, уже привыкший к неожиданным поворотам и ходам мысли сэра Фрэнсиса, все равно не мог не удивиться — почему тот задал такой вопрос, когда решалась его судьба?
— Не хуже и не лучше своих коллег по колледжу, — отвечал он, стараясь сохранить хладнокровие.
— Вы, наверное, знаете, в старину у англосаксов правосудие было суровым и скорым, и при всей своей суровости действенным. Вы знаете о суде-испытании?
Еще бы! Одно из таких испытаний состояло в том, что человеку вкладывали в руку кусок раскаленного железа и заставляли пройти несколько шагов. Если рана заживала без осложнений, он считался невиновным, а если начиналось воспаление — виноватым. Не собирается ли Дрейк проделать с ним нечто подобное?
— Считалось, — продолжал Дрейк, — в таких случаях происходит Божий суд. Пусть же такой суд свершится над вами. Одно из моих небольших судов дало течь. Его залатали на острове, однако нам нужно решить, что лучше — уничтожить судно или рискнуть и отослать его домой. — Дрейк посмотрел на своего первого помощника: — Капитан Феннер! Подготовьте «Маргаритку» к отплытию в Англию. Отправляйтесь завтра. И подготовьте мне команду. Начните с этого пса-мятежника с «Неустрашимого», которого мы решили повесить. Думаю, нынешний капитан справится со своим делом. А вы, Грэшем, отправляйтесь на «Маргаритку». Я велю людям перенести туда ваши пожитки с «Бонавентуры». Если благополучно доберетесь домой, значит, Божий суд Вас Оправдал. В противном случае — вы были виновны.
— А девушка? — напомнил Грэшем.
— Я обещал уважать последнюю волю ее матери. Она будет под моей защитой, и вы останетесь ее опекуном. Только несколько недель, пока вы будете на борту «Маргаритки», я приму на себя ваши обязанности здесь. Вы же, если будет милость Божья, вернетесь в Англию.
«Может быть, и вернусь», — подумал Грэшем. На душе у него было неспокойно. Наскоро отремонтированный корабль, какие-то висельники на борту и опасное путешествие домой. И все же ему дали шанс. Все лучше, чем быть повешенным на месте.
Но Дрейк, очевидно, еще не закончил. Он повернулся к Ленгу и спросил:
— Вы закончили свое повествование?
— Я только что закончил рассказ о том, как вы доблестно захватили «Сан-Фелипе», — ответил тот. — Полный текст — у вашего секретаря. — Он украдкой посмотрел на Грэшема, видимо, опасаясь, что тот сейчас бросится на него.
— Значит, ваш труд завершен, верно? Вы можете оставить мне вашу рукопись, вы ведь, должно быть, не прочь вернуться домой? Я решил помочь вам. Вы тоже отправитесь на «Маргаритку» и будете стеречь этого молодого человека.
— Сэр! Это несправедливо! Я едва успел завершить мой труд… — Ленг не успел договорить. Лезвие ножа сверкнуло в воздухе. Нож вонзился в переборку, едва не задев ухо «историка».
— Я чую измену, — зло сказал Дрейк. — Мое тщеславие, мое желание запечатлеть этот поход лишило меня чутья. Но теперь я снова ее почуял. Пусть же дело решится между вами и вашим молодым другом. Кто виновен, а кто не виновен — пусть решит Божий суд на борту «Маргаритки».
Дрейк разразился хохотом. Теперь он сказал все и покинул каюту. Ленг схватил письмо и бегом бросился за Дрейком.
Потом Грэшем и Манион утешали Джорджа, умолявшего взять его с собой. Но едва взглянув на «Маргаритку», Грэшем решительно отказал ему в этом. Расставаясь с «Елизаветой Бонавентурой», Грэшем с грустью посмотрел на своего друга. Увидит ли он снова его жизнерадостное лицо?
Они успели лишь очень кратко переговорить с Джорджем.
— Я уверен, — сказал Генри, — кто-то приказал Дрейку не высаживать меня на берег. Дрейк ничем не побрезгует, если ему хорошо заплатить. Он всегда нашел бы что соврать Уолсингему, объясняя свой поступок. Пожалуй, его удивило, что кто-то решил еще и убить меня, а он так не договаривался.
— Тебе повезло — Дрейк посочувствовал тебе, — заметил Джордж.
— Посочувствовал? Не говори глупостей! Дрейк поступил так вовсе не из сочувствия. Он просто посылает сигнал тому, кто дает ему задания, — имея с ним дело, необходимо говорить ему всю правду. Если бы тот таинственный «кто-то» велел ему убить меня и заплатил хорошую цену, Дрейк разделался бы со мной в два счета.
Плавание на «Маргаритке» не вызывало оптимизма. Ее капитан, горький пьяница, конечно, не мог не радоваться тому, что в этом путешествии над ним не будет командиров. Команда состояла всего из пятнадцати человек, и все они так или иначе находились не в ладу с законом, а один даже подозревался в убийстве. Да и вообще команда являлась слишком малочисленной даже для «Маргаритки». Катера часто представляли собой уменьшенные копии огромных галеонов — с тремя чахлыми мачтами и каким-то подобием пушек на борту. Третья мачта «Маргаритки» сломалась во время последнего шторма, и хотя на ней ранее был укреплен только один небольшой парус, ее отсутствие нарушало хрупкое равновесие маленького судна.
Грэшем не знал, какова взаимная зависимость всех трех мачт с их снаряжением. Если она существует, полагал он, тогда устойчивость двух других мачт невелика: они подвержены слишком большому напряжению. Впрочем, считал он, есть вещи, о которых даже лучше не все знать. Когда они вошли в тесную капитанскую каюту, ее хозяин был уже совершенно пьян, голова его покоилась на деревянном столе, а правая рука еще сжимала пивную кружку.
— Должно быть, празднует богатую поживу на Азорах, — заметил Манион. В каюте стояло четыре хороших резных стула с высокими спинками (вероятно, также добыча во время одного из предыдущих рейдов). Грэшем сел на один из них и указал Маниону на другой. Здесь, кроме них и пьяного капитана, никого не было. Четверо моряков, назначенные Дрейком им в охранники, предпочли остаться снаружи, а хозяин каюты, храпевший, положив голову на стол, сейчас вряд ли мог считаться свидетелем.
— Что скажешь? — спросил Грэшем.
— Бывало и похуже, — отвечал слуга. — Я тут потолковал с ихним плотником. Швы они как-никак заделали, и при хорошей погоде эта посудина может продержаться довольно долго. Из-за потерянной мачты оно будет плавать, словно краб, но эти катера довольно быстроходные. Хуже всего — гниль. Плотник говорил: часть корпуса, погруженная в воду, местами подгнила, но трудно сказать, насколько это серьезно.
Многие моряки боялись гнили, естественного спутника деревянных кораблей и естественного ограничителя их существования, больше, чем течей. Англичане в качестве балласта использовали гравий, а испанцы и португальцы предпочитали более крупные камни или куски металла. Гравий подвергался меньшему смещению в непогоду, но он препятствовал нормальному откачиванию воды и увеличивал вероятность распространения гнили. Малые суда с течением времени нередко приходили в такое состояние, что ремонт просто не стоил затраченных на него средств. Постепенное подгнивание дерева являлось коварным врагом тогдашних кораблей. Моряки рассказывали страшные истории о судах, внезапно распадавшихся во время шторма: процесс гниения в них заходил слишком далеко (трудно было отделить в таких случаях легенды от истины).
— Почему же команда согласилась на опасное плавание? — спросил Грэшем. — Они ведь знают обо всем.
— Ну, они не то чтобы очень уж «соглашались», — отвечал Манион. — Им приказал Дрейк. У них был выбор — или плавание на «Маргаритке», или их высадят на берег. — В последнем случае английские моряки в испанских владениях вполне могли попасть на галеры или даже под суд инквизиции. — Здесь мятежники и всякий сброд, — продолжал Манион. — Похоже, половина из них — те, кто поднял смуту на «Золотом льве» и хотел улизнуть, но они напоролись на «Неустрашимый», пригрозивший разнести их пушками, если они не повернут и не присоединятся к нам. Дрейк мог вздернуть кое-кого из них для примера, а остальных засадить в тюрьму, или же избавиться от этой шушеры таким образом, вроде бы отправив их домой.
— А как с припасами? — спросил Грэшем.
— Хорошо, — ответил Манион. — Они ведь захватили хорошую добычу в Кадисе и могут позволить себе быть щедрыми. Одно плохо: никогда не знаешь, чем ты располагаешь на самом деле, пока не откроешь бочку.
После похорон, проведенных с тем достоинством, на которое только были способны Дрейк и его люди, Грэшем переговорил с девушкой. Дрейк разрешил ему свидание на несколько минут, но в присутствии охранника. Она похудела, ее лицо осунулось, но глаза стали как будто еще больше и выразительнее. Однако взгляд ее выражал отнюдь не любовь к окружающему миру. Скромное платье Анны нельзя было назвать нарядным, и оно скорее скрывало ее тело, чем обрисовывало его, но она двигалась как атлетка. Грэшем поймал себя на том, что невольно пытается представить ее обнаженной. Не того хотела ее мать, когда возложила на него ответственность за жизнь дочери!
— Прошу простить, — сказал он, — но я не могу сопровождать вас домой на борту «Сан-Фелипе». Сэр Фрэнсис прогоняет меня. Но сразу же после того, как вы сойдете на английский берег, я встречу вас. Я предлагаю вам остановиться в моем доме в Лондоне, где есть прекрасная женская прислуга. — Грэшем с неудовольствием отметил про себя: он говорит напыщенно, словно его отец, однако продолжал: — Я также постараюсь найти достойную даму, которая могла бы стать вашей дуэньей. — Про себя он подумал, что это трудная задача для молодого человека, не имеющего родни и чурающегося двора. Похоже, его опекунство станет для него трудной задачей.
Анна бросила на него ненавидящий взгляд.
— Вы знаете, что это значит — чувствовать себя вещью? — спросила она.
— Простите? — переспросил удивленный Грэшем.
— Ну, случалось ли вам почувствовать себя вещью, не имеющей ни мыслей, ни чувств, ни собственной воли, которую просто пакуют и куда-то отправляют?
— Да нет, пожалуй.
— Кажется, мужчины как раз считают женщину просто вещью. Меня доставят вам, а вы доставите меня дальше. Я вас ненавижу! — Она встала. Последние слова она произнесла спокойным голосом, но они прозвучали более жутко, чем мог бы прозвучать крик. — Я ненавижу вас и всех вам подобных, тех, кто обращается с людьми как с вещами.
«У меня самого есть основания ненавидеть тебя, ведь сейчас ты только осложняешь мою жизнь», — подумал Грэшем. Но тут в разговор ввязался Манион.
— Вы, между прочим, такая не одна. Его много народу ненавидит, — сказал он. Девушка слегка вздрогнула. Скорее всего ее удивил сам факт, что последние слова сказал слуга. В лучших испанских домах слугам такая свобода не дозволялась. По правде говоря, и в лучших английских домах тоже.
— Вот, смотрите, — продолжал Манион, входя в роль, — Дрейк его ненавидит. Его хозяева на родине тоже ненавидят его. И тот, и другие уже пытались его убить. Испанцы его чуть не убили, стало быть, тоже ненавидят. И сын главного королевского секретаря ненавидит его. Если верить его словам (а я, как хороший слуга, должен ему верить), то его чуть ли не пытались убить сама королева, граф Лестер и граф Эссекский. Да, чуть не забыл, его товарищи из Кембриджского колледжа тоже его ненавидят. А теперь еще и вы! И мне самому вот что еще сейчас пришло в голову. С тех пор как мы познакомились, я с ним не знал ничего, кроме всяких неприятностей. Я этого оболтуса тоже ненавижу. Может быть, мы все по очереди попытаемся его убить?
Анна переводила удивленный взгляд с Маниона на Грэшема. А он подумал: в этом разговоре, кажется, нашла коса на камень.
— Отчего Господь сотворил тебя так, что твой рот подобен твоему брюху? — обратился он к слуге. — Отчего твои мозги расположены где-то между глоткой и брюхом?.. — Тут он оглянулся и увидел — девушка молча ушла.
— Было бы лучше, доверь вы это мне, — заметил Манион.
— Доверить тебе такую девушку — да это все равно как если бы пастух решил отдохнуть и доверил стадо льву.
— Это я-то лев? — переспросил Манион. — Полно. Я просто маленький ослик. Да только вот иногда даже у ослика бывает больше смекалки, чем у льва.
Грэшем привык к хорошему, размеренному ходу «Елизаветы Бонавентуры», тогда как тряскую «Маргаритку» покачивало даже от небольших волн. Они ушли из порта тихо, на закате, чтобы не привлекать к себе внимания. Им повезло: дул попутный ветер, так что даже эта странная команда могла управлять судном.
Трудно сказать, в какой степени капитан «Маргаритки» владел искусством морехода (конечно, когда не был слишком пьян), однако Грэшем надеялся на его инстинкт самосохранения. Они направлялись на запад, а стало быть, так или иначе, должны были достичь европейского побережья. Европа, рассуждал Грэшем, слишком велика, и даже такой команде трудно направить судно не туда, куда надо. А в дальнейшем они могли рассчитывать, что, двигаясь вдоль побережья континента, они рано или поздно вернутся в Англию, если их не настигнут готовые к отмщению испанцы, если они по дороге не потеряют все мачты, если их командирский катер не даст течь и, наконец, если их запасы галет и пива пригодны для еды и питья. Но проблему, возникшую в первый же день их путешествия, Грэшем не мог предвидеть.
Ее неожиданно создала Анна. В средней части «Маргаритки» имелось огороженное пространство, где хранились корабельные припасы. Манион первым услышал странный стук. Звуки исходили от одной из бочек с надписью «пиво». Манион ринулся туда, вооружась двумя ножами для метания, а также мечом (неуставным оружием из пиратского арсенала). Он позвал Грэшема присутствовать при вскрытии бочки. К тому времени стук прекратился.
Анна была едва жива. Перед отплытием «Маргаритки» небольшое количество предназначенных для нее припасов сложили на верхней палубе «Сан-Фелипе». Анна видела это и приметила пивную бочку, стоявшую с краю, у стока для морской воды, попадавшей на палубу. Каким-то образом с помощью золотых монет, доставшихся Анне от матери, она уговорила свою служанку и матроса, ее любовника, проделать две дырки в бочке: пиво из нее постепенно вытекло в море. Потом, использовав остатки золота и вина из запаса матери, Анна сумела уговорить тех же лиц вскрыть бочку, запихнуть ее туда и снова закрыть. К несчастью, отверстия, достаточные для вытекания пива, оказались недостаточными для поступления в бочку свежего воздуха. Смрады жара внутри бочки были совершенно невыносимыми. Когда Анну с трудом извлекли из бочки, то ее спасители и присутствовавшие при этом матросы в первый момент сочли ее умершей. К счастью, они ошиблись. Грэшем вдруг почувствовал острую жалость, когда Манион осторожно положил девушку на бок так, чтобы ее могло вырвать.
Едва придя в себя, Анна проговорила хриплым голосом:
— Я никуда не уйду с вашего судна.
— Но это безумие — воскликнул Грэшем. — На опасной вонючей посудине нет места для женщины! И вообще, что заставило вас бежать, бросив почти всю одежду, ваши драгоценности и даже драгоценности вашей матери?
— «Сан-Фелипе» — военная добыча, не так ли? — ответила она. — С каких пор пассажирам на захваченных кораблях оставляют драгоценности?
Тут Анна была права.
— Но я уверен, — продолжал Грэшем, — если бы вы обратились к сэру Фрэнсису Дрейку, он бы уважил вашу просьбу…
— Я вообще не собираюсь возвращаться в Англию в качестве военного трофея, который показывают публике, как римские императоры демонстрировали своих пленников! — объявила девушка.
Стало быть, причиной всему была ее гордость.
— Я должен развернуть судно обратно, — сказал Грэшем.
— Вы не сделаете этого! — прошипела Анна.
— Это еще почему? Поймите простую вещь. Ваша красота не производит на меня впечатления. Красивых женщин много. Между тем Дрейк придет в ярость, узнав, что вы спрятались у нас на борту, а это принесет мне новые неприятности. Оставшись здесь, вы к тому же станете единственной женщиной на судне, для команды которого совершить насилие над женщиной так же просто, как выпить кружку вина. У нас нет и одежды для вас, если не считать вашего мятого и грязного платья. Телесные потребности вам придется отправлять за закрытыми дверями…
Анна насмешливо посмотрела на него и ответила:
— Но ведь, кажется, вы мой опекун? Вы должны меня защищать. Я повторяю: вы не развернете судно.
— А что, хотел бы я знать, мне помешает? — Грэшем поймал себя на том, что почти кричит на нее. Он постарался овладеть собой.
— Если вы это сделаете, я выброшусь за борт, — просто ответила девушка. Грэшем почувствовал, что он близок к отчаянию. Он понимал: Анна говорит не пустые слова. Она действительно была одержимой. Все же он сделал еще одну попытку возразить ей:
— Но вам будет гораздо удобнее на борту «Сан-Фелипе».
— Спасибо, мне и здесь удобно, — ответила Анна. Они теперь сидели в одной из двух маленьких кают, имевшихся на катере. — Вероятно, — продолжала она, — у вас там много дел: надо поднимать паруса и… грузить балласт, кажется? — Грэшем невольно усмехнулся. Ее познания о работе моряков были довольно туманными. — Я вас выпускаю делать то, что вам полагается.
— Это называется «отпускать», а не «выпускать», — саркастически заметил Генри. — И благодарю ваше милостивое величество за то, что вы оказали мне честь и мудро разрешили делать то, что мне бы и так никто не помешал делать.
Снежная королева промолчала. Она дала понять Грэшему: он свободен.
Между тем ветер относил катер в сторону от флотилии и Дрейка, как будто нарочно добиваясь цели их разъединить.
— Могло быть и хуже, — проворчал Манион.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Грэшем. В это время один матрос, здоровенный детина с родинкой во всю щеку, бросил ему под ноги моток веревки. Грэшем посмотрел на матроса, и тот, перестав улыбаться, убрал моток.
— Вообразите, а вдруг бы Дрейк взял и сделал ей ребенка? От такой парочки мог бы родиться только дьявол.
Они оба стояли на страже у двери каюты Анны и по очереди спали на циновке. Капитан продолжал спать у себя в каюте.
— Этому сброду так же легко перерезать нам глотки, как просто посмотреть на нас, — заметил Манион. Дело было даже не просто в неприязни команды к ним двоим (матросы, видимо, считали, что попали на «плавучий гроб» из-за Маниона и Грэшема). Они также думали, будто у богача, каким считался Грэшема, наверняка зашиты в одежде золотые монеты. Струхнувший Роберт Ленг жался к Грэшему. «Ладно, я с тобой еще поговорю, но попозже», — думал тот.
Кризис наступил на третий день их путешествия. Небо заволокло свинцовыми тучами, ветер дул постоянно, стояла страшная духота.
— Надвигается шторм, — сказал Манион. — Вода будет прибывать быстрее, чем мы сможем ее откачивать.
Два человека постоянно работали со старой корабельной помпой. Это был изнурительный труд, однако вода постепенно прибывала, и судно шло все тяжелее. Скоро обитатели «Маргаритки» стали слышать бульканье воды в трюме.
Потом ветер вдруг стих. Наступил зловещий час, когда моряки с тревогой смотрят на дальний горизонт, час духоты и затишья перед бурей. Сначала они увидели гонимые ветром черные тучи, а потом уже услышали гром.
Всего за час свет померк, и «Маргаритка» превратилась в игрушку ревущих волн. Вскоре с треском разорвался пополам грот. Капитан, протрезвевший от страха, выкрикивал приказы, но матросы не хотели карабкаться вверх по реям навстречу верной гибели.
Грэшем и Манион, пытаясь удержаться на палубе, ухватились за перила, опустившись на колени. Манион кричал в ухо хозяину:
— Он хочет убрать парус! Тогда останемся с голыми реями. Уж не знаю, что путного может из этого выйти.
Два топселя, один на фок-мачте, другой на грот-мачте, продолжали держаться каким-то чудом, и «Маргаритка» пока шла вперед. Создавалось впечатление, что ее просто несут мощные волны, вместе с которыми она опускалась и поднималась. Она почти не слушалась руля, хотя у руля стояло трое человек. Верхнюю палубу постоянно заливало водой.
— Помпа! — заорал Манион, перекрывая рев волн.
Двое матросов, работавших с помпой, уже выбились из сил. Остальные собрались на баке. Один из них читал молитву. Огромная волна накрыла всю группу, и когда вода схлынула, двоих среди них недоставало…
Грэшем и Манион сами принялись откачивать воду.
Через несколько минут они промокли до нитки. Ветер гнал судно вперед еще несколько часов. Потом еще одна огромная волна накрыла корму и смыла в море двух помощников рулевого. Сам он упал, но с трудом смог подняться на ноги. С помощью сверхчеловеческого усилия он сумел все-таки овладеть рулем и повернуть его в нужную сторону. Еще одна волна обрушилась на «Маргаритку» сзади, но на сей раз она не накрыла корму, а только ударила по ней снизу.
Еще одна мощная волна ударила о борт судна, и Грэшем услышал чей-то вопль рядом с собой. Роберта Ленга смыло с палубы словно перышко, и он повис над бушующим морем, из последних сил вцепившись в руку Грэшема. Молодой человек посмотрел в глаза тому, кто предал его, кто хотел отправить его под военный суд, а затем — на виселицу. Грэшем мог одним движением отправить негодяя на морское дно. Вместо этого, сделав рывок, опасный для его собственного равновесия, он за шиворот втащил Ленга на палубу.
— А ты сделал бы так для меня? — крикнул Грэшем, обращаясь к спасенному.
Но Роберт Ленг ничего не ответил. Он рыдал, обняв обломок мачты, как своего лучшего друга или самого родного человека.
Шторм закончился так же внезапно, как и начался. Сила и ярость ветра постепенно пошли на убыль, затем его ритм нарушился, рев ветра и волн сменился глухим ворчанием. Когда наступило относительное затишье, перед взором уцелевших обитателей «Маргаритки» открылась удручающая картина.
Высота надводного борта составляла всего около двух футов, трюм заполняла вода. Если бы в борту судна были сделаны бойницы для пушек, оно бы уже затонуло, но несколько пушек размещались высоко на верхней палубе, у перил. Впрочем, три из них смыло во время шторма, а четвертую матросы сбросили вслед за ними, чтобы сделать катер легче. Вдобавок грот-мачта зловеще раскачивалась.
Пережили шторм, кроме Грэшема с Манионом, Ленга и Анны, еще десять членов команды. Капитан оказался в числе тех, кто погиб в волнах во время шторма. Еще двое неподвижно лежали на палубе. Один из них во время шторма разбил голову, ударившись головой о ствол пушки, другой — ударившись о железные перила. Оба они расстались с жизнью.
Те, кто уцелел, сидели на баке, угрюмые и злобные. Грэшем решил проведать Анну. В это время дверь отворилась, и она сама вышла из каюты. Вдруг на лице ее появилось выражение ужаса. Она заметила опасность прежде Грэшема. Он резко обернулся и увидел: оставшиеся члены команды окружили Маниона. Кто-то из них нанес ему удар доской по голове, когда тот нагнулся, пытаясь открыть люк. Манион упал на решетку люка, и вся орава заревела от восторга. А потом они, словно стая гиен, бросились к Грэшему.
Он и сам плохо понимал, что делал в эти минуты, словно им управляла какая-то сила, вырвавшаяся из мира его инстинктов и спасшая его жизнь в решающий момент. Дрейк, отправляя Грэшема на «Маргаритку», не запретил ему взять свой меч. Как это ни странно, меч висел у него на поясе и во время бури, хотя во время качки длинный клинок мог заставить хозяина споткнуться и потерять равновесие, а против буйства стихии человеческое оружие было бессильно. Но сейчас пришло время пустить его в ход.
У мятежников был жуткий вид. Их и без того поношенная одежда превратилась в мокрые и грязные отрепья, большинство из них потеряли часть зубов, что делало их физиономии еще более отталкивающими. Но больше всего Грэшему почему-то запомнилось шлепанье их босых ног по мокрой палубе.
Грэшем мгновенно отвел руку с мечом назад, рассчитывая придать удару силу. Лезвие сверкнуло в воздухе. Меч разрубил голову первого из мятежников от щеки до щеки, задев язык. Все лицо его залила кровь. Нападавший упал. Остальные, видимо, колебались. Они скорее ощутили на уровне инстинкта, чем успели заметить то, что произошло. И все же один из них не успел остановиться вовремя, и второй удар Грэшема отсек ему ухо. На глазах у пораженного ужасом матроса оно упало на палубу. Тут в другой руке Грэшема как бы сам собой возник итальянский кинжал. Грэшем извернулся и нанес нападавшему удар кинжалом сзади и сверху, так что лезвие вошло в его грудную клетку. Тот едва не упал на Грэшема, и он невольно поддержал смертельно раненного врага, истекавшего кровью (со стороны могло показаться даже, будто Грэшем обнял его). Жизнь вскоре оставила мятежника. Грэшем извлек кинжал из его тела, и оно бессильно повалилось на мокрую и грязную палубу.
Остальные мятежники попятились. Один из них споткнулся о недвижно лежавшего на палубе Маниона, который застонал и зашевелился. Держа меч перед собой, Грэшем бросился вперед. Они отступили на несколько шагов. Внезапно Грэшем почувствовал, что кто-то стоит с ним рядом. Это была Анна, вооружившаяся сломанным шестом для чистки пушек.
Между тем Манион с трудом, пошатываясь, поднялся на ноги. Кровь текла по его лицу, на голове зияла рана. Грэшем подумал: у его слуги, должно быть, железный череп. Любой другой на его месте был бы убит подобным ударом.
— Баркас! — прохрипел Манион. — Посадите этих гадов на баркас. Пусть плывут домой.
То, что он назвал баркасом, находилось на середине палубы — обычная гребная лодка. Удивительным было только то, что она, казалось, не пострадала во время шторма.
Грэшем недоумевал. О чем думает Манион, если он вообще думает и страшный удар не вышиб из него мозги? Ведь, кажется, только одна эта лодка на борту «Маргаритки» могла быть сейчас использована для плавания по морю. Похоже, она оставалась их единственной возможностью спастись! Словно отгадав его мысли, Манион повернулся лицом к Грэшему и спиной к своим врагам.
— Делайте, что я сказал, без лишних разговоров! — прошипел он. — На баркас их и вон отсюда!
Теперь уже и мятежники изумленно уставились на Маниона. Не сошел ли он с ума? Ведь они и напали на него потому, что хотели беспрепятственно завладеть лодкой, считая ее своим единственным шансом на спасение. Разве офицеры и проклятая баба не желали сами захватить лодку? Не заставив себя уговаривать, они направились к лодке, освободили ее от швартовых, оттащили к борту и столкнули на воду. Тот, кто, по-видимому, являлся вожаком, взглянул туда, где до шторма стояли бочки с водой. Две из них смыло в море, но еще две оставались на месте. Матрос вопросительно посмотрел на Грэшема. Грэшем кивнул. Матросы погрузили одну бочку в лодку, а затем уселись туда сами. Они молча отчалили от борта «Маргаритки», и только отплыв на безопасное расстояние, кто-то из них заорал, оглянувшись назад:
— Сволочи!
— Зачем ты отдал им лодку? — удивился Грэшем.
— Могли бы прежде спросить, здоров ли я, — угрюмо ответил Манион, потрогав рану на голове.
— Раз разговариваешь, значит, должно быть, здоров. Впрочем, поделом тебе, проклятому олуху. Ответь наконец, зачем ты лишил нас единственной возможности спастись?
— Ну уж нет, — возразил Манион. — Нам надо было спровадить их отсюда. Их ведь все равно осталось чуть ли не втрое больше, чем нас. А теперь последите за лодкой. Думаю, все случится еще до того, как мы потеряем их из виду.
— Что еще случится? — вскричал Грэшем.
— Подождите немного, — загадочно проговорил слуга.
Лодка с беглецами уже почти достигла горизонта, когда это произошло. Маленький парус, поднятый мятежниками, вдруг заколебался и свалился в воду, а один из пассажиров лодки внезапно исчез, словно провалился сквозь ее дно…
— Гнилье, — заметил Манион. — Лодка-то вся прогнила. Я это давно заметил. Ее покрасили для вида, но внутри она гнилая. А мачта эта ни одного паруса не могла выдержать. Они сами устроили себе ловушку.
Недавние пассажиры лодки (Грэшем и его спутники видели только силуэты) отчаянно заметались. Вскоре их голов уже не стало видно над водой.
— Вряд ли кто-то из них умел плавать, — продолжал Манион. — Моряки обычно не умеют. Да сейчас они еще ошалели от страха. Без толку машут руками и ногами, вместо того чтобы хвататься за подходящие куски дерева. Может, кто из них и догадается ухватить какую-нибудь плавучую деревяшку. Дня три-четыре смогут продержаться с ее помощью, и то если погода не испортится, а потом — каюк.
Там, вдали, уже почти незримые для них, матросы отчаянно боролись за свою жизнь, но победить в отчаянной борьбе не могли. Это были живые люди, у кого-то из них, вероятно, имелись жены, матери, любившие их, кто-то, наверное, имел детей… Да, это были скверные люди, отребье, но все же люди, которым хотелось жить так же, как и всем прочим.
Грэшем, Манион и Анна видели последние минуты людей с борта тонувшей «Маргаритки» (каким странным казалось это название, от которого веяло свежестью залитых солнечным светом лугов Англии, здесь, посреди бескрайнего, серого водного пространства, где не могли расти ни цветы, ни деревья!). Далекая драма, когда не было слышно отчаянных воплей мятежников, а сами они издалека походили на марионеток, а не на людей, казалась им чем-то почти нереальным. Реальными погибавшие моряки оставались только для Маниона.
— Гады, — сказал он, глядя вдаль, с чувством искренней ненависти, — будете знать, как на меня нападать!
Грэшем только что убил человека. К тому же он сегодня стал свидетелем гибели шести человек. И все же тяжести на душе он не ощущал. Он думал: от людей все равно ничего не зависит, все решает судьба. Сейчас у него не было и в помине тяжелого состояния, пережитого им, когда он убил испанского шпиона в Англии. Стал ли он за это время более зрелым или просто очерствел душой? Но размышлять об этом не было времени. Вскоре гибнувшие в волнах мятежники скрылись из виду. Грэшем и его спутники открыли оставшуюся бочку с пресной водой и пили до тех пор, пока почти не перестали ощущать вкус морской соли во рту. Маслины и галеты, нашедшиеся в другой бочке, показались им самой вкусной едой за всю их жизнь. Анна ела вместе с мужчинами. Она все время молчала, только подтвердила, что ран и повреждений на ее теле нет. Потрепанное платье не скрывало ее лодыжек, и Грэшему постоянно хотелось смотреть на ее босые ноги. Утолив обычный голод, он почувствовал голод иного рода. Однако девушка вскоре удалилась в свою каюту. Можно было только догадываться, что она пережила там во время шторма. А потом на ее глазах совершилась кровавая схватка, и она, конечно, понимала, что бы с ней произошло, если бы Грэшема и Манион не устояли против мятежников. Ей не хотелось обсуждать с ними свои страхи. Впрочем, им и своих тревог хватало.
Грэшема почувствовал непреодолимое желание уснуть. Раньше он слышал об этом от солдат, побывавших в боях и знакомых с чувством непреодолимой усталости. Но засыпать сейчас на готовом утонуть судне было никак нельзя. Им следовало как-то выбраться с обреченного катера и постараться все же добраться до Англии.
— Мы тонем, — услышал он голос Анны, снова неожиданно появившейся из своей каюты (она каким-то образом сумела причесаться). Грэшем не раз удивлялся ее повелительному тону. — Я рада сообщить, что ничего не знаю о море, знаю только, что вода в нем соленая, а само оно опасно для людей и неприятно настолько, что это мне и не снилось. И все же даже я понимаю: судно все глубже погружается в воду. К тому же у меня в каюте — вода, чего час назад еще не наблюдалось.
— Вода… — пробормотал Грэшем. Тут в разговор снова вступил Манион.
— Эти деревянные корабли — интересная вещь, — объявил он. — Дерево ведь, я вам скажу, любит плавать. Оно для того и существует на свете. Я видел, как посудины вроде этой держались на плаву по нескольку дней. Но у меня есть новость, и хорошая и плохая сразу. Из тех бочек, что нам оставили, когда мы отплыли, примерно половина — на самом деле пустые. Я это давно уже обнаружил.
Когда катер поднимался и опускался, в трюме слышался какой-то глухой стук.
— Они помогут нам удержаться, — сказал Манион.
— Плот! — ответил Грэшем. — Надо строить плот.
И тут из какого-то укромного угла вылез скрывавшийся там до сих пор Ленг — буквально «как в воду опущенный».
— Нам надо построить плот, — сказал Грэшем. — Надо собрать воду, которая еще осталась, и еду, которая еще съедобна. Надо использовать пустые бочки как строительный материал для плота, пока старушка «Маргаритка» еще держится. Надо приспособить парус как тент для защиты от палящего солнца. Можно продержаться несколько недель, лишь бы не попасть в воду. А для вас вода сейчас вообще смерти подобна.
— Можно задать вопрос? — вмешалась Анна.
— Вы уже задали. А теперь закройте рот и не мешайтесь!
Грэшем сам удивился, отчего он взъелся на девушку. Конечно, оттого что силы его были на пределе, оттого что на них обрушивалось испытание за испытанием, и при этом она была для него дополнительным бременем, так что ему приходилось заботиться сейчас не о себе одном. А думать только о себе было, как ему казалось, проще и легче. Он и сам себе не хотел признаться в том, как боялся никогда больше не увидеть земли…
— Зачем вы собираетесь строить плот? — спросила Анна, как будто не слыша его грубых слов.
Грэшем тяжело вздохнул.
— Наше судно тонет, — стал терпеливо объяснять он, — и если мы не хотим пойти ко дну вместе с ним, нам надо на чем-то плыть. А теперь можно нам заняться делом?
— Конечно, — отвечала Анна. — Но разве не лучше было бы добраться на том, что мы уже имеем, вон до того огромного корабля, который я заметила еще минут десять назад?
Мужчины посмотрели в ту сторону, куда она указывала, и застыли, раскрыв рты. Это был «Королевский купец». Один из лондонских кораблей, очень давно отделившийся от флотилии Дрейка. Он, видимо, сбился с курса во время шторма. Великолепный корабль постепенно приближался к ним. Очевидно, там заметили пострадавшее судно прежде, чем даже острые глаза Анны смогли различить на горизонте большой корабль.
Глава 6
Июль 1587 года
Лондон
— Я явился, как только получил ваше письмо, — заявил Роберт Сесил.
«Ну, это-то по крайней мере правда», — подумал Уолсингем. Он прибыл на лодке в Барнес из Уайтхолла. Сесил выглядел усталым. С его спиной и такое путешествие являлось утомительным делом. Но чем более неприятным было это путешествие для Роберта, тем вернее он, Уолсингем, может задать ему вопросы, которые застанут этого молодого человека врасплох.
Они встретились в маленькой комнате с высоким окном, выходившим в сад. Уолсингем не любил модных, нарядных интерьеров, поэтому его покой выглядели несколько мрачновато. Они сидели у камина.
— Чем могу быть полезен? — спросил Роберт.
Уолсингем отметил про себя, что он еще достаточно молод. Со временем он научится следить за своим тоном, но сейчас пока в его манере говорить выражались одновременно желание польстить и слегка покровительственное отношение к собеседнику. Его семья была не очень высокого происхождения. Уолсингем видел в этом слабую сторону Роберта Сесила. Борьба за власть всегда требовала точного знания слабых мест конкурентов (если ты сам хочешь удержать власть, а не потерять ее). В тайной, но беспощадной войне, всегда идущей при дворе, оружием служили личные способности и высокое происхождение. Такие, как Сесил, умные и удивительно хитрые, обладали нюхом на конъюнктуру, свойственным людям, вынужденным постоянно бороться за свое положение. Его оппоненты, такие, как Эссекс, обладали аристократизмом и непринужденностью людей, родившихся в роскоши.
— Может быть, я могу оказаться вам полезным, — отвечал Уолсингем с насмешливой улыбкой. — Я давно усвоил: люди, имеющие здравый смысл, признают долги и стараются их оплачивать. Сам я беден. — Последние слова были правдой. Былое богатство Уолсингем растратил на свою сеть агентов. — Поэтому я могу дать только знания в надежде на то, что человек, их получивший, однажды вернет мне в качестве долга то, в чем я буду нуждаться.
После его слов Сесилу было над чем подумать. Скорее всего он думал о том, как опасно принимать дары от человека, которого сравнивали с самим дьяволом. И все же он, человек молодой и любопытный, пусть и не жадный до вина, игры и любовных утех, как многие его сверстники, должен клюнуть на приманку, полагал Уолсингем.
— Что же это за знание, которое, как вы считаете, представляет для меня интерес? — осторожно спросил Сесил.
Уолсингем не ошибся.
— Мне не может быть не известно о вашем интересе к молодому человеку по имени Генри Грэшем, — продолжал он. Сесил слегка покраснел (или это только показалось Уолсингему?). — Известна ли вам наиболее интересная история, касающаяся этого человека?
Роберт Сесил покачал головой. Он слегка наклонился вперед, выдав интерес к предмету разговора.
— Знаете вы его историю?
— Полагаю, да. Его отец был страшно богат, и сделал свое состояние, прежде всего ссужая деньги в долг. Известно, что сам Генри Грэшем — незаконнорожденный. Сравнительно недавно отец оставил ему по завещанию свое состояние, хотя при жизни он не признавал сына.
— Пока все верно, — ответил Уолсингем. — Но задумывались ли вы, отчего человек столь высокого положения вообще признал внебрачного сына? Ведь он мог просто сожалеть о подобном факте своей жизни. Итак, почему отец Грэшема решил признать его? И более того, отчего сделал внебрачного сына богачом?
— Я полагаю… из чувства долга, — осторожно ответил Сесил. — И потом, кажется, ведь других детей у него не было? Возможно, он полагал, лучше даже такое продолжение рода, чем его род вообще бы пресекся.
— Вполне возможно, — сказал Уолсингем. — Однако рождение внебрачного сына — не единственное необычное событие в жизни сэра Томаса Грэшема. Вы слишком молоды, чтобы это помнить, но некогда он стал опекуном одной молодой леди, причем достаточно необычной молодой леди. Причин этого сейчас точно никто не знает. Не исключено, девушке просто требовался опекун, и пожилой богач оказался наиболее подходящим кандидатом.
— Что же произошло дальше? — спросил заинтересованный слушатель.
— Молодая леди, своевольная, своенравная, капризная красавица, превратилась для него в кошмар. Они не поладили с самого начала и все время ссорились. Говорят, он даже жаловался слугам, что из-за этой женщины, вверенной его попечению, он познал ад преждевременно, уже на этом свете. А потом она покинула его дом.
— И все? — разочарованно спросил Сесил.
— Для света — все, — отвечал Уолсингем. — Но если послушать слуг, то получается совсем другая история. История дикой молодой женщины, решившей «осчастливить» старика. А также история ребенка, родившегося через шесть месяцев после того, как молодая леди покинула дом Томаса Грэшема. А рождение его окружено глубокой тайной. Позднее же сэр Томас дал этому ребенку имя Генри Грэшем и признал его своим сыном. Но ни тогда, ни потом он ничего не сообщал о его матери, о ее происхождении или ее имени.
— Вы уверены в этом? — спросил Сесил.
— Конечно.
— Как же звали ту девушку?
— Леди Мэри Кейс.
Роберт Сесил побледнел. «Интересно, очень интересно», — подумал Уолсингем.
— Леди Мэри Кейс… это сестра леди Джейн Грей? — спросил Сесил едва слышно.
— Она самая, — подтвердил Уолсингем. — Сестра леди Джейн Грей, чья царственная кровь стала достаточным основанием для провозглашения ее королевой на девять дней неразборчивыми в средствах родичами, прежде чем ее свергла королева Мария, и Джейн казнили в итоге этой авантюры. В жилах леди Мэри Кейс течет кровь Тюдоров. Полагаю, Генри Грэшем получил имя Генрих не случайно.
— А зачем вы рассказали все это мне, сэр Фрэнсис? — спросил Роберт, изумленно глядя на собеседника.
«Потому, — подумал Уолсингем, — что порода — то, чего у тебя нет и не будет, и данное обстоятельство пугает тебя. Потому что мне пока неизвестно, действуешь ли ты в интересах своего отца, своих собственных, королевы, Лейстера, Эссекса, или же в интересах некоего еще неведомого мне лица. Я знаю одно: Генри Грэшем имеет некое отношение к твоим планам, а услышанные сведения заставят тебя его немножко больше опасаться, и при твоей молодости и неопытности ты скорее всего в чем-то выдашь себя».
Вслух он сказал:
— Я считаю, люди нашего положения должны доверять друг другу. Если бы вы все это узнали из других источников, вы могли бы заключить, что я утаил от вас эту информацию. Вы — восходящая звезда, и мне нужно ваше полное доверие.
— А сам Грэшем знает, кто была его мать и что он… дальний родственник королей?
— Вот это мне неизвестно. Но если он знает, это не удивит меня. Генри Грэшем — из тех людей, которые знают куда больше, чем говорят. Ему может быть известно куда больше, чем я мог бы полагать.
Уолсингем отметил про себя, что Сесил сделал упор на словах «дальний родственник». Уолсингем догадывался: сидящий напротив молодой человек уже не любит Грэшема из-за его внешней привлекательности и из-за независимости, которую Грэшему дает богатство. Только по способностям они были равны, и чувство превосходства Сесила основывалось на том, что Грэшем — незаконнорожденный. Теперь же Уолсингем лишил Роберта сомнительного преимущества, но вместе с тем, вероятно, заслужил малую толику его доверия.
— А… при дворе еще есть люди, знающие правду о его рождении? — спросил Роберт Сесил.
Вот оно! Уолсингем предвидел это. Его собеседник весь напрягся, ожидая ответа, очень для него важного.
— Возможно, — отвечал Уолсингем, сделав вид, будто немного подумал над вопросом. — Но если хотите знать о моих догадках, то я бы сказал: вряд ли.
Сесил явно почувствовал облегчение. Он простился и ушел настолько быстро, насколько позволяли светские приличия.
А Уолсингем остался наедине со своими размышлениями. Что ему удалось установить? Сесил явно вовлечен в какой-то заговор, в котором Грэшем рассматривается просто как фишка. Однако, чтобы Грэшем мог сыграть эту роль, нужно скрыть от влиятельных придворных правду о происхождении молодого человека — пусть недостаточно законном, зато очень высоком. Уолсингем был еще далек от разгадки, но он методично и жестко, как делал это всегда, шаг за шагом двигался к правильному решению. А что же Генри Грэшем? Уолсингем понимал: сегодня он уменьшил шансы Грэшема выстоять в жизненной борьбе, но ведь тот добровольно вошел в темный мир шпионского дела. Он или утонет, или выплывет, в зависимости от своих способностей и удачливости. Разве не то же самое пришлось делать в молодости и Уолсингему?
«Королевский купец» прибывал в Лондон, в Дептфорд. Между тем Генри Грэшем чувствовал себя так, как будто он снова оказался там, где его преследовала испанская галера. Он упрашивал капитана разрешить ему выйти в первую очередь и незаметно. Он знал: об открытом появлении в порту его и его спутников пойдут разговоры во всех лондонских тавернах. Грэшем постарался объяснить создавшуюся ситуацию Анне.
— Кто-то хотел убить меня на корабле Дрейка, но кто, я сам точно не знаю, — сказал он. — Насколько я понимаю, когда мы окажемся в Лондоне, тот, кто это затеял, повторит свою попытку, я не могу сейчас вернуться в свой дом, за ним наверняка следят. Также будут следить и за лондонским домом Джорджа. Поэтому нам следует тихо поселиться в какой-то гостинице, притом не в самой лучшей. Есть места, где люди останавливаются, когда не хотят быть узнанными.
— Что за приговор вынесен мне судьбой! — горько сказала Анна. — Мало того что я умерла для общества, у меня нет ни одежды, ни слуг, которые делали бы для меня самое необходимое, так у меня еще нет ни родителей, ни дома! Вы ведь говорили, — продолжала она насмешливо, — что мой опекун, то есть вы, — человек богатый и общается с самой королевой? А получается, мой опекун и его подопечная должны ходить по Лондону переодетыми, точно преступники. Хорош друг королевы! — Несмотря на язвительный тон Анны, она была готова заплакать, а потому отвернулась, пытаясь скрыть свое состояние. — По моему, вы оба — преступники и лжецы.
Грэшем почувствовал, как теряет терпение. Манион тоже, кажется, кипел от негодования.
— То обстоятельство, что я стал вашим опекуном, как и то, что вы так глупо попали на борт «Маргаритки», делает нас с вами связанными в глазах людей, — ответил он, — потому мои враги станут и вашими врагами.
— Что за несчастная страна, где честные женщины не могут безопасно ходить по улицам! — изрекла Анна с презрением.
— Страна борется за свое существование, — ответил Грэшем. — И мне очень жаль, что вас втянули в эту борьбу. Но в любом случае моя жизнь в опасности, если меня узнают или поймут, кто я такой, благодаря нам. Хорошо, что мы сойдем на берег после заката — у нас есть возможность закутать вас в плащ.
— Есть более простой способ, — неожиданно заметила Анна.
— Более простого способа нет, — нетерпеливо ответил Генри.
— Вы можете одеть меня как мужчину или как мальчика-юнгу, — неожиданно предложила девушка. — Здесь, на корабле, есть подходящая одежда. Нет ничего особенного в том, что юнга сходит на берег, особенно если волосы скрыты шляпой, а лицо замазано грязью.
Несколько мгновений Грэшем и Манион изумленно смотрели друг на друга.
— Не болтайте глупостей! — сердито ответил ей Грэшем. — Во имя Неба, поймите, молодым девушкам нельзя ходить в штанах.
— Прошу вас не рассуждать как папаша, когда по возрасту вы можете быть только сыном, и притом — довольно юным, — резко ответила Анна. — Почему мужчины такие… тупые? Неужели нельзя понять простую вещь? Если, как вы говорите, нам угрожает опасность, то двое матрос и юнга, сходящие на берег, привлекут куда меньше внимания, чем двое мужчин и одна женщина.
— Не «матрос», а «матросов», — поправил Грэшем. Он украдкой оглядел девушку. Ее бедра действительно выглядели узковатыми, как у подростка, а не пышными, как у женщин, самой природой созданных для чадородия. Но ее груди… Их нельзя было не различить под свободным платьем.
— Товар посмотрели? Брать будете? — заговорила Анна ледяным голосом, оскорбленная откровенным разглядыванием. — Магазин не может работать весь день! — Эту фразу часто повторяла ее любимая няня. Грэшему с трудом удалось скрыть смущение. Проклятие! Неужели его мысли так легко прочесть?
— Я думаю… — начал он, не зная, как объяснить семнадцатилетней испанской аристократке, что у нее — слишком большая грудь для ее намерения. Тут вмешался Манион.
— По-моему, это не так уж глупо, как может показаться, — сказал он. — Она права, будет безопаснее, если мы сойдем за двух моряков и одного паренька. Да и женского платья на этом корабле не найти. А вот достать одежду для мальчишки — легкое дело.
Грэшем, кажется, уже готов был сдаться.
— Но как же, — начал он, чувствуя, что краснеет, — как спрятать как скрыть… ну, словом, женские части вашего тела?
Ему показалось, девушка с легким злорадством восприняла его замешательство. А Манион отчего-то отвернулся к окну и фыркнул.
— Их можно обвязать материей, если найдется достаточно длинный кусок, — ответила Анна так, будто обсуждать ее грудь с мужчинами являлось для нее обычным делом. Грэшем попытался представить себе эту операцию и постарался унять свое воображение, представив себе, как он зимой лезет в ледяную воду. Половой голод так же опасен, как и обычный, и не вовремя давать ему ход не следует.
От Ленга трудно было добиться внятных сведений. Выждав какое-то время, Грэшем и Манион допросили его однажды вечером на борту «Королевского купца».
— Я только порылся в ваших вещах! Мне приказали! — бормотал Ленг. Его нервозность легко объяснялась: Манион приставил кинжал к его горлу. — Мне велели рассказать обо всем, что я найду! Сказали, если я соглашусь, они разрешат мне плаванье с Дрейком и я смогу стать знаменитым…
— И таким образом поручили меня убить? — спросил Грэшем бесстрастным тоном. Ленг замер на месте.
— Ну, не совсем так… То есть, я хотел сказать, совсем не так, — поспешно заговорил он. — Дрейк же вас не убил. Мало того, он, чтоб ему пусто было, чуть меня самого не убил… — Ленг понял, что запутался, и умолк.
— Я остался жив только потому, что Дрейку никто не давал приказа меня убивать, — резко ответил Грэшем. — Если бы у них был такой уговор, он бы проделал это с «испанским шпионом» не задумываясь. Кроме того, эта девушка, видно, понравилась Дрейку, а он дал слово ее матери… И конечно, он раскусил, что вы — наемник каких-то людей, преследующих только свои цели, вы ведь обманули его самого, не сказав ему, для чего вы на самом деле оказались на его корабле. Вот он и предоставил нас обоих Божьему суду. Так что, пока я не отправил вас в ад, говорите быстро: кто дал вам это указание?
— Чиновник. Идиот чиновник в Уайтхолле, — пролепетал Ленг. — Он мне дал письмо — пропуск на корабль к Дрейку и еще одно письмо с инструкциями… он сказал, что это приказ высшего начальства!
От услышанной информации было мало толку, хотя, вероятно, Ленг не врал. Приказ убить Грэшема мог исходить от разных лиц: от самой королевы, от Бэрли или Сесила, от Лейстера или Эссекса, и даже от Уолсингема.
— Что вы со мной сделаете? — в ужасе спросил Ленг.
— Вот что, — ответил Грэшем, затыкая Ленгу рот кляпом. Совсем ни к чему было, чтобы вопли Ленга разбудили пассажиров. Манион сделал одно движение, раздался странный хруст, и глаза Ленга широко раскрылись от страха и боли. Закричать он не мог. Манион толкнул Ленга, и тот упал на палубу.
— Перелом сделан чисто, между верхней частью бедра и коленом, — объявил Манион. — Будет очень больно, но если у вас хватит ума подождать, то будете снова ходить нормально. А до того у вас будет много времени подумать о том, что случается с предателями.
Взгляд Ленга выражал безмолвный вопль. В шоке от произошедшего, он едва ли был в состоянии что-то сказать, даже если бы мог. Грэшем посмотрел на него сверху вниз.
— Я не тот человек, которого можно предавать, — сказал он спокойно. — Больше так не делайте, иначе то же самое будет с вашей шеей.
После захода солнца Генри Грэшем, стоя на берегу, вспоминал о своем отплытии из Плимута три месяца назад. Тогда у него имелось несколько костюмов, сундуки с дорожными вещами и бочки с его личной провизией (он заплатил огромные деньги, чтобы погрузить все это на борт «Елизаветы Бонавентуры»). Теперь в его собственности находилась только та одежда, которую он носил сейчас. То же самое относилось к Маниону и к Анне, с растерянным видом стоявшей рядом. Она была одета в свободного покроя рубаху, короткую кожаную куртку, на два размера больше, чем ей требовалось, и короткие брюки. Шерстяные чулки не скрывали очертаний ее икр (хотя они и у мальчиков могут хорошо смотреться). Ее роскошные волосы скрыла широкополая шляпа. Со стороны ее действительно можно было принять за юнгу, впервые сошедшего на берег. Несмотря на июль, ночь выдалась прохладная, ветреная, собирался дождь. Генри и Манион помахали рукой в ответ на прощальные приветствия членов команды, оставшихся на борту корабля. Минут пять они стояли на берегу, осматриваясь и прислушиваясь. Обстановка казалась спокойной. Осторожно пробираясь по задворкам и переулкам, путники добрались до постоялого двора, где останавливались скорее контрабандисты и жулики, чем джентльмены. В здешней части города прохожие старались не смотреть друг на друга. Анна не спрашивала Грэшема и Маниона, откуда им известна такая гостиница. Но хозяин явно знал их и впустил без разговоров. К удивлению Грэшема, их комната оказалась довольно чистой и насекомых здесь не наблюдалось.
Хотя ни он, ни Манион об этом не говорили, девушка являлась для них обузой. Им обоим следовало встретиться с Сесилом, но как оставить ее одну?
— Вот не было заботы, — хмуро проворчал Манион, которому пришлось с ней остаться. Анна ничего не сказала. По крайней мере Манион не представлял для нее никакой опасности.
На деньги, извлеченные из-за подкладки своего камзола, Грэшем нанял лодку с двумя фонарями. Когда они прошли под Лондонским мостом, он убедился: на реке много таких огней. Никогда еще Грэшем не видел столько судов в этих местах. Очевидно, Англия собирала силы перед войной так же, как и Испания. Правда, на Темзе он не увидел военных кораблей. Это были торговые корабли с гражданскими командами на борту.
Грэшем поежился. Пусть Дрейк и «ущипнул короля Филиппа за бороду», но силы короля от этого не убавились. Теперь в Англии будут говорить о нападении на Кадис как о большой победе, но, может быть, Дрейк всего лишь разбудил спящего великана. При всем шуме англичане просто совершили налет на плохо защищенный порт, где не имелось настоящих военных судов, после чего убрались подобру-поздорову. Много ли будет толку от кораблей с налетчиками, когда они столкнутся с боевым испанским флотом?
Ночью в городе было небезопасно. Люди богатые выходили по ночам в сопровождении слуг, спереди и сзади несших фонари или факелы. Те, кто обделывал какие-то ночные делишки, жались к зданиям, закрывая лица плащами. В доме Сесила было темно и тихо. Грэшем так стучал в дверь, что проснулся бы и мертвый, но с трудом разбудил слугу. Старик в ночном колпаке всматривался в ночного гостя, глядя через глазок.
— Я прибыл с вестями из Кадиса. Прямо с корабля из флотилии Дрейка, — объявил Грэшем. Он понимал: «Королевский купец» — скорее всего не первый из вернувшихся кораблей. Но главные силы Дрейка еще не могли вернуться в Англию, Их скорость зависела от огромного груза на борту «Сан-Фелипе».
Двери отворились. Старый слуга узнал гостя. Только спустя годы Грэшем понял, как много людей запоминают его, увидев лишь однажды. Он долго шел за слугой, освещавшим дорогу фонарем, по темным коридорам.
— Подождите здесь, — сказал старик, когда они пришли в какую-то маленькую комнату, где у стены стояла одинокая скамейка. Старик с фонарем исчез в каком-то следующем коридоре, а Грэшем остался один в полутьме (комнату освещала единственная свечка на стене). Наконец он снова услышал шаги. Вошли двое слуг, крепкие парни в дорогих ливреях дома Сесила.
— Пойдемте с нами, — сказал тот, что был выше ростом, и повернулся к гостю спиной. Грэшем не двинулся с места.
— В моем собственном лондонском доме на Стрэнде слуги обращаются к гостям вежливо, — заметил он. Слуга покраснел. Он не знал, как ему поступить. Ему вовсе не хотелось извиняться за грубость, тем более Грэшем сейчас мало походил на джентльмена, но не хотелось получить и выговор от хозяина. — Может быть, прислать кого-то с хорошими манерами? — предложил Грэшем.
Наконец слуга пробормотал что-то вроде «не угодно ли проследовать за мной, сэр», и Грэшем решил больше не приставать к нему.
— Прошу вас, присядьте, — любезно сказал Сесил гостю. Его комната была роскошно обставлена, а стены украшали дорогие французские гобелены с изображениями мифических животных, преследовавших людей. У одного из зверей когти были в крови. «Возможно, передо мной эмблема дома Сесилов», — подумал Грэшем.
Хозяин сидел в высоком кресле с резными ручками, одетый так, как будто и не ложился спать. На нем был плащ, подобающий скорее старику, чем галантному молодому человеку. На дубовом столе, чья полированная поверхность отражала свет множества свечей, стояли блюда с остатками еды. По знаку хозяина двое слуг мгновенно убрали со стола.
— Не желаете ли вина? — спросил он гостя. Если Сесила и неприятно поразило то, что Грэшем жив, то он хорошо умел скрывать свои чувства. Кувшин с вином и кубки были золотыми. Не исключено, Сесилу доставляло удовольствие самому созерцать свое богатство, возможно, также он рассчитывал произвести впечатление на гостя.
— Какая приятная неожиданность — увидеться с вами сразу по вашем возвращении! Вы, вероятно, расскажете мне о вашей миссии? — спросил Сесил так, словно речь шла о выращивании огурцов. — Конечно, я уже слышал кое-какие новости, но получить сведения из первых рук — всегда очень ценно.
Грэшем посмотрел в глаза собеседнику. Взгляд его не выражал никаких эмоций.
— Достигнута большая победа, — объявил Грэшем с нарочито преувеличенной важностью. — Англия, бесспорно, выиграла битву за бочки. Мы доказали, что можем уничтожать материал для сборки бочек, невзирая на трудности и опасности. Вы, бесспорно, можете гордиться нашими моряками и их капитанами. — Грэшем отметил: собеседник слегка поднял брови. Едва ли он оценил юмор гостя, скорее, был раздосадован. Грэшем продолжил уже нормальным тоном: Кроме того, несколько сотен семей испанских рыбаков не переживут эту зиму, поскольку мы лишили их судов и пожитков. А содержимое порта в Кадисе перешло в карманы сэра Фрэнсиса Дрейка. И конечно, ее величества. — Наступила продолжительная пауза.
Наконец Сесил спросил:
— Ваш доклад закончен?
— Я сообщил самое важное, — отвечал Грэшем. — Добавлю: «флот» Дрейка похож на стаю бешеных псов, не поддающихся дрессировке, а сам он контролирует свою ораву не больше, чем медведь — стаю шавок, которые его кусают. Он, видите ли, так и не разрешил мне сойти на берег, а находиться три месяца в море ужасно скучно. А тут еще кто-то подбросил в мои вещи подложные письма о том, что я якобы испанский шпион, и сделал так, что их обнаружили. — Последние слова Грэшем сказал так, будто данное обстоятельство ему только что пришло в голову. — Попросту говоря, кто-то пытался убить меня, конечно, чужими руками.
— Убить вас? — переспросил Сесил без всякого выражения.
— Да. Недаром говорят, перо могущественнее меча. Но… мы, шпионы, не очень беспокоимся о подобных вещах. Это наша работа. Нам даже бывает неприятно, если никто не пытается нас убить. — Грэшем широко улыбнулся собеседнику. — Могу я теперь выпить вина?
— Вы и в могиле будете так же паясничать? — спросил Сесил непринужденно, как будто беседовал с другом.
— Ну, в этом-то я сомневаюсь, — отвечал Грэшем. — Но мне очень интересно узнать, кто пытается меня туда отправить.
Молчание, казалось, продолжалось целую вечность.
— Мне ничего не известно обо всем этом, — ответил наконец Сесил.
— Понимаю, — сказал Грэшем. — Хотя должен заметить: кто бы это ни был, он искусно умеет заметать следы и едва ли может открыто признать указанный выше факт.
— Вы проявили недостаток воспитания, придя в дом джентльмена и обвинив его без всяких доказательств в покушении на убийство, — заметил хозяин, тщательно подбирая слова.
— Вы проявили недостаток здравого смысла, оскорбив человека и дав ему право вызвать вас на дуэль, — отвечал Грэшем. — На дуэль, которую вы проиграете. Так что ваше замечание может стоить вам либо жизни, либо чести.
Сесил теперь понял свою ошибку. При дворе никто не будет возражать против права Грэшема послать ему вызов после его последних слов. Если он, Сесил, согласится принять вызов, то потеряет жизнь, а если откажется, потеряет честь.
— К счастью для вас, — продолжал Грэшем, — сейчас для меня некстати убить или обесчестить сына королевского обер-секретаря. — Если Сесил и почувствовал облегчение, он не показал этого.
Грэшему действительно следовало вести свою игру очень осторожно. Сесил был ему симпатичен так же, как ведро с отбросами, но тот являлся первым претендентом на власть при ее естественной смене в стране. Он вполне мог стать главным лицом после ухода из жизни его отца и Уолсингема. В мире политики было даже не так уж и важно, если Сесил действительно пытался убить Грэшема. Важно было узнать, для чего это делалось, и сделать так, чтобы он больше не делал этого. При таких условиях возможным становился даже союз между этими двумя людьми. Но Грэшем пока не знал правды о своих врагах. И если он первым делом пришел к Сесилу, то не потому, что подозревал его больше других, а потому, что из всех подозреваемых доступен ему был только Сесил. Войти в его относительно скромный дом было гораздо легче, чем в дома Бэрли, Эссекса, Лейстера, тем более во дворец. Наступило время для серьезного разговора. Даже если Сесил действительно пытался его убить, Грэшем не сможет установить этого сейчас. Он может пока только создать защитную систему на случай будущих попыток в том же роде. Грэшему следовало сейчас расставить ловушки на всех тропах, по которым может пройти зверь, хотя сам он больше напоминал дичь, чем охотника.
— Мы живем в трудные времена, Сесил, — сказал он.
— Вот как? — В тоне собеседника теперь сквозила легкая насмешка.
— Вы сами сейчас можете или сделать карьеру, или упасть с высоты. Ваш главный соперник в борьбе за королевские милости — граф Эссекс Можно сказать, красавец и чудовище. — При этих словах Сесил напрягся, но промолчал. — Или точнее говоря, — пояснил Грэшем, — человек из древнего дворянского рода против выскочки. Ведь при всем богатстве и власти вашего отца у вас ведь нет благородного происхождения.
Грэшем отметил, что Сесил помрачнел, услышав его слова. Выходит, он нащупал его слабое место, которое в дальнейшем можно использовать.
— Это вовсе не инсинуации против сына первого королевского министра, — сказал он. — Зачем мне так рисковать? Это уж так, к слову пришлось. Но у меня есть и еще о чем поговорить с вами.
— Например?
— Ваш достопочтенный отец впал в немилость, ведь по его инициативе королеве Марии Шотландской вынесли смертный приговор. Королева Елизавета утверждает: ее министры действуют самовольно.
— Сплетни. Пустые придворные сплетни, — спокойно ответил Роберт Сесил. — Если бы вы чаще бывали при дворе, знали бы, чего стоит вся эта болтовня.
— Я рад, если так, — ответил Грэшем с наигранным облегчением. — Ваши власть и влияние незыблемы. Что до меня, меня кто-то уже пытался убить и этот кто-то не стремится себя обнаружить. Поэтому мне нужно некоторым образом обеспечить свою безопасность, причем от многих людей сразу, ведь я еще не знаю своих истинных врагов. Мы с вами — разные люди. У меня нет зависимых людей, нет даже семьи, и некому будет обо мне плакать в случае моей гибели.
— Как печально, — заметил Сесил, изобразив на лице выражение скорби. — А вот я могу сказать: уже сейчас, в начале моей карьеры, случись что-то подобное со мной, так многие люди будут даже радоваться.
— Вы не поняли, — ответил Грэшем. — Меня не интересует, будут о вас плакать или нет. Речь о том, что я люблю только себя самого. В этом моя сила. И я слышал, вы любите кое-кого еще, кроме себя. В этом ваша слабость. Если я пойму, что это вы покушаетесь на жизнь самого дорогого мне человека — на мою собственную, тогда мне придется ответить на это, и погибнет человек, которого вы любите.
— А вы, конечно, знаете, что у меня на душе, Генри Грэшем? — насмешливо сказал Сесил.
— Я — нет. Но кажется, красавица Елизавета Брук знает.
Сесил вскочил на ноги.
— Как вы смеете! — заорал он. Дверь отворилась, и в комнату быстро вошли двое слуг, но хозяин сделал им знак не приближаться. Грэшем подумал: Роберт Сесил может попытаться убить его даже здесь и сейчас. Достаточно просто приказать словом или знаком кому-то из его слуг метнуть нож в гостя.
— Кстати, вы ведь не знаете, какие меры я принял на случай, если я не возвращусь отсюда. Лучше не делайте глупостей, ничего хорошего это вам не принесет.
По новому знаку хозяина его люди удалились. Вообще говоря, Сесил боялся женщин, боялся их насмешек над его уродством. Елизавета Брук, дочь лорда Кобхэма, могла принести Роберту не только уважение света, но и приданое в две тысячи фунтов. Говорили также, что она очень мила и даже чувствует расположение к Роберту Сесилу.
— Я уже говорил, — продолжал Грэшем, — что привязанности вроде этой — ваша слабость, а отсутствие привязанностей — моя сила. Нет никакой необходимости причинять вред любимой вами женщине. Речь о другом: я должен убедиться, что вы не причиняли вреда мне самому и не попытались бы делать это в будущем.
— Я не отвечаю на угрозы, — злобно сказал Сесил, — прежде всего хочу напомнить: тем, кто угрожает мне, следует лучше заботиться об угрозе их собственной жизни.
— Замечательно! — воскликнул вдруг Генри с неожиданным радостным возбуждением. — Вы ведь понимаете, в чем тут дело? — Вопрос был риторическим. Собеседник его явно не понимал, озадаченный его внезапной жизнерадостностью. — Мы с вами признали: мы враги. Наконец-то двусмысленный придворный протокол вытеснен настоящими человеческими чувствами. Я говорю о моем желании убить вашу невесту, если это именно вы пытаетесь убить меня, а также о вашем искреннем желании убить меня за такую угрозу.
— Насколько мне позволяет судить наше не слишком близкое знакомство… многие люди хотели бы убить вас, Генри Грэшем, — заметил Сесил.
— Однако мало кто из них говорит об этом так откровенно, — возразил Генри с тем же веселым оживлением. — Странно, но и прекрасно, что ненависть может рождать честность. Теперь мы знаем друг друга.
— Вы никогда меня не узнаете, — сказал Сесил.
— Как и вы меня. Но оба мы знаем достаточно для практических целей.
— Зачем вы пришли сюда сегодня?
— Проверить, не вы ли пытались убить меня.
— Ну и как?
— Наша встреча рождает интересные идеи, — отвечал Грэшем. — Кое-что вы могли бы предпринять в качестве жеста доброй воли.
Сесил заерзал на кресле.
— И вы говорите о доброй воле после ваших диких угроз?
— Перед тем как я покинул Англию, появились слухи о возможной дипломатической миссии к герцогу Пармскому, чтобы прощупать возможность заключения мира между Испанией и Англией. Она состоялась? — спросил Грэшем.
— Вы хорошо информированы, — заметил Сесил. На самом деле информация исходила от Джорджа, но Генри, конечно, не стал сообщать об этом собеседнику. — Нет, пока миссия не состоялась, возможно, еще не наступил срок для этого.
— Ходили также слухи, будто вы должны стать одним из членов дипломатической миссии. Мне следовало бы участвовать в ней. Ваше влияние оказало бы мне неоценимую услугу.
— Мне казалось, вы располагаете влиянием сэра Фрэнсиса Уолсингема. Почему бы вам не обратиться к нему?
— Может быть, и так. Но, боюсь, он не сумеет преодолеть сопротивления, скажем, лорда Бэрли. А он может и возражать против моего участия в этой миссии, скажем, по просьбе его сына.
Теперь Сесил, кажется, вышел из терпения.
— Вы ведь только что угрожали убить мою невесту. А теперь меня же просите о помощи! Вам не кажется, что в вашей просьбе есть некая… ирония?
— Я предпочитаю называть это чисто деловым подходом, — ответил Грэшем. — Я знаю, вы бы убрали меня не задумываясь, если бы я стоял на вашем пути, и я отвечаю вам взаимностью. О деловом подходе я говорю потому, что ваш подъем наверх по скользкой придворной лестнице обратится в ничто, если наша страна рухнет и испанцы станут править в Лондоне. Мое участие в дипломатической миссии могло бы помочь спасти положение.
— Откуда мне знать, что вы будете работать на Англию, а не на Испанию? Как я могу установить, что письмо, о котором вы говорили, действительно поддельное, а не подлинное?
— Никак. Но если я, допустим, шпион, у вас будет прекрасная возможность схватить меня, поскольку мы в этом путешествии вынуждены будем держаться тесной компанией.
— А что вы могли бы делать в составе миссии? Меня вовсе не порадует, если один из ее членов будет схвачен как шпион во враждебной стране. Я не опасаюсь за вашу жизнь, но, потеряв ее, вы создадите угрозу и для жизни других членов миссии.
— Ничего нельзя сказать определенно. Но я даю вам слово — мои планы не причинят вреда Англии или ее дипломатической миссии. Для меня важно посетить двор герцога Пармского. А явиться туда открыто — лучший способ скрыть свои цели. Но это еще не все.
— Не все? — переспросил Сесил.
— Еще мне нужно разрешение на поездку в Лиссабон. — Дворянам для зарубежных визитов тогда требовался королевский паспорт. — При нормальных обстоятельствах я мог бы получить такое разрешение, либо воспользовавшись своими правами, либо через милорда Уолсингема. Но я не хочу, чтобы кто-то из влиятельных придворных мне в этом воспрепятствовал.
— Кажется, ваши… отношения с королевой дают вам возможность получить очень многое, — заметил Сесил.
— Мои отношения с королевой дают мне возможность сохранить голову на плечах только потому, что я единственный при этом дворе, кто ни разу у нее ничего не просил. Заметьте, мне нужна не ваша помощь, а только ваше слово не чинить мне препятствий.
Сесил устало посмотрел на собеседника:
— Вы плохо представляете себе мир, в котором я живу. Конечно, мой отец доверяет мне все больше, однако положение мое небезопасно. Королева относится ко мне… не лучшим образом, хотя и не настроена враждебно. Граф Эссекс постоянно ищет случая меня как-то ущемить. Мое влияние при дворе не так уж велико.
Трудно сказать, искал ли Сесил сочувствия Грэшема или просто хитрил.
— Я продемонстрирую вам свою… добрую волю, — продолжал он. — Вам нет нужды беспокоить сэра Фрэнсиса. Я не буду препятствовать вашему предполагаемому путешествию в Лиссабон. Вы сможете следовать вместе со мной в составе нашей фландрской миссии как мой помощник. На бумаге вы будете считаться слугой, если это не оскорбительно для вашей гордости. — Он помолчал немного и добавил: — Но я поступаю так вовсе не из-за ваших угроз. Если бы я верил, будто это зависит от вас, то сам раздавил бы вас как муху. Я делаю это, ибо знаю: иногда людям приходится работать с мерзавцами, и потому что сам вижу — наша страна в опасности. А вы, несмотря на производимое вами впечатление, можете быть полезны для защиты от этой угрозы.
— Мне тоже приходится иногда работать с мерзавцами, — заметил Грэшем, улыбнувшись собеседнику.
Молодые люди слегка поклонились друг другу, и Грэшем удалился.
Следовало возвращаться, но пьяный лодочник заснул в лодке, и Грэшему пришлось грести самому. Был поздний час, и даже в припортовой гостинице царили темнота и тишина, нарушаемая время от времени лишь собачьим тявканьем. Грэшем осторожно постучал в дверь условным стуком. Манион где-то достал жареную курицу, которую теперь доедал. Рядом с ним на столе стоял кувшин с элем. Девушка спала во всей одежде. Манион укрыл ее грубым шерстяным одеялом. Он заговорил шепотом:
— Я, значит, тут поужинал малость и послал мальчишку — ну, узнать, приехал ли Джордж. Ну, он приехал. Мало того, еще карету прислал сюда. Этот малый сказал: за домом никто не следит.
— Джордж! — изумился Грэшем. — Неужто он уже вернулся?
Ответ они узнали после езды в тряской карете, которую в доме Уиллоби держали для того, чтобы вывозить в город стариков — родителей Джорджа. Конечно, для пожилых людей этот транспорт никуда не годился, зато Грэшем и его спутники получили возможность проехать по городу незамеченными. Анна явно изумилась, когда ее разбудили и отвели в карету, и еще больше — когда они прибыли на место и ее проводили наверх разбуженный мажордом и две служанки.
— Как же… — начал было Генри, но Джордж замахал руками и остановил его.
— Я потерял голову, когда увидел, как ты отплыл на дырявой посудине, — сказал он. — У меня пропала охота путешествовать, а потому, когда Дрейк на другой же день послал на родину судно сообщить приятную новость о захвате «Сан-Фелипе», я пересел на него и направился в Англию. По правде сказать, я надеялся нагнать тебя во время плавания. Дрейк не возражал, он все еще торжествовал по поводу богатой добычи. Ветер дул попутный, и я вернулся сюда три дня назад.
— А как они там восприняли исчезновение девушки? — поинтересовался Грэшем.
— По правде сказать, едва заметили его. Дрейк поорал немного, обвинил кого-то из матросов в изнасиловании и убийстве, а потом кто-то предположил, будто она безумно влюбилась в тебя и тайком пробралась на «Маргаритку». И Дрейк опять принялся считать дукаты.
— Кто-то? — недоверчиво переспросил Генри. Его друг не умел врать и покраснел в этом месте рассказа.
— Ну, допустим, я. Не хотелось мне, чтобы того матроса повесили. Он очень любил своих родителей и мухи бы не обидел. Ну да ладно. Расскажи лучше о своем путешествии.
Грэшем выполнил просьбу друга. А после рассказа о своих странствиях (прерываемого иногда юмористическими репликами Маниона) он пересказал и свой разговор с Робертом Сесилом.
— Интересно, — заметил Джордж, внимательно выслушав последний рассказ. — Что же, давай будем логичны. Кто-то пытается убить тебя. Следует выяснить кто. Рассмотрим подозреваемых.
— Первый подозреваемый, конечно, Сесил, — заметил Грэшем.
— Конечно. Но это не окончательная версия.
— А что в моей жизни окончательно? — усмехнулся Генри. — Однако продолжим.
— Следующий, возможно, Уолсингем, — сказал Джордж.
«Свихнулся он со своей политикой», — подумал Грэшем.
— С чего это? — спросил он. По правде сказать, и у него самого мелькала такая мысль, но было бы не так преступно услышать нечто подобное от другого человека.
— Уолсингем — такой же враг Марии Шотландской, как Бэрли или Сесил. Из-за пресловутой казни он тоже потерял расположение королевы. Он может быть заинтересован «разоблачить» тебя, пытаясь вернуть ее расположение.
— Возможно, но сомнительно, — ответил Грэшем. — Он переживал и не такие неприятности, и к тому же он смертельно болен. Едва ли в своем теперешнем состоянии он будет думать о подобных комбинациях.
— Ну, вы кое о чем не подумали, — вставил Манион. Он уже раздобыл кусок баранины и кружку эля, но сейчас на время отвлекся от еды ради интересного разговора. — Он же, Уолсингем, разве не сам послал вас шпионить в Испанию, чтобы вы делали все, как у них там полагается, и даже нарочно подкинули им кое-какие сведения? Разве не так?
— Вот как! — воскликнул пораженный Джордж. — Я не знал этого.
— Ты и не должен был знать, — ответил Грэшем, выразительно посмотрев на Маниона. Тот просто отмахнулся и снова принялся за баранину.
— Не беспокойтесь, — продолжал он с набитым ртом. — Ему можно доверять, я побьюсь за это об заклад хоть на свою жизнь.
— Распоряжайся своей жизнью сам, а мне позволь распоряжаться моей, — грустно заметил Грэшем.
— Сами посудите, — продолжал Манион. — Если тут пойдут разговоры, будто вы испанский шпион, что тогда? Уолсингем может объяснять, что посылал вас как двойного агента, но его самого тогда хорошо если просто за идиота примут. Один из его шпионов, значит, работает на испанцев, а он сам его посадил на корабль и отправил с Дрейком на Кадис! Еще подумают, что старик решил поставить сразу на двух лошадок и заслужить себе хорошую пенсию, если, скажем, испанцы начнут войну и победят. Если и правда он кого-то другого послал шпионить в пользу Испании, а вас — в пользу Англии, то тогда, конечно, он мог бы от вас отделаться и объявить, что расправился с самым настоящим шпионом.
Грэшем, ходивший взад-вперед по комнате, услышав его слова, остановился. Могло ли это быть на самом деле? Мог ли Уолсингем пожертвовать им, чтобы другого его агента не разоблачили как испанского шпиона?
— Кто же следующий подозреваемый? — спросил он. Сам Грэшем сделал для себя какой-то вывод, но пока не хотел его высказывать.
— Королева, — просто ответил Джордж.
Грэшем засмеялся:
— Да брось ты. Я не уронил ее во время танца, я не говорил ей, что от нее воняет, я не просил у нее денег. С чего бы ей?
— Ты очень богат, — заметил Джордж.
Грэшем вздохнул. Ему уже начинали надоедать разговоры о его богатстве.
— Верно, — сказал он устало. — Кроме того, я не растранжирил свое наследство и умею работать головой. Так что, возможно, стал даже богаче, чем был. Хотя, признаться, заботы об увеличении состояния утомляют еще больше, чем все ваши разговоры о том, как я богат.
— Кто твои родные? — спросил Джордж, не обращая внимания на тираду Грэшема.
— Кажется… у меня их нет, — ответил Генри. Он почувствовал внутреннее напряжение, начиная понимать, куда гнет его друг.
Джордж между тем продолжал:
— А что бывает с имуществом очень богатых людей, которые уходят из жизни, не имея наследников, об этом ты не задумывался?
— Позвольте мне вставить слово, — снова ввязался Манион. — Я уж найду что сказать…
— А особенно в тех случаях, когда имущество принадлежало человеку, казненному за измену? — закончил свою мысль Джордж, игнорируя Маниона.
— Имущество наследует корона, — устало проговорил Грэшем, опускаясь на стул.
— А корона опасается вторжения врага и ведет разорительную войну в Нидерландах… А сколько кораблей можно купить на деньги, вырученные от твоего имения? Сколько на эти деньги можно экипировать солдат, чтобы послать их против могущественного герцога Пармского?
— И никто, кроме несчастного дурачка, вроде тебя, не станет оплакивать гибель молодого выскочки Генри Грэшема, — заметил Грэшем.
— Королева еще никогда не испытывала такой нужды в деньгах, — заметил Джордж.
— Не исключено, — ответил Грэшем. — Это самая тяжелая перспектива, но она не так уж невозможна, если рассуждать логически. Поэтому я останавливаюсь на ней как на одной из вероятных, но не больше. — Королева была достаточно беспощадной, чтобы поступить так, как говорил Джордж, но такая ли уж у нее крайняя нужда в деньгах? Он решил подытожить разговор. — Итак, рассмотрим имеющиеся факты. Сесила я предупредил. Если угроза исходит от него, он знает: я подозреваю его, и будет по крайней мере осторожнее. Если тут замешан Бэрли, то, вероятно, его сынок немного охладит его пыл. Я уверен: если Сесил считает, что его суженая в опасности, он сумеет уговорить папашу. Что до Уолсингема… Ну, лучше всего мне с ним увидеться и самому посмотреть, что там к чему. А если это королева…
— Тогда мы попали в задницу, — мрачно изрек Манион.
— Разве что ей надоест эта затея и она займется чем-нибудь другим, — заметил Грэшем.
— Самки пауков получают то, что надо, от самцов, а потом убивают их, — заметил Манион. — Я это сам видел, — добавил он зловеще.
— Кажется, у тебя испортилось настроение, — сказал Грэшем. — У меня есть отличная идея: заткнись.
Манион умолк, хотя и пробормотал что-то вроде «не хотят слушать правду».
— Я думаю, пора немного поспать, — заметил Манион, зевая. — Да и вымыться вам обоим надо бы, если вы не возражаете. Мне самому потребовалось три дня, чтобы навести чистоту, а вас, вы уж извините, нельзя пускать в хорошее общество.
Грэшем, конечно, мог помыться и переодеться в доме друга, чтобы привести себя в порядок перед приездом в свой собственный дом. Однако он предпочел отправиться прямо к себе в поношенной, просоленной и грязнейшей одежде.
— Не понимаю, что с ним. Он ведь обычно такой… чистюля, — сказал Джордж Маниону. Сам Джордж не одобрял этого свойства друга, полагая, что большое количество воды нарушает естественную структуру кожи, а потому предпочитал воде благовония. Однако внезапная перемена в привычках Генри обеспокоила Уиллоби.
Манион усмехнулся, но промолчал. Он знал, отчего его хозяин хочет проехать по Лондону в таком виде. И грязная одежда, и запах человека, три месяца пробывшего на море, являлись для молодого человека знаком отличия, свидетельством того, что он участвовал в больших испытаниях и боях и прошел их с честью. Раз в жизни Генри Грэшем повел себя как обычный молодой человек. Он дал возможность Анне поспать часа два, а потом повел ее на улицу, чтобы посадить в седло, завернув ее в широчайший плащ, найденный в хозяйстве Джорджа и, должно быть, некогда сшитый для женщины, беременной тройней, который, однако, хорошо маскировал мужскую одежду «юнги».
Он добился желаемого эффекта. Четверо его собственных слуг из особняка привели лошадей для него, для Анны и Маниона. Двум слугам Манион велел ехать впереди, как будто для того, чтобы расчищать дорогу господину. Манион также научил их рассказывать прохожим и проезжим, что следом едет герой Кадиса, вернувшийся на родину прежде победоносного и славного сэра Фрэнсиса Дрейка. Манион считал — его хозяин вполне заслужил минуты славы. Он дрался хорошо, не проявляя страха, хотя мог бы, и сохранял присутствие духа там, где многие хорошие люди уже отчаялись. Он вполне заслужил восхищение лондонцев, боящихся, что здесь вот-вот появится испанская кавалерия, а потому очень радовавшихся любой победе англичан.
Грэшем наслаждался приветствиями толпы, но вместе с тем он не знал, как ему следует себя вести в создавшейся ситуации — махать ли рукой, как делала королева, приветствуя верноподданных, или ехать вперед с гордым видом, якобы не обращая ни на кого внимания. Поэтому он просто молча ехал рядом с Анной, с которой он едва ли обменялся парой слов с тех пор, как они сошли на берег. Совершенный овал ее лица, темные глаза, полные губы, роскошные светлые волосы оставались по-прежнему прекрасными, однако он заметил также тени под ее глазами. Может быть, люди на улицах так шумно приветствовали их, что видели в великолепной паре всадников принца и принцессу? Анна с гордым видом восседала на лошади, но Грэшем, успевший ее неплохо узнать, чувствовал, что…
— Отдохнули ли вы? — тихо спросил он ее, натянуто улыбаясь какому-то прохожему, кричавшему: «Господь да благословит вас, сэр!»
Анна немного помолчала, потом спросила:
— Понимаете ли вы, что я теперь потеряла себя и как жена?
— В каком смысле? — спросил пораженный Грэшем. Почему девушки так непредсказуемы?
— А кто поверит, что я сохранила целомудрие, проведя несколько дней на тонущем судне, где меня окружали только мужчины? А потом я провела ночь вместе с двумя мужчинами в вонючей гостинице, куда мужчины приводят женщин для… продажи. Думаете, я не видела, куда вы меня привели прошлой ночью? Я… как это у вас говорится… бежалый товар? Мой жених не захочет приобрести подержанный товар. Так что, мой опекун, цена вашей вещи равна нулю.
— Лежалый товар, — пробормотал Грэшем, но сообразил: он как бы подтверждает ее оценку.
Сначала он готов был обидеться на Анну за предположение, будто он или Манион будут ее порочить. Даже когда женщины, одинокие или замужние, действительно спят с мужчинами, они рассчитывают только на то, что те не будут об этом болтать. Затем он подумал: все остальные мужчины, находившиеся на «Маргаритке», погибли, поэтому Анне вообще нечего бояться клеветы, Но тут он вспомнил о Роберте Ленге, о Дрейке и его команде. Все они знали, как и с кем Анна добиралась до Англии, и могли рассказать об этом что угодно. Он стал то ли объясняться, то ли оправдываться.
— Что до меня, то вы знаете: сейчас вы в том же… состоянии, в каком были и до встречи со мной…
При этих словах Анна замахнулась, намереваясь ударить его по лицу. Невольно сработал инстинкт самосохранения, И девушка вскрикнула, когда железная рука Грэшема схватила ее за руку.
— Не смейтесь надо мной! — закричала она, бросив на него гневный взгляд. В ней явно проснулась гордость ее испанских предков. — Я не шлюха, даже если вы хотите меня ею представить. Как вы смеете предполагать, что я потеряла невинность?! Это неправда. Неправда, я вам говорю!
Недаром семнадцатилетняя дворянка, всю жизнь росшая под бдительным надзором любящих родителей и вышколенных слуг, под присмотром и защитой, как все девушки ее сословия, считала невинность своим главным достоянием. И вдруг это создание потеряло своих родителей и осталось без наставников, без друзей, во враждебной стране, и ее мать отдала ее судьбу в руки неизвестного ей молодого человека, которого она, возможно, ненавидела, а его власть над собой считала унизительной. Она пережила кораблекрушение, вокруг нее не осталось ни одного любящего человека, а первую ночь на чужбине она провела в дрянной гостинице вместе с двумя мужчинами.
Проявила ли красавица мужество? По правде сказать, Грэшем не встречал мужественных девушек. Они могли быть интересными, загадочными, но не мужественными. Да и нуждались ли они в этом качестве? По-видимому, нет, до того последнего момента, когда все мужчины гибли в битве, а враги врывались в замок, но тогда было уже слишком поздно. Он отпустил ее руку. Она не плакала. Он почти не задумывался, да и не очень хотел знать, чего ей стоило сохранять контроль над собой не только сейчас, но и во все время, прошедшее с ее отплытия из дома.
— Вашей чести ничего не угрожает, потому что мы знаем правду, — сказал он торжественно. — Мы оба скорее умрем, чем позволим кому бы то ни было замарать вашу честь.
— Мало того, — вмешался Манион, ехавший рядом с ними, хотя его мнения никто не спрашивал, — мы сами убьем любого, кто что-нибудь вякнет.
— Мы защитим вас, — заговорил Грэшем снова. — Это мой долг. Я дал слово вашей матери, а мое слово — закон. С нами вы в безопасности.
Она посмотрела на Грэшема, вдруг почувствовавшего себя страшно наивным.
— Я больше никогда не буду в безопасности, — сказала Анна.
Грэшем мысленно сравнил ее отчаянное положение со своей судьбой, но не нашел нужных слов для Анны и молча пришпорил коня.
Грэшему показалось, будто они добирались до его дома целую вечность. Особняк его выглядел великолепно, даже по лондонским меркам, даже для прибрежья. По оживленной суете слуг можно было заключить — они рады возвращению хозяина. Старенький привратник при виде молодого человека поклонился так низко, что, казалось, ударится лбом о брусчатку. Увидев на коне рядом с молодым хозяином горделивую красавицу, закутанную в просторный плащ, слуга поклонился ей так же глубоко, как и Грэшему. Огромный дом, казавшийся заброшенным, на глазах у путников как бы пробуждался к новой жизни. Сам Генри Грэшем, стоя посреди двора, словно изваяние, громко провозгласил, обращаясь к толпе сбежавшихся слуг:
— Слушайте все! Представляю вам Анну Марию Люсиль Риа де Сантану!
Впервые за время их знакомства Анна изумилась. Он никогда не называл ее полным именем, Как и откуда он узнал его?
— Эта леди — моя подопечная. Она была вручена моим заботам и передана под мою защиту по священному слову ее матери, находившейся на смертном одре, вблизи от Азор после того, как их славный корабль захватил после жестокой битвы сэр Фрэнсис Дрейк. «„Мое попечение“, „мои заботы“, — подумала Анна. — Он говорит только о себе».
— Она пережила морское сражение, кораблекрушение, тяжелую утрату, — продолжал он. — Кто из вас способен показать ей, гостье наших берегов, настоящее английское гостеприимство?
Собравшиеся начали тихо переговариваться между собой. Перед домом Грэшемов встала новая задача. Молодой хозяин никогда специально не занимался управлением одним из лучших особняков в Лондоне. Слишком свежи для него еще были воспоминания о проведенном здесь детстве, которое он предпочел бы забыть. Но слуги этого дома всегда оставались ему верны. Теперь следовало выполнить, по сути, первое задание молодого хозяина и принять романтичную испанскую принцессу так, как он считает нужным. Вперед выступила пожилая женщина, старшая служанка супруги сэра Томаса Грэшема. Она оставалась на службе благодаря отличному знанию своих обязанностей вместе с двумя младшими горничными долгое время после того, как упомянутая леди покинула сей бренный мир. Теперь же, по общему мнению домашних слуг, снова пришло время испытанной служанки.
— Мадам, — ласково сказала она, обращаясь к незнакомой чужестранке, — не соблаговолите ли вы последовать за мной?
Старой служанке хотелось говорить с официальной почтительностью, но, увидев девушку вблизи, она поняла — та была совсем юной, несмотря на аристократические титулы. Во дворе наступило молчание. Здесь находились все слуги, разбуженные из-за неожиданно раннего появления хозяина. Конечно, явились управляющий и эконом, старший повар и его помощники, судомойки, привратники, горничные, лодочники и люди, ухаживавшие за шестью лодками, конюхи (лошади оставались одним из немногих увлечений Генри Грэшема), даже каменщик и плотник, которые поддерживали сохранность прекрасного дома еще со времен Грэшема старшего. Их насчитывалось человек пятьдесят, и они составляли хорошо отлаженный механизм управления хозяйством, способный работать даже в отсутствие хозяина. Самое удивительное: при богатстве Грэшема ему не составляло большого труда управлять сложным механизмом. И вот теперь все эти люди смотрели на юную всадницу в странном мужском одеянии.
Именно доброта, которую почувствовала Анна, ласковые слова, к ней обращенные, пробили брешь в той внутренней защите, с помощью которой она долгие месяцы стремилась наглухо отгородиться от окружающего мира. На глазах ее появились слезы.
— Благодарю вас за вашу доброту, — сказала она и сделала им реверанс.
Один из людей Грэшема захлопал в ладони, остальные подхватили, раздался гром аплодисментов. Обессилевшая Анна почти упала с лошади. Пожилая женщина поддержала ее, и они вдвоем проследовали в дом под одобрительные возгласы расступившихся и давших им дорогу слуг.
— Почему бы вам не завязать с одиночеством? — неожиданно спросил Манион у хозяина. — У этой, видать, и тело, и голова в порядке, она сумеет о вас позаботиться как надо. С ней можно жить и дольше, чем ночь или две.
— Почему я должен все время перед кем-то отчитываться? — спросил Грэшем. Он был раздражен и возбужден. Ему хотелось выговориться. — Почему должен извиняться за то, что меня здесь нет, когда хотят, чтобы я здесь был? Почему должен объясняться с людьми, которые говорят, будто любят меня, и которые зависимы от меня? И настолько зависимы, что я сам не могу уже и шагу ступить спокойно! Мне не нужны привязанности. Понимаешь? Я хочу быть свободным!
— Нету на свете свободных людей, — ответил Манион. — Есть только люди, воображающие себя свободными.
Грэшем молча посмотрел в глаза Маниону, затем повернулся к нему спиной и быстро удалился в свои покои. Никаких драматических жестов со стороны слуги не последовало. У него были привязанности, и он не собирался от них отказываться.
Когда Анна появилась через несколько часов, ее трудно было узнать. Она вошла в сопровождении трех служанок, задержалась в дверях, давая возможность собой полюбоваться, потом сделала реверанс опекуну, почтительно поклонившемуся в ответ. Ее роскошные волосы, струившиеся по плечам, стали еще красивее.
Ее одели в платье из черного бархата с декольте, обрамленным тонким узором и украшенным маленькими жемчужинами. Струящиеся рукава платья скорее подчеркивали, чем скрывали нежность ее изящных рук. Грэшем не мог точно сказать, что именно делало эту девушку столь неотразимой: ее внешность и прекрасный наряд или та бьющая ключом жизненная энергия, которую она излучала.
— Нам надо поговорить. — Грэшем посмотрел на женщин, сопровождавших Анну.
— Вы можете оставить нас, — величаво изрекла Анна, но затем, снова превратившись в обычную девушку, она сказала с благодарной улыбкой: — Спасибо вам! Спасибо за то, что вы помогли мне!
Грэшем предпочел проигнорировать эту слишком длинную и сентиментальную, как ему показалось, сцену расставания женщин с объятиями и приятными словами. Он отвернулся к окну, и, возможно, зря это сделал. Он мог бы открыть для себя нечто новое в молодой женщине, которую, казалось, уже знал.
— Считаете ли вы себя настоящей испанкой или вы, хотя бы отчасти, связываете свою судьбу с Англией? — спросил он прямо.
Анна посмотрела на него как на сумасшедшего.
— Я ненавижу Испанию, — ответила она. — Испанцы отвергли моего отца, сослали его в грязный Гоа, и это убило его. Мою мать третировали как чужестранку, едва ее нога ступила на испанскую землю. А Англия… В Испании я хотя бы провела детство, и там было много света и тепла. Англии я вообще ничем не обязана. Моя мать — англичанка, но ее семью отвергли в ее собственной стране так же, как испанцы отвергли моего отца. Я презираю обе страны.
Грэшем колебался. Он не думал, что можно будет заручиться ее поддержкой, но уже начал игру.
— Вы мне нужны, — сказал он. — Я отправляюсь в Лиссабон, где буду работать как разведчик в пользу Англии. Я хочу помочь моей стране, Англии, и помешать вторжению испанцев.
Анна изучающе посмотрела на него, как могла бы посмотреть кухарка на рыбу, стремясь убедиться в ее свежести.
— А как я могу помешать испанцам воевать с Англией? — спросила она с нескрываемой иронией.
— Я мог бы использовать вас как прикрытие. Как ваш опекун, я имею право поехать в Лиссабон, чтобы соединить вас с вашим женихом.
— Да, возможно, — просто сказала Анна. — У него — база в Лиссабоне, хотя он и француз. А еще удобнее для вас было бы то, что вы имели бы возможность его долго искать. Он пребывает в путешествиях с июня до декабря.
Грэшем отметил ее слова «да, возможно». Она не выразила согласия, а лишь констатировала факт, что такое путешествие теоретически возможно. Вместе с тем его предложение не шокировало и даже не удивило ее.
— А зачем он путешествует так долго, да еще в зимнее время? — поинтересовался Грэшем.
— Он — глупый купец, — спокойно ответила Анна. — Глупый жирный купец. Он торгует пряностями. В июне он отправляется в Гоа. Там он проводит один-два месяца, продает то, что заказал в прошлом году, договаривается с постоянными покупателями на следующий год. Дальше он путешествует по суше, потому что покупает много шерсти на далеком юге, а там не стригут овец до октября. А еще он покупает ковры в Турции.
Они помолчали немного, потом Грэшем спросил:
— Остались у вас еще родственники в Испании?
— Да. Двоюродные и троюродные. Все имения моего отца распроданы. У одного кузена есть большое имение и много дочерей. Еще одна кузина не захочет иметь со мной дело, особенно если у нее уже есть жених. А в Англии у меня из родни нет почти никого, а кто есть, те давно порвали отношения с моей матерью.
Итак, родни у нее почти не осталось, она одинока. В такой же ситуации оказался некогда и сам Грэшем. Но Грэшем обладал богатством и свободой располагать собой. Анна же, по ее собственным словам, превратилась просто в вещь для передачи другому лицу. И этим лицом являлся некий жирный французский купец.
— Зачем вы хотите остановить войну? — спросила вдруг Анна.
Зачем? Вопрос, заданный спокойным тоном, поразил Грэшема больше всего, что он уже знал об этой ледяной деве. Он ведь рисковал жизнью ради того, о чем она спросила, а потому должен знать ответ. И все же ответ его на сей раз показался ему самому искусственным. Он сказал:
— Потому что… потому что легче всего бывает ничего не делать и найти подходящее объяснение для капитуляции. Проще всего считать себя жертвой обстоятельств. А я хочу, чтобы от меня что-то зависело, я верю, что могу улучшить жизнь. Иначе судьба просто превратит всех нас в трусов, и мы будем ничем не лучше бессловесных скотов. — Грэшем сам удивлялся горячности, с которой он говорил все это. — Моя жизнь должна быть большим, чем просто существование.
— И что дальше? Вы кое-что упустили из вида.
— Что же это? — удивленно спросил Грэшем.
— Вас волнует риск, — сказала она. — Вас ведь могут раскрыть и убить. Только когда вы знаете, что рискуете жизнью, вы понимаете, насколько все это ценно для вас.
— Как вы можете так говорить?! Вы же меня очень мало знаете.
— У меня голова работает так же, как и у вас, — выпалила Анна. — Вы не думали о том, что и женщина не хочет уподобляться тем животным, которых вы так презираете, живущим только для размножения?
— Но… ведь величайшее предназначение женщины, ее высокий долг — иметь детей, — сказал изумленный Грэшем.
— Может быть, и так, — ответила Анна. — Но прежде чем выполнить этот долг, разве не может женщина почувствовать, что она живет настоящей жизнью, борясь с опасностями? — Она отвернулась к окну, а потом без всякого перехода добавила: — Я готова поехать с вами в Лиссабон.
— Несмотря на то что вы испанка, хотя бы по имени? Несмотря на то что в вашей стране вас могут казнить, если нас обнаружат? Несмотря на то что ваше путешествие может закончиться… соединением с вашим жирным французским купцом?
Анна снова повернулась к нему.
— Я не спрашиваю вас, почему вы делаете то, что вы делаете, Генри Грэшем. В свою очередь, прошу вас сделать любезность и не спрашивать, почему я делаю то, что я делаю, — сказала она.
— Как вам угодно, — ответил Грэшем с легким поклоном. Он чувствовал уважение к этой молодой женщине. Похоже, они сработаются с ней. Но кто может точно знать, что… на уме у молодых женщин? Возможно, таинственность и делает их такими привлекательными.
— Любите вы лошадей? — спросил вдруг Грэшем и тут же пожалел о своем вопросе. Он собрался посетить одно из немногих мест, где он чувствовал себя непринужденно. И зачем приглашать туда гостью?
— Да, люблю, — ответила она.
— Тогда пойдемте со мной на конюшню, — сказал Генри. Это прозвучало скорее как требование, а не как просьба. Грэшем подумал: может быть, было бы лучше переспать с ней, Тогда она стала бы похожа на всех остальных женщин. Он готов был в этом убедиться, а по молодости и самоуверенности ему казалось, что и она возражать не будет. Но сделать это — значило бы нарушить слово, данное ее матери.
Конюшня всегда была как бы особым миром для Грэшема. Еще в детстве, когда ему бывало тяжело, он приходил туда и подолгу сидел, устроившись где-нибудь в уголке, получая удовольствие просто от соседства этих животных. Он любил даже характерный острый запах конюшни. Он мог подолгу наблюдать за лошадьми. Для него это был мир, не знавший лжи, мир, где все просто и правильно. Лошади явно занимали свое место в этом мире.
Улыбчивый конюх отворил двери, и они вдвоем вошли в полутемную конюшню. Стойла разделялись широкими проходами, выстланными кирпичом, словно аллеи. Лошади здесь были отличные. Старых кобыл и меринов переводили на ферму под Кембриджем, где они мирно доживали свой век, вместо того чтобы закончить свои дни на лондонской живодерне. Здесь же оставались отборные животные — от тяжеловозов, Способных возить громоздкую карету Томаса Грэшема (если бы это кому-нибудь понадобилось); до чистопородных гунтеров.
— Никогда не видели столько хороших лошадей сразу, — призналась Анна. Грэшем почувствовал ее искреннее восхищение.
— В Кембридже конюшни побольше, — тихо заметил Манион, незаметно присоединившийся к ним. В конюшне люди никогда не говорили громко, не только потому, что боялись испугать лошадей, но и из какого-то бессознательного уважения к их обиталищу.
— Выберите себе лошадь, — предложил Грэшем неожиданно для самого себя.
— Можно мне будет посмотреть на них во дворе? — спросила Анна. Кажется, прозвучала первая ее просьба за время их знакомства. Конечно, препятствий к этому не было. Конюхи скучали: хозяин посещал их редко, а тут предстояло услужить хорошенькой молодой леди. Почему бы не вывести лошадок на небольшую прогулку?
Прежде всего Анна обошла всю конюшню. Она смотрела на лошадей в стойлах, а они с любопытством разглядывали новое для них лицо. Некоторых из них она погладила и сказала им, видимо, какие-то ласковые слова, которых Грэшем и Манион расслышать не могли. Видно было, что Анна далеко не в первый раз общается с лошадьми и не боится их. Наконец она вернулась и спросила:
— Я действительно могу выбрать любую лошадь?
— Да, — подтвердил Грэшем.
— Тогда, пожалуйста, я бы хотела посмотреть на ту большую серую в яблоках кобылу.
Грэшем и Манион переглянулись и улыбнулись.
— Ну, это высокий класс! — заметил Грэшем. Крупная лошадь не очень подходила для женщин, к тому же она почему-то была неспокойна, когда Анна находилось у ее стойла. Однако это было замечательное животное, красивое, норовистое, порой непредсказуемое, но сильное и умное.
— Имейте в виду, — сказал Грэшем, хорошо знавший каждую из своих лошадей. — Она может быть упрямой, и с ней обязательно нужно разговаривать. Она вполне может показать свой норов человеку, севшему на нее впервые, но если править ей как следует, она носится как ветер.
Серая кобыла в яблоках прошлась по двору, потом вдруг остановилась и стала бить копытом.
Грэшем принял лошадь от мальчика, который вел ее на поводу, снял недоуздок и бросил на землю.
— Ну, ну, стой спокойно, — ласково сказал он. Лошадь посмотрела на хозяина, тряхнула гривой и вдруг медленно и с неожиданной для ее размеров грацией направилась прямо к Анне. Подойдя к девушке вплотную, она вдруг повернула голову и на мгновение прижалась мордой к ее шее. Анна погладила лошадь.
— Ну, такого я ни разу не видывал, — заметил Манион.
— Не желаете ли прогуляться верхом? — спросил Грэшем. — Еще светло, и время есть.
— Ну конечно, — ответила Анна. — Как ее зовут?
— Вы можете ее переименовать, — ответил Грэшем, — но я назвал ее Триумфальная, потому что вполне могу представить ее запряженной в триумфальную колесницу римского императора.
Анна посмотрела на лошадь и улыбнулась. Улыбка делала ее лицо милым.
— Мне нравится это имя, — сказала она. — Я так и буду ее называть.
Служанка сообщила, что удалось найти старый женский костюм для верховой езды, нуждающийся только в небольшой починке. Анна ушла переодеваться. Ожидание показалось Грэшему немыслимо долгим. Он не понимал, отчего женщины так долго переодеваются. Наконец она вернулась во двор. Он посмотрел на нее в этом знакомом ему наряде и невольно побледнел.
— Я очень рада, что мы нашли этот костюм, — гордо объявила старая служанка. — Мне помнится, его носила еще леди Мэри, когда ваш батюшка являлся ее опекуном.
Грэшему стало не по себе. Он-то думал, что все чувства, связанные с матерью, умерли в его душе. Не так ли она выглядела (как сейчас Анна), отправляясь некогда на верховую прогулку? Он предпочел не думать об этом.
Грэшем не мог сказать, что он опасался за свою жизнь. Но сейчас, когда он сопровождал свою гостью, правила требовали приличия эскорта. Их сопровождали четверо слуг в темно-синих, с серебром, ливреях, причем один из них ехал впереди, расчищая путь. Поехал с ними, конечно, и Манион, не любивший носить ливрею и предпочитавший одеваться на свой манер. Таким образом, его можно было принять за преуспевающего мастерового или не очень преуспевающего представителя среднего класса.
Они отправились на прогулку вдоль реки по направлению к Уайтхоллу. Анна ехала на новой для нее лошади, а прибрежье было единственным местом в городе, где повсюду имелись неплохие мостовые. Анна гордо восседала на Триумфальной, как бы составляя единое целое со своей лошадью. Грэшем знал: кобыла бывает неспокойной, но сейчас все шло хорошо. Все прохожие в этом фешенебельном районе, прилегающем к Вестминстеру и королевской резиденции, оглядывались на красавицу, восседавшую на великолепной серой в яблоках лошади. Какой-то прохожий даже поприветствовал их, приняв было Грэшема за графа Эссекса, но его приятель разъяснил ему его ошибку. Впечатление отчасти портил Манион, сидевший на неказистой с виду лошадке. Но Манион знал: это — смелое и сильное животное, которое может хоть весь день скакать галопом и не понесет, даже если рядом взорвется пороховой заряд. Маниона всегда интересовала обманчивая внешность.
Но тут произошла их встреча с лицом, которое трудно было обмануть. Они уже хотели повернуть назад, когда за их спиной раздался грохот огромной кареты, сопровождаемой большой свитой.
Королева Англии была вполне способна ездить верхом, любила она и водные прогулки по Темзе. Но в тот день обстоятельства потребовали от нее выбрать громоздкую карету, с которой кучерам на узких городских улицах было довольно сложно управляться. Наши всадники посторонились, давая дорогу процессии. Анна сразу поняла: по улице следует лицо очень высокого положения, хотя, конечно, не знала, что это — первое лицо в стране. Неожиданно кучер остановил карету в нескольких ярдах от наших путешественников. Остановила коней и свита, одетая в зелено-белые цвета Тюдоров. Слуги отворили дверцу и расстелили на мостовой ковер. Королева Елизавета вышла из кареты.
«Только не это! — с тоской подумал Грэшем, меньше всего желавший встречи с этой „злой стервой“, которую подозревал в намерении извести его. — Боже, сохрани!» Грэшем и Анна, прежде чем спешиться, поклонились королеве, оставаясь в седлах. Оказавшись на земле, Грэшем низко поклонился, а его спутница склонила голову и сделала глубокий реверанс. «Как хорошо, что ее научили, как себя вести», — подумал Генри.
— Вот что! — Голос Елизаветы звучал повелительно, В такие моменты чувствовалось, что это дочь Генриха VIII. — Прекратите кланяться и подойдите сюда. И лошадей подведите.
Грэшему пришлось повиноваться.
Елизавета стояла на расстеленном для нее ковре в великолепном темно-вишневом платье, на котором, словно звезды на небе, сияли драгоценные камни. Она оценивающе посмотрела на Генри.
— Молодой Генри Грэшем, если не ошибаюсь? — спросила она.
— Да, ваше величество, — ответил он, снова низко поклонившись.
— Молодой Генри Грэшем, не появляющийся при нашем дворе, — заметила королева. Было ли это сказано с угрозой? Ведь почти каждое слово королевы содержало в себе возможную угрозу.
— Ваше величество, я до вчерашнего дня несколько месяцев находился на море с флотилией сэра Фрэнсиса Дрейка, — ответил Генри. — Ничто, кроме необходимости служить вашему величеству за морем, не заставило бы меня отказаться от удовольствия присутствовать при дворе вашего величества.
— Гм! Я слышала, вы вернулись из вашего путешествия не без ценного приобретения? Идите сюда, девушка, покажитесь. — Королева сделала знак слугам взять под уздцы лошадей Анны и Грэшема. Опустив глаза, Анна приблизилась и снова присела.
Сейчас Грэшема больше всего занимало, понимает ли эта девчонка, кто с нею говорит, или принимает эту женщину за его почтенную тетушку, случайно встреченную ими на прогулке.
— Ну, — заметила королева, — пожалуй, из-за вас мужчины могут и подраться. Верно ли, что ваша матушка, скончавшаяся на корабле, отдала вас на милость этого молодого волка?
— Ваше величество, — отвечала Анна, все так же потупив взор, — да, моя дорогая матушка перед кончиной на борту «Сан-Фелипе», как уже известно вашему всезнающему величеству, вручила меня опеке вашего подданного.
— Я очень сожалею о вашей тяжелой утрате, — сказала королева, и голос ее выражал непритворное сочувствие. Ее судьба была полусиротской. Мать самой королевы Анну Болейн казнили за супружескую измену, причем Елизавета даже не помнила свою мать, которую и во времена Грэшема продолжали называть шлюхой. Едва ли не с рождения королева была отмечена адским клеймом, но выстояла в жизненной борьбе. Она проницательно посмотрела на красивую девушку и стоявшего рядом с ней блестящего молодого человека. Оба являлись носителями хорошей породы, несмотря на деликатные обстоятельства рождения Грэшема.
— Это кончается слезами, — задумчиво сказала Елизавета и продолжала, обращаясь к Анне с едва заметной улыбкой: — Из всех людей на земле я лучше всех знаю, как тяжело быть женщиной в мужском мире. Итак, юная леди, не нуждаетесь ли вы а моей защите? Не запугивает ли вас молодой человек? Не пристает ли он к вам? Может быть, вы желаете перейти на попечение королевского двора, хотя, видит Небо, мне и без того хватает расходов!
Теперь сама Анна осмелилась слегка улыбнуться.
— Нет, ваше величество, он меня не запугивает. Он старается держаться на расстоянии. — Она даже рискнула прямо взглянуть на королеву. — Да, он со всеми хочет держаться на расстоянии, но он во всем держится как подобает джентльмену.
Тут королева громко и откровенно рассмеялась.
— Ну, — сказала она, — если вы умеете держать их на расстоянии, считайте себя в безопасности. — Разговор, видимо, наскучил королеве. На улице поднялся ветер, к тому же быстро умножилось число любопытных. — Ну, мое предложение остается в силе. Вы можете обращаться ко мне, если хотите, чтобы я взяла вас к себе или даже нашла вам хорошего английского мужа. Вы же, Генри Грэшем, появляйтесь при моем дворе. Есть многие люди, которые умерли бы ради этого предложения, так что не будьте слишком заносчивы и не отказывайтесь от чести, предложенной вам вашей королевой. И еще одно: если вы хоть пальцем тронете эту девушку, ваша голова будет выставлена на пике на Лондонском мосту!
Она снова громко засмеялась и поднялась в карету. Грэшем уже вздохнул с облегчением, однако уже в дверях королева вдруг сделала ему знак подойти поближе.
— Скажите, — спросила Елизавета, наклонившись к нему, — правда ли, что Дрейк, по его словам, «потянул за бороду короля Испании», — так он выразился, но потом изменил свои слова, когда его поправил этот осел, его секретарь?
Генри Грэшем понимал: ему приходится играть с огнем. Царствующие особы непредсказуемы. В одну минуту они могут общаться с вами как с лучшим другом, а в следующую — обвинить вас в государственной измене за неудачную шутку или излишнюю фамильярность. Он и так чувствовал неловкость оттого, что королева низко наклонилась к нему: его аккуратная бородка находилась почти рядом с ее губами.
— Ваше величество, — заговорил он, — в качестве простого подчиненного и человека, в которого сэр Фрэнсис Дрейк счел нужным выстрелить, я должен быть воплощенной скромностью. Но все же я могу подтвердить: некое, скажем, умеренно нескромное, замечание относительно бороды короля действительно было сделано, а затем нескромный характер замечания действительно усилили. — Грэшем находился в щекотливом положении. Ему следовало одновременно и оставаться в рамках почтения, и поддерживать доверительный тон, предложенный королевой. — Однако, ваше величество, менее известен тот факт, что, по моим наблюдением (я готов в этом поклясться), в кадисской гавани потонули еще два испанских судна, когда наш командир произнес свое уникальное замечание, касающееся короля Испании. — Грэшему показалось, он не ошибся. Королева одарила своего подданного одобрительным смехом. Потом вдруг ее лицо помрачнело.
— А что скажет молодой человек, от которого я слышу подобные вещи… — Генри был озадачен, услышав начало фразы. «Подобные» в данном случае могло означать и плохие, и хорошие. Елизавета, немного помедлив, продолжала: — Что скажет этот человек, если в будущем сэр Фрэнсис Дрейк станет командовать деревянной крепостью, отделяющей мое королевство от Испании?
Грэшем не верил своим ушам. В самом деле она спрашивает об этом здесь, на улице, среди посторонних, пусть и отделенных от нее цепью вооруженных гвардейцев? Не может быть, чтобы у него вдруг появился шанс влиять на события, на которые дано влиять только людям по положению не ниже, чем Роберт Сесил. Может быть, ему, Генри, следует действительно почаще бывать при дворе? Он заговорил, осторожно подбирая слова:
— Ваше величество, у меня нет никаких идей о том, как следует защищать ваше королевство. Скажу честно: в своей жизни я занимался только защитой самого себя. Но ваша крепость состоит не из одних только стен, а из десяти, двадцати или даже тридцати рядов стен, и каждый из них способен к обороне.
— Что вы хотите этим сказать? — Теперь голос королевы звучал уже не весело, а сурово и жестко. В ней снова проступили черты ее отца.
«Что поделаешь? — печально подумал Грэшем. — Как говорится, двум смертям не бывать…»
— Прежде всего, — отвечал он, — я желаю, как и любой из ваших подданных, продолжать верно служить вашему величеству. А моя преданность вашему величеству тем крепче, что ваше царствование принесло в нашу страну конец вражды и долгожданный мир.
Последнее являлось правдой. Королева недаром слыла гневливой и непостоянной, она подчас сама не знала, кому хочет подражать, Генриху VIII или Анне Болейн, хотя пыталась делать и то и другое. Но простым людям не было дела до происходившего в Лондоне. Их жизнь и без того оставалась трудной. В тяжелые зимы насчитывалось немало деревень, где уходил из жизни каждый третий житель. Частые дожди гноили их урожай, оставляя без хлеба их самих и их семьи, не говоря уже об эпидемиях чумы, случавшихся и в царствование Елизаветы. Между тем все они были такими же живыми людьми, как граф Эссекс, Роберт Сесил или сам Генри Грэшем, они также переживали радости и боль утрат. Им и так хватало забот и бед, и совсем ни к чему были армии, вытаптывавшие их поля и отбиравшие их урожай, забиравшие у них женщин и поджигавшие их жалкие хижины. Тем более им не хотелось, чтобы их мужчин забирали на войну, заставляя их, неопытных и необученных, идти на смерть ради каких-то непонятных целей. Елизавета действительно принесла мир в Англию, и при ней почти прекратились сожжения людей за то, что их вера в чем-то отличалась от королевской.
— Ваше величество, — продолжал Грэшем, — тот неопытный и не очень хорошо воспитанный молодой человек, которого вы видите перед собой, был бы очень рад, если бы сэр Фрэнсис Дрейк сражался за него, ведь всегда хорошо иметь такого человека на своей стороне. Но сражаться и быть командующим — не одно и то же.
Королева изучающе посмотрела на него.
— Из вас вышел бы хороший политик, Генри Грэшем, — сказала она. — Слишком много людей бывают многословны, и при этом, говоря много слов, могут так ничего и не сказать. — Она выжидающе посмотрела на собеседника. Грэшем не хотел «быть многословным». Королева продолжала: — Лорд Ховард Эффингем будет командовать моим флотом. Дрейк будет его первым помощником. С этими словами Елизавета кивнула собеседнику, села в карету, помахав рукой толпе, и отбыла, провожаемая восторженными приветствиями собравшихся.
— Верно ли, что я сейчас видела королеву Англии? — спросила Анна, которая, видимо, сильно устав, стояла, прислонившись к своей лошади. Вести себя с лошадьми таким образом было опасно, но Триумфальная, казалось, не возражала против такого обращения.
— Удивительно, как в этих делах все быстро меняется — от восхищения до стремления избегать во что бы то ни стало, — заметил Грэшем. Повернувшись к Маниону, он спросил: — Что же, пыталась она меня убить?
— Если и да, то вы этого не узнаете, — ответил тот.
Они повернули к дому.
Посторонним людям казалось, будто интрига сэра Фрэнсиса Уолсингема нацелена на разжигание розни между государствами и низвержение монархов. Как они ошибались! Его единственной целью являлась только охрана и возвышение одной страны — Англии и ее королевы Елизаветы. Уолсингем полагал: думающий человек и должен выбрать службу протестантской королеве. Уолсингем знал за собою гомосексуальные наклонности, и люди вроде него не любили икон, изображающих женщин.
Вместе с тем не сексуальная природа этого человека, которую он хорошо контролировал, как и свое естество в целом, заставила его сделать свой выбор. В этом заключалось больше логики, чем могло показаться. Уолсингем видел тщеславие, гордыню, разврат и упадок Рима. В свое время он бежал в Падую, когда королева Мария попыталась силой вернуть англичан в католицизм, от которого они успели отвыкнуть. Он содрогнулся, когда до него дошли известия о том, что в Англии стали отправлять людей на костер. Уолсингем с самого начала поддержал Елизавету, отдав на это свои силы и свое богатство. Он поставлял ей информацию о том, как противостоять армиям, которые могли позволить себе иметь богатые Франция и Испания. Теперь Елизавета правила уже двадцать девять лет, и сейчас Уолсингем готов был вступить в последнюю битву за продление царствования этой королевы.
Пока слуга убирал блюда после обеда, Уолсингем размышлял над ходом своих дел. Пока, как полагал он сам, у него хотя и имелись успехи, но, судя по результатам, он наносил в основном лишь булавочные уколы. Ему следовало расширить и углубить свою деятельность, заниматься не только частными делами вроде Армады, но иметь в виду Английское предприятие в целом (его шпионы докладывали, что так сейчас стали называть политику Англии). Но как это сделать?
Ко всем заботам теперь добавился еще и проклятый олух Бэрли. Старый союзник королевы с годами стал тугоухим, страдал от подагры, а главное, стал терять соображение. Стоит только вспомнить, что он говорил королеве совсем недавно! Дескать, флот надо сокращать, людей на кораблях оставить минимум, чтобы сэкономить деньги. Это значило бы ополовинить флот к зиме. Старый идиот еще с гордостью повторял размер суммы, которую, по его словам, предстояло сэкономить, словно это было некое магическое заклинание: «Две тысячи четыреста тридцать три фунта, восемнадцать шиллингов и четыре пенса»! Испанский король мог послать свой флот против Англии в любой момент, этот фанатик, кажется, был способен на такое даже в зимнее время. А что будет, если это ему удастся? Имея всего пять тысяч солдат, он вполне сможет взять какой-нибудь укрепленный город на побережье и либо продолжать поход, либо продержаться там до прибытия войск герцога Пармского. А остановить его может только английский флот. А если Бэрли добьется своего, то не будет ли в таком случае Англия продана за эти самые две тысячи четыреста тридцать три фунта, восемнадцать шиллингов и четыре пенса?
Уолсингем, которому его собственный возраст и болячки не давали забыть о себе, только сейчас подумал: почти все люди, ведущие эту опасную игру, решавшую судьбы Англии, Европы, сейчас уже старики или стоят на пороге старости. Королю Филиппу сейчас шестьдесят шесть лет, и у него плохое кровообращение. Людей в таком возрасте жители английских деревень считают уже патриархами. Командующий испанским флотом маркиз Санта-Крус смертельно болен. Рекальде Испанскому шестьдесят два года, как и Санта-Крусу. Бэрли почти шестьдесят восемь. Самой Елизавете пятьдесят четыре года. Вот герцог Пармский оставался самым молодым из игроков как с английской, так и с испанской стороны. Не молодость ли делает этого человека столь опасным для Англии?
Скорее всего исход всей игры решит его, Уолсингема, единоборство с герцогом Пармским. Уолсингем понимал: в этой игре поставлена на карту не только независимость Англии, даже не только его собственная жизнь, но также его честь и, возможно, память, которая сохранится о нем в истории.
Глава 7
Сентябрь 1587 года
— Тебе вообще-то приходило в голову, насколько опасную штуку ты затеял с этой своей экспедицией в Лиссабон? — спросил Джордж. — И сколько игр ты, по твоему мнению, можешь вести одновременно? Просто агент, двойной агент, тройной агент… Иногда даже я сам не могу понять, на чьей ты стороне.
— Я всегда на своей стороне, — отвечал Грэшем. — И разве эта затея более опасна, чем плавание на утлой лодчонке подогнем испанских кораблей?
— Примерно один к одному, — сказал Джордж. — Хотя, по правде сказать, я, наверно, предпочел бы сидеть в лодке. Там хотя бы точно знаешь, где враг.
— Вторжение грядет, — заметил Грэшем задумчиво. — Я нутром чувствую. А едва достигнув наших берегов, оно сработает как запал для всех сект, для всех, кто рвется к власти, для каждой семьи… А между нами и этой лавиной — всего несколько кораблей, которые никак нельзя назвать флотом. Ничего не делать — разве сейчас не самое опасное?
— Они шли по длинной галерее дома Грэшемов, украшенной лучшими полотнами и гобеленами из собрания сэра Томаса Грэшема. Здесь царила прохлада, несмотря на обилие окон, через которые в помещение проникал яркий летний солнечный свет.
За разрешение отправиться в Лиссабон королева потребовала от Грэшема официально представить Анну при дворе. Королева редко оставалась летом в Лондоне. Она предпочитала жить за городом, экономя немного средств на содержание своего двора. Но сейчас Елизавету задержала в Лондоне продолжающаяся опасная неопределенность. Поговаривали, испанская Армада готова отправиться к английским берегам, несмотря на ущерб, причиненный набегом Дрейка в Кадисе. Эта опытная лиса понимала: если явится король Филипп, ей следует быть именно в Лондоне, а не на отдыхе, в обществе стареющего низкопоклонника — лорда, читающего ей бесконечные (написанные кем-то еще) поэмы о ее вечной красоте.
— Что ты за человек! — продолжал Джордж. — Зачем тебе все эти хитросплетения, сложные интриги, шпионские страсти, когда ты наконец будешь жить по-человечески — бегать за девушками или пьянствовать, как нормальные люди?.. Ах да, совсем забыл: ты ведь и этим занимался. Ну, как бы там ни было, по-моему, тебя просто сразу зарежут, как только мы сойдем на португальский берег, — не их, так наши.
В тот момент в соседней комнате раздался треск и чей-то крик, потом — громкая энергичная речь. Грэшем с беспокойством прислушался. Анна втолковывала служанке, что надо поторопиться, и в подкрепление своих слов швырнула керамическую вазу с булавками в стенку. Вазы стоили денег, как, впрочем, и горничные. Генри надеялся, что разбита только ваза. При нем Анна всегда сохраняла хладнокровие. Может быть, он что-то упустил из виду? То, что происходило в соседней комнате, кажется, не могло исходить от девушки, которую, как ему казалось, он знал.
— Ты ведь знаешь, — сказал Грэшем, мысленно возвращаясь к разговору с Джорджем, — есть два способа маскировки: скрывать информацию о себе и рассказывать всем о том, кто ты есть. У жениха этой девушки база в Лиссабоне. Я ее опекун. Вполне естественно выглядит, если я стараюсь сдержать слово, данное ее матери. А если я организую это на самом высоком уровне, получу разрешение от королевы и от генерал-губернатора, то они подумают, что только сумасшедший будет поднимать столько шума вокруг своего визита, если он на самом деле шпион.
— Пожалуй, и действительно сумасшедший, — заметил Манион.
— Я тоже поеду с тобой, — заметил Джордж.
— Ты?! Тебе нельзя…
— Заткнись, — прервал Джордж. — Во-первых, ты меня все равно не остановишь, у меня тоже есть разрешение королевы, за которое мой отец заплатил кучу денег. Во-вторых, я для тебя — отличное прикрытие, лучше меня — только эта девушка. Люди считают меня просто смешным верзилой, комедиантом, а такого человека мог послать куда-то в качестве шпиона только тот, у кого совсем крыша поехала.
Про себя Грэшем неохотно признал: его друг говорит дело, хотя он пока еще не принял решение согласиться с Джорджем. Генриху просто-напросто не хотелось рисковать другом. Почему-то представлять себя участником опасных предприятий бывает труднее, чем представлять в этом качестве близких людей. «Вот почему так удобно никого не любить», — подумал Грэшем. Друзья стали ждать Анну.
Грэшем был одет в роскошный черный камзол, шитый серебром, с кружевным воротником. Этот наряд выгодно подчеркивал его широкие плечи и узкие бедра, а прекрасно сшитые шелковые панталоны в обтяжку могли бы вызвать зависть любого из молодых придворных франтов. Но, в отличие от его сверстников, любителей моды, Грэшем не носил экстравагантных высоких шляп. Его шляпа, сшитая из того же материала, что и камзол, была гораздо более плоской. Генри не любил большого количества драгоценностей, но единственный бриллиант на его перстне стоил столько же, сколько все золото и драгоценности, которые носили трое четверо самых богатых придворных. Это была роскошь, которую позволял себе еще его отец, вообще говоря, к роскоши не склонный. Он говорил: подобные вещи хорошо действуют на банкиров и заимодавцев.
В соседней комнате снова заговорили на повышенных тонах, и снова что-то, похоже, разбилось.
— Сходить, что ли, посмотреть, что там такое? — спросил Грэшем.
— Не надо, — отвечал Джордж. — У женщин свои дела. Пусть сами разберутся. Подожди. Они с этой служанкой минуты через две выйдут оттуда, как две лучшие подруги.
Через несколько минут горничная отворила дверь с таким видом, как будто к ним в гости пришла королева. Отчасти это было обоснованно. Даже Манион на мгновение замер от изумления, когда появилась Анна. Ее красивые синие глаза хорошо гармонировали с великолепным, действительно достойным принцессы темно-синим платьем, которое украшало такое количество жемчугов, как будто для их добычи потребовалось опустошить целое море. Над ее прической, похоже, работала какая-то жительница Олимпа, на время сошедшая на землю. Платье казалось как нарочно скроенным по фигуре Анны и подчеркивало ее достоинства. Оставалось только удивляться, как удалось вовремя подготовить это произведение искусства. И цена придворного платья, конечно, была сказочной. Однако богатство говорило само за себя. И Грэшему, пусть это и было ему не по сердцу, пришлось признать данный факт. Самого его в тяжелые годы юности намеренно лишили средств, но тем вернее он научился ценить силу материальных благ.
— Надеюсь, сборы идут хорошо, не так ли? — спросила Анна, сделав положенный реверанс. На сей раз за ее внешним хладнокровием просматривалось плохо скрываемое волнение.
— Вы переломали Мэри все ее конечности или только часть? — сухо осведомился Грэшем.
Анна вызывающе взглянула на него и сказала:
— Иногда вы бываете дураком, что очень странно для такого богатого человека. Мэри — очень хорошая служанка, и мы с ней лучше друзей. Девушки не общаются так же, как глупые мужчины.
Она произнесла свою речь с видом королевы, отчитывающей своего слугу. Похоже, она собиралась и дальше продолжать в том же духе. Грэшема такое поведение раздражало. Уместное при определенных обстоятельствах на палубе корабля, здесь оно казалось излишним.
Манион отметил про себя: эта красавица страстная. Красивые девушки бывают похожи на фарфоровые вазы, которые на огонь не поставишь, но у этой невидимый огонь горел внутри, хотя она не показывала вида, что это так. Ему казалось, она девственница. Впрочем, это ведь дело временное.
Между тем Грэшем и Анна продолжали спорить.
— Надо говорить «лучшие друзья», — поправил Грэшем.
— Конечно. Я так и сказала.
— Нет, вы сказали «лучше друзей».
— Не может такого быть!
— Почему вы всегда отрицаете очевидное? — спросил Грэшем.
— Я не всегда отрицаю очевидное. — Анна помолчала, видимо думая над ответом.
Джордж так и сидел с открытым ртом, с тех пор как ее увидел, и его растерянность тешила ее тщеславие.
— Я иногда это делаю, но только по необходимости. А с вами это часто необходимо — вы очень надутый и разговариваете со мной как старик, а на самом деле вы мальчишка — немного только меня старше.
— Я, пожалуй, вместо вас возьму с собой в Лиссабон попугая Спенсера, — заметил Грэшем. Поэт Спенсер являлся его старым другом. — Он красивее вас, и если нужно, чтобы он заткнулся, то достаточно накрыть его клетку одеялом.
— Ах, так вы хотите, чтобы я лежала у вас под одеялом?
— Я этого вовсе не говорил!
Так они продолжали спорить, странным образом переходя от официального тона к переругиванию в духе старой семейной пары.
Манион перестал вникать в их речи, однако они продолжали такое же общение всю дорогу, пока добирались во дворец. Лишь бы только это прекратилось по дороге в Лиссабон!
Грэшем знал: ему нужно увидеться с Уолсингемом, хотя встречаться с ним было ему неприятно и, по правде сказать, немного страшновато.
— Я слышал, представление вашей… подопечной ко двору прошло очень хорошо, — заметил Уолсингем спокойно.
— Если вы, сэр, подразумеваете под этим, что ей сделали несколько предложений за вечер и гораздо больше предложений краткосрочных отношений, то вечер прошел успешно, — ответил Грэшем, на состоявшемся приёме подчас чувствовавший себя лишним. Он не хотел тратить время на светскую беседу и решил задать прямой вопрос: — Милорд, я хочу знать, не приказали ли вы убить меня во время моего плавания?
Уолсингем в ответ лишь слегка поднял брови: в его случае это уже означало изумление и досаду.
— А почему вы решили, будто я мог это сделать? — спросил он. Уолсингем не стал прямо отрицать обвинение! У Грэшема упало сердце. В случае нужды он мог бы противостоять даже королеве. Но у Уолсингема Грэшем чувствовал себя наименее защищенным. Он кратко рассказал шефу о том, что произошло и как на него на корабле Дрейка возвели чудовищное обвинение.
Когда Грэшем закончил рассказ, Уолсингем несколько минут молча смотрел в окно. Наконец он повернулся к собеседнику и сказал:
— Добро пожаловать на инициацию. Знакомо вам такое понятие? Молодой человек получает (или жизнь дает ему) задание, от выполнения которого зависит его превращение в настоящего мужчину.
— Я не понимаю, — с досадой ответил Грэшем.
— В качестве ребенка вы можете позволить себе задавать мне подобные вопросы и ждать, что я вас успокою или укажу на настоящую причину вашей тревоги. Но если вы проанализируете ваши чувства, то поймете, как должен реагировать не ребенок, а мужчина. Как мужчина вы должны понимать: если я отрицаю, что приказывал вас убить, то это вполне может быть как правдой, так и ложью. А несколько слов отрицания с моей стороны не означают, что вы можете не опасаться чего-то подобного в будущем. Вам ведь надо будет всегда иметь в виду подобную возможность, если вы хотите выжить — а у вас, Генри Грэшем, прекрасный инстинкт выживания. Мужчину от ребенка отличает понимание, что легких ответов не существует.
Грэшему неприятно было это признать, но он чувствовал: в словах Уолсингема много правды. Получалось так, что он, Грэшем, уже никогда не сможет доверять этому человеку, как прежде.
— Могу сказать вам, — продолжал Уолсингем, — я действительно не имею никакого отношения к этой подделке, и меня раздражает, что кто-то пытался убить одного из моих агентов. Но для вас было бы неправильно найти успокоение в моих словах.
— Почему же, милорд? — спросил Грэшем, уже зная ответ наперед.
— Они могут быть неправдой. И также потому, что хотя в этом случае я и не искал вашей гибели, но я сделаю это без всякой пощады и сожалений, если решу, что ваша гибель потребуется ради торжества интересов протестантизма, Англии и королевы. Итак, я не хотел вас убить, но сделаю это, если в том будет большая нужда.
— Благодарю за откровенность, — ответил Грэшем. Неужели, думал он, подобные разговоры вообще возможны между людьми? Или это ему только снится? — И конечно, милорд, я буду также без всякой пощады и сожалений искать вашей гибели, если буду уверен, что вы замышляете убить меня, — добавил он. Про себя он подумал: «Только ваше желание в данном случае лучше обеспечено».
— Если это правда, значит, вы и на самом деле стали мужчиной, — заметил Уолсингем. Грэшему показалось, что на губах шефа появилась едва заметная улыбка.
— Я сомневаюсь, что извлек все возможное из этого путешествия, — продолжал Грэшем. — Но теперь я хочу совершить путешествие в Лиссабон. — Помните, вы ведь говорили о Лиссабоне. Вы сказали тогда: там — самое уязвимое место Испании в случае ее войны с Англией.
— Я и теперь так полагаю. Хотя, конечно, все к этому не сводится.
— Вы считаете, главный фактор — армия герцога Пармского в Нидерландах?
— Мое мнение об этом не изменилось.
— Я хочу заняться обоими этими делами. У меня есть свой план, — сказал Грэшем.
— Знаю. Кажется, вы ведь уже обсуждали ваши визиты и в Лиссабон, и в Нидерланды с мастером Робертом Сесилом?
Грэшем застыл. Значит, Уолсингем и Сесил общались регулярно. Не объединились ли они против него?
— Вы должны помнить, что вы работаете на меня, — холодно заметил Уолсингем. — Мы уже обсуждали, насколько полезны ваши визиты и в Лиссабон, и к герцогу Пармскому. Положение не изменилось. Вы действительно совершите оба путешествия, если ничего особенного не произойдет. Но помните: вы будете действовать только по моему приказу. Ясно?
Грэшему было ясно.
— В ваших планах надо будет учесть еще один вопрос, который мы прежде не обсуждали. В Лиссабоне живет маркиз Санта-Крус.
— Главный адмирал Испании?
— Тот самый. Победитель в битве при Лепанто, а также один из самых жестоких военачальников в Европе в настоящее время. И наш прекрасный союзник.
— Союзник? — переспросил пораженный Грэшем. — Но ведь Санта-Крус — блестящий адмирал. Санта-Крус для Испании — все равно что Дрейк для Англии, только Санта-Крус еще умеет командовать флотом.
— Вот именно! Он блестящий адмирал, но скверный администратор. В лиссабонском порту кораблей столько, что они чуть ли не лежат один на другом. На одних много пушек, но нет ядер. На других есть ядра, но нет пороха. На одних кораблях — лишние пушки, на других вовсе нет пушек. Жалованье морякам задерживают, люди умирают от эпидемий. Новую провизию, привозимую на корабли, там едят в первую очередь, остальная тем временем гниет. Потом люди или получают отравления, или голодают. Могу повторить пока Армада короля Филиппа стоит в порту, Санта-Крус — наш лучший союзник.
— А что будет, когда она выйдет в море? — спросил Грэшем.
— Ну, это другая история. Король Филипп будет составлять план боевых действий для своего флота! Он хочет все контролировать сам, не доверяя никому. Санта-Крус же проигнорирует приказы короля, если сочтет это необходимым для победы.
— Стало быть, будет хорошо, если здоровье Санта-Круса… необратимо ухудшится?
— Безусловно.
— А вы, вероятно, попытались этому способствовать? Должно быть, у вас множество шпионов в Лиссабоне, которые следят за состоянием испанского флота. И ни один человек не застрахован от подосланных убийц.
— Ни один. Но есть люди, делающие это с равной степенью успешности.
— А вы бы обрадовались… помощи в избавлении от Санта-Круса, если бы представился случай?
— Прекрасный оборот речи, — ответил Уолсингем. — Итак, готовы ли вы отбыть в Лиссабон, имея в виду прежде всего дело Англии? — Последние слова прозвучали неожиданно сурово. Не сомневался ли он в верности Грэшема? — А то ведь есть люди, считающие, будто ваш энтузиазм во время месс — не для вида. Есть те, кто заметил, что вы не проклинаете испанцев, как должно англичанину, и даже восхищаетесь, как вы выражаетесь, их культурой. Это, конечно, ерунда, но опасная ерунда… в случае, если ее услышат не те люди. — Грэшем подумал, что, возможно, кто-то из таких людей решил, будто он симпатизирует испанцем. Не мог ли такой человек подсказать Уолсингему идею покушения на его жизнь?
— Я готов отбыть в Лиссабон, имея в виду прежде всего собственное выживание, — ответил он. — И я надеюсь, от этого также будет польза Англии. Что до испанцев, то я достаточно честен и могу признать: у них не все плохо. Но я вовсе не желаю их власти у нас в стране. А мои дела показывают, чем я готов пожертвовать ради Англии.
Поверил ли ему Уолсингем? Нельзя было знать наверняка. Но было ясно: если бы Уолсингем счел Грэшема испанским шпионом, тот не ушел бы из его дома живым.
На прощание Уолсингем сказал:
— Смотрите, Генри Грэшем, как бы вам не погубить вашу жизнь без всякого вмешательства людей вроде меня.
Но прозвучавшие слова не вносили никакой ясности.
Грэшем вкратце передал Джорджу и Маниону суть своего разговора с Уолсингемом. Он хотел было поговорить об этом и с Анной, но все же предпочел промолчать. Пусть судьба Анны и зависит от решений Уолсингема, как и судьба самого Грэшема, но все же мужчины должны решать такие вещи сами.
— Ты веришь ему? — спросил Джордж.
— Не вполне. Вот почему я предпочел бы отправиться в оба путешествия сам по себе, а не как человек Уолсингема. Не исключено, что он все же решил отделаться от меня в результате какой-то сделки с Бэрли, Сесилом или с самой королевой. К тому же он дал понять: меня могут счесть за испанского шпиона. Сам-то он в это не верит. Но если он и хотел моей гибели, то это — в прошлом, а в данный момент он пока считает меня полезным.
— Разве шпионы когда-нибудь могут быть в чем-то уверены? — грустно спросил Джордж.
— По крайней мере в одном, — бодро ответил Генри. — Они всегда знают, что их хотят убить, хотя не всегда знают кто именно.
Среди английских моряков не нашлось глупцов, согласившихся бы плыть в Лиссабон. Грэшем нашел корабль, доставивший их в Сен-Мало. Даже там капитаны не хотели идти в Лиссабон, так как боялись Армады. Наконец им удалось найти небольшое каботажное судно, всегда курсировавшее вдоль берегов, а все его вооружение составляли четыре пушки, из которых никто никогда не стрелял, с тех пор как их отлили.
Такой корабль вовсе не мог заинтересовать адмиралов Армады, но даже его капитан не очень-то желал отправляться в Лиссабон. Грэшем все же кое-как упросил его пуститься в путь «ради бедной девушки, ищущей своего французского жениха». Помогло то обстоятельство, что сам капитан оказался французом.
Если кадисский порт был полон кораблей, то лиссабонский порт был ими переполнен. Грэшем быстро понял: его опасения обратить на себя внимание испанцев лишены каких бы то ни было оснований. В порту царил хаос: к множеству торговых судов, обычному для крупных европейских портов, добавились военные корабли, собираемые Филиппом.
— Проклятие! — воскликнул Манион. — Всю Англию можно было бы накормить на деньги, на которые здесь содержат всех этих бездельников.
Они остановились в каком-то старом сером здании с большой трещиной в покосившемся фасаде. Хозяин, старый голландский купец, занялся сдачей комнат внаем, так как бесконечная война в Нидерландах не способствовала удачной торговле.
— Однако же странно, — проворчал Манион, подозрительно глядя на еду, которую им принесли. — Я-то думал: как-то мы, англичане, будем тут жить? А нас, похоже, никто и не заметил.
В порт прибывали суда из всех стран мира. На улице, где они поселились, путешественники слышали итальянскую, французскую, голландскую и немецкую речь, ну и конечно, португальскую и испанскую. Говорили здесь и по-английски. Оказалось, это был пожилой человек, одетый в сутану католический священник.
Грэшем знал: сотни англичан бежали во Францию. И учились на священников в семинарии, именовавшейся «Школой мучеников», но не ведал, что многие с такой же целью отправились в Португалию. Может быть, подумал он с улыбкой, им стало известно, как глубоко шпионы Уолсингема внедрились во французские семинарии.
— Эти будут обращать в свою веру туземцев, — объявил Манион. — Их пошлют миссионерами куда-нибудь в Новый Свет или в Гоа. Все лучше, чем служить миссионером в Англии, — усмехнулся он.
— Думаю, в порту много кораблей, предназначенных для того, чтобы обращать в свою веру туземцев, то есть нас, англичан, — ответил Грэшем. Если в Кадисе он убедился в мощи и богатстве Испанской империи, то в Лиссабоне это чувство неизмеримо возросло.
— Уолсингем захочет видеть вас сразу, как только мы вернемся домой, — сказал Манион. — Вам найдется о чем ему порассказать.
— Если он будет жив, когда мы вернемся, — заметил Грэшем. Он знал о том, насколько опасна болезнь шефа. — И я уверен, его шпионы и так уже сообщили ему название, водоизмещение и характеристику каждого корабля в этой гавани.
Они представились генерал-губернатору, так как только с его разрешения Грэшем мог находиться в Лиссабоне. Это был безликий человек, о котором ходили слухи, будто он постоянно не ладит с маркизом Санта-Крусом.
— Странные времена наступили, — проговорил он на сносном английском языке. — А потому хорошо, когда люди вспоминают о делах сердечных, — чиновник улыбнулся Анне, — когда столь многие говорят только о войне. Вы и ваша весьма элегантная подопечная должны сделать нам визит. Мы даем прием, и я велю заказать пригласительный билет для вас обоих. — Он сделал жест слуге в роскошной ливрее, и тот с поклоном удалился выполнять поручение. — Кроме того, примите мои извинения.
— Вы весьма любезно пригласили нас на прием, — заметил Грэшем, — и я не вижу оснований для извинений.
— Нет-нет, — заверил генерал-губернатор, — есть основания. Я собирался узнать поподробнее об этом мсье… Жак Анри, так, кажется, его зовут? Но у меня тут столько дел, столько забот, что я упустил этот вопрос из виду.
— Я уверен, затруднений не будет. У нас есть адрес…
— Лучше будет, если я, с вашего позволения, выделю вам двоих своих слуг для сопровождения. — Старк заметил выражение лица Грэшема. — Нет-нет, не стеречь вас, как вы, должно быть, подумали. То, что происходит в этом порту — не секрет, и я бы удивился, если бы узнал, что ваш лорд Уолсингем не держит здесь десяток агентов, докладывающих ему о каждом корабле, который входит в эту гавань или покидает ее.
Последние слова странно напоминали произнесенные самим Грэшемом Маниону. Не слишком ли много знал генерал-губернатор? Грэшем посмотрел на него, потом на Джорджа. Лицо испанца ничего не выражало, а Джордж просто пожал плечами.
— Видите ли, — продолжал генерал-губернатор, — у нас многие думают, будто бесконечные войны в Нидерландах продолжаются благодаря поддержке мятежников англичанами, а эти войны расстроили нашу торговлю. Кроме того, Дрейк уничтожил уже в этом году много мелких судов, вызвав обнищание многих семей. Так что присутствие двух моих слуг вместе с вами, когда вы будете перемещаться по стране, поможет рассеять всякие… недоразумения. И я полагаю, вы ведь не задержитесь здесь надолго.
— Ровно настолько, чтобы найти жениха и должным образом устроить дела моей подопечной, — ответил Грэшем, выругавшись про себя. Сам он рассчитывал пробыть в Лиссабоне хотя бы неделю, а то и две-три.
Двое слуг, о которых шла речь, на деле оказались четырьмя — каждая пара работала по двенадцать часов в сутки. Они вежливо отвергли предложение находиться внутри, предпочитая сидеть в небольшом холле при входе. Оттуда можно было наблюдать за всеми, кто входил в здание и выходил из него.
Анна неожиданно появилась в комнате Грэшема, когда они с Манионом и Джорджем разложили на кровати сутаны священников-семинаристов. Оглядев эти наряды, она сделала свой вывод:
— Вы хотите уйти ночью тайком, переодетые.
Джордж покраснел.
— Вы знаете, с кем вам надо встретиться, — продолжала Анна. — Вы давно к этому приготовились, давно их заказали. Я была для вас, по-вашему сказать, прикрытием. Если бы я не согласилась, вы все равно поехали в Лиссабон, должно быть, соблюдая маскарад всю дорогу.
— Поехали бы в Лиссабон, — поправил Грэшем.
— Мне сейчас не до правильной речи. Вы должны взять меня с собой, — объявила она. — Здесь у вас четыре сутаны. Если одну из них подколоть булавками, она мне подойдет. Я имею право на это. Вы смогли приехать сюда благодаря мне. Я тоже должна участвовать. Так будет честно.
— Но вам нельзя идти, — сказал Джордж, сам любивший честную игру. — Это небезопасно.
— Это вовсе не забава, — сердито вмешался Грэшем. — Речь идет о судьбах народов. Это — не игрушка! — Надо было втолковать ей: то, что она принимает за игру, для него вопрос жизни и смерти.
— Вот как? Но для вас-то как раз это и есть игра, а ставка в ней — ваша жизнь. Моя собственная игра не имеет смысла. Что я могу выиграть? Брак с жирным французом? Почему бы мне не сыграть в вашу игру? Только потому, что у меня между ног — не то же самое, что у вас?
Грубость Анны шокировала Грэшема. Он посмотрел на Джорджа и на Маниона. К его удивлению, последний, видимо, взял сторону девушки.
— Послушайте, ведь мы можем ее использовать, если она сама хочет, — сказал он.
Грэшем вдруг почувствовал огромную усталость. Он просто махнул Маниону рукой в знак согласия. Манион отвел Анну в угол комнаты, и они там о чем-то пошептались. Анна густо покраснела, но потом оправилась от смущения и кивнула ему. Манион ухмыльнулся, и, забывшись, чуть было не похлопал ее по заду в знак одобрения, но вовремя отдернул руку.
Анну в путешествии сопровождали две служанки, включая верную Мэри, и отделаться от них было сложнее, чем от двух стражей. Все же ей удалось отослать их в отдельную комнату. Анна заявила, будто у нее так сильно болит голова, что она не может выносить даже их дыхание, когда они спят с нею в одной комнате. Ночью она надела сутану поверх ночной рубашки, забрала волосы под шляпку, но пока не стала опускать капюшон, Раздался условный стук в дверь. Пришел Манион. Приложив палец к губам, он провел ее по пыльному коридору и ввел в комнату Грэшема. Только после этого он, щелкнув пальцами, вызвал одного из слуг, привезенных из Англии, и поставил его на страже у дверей Анны.
— Никого не впускать и не выпускать. Ясно? — сказал Манион. Слуга кивнул.
Рядом с камином находилась дверь в стене, которой, по-видимому, давно никто не пользовался. Маниону удалось открыть заскорузлый затвор (до того его, видимо, открывали раза три-четыре за десять лет). За дверью открывался черный ход для слуг, ведущий на кухню (разумеется, в ночное время она пустовала). Теперь все четверо опустили капюшоны и осторожно направились к выходу. Если бы их в это время увидел какой-нибудь ребенок, то вскрикнул бы от страха, приняв за призраки. Большая дверь вела прямо на улицу (по этому пути на кухню доставляли провизию).
Эта дверь была заперта тяжелыми засовами сверху и снизу. Они не стали ее трогать, воспользовавшись небольшой дверцей слева от нее. Засов заржавел, и Манион достаточно легко отворил его. Он посмеивался про себя. Три часа, которые он провел, обольщая кухарку и ее помощниц, не прошли даром. Он знал расположение дверей, знал, как обращаться с болтами и затворами, и однажды ночью уже выходил через эту дверь во двор по малой нужде, а возвращаясь, только для виду неплотно запер ее за собой.
На юге в это время лунными ночами, как заметил Грэшем, бывает светлее, чем на севере, однако улицы города были пустынны, некоторое оживление наблюдалось только в районе порта. Грэшем и Манион, видимо, хорошо знали, куда идти. Анна следовала за Грэшемом и Джорджем с чувством удивительного возбуждения, к которому примешивался, однако, смутный страх. Манион шел за нею, замыкая процессию.
Они шли около четверти часа, не очень быстро, так как старались держаться в тени. Кроме того, людям, которых они изображали, и не пристало бегать. Подозрительно было уже их появление на улице в такой час. Постепенно величественные каменные дома на улицах города сменились плохонькими деревянными строениями. В одном большом доме (похожем на гостиницу или таверну) окна были закрыты ставнями, из-за которых пробивался свет. Изнутри доносились грубые голоса и смех. Путники вошли в маленький дворик. Манион снял свое облачение. Теперь он был одет как ремесленник. Но не лондонский, а местный — одежда его была более свободного покроя и сшита из более легкой ткани в расчете на жару. Анна с любопытством смотрела на него. Манион отворил дверь, на минуту вошел в дом, затем снова вышел и сказал своим спутникам:
— С черного хода.
Они обогнули здание и вошли через заднюю калитку в заброшенный хозяйственный двор.
— Ради Неба, Джордж, — сказал другу Грэшем, — постарайтесь там ничего не разбить.
Они оказались в маленькой комнатке, вероятно, бывшей кладовой. У двери стояли две деревянные табуретки на трех ножках. Посреди комнаты стоял грубо сработанный стол с двумя свечами на нем. Грэшем осторожно поставил обе свечи рядом и уселся за столом на одну из табуреток, поставив ее по ту сторону стола в углу, где от стены отвалился большой кусок штукатурки.
— Сидите здесь, — произнес Грэшем, обращаясь к Анне.
Он злился на нее за то, что она увязалась за ними. По крайней мере, может быть, она узнает сегодня, что быть шпионом — не в бирюльки играть. Пусть узнает на себе опасность этой работы, как она и хотела. Он поправил ее капюшон так чтобы лицо ее оставалось в тени. Она уже заметила: капюшоны на их сутанах были гораздо больше по размеру, чем это обычно делалось. Грэшем сидел за столом достаточно далеко от двери, а свет свечей ударил бы в глаза любому человеку, вошедшему с темного двора, так что он не смог бы различить того, кто сидит за столом. Джордж сел у дверей так, чтобы его трудно было заметить (хотя такого, как он, скорее, было трудно не заметить).
Во дворе раздался шорох, и Манион отступил в сторону от полуоткрытой двери, давая дорогу дюжему пришельцу. Тот остановился у дверей, моргая и пытаясь освоиться в полутемной комнате, где находились люди в мрачного вида нарядах.
— Садитесь, — Грэшем обратился к гостю на прекрасном итальянском языке. Анна достаточно знала его, чтобы понимать их разговор. Ее отец говаривал; «Нельзя понять человека, если не говоришь с ним на одном языке». На испанском она говорила всю жизнь, английскому научилась от матери, а французскому и итальянскому ее учили в школе. Что бы сказал ее отец, если бы узнал, что его дочь окажется здесь, в вонючем помещении, и будет помогать английскому шпиону разгромить испанский флот?
Гость явно был поражен.
— Вы что, итальянец? — спросил он. Теперь, когда они рассмотрели его красное лицо, стало ясно: этот человек сильно пьет (хотя в данный момент он был, похоже, трезв).
— Я англичанин. Вас, кажется, предупреждали, — ответил Грэшем. Впервые он начал изучать этот язык из-за острого желания читать Макиавелли в подлиннике. — Впрочем, я мелкая сошка, и если вы предадите меня, английское правительство едва ли будет меня оплакивать. Иногда нарочно и выбирают людей, которых не очень жаль. Людей без титулов и званий, зато имеющих доступ к большим деньгам. К очень большим деньгам ради хорошей работы.
Пришелец нервно огляделся, облизывая губы. Какой-то предмет пролетел по воздуху в направлении входной двери. Ночной гость вскрикнул и отшатнулся, собираясь выбежать прочь из комнаты. Но в дверях стоял Манион с бутылкой вина, которую Грэшем только что ему перебросил. Манион нагнулся (не выпуская из вида пришельца), достал из сумки, стоявшей у его ног, кубок и, вытянув длинную руку, поставил его на стол. Затем он засунул горлышко бутылки в рот и рывком потянул ее вниз. Раздался треск, и горлышко откололось. Манион повернул бутылку а сторону ночного гостя, нацелив острый край стекла ему в лицо. Тот попятился, ударился спиной о стену и потянулся к кинжалу за поясом, но не успел пустить его в ход. В одно мгновение Манион поставил бутылку на стол и ловко выхватил кинжал у пришельца, после чего отступил на шаг и вонзил кинжал в стол. Тот примерно на дюйм вошел в мягкое дерево. Затем Манион жестом велел пришельцу сесть.
— Бартоломе Соморива, — сказал Грэшем, — старший литейщик лиссабонской оружейник.
Бартоломе тяжело опустился на табурет. Он взял кубок, налил в него вина, пролив немалое количество, и жадно выпил. Манион подошел к столу, отпил прямо из разбитой бутылки и вытер губы.
— Да, вы верно назвали мое ремесло и мою должность, — ответил гость. — Вы, я вижу, хорошо осведомлены.
— Я еще знаю, что у вас есть жена и семья в Италии и две любовницы здесь, в Лиссабоне, ни одна из которых не знает о другой.
Бартоломе побледнел на мгновение, но потом пожал плечами:
— Какая разница, знают ли две шлюхи одна другую?
— Разница невелика, — ответил Грэшем, — если не считать того, что некий Бартоломе Соморива месяца три назад заразился сифилисом и продолжал жить с обеими любовницами, хотя и знал об этом. А одна из этих женщин спит также с некоторыми очень важными людьми в Лиссабоне. Скорее всего она заразила и этих людей.
Бартоломе содрогнулся, как будто его ударили по лицу.
— Откуда вы знаете? Вы ведь… вы не могли рассказать этим людям…
— Мне нужна плата за молчание, — произнес Грэшем ледяным тоном.
— Плата?.. — Бартоломе явно растерялся и не знал, что ответить. — Но… я человек бедный… я…
— Мне нужна плата иного рода, — промолвил Грэшем. Он сидел, так и не откинув капюшона, с затемненным лицом. — Больше того, если вы исполните мою волю, я сам хорошо заплачу вам. — Он извлек из складок одежды объемистый кошелек и бросил его на стол. — Откройте-ка его и посчитайте деньги, — приказал он. Золотые монеты посыпались на стол, как из рога изобилия. Одна из них упала на пыльный пол, и итальянец поднял ее.
— Это… очень щедро, — сказал он, поднимая голову. Лицо его покрылось испариной.
— Здесь только задаток, — продолжал Грэшем. — Вы получите в пять раз больше, если сделаете то, что нам нужно.
Выражение лица Бартоломе стало хитрым. Видимо, он почувствовал себя на знакомой почве. Он аккуратно собрал все монеты обратно в кошелек и спрятал его.
— А что вам нужно от меня? Я простой рабочий, делаю пушки, и все. — Он поднял руку с кубком, глядя не на Маниона, державшего бутылку, а на человека, сидевшего напротив, чье лицо оставалось в тени. В комнате воцарилось молчание. Итальянец с пустым кубком в руке, видимо, почувствовал себя глупо. Он повернулся к Маниону, очевидно, желая попросить того наполнить кубок. Манион лениво плюнул в кубок, после чего наполнил его до краев и отошел в сторону.
На мгновение возникло впечатление, что итальянец, сейчас вскочит и ударит Маниона, но оно оказалось ложным. Он с тоской посмотрел на Грэшема и сказал:
— Я пришел сюда потому, что слышал, будто здесь мне сделают какое-то интересное предложение. А меня тут просто осыпают оскорблениями — какой в этом интерес? — Ему почти удалось скрыть свой страх.
— Ну, все просто, — отвечал Грэшем. — Огромному флоту короля Филиппа не хватает пушек и ядер. Слишком многие его корабли вооружены или древними железными пушками, или пушками, которые предназначены для убийства людей, но не смогут потопить английские галеоны. И очень на многих кораблях приходится всего от пяти до десяти зарядов на пушку.
— Это я знаю, — заметил Бартоломе. — И весь Лиссабон знает.
— Вы также знаете, что в последний месяц ваш литейный цех получил достаточно сырья для того, чтобы всерьез взяться за литье новых бронзовых пушек, больших пушек, в которых так нуждается Армада. В Испании надеются: в Лиссабоне произведут сто… даже сто пятьдесят новых больших пушек вместе с необходимыми для них ядрами.
Бартоломе решил прикинуться дурачком — так он вел себя с напористыми эмиссарами Санта-Круса.
— Сто пушек! Сто пятьдесят пушек! — закричал он. — Бред! Сам Марс не смог бы отлить столько пушек за такое короткое время!..
— Избавьте меня от театра, — спокойно сказал Грэшем. — Есть очень хорошие, опытные мастера, французы и шотландцы, которые могут приехать сюда, в Лиссабон. Это католики, которые не любят Англию. Есть также в Шотландии и Европе мастера, умеющие делать сварку в нужной пропорции, следить за тем, чтобы металл остывал с нужной скоростью и так далее. Но вы и не старались заручиться помощью таких людей.
— А с какой стати я должен это делать? — возмутился Бартоломе. — На меня и так давят со всех сторон, кричат, что надо делать больше пушек. Больше пушек! Эти слова как будто черная месса. У меня и так в ушах звенит! Не кажется ли вам, что мне не приходится особенно стараться при такой жизни?
— Да, по двум причинам, — заметил Грэшем. — Во-первых, каждый мастер, умеющий делать пушки, который приезжает в Лиссабон, означает уменьшение ваших доходов, а вы хотите монополизировать выгоднейшее предприятие. А во-вторых, вы сами не очень-то хороший мастер.
Бартоломе вскипел, попытался подняться, но Манион силой усадил его обратно.
— Везде, где вы работали, о вас отзываются плохо, — продолжал Грэшем. — Ваши пушки не раз взрывались и во время испытаний, и во время боевых действий. В Италии вас называли производителем вдов. Вы бежали в Лиссабон и рассказали им тут, что искали настоящего дела и что готовы делать орудия, которые будут служить истинной вере. Красивые слова и хорошие, но фальшивые рекомендации из Италии от людей с громкими титулами, которых не существует в действительности.
— Неправда! Я… — начал было итальянец.
— Да молчите вы, — перебил его Грэшем, не повышая голоса, однако собеседник прекрасно почувствовал в его тоне скрытую угрозу. — Мои требования просты. Вы будете продолжать делать плохие пушки для испанского флота. Вместо ста пятидесяти пушек вы сделаете всего пятьдесят, и на море они должны представлять большую опасность для тех, кто будет из них стрелять, чем для противника. А все ваши ядра должны быть непригодными к делу. Пусть они остывают слишком быстро и неравномерно. Каждое из них должно иметь какой-то изъян. Изъяны эти должны быть такого рода, чтобы ядра разлетались на куски в воздухе и в любом случае чтобы они не могли нанести ущерб английским боевым кораблям.
Анна слушала их затаив дыхание. Она сама была на море и могла представить себе убитых и покалеченных испанских пушкарей и моряков после взрыва их собственных корабельных орудий, живо представляла себе также их изумление и отчаяние, когда выстрел за выстрелом пропадал впустую, не причиняя никакого вреда английским кораблям. Сколько же жизней зависит от ужасного торга, ведущегося здесь, в грязной комнате! Уж не стала ли сама Смерть ее опекуном?
— А какое же вознаграждение я получу за измену моей вере и моей профессии? Как я буду вознагражден за весь риск и угрозу разоблачения? — спросил итальянец.
— Золото, — ответил Грэшем. — Ровно в пять раз больше, чем в этом кошельке. Может быть, это не королевский выкуп, но герцогский уж точно. Получите паспорт ради вашей безопасности. Ну и конечно, почтенные граждане Лиссабона не узнают, что своим заражением они обязаны именно вам. Да и ваша жена не узнает столь приятную новость. Кроме того, король Испании не узнает правду о вашем мастерстве, на которое он возлагает надежды. Думаю, вы будете достаточно вознаграждены. Не сравнить с участью солдат и моряков, которые станут жертвами ваших разрывающихся пушек.
Но эти люди явно не интересовали итальянца.
— А какие есть гарантии, что вы не предадите меня после того, как используете? — спросил он. — Вы прибыли в Лиссабон с шиком, привезли с собой красавицу, и, как говорят в кабачках, она даже испанская принцесса. Умно ли с моей стороны доверять свою жизнь человеку, который всегда на виду?
— Поглядите на мою подопечную, — сказал Генри, который вдруг протянул руку вперед и откинул капюшон, скрывавший лицо Анны. Для нее самой это явилось полной неожиданностью — ее никто не предупреждал ни о чем подобном. Ее золотистые волосы упали на плечи. Цвет их сейчас напоминал цвет золотых монет из кошелька, переданного Грэшемом итальянцу. Дав ему время оценить ту, которую он увидел, Грэшем продолжал: — Она испанская проститутка, хотя и очень красивая, конечно. Она обслуживала капитана корабля «Сан-Фелипе», который мы захватили. Я знал: с ней мне въезд в Лиссабон обеспечен.
Итальянец пожирал Анну глазами. Сама она сидела, не смея поднять глаза. Никогда в жизни Анна не была еще так шокирована. Она чувствовала себя так, как будто ей голой пришлось пройти перед этим негодяем. После того унижения, которому подверг ее Грэшем, любые возражения с ее стороны выглядели бы жалкими.
— Если пожелаете, Анна станет вашей, когда вы все выполните, — продолжал Грэшем. — Это — дополнение к вашему вознаграждению.
— Моей? Но как это возможно? Она же знает, что я — сифилитик. Скоро ни одна девка не станет со мной спать, разве только если она сама больная! — Лицо его исказилось, как от боли. Грэшем знал: это вовсе не боль за тех, кого он заразил, а боязнь предстоящего ему лечения (если его можно было вылечить). Все способы лечения тогда являлись болезненными, а один требовал хирургического вмешательства.
— Она ничего не знает, — заверил его Грэшем. — Она говорит только по-испански и немного по-английски. А я могу распоряжаться ею по своему усмотрению. Сделайте предложенную работу — и она ваша.
Скорее всего главное действие на предателя оказало золото. Грэшем опасался, что Бартоломе выдаст их властям уже после того, как получит кошелек, посчитав это меньшим злом, поэтому его следовало каким-то способом отвлечь, не дав ему возможности все хорошенько обдумать. Они знали: у итальянца непомерно развит половой аппетит, но ни одна женщина, даже проститутка, не заинтересуется им, если будет известно, что у него сифилис. А скрывать такую вещь долго не удастся. Очень скоро ему придется либо стать воздержанным, либо действительно спать только с больными сифилисом женщинами, примкнув к изгоям в портах и больших городах, хуже которых по своему положению были только прокаженные. А собственную проститутку, да еще красавицу, Бартоломе сейчас не мог бы купить даже за деньги. Половой голод отуманит его разум и помешает ему, взяв деньги, выдать англичан.
— Как вы сможете… доставить мне эту девушку? — спросил Бартоломе.
— У нас в Лиссабоне везде есть шпионы, — ответил Грэшем. (Действительно, Уолсингем об этом позаботился.) — Я узнаю, каким образом продвигается работа в литейной. Весной, если результат нас удовлетворит, я вернусь сюда с остальными вашими деньгами и с этой девушкой. Сейчас она здорова, и я гарантирую — она останется таковой по крайней мере до встречи с вами.
Итальянец ушел со смешанным чувством страха, радости и надежды на лучшее.
— О чем ты говорил с итальянцем? — спросил Джордж, говоривший, несмотря на все старания его учителей, только на родном языке.
Но тут вмешалась Анна. Голос ее был холодным и властным, как у ее матери, но говорила она, движимая отчаянием.
— Как вы осмелились, назвав меня проституткой, предложить меня этому грязному человечишке?! Так-то вы обращаетесь с теми, кого вверили вашей опеке!
Грэшем смешался. Было большой глупостью с его стороны не учесть, что Анна может понимать по-итальянски. Он зло ответил:
— Так я обращаюсь с теми, кто идет со мной, когда я занимаюсь работой шпиона. Так я обращаюсь с безмозглыми девчонками, считающими, будто я занимаюсь чем-то очень интересным и немного рискованным. Так я показываю таким людям, что в этом деле много скользкого и грязного, и что нам приходится убивать людей, которые хотят жить… — Ему вдруг вспомнился испанец, убитый им в Англии. — Таким образом вам пришлось заплатить за ваше сегодняшнее путешествие.
Двое молодых людей посмотрели друг на друга с ненавистью.
— И вы действительно отдадите меня этому сифилитику? — спросила Анна.
— Конечно, нет! Это была только хитрость с моей стороны! Я не собираюсь сюда возвращаться. Все это было ложью. Требовалось лишь заморочить ему голову, возбудить его, сделать так, чтобы он не понимал, насколько глупо принимать от англичан взятку.
— И вы не могли по-человечески предупредить меня заранее?
Да, Грэшем не сделал этого, потому что использовал девушку так же, как другие использовали его самого, ведь он уже привык — люди считаются чем-то вроде вещи или товара. Но чем больше он ненавидел самого себя за эту привычку, тем меньше он был готов открыто признать свою неправоту.
— А в шпионских делах, — спросила Анна с едким сарказмом, — всегда так положено, чтобы женщины сидели, не открывая рта, пока мужчины ведут переговоры?
— Нет, — вставил Манион, пытаясь снять через голову свое одеяние. — Иногда они лежат на спине, раздвинув ноги и открыв…
— Довольно! Ты забылся! — прошипел Грэшем.
Манион наконец высвободил голову. Он довольно ухмылялся. Анна бросила на него холодно-насмешливый взгляд, но он, слишком довольный шуткой, не обратил на это внимания. И все же смех Маниона успокоил ее гораздо лучше, чем все, сказанное Грэшемом. Манион дал понять — все это только игра. Опасная и даже грязная, но все же игра. Но разве Генри Грэшема не сделал эту игру своей жизнью? И если бы это понадобилось для успеха его эмиссии», неужели он действительно отдал бы ее этому мерзавцу?
— Мне все это не по нутру, — пробормотал Джордж, чувствуя стыд и неловкость. Грэшем ничего не ответил.
Они тихо задули свечи и подождали, пока их глаза привыкнут к темноте.
Манион подошел к задней стене, очистил пол от пыли и штукатурки, и тогда стала видна дверца, ведущая в подвал. Он бесшумно поднял ее, и ночные путешественники могли спуститься вниз по лестнице.
— Там пять ступенек вниз, госпожа, — шепнул Анне на ухо Манион. — Потом еще шесть впереди. Надо идти в темноте согнувшись. Зато потом увидите звезды.
Они спустились вниз и, осторожно двигаясь вперед, дошли до следующей дверцы, действительно выведшей их наверх, во двор, и они, как и обещал Манион, увидели звездное небо. Из таверны по-прежнему доносился шум, но теперь более глухой.
Все четверо уже почти дошли до дома как раз перед тем, как должны были подняться слуги, чтобы затопить печь на кухне. И тут они услышали звук шагов. К ним направлялся один из слуг генерал-губернатора, в тот день выходной, но все же одетый в ливрею. Сильно пьяный, он шел пошатываясь и что-то тихо напевал себе под нос. В руке он держал пустую бутылку, но сам он, видимо, не считал ее таковой, потому что подносил ее к губам, извлекая оттуда какие-то капли. Одни от вина становятся драчливыми, другие засыпают, а встретившийся им пьяница, судя по всему, впал в эйфорию.
Четыре человека в сутанах прижались к стене, но было поздно. Пьяница заметил их.
— Благочестивые люди благословляют таверны? — спросил он, довольно хихикая. — Или же они любители не только таверн, но еще и ночных дам, а? — Он радостно засмеялся над собственной шуткой. — Эй вы, благословите меня! Разве я хуже, чем все они? — Он хотел было стать на колени, но вместо этого вдруг подошел к Анне и попытался откинуть ее капюшон. Она вовремя оттолкнула его руку, и он ударился о стену. Тут, видимо, пьяницу поразила какая-то новая мысль, и он посмотрел на них со страхом. — Я узнал вас! — пролепетал он. Было еще темно, лица путников скрывали капюшоны, но слуга действительно мог разглядеть лицо одного из них и догадаться, кто они такие. Манион стал вынимать из рукава свой нож, но Грэшем сложил руки на груди, и Манион понял — хозяин уже достал свой кинжал.
— Я — Смерть, — проговорил Грэшем тихо и зловеще, и пьяница в ужасе осел на землю. Он стал тихонько всхлипывать. Грэшем должен был убить этого человека, сказавшего роковые слова «Я узнал вас». Ставки в игре были слишком высоки, чтобы Грэшем мог пощадить его, поставив под угрозу свою миссию. Генри невольно снова вспомнил испанца, убитого им на лугу. Он вспомнил моряков, погибших в порту Кадиса, подумал и о тех испанцах, которые найдут свой конец после взрывов пушек на их собственных судах… вот и еще одного ему предстояло лишить жизни — новое подтверждение того, как мало стоит человеческая жизнь! Испанец посмотрел на него снизу вверх и снова пролепетал:
— Вы — Четыре Всадника… Четыре Всадника Апокалипсиса!.. Я узнал вас… Грэшем отпустил рукоять кинжала, постаравшись скрыть вздох облегчения.
— Раскаиваешься ли ты в своих грехах? — спросил он пьяницу.
— Раскаиваюсь… — тихо отвечал тот, отползая к стене.
— Тогда иди с миром. И никому не говори о нас.
Он с трудом поднялся на ноги, не помня себя от страха, и перекрестился. Все четверо молча смотрели на него. Он повернулся к ним спиной и бросился бежать.
— Я думала, вы хотели убить его, — сказала Анна, когда они без дальнейших происшествий вовремя вернулись в комнату Грэшема. Она, конечно, представляла себе их ночное приключение совсем иначе. От ее романтического волнения в начале их путешествия не осталось и следа. Теперь она чувствовала, будто вывалялась в грязи.
— Да, хотел, — промолвил Грэшем. Он вдруг почувствовал: он хочет эту девушку, как еще ни одну в своей жизни. Он, кажется, был бы рад овладеть ею сейчас же, показав ей, кто хозяин положения. Но Грэшем никогда в жизни не опускался до того, чтобы взять женщину силой. Стремясь избавиться от наваждения, он решил поскорее разыскать ее жениха. Он сказал: — Завтра можно будет проверить, нет ли в Лиссабоне вашего жениха, а то скоро это все станет подозрительно и нам начнут задавать вопросы.
— Его здесь нет, я знаю, — отвечала Анна. Голос ее звучал тихо и устало. Может быть, она хотела убедить в этом саму себя? — Я чувствую — мое время еще не настало.
— А где Манион? — спросила Анна, когда они собрались посетить дом Жака Анри.
— Дела у него какие-то. Лучше об этом не спрашивать, — отвечал Грэшем, вполне доверявший Маниону.
— Дадите вы мне дня два-три отпуска? Надо кое-что доделать в Лиссабоне, сквитать старые счеты, — попросил его слуга. Грэшем согласился: он понимал — иначе поступить нельзя. И все же Грэшем очень скучал по Маниону. Однажды ночью, ворочаясь с постели с боку на бок, Генри задал себе вопрос, который предпочел бы не задавать. В любом случае было ясно, что Манион затеял нечто очень опасное. Случись с ним что-нибудь — сможет ли он, Генри, жить без верного верзилы? Он молился о том, чтобы в действительности этого никогда не произошло.
Анна не унималась.
— О, конечно, — ответила она. — Женщинам нельзя доверять секретов. Им только говорят, что следует делать. Или продают сифилитикам. Или просто используют для ублажения мужчин. — Последнее было настолько близко к тому, о чем думал Грэшем, что он едва не покраснел.
— Опасность для нас не миновала, — ответил он. — Нам надо поскорее уезжать, пока итальянец не передумал и не решил, что ему дадут больше золота, если он выдаст нас. Если вас задержат и спросят о Манионе, вы ведь действительно не будете ничего знать. Искренность — самая лучшая вещь в таких случаях.
Анна надула губы.
— Я уверен, Генри говорит так в ваших интересах, — вмешался Джордж.
Анна слегка улыбнулась ему, а затем снова обратилась к Генри:
— Значит, вы сможете солгать ради спасения друга. А я, бедная женщина, на такое не способна! Просто замечательно! — В каждом ее слове сквозило возмущение.
Сам Грэшем сомневался, что этот Жак Анри действительно в городе. Их приезд в Лиссабон не наделал большого шума (впрочем, шума там и так хватало), хотя и не остался незамеченным. Жак Анри, конечно, услышал бы об их приезде к этому времени и, надо думать, поспешил бы навстречу с ними. Либо купец уехал из города, либо он уже сожалел о помолвке. По словам Анны выходило, будто дело с женитьбой решилось без ее согласия. Однако неясным оставалось, насколько сам мсье Анри сейчас желал для себя такой участи.
По адресу, который им удалось раздобыть, они нашли большое складское помещение с примыкавшим к нему добротным каменным домом. Но все постройки казались безжизненными, словно пирамиды. Они прибыли туда целым отрядом: Грэшем, Анна, две служанки, семеро слуг Грэшема; все — на наемных лошадях, двое разодетых охранников, выделенных генерал-губернатором, и переводчик. Среди охранников они не встретили видевшего «Всадников Апокалипсиса». Как узнал Грэшем, он числился больным.
Старший из слуг губернатора с трудом скрывал ужас при виде Анны, ехавшей верхом вместе со всей процессией. Это выходило за рамки всех его понятий. Девушка не должна скакать к своему суженому. Сначала должны были встретиться мужчины, обсудить все дела, а уже потом можно было допустить и девушку.
— Ну, знаете, — объяснял Грэшем с самым серьезным выражением лица, — она слишком рвалась к своему жениху, я еле ее сдерживал. Не люблю чинить препятствия любящим сердцам. — Все это он излагал с особым удовольствием, понимая, насколько его слова раздражают Анну. Теперь он хорошо научился понимать даже оттенки ее настроения.
Вскоре стало ясно — по крайней мере сегодня им не удастся решить свой вопрос. После того как они стали яростно барабанить в двери, наконец появился какой-то старичок с потемневшим от солнца морщинистым лицом. Переводчик сообщил от его лица: мсье Жака Анри нет дома вот уже несколько месяцев, а когда он ожидается, неизвестно. Его склады пусты, товары, привезенные из Гоа, распроданы еще до его отъезда. Не осталось ни шерсти, ни турецких ковров. Говорили, будто купец ищет новые рынки и в июне (так объяснил переводчик) отправился в Плоские земли. Они поняли — имелись в виду Низкие земли — Нидерланды.
— Зачем жирному купцу понадобилось ехать в зону военных действий? — поинтересовался Грэшем. — Там уже долгие годы идет война. Говорят, некоторые районы страны превратились в пустыню. О какой выгодной торговле там может идти речь?
— Надеюсь, он отправился туда потому, что понял: жениться на мне — значит для него совершить грех, — ответила Анна, — а так как он слишком труслив и застрелиться самому ему не хватает духа, то он, должно быть, надеется, что либо та, либо другая армия в Нидерландах сделает это за него.
— Вы всегда так отзываетесь о своих друзьях? — осведомился Грэшем.
— Он мне вовсе не друг! Даже меньше, чем вы, — сказала она. — Он просто жирная свинья.
Ни в тот день, ни той ночью они не видели Маниона. Вечером Грэшем, Анна и Джордж побывали на блестящем приеме у генерал-губернатора. Грэшем отчасти надеялся увидеть там легендарного маркиза Санта-Круса, но ему сказали, будто у маркиза слишком много неотложных дел.
Не появился Манион ни на следующий день, когда они отправились осматривать достопримечательности Лиссабона, ни на третий день, когда им позволили покинуть город и насладиться красотами природы в прилегающей к нему области страны.
Он тихо возник снова только на четвертый день. Со своей неизменной странной улыбкой на лице.
— Где же ты пропадал? — спросила Анна, сгоравшая от любопытства.
— Отдавал визит, — только и ответил Манион.
Глава 8
Октябрь 1587 — май 1588 года
Кембридж, Лондон, Лиссабон, Нидерланды
Снимать пушки с корабля — сложная задача. Вроде как зубы вырывать. Прежде всего стволы надо снять с коротких лафетов и аккуратно поднять с помощью канатов. Каждое орудие очень тяжелое, но тяжесть распределена неравномерно: казенная часть весит больше. Надо соблюдать большую осторожность, чтобы пушка не сорвалась и не разрушила деревянные части корабля. Достаточно плохо завязанного узла, ненадежной веревки или неплотно вбитого столба — и орудие всей своей тяжестью обрушится на палубу. Не говоря уже об опасности для людей; в прошлом году вообще был случай, когда пушка пробила брешь в корпусе корабля и упала на морское дно. Корабль удалось спасти только чудом.
Моряки мрачно взирали на то, как последние орудия снимали с борта и грузили на повозки, собираясь потом отправить на хранение в огромный арсенал лондонского Тауэра. Их дурное настроение проистекало вовсе не из нежелания расставаться с пушками. Оно было вызвано страхом. Многие нервозно смотрели в сторону устья Темзы, словно опасаясь, что туда со стороны моря вот-вот войдут испанские галеоны с пушками наготове и начнут бомбардировку Лондона. Флот решили распустить на зиму, но кто тогда остановит испанцев, вздумай они напасть на Англию?
Может быть, ответ на этот вопрос знал Уолсингем, смотревший из окна на Темзу. Десять лет назад он поселился в Барн-Элмсе, привлеченный покоем и уединенностью этих мест. Да и в Лондон легко было лопасть из деревни Барн. Конечно, он решительно протестовал против флотских «каникул», но без особого успеха. Для них там не существует ничего, кроме денег! Как они смеют говорить о деньгах ему, человеку, потратившему собственное состояние ради безопасности границ Англии! Хвала Небесам, Санта-Крус опять хворает. Иначе… Уолсингем прекрасно понимал, как должен был поступить Санта-Крус, узнай он, что англичане отправили своих военных моряков «на зимние квартиры». Сам он на месте Санта-Круса, не дожидаясь приказа короля, с флотилией в пятнадцать кораблей дошел бы до Ла-Манша, а потом до Плимута и, может быть, даже вошел бы в Темзу, высадив десант из пяти тысяч человек. Или еще, взяв всего пятьдесят лучших кораблей, он сделал бы с английским флотом то же самое, что и Дрейк с испанским флотом в Кадисе.
Но несмотря на болезнь опасного врага, такое все же могло случиться. Король Филипп слал срочные депеши Санта-Крусу, требуя от того начать морской поход хотя бы зимой. Как только первый же агент в Лиссабоне сообщит, что подготовка к походу закончена, весь этот бред с ополовиниванием английского флота прекратится. Уолсингем знал: ее величество начнет тогда суетиться, испугавшись перспективы стоять на коленях перед Филиппом Испанским. Тогда посмотрим, как прихлебатель Бэрли вдруг сделается сторонником укрепления флота, а лорды Лейстер и Эссекс почувствуют, что их родовые замки заколебались от фундамента до вершин башен!
Но такие истории уже случались в прошлом. За все время царствования Елизаветы английские солдаты и их военачальники — идиоты дворяне — не раз оказывались не в состоянии выполнить свою миссию, и даже полноценный по размерам английский флот в этот критический момент может вполне не справиться со своей задачей. До сих пор Англию от испанской угрозы спасал прежде всего шпионаж, и сейчас, если Англия опять уцелеет, это произойдет благодаря ему же.
Уолсингем поднялся из-за стола, и тут его согнул новый приступ боли. Хорошо, что он был один и никто не видел его в таком состоянии. Доктор уже сказал: вылечить его способен только знахарь. Но надежда на выздоровление для Уолсингема означала и надежду для Англии.
Члены Совета Грэнвилл-колледжа не знали, как им реагировать на возвращение Генри Грэшема, появившегося к Михайлову дню 1587 года. Считать ли его виновным? Он очень долго отсутствовал и вернулся вместе с испанской красоткой, с которой он познакомился при немыслимых обстоятельствах и которая скорее всего являлась его любовницей. Члены совета не имели права жениться и должны были контролировать половые страсти студентов и ни в коем случае не подавать им дурной пример. Считать его невиновным? Он героически сражался за свою страну в Кадисе. Кроме того, теперь ни для кого не было тайной, что именно он дал деньги на ремонт старых зданий, хотя трудно сказать, как и откуда просочились эти сведения. И потом, Грэшем вернулся, когда началась самая важная часть академического года. Аргументы за положительное решение, кажется, перевешивали доводы за решение отрицательное.
Уилл Смит, готовый обратиться в бегство при одном упоминании о мече, даже если пресловутый меч не имел к нему никакого отношения, заявил:
— Этак и каждый бы из нас мог — отправиться за моря и наслаждаться за счет своих студентов, если бы, конечно, нам понадобилась такая сомнительная слава.
Большинство из них полагало: гораздо большая смелость нужна, чтобы сидеть дома и, так сказать, оборонять домашнюю крепость, нежели отправляться неизвестно куда в качестве простого военного моряка.
Толстяк Том считал их аргументы не заслуживающими ни малейшего внимания.
— Расскажи мне, милый мальчик, — говорил он, обращаясь к Грэшему, — обо всем и со всеми самыми мрачными подробностями. Эти матросы, должно быть, очень крутые люди! Расскажи мне, пожалуйста, и о них тоже. И не забудь также про все случаи, когда кого-то ранили, и тому подобное.
Его действительно очень живо интересовали все подробности приключений Грэшема, а своего интереса к мужчинам он и не скрывал.
Грэшем отправил посыльных в Нидерланды на поиски следов неуловимого Жака Анри. До сих пор напасть на его след так и не удалось. Но Генри хотя бы смог найти дуэнью для Анны. Ею стала дочь их экономки, суровая девушка — пуританка с худым лицом и тонкими губами. На ее лице, казалось, навсегда застыло выражение вечного недовольства. Она постоянно нервно теребила свою поношенную юбку, словно опасалась, что кто-то в любую минуту может попытаться снять ее с хозяйки. Ее мать по каким-то ей одной ведомым причинам решила рекомендовать свою дочь Грэшему. Две девушки являли собой странную пару. Дуэнья, конечно, не имела реальной власти над подопечной: от нее требовалось только находиться рядом и блюсти добродетель Анны. Предполагалось, что дуэнья будет отваживать страстных молодых поклонников Анны и сообщать об их притязаниях молодому хозяину.
— Это, выходит, вроде как вылить ведро воды на кобеля, преследующего вашу любимую сучку, — заметил Манион, заинтригованный идей компаньонства.
— Не… совсем так, — уклончиво отвечал Грэшем.
Анна стала популярной среди людей того пестрого мирка, с которым Грэшем охотно общался в Лондоне — поэтов, музыкантов и драматургов, писавших модные пьесы для театра. А с дуэньей Грэшем мог не очень беспокоиться о том, будут ли они пытаться с ней переспать. Но в Кембридже он должен был найти для нее лучшее жилье, чем две его комнаты в колледже. В его распоряжении находился так называемый Купеческий дом в окрестностях Кембриджа, в Трампиннгтоне, пустовавший уже более года. Это было достаточно древнее здание, ядро которого составлял средневековый дворянский дом с позднейшими пристройками того времени, когда хозяином здания стал некий купец — отсюда и его нынешнее наименование. Здесь-то Генри Грэшем и решил создать базу, куда можно будет вывозить его подопечную раз в шесть недель из суетного Лондона, в Кембридж, к простым деревенским радостям, чтобы она могла уделить внимание и делам своего хозяина. Законного хозяина по крайней мере.
Отрадой Грэшема являлось Озеро Волшебного меча — так он сам прозвал место, где образовался глубокий омут. Если где-то на земле и мог блеснуть из тумана меч короля Артура, то именно здесь. В темной воде, казалось Генри, отражалось далекое легендарное прошлое Англии. Он любил ночевать в спальне с видом на озеро и гулять здесь ранним утром, когда еще не рассвело. Конечно, покупка Купеческого дома также наделала шуму в колледже. Такие покупки говорили о нешуточном богатстве. И кроме того, нарушали свойственные колледжу традиции жизни, соблюдавшиеся членами совета.
Рождество и святки Грэшем провел в Лондоне. Кто из молодых людей мог бы отказаться от повеления королевы провести праздничные дни среди самых богатых и порочных людей страны? Впечатления этих дней проносились подобно вихрю — бесконечные танцующие пары, освещенные тысячами свечей, огромное количество мужчин и женщин, чьи страсти и влечения скованы светскими приличиями и правилами. И среди них — разгоряченная Анна, которой какой-то придворный, ее верный партнер по танцам, обещал все свое огромное наследство в обмен на проведенную с ним ночь. Она, однако, высмеяла его. Был и очень опасный момент, когда сам Грэшем, сильно пьяный, оказался во время танцев рядом с ее величеством королевой Елизаветой, но на сей раз он протрезвел так быстро, как никогда.
Люди, корабли и даже целые страны, вовлеченные в великую игру, стояли сейчас, подобно фигурам на шахматной доске, там, где им следовало находиться согласно замыслам амбициозных игроков, движимых отчаянным желанием сохранить власть или захватить ее. Годами тихо стоявшие на своих местах фигуры теперь пришли в движение. А в такой игре каждая комбинация, каждый ход могли означать перемены в судьбах мира и самой истории.
Толчком для начала партии стала тогда кончина дона Альваро де Базэна, маркиза Санта-Круса, главнокомандующего испанским флотом, героя Лепанто и множества других сражений, которому было поручено командовать Английской экспедицией. Известный своей жестокостью человек ушел из жизни 9 февраля 1588 года, не оплаканный никем из слуг.
А затем наступил самый тяжелый день в жизни герцога Медины Сидонии. Испанским грандам редко доводилось изведать часы покоя. Весь их день, от рассвета до заката, проходил на виду у людей — в этом состояла их обязанность. Им самим принадлежали только ночные часы, и только ночью они могли побыть наедине с членами семьи и отдохнуть. Что поделаешь — высокое положение давало не только наследственные привилегии, но и наследственные обязанности. Однако понятно — герцогу, как и другим испанским аристократам, подчас очень уж хотелось побыть в одиночестве.
Воротясь из Кадиса, он целый день, как судья, разбирал дела арендаторов, и его привел в весьма дурное расположение духа один возмутительный случай, когда человек отрицал и веру, и свои обязанности арендатора, и свои обязанности мужа и отца.
Поэтому к чувству страшной усталости у герцога добавилось и чувство раздражения и недовольства всем окружающим.
В то время к нему явились гонцы. Король Филипп никогда не посылает одного человека, если можно было послать десять. Полученное письмо он воспринял как удар меча. Сообщалось: маркиз Санта-Крус скончался, а король требует от герцога Медины Сидонии стать главнокомандующим испанским флотом, предназначенным для вторжения в Англию!
Герцог страшно побледнел и на минуту лишился дара речи. Потом он медленно встал и вызвал секретаря. Думать над ответом было некогда, и герцог все еще переживал перенесенное потрясение. Он писал королю так, как подсказывало ему сердце:
«Мое здоровье не позволяет мне взять на себя такую миссию. Я несколько раз бывал на море и всякий раз страдал от морской болезни и лихорадки. Долги моей семьи составляют более девятисот тысяч дукатов. У меня нет денег на экспедицию, и даже ради моего короля я не имею возможности это сделать. У меня нет совершенно никакого опыта ведения войны на море. Как же я могу осмелиться взять на себя командование всем флотом?! Мне ничего не известно о том, чем занимался Санта-Крус. У меня нет агентуры в Англии. Вот почему я боюсь подвести вас, ваше величество, и самого себя самым ужасным образом, действуя как слепой вождь, полагаясь на советы тех, кого я не знаю, будучи не в состоянии отличить хороший совет от дурного и правду от лжи».
Едва успев отослать письмо, герцог тут же пожалел о нем: автор письма выглядел трусом. А герцогу вовсе не хотелось такого обвинения, унизительного для его чести. Он боялся прослыть трусом больше, чем смерти. А главное, и это еще увеличивало чувство тоски, он понимал — письмо не достигнет цели. Как все ограниченные люди, Филипп не менял своих решений. Перемена решения для него означала не проявление мудрости, а признание собственной неправоты. А помазанник Господа не может быть не прав по определению.
Герцог понимал, почему назначили именно его. В Испанской империи служили адмиралы, одержимые гордыней, слишком много понимавшие о себе. Он, Сидония, находился выше всех их по положению и, что особенно важно, умел думать. Он был способен и урезонить слишком амбициозных командиров. Неужели у него все в прошлом? Все же адмиралы создавали империю. Среди них числились люди очень одаренные и знающие. Разве они не могут дать ему советы по стратегии и тактике, в которых он так нуждается? Самое трудное, что предстояло герцогу на этом посту — конечно, не ведение войны. Он являлся прирожденным бойцом. Но как он сможет командовать сотней кораблей и десятком тысяч военных, ожидающих своего часа в Лиссабоне (между прочим, каждый месяц задержки обходится в семьсот тысяч дукатов)?
Через два дня герцог написал еще одно письмо. Он знал; вся эта переписка лишена реального смысла, однако считал ее своим долгом, если угодно, даже долгом перед историей (а вдруг его письмо прочтут потомки?). На сей раз он поставил вопрос о целесообразности всей экспедиции. Море, утверждал он, — зыбкое поле сражения. Буря на море может за считанные часы уничтожить целый флот. Сидония знал: герцог Пармский заперт на побережье из-за проклятых нидерландских морских разбойников и ни один испанский корабль пока не может выйти из Нидерландов или войти в их порты. А это также повредит всему делу.
Тут же пришел ответ от дона Кристобеля де Мура, самого влиятельного из секретарей короля:
«Мы не показывали его величеству вашего письма. Видит Небо, наша Армада непобедима!»
Герцогу оставалось только отправиться в Лиссабон. Он мог бы утверждать, что Небеса не прощают людям их собственных упущений, а в деле снаряжения Армады слишком многое следовало исправить, прежде чем она могла рассчитывать на победу.
Первым, что увидел герцог по прибытии в Лиссабон, были горы бумаги, которые служащие вывозили из штаба маркиза Санта-Круса — расчеты, счета, чертежи, планы, списки кораблей — все необходимое для организации вторжения и, конечно, принадлежавшее лично маркизу. Таков был вековой обычай. Сидония вызвал лучших из его секретарей и дал им четкие указания. Любой ценой надо удержать и сохранить хотя бы часть бумаг Санта-Круса. Герцог начинал понимать: сражение с врагом, возможно, будет едва ли не самой легкой частью всего предприятия.
Раз начавшись, большая игра продолжалась. Сесил вызвал к себе Генри Грэшема. Они впервые встретились с той самой ночи, когда Грэшем вернулся из морской экспедиции. Сесил объявил:
— Королева настаивала на переговорах с испанской армией в Нидерландах, и герцог Пармский согласился. Только что поступило сообщение о кончине маркиза Санта-Круса.
«Вот так история! — подумал Грэшем. — Больше всех изумится Манион».
— Это событие, — продолжал Сесил, — вызвало замешательство в Испании. Мы вскоре отплываем из Дувра, чтобы успеть воспользоваться этим замешательством в наших целях. Меня включили в состав миссии в качестве наблюдателя, как вы и ожидали. — Спесь, всегда свойственная этому человеку, сейчас была буквально написана на его лице. — Фактически меня попросили предпринять все усилия и добыть как можно больше информации об испанских военных силах в Нидерландах.
Грэшем не смог сдержать улыбки.
— Конечно, ваш богатый военный опыт поможет вам в вашей миссии. Фактически вы будете шпионом. Добро пожаловать в нашу компанию.
— Шпионом? — Сесил поморщился. — Я предпочитаю именовать себя посланником, который должен смотреть и слушать. — Он уже понял свою ошибку, но было поздно. — В конце концов, шпионы — наемные служащие, получающие плату.
— Вот как? — переспросил Грэшем, никогда особенно не нуждавшийся в деньгах. — Что же, тем лучше. Если кто-то готов заплатить, то зачем отказываться? Денег слишком много не бывает, не так ли? — Сам он знал: эти слова могли бы стать девизом семейства Сесила. Едва ли его папаша Бэрли возводил великолепные дворцы на жалованье, которое платила ему королева.
— В любом случае, — торопливо сказал собеседник, от всей души желавший сменить тему, — у вас есть предлог для поисков жениха вашей… подопечной. Я дал слово содействовать вашим поездкам в Лиссабон и в Нидерланды. Вы можете присоединиться к моей команде. Вы будете считаться советником, это все же повыше статуса слуги. Но эта женщина не сможет поехать с вами.
— Я бы и сам этого не хотел. В Нидерландах идет война. Шансов найти ее жениха у меня почти нет. А моя миссия ее не касается. Ваша экспедиция будет для меня хорошим прикрытием. — Услышав слово «прикрытие», Сесил снова поморщился.
— Учтите, мне пришлось затратить огромные усилия, чтобы включить вас в нашу команду. — Он уже называл ее «своей», хотя в качестве сына аристократа сам считался не очень важной персоной. — Так что, может быть, согласно нашему «договору», вы сумеете рассказать мне, чего вы добились в Лиссабоне, если чего-то добились?
— Можно считать, чего-то добился, хотя этого недостаточно. Как я уже говорил прежде, подробностей вам лучше не знать. Особенно если учесть, что мы отправляемся в страну, где идет затяжная война и где даже хорошо охраняемые экспедиции не застрахованы от нападения разбойников.
Сесил слегка побледнел.
— Я уверен, до этого не дойдет, — с надеждой вымолвил он.
Он вернулся в свой лондонский дом, в компанию Анны. Она прекрасно провела двенадцатидневные праздники, хотя она ни за что не хотела признать это перед Грэшемом. Его она встречала с холодным отчуждением, а дуэнья на глазах теряла важную суровость.
Не только ради Сесила Грэшем находился в Лондоне. Ему хотелось посетить вечеринку, устроенную Эдмундом Спенсером, в честь его детища — длинной поэмы «Королевская феерия».
Это было далеко не самое блестящее празднество из тех, что посещали Грэшем и Анна, но Спенсер был верным другом и настоящим поэтом, так что ради него имело смысл пока не возвращаться в Кембридж. Анна предпочитала не разговаривать с Грэшемом, но благоволила Джорджу и беседовала с ним с видимым доверием.
— Я была шокирована, — объявила она (на самом деле это ее очень развлекло). — Он такой интересный мужчина, фаворит королевы и, как мне сказали, титулярный граф. И так небрежно одевается!
— Это называется «титулованный граф», — заметил Грэшем позднее, когда они шли по большой галерее его особняка. — И он действительно самый привлекательный мужчина из всей компании. — Джордж откланялся и ушел домой. Он пребывал не в духе: его престарелые родители собирались в Лондон (это случалось редко), и их визит нарушал холостяцкий уклад его жизни.
— Я не вмешиваюсь в ваши разговоры и не понимаю, почему вы вмешиваетесь в мои, — сказала Анна. — Для меня, может быть, вообще небезопасно находиться подле вас. Барышни при дворе говорят: вы — человек опасный. — «Может быть, и опасный, для кого-то из их мужей», — подумал Грэшем. Что ему остается делать, если девушки сами к нему льнут? Отказать им было бы нелюбезно.
— Не так опасен, как для вас будет опасна королева, если решит, будто вы отвлекаете на себя внимание ее нынешнего кавалера, — сказал он. — Что же произошло?
— Граф — Роберт Деверю, кажется? — танцевал со мною первый танец, а потом пригласил меня на второй и на третий. А я знаю: у него были дамы и на второй, и на третий танец. Они ждали его. Я видела, как они расстроились. — Сама Анна явно не испытывала ни малейшего огорчения по этому поводу. — А потом, во время третьего танца, он стал шептать мне на ухо.
Грэшем задумчиво взглянул на Анну. Почему она-то к нему не льнет? Эта девушка имела гораздо большую силу воли, чем ему показалось сначала. Кто там знает, что у нее на душе — внешне она весьма сдержанна. Он подумал: она первая настоящая красавица, которая сама не ищет его расположения. Может быть, оно и к лучшему.
— Что же он вам шептал? — спросил Грэшем.
— То, что обычно мужчины говорят шепотом, — чтобы я легла с ним в постель, — просто ответила Анна.
— И как же вы поступили? — невольно спросил он.
— Я ответила, что я девственница, — сказала она так же просто. — Более того, католичка и признаю только непорочное зачатие.
Грэшем не мог удержаться от смеха.
— И что же он ответил? — задал он вопрос.
— Рассмеялся, как и вы. Мужчины все одинаковые. И еще добавил: на подобную вещь он не способен.
«Ну и молодец», — подумал Генри, невольно зауважав графа Эссекса. Но все же на душе у него веселее не стало. Почему-то Грэшем вспомнил, как однажды в детстве видел стаю голубей, поднявшуюся в небо с их крыши. Потом вдруг один из них замертво упал на крышу словно подстреленный на самом деле в него никто не стрелял). При ударе отбились две черепицы, слетевшие вниз. И раз Грэшем сам не знал, почему он вспомнил об этом и что было общего между его судьбой и судьбой этой несчастной птицы, он сказал:
— Я уезжаю в Нидерланды.
— Искать Жака Анри? — спросила Анна.
— Это для меня один из предлогов, если ваш проклятый купец действительно существует, в чем я уже начинаю сомневаться. Но это не главная цель поездки, и вас я не могу взять с собой. Там идет война, ситуация никем не контролируется, и у меня будет достаточно забот о безопасности Сесила и о том, чтобы я сам был достаточно свободен и мог сделать что требуется. А для вас это будет настоящая и очень серьезная опасность.
Она ответила улыбкой (что бывало редко), улыбнувшись скорее себе самой, чем ему:
— Еще большая опасность, чем носиться по морю на тонущем корабле вместе с пятнадцатью пиратами?
Иногда, решил Грэшем, лучший способ ответить женщине — промолчать.
— Вы, значит, будете рады, если я останусь здесь и буду жить, как жила? — продолжала Анна. По существу, она спрашивала его, согласен ли он, чтобы она продолжала тратить его деньги.
— Конечно, — отвечал Грэшем. — Ведь вы моя подопечная, не так ли? И все же месяца через два я, может быть, попрошу вас побыть в другом месте. Как я надеюсь, недолго.
Выражение ее лица сделалось немного озадаченным. У Грэшема не оставалось вариантов. Теперь ему предстояло сообщить девушке правду о своей жизни, правду, которую до сих пор знал только Манион и которая могла стать убийственной для Грэшема, принеся ему бесчестье, если бы стала известной. Поскольку Анна была испанкой, он мог, наверное, поведать ей обо всем и раньше, но иногда тайна становится второй кожей, а люди, в отличие от змей, не могут легко сбрасывать кожу.
— Я должен объясниться, — начал он…
Открыв Анне истину о том, что всегда томило его, истину, которая, он знал, должна была решить его судьбу, Грэшем понял, как глупо, должно быть, это прозвучало для постороннего.
Кончив рассказ, он бросил взгляд на лицо Анны. Оно было белым как полотно, а на глазах потрясенной девушки появились слезы. Только теперь сам Грэшем почувствовал, какое ужасное впечатление производят его секреты. За все время их знакомства Анна впервые посмотрела ему в глаза и опустила голову. Она дрожала.
— Я уверен, вам будет безопаснее там, куда я вас приглашаю, чем в Нидерландах, — неуклюже добавил Грэшем, не зная, как вести себя дальше.
Манион, слышавший весь разговор, сказал только:
— Вы не очень-то облегчаете жизнь тех, кто рядом с вами, верно?
Посольство ее величества королевы Елизаветы в Нидерланды было одним из самых странных, даже диких, и в то же время отчасти смешных предприятий в жизни Грэшема. Если вся дипломатия являлась столь же смешным предприятием, то оставалось только удивляться, почему в мире постоянно не происходят войны. Хотя, опять же, может быть, именно так и есть.
Зачем, спрашивал себя Грэшем, герцогу Пармскому желать мира, если у него сейчас есть все шансы выиграть войну, так дорого обошедшуюся Испании, да и ему самому? У него на руках были все козыри: лучшая в Европе армия, военные победы в Нидерландах, самый большой в мире флот, готовый прийти ему на помощь, чтобы перевезти его армию на Британские острова. Он также прекрасно знал — в случае его вторжения британцы мало что смогут ему противопоставить. И в это время Англия прислала депутацию с предложением мира. Входивший в нее Генри Стэнли, граф Дерби, очень умный и опытный человек, много поездил по свету. Но двое других аристократов, Кобхэм и Джеймс Крофт, не знали, что и как им делать, и пользовались услугами двух юристов-книжников. Кроме того, Англию представляли Сесил и родственник Дерби Том Спенсер, человек неглупый, но совершенно неопытный в такого рода делах. Этих-то людей Англия послала против армии герцога. Могли ли они заключить мир?
В феврале Дуврский порт обледенел. Зима стояла свирепая. Корабли сгрудились в гавани, словно в страхе перед морозом. Уже несколько дней бушевал ветер, гнавший печной дым вниз по трубам, так что дым и пепел попадали в большую залу гостиницы, где пришлось поселиться «искателям мира». Только в конце месяца они получили пропуск на Остенде. Даже Грэшему, уже привыкшему к превратностям морской стихии и считавшему себя моряком, часто делалось не по себе. Стоило несколько минут побыть на палубе, как борода покрывалась инеем. Оставалось только удивляться, как у настоящих моряков не закоченели пальцы и они могут управляться с парусами. Остенде был опустошен в стране, охваченной войной, как человеческий организм бывает охвачен чумой. Всего в четверти мили от их пристанища они видели обглоданные трупы целого семейства, лежавшие на снегу.
— Волки. Ну и, конечно, птицы, — пояснил проводник. — Сейчас волки по ночам приходят прямо под городские стены. Вы еще наслушаетесь их воя.
В городе, где люди ходили сгорбившись, даже для английского посольства, имевшего достаточное количество золота, на постоялом дворе не нашлось еды. Сесил отдал какие-то распоряжения своим слугам, а потом явился вдруг через два часа с двумя ветхими рыболовными сетями и в сопровождении двух охотничьих псов.
— Если здесь нет еды, мы сами добудем ее! — объявил он гордо.
Но собаки убежали, едва только слуги вывели их на улицу, а сети оказались дырявыми.
Положение спас Манион, ушедший на промысел и вернувшийся с тремя яйцами, половиной сырного круга и куском несвежей ветчины. Путешественники съели его добычу с таким аппетитом, каким отличаются только деревенские дети на празднике.
Вынужденные промедления и казавшееся бесконечным ожидание рождали чувство тоски. Они находились в Остенде, а герцог Пармский, как им говорили, — в Брюгге. Между двумя станами сновали гонцы, которые должны были устроить встречу. Теперь сообщили, что герцог уже не в Брюгге, а «инспектирует войска». Интересно, сколько могла продолжаться инспекция? В Остенде не осталось не только еды, но даже угля.
Посольство ее величества сидело у дымного торфяного костра, моля о ниспослании настоящего тепла. Сесил еще больше расширил свои практические познания.
Во вторую неделю марта Дейл, Сесил и Грэшем поскакали в Гент. В дороге они питались только апельсинами. В придорожных лесах таились разбойники. На расстоянии мушкетного выстрела по обе стороны от дороги тощие всадники следили за процессией на дороге, явно оценивая их силу и многочисленность. Послы были «вознаграждены» встречей с секретарем герцога Пармского Гарньером, низеньким человечком лет тридцати пяти в меховой куртке и бесформенном голубом бархатном камзоле с золотыми пуговицами. Снова начались разговоры и новые проволочки. Наконец стороны пришли к соглашению начать официальные переговоры в Бурбурге, около Дюнкерка.
— Боюсь, все эти затяжки не случайны: нас намеренно «выдерживают», пока Испания готовит свою Армаду, — заметил граф Дерби Грэшему. Он привык обмениваться мнениями с молодым человеком, к явному неудовольствию Сесила.
— Возможно, милорд, — отвечал Грэшем. — Но вместе с тем перед нами один из приемов герцога — быть везде и в то же время нигде, перемещая своих людей как бы без видимой цели.
— Но какие это дает преимущества? — спросил заинтригованный Дерби.
— Говорят, — пояснил Грэшем, — это одна из причин, почему на него не совершалось покушений. А вторая, конечно, — верность его солдат. А кроме того, при таком порядке ни один из подчиненных командиров не может точно знать, когда к нему нагрянет внезапная проверка. Первое, что он делает, — приказывает выстроить всех людей и проверяет по списку. — Язвой всех европейских армий тогда являлись офицеры, бравшие деньги за рекрутов — «мертвых душ», либо за тех, кого уже не было на свете, либо за таких, которых вовсе не существовало. Но в армии герцога Пармского таким промыслом могли заниматься только идиоты, ведь за это полагалась виселица. — Кроме того, милорд, — продолжал Грэшем, — мы должны учитывать, что, возможно, таким образом герцог проверяет нашу собственную стойкость и искренность намерений.
— Может, и так, — заметил Дерби. — Только, скажу я вам, он уже испытал силу воли некоторых из нас почти до немыслимого предела. — Он встал и приказал открыть одну из немногих оставшихся бутылок вина, из числа привезенных из Англии. Не менее дюжины бутылок разбилось, когда они переправлялись через Ла-Манш.
Возможно, юный Грэшем обладал умом старика, но он оставался деятельной натурой, как и положено в его годы. Ему смертельно надоели разговоры в скверной гостинице, где ветер постоянно дул сквозь щели в стенах. В ту ночь, накинув плащ, он вышел на улицу подышать свежим воздухом. Дома здесь стояли вплотную один к одному, чуть не натыкаясь друг на друга, напоминая тем самым Лондон, только здесь не слышалось грохота экипажей и криков уличных торговцев. Манион молча следовал за хозяином. Они шли быстро и через четверть часа достигли окраины города.
Дождь закончился, но было холодно и сыро. Но невзирая на непогоду, Грэшем чувствовал бодрость после прогулки.
Луна выглянула из-за туч, осветив темные очертания городских стен.
На них напали, когда они прошли полпути назад. Нападавшие, видимо, ждали их в вонючем тупике на углу улицы по которой они шли. Грэшема спасла грязь и то обстоятельство, что ветер на минуту улегся, перестав шуметь. Они услышали хлюпанье, когда один из нападавших высвободил ногу, увязшую в жидкой уличной грязи. Слабого звука оказалось достаточно — Грэшем и Манион резко обернулись и увидели преследовавших их людей. Тупик был очень узким, так что двое там разойтись не могли и выходить или выбегать оттуда люди могли только по одному. Ближайший из врагов, рябой детина с всклокоченной бородой, уже занес руку с кинжалом для удара в спину. Рот его почему-то был открыт. За его спиной стоял еще один, поднявший тяжелую дубину (он намеревался ударить Маниона в затылок).
Повинуясь какому-то инстинкту, Грэшем не отскочил назад (как поступили бы большинство людей), а быстро пригнулся, так что его голова уткнулась в грудь нападавшего, и Грэшем почувствовал зловоние, исходившее от шерстяного рубища ночного разбойника. Тот отвел руку назад, пытаясь изменить направление удара и поразить Грэшема в сердце, однако тот успел перехватить руку громилы и сам нанес ему удар головой под подбородок. Негодяй заорал от боли. Очевидно, при ударе он прикусил язык. Грэшем отшвырнул его от себя, прямо навстречу третьему разбойнику. Раздался страшный вопль. Напавший на Грэшема первым упал на землю, напоровшись на обнаженный меч сообщника, видимо, решившего нанести удар Грэшему, но вместо того нечаянно поразившего своего товарища. Третий разбойник, низкого роста, в широком плаще, гладко выбритый, с лицом частично скрытым низко надвинутой широкополой черной шляпой, поставил ногу на мертвое тело сообщника, решив извлечь из его тела меч. И вдруг шляпа его слетела на землю, и на лице его выразилось мгновенное изумление. Не успев сообразить, что произошло, он упал на землю, выпустив рукоять меча. Манион успел разделаться со вторым разбойником, завладел его дубиной и со всей силой, на которую был способен, нанес третьему смертоносный удар по голове. Двое англичан стояли над поверженными врагами, тяжело дыша. Грэшем даже не успел обнажить меч.
— Должно быть, воры, — сказал он, переведя дух.
Манион ногой перевернул тело третьего разбойника. Стало ясно — он принадлежал к другому классу общества. Лицо его было чистым, а одежда — почти роскошной. А его меч, который Манион извлек из мертвого тела, очевидно, являлся делом рук прекрасного оружейника.
— Испанец, — заметил Манион. Острием меча он разрезал камзол убитого. На груди поверженного врага блеснула золотая цепь, украшенная золотым крестом. — Нет, это не воры. Посмотрите, какие тощие и изможденные эти двое — явно местные жители. Должно быть, вот этот, третий, нанял их, а сам спрятался за ними со своим мечом, чтобы пустить его в ход, если потребуется.
— Проклятие! — пробормотал Грэшем.
— Да уж, что говорить… Но на сей раз вы видели: вас хотел убить не Уолсингем, не Сесил и не королева, а испанцы.
Улицы были пустынны, а их схватка прошла почти бесшумно. Они оттащили тела убитых врагов в тупик и оставили там. Грэшем старался не думать о том, что с ними сделают голодные собаки…
Когда Грэшем и Манион воротились на постоялый двор, все, кроме Сесила, уже спали. Он сидел у догоравшего огня, пытаясь согреться, и подозрительно посмотрел на Грэшема.
— Дышите воздухом? — спросил он насмешливо. — Или бросаете вызов тем, кто хотел бы вас убить? Кто же ходит по здешним улицам в ночное время? Или вам надо было с кем-то срочно увидеться?
Иногда правда — лучшее оружие. Грэшем предпочел рассказать то, что было.
— Кто-то действительно пытался нас убить. Всего три человека, один из них — испанец, по виду джентльмен.
Сесил побледнел и слегка вздрогнул.
— Испанец? — переспросил он. — Вы уверены?
Его невольное изумление и растерянность были слишком явными. Манион распахнул полы своего широкого плаща и бросил трофейный меч на стол. Испанская сталь славилась в Европе: мечи из нее считались лучшими. Столь же безошибочно можно было отличить испанский меч по сложному узору на рукояти. Предъявленное Манионом оружие говорило о происхождении хозяина не меньше, чем его одежда.
— Дело не только в его оружии, — заметил Грэшем, снимая верхнюю одежду и усаживаясь у огня. — Дело также в его внешности, одежде. И вот в этом. — Он бросил на стол кошелек испанца. Сесил открыл его и потрогал монеты. — Монеты испанские, — сказал Грэшем.
— Но это же нарушение нашей неприкосновенности! — воскликнул Сесил. — Никто никогда не нападает на членов дипломатической миссии. С политической точки зрения это равнозначно кощунству!
— В нашем присутствии они забывают о вере, — заметил Грэшем. Он понимал: беспокойство Сесила вызвано вовсе не заботой об их с Манионом безопасности.
— Есть ли у вас объяснение мотивов покушения? — спросил тот.
«Нет, пока нет, — подумал Грэшем. — И едва ли я найду объяснение, пока ты не перестанешь болтать». Вслух же он произнес:
— Добро пожаловать в мир Уолсингема! В этом мире нет дипломатической неприкосновенности. Противник здесь не носит военной формы, по которой его можно опознать. Ножом могут ударить как в грудь, так и в спину.
Сесил, по-видимому, был все еще глубоко возмущен оскорблением, нанесенным английской дипломатии. Наверное, если этот человек когда-нибудь получит настоящую власть, — он будет иметь дело только с дипломатами, но никак не со шпионами.
Наконец, когда англичане уже почти окончательно отчаялись, им разрешили встретиться с герцогом Пармским. Сесил отправил сухое послание отцу и короткое официальное уведомление королеве. Он выразил свое недовольство тем, что комната, где их приняли, была невелика, бедно обставлена, и отопление там было немногим лучше, чем на их постоялом дворе. Грэшем имел обо всем иное мнение. Для герцога это была походная встреча, а он прежде всего являлся солдатом. На такие вещи, как обстановка и роскошь, этот человек, сам разрушивший не один город, едва ли обращал особое внимание. Герцог Пармский подходил к переговорам чисто по-деловому… А может быть, проявив смекалку, он нарочно принял дипломатов в бедной обстановке, тем самым смутив их и сделав более сговорчивыми?
Послы выполнили необходимые формальности. Взгляд умных глаз герцога Пармского оценивающе скользил по чужестранцам. Он остановился на Дерби, сразу признав в нем реального (да и официального) руководителя делегации. Его герцог взял за руку и лично налил ему вина. Он также верно оценил роль Сесила, присутствовавшего здесь только в качестве носителя знатного имени (хотя именно ему, как потом узнал Грэшем, королева в первую очередь поручила ежедневно писать ей отчеты о переговорах).
Грэшему герцог лишь слегка кивнул, хотя Дерби докладывал о молодом человеке с явной симпатией. Грэшем не мог бы точно сказать, сколько времени продолжалась их встреча — час или два.
Наконец члены делегации откланялись. Они остались недовольны: в камине горел не торф, а сырые дрова, и их одежда пропахла дымом. Когда гостям выделили комнаты, чтобы они могли помыться перед ужином, который давал герцог, кто-то неожиданно похлопал Грэшема по плечу. Обернувшись, Грэшем увидел графа д'Аремберга, одного из приближенных герцога Пармского.
— Кажется, вы должны разрешить некое любовное дело? — спросил он с улыбкой. Уж такой человек его герцог! Он готов заниматься и такими делами, как поиски чьего-то там жениха, когда решается судьба нации. — Герцог готов уделить вам несколько минут до совершения формальностей, чтобы обсудить ваши поиски и выслушать ваше сообщение о том, чего вы уже добились.
Грэшема проводили обратно в помещение для переговоров, а оттуда — в небольшую смежную комнату, обставленную ничуть не лучше, чем первая. Герцог Пармский, главнокомандующий армией его католического величества в Нидерландах, спокойно посмотрел на Грэшема. Их оставили наедине друг с другом.
— Они говорят искренне? — начал герцог без всяких предисловий. — Я о тех двух умниках и пяти-шести дураках, присланных для переговоров со мной.
— Искренне, милорд, — отвечал Грэшем, — ибо действительно хотят мира. Англия сейчас не готова к войне. И они останутся искренними, пока у них есть надежда, хотя в душе они не верят, что вы заключите мир или даже имеете такие полномочия.
— И вот наконец, — ответил герцог, помолчав с минуту, — вы здесь, Генри Грэшем! Молодой незаконнорожденный дворянин, танцующий с королевой Англии, один из испытанных агентов Уолсингема, храбрый авантюрист, сражавшийся за Англию в Кадисе, ученый со странной репутацией, человек сказочно богатый, переживший попытку Дрейка его убить… И все это время он, говорят, был испанским шпионом? — Герцог снова помолчал с минуту. Грэшем едва заметно улыбнулся. — Человек, который раз в неделю посещает мессу, нет, не сейчас, но это делалось годами, с большим риском, и чья преданность вере превосходит его преданность, по его мнению, порочному государству… Человек, чьи донесения считаются в числе самых важных и секретных из тех, что отправляют во дворец Эскорнал, и некоторые из них пересылают мне. И этот человек вынужден поступать во вред Испании, например, подкупать старшего оружейника в Лиссабоне, стремясь заслужить доверие английских хозяев и прежде всего еретика Уолсингема. В самой Испании уже говорят шепотом об этом молодом человеке как о тайном испанском оружии. А настоящее имя этого человека известно лишь королю, одному из его секретарей и с недавних пор мне.
Генри Грэшем поклонился в знак согласия. Он испытал сейчас удивительное чувство облегчения: ему не надо было больше притворяться.
— И этому человеку нужен пропуск в Испанию, — сказал он. — Чтобы покончить с обманом и присоединиться к Армаде. Я прекрасно знаю английский флот и приемы Дрейка. Я должен стать советником герцога! — Для него наступал решительный, поворотный момент в жизни. Он совершил бы непростительную ошибку, уехав сейчас отсюда, ничего не добившись.
— А вы слышали — ваш Уолсингем скончался? — спросил герцог.
Выражение лица Грэшема не изменилось.
— Не слышал, милорд. Но этого ожидали, — сказал он.
Герцог Пармский испытующе посмотрел в глаза Грэшему.
— Мы побеседуем с вами. И вы мне все расскажете, — промолвил он.
— Мне есть о чем рассказать, милорд, — подтвердил Грэшем. Ни один из них не заметил небольшого отверстия между досками пола, не прикрытого ни ковром, ни циновкой, а также не услышал легкого шороха внизу, как будто кто-то снизу подслушивал их разговор.
Глава 9
26 мая — 6 августа 1588 года
Портлендский поход
— Какого черта меня занесло на этот поганый испанский корабль? — осведомился Манион. — Чего я тут стою среди паршивых испанцев? Чтобы драться за их проклятую Испанию? Да я всех их ненавижу, не то что вы!
Они стояли на палубе «Сан-Сальвадора», не замечая волнения моря. Незнакомые, экзотические запахи испанского корабля — кисло-сладкий аромат олив, острый запах дешевого вина, который сразу можно было отличить от запаха английского пива, ароматы пряностей и зелени — заставляли англичан чувствовать себя чужими на его палубах. Здесь не бывало так, чтобы капитан корабля иногда сам помогал подчиненным, как, например, Дрейк. Здесь старших и младших разделяла глухая стена и существовала враждебность между рядовыми и офицерами.
— Ты сам сделал свой выбор, — заметил Грэшем, которого огорчали невзгоды его друга. — Ты ведь знал: это должно случиться, я должен буду оказаться здесь.
— Вы уверены, что с деньгами все в порядке? — спросил Манион, все время боявшийся, что измена Англии сделает их нищими.
— Я же говорил, — ответил Грэшем устало, — деньги в безопасности. Может быть, ты слуга изменника, но не слуга бедного изменника. А вот как с девушкой? Ты уверен, что ей ничего не грозит?
— Не больше, чем этот чертов корабль, — проворчал Манион. — Она знает, где и когда она должна быть. Ей заказано место на корабле, притом на хорошем. У нее есть деньги. Она знает, куда и к кому пойти, когда прибудет в Кале. Грэшему оказалось более чем неприятно сказать ей правду, прежде чем они отбыли во Фландрию.
— Вы будете опозорены, когда раскроется, что я испанский шпион, — сообщил он тогда.
— Но зачем же людям все это знать? — спросила Анна. — Почему не продолжить делать то же самое втайне? — Она впала в глубокое уныние, так как на глазах теряла вновь обретенную жизнь в мире двойного и тройного обмана и измен.
— Чтобы выполнить свой долг, — пояснил он, — я должен быть рядом с герцогом Мединой, стать его советником. А после этого я уже никак не смогу скрыть свою службу у испанцев.
— Сперва вы попросили меня предать Испанию, а теперь хотите от меня измены и Англии. Разве это честно? — Она готова была заплакать.
— Нет, не честно, совсем не честно, — отвечал Грэшем. — Но у меня есть мой долг. Я дал слово. Я хочу, чтобы вы выжили, вот и все.
Никогда еще на сердце у Грэшема не было так тяжело, как в то время. Он был почти уверен — он никогда больше не увидит Лондона, никогда не будет купаться в Озере Волшебного меча. Коллеги по совету колледжа будут злорадствовать по поводу его позора. Он велел Маниону побеспокоиться, чтобы Анна могла сесть на корабль до Кале, снял для нее жилье и назначил агента, прежде чем отплыть в Нидерланды. Он дал ей достаточно денег, чтобы купить небольшое имение во Франции и жить независимо. Сам он считал: найти хорошего мужа для красавицы вроде нее — только вопрос времени. Да отбоя от женихов не будет!
Они с Манионом оставили английскую делегацию во Фландрии якобы ради поисков мифического Жака Анри. На самом деле они сели на корабль до Испании. Он продвигался вперед медленно из-за сильных встречных зимних ветров, и Грэшем очень волновался из-за вынужденной задержки. На втором корабле они добрались до Лиссабона, причем погода была еще более скверной, и прибыли они за день до отплытия Армады.
— Ну, тут кое-что изменилось, — заметил Манион, когда они оказались в Лиссабоне. Герцог Медина Сидония сделал невозможное. Нынешний порядок и хорошее ведение дела являли яркий контраст с той обстановкой, которую они застали здесь прежде. В гавани стоял крупнейший в мире флот, готовый бросить вызов стихии.
Ирония состояла в том, что попасть на борт одного из кораблей Армады было почти невозможно. Корабли были окружены сторожевыми катерами для предотвращения дезертирства. С трудом Грэшему и Маниону удалось попасть на единственное доступное судно, попросив пропустить их на корабль с передачей — фруктами и вином для капитана «Сан-Сальвадора» от его жены, а потом, дав взятку, они получили разрешение занять места на его палубе. Паспорт, полученный Грэшемом от герцога Пармского, имел большую силу для испанских морских офицеров, но не имел смысла для неграмотных и невежественных охранников. Итак, они отплыли вместе с Армадой.
С самого начала «английскую экспедицию» короля Филиппа преследовали неприятности. Уже через несколько часов начало штормить. А когда стали открывать бочки с припасами, оказалось: питьевая вода гнилая, как в болоте, сыр заплесневел, а вяленое мясо безнадежно испорчено. Ограбление испанского побережья, учиненное Дрейком, принесло плоды. Сказалось и то, что флот слишком долго держали в гавани. Вскоре море было усеяно выброшенной с Армады гнилой провизией, превратившейся в корм для морских птиц.
Через три недели после выхода из Лиссабона часть кораблей были уже настолько потрепанными, что нечего было и думать об их участии в сражениях, а число больных множилось, как будто в военное время. Флот между тем только еще достиг Коруньи.
— Ну, теперь нас заведут в Корунью, — заметил Манион, как всегда, способный предсказать действия испанцев. Но необходимость в этом была и так очевидной. Сидония действительно велел флоту сделать остановку в Корунье, намереваясь отремонтировать часть кораблей и снова запастись провиантом. Следовало также оставить больных на берегу, чтобы они не заражали здоровых. В довершение невзгод страшная буря раскидала две трети испанских кораблей по всему Бискайскому заливу.
— Вот холера! — ворчал Манион, с тоской глядя на берег, когда судно стонало под ударами волн. Он стал более жизнерадостным, когда «Сан-Сальвадор» наконец вошел в Корунью, а сам Манион смог не просто сойти на берег, но и зайти в таверну.
— Вы ведь, кажись, хотели попасть на флагман? — спросил он Грэшема, когда они, стоя на берегу, обозревали обширный флот. Манион прижал к себе мех с вином, словно мать младенца.
— Мне следовало прежде всего увидеться с Сидонией, — ответил Грэшем. — Рядом с испанской знатью английские дворяне выглядят демократами. Он гордец и едва ли станет разговаривать с англичанином невысокого происхождения, да и для шпионов у него вряд ли найдется время. И все же я должен уговорить его сделать меня своим советником, чтобы мои знания не пропали без нужды.
— А что, если он не захочет принять игру? — спросил Манион, в чьем чреве вино подогревало словоохотливость.
— Тогда, — грустно ответил Грэшем, — я рискую ни за что потерять все, что я люблю.
— Испанцы могли бы побольше помочь вам в этих делах, после всего, что вы для них сделали.
— Они мне много помогали в то время, когда я работал на Англию, — ответил Грэшем. — К тому же шпионов никто не любит.
Но оказалось, встретиться с Мединой Сидонией не так уж трудно. Грэшем представил рекомендации герцога Пармского слугам, охранявшим виллу, которую занял герцог Сидония на берегу. Через день хозяин вызвал англичанина.
Его приняли в темной и холодной комнате, но вино на столе стояло отличное, а сам герцог был любезен. От него исходило чувство власти и уверенности в себе. Грэшему подумалось: люди, разговаривая с этим человеком, невольно понижают голос. В углу комнаты сидел секретарь, готовый тут же начать записывать все, что потребуется. Рядом с герцогом в почтительном ожидании стоял худощавый, болезненного вида субъект.
— Я — переводчик с английского при его светлости, — объявил он гордо.
— Герцог Пармский хорошо отзывается о вас, — сказал Сидония. Он обладал умением с достоинством нести свою власть, отчасти потому, что происходил из старинного рода, члены которого привыкли к повиновению окружающих, но отчасти это было его личное свойство. — Он говорит, вы храбро и умело сражались за наше дело три года, с большим риском для собственной безопасности. Это подтверждают и письма из Эскориала. Как давно вы встречались с герцогом?
— В марте, милорд, — отвечал Грэшем.
— И как он смотрит на вещи?
— Как вам известно, милорд, он собрал небольшие суда и баржи в каналах. У него нет глубоководных портов, но он надеется вывести свои войска из каналов через Дюнкерк под покровом ночи, имитируя поход на север. Есть две ключевых проблемы. Во-первых, голландские легкие суда хорошо вооружены и могут плавать даже в самых мелких водах. Но таких судов не очень много, а сами голландцы измотаны войной. Кроме того, часть их желает вторжения герцога в Англию, так как они полагают, что в его отсутствие мятежники скорее добьются победы у себя на родине. Герцог хочет обмануть голландцев, поскольку они и сами хотят быть обманутыми, особенно надеясь на то, что ваша светлость направит часть более мелких судов ему на помощь.
— Ну что же, неплохо, — заметил Сидония. — Каков же второй ключевой вопрос?
— Сможете ли вы отрезать английский флот от его кораблей? Герцог Пармский полагает: для вас достаточно блокировать английский флот. Не обязательно даже громить его и топить корабли.
Герцог Медина помолчал и подумал немного. Затем он сказал:
— И вы говорите, что ходили с Дрейком в Кадис?
Грэшем вкратце рассказал ему о своем участии в знаменитом рейде.
— Никто лучше меня не осведомлен об английском флоте, — добавил он. — Я предлагаю вашей светлости воспользоваться моими знаниями по своему усмотрению.
— А могу ли я доверять человеку, изменившему своей родине? — В голосе герцога вдруг зазвучал металл. Грэшем понимал: перед ним человек, всю жизнь проживший в строгом соответствии с моральными и религиозными ценностями.
— Может быть, и нет, — честно ответил он. — Но только я никогда ничего не делал ради денег, в которых не нуждаюсь. Я делал это отчасти ради моей веры, которую я многие годы сохранял в тайне, а раскрытие тайны в любую минуту могло стоить мне жизни.
— А еще почему? Ради чего еще вы служили Испании?
Грэшем помолчал. Он знал: этого человека не устроят простые ответы.
— Моя родная страна, — сказал он, — никогда не принимала меня, незаконного сына богача. Долгие годы на меня смотрели как на изгоя. Сейчас передо мной заискивают из-за моего богатства, но я по-прежнему остаюсь там чужим. Мою страну обороняют пираты, называющие себя патриотами, ею правит королева, которая твердит о благе Англии, но на деле служит только самой себе; женщина настолько эгоистичная, что не желает думать о наследнике для страны, а потому обрекает ее на гражданскую войну в случае своей кончины. Под стать ей и приближенные, такие как Роберт Сесил, чья мораль и вера вращаются вокруг его личных интересов. Королева, Сесил, Уолсингем, Бэрли… Все они хотели бы, чтобы я пожертвовал своей жизнью ради них. Но никто из них не хотел бы ничем пожертвовать ради меня.
— Вы еще слишком молоды, чтобы носить в душе такую озлобленность, — заметил герцог. — А когда вы узнаете, что на вашей второй родине, в Испании, вожди не чужды эгоизма, что не все являются истинно верующими, и даже среди служителей веры есть люди действительно порочные, не озлобитесь ли вы на Испанию так же, как на Англию?
— Англию я не выбирал, — промолвил Грэшем. — Выбор был сделан за меня. Я выбрал Испанию.
Наступила долгая пауза. Сидония испытующе смотрел на Грэшема. Тот спокойно выдержал его взгляд.
— Я, может быть, призову вас в советники, но не сейчас, — сказал герцог. — Пройдет не меньше недели прежде, чем мы подойдем к Англии, а на борту «Сан-Мартина» людей гораздо больше, чем следует.
Дело обстояло именно так. Помимо моряков и солдат на корабле находилась также свита герцога и множество молодых испанских дворян, жаждавших славы.
— Может быть, вы понадобитесь мне поближе к началу военных действий, — продолжал герцог, — а может быть, и нет. И еще я чувствую: у вас в душе — напряжение и разлад, но не понимаю, в чем тут дело.
При этих словах Манион, понимавший по-испански, усмехнулся и что-то пробормотал.
— Да ты наглец! — возмущенно заметил герцог.
— Простите, ваша светлость, — ответил Манион по-испански, — но я помню его еще вот таким. — Он показал рукой расстояние от пола до своих колен. — Он и тогда был напряженным и в разладе сам с собой. Это никогда не менялось. Прошу прощения за мою дерзость.
— Кажется, ему не повезло в жизни, — задумчиво промолвил Сидония. — Но возможно, повезло с тобой. Вы оба свободны.
— По-твоему, ты мне помог? — прошипел Грэшем, когда они вышли.
— Главное дело — я сказал чистую правду, — ответил Манион.
Испанские корабли покинули Корунью 21 июля, а через восемь дней моряки впервые увидели английский берег в районе Лизарда. При виде родных берегов Грэшем испытал острое чувство сожаления.
— Как вы думаете, о чем они там говорят? — спросил Манион.
Над флагманом реяло знамя с образом Девы Марии — призыв к капитанам и командирам собраться на его борту. Грэшем и Манион присутствовали на мессе вместе со всей командой «Сан-Сальвадора».
— Я знаю, что следует делать, — сказал Грэшем. Он был весь в напряжении, как натянутая струна.
— Да? — спросил Манион. — Стать шпионом в пользу Франции и Голландии, чтобы вся Европа, а не ее половина вас ненавидела?
— Нет. — Грэшема проигнорировал его замечание. — Следует взять курс прямо на Плимут. При таком ветре английский флот не может выйти в открытое море. У англичан все преимущество — в скорости. Если бы Сидония направился в Плимутскую гавань, англичане не смогли бы сманеврировать и он половину судов взял бы на абордаж. — Он показал на мощные башни на носу и на корме их корабля. Там находились солдаты, способные с большой высоты обстрелять или поджечь палубу неприятельского судна и высадить на него массированный десант.
— Входить в Плимутскую гавань трудно, — заметил Манион. — Можно потерять много кораблей.
— Что значат такие потери, если англичане потеряют половину своего флота? — возразил Грэшем. — Слово теперь за Сидонией.
В огромной каюте герцога Медины Сидонии собрались капитаны и командиры. Они наседали на командующего, излагая свою тактику:
— Мы теперь должны частью нашего флота атаковать Плимут. У нас есть шанс сократить наполовину флот противника и взять его за горло. Это же золотая возможность!
Сидония слушал их с непроницаемым видом, скрывая за ним сильное волнение. Как мог он, человек глубоко сухопутный по природе, принимать решения от имени людей, прекрасно знающих море? Он не мог понять, отчего герцог Пармский не отвечал на его письма, хотя они требовали ответа. Прошло два месяца с тех пор, как Сидония получил от него последнее письмо. У них имелись быстроходные катера, способные доставлять такие письма за несколько дней. Скоро, видимо, придется остановить Армаду. Возможно, у острова Уайт, пока не будут получены точные сведения, что армия герцога Пармского готова к переброске в Англию.
И все же Сидонию смущал не риск. Война всегда связана с риском. Но здесь война велась на море. Его пугало то обстоятельство, что простая перемена ветра или недооценка защищенности Плимута могут привести к потере части вверенных ему лучших испанских кораблей.
— Вход в Плимутскую гавань узок и опасен, — сказал он наконец. — У нас есть строжайший приказ короля вести флот на соединение с армией герцога Пармского, а не просто искать сражений с противником. Соединение с его армией — наша главная и единственная задача. — Это было правдой не считая того, что он сам уже собирался остановить флот то есть нарушить приказ короля. — Поэтому нам надо занять оборону у острова Уайт и, если потребуется, ожидать вестей от герцога Пармского. — Он повернулся к одному из адмиралов-ветеранов, шестьдесят лет водившему корабли в бой, и сказал с улыбкой: — Если мы там остановимся, вы получите ваш морской бой. Имея в виду будущие сражения, я не могу позволить преждевременно истощить наши силы.
Адмирал нехотя согласился с командующим, признав его рассуждение логичным. Все остальные явно остались недовольными его решением. Но Сидония знал: они все — опытные бойцы и испытанные во многих боях патриоты. Они идут в бой во имя Господа, и дело их правое. Разве они не заслужили победу?
В полумиле от флагмана Грэшем напряженно смотрел на море. Шел сильный дождь, вода текла по лицу, и разглядеть что-то было непросто. Но вот он заметил, что катера отплывают от «Сан-Мартина». Значит, решение принято! Через некоторое время Армада начала медленно перестраивать свой боевой порядок. Боевые корабли выстроились полумесяцем, и авангард из самых быстроходных и тяжеловооруженных судов приготовился прийти на помощь туда, где возникнет опасность. Значит, они готовились к обороне! Сидония решил не рисковать, атакуя Плимут, и сосредоточить весь флот в одном месте.
— А помните Кадис? — спросил Манион. Грэшем, конечно, помнил сумасшедшую атаку на порт, который Дрейк не очень-то хорошо и знал, причем тогда капитаны не подталкивали своего командира, а сами старались поспеть за его планами. — Ну, здесь-то малость по-другому. Не знаю, то ли герцогу не нужны ваши советы, то ли испанцам нужен в командиры Дрейк.
Капитан «Золотого оленя» сам не мог бы сказать, почувствовал ли он в большей степени изумление или страх перед мощным противником, когда он впервые заметил огромный испанский флот. Он поспешно передал эти сведения Дрейку.
Дрейк посмотрел на море. С берега испанцев еще не было видно.
Сильный ветер все не утихал и держал английские корабли в гавани. Что, если испанцы пошлют десять — пятнадцать своих лучших галеонов и нанесут удар по английскому флоту прежде, чем он успеет двинуться с места? Проклятие! Вывести из гавани как можно больше кораблей сейчас будет чрезвычайно трудно, а плавное — для такой операции требуется время. А времени у них не было. Дрейк поспешил на пристань, собираясь отдать необходимые распоряжения и лично проследить за тем, как пойдет дело, до того как на горизонте появится тьма испанских кораблей.
Секретарь, находившийся рядом, шепнул ему на ухо:
— Милорд, они начнут действовать достаточно быстро и без вас.
Про себя он подумал: «Без тебя, если ты не будешь бегать и на всех орать, дело пойдет даже быстрее». Он продолжал шепотом:
— У вас есть шанс войти в историю и поднять боевой дух ваших людей, если вы не будете спешить и покажете, будто у вас есть время закончить игру и разбить испанцев. А что вам еще остается делать?
Не отвечая ему, Дрейк повернулся к собравшимся морякам.
— Вытаскивайте корабли из гавани! — крикнул он. — Всех работоспособных людей, кого можно найти для такой работы, гоните на берег. Что до меня… у меня достаточно времени, чтобы закончить игру и разбить испанцев. Ясно?
Ответом ему стал одобрительный рев толпы.
— О Господи! — воскликнул молодой английский моряк, когда туман рассеялся на несколько минут и его взору предстали не менее двухсот испанских кораблей, закрывших весь горизонт, как будто они уже завладели почти всем океаном. — Святая Мария! — Он перекрестился. Ему не удалось скрыть от окружающих страха перед мощным врагом.
Они видели Лизард сквозь тучи, гонимые ветром. Армада шла вперед страшно медленно из-за неповоротливых грузовых судов. А затем Грэшем и Манион увидели английские корабли. Слева от них, между Армадой и берегом, находилась небольшая группа кораблей, а за ней — главные силы флота. Ветер, как назло, оказался попутным для противника. Один из мелких английских кораблей быстро скользил по волнам в сторону испанского флота. Его нарочно и выслали подплыть поближе. С корабля сделали холостой пушечный выстрел, после чего он повернул назад.
— Офицеры — поганцы! — проворчал Манион. — Строят из себя героев и подставляют хороших ребят.
— Что они делают? — изумленно спросил Грэшем.
Группа из семи английских кораблей приблизилась к одному из флангов Армады. Испанцы попытались взять их на абордаж, но те начали маневрировать, уклоняясь от непосредственного столкновения и постоянно держа противника под артиллерийским огнем. Это была просто стычка, как будто борцы-соперники проверяли силы друг друга перед решительной схваткой. Однако тот, кто являлся командиром на этом фланге, повел свой корабль и вспомогательное судно прямо на англичан, позволив им окружить себя.
— Ну, это нарочно, — протянул! Манион. — Англичане подумают, что их можно взять задаром, подойдут поближе, попытаются их взять на абордаж, а второй испанский корабль попробует сделать то же самое с кем-то из англичан. Начнется общая свалка, а испанцам того и надо.
Непрестанная канонада противника.
Она, видимо, практически не причинили ущерба испанскому флоту. Наконец Сидония послал свой огромный флагман на подмогу, и вскоре первый испанский корабль снова оказался в окружении своих судов, а англичане отступили.
— Ну, и кто же выиграл? — озадаченно спросил Грэшем.
— Ничья, — пожал плечами Манион. — Испанцы не могут взять англичан, а англичане не могут близко подойти к испанскому флоту.
Расстояние между большинством испанских кораблей составляло не более пятидесяти метров. Если бы между ними вклинилось английское судно, оно очутилось бы под подавляющим огнем противника, и его неизбежно взяли бы на абордаж.
— Флот ощетинился как еж, — продолжал Манион. — Умно придумано, этого у них не отнимешь. Только ежа все же можно поймать, а вот испанский флот ничем не накроешь.
Они повернули головы, услышав звон колокола, созывавшего моряков на мессу. Оба они заметили какого-то голландца, возившегося с пороховыми бочками на корме. Никто другой, по-видимому, не обратил внимания на странного пушкаря. Они успели заметить зажженную спичку у него в руке, а затем увидели, как он вдруг быстро перемахнул через перила и бросился в воду. Тут его заметил кто-то из офицеров, повернулся в его сторону и открыл рот… Но что он хотел сказать, уже никому не было суждено узнать. Раздался страшный взрыв. Три вспышки последовали одна за другой в мгновение ока. Сначала взорвалась пороховая бочка, которую голландец поставил отдельно от других, затем — три остальные бочки с порохом, находившиеся на корме, и наконец произошел самый мощный взрыв, когда пламя достигло порохового склада на палубе рядом с кормовой башней.
Грэшем и Манион находились в носовой части судна. Оба они, увидев прыжок голландца, повинуясь инстинкту, последовали его примеру и тоже выбросились за борт. Грэшем ощутил ослепительную вспышку взрыва даже с закрытыми глазами и почувствовал, как огромная сила перевернула его в воздухе, словно перышко. Глаза его открылись сами собой, и тут он почувствовал страшную боль в барабанных перепонках — его оглушило взрывом, а затем увидел обломки корабля, разбросанные по воде, и людей, выброшенных в море силой взрыва.
Несколько раз он погружался в воду и пытался подняться на поверхность, и наконец ему удалось вынырнуть. Теперь он ничего не слышал! Грэшем зажал нос большим и указательным пальцами и сделал резкое глотательное движение. Теперь к нему вернулся слух — он услышал вопли раненых и покалеченных. Какой-то человек пытался выплыть, вцепившись в доску. Еще одному оторвало ногу и руку по локоть. Вслед за слухом к Грэшему вернулось и обоняние, и он почувствовал вонь — пахло, конечно, горящим деревом, но был и гораздо более страшный запах — запах жареного мяса. Люди погибали в огне…
— Смотри! — крикнул Грэшем. — Лодка! Лодка с «Сан-Мартина»!
Испанский флот быстро начал операцию по спасению попавших в беду.
Грэшем и Манион, отягощенные мокрой одеждой, старались доплыть до одной из лодок, присланных с флагмана. Они видели, как на лодку пытались втащить чье-то обгорелое тело, но оно сорвалось обратно в воду. У моряка, тащившего это тело на лодку, открылась сильная рвота.
— Должен быть какой-то более легкий путь на этот вшивый флагман, — проворчал Манион, выплевывая изо рта морскую воду, когда влез на спасательную лодку, отвергнув предложенную ему помощь.
Когда наконец они, мокрые и продрогшие, оказались на борту корабля герцога Медины, всю их собственность составляла только их мокрая одежда да по горсти золотых монет в кармане у каждого — они при всем желании не успели бы захватить больше, да и плыть с грузом по морю они бы не смогли. Грэшем протер глаза, отчего их только сильнее защипало — со лба его капала соленая вода. С палубы флагмана он видел тонущий «Сан-Сальвадор», но теперь в беду попал и другой корабль. Там отчего-то сломался бушприт, и упала бизань-мачта, а затем на их глазах вдруг обрушилась и грот-мачта этого судна.
На флагмане кто-то спросил у них и записал их имена, а один моряк предложил им шерстяное одеяло. Так как «Сан-Мартин» занимал центральную позицию, Грэшем заметил группу английских кораблей, следовавших за ними на безопасном расстоянии.
— Вон те два огромных испанских корабля, идущих за нами следом, доверху набиты добычей и всякими сокровищами, — шепотом сказал Грэшем Маниону.
— Ну и что?
— Как ты думаешь, Дрейк видит их в свое волшебное стекло?
Той же ночью Дрейк погасил кормовой фонарь на своем корабле и тайно отправился в погоню, намереваясь захватить испанский корабль «Розарио» и обогатиться на пятьдесят тысяч фунтов. Его кормовой фонарь являлся ориентиром для всего английского флота. На кораблях, следовавших за ним, увидели: фонарь впереди погас, а потом заметили и другой, более тусклый свет. Приняв его за корабль Дрейка, они решили его нагнать. Только на рассвете английские моряки обнаружили: они всю ночь ориентировались на фонарь замыкающего корабля Армады и оказались одни неподалеку от самого мощного флота в мире. Трем английским судам пришлось быстро развернуться и отправиться на поиски главных сил английского флота, весь строй которого был нарушен действиями Дрейка.
Всего несколько миль разделяли один из величайших флотов в истории от английского флота. Судьбы народов теперь зависели от решений полководцев. Грэшем томился от вынужденного бездействия, не зная, куда себя деть. Люди проводили время, развлекаясь игрой в кости, хотя начальство косо смотрело на такие занятия. Манион, сам вырезавший кости из дерева, был способен часами бросать кости, что крайне раздражало Грэшема, уже задолжавшего Маниону несколько тысяч фунтов. В иерархии испанского галеона не нашлось места для англичан-изменников. Здесь не было кают или коек даже для пяти десятков испанских дворян, которые желали плыть на престижном флагмане и создали еще большую скученность на его палубах. Грэшем время от времени располагался на чьем-нибудь свободном месте и, желая отдохнуть от азартных игр, пытался сочинять сонеты. По ночам он обычно спал в окружении других обитателей корабля и часто просыпался. В ночные часы в его голове сложилось нечто вроде простой стихотворной молитвы:
Песочные часы здесь действительно поворачивал юнга каждые полчаса. Дальше продолжалось в том же духе:
Незамысловатое сочинение в духе детских стишков гораздо лучше успокаивало душу, нежели сложные сонеты.
Смена караула происходила каждые четыре часа, и о ней объявляли те же юнги. Но особенно впечатляющей Грэшему казалась вечерняя церемония. Даже Манион умолкал, когда они оба наконец укладывались слать на палубе, съев паек, положенный им на ужин.
Начиналось с того, что юнга приносил на палубу зажженный в вечерних сумерках кормовой фонарь, пока люди готовились к вечерним молитвам. Тоненький, слабый голосок юнги был едва слышен за шумом дождя и воем ветра, но тем трогательнее звучали слова, которые он говорил, очень простые, но имевшие особый смысл именно для людей, соединенных общей опасной судьбой:
Алтарные свечи постоянно приходилось зажигать вновь. Капитан громко возглашал:
— Все ли здесь?
Присутствовавшие обычно утвердительно отвечали хором.
Капитан читал «Храни нас, Господь», и эти слова в его устах звучали немного странно: его лицо в сумерках казалось темным, а не светлым, а глубокий тембр голоса и ритмичная речь непривычными.
Моряки хором читали «Храни нас, Господь», а потом «Богородица Дева, радуйся» и «Верую». На несколько минут знакомые с детства слова объединяли людей, находившихся посреди океана, напоминая им об их общей цели. После вечерней молитвы кормовой фонарь снова уносили на обычное место. Грэшему больше всего запомнились лица этих людей — ясные детские лица юнг, суровые, обветренные лица взрослых моряков, вместе взиравших на мерцающие свечи. Сотни людей, маленьких и взрослых, у каждого из которых был его собственный мир, составляли сейчас единое целое.
На другой день на рассвете в море не было видно ни одного английского судна. Вскоре после того как они с Манионом позавтракали, их вызвал герцог. В роскошно обставленной каюте Сидония сидел за столиком, инкрустированным слоновой костью. Рядом с ним стояли два странно возбужденных офицера с «Сан-Мартина», Диего Флорес, а также уже знакомый переводчик. Не предложив Грэшему сесть, Медина Сидония спросил нейтральным тоном:
— Что случилось с «Сан-Сальвадором»?
— Мы с моим слугой находились на носу судна и видели, как какой-то голландец возился с пороховой бочкой, потом бросил рядом с ней зажженную спичку и нырнул за борт.
— И это все? Человек взрывает собственный корабль и вверяет свою жизнь милости морской стихии?
— Милорд, — нерешительно начал Грэшем, — были кое-какие… слухи.
— Слухи?
— Якобы у испанского капитана была… связь с немкой, женой этого пушкаря. На судне трудно бывает что-то утаить. Вся команда слышала, как этот голландец клялся отомстить капитану. Но они-то думали, что голландец просто нырнет капитана ножом (если вообще не хвастал).
— И что же, эти двое перенесли ссору, случившуюся на суше, на море? Уничтожить корабль и чуть не половину команды! — Герцог пытался осознать поведение людей, совершенно чуждое его воспитанию и морали.
— Не на суше, милорд, — неохотно заметил Грэшем. — Жена пушкаря находилась на борту «Сан-Сальвадора».
— Как это возможно? — Теперь в голосе герцога звучали ноты холодной ярости. — Я же приказал еще в Лиссабоне убрать всех женщин с кораблей на берег! Человек тридцать их нашли и ссадили. Присутствие же женщин на борту во время нашей священной миссии подобно святотатству!
Грэшем не стал сообщать его светлости о том, что было известно всем морякам. Одно из грузовых судов было набито женщинами — женами и походными подружками моряков и в первую очередь солдат. После того как по приказу герцога действительно вышли на берег около тридцати женщин, переодетых мужчинами, их теперь на флоте стало, наверное, вдвое-втрое больше. Моряки привыкли по нескольку месяцев обходиться без женщин, но армейские солдаты не собирались вести монашескую жизнь и таскали своих женщин за собой. Многие из них были просто невенчанными женами солдат, добровольно следовавшими за ними.
— Милорд, если одна женщина остается на флоте из ста тридцати кораблей, это не повод для обвинений, — сказал он. — Скорее, надо удивляться, что это вообще произошло.
Офицеры с «Сан-Мартина» беспокойно заерзали. Они поняли, почему он утаил правду от герцога. Грэшем не испытывал никаких сомнений — они знали всю историю со взрывом до того, как он начал ее рассказывать. Его просто подвергли проверке. «Ты ведь шпион, умеешь разнюхивать, что происходит. Смог ты установить, отчего слетел за борт и едва спасся?» Первую проверку Грэшем выдержал. Сидония наконец предложил ему сесть.
— Расскажите мне, мой юный англичанин, — начал он, — отчего это сегодня на море не видно английских кораблей, еще вчера во множестве следовавших за нами по пятам? Может быть, это какая-то английская стратегия, недоступная пониманию испанцев?
— Мы оставили позади два больших корабля, — ответил Грэшем. — Думается мне, сэр Фрэнсис Дрейк не смог удержаться от попытки захватить такую добычу. Вероятно, он решил настичь один или оба оставленных корабля, после чего либо за ним последовало много английских судов в расчете на грабеж, либо он таким образом расстроил боевой порядок английского флота.
Один из младших офицеров вопросительно посмотрел на своего командующего и, получив позволение говорить, спросил:
— Вы хотите сказать, ваши соотечественники — пираты, более заинтересованные в грабеже, чем в защите своей страны?
— Я не рассматриваю их как своих соотечественников, но они именно таковы, как вы сказали. Они прекрасные моряки, смелые и опытные, но в душе они пираты.
— Расскажите об острове Уайт, — предложил герцог.
— Это большой, плодородный остров, представляющий собой потенциально опаснейшую ловушку для вашего флота.
— Почему вы так полагаете?
Грэшем отметил про себя: герцог Сидония — человек очень умный и, как многие умные люди, пожалуй, тонко чувствующий, но скрывающий свою чувствительность под официальной вежливостью и светскими манерами. Но это не значит, что ему недостает твердости. А кроме того, Грэшем чувствовал, что герцог — человек очень одинокий, и этого не может скрыть никакой внешний блеск.
— Этот остров, — сказал Грэшем, — не имеет стратегического значения. Поскольку он находится поблизости от большого английского порта, от Плимута, ваш флот можно будет там блокировать без особого труда. Англичане не объявят вам генерального сражения, но будут шаг за шагом выводить из строя одну часть вашего флота за другой, ожидая, когда штормы и зимнее ненастье довершат все дело за них.
— А что вы скажете, — продолжал Сидония, — вы, так хорошо знающий Англию и знакомый с герцогом Пармским, — почему он до сих пор не ответил на мои письма?
— Герцог, должно быть, знает о вашем походе от ваших гонцов и от короля, — ответил Грэшем. — Он управляет большой страной, где его административные центры удалены друг от друга. Страна разорена войной, и по ней трудно путешествовать. В Остенде у самых городских стен волки питаются трупами людей. Герцог Пармский, как само собой разумеющееся, принимает, что вы ожидаете от него мобилизации его войск, что он должен готовить свои суда для вторжения в Англию. Он воплотит в жизнь свой окончательный план, когда ваш флот окажется достаточно близко для объединения ваших сил.
— А как вы оцениваете гостеприимство на борту «Сан-Мартина» после того, как вы побывали на борту одного из кораблей Дрейка?
Грэшем подумал: если герцог Медина Сидония еще и не сравнялся с сэром Фрэнсисом Дрейком в искусстве задавать неожиданные вопросы, то, видимо, скоро его догонит.
— Это ново и странно для нас, но в то же время волнует и приносит чувство радости, — отвечал он. — На английских кораблях нет религиозных обрядов. Они, конечно, веруют, но для них наш Господь — чуть ли не ровня им самим. И все же на ваших кораблях есть нечто, меня беспокоящее.
Испанские офицеры напряглись. Последние слова явно пришлись им не по нраву.
— Вы можете говорить свободно, — сказал герцог. По его знаку на столе появились два золотых кубка, наполненных вином рубинового цвета.
«Манион пришел бы в отчаяние, если бы узнал, чего он лишился», — подумал Грэшем, пригубив прекрасное вино.
— Лафеты ваших пушек слишком велики, громоздки, и с ними трудно управляться, — сказал он. — При стрельбе вы привязываете орудия к борту и должны их отвязывать каждый раз, когда приходится его перезаряжать. Ваши команды объединены в час молитвы, но в военных действиях они распадаются на три отдельные группы: офицеры, матросы и солдаты. Солдаты должны заряжать пушки под командованием морского офицера, а после этого они возвращаются к своим обязанностям и готовятся к абордажу. Таким образом, артиллерийский офицер должен созывать их обратно после каждого залпа. Должно пройти целых пятнадцать минут, прежде чем любая из ваших больших пушек будет перезаряжена и снова начнет стрелять.
— А как же на ваших английских кораблях? — спросил герцог, жестом предлагая офицерам сесть. — В чем разница?
— На их английских кораблях, — резко возразил Грэшем. — Я ведь изменник, помните? Так вот, там пушки устанавливаются на коротких лафетах на четырех колесах. Привязь позволяет орудиям довольно свободно перемещаться впереди назад при стрельбе и перезарядке. При каждой пушке есть артиллерийский расчет, который только ею и занимается. Требуется пять минут для того, чтобы перезарядить пушку и вновь открыть стрельбу.
Молчание продолжалось не более минуты.
— Созовите всех ко мне, — приказал герцог. — Поймите меня правильно, — продолжал он, обращаясь к Грэшему. — Вы или очень достойный человек, или своекорыстный изменник, а таких людей я терпеть не могу. Развитие событий покажет, что к чему. И со временем я решу вашу судьбу и определю ваше положение.
— Ну вот мы и остались при своих, — сказал Манион, когда они оба снова оказались на палубе. — Все нас ненавидят.
Шок, который испытала Анна, узнав правду о Грэшеме, изменил что-то в ее душе. Она сама не очень осознавала, что именно произошло, но чувствовала: теперь она уже не сможет продолжать прежнюю жизнь. Карусель придворных празднеств, атмосфера богатого дворянского дома, даже богатые наряды и ювелирные украшения вдруг показались ей чем-то совсем не интересным, даже мишурным и дешевым.
Благодаря тщательно продуманной Грэшемом подготовке ее отъезда она должна была попасть в Дувр и оттуда в Кале гораздо раньше, чем обнаружится, что он сам — испанский шпион. Считая, что лучший способ скрываться — это делать вид, будто ты вовсе не скрываешься, Грэшем всем сообщал, что он из Нидерландов намерен приехать в Кале, там снова встретиться с Анной и возобновить поиски ее жениха. В последние дни перед отъездом она постоянно ощущала беспокойство, объясняющееся, по-видимому, не только ее тоской из-за постигшей ее утраты или же откровениями Грэшема. Ее мучало какое-то смутное, но постоянное чувство неведомой опасности. Откуда оно могло возникнуть? Слуги были с ней приветливы, друзья Грэшема — предупредительны и не оставляли ее своим неназойливым вниманием, поскольку считали своим долгом не забывать о ней.
Конечно, все дело в ее дуэнье!
Особа с кислой физиономией, постоянно сопровождавшая Анну, никогда не улыбалась, молча сидела на одном месте, находясь в обществе Анны, и никогда ни о чем не разговаривала, если не считать ответов на вопросы по делу. Но однажды, когда большая карета выезжала из ворот особняка Грэшема, Анна заметила, как ее дуэнья едва заметно кивнула кому-то и на лице ее появилось слабое подобие улыбки. Выглянув в окошко, Анна заметила двух неизвестных ей мужчин в нарядных ливреях, сидевших у ворот. Они находились на том же месте, когда Анна вернулась, а двое других незнакомцев в таких же ливреях находились там же во время ее следующего выезда.
Слуги в доме Грэшема питали к ней искреннюю преданность, и скоро они узнали: такие ливреи носили люди из дома лорда Бэрли, отца Роберта Сесила. Выходило, за Анной следили люди, связанные с Робертом Сесилом, и в полученной новости для нее не заключалось ничего хорошего. Требовалось проверить и ее подозрения насчет дуэньи. Та взяла отпуск на сутки, собираясь навестить кого-то из больных родственников в Ислингтоне. Чувствуя себя виноватой и стыдясь собственного поступка, Анна очаровала одного из младших конюхов и уговорила его проследить за своей компаньонкой, взяв с него клятву никому об этом не рассказывать. Когда оба они ушли, Анна подождала, когда коридор опустеет, и тихо проникла в комнату дуэньи. Сначала она не увидела там ничего подозрительного, но потом обнаружила небольшой письменный столик у окна с лежащим на нем недописанным письмом, почти уже законченным, прикрытым сверху книгой. Возможно, дописать послание дуэнье помешал приход кого-то из других слуг или нежданного гостя. А в письме сообщалась дата отъезда Анны из Лондона, название ее корабля и даже имя капитана.
А вечером того же дня вернувшийся конюх сообщил Анне: он проследил ее дуэнью до Уайтхолла. Сесил шпионил за ней через эту ужасную женщину, оплачивал шпионку, постоянно находившуюся рядом с Анной. И мог следить за каждым ее движением! Анна почувствовала, как ей вдруг стало холодно. Если Сесил интересовался подробностями ее отъезда, значит, он каким-то образом собирался ее остановить. И все же Анна кое-чему научилась за последние смутные месяцы. Вызвав компаньонку к себе, она заговорила с ней высокомерным тоном, чего та терпеть не могла:
— Я решила перенести день отъезда. Мне сообщили, что корабль отходит раньше. — Конечно, она лгала, но Анна рассудила: если ей удастся разозлить компаньонку, то та может и поверить. — Вещей у меня немного, и я собираюсь уехать завтра, чтобы успеть на корабль вовремя. Ваше присутствие не требуется. Со мною будет эскорт из слуг и две моих служанки.
Компаньонка покраснела, а губы ее стали еще тоньше (если такое вообще возможно). Она вылетела из комнаты, не поклонившись, а лишь ограничившись легким кивком.
Конечно, Анна не делала распоряжений об отъезде. Зато она убедилась: за полчаса до срока, назначенного ею дуэнье, напротив ворот особняка появилось около десяти человек, одетых в ливрее Сесила, из них шесть — на конях. Анна вызвала дуэнью, а также управляющего, попросив того явиться вместе с четырьмя слугами.
— Вы шпионили за мной для Роберта Сесила, — объявила она прямо. Компаньонка дернулась и попыталась выразить протест, но хозяйка пресекла ее попытку. — Это установленный факт. — Она повернулась к управляющему, состарившемуся на службе Грэшему-отцу и Грэшему-сыну и искренне преданному хозяевам. — Простите, мистер Роберт, мне следует вам объясниться, и я с удовольствием изложу вам доказательства шпионажа за мной и за вашим домом в пользу одного из худших врагов вашего хозяина.
— Мне не нужно доказательств, мэм, — отвечал управляющий. — С меня достаточно вашего слова. Что прикажете?
— Ее участь должен решить хозяин по возвращении. — Про себя Анна подумала: «Если он когда-нибудь сможет вернуться». — Пока же пусть ее держат под охраной в помещении, откуда она не сможет бежать, таким образом, чтобы у нее не было ни прямой связи, ни переписки с внешним миром, а в особенности — с домом Сесила.
Управляющий поклонился, и трясущуюся от злости дуэнью увели четверо слуг.
Анна знала: изоляция дуэньи — лишь временная мера. Возможно, в доме имелись и другие соглядатаи. Как только она покинет Дувр, об этом так или иначе дадут знать Сесилу. Но только вот для чего она ему понадобилась? В любом случае следовало найти выход. А выход в данном случае был один: выехать теперь же с группой слуг, причем направиться не прямо на восток к ла-маншским портам, а на юг, где всегда можно нанять лодку, но где никто не будет ее искать. Свой план она воплотила в жизнь виртуозно. Сам Грэшем не смог бы сделать лучше. Они отправились в путь, как только стемнело, и переночевали в гостинице в нескольких милях от Лондона. Через два дня на какой-то захолустной пристани (Анна даже не могла запомнить название этого местечка) она дала значительную сумму денег местному рыбаку, и он рискнул отправиться в Кале на своем суденышке. На судне воняло рыбой, к большому неудовольствию Анны, но с этим пришлось смириться. Она заняла единственную там каюту, а трое ее слуг и две служанки расположились на палубе. И все же Анна чувствовала себя победительницей. Она переиграла своего врага, самого Сесила! И даже без помощи своего молодого опекуна!
Она не знала: в понедельник, 1 августа, после кратковременного затишья снова возобновились военные действия между Армадой и английским флотом. Ей также не было известно, что хозяин рыболовного судна знал о патрулировании испанского флота в этом районе, но надеялся проскочить незамеченным и благополучно достичь французского берега. Он остолбенел, неожиданно увидев возникшие, как по волшебству, испанские военные суда, преследовавшие его суденышко. Ему не приходило в голову, что испанцы с удовольствием захватывали в плен рыбаков, чтобы допросить их и получить нужные сведения.
Анна услышала шум и суету на палубе, а затем — громкую команду, прозвучавшую с ближайшего испанского корабля, — повеление английскому судну остановиться. Через несколько минут изумленные испанские моряки, войдя в каюту, увидали испанскую красотку, которую никак не ожидали там найти. Они доставили ее на большой корабль «Сан-Матео». Пусть капитан решает, что с нею делать дальше.
Наступил вторник, 2 августа. Просоленная одежда Грэшема начала расползаться по швам. Здесь можно было мыться только в морской воде, а многие и вообще не мылись. Грэшем мечтал о чистой, холодной речной воде или о горячей воде в бане, где можно было бы смыть с себя морскую соль раз и навсегда. Питались они тронутыми плесенью галетами, подозрительного вида кусками вяленой рыбы и оливами, состоявшими в основном из косточек, покрытых кожей. О чистоте и опрятности никто не заботился, и на корабле царило зловоние.
…Позже, когда возникали разговоры об Армаде, люди часто обращались к Грэшему с просьбой рассказать о том сражении. Он ведь находился тогда на борту испанского флагманского корабля. «Как это было?» — спрашивали у него, и он отвечал:
— Сплошной хаос. Скука сменилась суетой и смятением. Шум, дым, гром… Одним словом, хаос!
Грэшем полагал ситуацию достаточно простой, хотя многое оставалось неясным перед тем, как Армада стала с боем пробиваться к Кале. Испанский флот сохранял свое построение в форме полумесяца. Число английских кораблей постепенно увеличивалось. Когда начинались стычки, или какой-то из испанских кораблей оказывался в опасности, или же представлялась возможность захватить английское судно, герцог Сидония всегда спешил на выручку со своим «Сан-Мартином».
— Храбрый сукин сын, этого у него не отнимешь, — ворчал Манион, когда испанский флагман направился навстречу группе английских военных судов.
— Он настоящий военачальник, — ответил Грэшем. — И хотя он не моряк по природе, понимает — он должен вести за собой людей личным примером.
На палубе «Сан-Мартина» началась оживленная суета. Солдаты, несколько недель слонявшиеся по кораблю, изнывая от скуки, теперь обрадовались, что им наконец есть чем заняться. Солдаты проверяли ружья и боеприпасы, пушкари готовили к бою орудия.
— Он готовится к прямому сражению с англичанами, — заметил Грэшем. — Для него это единственный шанс нанести им поражение. Но они не подпустят его слишком близко. Они будут держаться на расстоянии и попытаются разнести его корабль на куски.
Грэшему очень хорошо запомнился этот момент. «Сан-Мартин» быстро направился к группе из пяти-шести английских кораблей. Сначала возникло впечатление, будто они сейчас столкнутся с передовым английским судном. Внезапно, видимо, по заранее согласованному плану, английский корабль резко развернулся налево, «Сан-Мартину» также пришлось сделать быстрый разворот. Теперь английские и испанские корабли повернулись друг к другу бортами. Взревели корабельные орудия — «Сан-Мартин» дал бортовой залп по ненавистным англичанам. Манион и Грэшем почувствовали, как палуба задрожала у них под ногами, ощутили запах пороха, а затем горячая волна обожгла их лица. Облако дыма окутало корабль. И вдали, там, где находились английские корабли, едва можно было различить такой же пороховой дым и вспышки выстрелов противника. Корабли англичан появлялись то здесь, то там, обстреливая испанский флот. Однако их обстрел не причинял испанским кораблям сколько-нибудь значительного ущерба. В хаосе сражения трудно было получить полную картину происходящего. Стоял страшный грохот, но корабли двух враждебных флотов по-прежнему располагались очень близко друг от друга.
— Как считаете, ваш герцог знает про Шэмблз? — спросил Манион.
— Я забыл о Шэмблзе, — ответил Грэшем.
Через пять минут он уже поднялся на верхнюю палубу, оттеснив в сторону часового, пытавшегося его остановить. Грэшем поклонился герцогу.
— Я веду бой, — сказал Сидония, не глядя на англичанина. Он с беспокойством следил за артиллерийской перестрелкой. Ему казалось, что испанцы стреляют отнюдь не так быстро, как англичане. Правда, ни одна из сторон пока не нанесла другой ощутимого вреда. — Сейчас время тех, кто сражается сам, а не шпионов, — продолжал он.
— Думаю, сейчас настало время людей, знающих море милорд, — возразил Грэшем. — Так что я должен поделиться с вами своими знаниями. — Манион переводил его слова. Они заинтересовали герцога.
— Слушаю. — Он щелкнул пальцами, и к нему подошел его собственный переводчик.
— Вон там, вдали, — большой английский корабль, — продолжал Грэшем. — Вы послали несколько военных судов, пытаясь отрезать ему дорогу. Но посмотрите, где он находится. Он — под защитой Портлендского мыса. В этом месте приливно-отливная зыбь, скорость которой четыре мили в час и которая может затянуть даже мощный корабль на так называемый Шэмблз — берег в двух милях к востоку от мыса, где вода очень мелкая. Вполне возможно, с помощью этого корабля они надеются заманить как можно больше ваших судов на эти мели.
Герцог с интересом посмотрел на Грэшема. Потом он повернулся к лоцману и быстро заговорил с ним по-испански. Лоцман держался почтительно, но проявлял явное недовольство и кого-то ругал.
— Он говорит, что не знает, о чем вы толкуете, — пояснил Манион, — но что этого, мол, следовало ожидать с такими плохими картами. Он, вишь, не знал, что мы тут остановимся, а потому не подготовился заранее.
— Я отправлю послание на корабли, которых это касается, — сказал герцог, быстро продиктовав что-то своему секретарю. — Я пошлю им предупреждение вместе с вопросом, насколько верно то, о чем вы говорите. Вы останетесь при мне.
Ветер утих, и на трехмачтовых галерах гребцы взялись за весла. Теоретически они давали большим кораблям возможность двигаться самостоятельно и маневрировать. Но огромные весла, каждое из которых поднимали четверо и опускали трое, были уязвимы для пушек. Если ядро разбивало одно-два таких весла, нарушался ритм гребли в целом.
Тогда на трехмачтовых галерах поднимали паруса, но под парусами им было трудно маневрировать.
Тут и там мощные испанские корабли подходили достаточно близко к более мелким английским судам, стремясь взять их на абордаж. На борту флагмана раздавались радостные крики, когда казалось, что испанский корабль взял на абордаж одно из английских судов. Но радость сменялась разочарованием, когда оказывалось, что это была только иллюзия, игра света, а английскому кораблю удалось уйти. Неожиданно английский флагман изменил свою позицию. Видно, заметили кого-то в беде и направились на помощь. Пытаясь разглядеть происходящее вдали сквозь пороховой дым. Манной с Грэшемом наполовину оглохли от грохота. Им приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга.
И тут с топ-мачты раздался резкий крик. Новая группа английских кораблей, возникшая неизвестно откуда, атаковала испанские транспорты. Сидония расположил их на востоке, впереди главных сил.
Являлся ли Сидония храбрецом или человеком безрассудным? Он тут же приказал нескольким испанским судам защитить транспорты, однако «Сан-Мартин» последовал за английским флагманом и его ближайшим окружением.
— Что он говорит? — крикнул Грэшем Маниону, наблюдая за командующим.
— Поди разбери! — прокричал в ответ Манион. — Вроде как надеется, что наконец-то начнется настоящий бой.
«Сан-Мартин» устремился вперед. Над ним развевалось знамя, освященное в лиссабонском соборе. Английские корабли, заметив своего единственного преследователя, начали разворачиваться. Солдаты на корабле оживились: вот, наконец-то два адмирала начнут драться между собой как настоящие мужчины!
Первый из английских кораблей неожиданно развернулся бортом к «Сан-Мартину» и дал залп. Пять или шесть пушек с испанского корабля дали ответный залп. Одно из английских ядер обрушило флагшток на испанском флагмане. Трое или четверо испанских солдат упали на палубу убитыми или опасно раненными. Затем английский корабль уступил место следующему, дав ему возможность также повернуться бортом к испанцам.
— Ну вот! — Манион махнул рукой в отчаянии. — Пускай эти гады перестроятся и разнесут нас на части. А мы будем торчать тут — мы же очень смелые!
Лицо герцога оставалось непроницаемым. Английский адмирал не принял его вызова на бой, предпочитая оставаться на расстоянии и обстреливать «Сан-Мартин». Сидония не освободил Грэшема, и он находился в двух ярдах от человека, представлявшего собой самую заманчивую мишень для любого меткого английского стрелка и ввязавшего свой флагман в бой с пятью или шестью лучшими галеонами противника. Герцог все еще не отказался от своего вызова. Интересно, кто сейчас командовал английским флотом — Дрейк? Хоукинс? Фробишер? Сидония надеялся вовлечь его в непосредственное сражение борт о борт со своим флагманом, чтобы заставить в конечном счете англичан вступить в общий бой с превосходящими силами противника, а это был для испанцев единственный шанс победить в схватке.
Грэшем пережил, кажется, самый длинный час в своей жизни. Первоначальное чувство страха (он ведь находился на месте, открытом для обстрела) сменилось любопытством аналитика. Он стал следить за солдатами, суетившимися на палубе или сидевшими на мачтах и время от времени пытавшимися наудачу выстрелить по англичанам. Те же, в свою очередь, периодически стреляли по обитателям испанского флагмана. Потом Грэшем наблюдал за работой пушкарей, возившихся у орудий, следил за тем, как они отводят орудия назад, получают пороховые заряды у юнг, чистят стволы, заряжают орудия порохом, затем выбирают ядра, оценив их калибр на глаз, закладывают ядра в стволы, подкатывают орудия вперед, чтобы возобновить стрельбу, и фиксируют их, привязывая к борту толстыми канатами, от которых саднит даже загрубевшие руки матросов и солдат; затем они наводили орудия на цель, зажигали фитили и подносили их к запалу. А потом раздавался привычный для пушкарей грохот выстрелов. И все это они проделывают привычно, без лишних слов, часто не говоря ни слова… Когда стрельба стихала, тишину нарушал только стук молотков корабельных плотников, делавших мелкий ремонт там, где это требовалось для безопасности корабля. К счастью, дул не слишком сильный ветер, неспособный вызвать опасную качку и крен корабля, а потому ядра практически не могли поразить его ниже ватерлинии.
Прошел час или полтора, пока группа испанских кораблей не подошла вплотную к «Сан-Мартину» и не эскортировала его снова к главным силам флота. Затянувшееся странное сражение заканчивалось, шум боя сменялся обычным шумом моря. Герцог повернулся к Грэшему.
— Они не хотят с нами драться, — просто сказал он. На мгновение вся накопившаяся усталость командующего отразилась на его лице. Он заговорил без переводчика на ломаном, но вполне понятном английском языке. Значит, он понимал и все, о чем они говорили с Манионом. — Они хотят, — продолжал он, — только задержать нас. Я не могу сражаться, не могу и бесцельно стоять здесь, а потому мне остается только идти на соединение.
— Я уверен, герцог Пармский будет ждать вас там, — ответил Грэшем, сам прекрасно понимавший, насколько слабо звучат его заверения.
— Может быть, и так, — заметил герцог. — Только пятьдесят человек об этом уже не узнают.
За день «Сан-Мартин» потерял пятьдесят человек убитыми. Желание герцога Сидонии находиться в центре сражения, вызывая англичан на поединок, превратило его флагманский корабль в самый уязвимый из судов испанского флота. Англичане потрепали испанские транспорты с их конвоем, но эту атаку испанцам удалось отбить.
Испанцы в тот день показали незаурядную дисциплинированность и организованность, действовали слаженно и ритмично, невзирая на яростную канонаду англичан. Испанскому флоту был нанесен всего лишь незначительный ущерб.
— Вы можете спать здесь, на палубе, — произнес герцог. Это было честью. Адмиральская палуба всегда содержалась в чистоте, туда допускались только офицеры, непосредственно подчиненные командующему. К тому же впервые за много дней Грэшем мог спать пусть и на палубе, но зато вытянувшись во весь рост.
— С трехмачтовых галер, как и с других наших кораблей, — продолжал Сидония, — поступило подтверждение ваших слов. Действительно, если бы мы направили туда корабли, их затянуло бы на мель. — Герцог кивнул и удалился, очевидно, в свою каюту. Через несколько минут явился слуга, вручивший Грэшему прекрасно сшитую рубаху и офицерский плащ и сказавший ему несколько слов.
— О чем это он? — поинтересовался Манион.
— Сказал, эта одежда — из запасов самого герцога.
На другой день, в среду 3 августа, Грэшем проснулся с тяжестью в ногах и болью в животе. Видимо, сказывалась дрянная пища, которую они получали на корабле. А главное, он проснулся с чувством страха. Грэшем не знал, есть ли на свете люди, не знающие страха, но сам всегда считал: истинная смелость состоит в победе над страхом, а не в его отсутствии. Но сейчас ему действительно стало страшно. Неужели ему придется провести еще один день под пулями или ядрами врага? Это сильно отличается от единоборства с противником. Куда большая смелость требуется человеку, ставшему живой мишенью при обстреле.
Грэшему даже захотелось помолиться о даровании мужества, но он чувствовал: вряд ли его молитва будет искренней. Но оказалось, в тот день геройства от него не требовалось. Английские корабли предпочитали не подходить близко к испанским и держались на расстоянии, недосягаемом для ядер и пуль. В свою очередь, и они не понесли большого ущерба от испанской канонады.
— Наверно, пороху них на исходе, — предположил Манион, уже сделавшийся военным переводчиком Грэшема. — Правительство скупое, отпускает мало, а береговые города небось хотят приберечь порох и ядра для себя на случай, если испанцы там высадятся. Англичане стреляют слишком быстро, вот и не хватает пороха, ядер и всего прочего.
А потом наступил штиль, и оба враждебных флота стояли в бездействии. Корабли могли передвигаться со скоростью, не превосходящей скорости течения, около полумили в час.
4 августа английская флотилия расположилась у входа в Солент, намереваясь противодействовать любым попыткам испанцев высадить войска. Сильный ветер, подувший с побережья, заставил английские суда сместиться к северному флангу испанского флота. Снова начались перестрелки. И так как ветер стих, облака дыма повисли над кораблями.
— О Господи, опять началось! — воскликнул Манион. Видимо, он испытывал те же чувства, что и Грэшем.
Ветер, как будто дразня людей, то начинал бушевать, то совершенно стихал. «Сан-Мартин» в этот раз противостоял самому большому кораблю английского флота. В какой-то момент испанцам показалось, будто они подбили английское судно. На флагманском корабле началось настоящее торжество, когда английский корабль спустил лодки на воду и стал медленно отходить в сторону. С испанских военных судов раздались первые залпы, артиллерийские командиры громогласно приказали своим людям перезаряжать пушки. Но неожиданно на английском корабле подняли все паруса и на большой скорости оторвались от испанского флота. Преследовать английский корабль, принимая во внимание его скорость, было бесполезно. Теперь битва приняла спорадический характер. Тут и там возникали перестрелки.
— У них что, план такой? — крикнул Грэшем, обращаясь к Маниону. — Смотри, нас оттесняют от Солента, лишая всякой возможности высадиться на берегу.
— Следующая остановка — порт Кале! — усмехнулся Манион. Действительно, кроме Солента, Армада могла теперь остановиться только в этом французском порту, известном бурным течением, мелями и штормами. — По-моему, так получилось случайно. Дул бы сейчас нормальный ветер — он бы все равно туда подошел. Поганый ветер все решает за испанцев! Ну, все же нам ведь мог быть гораздо больший вред от этого чертова английского корабля-верзилы.
Это было правдой. «Сан-Мартин» после перестрелки с несколькими большими кораблями противника получил лишь незначительные потери.
— Ну вот, — прокричал Манион на ухо Грэшему, — они что, хотят повторения старой истории? Так и ко дну пойти можно!
Грэшем ничего не ответил. То, что он понял, заставило его подняться наверх к герцогу. Лицо Сидонии, как обычно, выглядело бесстрастным. Почти рядом с тем местом, где он стоял, как сразу заметил Грэшем, в палубные доски попала мушкетная пуля. Может быть, сам герцог, занятый тревожными мыслями, даже не обратил на это внимания. «Интересно, спал ли он ночью?» — подумал Грэшем. Поклонившись герцогу, он произнес:
— Милорд, мы дрейфуем на восток. Там, впереди, есть место, которое англичане называют Оуэрз, — мели и скрытые подводные скалы. Англичане ведут нас на них.
Герцог посмотрел вперед на волновавшееся море. На флагмане, конечно, имелся свой лоцман, а он наверняка руководствовался маршрутным указателем — описанием разных курсов, ориентиров для входа в гавани, опасных мест — на основании сведений, полученных от моряков. Правда, многие лоцманы презирали такие указатели, но таким образом они просто скрывали неумение читать.
Герцог вежливо кивнул Грэшему и дал приказ выстрелить из пушки, дав сигнал флоту. «Сан-Мартин» повернул на юг.
— А вы хотели бы быть нашим лоцманом? — Грэшему сначала показалось, что он ослышался. Не шутка ли это? — В конце концов, вы уже дважды выполняли эту роль.
— Милорд, мои знания мне не принадлежат, — ответил Грэшем. — Мой слуга плавал здесь, когда был ребенком. Увы, и его знания заканчиваются за пределами южного побережья.
Бой практически закончился. На адмиральскую палубу взошли два офицера, поклонились и стали что-то докладывать герцогу.
— «Они вне досягаемости для обстрела», — перевел Грэшему Манион.
— Пока еще не начались настоящие трудности, — шепотом сказал Грэшем. — Часть кораблей вела напряженный бой, а другая не сделала ни одного выстрела. Если распределить оставшиеся боеприпасы, то их хватит на два-три дня. А потом…
У бойцов всегда есть свои особенности жизни и выживания. Они привыкают и к недосыпанию, и к тоске или страху, и к нездоровой пище. Те, кому везет, умеют постоянно сосредоточиваться на самом главном, отсекая или подавляя страх, боль и тревогу. Те, кто к этому не способен, не могут жить сносно. Каждый день им кажется, их вот-вот убьют, и каждый рассвет для них наступает в ожидании новых бедствий.
— Вот интересно, — заметил Манион, когда они вечером ложились слать на палубе, — я о вас многого не знал, думал, что вы просто ученый, ну, и все такое. Много ли надо, чтобы вывести вас из равновесия. — Грэшем, укрывшись плащом, предложил вторую половину этого «одеяла» Маниону.
— Я совсем выйду из равновесия, только если буду слишком долго тебя нюхать, — ответил он. — Постарайся не дышать на меня, когда я сплю.
В пятницу, 5-го, и в субботу, 6 августа, на «Сан-Мартине» шла дружная работа. Матросы подняли на грот-мачте новый парус взамен порванного во время боя. Ныряльщики, худощавые, жилистые люди, наделенные огромной выносливостью, заделывали пробоины, находившиеся ниже ватерлинии. Насосы постоянно откачивали воду в разных местах. Грэшем встал спозаранку, разбуженный храпом Маниона. Он отправился в носовую часть судна, чтобы справить нужду, а когда возвращался назад, его тронул за плечо слуга герцога и пригласил следовать за ним.
Герцог стоял в окружении нескольких офицеров и смотрел туда, где находился следовавший за ним по пятам английский флот. Он то ли очень рано встал, то ли вообще не ложился.
— Сегодня вы, может быть, спасли наш корабль, — сказал герцог. Он обычно говорил, не повышая голоса, но от него исходила такая властная сила, что матросы и солдаты вполне искренне признавали его авторитет.
— Благодарю вас за такую оценку, но не уверен, что дело обстоит именно так, — отвечал Грэшем. — Ваши наблюдатели сами вполне могли заметить Оуэрз вовремя, а кто-то из лоцманов, очевидно, умеет правильно читать маршрутный указатель.
— Ваша наблюдательность делает вам честь. Вы ведь понимаете, что я вам не доверяю? — Последние слова герцог произнес мягко, без нажима.
— Никто не любит шпионов, милорд, — заметил Грэшем. — Да и откуда вам знать, вдруг я только и жду случая, чтобы перебежать обратно к англичанам, и могу нарочно дать вам вредоносный совет?
— В самом деле? — спросил герцог.
— Я надеюсь, что я работаю не ради Англии или Испании, а ради мира, — сказал Грэшем.
— Величавые притязания, — заметил Сидония. — И даже если это правда, кто сказал, что мир — наше естественное состояние? Разве мы не кричим, когда впервые приходим в этот мир? Разве моровые язвы, обычные болезни, боль от утраты близких, несчастная любовь не разрушают нормальную жизнь как богатых, так и бедных? Разве Господь по промыслу своему не поселил нас в мире, в котором жить означает страдать? И единственное свойство настоящих людей — готовность рисковать жизнью ради правого дела.
— Это действительно так, милорд, для тех из нас, у кого есть мозги в голове, для тех, для кого не существует проблемы голода и у кого много времени, чтобы подумать о смысле жизни, и тогда, может быть, нам дано будет постигнуть святость Христа и его учения.
— Вы говорите «нас»? — Герцога, как представителя древнего рода, слегка шокировало то, что его поставили в один ряд с незаконным сыном лондонского купца.
— Потому, милорд, что, как незаконный сын, я бродяжничал на улицах Лондона вместе с теми, у кого нет времени думать о жизни, а в поместьях моего отца встречался с деревенскими мужиками, которых нельзя назвать людьми в полном смысле и которых просто используют как рабочие инструменты. Герцог Медина Сидония хорошо знает — люди не равны.
— Господь не создавал всех людей равными, с их точки зрения. Он создал их всех равными перед Ним. — Герцог дал понять — он считает разговор законченным. — Нет ничего легче, чем проявлять сочувствие к бедным.
Грэшем подумал: герцог, должно быть, с уважением относится к душам всех людей, в том числе тысяч своих крестьян, но, полагал Грэшем, уважение к душе человека не обязательно означает признание его равным себе. Он продолжал:
— Легко забыть, что бедняки хотят жить, как и мы, также знают боль. — Он, видимо, забыл: герцог только что сам говорил ему о чем-то подобном. — Бедняков только легче использовать в качестве пешек в чудовищных властных играх. Я солгал своим испанским хозяевам. Я говорил, будто делаю все ради веры, но это неправда. Меня не интересует то, что королева Елизавета — еретичка. — Герцог слегка поднял брови. Не слишком ли разоткровенничался Грэшем? — Но меня волнует, — продолжал он, — что у нее нет наследников. Королева-девственница понимает: пока только она удерживает свою страну от гражданской войны, ее окружение будет всеми силами беречь ее жизнь. Но ее не волнует, что станет со страной после того, как ее самой не станет. А я думаю… Мне кажется, тогда и начнется гражданская война. Есть кучка сомнительных претендентов на трон… Взять хотя бы шотландского короля, сына Марии Шотландской, казненной нами. Но Шотландия — старый враг Англии. Есть глупая, вздорная баба Арабелла Стюарт, с королевскими претензиями, но без головы. Ну и наконец, еще один наш старый противник — король Испании. Я сам предпочел Испанию потому, что верю: Испания имеет достаточно власти, чтобы обуздать всю эту свору безответственной знати, подчинить и шотландского короля, и Арабеллу. Я верю — ее могущество обеспечит Испании победу. А для простых крестьян и их жен, чья главная забота — накормить их детей, так ли важно, будет ими править протестантская королева или католический король? Думаю, вовсе не так важно. Для них важно, чтобы установился мир, чтобы солдаты не вытаптывали их поля, не убивали их самих и их детей. Я решил — Испании необходимо победить в этой войне. А отсюда вытекали и остальные решения. Вот почему я выбрал Испанию, милорд. — Он поклонился герцогу. — Я выбираю свой путь не ради веры. Просто на этом пути будет гибнуть меньше людей.
— Вам не найдется места в новой Англии, — промолвил герцог после недолгого молчания, — даже если мы действительно завоюем ее. Ведь тогда власть будет в руках испанцев по происхождению. Вас поблагодарят и забудут. Вы будете в стороне.
— Очевидно, так и будет, милорд. Но я мало ценю жизненные блага, а тем более почести.
— У меня есть поместье в Андалусии, — задумчиво сказал герцог. — Земли там прекрасно обработаны крестьянами, работающими на них веками. На меня они смотрят как на наместника Господа на земле. Имение стоит мне больших денег, но земля платит за заботу сторицей. А какой удивительный аромат царит в апельсиновых рощах! Имением управляет человек умный, но порочный… Вы бы согласились в будущем управлять моим поместьем? Конечно, со временем будут всякие приемы при дворе. Но они, конечно, не дадут вам возможности занять высокие посты. А там вы будете жить на древней, мирной земле, вставать по утрам и вдыхать чистый воздух среди садов.
В воинственные времена, во времена общей борьбы и страданий, вдруг прозвучали простые, человечные слова. Грэшем почувствовал, что на глазах его появились слезы, но не досадовал на себя за непростительную слабость.
— Благодарю вас, милорд, — отвечал он. — От всей души! Но прежде чем думать о небесах Андалусии, мне надо разделаться с адом Ла-Манша.
Герцог от души рассмеялся, услышав ответ. Его смех открывал для Грэшема новые черты в характере этого человека.
— Вы правы, сейчас поправив меня. Молодость напомнила старости — не следует предаваться несбыточным мечтаниям. — Он встал. — Мы ведь сможем разбить ваш английский флот, не так ли?
— Нет, милорд, — прямо ответил Грэшем. — Английские корабли более быстрые и маневренные. Вы можете победить их только в ближнем бою, а они на это не пойдут, несмотря на все ваши смелые вызовы. Но вы вполне можете соединиться с герцогом Пармским и встать между его судами и английским флотом.
— Надеюсь, с Божьей помощью мы так и сделаем, — тихо произнес герцог. — Но отчего же герцог Пармский не отвечает мне?
На следующее утро герцог Сидония получил сводку: сто шестьдесят семь человек убито, двести сорок один ранен. Конечно, для Армады это были очень небольшие потери. Она потеряла также два корабля. Испанский флот выдержал четыре атаки противника. Почему же Грэшем ощущал горечь поражения?
В пятницу утром Сидония отправил еще один связной катер в Дюнкерк, умоляя герцога Пармского прислать ему боеприпасов и несколько небольших судов для вторжения в пределы, контролируемые английским флотом. Но больше всего он просил назначить место и время встречи между Армадой и его армией. В пять часов вечера в поле зрения испанцев появился Кале.
Лоцман с одного из португальских галеонов заявил: необходимо встать на рейде здесь. По словам лоцмана, если продолжать идти вперед, течение понесет Армаду через пролив в Северное море, в сторону от Англии. Его пожелание выполнили.
Английский флот также сделал остановку на безопасном расстоянии, получив подкрепление в виде тридцати кораблей. Наступила тяжелая пауза.
Глава 10
7–9 августа 1588 года
Гравелинское сражение
Грэшем надеялся — Анна уже в Кале. Герцог дал понять, что ни он, ни Манион не могут покинуть флагманский корабль, но согласился послать гонца навести справки об Анне.
— Вы всегда планировали использовать ее как прикрытие? — поинтересовался он.
— Нет, милорд, — ответил Грэшем. — Она появилась… случайно.
— Ну что, каковы наши дела, по-твоему? — спросил Грэшем у Маниона, когда они остались вдвоем.
— Да не очень чтобы, — отозвался тот. — Теперь же все зависит от герцога Пармского. А ваш здешний герцог увяз в дерьме. — Манион называл Сидонию «его герцогом», потому что Грэшем искренне восхищался спокойным мужеством и достоинством этого человека. — Течения в этом поганом месте действительно страшные. Только, если я правильно понял, герцог Пармский может провести хоть сто своих посудин с войсками через голландские каналы. А в Дюнкерке он мог бы дать нам хороших лоцманов и достаточно судов помельче, чтобы войти в гавань и защитить наши транспорты. Да, вы говорили, будто он владеет Антверпеном?
— Его значительной частью. Этого достаточно для того, чтобы устроить убежище для флота на Шельде, в пригородах Антверпена, — пояснил Грэшем.
— Значит, ему достаточно будет послать нам несколько лоцманов и выслать большой десант из Антверпена. Они там, — он махнул рукой в сторону, где стояли английские корабли, — не смогут этому помешать.
Грэшем невольно вздрогнул. Его не оставляло чувство, что здесь должно случиться нечто ужасное. Именно здесь решится судьба народов. Или все это было только следствием холода, голода и неутоленной жажды пить и пить холодную, чистую пресную воду, а потом смыть в ней морскую соль и грязь?
Переводчик герцога, отыскав Грэшема, сообщил ему:
— Катер дона Родриго де ла Гусмана прибудет через несколько минут. Дона Родриго посылали гонцом к герцогу Пармскому две недели назад. — И шепотом добавил: — Если не считать дона Родриго, вы последним встречались с герцогом Пармским. Наш герцог желает, чтобы вы выслушали доклад.
Едва дон Родриго ступил на борт корабля, как они поняли: что-то идет не так. Вернувшийся посланец выглядел возбужденным и встревоженным. Герцог стоял на палубе, к которой он, кажется, прирос с тех пор, как они приблизились к берегам Англии. Встревоженный дон Родриго переводил взгляд с герцога на его советников и на всех, собравшихся вокруг него. Новости, принесенные им, нельзя было сообщать на палубе при всех. Герцог Сидония понял это отнюдь не сразу.
— Перейдем в мою каюту, — произнес он наконец и сделал знак нескольким испанским командирам и Грэшему последовать за ним.
Человек десять вошли в просторную каюту герцога. Грэшем невольно вспомнил встречу в каюте Фрэнсиса Дрейка в Кадисе. В штабе герцога могло поместиться в три раза больше народа. Грэшем заметил в стене, выходившей на море, две пробоины от английских ядер. Одно из ядер раздробило крышку красивого резного деревянного сундука, стоявшего у стены.
— Милорд, — заговорил дон Родриго, — герцог Пармский посылает вам самые теплые приветствия. Он в восторге от мощи Испании, позволившей достичь дальних пределов, и не сомневается, что Англия уже трепещет перед посланцами истинной веры. — Сказав все это, гонец умолк.
— И что дальше? — тихо спросил герцог Сидония. — Что о нашем соединении?
— Герцог… герцог… — запинаясь продолжал дон Родриго, — герцог говорит, его войска будут готовы к отправлению через шесть дней. Испанские дворяне-командиры не ахнули, услышав ужасную новость. Их воспитание и вековые традиции не позволяли им публично выражать такие эмоции, как изумление и негодование. В каюте повисло внезапное молчание.
Шесть дней! Еще шесть дней сто двадцать восемь кораблей на опасном рейде, почти без пороха и ядер, вблизи враждебного флота.
— Милорд… — Дон Родриго заговорил с трудом, как тяжелобольной, но постепенно его голос окреп. — Милорд, когда я оставил Дюнкерк, никаких признаков войск герцога там не было. Герцога никто не видел ни в Дюнкерке, ни в Ньюпорте. Герцог передвигается между Антверпеном, Гентом и Брюгге, и в его перемещениях нет определенной логики. Суда, которые мне случалось видеть в обоих местах, малочисленны и ненадежны по своему состоянию. На них не погружено никаких припасов, нет даже парусов. Милорд, войска герцога не готовы! Суда, если они существуют, не готовы. Похоже на то, как если бы его светлость герцог Пармский только сегодня получил уведомление о нашем отплытии из Лиссабона.
— Сколько надо времени? — тихо спросил герцог Сидония.
Дон Родриго беспомощно огляделся. Он сам испытывал неловкость, сообщая то, что должен.
— Для высадки войск… Это только мое мнение, милорд, я могу ошибаться… По-моему, две недели. Может, даже больше. Я уже не говорю о том, что надо, чтобы встретиться с нами, проплыть по мелководью под носом у проклятых голландцев с их легкими суденышками.
— Благодарю вас, вы хорошо сделали свое дело. — Герцог улыбнулся дону Родриго, принимая от него пакет, где, как теперь было известно, содержались теплые приветствия герцога Пармского и пустые обещания собрать войско (которое уже должно было быть собрано). — Прошу вас всех меня оставить. А вы, Родриго, идите к моему эконому, пусть он отпустит вам моего лучшего вина, а вы угостите им моих боевых товарищей и друзей. Мы все соберемся снова через полчаса. Я должен пока остаться один и ознакомиться с письмом герцога Пармского.
Герцог задержал взгляд на Грэшеме, дав ему безмолвный приказ остаться. Испанские дворяне откланялись, как бы не замечая оставшихся англичанина и его слугу. Герцог сломал печать и стал читать письмо из Нидерландов. Потом он повернулся к англичанину:
— Я так долго ждал этих слов, и вот я их дождался. Слова — и все!
— От них… нет пользы? — спросил Грэшем.
— Мне нужна армия, армия вторжения, состоящая из обученных людей. Мне нужен порох, пули, ядра. А я получаю… слова.
Он встал, не без усилия, и подошел к окну каюты, выходившему на корму.
— Две недели… — продолжал он. — Наверное, если бы сумел дойти до Шельдта или даже до Дюнкерка, мог бы поставить мой флот пред этой армией и заставить их сесть на корабли… Но без лоцманов, даже без обещания дать лоцманов мой океанский флот не сможет совершить такое путешествие вдоль берегов. Я должен ожидать армию герцога здесь, на опасном рейде у берегов нейтральной страны. А ведь я знаю: его войско не прибудет, и хорошо, если моему флоту удастся спокойно пробыть здесь еще сутки. — Лицо герцога за несколько минут осунулось, глаза запали. — Ну, разве я не прав, мой мечтательный английский друг?
— Вы правы, — ответил Грэшем, на глазах которого снова выступили слезы. Он не смел моргнуть, чтобы они не появились на щеках. — Вы проиграли.
Сотни людей вокруг жили обычной жизнью и занимались повседневными делами, мешавшими им задумываться. Они молились и уповали в своей жизни на Господа, веря, что Он их услышит. Эти люди верили в мудрость герцога Медины Сидонии, и многие из них вспоминали поцелуи жен или любимых, ожидавших их возвращения. Они уповали на данную им Богом веру в бессмертие их души и надеялись на спасение души. Они не думали о том, что люди и события, на которые они были бессильны повлиять, обрекли многих из них насмерть.
— Вас выгонит из гавани либо шторм, либо англичане, — грустно промолвил Грэшем. — А ведь вы будете драться, милорд? — На сей раз Грэшем не старался скрыть слезы.
— Драться? — не без удивления переспросил герцог. — Ну конечно, я буду драться. Столетиями моя страна стояла между христианским миром и турецкой империей. Когда пал Рим, а затем и Константинополь, разве мы считались с трудностями? Разве мы рассчитывали численность противостоящих нам орд? Нет. Мы дрались. И победили. И спасли христианский мир.
— Но сейчас вы проиграете!
— Иногда, молодой человек, люди должны верить в чудеса. И бывает, люди должны уметь проигрывать сейчас, чтобы их дети выиграли позднее. А те, кто готов пожертвовать жизнью, становятся сильнее — ведь они освобождаются от страха. Страх смерти, а не она сама по себе причина нашей слабости.
— Но ваша репутация… — Грэшем презирал себя за подобные слова. Должно быть, какой-то злой дух подсказал ему их.
— Конечно, меня осудят. Моя семья, мои дети пострадают. Поэтому я сейчас стою перед выбором настоящих мужчин. Так уже не раз бывало в моей жизни. И, как это ни забавно, кажется, перед вами такой вопрос встает впервые.
Грэшем подивился способности герцога рассуждать так легко в дни, когда величайшая военная миссия его страны может закончиться провалом и он будет за это отвечать.
— Что это за вопрос? — произнес Грэшем.
— Конечно, наша репутация в свете много значит. Но я давно убедился: при всей ее важности она довольно условна, даже, если угодно, она фикция. Когда все рушится и погружается во тьму, то отнюдь не суждение света имеет для нас значение перед лицом гибели. Имеет значение оценка нашей совести. Сделал ли я все от меня зависящее, чтобы поступить достойно? Не замарал ли я себя трусостью, себялюбием, тщеславием, алчностью? Я люблю, когда люди считают мои действия достойными. Но в итоге жизни важнее всего становится моя собственная честная самооценка.
— И какой же будет эта самооценка? — спросил Грэшем тихо.
— Зависит от того, встречу ли я смерть, как подобает бойцу. Мы не властны над многим в жизни, но мы властны стоять до конца.
— Что это? — удивился герцог.
— Детские стишки, — ответил Грэшем. Он сделал огромное усилие, чтобы овладеть собой. — Милорд, я надеюсь, вы не погибнете. Я надеюсь, справедливость восторжествует.
— Я не настолько глуп, чтобы надеяться погибнуть, — промолвил герцог с легкой иронической усмешкой. — Просто, боюсь, это от меня мало зависит, а уж меньше того — торжество справедливости. Вы можете идти. Англичанину не очень пристало участвовать в совещании, которое я хочу созвать сейчас.
— Нечего сказать, попали мы в переделку, — заметил Манион, когда они опять остались вдвоем. — Прилив к вечеру достиг пика, и ветер весь день крепчает. Если у бывших наших найдется достаточно брандеров, они выкурят нас с этого рейда.
— Испанские брандеры в Кадисе ничего не добились, — напомнил Грэшем.
— Там ветра путного не было, да навряд ли и приливное течение такое было, о котором можно говорить.
— Так что же делать герцогу? — спросил Грэшем.
— Послать все куда подальше и возвращаться домой.
— Но он будет драться.
— Тогда он круглый идиот, который дела совсем не знает. Если он старается ради своей чести, то и ладно! Но только бьюсь об заклад, нам-то он не позволит послать все к черту и возвращаться домой.
Они наблюдали за маленькими суденышками, сновавшими между кораблями Армады, доставляя с берега провизию, которую разрешил поставлять относительно дружелюбный одноногий правитель Кале. Он потерял ногу, стараясь снова вернуть Кале, отобрать его у англичан, и он не питал любви к королеве Елизавете. Моряки понимали, что происходит с ветром и течением, и напряженно следили за морем и за англичанами. Напряжение распространилось и на армейских солдат, которые решили, что в этой компании им остается только погибнуть. В то утро Грэшем впервые заметил даже пятна ржавчины на щитах некоторых испанцев, чего раньше не наблюдалось — их старательно счищали. Все на борту «Сан-Мартина» двигались как-то медленнее, как будто у них болели кости или они носили ранцы за спиной. Однажды Грэшем даже застал плачущим на палубе «Сан-Мартина» одного юного, семнадцатилетнего, джентльмена. Тот в ужасе пытался спрятать лицо, поняв, что его заметили. Грэшем протянул было руку, но потом бессильно опустил ее.
— Нелегкое это дело — помирать в таком возрасте, — сухо заметил Манион. Его хозяин за последние месяцы обрел удивительную жизненную силу. Грэшема и юного испанца разделяло мало лет, но по опыту эти несколько лет равнялись нескольким десятилетиям.
Моряки Армады боялись брандеров. Три года назад голландцы уже использовали специальные брандеры при попытке снять испанскую осаду с Антверпена. На одном из таких судов находилось три тонны взрывчатки. С ее помощью удалось взорвать укрепленный мост. При этом погибло восемьсот человек и ранения получило еще около тысячи. Изобретателя звали Федериго Гамбелли. Все знали: он в Лондоне и работает на англичан.
— Ваша работа кончена, — сказал Манион Грэшему. — Если наши парни… виноват, если англичане сделают свою работу, то они здесь все сожгут к чертям. От вас ничего не зависит. Девчонка ждет вас в Кале. А меня ждет половина девчонок Лондона.
— И поэтому надо доплыть до берега? — продолжил за него Грэшем. — Что ж, плыви. — Он взял Маниона за руку и посмотрел ему в глаза. — Это ведь с самого начала не твоя, а только моя война. Ты уже и так много сделал и многое потерял. Оставь меня — так будет справедливо.
— А вы почему не хотите?
— Не могу, — Грэшем и сам понимал: его доводы звучат слабо. — Я уважаю этого человека больше, чем кого-либо из тех, с кем сводила меня жизнь. Его будут проклинать за сделанное. Но я хорошо узнал его. Он понимает, чем все это кончится, понимает, что погибнет. И все же продолжает выполнять свой долг, продолжает драться за свое дело. Это не просто храбрость, это настоящее благородство.
— Ну так напишите ему письмо, выразите ему все это, а потом прыгайте за борт.
— Не могу. Я должен остаться с ним до конца.
— Давайте пока спать, — промолвил Манион. — Завтра встанем еще затемно и подберемся поближе к корме.
— Это зачем?
— Поганый брандер подожжет сначала носовую часть. Разница есть, а?
— Так ты остаешься! — Грэшем подумал, что в последнее время у него часто глаза на мокром месте, и пора с этим кончать. Он явно недооценивал свою усталость и перенапряжение в последние месяцы.
Хотя воспоминания о рейде в Кале сильно смазались в памяти Грэшема, именно этот день он помнил очень живо. Тысячи людей, сплоченных железной дисциплиной, дрались за безнадежное дело, сражались за дело, требовавшее огромных, казалось, бессмысленных жертв, с удивительным мужеством. Каким образом среди всего безумия жизни людской род может обнаруживать столько храбрости и благородства?
Стрельба началась еще в полночь. Внезапно зазвонил колокол на одном корабле — сигнал тревоги, а затем ему ответили на других кораблях. И вскоре в гавани Кале начался перезвон, словно в соборе. Повсюду сновали сторожевые катера и баркасы, готовые выполнить свою задачу. Два передовых брандера испанцам удалось перехватить и оттащить в сторону, однако сильный ветер и прилив значительно ускорили движение английских брандеров. Сгорели один из катеров и один из баркасов, посланных на перехват. Затем начался артиллерийский обстрел судов, стоявших на рейде, и прогремело несколько взрывов.
Впоследствии англичане утверждали, будто на Армаде началась паника. Но Грэшем не видел ничего подобного. На ста с лишним кораблях перерезали тросы, оставив якоря на дне, и, уйдя от брандеров, испанские корабли организованно вышли из гавани. Дисциплина оставалась на высоком уровне. Матросы поднимали паруса, солдаты за пять минут поднялись и построились по сигналу тревоги. Ни один корабль не столкнулся с другим.
— Да поможет нам Бог! — воскликнул Манион на рассвете. Это было сказано не механически, он действительно выразил то, что чувствовал сам и многие его товарищи. «Сан-Мартин» ушел от двух брандеров и бросил запасной якорь всего в миле от прежней стоянки. Но корабль оказался в одиночестве.
«Сан-Хуан», «Сан-Марко», «Сан-Фелипе» и «Сан-Матео» находились еще в пределах слышимости. «Сан-Лоренцо», главная из трехмачтовых галер, медленно двигалась вдоль берега с поврежденным рулем и сломанной грот-мачтой. Большая же часть Армады оказалась разбросанной по морю и двигалась на север по направлению ветра.
— Наверно, мало у кого из них есть запасные якоря, — заметил Манион. — Некоторые бросали даже два якоря, чтобы получше там закрепиться. А с одним якорем и при таком сильном ветре лучше вообще стоять на месте.
Между тем передовая группа английских судов начала двигаться вдоль берега, преследуя поврежденную галеру.
— Ну, какой бы он там ни был храбрый, а помочь ничем не сможет, — заметил Манион.
— Он хочет, чтобы мы с горсткой кораблей встали между английским флотом и остальными судами Армады, и надеется, что успеют подтянуться главные силы. Безумие! Их раз в десять больше, чем нас здесь. Они нас разнесут на куски.
— Ну да, — согласился Манион. — Хотите наблюдать все это с палубы, или лучше куда-нибудь спрятаться?
Авангард англичан, около двадцати кораблей, направился в сторону пяти испанских судов. Ведущий корабль, слегка изменив направление, шел прямо к «Сан-Мартину». Начальники артиллерии стали отдавать приказы:
— Стреляйте, только подпустив их достаточно близко! Берегите заряды! — На флагмане оставалось слишком мало пороха и ядер. Мушкетеры и аркебузиры заняли свои позиции. Многие из них крестились, глядя на приближающиеся неприятельские корабли.
— А этот — новый, — заметил Манион, глядя на корабль, шедший к «Сан-Мартину».
Английский корабль, не открывая огня, подошел на пушечный выстрел, затем — на мушкетный и, наконец, на пистолетный выстрел, не более ста ярдов. Он развернулся и стал бортом к «Сан-Мартину». Теперь оба корабля стояли так близко друг к другу, что Грэшему казалось: достаточно протянуть руку, и можно будет пощупать тех, кто находился на палубе неприятельского судна. И тут на капитанском мостике Грэшем разглядел своего главного врага, сэра Фрэнсиса Дрейка, оравшего на своих пушкарей, чтобы они не стреляли без команды. Дрейк оглянулся. И на мгновение их глаза встретились.
Корабль Дрейка дал бортовой залп по «Сан-Мартину». С такого близкого расстояния храбрый корабль еще не обстреливали.
Снизу раздались вопли людей. Одно из ядер пробило корпус корабля и опрокинуло одну из больших пушек, еще не сделавшую ни одного выстрела, так что половину орудийного расчета придавило тяжелым лафетом. Корабельный юнга, получивший опасную рану в живот, полз по артиллерийской палубе, оставляя за собой кровавый след… Корабль Дрейка быстро отошел в сторону, позади находился еще один английский военный корабль, готовый подойти к испанскому флагману на такое же опасное расстояние.
«Сан-Мартин» дал ответный залп всего из нескольких пушек. Четверть часа требовалось для перезарядки пушек, а английских военных судов насчитывалась целая дюжина, поэтому надо было, чтобы часть орудий, когда понадобится в следующий раз, могла выстрелить сразу.
Не сговариваясь, Грэшем и Манион стали переносить раненых, которых можно было перемещать, туда, где их товарищи могли перевязать их и отнести к корабельному хирургу.
Казалось, не будет конца атакам англичан, грохоту их пушек и пушек «Сан-Мартина», треску мушкетных выстрелов… Грэшем заметил: солдаты стали неохотно перезаряжать пушки. Хотя положение сложилось очень тяжелое, однако у испанцев впервые появилась возможность поражать цели на борту английских кораблей из простого стрелкового оружия. Стреляя из пушек, они нанесли бы больше вреда англичанам и лучше обеспечили бы свою безопасность, но в бою люди далеко не всегда следуют логике. Вскоре Грэшем и Манион неожиданно для самих себя стали обслуживать одно из орудий, превратившись на время в пушкарей под командой артиллерийских офицеров.
«Сан-Мартин», казалось, превратился в собственную тень. Кровь текла из шпигатов и пушечных бойниц. Большой английский галеон подошел очень близко к испанскому флагману, намереваясь расстрелять его из пушек с расстояния пистолетного выстрела. Другие английские суда стали заходить слева, хотя, судя по числу выстрелов, они сами испытывали недостаток в боеприпасах.
Прошло четыре или пять часов жуткой канонады. Почувствовав, как у него вдруг потемнело в глазах, Грэшем осторожно потрогал свою голову. Его ранило осколком дерева. Волосы сделались влажными от крови. Манион схватил его за руку.
— Давайте на палубу! — твердо заявил он. — Надо отвести вас к хирургу, он наложит перевязку, а может, и ампутирует вашу голову.
Они поднялись по лестнице наверх. Там на палубе стояло ведро с морской водой — на случай пожара. Не церемонясь, Манион вылил воду на голову Грэшему. Соленая вода обожгла открытую рану. Как во сне Грэшем смотрел на людей, перезаряжавших пушки, стрелявших, видел, как падали раненые. На все это, казалось, не обращал внимания полуобнаженный ныряльщик, обвязавшийся канатом. Он кивнул своему помощнику, встал на перила и, двигаясь с удивительной грацией, нырнул в холодное море. Это был один из трех корабельных ныряльщиков, которые заделывали пробоины в корпусе, в том числе во время сражений.
Как это ни удивительно, но благодаря высокому искусству мореходства и удивительному мужеству и отваге моряков большие корабли Армады действительно стали один за другим подходить к своему флагману, отвлекая на себя огонь англичан и образуя строй, который сначала лишь отчасти напоминал прежнюю форму полумесяца. Но со временем строй обрел прежнюю силу.
«Сан-Мартин» сильно пострадал во время неравного боя. По оценке его защитников, около четырех сотен ядер попало в его корпус, но он продолжал плыть и продолжал сражаться. Десять — пятнадцать английских кораблей собрались вокруг испанского галеона, как волки вокруг своей добычи. Но дважды «Сан-Мартин» вырывался из кольца и даже сам помогал другим осажденным кораблям. Команда «Сан-Матео» была поражена, когда «Сан-Мартин» оказался рядом. Этот корабль пострадал еще больше. Половина команды погибла, кровь текла по палубам, ядер не осталось. Но капитан Диего де Пименталь гордо стоял на мостике полуживого корабля. Им предложили эвакуироваться, но капитан взамен отослал спасательные лодки и попросил ныряльщиков заделать пробоины.
Так продолжаться больше не могло. Никто не знал, чем разрешится жуткий день. И вдруг в четыре часа дня на поле морской битвы обрушился страшный шквал. Прошло, может быть, полчаса, пока противостоявшие флоты сражались с морской стихией, а не друг с другом. Английские корабли, по-видимому, мало пострадавшие во время стычек, шли на парусах по краю района, затронутого штормом. Корабли Армады под рваными парусами, плохо державшими воздушный поток, просто двигались на северо-восток по направлению ветра.
Шторм стих, но развел в разные стороны заново сгруппировавшуюся Армаду и английский флот. Грэшем, уставший свыше всякой меры, прислонился спиной к лафету орудия, которое он обслуживал. Кто-то тронул его за плечо.
— Почему они ушли? Отчего не атакуют? — спросил герцог, говоривший без переводчика (тот был ранен). Грэшем повернулся к Маниону, и тот заговорил с ним прямо. Им всем, конечно, было не до формальностей.
— Скорее всего у них кончился порох, — ответил Грэшем. — Да и ветер относит нас на север, в сторону от земли герцога Пармского. Зачем им рисковать, если ветер делает всю работу за них.
Герцог кивнул и посмотрел вдаль, за корму, туда, где виднелись паруса английских кораблей. Он был в одной тунике. Два своих плаща он раздал: один — раненому офицеру, другой — юнге со сломанной ногой, теперь лежавшему в его каюте. За ночь они потеряли три корабля. «Сан-Матео» и «Сан-Фелипе», едва ли уже способные держаться на воде, сели на мель на фламандском побережье. К утру ветер снова усилился. Половина кораблей к этому времени стали неуправляемыми из-за состояния парусов и мачт. Ветер нес их на северо-запад. Впереди было фландрское побережье.
Герцог велел бросить оставшийся якорь. Из этого не вышло ничего путного. Дно было слишком мягким, и якорь не мог надежно выполнять свою роль, а приливное течение продолжало нести корабль к песчаному берегу. Он отдал приказ измерить глубину моря с помощью лота. В «Сан-Мартине» было пять морских саженей. Если глубина воды меньше, значит, корабль сядет на мель, перестанет быть живым, сражающимся судном и превратится просто в громоздкую мишень для англичан.
— Семь с половиной морских саженей! — крикнул моряк с носовой части судна.
— Семь! — объявил солдат на мачте.
— Шесть с половиной, — доложил следующий.
Грэшем и Манион сидели, обнявшись, у фальшборта, глядя куда-то вдаль невидящими глазами. Снизу на палубу поднялся корабельный священник. Герцог встал на колени и тихо попросил исповедать его. Священник поднял дрожащую руку. Все, кто находился на палубе, также опустились на колени, склонив головы. Все они молча молились. И тут раздался возглас:
— Шесть морских саженей!
Люди, молившиеся на палубе, вздрогнули от неожиданности.
А Грэшем думал о том, кто из людей будет его помнить, когда его не станет. Конечно, это был бы Манион, но они скорее всего погибнут вместе. Его будет помнить Джордж. Может быть, и Анна, но она может проклясть его. Помнить его будут, видимо, Толстяк Том и Алан Сайдсмит в Кембридже, а также Спенсер, Инайго Джонс, Бен Джонсон в Лондоне…
Он поднял голову и посмотрел на огромное развевавшееся на грот-мачте знамя «Сан-Мартина». Его кончик показывал в сторону песчаного берега. И вдруг направление изменилось, словно мощная невидимая рука развернула знамя. Оно реяло на ветру, «указывая» теперь обратное направление — в море. Ветер внезапно сменился на противоположный.
— Шесть с половиной саженей! — раздался радостный вопль. Вся команда застыла в ожидании.
— Семье половиной саженей!.. Восемь с половиной!
Люди вскочили на ноги. Матросы обнимались, повсюду слышались торжествующие возгласы.
— Благодарение Богу! — Голос герцога прозвучал негромко, но его услышали все. Герцог встал. Он посмотрел на своих людей, так храбро дравшихся и проливших столько крови, и они снова опустились на колени. Молились ли люди когда-нибудь еще так же истово, как они, руководимые духовником своего герцога?
Вскоре после этого герцог снова вызвал Грэшема (на сей раз рядом с ним находился переводчик) и сообщил: один из кораблей Армады несколько дней назад захватил в плен английское рыболовное судно.
— На борту оказался неожиданный груз, — сказал он. — Девушка-испанка, по ее словам, направлявшаяся в Кале, которая назвалась Мария Анна Люсиль Риа де Сантана. — Грэшем вздрогнул. Герцог продолжал: — Говорят, по ее словам, она вынуждена была бежать из Англии из-за ее связи со шпионом. Они решили не отсылать ее обратно в Англию, а передать на другой наш корабль, на «Сан-Матео».
У Грэшема упало сердце. Тот самый корабль, отнесенный на мель на фландрском берегу! Его команда либо стала добычей моря, либо была захвачена врагами-голландцами.
— Но там решили — девушке не место на таком корабле, — продолжал Сидония. — На борту одного из грузовых судов, несмотря на мой приказ, имеются женщины, и ее также отправили туда.
Герцог помолчал немного, затем заговорил вновь. Грэшем не решался задавать вопросов.
— Я бы снова сражался с англичанами, если бы мог, — сообщил Сидония. — Но ветер лишил меня такой возможности. Теперь нам остается только пройти с флотом вдоль северного берега Шотландии, а потом, миновав Ирландию, вернуться в Корунну, чтобы возобновить сражение в другое время. Я уже не могу даровать победу моему королю. Могу лишь спасти флот. — Он испытующе посмотрел в глаза Грэшему. — Я думаю о вас лучше, чем вы полагаете. Я решил: вы сядете на баркас, доберетесь до грузового судна и встретитесь с вашей подопечной. Вы можете доставить ее в Кале. Я не ожидаю вашего возвращения сюда.
Грэшем начал было благодарить Сидонию, но тот поднял руку.
— Не говорите ничего. Просто идите, — сказал он. — Может быть, мы еще увидимся. В Испании или даже, кто знает, в Англии.
Грэшем низко поклонился герцогу. Баркас быстро понес молодого англичанина туда, где находились грузовые суда. Он оглянулся на пострадавший в боях флагман. На палубе корабля он, Генри Грэшем, заново родился. Он теперь уже навсегда перестал быть ребенком. Его служба у Уолсингема оказалась тупиковым путем.
Анну он увидел, как только ее привели на палубу. Многое напоминало об их первой встрече — теперь уже целую вечность назад. Она была в рваном платье и с нечесаными волосами, но характер ее оставался таким же твердым и упрямым, а красота стала еще заметнее из-за отсутствия косметики (да Анна в ней и не нуждалась). И она изменилась — она также перестала быть ребенком. Анна улыбалась, и эта улыбка говорила о многом. За ней стояло понимание, в каком недобром и ненадежном мире приходится жить людям, так что немногим из людских планов суждено в нем осуществиться. Но ее понимание также означало и готовность принять многое в этом мире.
Они были немногословны при встрече — им не требовалось красноречие.
— Нам, кажется, суждено встречаться на море, — сказала Анна.
— С вами… хорошо обращались? — спросил он.
— Женщины здесь спокойнее мужчин. И они очень добрые, — просто ответила она. Анна посмотрела ему в глаза и добавила: — Я здесь единственная девственница. А это, кажется, единственное достояние, которое можно потерять, но нельзя вернуть.
Небо потемнело, облака стали низкими. Ветер, гнавший Армаду все дальше на север, мешал им попасть в Кале, хотя их баркас был, конечно, куда более маневренным, чем большие корабли. С большим трудом продвигались они вперед, держась как можно ближе к берегу. Их лодка не являлась сколько-нибудь завидной добычей для грабителей, и большие английские корабли не стали бы преследовать ее здесь, рискуя сесть на мель. Лишь один англичанин, знавший о больших испанских кораблях, оказавшихся на мели у этих берегов, был слишком алчен, чтобы упустить такой шанс на добычу, и готов был обшарить все прибрежные воды в поисках попавших в беду испанских галеонов, чтобы добыча не досталась не заслужившим ее, с его точки зрения, голландцам.
Его звали Фрэнсис Дрейк.
Корабль Дрейка «Месть» возник перед беглецами неожиданно. На мгновение им даже показалось, что эта громадина расколет их лодку надвое, но в последнюю минуту корабль замедлил ход. С помощью трех специальных крюков их баркас подтянули к борту «Мести». Сверху спустили веревочную лестницу и приказали им подняться на борт. Матросы приветствовали появление Анны свистками и воплями.
— Так, так, — процедил сэр Фрэнсис Дрейк, когда перед ним предстали Грэшем и Манион. — Вот человек, дезертировавший из Англии. Человек, которого я вчера видел рядом с герцогом Мединой Сидонией на его флагмане. И теперь его повесят за предательство.
Глава 11
Август — сентябрь 1588
Лондон
Дрейк, говоря о виселице, возможно, имел в виду, что он повесит их сам. Но пока Грэшем и Манион лежали связанными в каком-то вонючем трюмном помещении. Дрейк едва замечал Анну. Но к облегчению Грэшема, он успел заметить, что ее поместили в одну из кают под капитанским мостиком. Грэшем и Манион лежали на досках в полной темноте. Раньше здесь было хранилище пороха, а в таких помещениях никогда не вешали фонарей и не держали огня.
— Говорят, будто уныние — худший из всех грехов, — сказал Грэшем. — Ведь если ты впал в уныние — значит, не веришь, что Господь может простить тебя.
— Значит, худший из всех? — отозвался Манион из темноты.
— Ну да, — ответил Грэшем. Он и не ожидал услышать ответ, а говорил больше для того, чтобы облегчить душевную боль.
— Ну, это хорошо, — произнес Манион.
— Хорошо? Чего же тут хорошего?
— Ну, будь это обжорство или похоть, для меня было бы хуже. Если все это закончится благополучно, я не смогу расстаться ни с тем, ни с другим качеством, и было бы скверно, не будь у нас надежды на прощение.
— Что значит «закончится благополучно»? Все закончится петлей на наших шеях, если Дрейк сделает по-своему.
— Ну, как говорил еще мой прежний капитан, пока есть жизнь, есть и надежда.
— Твой прежний капитан? Тот, что попал на костер к испанцам?
— Всего не предусмотришь.
Вслед за его словами из темноты послышался шум какой-то возни, металлический звук и вздох облегчения.
— Вот ослы! — проговорил Манион. — Обыскивать не умеют. Я всегда держу свой ножик привязанным к ноге. Кто туда сунется, тот смелый человек, доложу я вам.
Вскоре Манион на ощупь нашел Грэшема, разрезал путы и освободил его руки.
— Теперь мы хотя бы сможем мочиться в углу, а не под себя, — заметил он. — И не только мочиться… Веревку держите в руках и обвяжите ею руки, когда они придут. Они ничего не заметят. Они теперь сами не свои после боя.
— Да, я обратил внимание, — промолвил Грэшем. — Но корабли-то у них почти не пострадали, не то что у испанцев.
— Наверно, тот ваш сифилитик из Лиссабона постарался. Известно же: если ядро не остудить правильно, оно может разлететься на куски, как только выйдет из ствола. А что до них самих, то они, видать, жили впроголодь. Королева у нас скорее удавится, чем выдаст на корабли запасов больше чем на месяц. А они сколько находились на море? Да из того, что им дают, половина небось гнилая.
— У испанцев то же самое, — заметил Грэшем. — С нами то они что сделают? Уморят голодом? Доведут до корабельной лихорадки?
— Да уж постараются, наверно. Ну, там видно будет. А лихорадка у нас давно бы уже была и без них, если бы была нам суждена. Возьмите пока вот это. — Он передал Грэшему два куска вяленого мяса.
— Откуда это у тебя? — изумленно спросил тот.
— Я всегда стараюсь зашить впрок три-четыре куска за подкладку. Съешьте сейчас. Если они будут морить нас жаждой, вам она уже не пригодится. Надо использовать всякое благо, пока оно еще существует.
Они принялись жевать мясо, твердое, как железо, осторожно, чтобы не сломать зубы.
Спас их Бетвик. Люди Дрейка действительно голодали половина его команды была больна, многие умирали. Он решил приостановить пиратские действия и послать лодки в этот торговый город, не раз переходивший из рук в руки в беспокойной истории Англии и Шотландии. Их полупьяные тюремщики растворили двери и бросили на доски буханку хлеба, свежую еще третьего дня, и кожаную бутыль с вином. Один из матросов засмеялся и опустил два яблока в пространство между досками.
— Эй вы, — заорал он, — становитесь на колени и начинайте искать, а мы посмотрим!
Оба матроса тряслись от смеха, глядя на Грэшема и Маниона, которые со связанными (как казалось со стороны) руками, встав на колени, пытались схватить яблоки зубами. Они продолжали смеяться, и закрыв за собой двери.
К тому времени, когда их наконец вывели на палубу «Мести», Грэшему казалось, что он уже ослеп. Их с Манионом даже не ввели, а наполовину внесли в лодку, а затем положили на спину лошади, словно поклажу.
— Я сражался на «Сан-Мартине», — сказал Грэшем. Он плохо различал конвоиров-моряков, видел только силуэты людей. — Я стоял в бою как настоящий мужчина, так же как и тот человек. — Он мотнул головой (руки и ноги у него были снова связаны) в том направлении, где должен был находиться Манион. — Должен ли я после этого проехать по Лондону кверху задницей? Или мы заслужили право ехать, подняв головы? Мы ведь ни о чем не просили вас там, на море, верно? Мы дрались до конца. А здесь я прошу вас разрешить мне и моему слуге ту честь, на которую имеют право солдаты.
Те, к кому он обращался, сами являлись достойными воинами. Они перерезали путы на ногах Грэшема и, оставив связанными руки, посадили его на лошадь, которую для страховки вел на поводу передний всадник. Так он ехал по улицам Лондона, по которым еще недавно скакал с триумфом, вернувшись из похода Дрейка. Теперь же он был арестантом.
Пятьсот лет назад, захватив Англию, норманны построили в Лондоне два символа власти — Тауэр и собор Святого Павла, как бы желая показать: лондонские правители имеют власть не только над телами, но и над душами людей. В Тауэр и привезли Генри Грэшема. По сомнительного качества мосту через ров его провезли через Львиные ворота, потом, назвав пароль, его конвоиры вместе с ним опять-таки по мосту проследовали в Средний Тауэр, откуда по третьему мосту они попали в Переходный Тауэр, где находилась особая тюрьма с тремя обширными башнями. Но это не было конечным пунктом. Участь Грэшема оказалась хуже. Его отправили в Белый Тауэр и повели по нескончаемой каменной лестнице, ведущей вниз. Отворилась огромная, тяжелая дверь в стене.
Грэшем увидел дыбу.
Ее часто показывали заключенным, так как один лишь вид ее вызывал у тех ужас и заставлял подписывать все, что требуется. На достаточно простом, с виду похожем на огромную деревянную кровать, орудии пытки тело истязуемого человека растягивали, причиняя ему адскую боль, так что мышцы, жилы и все тело начинали гореть, как в огне. Никто не мог сойти с дыбы, человек мог только упасть с нее. Его душа была после этого такой, как и его тело, и он уже не мог возродиться к нормальной человеческой жизни. Многие предпочли бы плаху пытке на дыбе.
Грэшем не имел сил сопротивляться, когда его положили на грубые доски, замаранные чем-то, что вполне могло быть человеческими выделениями, а руки и ноги зафиксировали веревками. Все это напоминало страшный сои. И вдруг он живо и ярко вспомнил герцога Медину Сидонию, как будто заново услышав его слова: «Когда все рушится и погружается во тьму, то отнюдь не суждение света имеет для нас значение перед лицом гибели. Имеет значение оценка нашей совести». Суждено ли ему, Генри Грэшему, погибнуть здесь, на мерзком сооружении, потеряв человеческий облик, выкрикивая в безумии все то, что от него хотят услышать те, кто будет его допрашивать? Погибнуть прежде времени с именем изменника Англии, которое останется с ним навсегда. Может ли человек в таких обстоятельствах сохранить достоинство?
Неожиданно все встало для него на свои места. Он находился вовсе не в преисподней, а в подвальной комнате, освещенной факелами, с закопченными и влажными стенами. Справа от него находилась печь, в ней горел огонь. Он услышал шаги, а затем голоса. Кто-то приближался к нему, но кто, Грэшем пока не видел.
— Добро пожаловать снова в Англию, Генри Грэшем, — услышал он голос Роберта Сесила. Он торжествующе улыбался.
— Роберт Сесил! Какой сюрприз! — прохрипел Грэшема, сам удивляясь своему самообладанию. — Раз уж вы решили разорвать меня на части, то, может быть, сначала принесете мне воды? Нет, не для того, чтобы я не умер от жажды, просто так я смогу говорить ясно и обдуманно. Вы ведь все равно услышите мои вопли, когда придет время.
Сесил улыбнулся улыбкой палача. Иначе повел себя тюремщик: он явно смутился и встревожился. Люди на дыбе никогда не говорили о боли и страданиях, предстоящих им.
Никогда в жизни Грэшема не пил такой вкусной воды. Он надеялся, ее принесли не из крепостного рва, хотя, с другой стороны, какое это теперь имело значение?
— Нам надо еще кое о чем поговорить, — произнес он, обращаясь к Сесилу. — Мне кажется, мы договорились работать вместе.
— Я не работаю с изменниками, — гордо ответил Сесил. — Армада побеждена, дело кончено. Поход на Англию провалился, как провалятся и все еще оставшиеся испанские шпионы. И чем тяжелее будет их конец, тем лучше.
— Вы хотите меня уничтожить.
— Вы сами себя уничтожили. Моя помощь вам не потребовалась. Вы дезертировали из Фландрии, использовав мое доверие и мое влияние, собираясь заниматься шпионажем в пользу Испании. Я узнал правду о вас, когда мой шпион — да, я тоже могу нанимать шпионов! — подслушал ваш предательский разговор с герцогом Пармским. Вы выдали себя, сев на корабль, шедший в Испанию. Все было ясно, когда вы присоединились к Армаде. Вас видел вместе с ее командующим не кто иной, как сам Дрейк. Вас захватили вместе с вашей испанской шлюхой чисто случайно — полагаю, по воле свыше, что подтверждает правоту истинной веры, как и поражение Армады. Теперь от вас требуется лишь признание в измене, которая уже доказана. Ваше имущество перейдет к короне. Как это замечательно — сказочное богатство Грэшема послужит ее величеству для оплаты тяжелых расходов на войну с Испанией!
Желая подтвердить свою власть, Сесил сделал знак тюремщику. Тот повернул колесо в изголовье дыбы. Веревки затрещали, и с помощью дыбы тюремщик начал растягивать его руку. Пока боль не наступила, стало только очень неприятно. И вдруг Грэшем почувствовал запах духов, а вместе с тем и какой-то тяжелый запах. Что бы могло означать столь странное сочетание? Не пригрезилось ли ему это?
— Я никогда не являлся испанским шпионом, — промолвил Грэшем. — А вы разве не боитесь за вашу невесту Элизабет Брукс?
— Я плюю на ваши пустые угрозы! — закричал Сесил. И он действительно плюнул, так что его слюна попала на щеку Грэшема. — Если не станет вас, не станет вашего слуги, а ваше имя всякий порядочный англичанин будет произносить с отвращением, выполнят ли ваши наемники ваш договор? Нет, они просто возьмут ваши деньги и посмеются над вами, ведь вы хотели использовать их против такого человека, как я.
— Против такого человека, как вы? Ну-ну, — ответил Грэшем мягким тоном, странным при его положении. Его руки начали болеть из-за нарушенного кровообращения. — В любом случае угрозы тут нет. Я никого не нанимал убить вашу невесту.
— Вы хотите сказать: никому не поручали ее… убить или изуродовать?
— Конечно, нет. Только человек, который сам носится с подобными замыслами, может предполагать такое. Что мне пользы от возмездия, если меня уже не будет в живых? — Грэшем понимал: Сесил поверил в его мнимую угрозу.
— Так, значит, вы ничем не можете мне угрожать, Генри Грэшем? — спросил тот.
— Только силой правды. Я ведь не испанский шпион. Я служил Англии.
— И кто же вам теперь поверит?
— Мне может поверить королева Англии, — просто ответил Грэшем. — Королева, вошедшая в дальнюю дверь, хотя я отсюда ее и не вижу. Она здесь уже несколько минут, хотя ничем не обнаруживает своего присутствия. И я прошу ее соизволения рассмотреть мое дело. — Грэшем догадался о королеве по запаху, который он сначала счел обманом чувств, запаху духов и несвежего дыхания.
Сесил усмехнулся, обернулся к двери, да так и застыл на месте. А через мгновение низко поклонился и опустился на колени.
Трудно было представить, что королева придет сюда. Она ненавидела Тауэр, ненавидела самую память о том, как ей некогда пришлось войти сюда через «Ворота изменников». Она бывала здесь только в случае крайней необходимости. Тем более в таких мрачных застенках. Но теперь, когда Уолсингем умер, никто уже не мог ей рассказать о той двойной и тройной игре, которую он вел последние три года под руководством Уолсингема и, по его поручению, сумел стать самым ценимым из испанских шпионов в Англии. Он передавал в Испанию те сведения, которые готовил для него Уолсингем, всегда примешивая ко лжи достаточно правды, стремясь придать ей правдоподобие.
Королева возникла в поле зрения Грэшема. Она посмотрела на него то ли с сочувствием, то ли с изучающим интересом.
— Ваше величество! — восклицал Сесил, то поднимаясь, то снова опускаясь на колени, не в силах преодолеть состояние шока. Грэшем же не смог бы поклониться королеве, даже если бы его освободили: у него уже начали сильно болеть руки и ноги.
— Встаньте и прекратите лизоблюдство, — велела королева Сесилу. Она снова посмотрела на Грэшема: — А вы можете оставаться там же. — Затем она властно потребовала от тюремщика: — А ты усади свою королеву, и немедленно!
Как по волшебству появился стул. Елизавета села.
— Итак, мой маленький пигмей, — заговорила она, — вы решили допросить человека, объявленного величайшим изменником, не поставив меня в известность. И даже не спросили моего разрешения применить пытку. — Действительно, по закону в подобных случаях требовалось разрешение монарха.
— И все же я всегда оставалась великодушной, и я дарую вам это разрешение. Продолжайте допрос.
У Грэшема упало сердце. Зато Сесил быстро пришел в себя. Он никак не ожидал прихода королевы, его даже потрясло ее появление, но теперь он снова овладел собой.
— Итак, — начал он, — вы отрицаете, что являлись испанским шпионом? И вы не посещали нечестивых и запрещенных здесь месс?
Грэшем отвечал медленно, обдумывая каждое слово. Сейчас решался вопрос его жизни и, что еще важнее, его чести.
— Я отрицаю, что был или являюсь испанским шпионом. Что касается месс, то я действительно посещал их три года, служа ее величеству и по указанию лорда Уолсингема. — «Но он уже не сможет подтвердить мои слова», — подумал Грэшема.
Сесил пришел в ярость:
— Посещали мессы, служа ее величеству?! Вы издеваетесь?! — Он поднял руку, намереваясь подать знак тюремщику продолжить пытку.
— Стойте! — приказала королева. — Пусть он говорит сейчас, пока боль не отуманила его разум.
— Да, на службе ее величеству, по приказу Уолсингема, — продолжал Грэшем. — Это началось лет в шестнадцать, когда я еще был бедным студентом. Мне предложили деньги, чтобы я встречался с одним священником и посещал его тайные мессы, объявив себя католиком.
— И вы продали душу за деньги? — с пафосом спросил Сесил.
— Нет, я не изменил своей вере. Я поступил так нарочно, играя роль испанского шпиона. Кроме того, мне самому это было интересно.
— И деньги, конечно, платили, — вставил Сесил с миной высокомерной добродетели. Его все-таки сильно смутил приход королевы, и он отчасти потерял самообладание. Он не знал, как ему следует себя вести.
— Те, кто получает богатство с рождения, считают его неотъемлемой частью жизни, — заметил Грэшем. — Но только те, кто знает, что такое жизнь без денег, понимают, что на свете есть и более важные вещи.
— Например? — вставил Сесил (он допустил первую ошибку).
— Например, интерес к жизни ради нее самой, особенно в юности. Например, честь. Например, любовь к своей стране, даже если еще не любишь никого из других людей. Например, стремление поступать по правде.
— И при этом вы стали испанским шпионом! — насмешливо ответил Сесил.
— Я только играл роль испанского шпиона. — Грэшему было все труднее говорить. Боль возросла. Особенно сильно почему-то болела левая рука, но надо было продолжать. — Уолсингем давал мне информацию, похожую на правду. Отчасти она и являлась правдивой, чтобы они мне поверили. А я передавал эти сведения испанским властям.
— Значит, вы имели доступ к испанскому двору? — недоверчиво проговорил Сесил.
— Нет, я общался только с одним придворным. Случилось так, что в Кембридже он узнал правду обо мне — что я не их шпион, а двойной агент. Его мне пришлось убить на Грантчестерских лугах, иначе он бы выдал меня своим хозяевам и провалил всю операцию. — Теперь к боли в руках и ногах добавился еще звон в ушах. В горле пересохло. Он не заметил, как тюремщик отошел за водой для него, тем неожиданнее была радость узника, когда тюремщик поднес к его губам кружку с драгоценной водой. Грэшем снова услышал, как кто-то открыл и закрыл дверь, но Сесил не обратил на это внимания. Он продолжал:
— Это вы так говорите! Но вы добились, чтобы вас включили в экспедицию Дрейка в Кадис. Так бы и поступил настоящий шпион.
— Меня именно хотели объявить шпионом. Мне подбросили католический молитвенник и подложное письмо, и сделали это вы, Сесил. Вы ведь не ведали, что Уолсингем решил тогда заслать меня в Испанию. Так что вы действовали от себя, ложно обвинив меня в измене. Вам было важно избавиться от человека, которого вы считали врагом, но еще важнее — чтобы я погиб на море, далеко отсюда. Мое имущество, как имущество изменника, к тому же не имеющего наследников, вы могли конфисковать в казну, купив таким образом расположение королевы. Да и вашего отца, пожалуй.
— Одни слова! Где у вас доказательства? — спросил Сесил.
— Доказательства? — переспросил Грэшем. — Кое-что у меня имеется. — Грэшем поморщился от боли. Он старался, по возможности, игнорировать ее — ему следовало продолжать защищаться. — Подложное письмо, о котором я говорил, находилось у некоего Роберта Ленга. Мне удалось получить его у него. Письмо написано по всем правилам, там даже имеется печать, совсем как настоящая… Но вот почерк… Я узнал руку вашего старшего клерка. Дрейк ведь не видел его почерка! Вы рассчитывали на это обстоятельство. Вы могли бы поручить подделку некоему Тому Филипсу, но тот запросил слишком дорого. Вы предпочли поручить это одному из ваших людей из экономии. Вы думали, Дрейк попадется на эту удочку, а письмо никогда не попадет в мои руки.
— Ваше величество! — Голос Сесила стал высоким, почти визгливым. — Ведь ясно же: этот человек — изменник!
На сей раз Елизавета обратилась к самому Генри Грэшему.
— Уолсингем ничего не говорил мне о вас, — проронила она холодным тоном. — Вам, как говорил Дрейк, каким-то чудом удалось бежать от преследования испанских галер. Было ли это бегством, или они дали вам уйти, не собираясь убивать собственного шпиона? Вы были желанным гостем на борту кораблей Армады, сражавшейся с моим флотом. Вы сожительствовали с дочерью испанского дворянина. Все это делалось скорее в пользу Испании, а не Англии.
— С девушкой я познакомился случайно, — отвечал Грэшем (он поймал себя на том, что уже говорил то же самое герцогу Медине Сидонии). — Я отправился в Лиссабон, получив задание от Уолсингема. А девушку сделал своим прикрытием. Но я всегда выполнял приказы Уолсингема.
— Что за приказы? — требовательно спросила королева.
— Мне следовало найти старшего оружейника в Лиссабоне и подкупить его, чтобы он отливал негодные пушки. Такие, которые разрывались бы при стрельбе, а ядра разрывались бы, только выйдя из…
— А есть у вас доказательства? — вмешался Сесил.
— Когда я оставил корабль «Сан-Мартин», флагман Армады, он был весь разбит нашей артиллерией. А корабль «Месть», на котором меня держали и который не раз атаковал «Сан-Мартин», почти не понес урона после сражения.
— И вы приписываете себе эту заслугу? — спросил Сесил.
— Да нет. — Грэшем с трудом ворочал языком. Теперь у него болели не только руки и ноги, но и грудь. «Если уже сейчас так больно, что же будет, когда пытка продолжится?» — подумал он. Но надо было отвечать. — Тут дело не только во мне, и, может быть, не главным образом. Испанские пушки громоздки, они медленно стреляют, их неправильно обслуживают. И все же я могу поклясться: «Сан-Мартин» не раз и не два стрелял из своих орудий по английским кораблям. Просто совпадение? Возможно. Но «Сан-Мартин» распределил свои боеприпасы между кораблями Армады и получил новые из лиссабонских арсеналов. — Грэшем умолк на минуту. Тюремщик снова принес ему воды. — И было еще одно дело в Лиссабоне.
— Еще одна ложь! — съязвил Сесил.
— Маркиз Санта-Крус всегда являлся плохим администратором. Он очень плохо снабжал Армаду провизией и всем необходимым. Поэтому нас… Уолсингема устраивало, чтобы этот человек выполнял такую роль. Но как адмирал он был очень опасен. Он вполне мог бы сделать то, на что не решился Медина Сидония, — атаковать наш флот на его базе. Поэтому пришлось убить его. — Грэшем сам удивился, как легко он сказал последние слова.
— Как?! Вы убили маркиза Санта-Круса? — На сей раз Сесил, кажется, действительно изумился.
— Не я, а мой слуга Манион. Испанцы некогда захватили его в плен, а маркиз отправил его на галеры. У Маниона имелись причины для мести. Он завязал знакомство с одной из кухарок маркиза, стал частым гостем на кухне и однажды, когда готовили любимое блюдо хозяина, сумел подсылать туда яд, не имеющий вкуса. Все это оказалось не таким уж трудным делом… Хотя маркиз, конечно, и так болел.
— Это вы так говорите! — закричал Сесил. — А где доказательства? Только слова того верзилы, который, рассчитывая спастись, объявит себя хоть сыном самого дьявола. Но вы не можете объяснить, почему во Фландрии вы перебежали к герцогу Пармскому. Вы обманули мое доверие! Ведь это я включил вас в нашу делегацию, вы бежали в Испанию, присоединились к Армаде, стояли рядом с их командующим.
— Я не просто стоял рядом, — тихо сказал Грэшем. — Я спасал его корабли от мелей. Предупреждал его о том, чего не знали его лоцманы.
— Вы спасали его корабли! — воскликнул Сесил, не веря своим ушам.
— Помогал это делать. Зачем нужны лишние жертвы? Дело же не в кораблях, не в Армаде. — Он умолк на минуту, стараясь перевести дух.
— А в чем же тогда дело? Если не в Армаде, то в чем, по-вашему? — Судя по выражению лица Сесила, он думал, что допрашиваемый лишился рассудка еще до продолжения пытки.
— Смысл похода Армады состоял в том, чтобы испанцы могли высадиться в Англии, например в Плимуте. А моя задача заключалась в том, чтобы их флот нигде делал остановки. Если бы половина их кораблей села на мели, им бы, вероятно, поневоле пришлось попытаться высадиться на берег — им ведь не хватало еды и боеприпасов. А так они ушли в Кале. — Грэшему становилось трудно дышать. Ему приходилось все чаще останавливаться, чтобы передохнуть. — Испанские корабли имели второстепенное значение. Пока они не высадили на нашей территории войска, находившиеся у них на борту, вся сила была в их армии. Без армии герцога Пармского весь их поход становился бессмысленным. А я вел переговоры с герцогом. Все дело было в том, чтобы встретиться с герцогом Пармским и предотвратить его возможное соединение с Армадой.
— Я знаю об этой встрече! — перебил его Сесил. — Один из моих людей подслушал ваш разговор. Вы признались ему, что вы испанский шпион!
— Я же вам уже объяснял, — устало ответил Грэшем. — Он и должен был считать меня испанским шпионом.
— И действовали вы, конечно, по приказу Уолсингема?
— Идея переговоров с герцогом принадлежала ему. — Грэшем вдруг почувствовал, что почему-то перестал ощущать боль. Вместо этого пришло странное ощущение сонного покоя. — Для этого прежде всего я и играл роль их шпиона. И мы встретились с герцогом. По-моему, кое-кто из его окружения догадывался о моем истинном лице, ведь испанцы там пытались меня убить.
— Как же это возможно, если они должны были считать вас их же шпионом?
— О том, кто является (или должен считаться) чьим-то шпионом, обычно знают немногие. О таких вещах не говорят публично. Были, видимо, люди, которые не без основания подозревали во мне врага… Знаете, я не во всем поступал, как приказывал Уолсингем. Он хотел вести разговор только о легком флоте, а у меня была своя идея. Это мне самому пришло в голову. — Неожиданно для самого себя он вдруг глупо засмеялся.
— Еще воды! Быстро! — услышал он голос королевы. Кто-то, очевидно, опять тюремщик, облил его лицо водой, и Грэшем жадно сделал несколько глотков.
— Ваша идея?
Грэшем почувствовал: что-то случилось с его головой, он не мог понять, говорит это королева или Сесил. Речь его стала менее связной.
— Герцог Пармский… в нем все дело, я это всегда знал… всегда. Если его армия стоит на месте, никакого вторжения испанцев в Англию не будет. Вся эта Армада — всего лишь шутка… ужасная шутка. Оплаченная человеческими жизнями! — Грэшем вдруг заметил — из глаз его потекли слезы. Ему стоило большого труда продолжать свой рассказ. — Так вот, я — не то, что вы. Я заплатил Тому Филипсу по-королевски за поддельное письмо с поддельной печатью… — Он старался овладеть собой и изложить свои мысли правильно, но язык не всегда слушался его. — Это было секретное письмо с печатью королевы. В письме от королевы ему предлагалось стать королем Нидерландов, если он не станет идти на соединение с Армадой и позволить ей уплыть… проплыть… проплыть мимо.
Кто-то вдруг ударил его по лицу. На сей раз не было сомнений, чья это рука и чей голос. Это была королева.
— Вы смели предлагать герцогу Пармскому трон Нидерландов от моего имени?! — гневно спросила она.
— Да, — просто ответил Грэшем. — Я сделал даже больше, ваше величество. — Он чувствовал настоящую гордость, поскольку еще не забыл, как следует к ней обращаться. — Я даже предложил ему трон Англии от вашего имени. В том случае, если он предоставит Армаду ее собственной участи. Конечно, на бумаге стояла не ваша печать, а поддельная. Я думал, ему понравится быть королем Нидерландов. Только поддержка Англии может помешать герцогу одержать победу для Испании. И потом, если католик может править Нидерландами, протестантской страной, почему он не может править Англией? Хотя, конечно, это вздор, больше нам католиков на троне не надо. Слишком много тревоги от них. Но ему-то мы об этом не скажем. Так вот, я дал ему письмо, якобы от королевы со всеми этими предложениями, если он согласится не вторгаться в Англию… Не волнуйтесь! Я подкупил секретаря: он украл и уничтожил письмо, как только герцог его прочел. У них ведь и так много чего пропало за время войны.
Грэшем повернул голову, чтобы увидеть лицо королевы. Он думал прочесть в ее глазах свой смертный приговор. Ее лицо было более чем гневным (или так ему показалось?). Грэшем решил извиниться, но у него снова вышло что-то не то.
— Знаете, я сделал это не ради вас… то есть не только ради вас. Я сделал это ради мира. Ради крестьян. Пусть больше не будет огня и меча. Я, знаете, не верю в войну. На войне людей убивают. А я хочу, чтобы они жили. Хотя многие и так умирают. Такие дела.
Голова Грэшема бессильно откинулась на доски. И в воцарившейся тишине он вдруг услышал чей-то хриплый смех. Грэшем сразу узнал этот смех.
Уолсингем! Он выглядел полуживым. Но взгляд его остался прежним — взглядом умного и властного человека. Он мог теперь ходить, лишь опираясь на палку, и около него суетился мальчик-слуга, растерянный и испуганный, не ожидавший оказаться в такой обстановке. Уолсингем снова засмеялся. Он поклонился королеве, и она кивнула в ответ. Сесила он не удостоил вниманием.
— Ваша собственная идея! Славно. Просто славно! Собственная идея! Каково!
— Что, по-вашему, славно, сэр Томас? — ядовито промолвила королева. — Что можно подделать волю королевы? Что какой-то выскочка может обещать трон иностранному принцу?
— Безусловно, лучше, если это делается без ее ведома, ваше величество, — отвечал старик. — Как лучше и то, что вы не знаете многих вещей, которые делаются во имя королевы. Но самое лучшее — это когда герцог Пармский сидит в Гейте, вместо того чтобы осаждать Лондон, угрожая вашему величеству.
На минуту воцарилось молчание.
— И заметьте, тот, кто взялся бы за подобное дело, вполне вероятно, должен был кончить именно здесь. На самом деле этот человек получил приказ сообщить герцогу Пармскому, что число голландских легких судов гораздо больше, чем он рассчитывает, и что они потопят баржи, которые он готовит для вторжения в Англию. Вот что я ему приказал.
— Это бы не помогло, — пробормотал Грэшем. — Такие люди, как герцог, видят в численном превосходстве противника вызов для себя, и тогда дерутся еще отчаяннее. Требовалось нечто большее. — Странное дело, он чувствовал не только страшную жажду, но и сильную тошноту. — Простите, ваше величество, мне очень жаль, но меня, кажется, сейчас стошнит. Нельзя ли начать пытку, пока я не опозорился?
Возникла продолжительная пауза.
— Освободите его! — приказала королева.
Тюремщик явно растерялся.
— Лучше не перерезать веревок, ваше величество, — сказал он невпопад. — Вдевать новые — дело очень трудоемкое, да и денег стоит. Их ведь нельзя использовать повторно, если…
— Я вам сказала: перережьте веревки сейчас же! — повторила королева ледяным тоном. — Иначе вы будете первым, на ком испытают новые веревки.
Тюремщик тут же достал откуда-то нож и быстро выполнил приказ. Боль, вызванная восстановлением кровообращения, оказалась очень острой, как будто множество игл вонзились во все жилы. Грэшема не мог встать и даже не знал, позволено ли ему это. Он снова услышал голос Уолсингема:
— Ваш слуга сообщил, вы полагали, будто меня нет в живых. Видимо, испанский посол со слишком большим воодушевлением воспринял известие о моей тяжелой болезни и отправил соответствующее письмо герцогу Пармскому. — Уолсингему тоже подали стул. И теперь он сидел, словно заботливый отец у постели больного сына.
— Моего слугу пытали? — с тревогой поинтересовался Грэшем.
— Думаю, он успел получить несколько ударов, прежде чем мы проникли в его камеру. У человека, который его бил, сломаны рука и нога. Интересный малый этот ваш слуга. Он сказал, вы самый большой дурак в Европе, потому что я единственный человек, знающий о вас правду, а вы все же отправились со своей миссией, считая, что меня нет в живых. И все же он остался с вами.
— Ему недостает образования и изящества. — Грэшем улыбнулся впервые за многие дни. Боль немного утихла.
— Он хотел предложить ваш трон католику! — завопил Сесил, молчавший с тех пор, как появился Уолсингем.
— Только для того, чтобы не допустить действительного католического правления в Англии, — ответил Грэшем. Затем суровым тоном заговорила королева:
— Ради чего вы рисковали своей жизнью и своей честью? Вас считали испанским шпионом. Только один человек знал правду. И если, как вы полагали, его бы не было в живых, вы бы потеряли все ваше имущество, уважение соотечественников — все, что у человека есть в жизни! Почему вы продолжали свое дело?
— Я… — Он старался объяснить это в том числе и самому себе. — Ваше величество, вы принесли мир в нашу страну. При католическом короле мира в Англии не будет. А гражданская война… Достаточно сказать, что я видел у стен Остенде трупы, которыми питались волки… Я видел герцога Пармского. Это великий человек и великий правитель. Но он прожил большую часть жизни и превратил в пустыню страну, в которой он воюет… Иногда люди идут на огромный риск ради великой цели.
— Вы пошли на непростительный риск, Генри Грэшем, предложив корону другому человеку. Это риск на грани измены.
— Пусть будет так, ваше величество. — Грэшем почувствовал страшную, непреодолимую усталость. — Что сделано, того не переделаешь. И все же я действовал ради общего блага, как я его понимаю. Я не предал никого из соотечественников. И я прошу вас о милости — даровать мне достойную смерть. Если мне не сохранить жизнь, позвольте мне сохранить достоинство.
— Принесите меч, — велела королева.
Тут же со стены комнаты сняли меч, сделанный, судя по его отделке, около пятидесяти лет назад, когда такое оружие считалось престижным. Однако лезвие меча оставалось довольно острым. В таком месте, как это, подумалось ему, оружие может применяться только для пыток или казней. Он напрягся в ожидании неизбежного. После минутной боли наступит избавление. Похоронят ли его здесь, в Тауэре, или на хорошей земле?
Лезвие меча коснулось плеча Грэшема, затем королева подняла меч снова. Он был тяжелым, но королева, несмотря на возраст, держала его довольно легко. В ее лице сейчас явственно проступали черты лица ее отца, Генриха VIII Она сказала:
— Если этот меч коснется вашего второго плеча, вы станете сэром Генри Грэшемом и будете первым, кто посвящен в рыцари в этом проклятом месте. — Лишь на мгновение открыто проявилась ненависть Елизаветы к Тауэру. — Однако если удар будет нанесен по вашей шее, вы станете мертвецом, каковым вы и сами считали себя в последние недели. Выбор за вами. Вы даете мне слово, что вы никому не расскажете об этих событиях, пока я жива, и в течение всей вашей жизни, сколько бы вы не прожили, не расскажете никому о предложении короны герцогу Пармскому? Вы даете мне слово, что не существует письменных данных об этих событиях? Наконец, даете ли вы слово, что если ваш слуга, явно знающий ваши секреты, способен о них кому-нибудь рассказать, то он умрет от вашей руки?
— Разумеется, — ответил Грэшем. Ему не было никакого смысла рассказывать обо всем этом другим. А Манион скорее мог покончить с собой, чем предать своего хозяина и друга.
— Наконец, даете ли вы мне клятву в том, что, несмотря на вашу ненависть к этому моему маленькому пигмею, вы не будете ему мстить, но будете работать вместе с ним, когда я того потребую?
Вот это было для Грэшема гораздо труднее исполнить. Но стоит ли терять свою жизнь из-за пигмея?
— Я даю вам клятву, — промолвил он.
— В таком случае вы — сэр Генри Грэшем. — Лезвие коснулось второго плеча молодого человека. — Я извиню вас, если вы не встанете, но можете поцеловать мою руку.
Грэшем попытался подняться. Никто не предложил ему помощи. Все понимали, как важно, чтобы он сделал это сам. Сделав над собой огромное усилие, он смог сесть на край дыбы. Наклонив голову, он поцеловал холодную белую руку Елизаветы. Она кивнула ему и повернулась к Сесилу.
— Ваше время еще придет, Роберт Сесил, — проговорила она. — Вы мне еще послужите. И можете не рассказывать о вашей верности. Ваша преданность основана на том, что во мне вы видите путь к власти и влиянию. Его верность, — королева показала на Генри Грэшема, — основана на чем-то ином. Ваша взаимная ненависть привязывает вас ко мне. Я же намерена использовать единство противоположностей. И как поклялся сейчас Генри Грэшем, так и вы должны поклясться — вы тоже перестанете преследовать этого человека и будете работать вместе с ним, когда я этого потребую.
— Клянусь, ваше величество, — ответил Сесил.
Грэшем не без злорадства подумал: вода на сей раз скорее всего нужна Сесилу.
— Помните, — продолжала Елизавета, снова обращаясь к Грэшему (ее собственное рождение было признано незаконным после казни ее матери). — Помните — миру нужны незаконнорожденные. Что касается вас, Роберт Сесил, то вовсе не Генри Грэшем впервые назвал вас маленьким пигмеем. Так сказал ваш собственный отец.
С этими словами королева Елизавета удалилась.
Глава 12
Сентябрь 1588 года
Лондон
Манион и еще двое слуг из дома Грэшемов спустились в мрачное помещение, которое уже покинула высокородная гостья. Сейчас только тюремщик находился на своем месте. Двое слуг дрожали то ли от страха, то ли от холода, Манион же просто шел впереди них с угрюмым видом. Он заметно расслабился, заметив, что Генри Грэшем невредим. Друг-слуга помог другу-хозяину одеться с удивительно нежной заботой. Он сделал только одно резкое движение — когда тюремщик попытался предложить свою помощь. Манион зарычал, как могла бы зарычать волчица, защищающая волчонка. Тюремщик в страхе отпрянул. Манион знал: этот человек еще совсем недавно ждал приказа начать пытку и не мог этого простить. Когда Грэшем стал на ноги, пытаясь поддержать равновесие и как бы учась ходить заново, Манион заметил с мрачным юмором:
— Ну вот, когда вы были просто Генри Грэшемом, всегда могли ходить самостоятельно. Теперь, когда вы — сэр Генри Грэшем, вам, выходит, нужна помощь слуг.
— Я готов ходить хоть по воде, лишь бы поскорее вырваться отсюда.
Слуги в особняке встретили появление хозяина с боязливым почтением. Напуганные историей о том, как он попал в Тауэр, и опасавшиеся даже за собственную безопасность, они вместе с тем и гордились рыцарским достоинством своего хозяина (уже появились легенды о том, как это произошло). Все они, кто по делу, кто без дела, собрались во дворе, когда их хозяин не без труда слез с лошади и предстал перед ними.
Даже в своем теперешнем состоянии Грэшем заметил: Анна изменилась. Теперь это была, по сути, зрелая женщина, имевшая даже большую власть над людьми, чем прежде. Наконец-то Грэшем, Манион и Анна снова оказались втроем.
— Когда вы рассказали мне всю правду, мне было трудно в это поверить, — сказала она. — Слишком много всех этих двойных игр и хитросплетений. И вы были уверены: вам не суждено остаться в живых.
— Ему просто очень повезло, мисс, что этого не случилось, — вставил Манион. — А то бы он, конечно, и меня потянул за собой. Кого интересует, что я просто слуга?
Они сидели в столь любимой Грэшемом домашней библиотеке. Наконец-то чистому и отдохнувшему Грэшему вскоре предстояло вернуться в колледж и воевать с коллегами, стараясь обновить материально и духовно Грэнвилл.
— Мне очень жаль, что вам пришлось это пережить, — сказал он Анне. Он посмотрел на нее. Она, как и раньше, была самой красивой из женщин, которых он знал. — Я виноват перед вами. Я ненавидел вас за то, что вы осложнили мою жизнь, а также за то, что ваша мать связала меня клятвой. Я ненавидел вас и за вашу красоту, потому что все красивые женщины, которых я знал прежде, пользовались своей красотой, чтобы обманывать и порабощать людей. Но вы на них не похожи. И еще…
Он хотел ей сказать, что, кажется, любит ее. Будь эти слова сказаны тогда же, кто знает, как бы дальше сложилась их жизнь?
Но его речь прервали. За окном послышались стук копыт и крики, главные ворота особняка отворились. Может быть, королева вдруг изменила прежнее решение и послала за ним солдат? А может быть, прибыла компания поэтов почитать Грэшему последние стихи и пофлиртовать с Анной. Кто мог знать? Вошел слуга и что-то прошептал на ухо Грэшему. Тот побледнел и также шепотом ответил слуге. Слуга вышел, а Грэшем встал со своего места и подошел к Анне. Она удивленно посмотрела на него.
— Приехал человек, с которым вам, вероятно, придется встретиться, — сказал он. — Он назвался французским купцом Жаком Анри.
Анну потрясла услышанная новость. Лицо ее как будто съежилось. Она вскочила, оттолкнув стул, и отошла в угол комнаты, словно ища там укрытия.
— Послушайте, — поспешно заговорил Грэшем, — я знаю, вы дали слово вашей матери… Но обстоятельства изменились… Если это для вас так страшно, почему бы нам не переменить решение?..
— Разве вы нарушили слово, данное Уолсингему? — спросила Анна очень тихо.
В дверь снова постучали.
В комнату вошел довольно молодой человек лет двадцати пяти, привлекательной наружности, одетый в костюм для верховой езды. Он был высоким и статным, с темными волосами и глазами, которые, видимо, были зеркалом доброй и честной души.
— Сэр Генри! — начал он, обращаясь только к хозяину (Анну, притаившуюся в углу, он не сразу заметил). — Прошу извинить меня! Мне сообщали о вас из Лиссабона, потом из Фландрии. Но всякий раз я опаздывал… — Он говорил с легким французским акцентом. — Я, как у вас говорится… задал вам танец. Я очень расстроен.
Он почтительно поклонился. Грэшем также ответил комплиментами.
— А мы вас… иначе себе представляли, — добавил он. — Мы полагали, что мсье Жак Анри… гораздо старше.
— Ах вот оно что! — в ужасе вскричал молодой человек. — Вы ничего не слыхали. Мой отец погиб в прошлом году. Их караван попал в засаду разбойников, и, хотя он и его люди храбро дрались, он скончался от ран… Молодая леди также не слышала об этом? Мы посылали письма в Гоа и в Испанию.
— Молодая леди об этом не узнала. Гоа она покинула раньше, чем пришло письмо, а письмо, посланное в Испанию, очевидно, не вызвало интереса ее тамошней родни.
— Я приехал сообщить — молодая леди, конечно, свободна от всяких обязательств в отношении моей семьи. Наши обстоятельства изменились. Мой отец был богатым человеком, но для меня купеческая жизнь слишком беспокойна. У меня есть имение во Франции, имя и буду заниматься.
— И у вас есть жена и хозяйка? — спросил Грэшем.
Жак Анри вдруг покраснел.
— Моя жизнь прошла в странствиях вместе с отцом, — ответил он грустно. — И у меня не оставалось времени для сердечных дел.
Грэшем обернулся. Анна стояла на том же месте и спокойно смотрела на Жака Анри.
— Позвольте вам представить… — начал он.
Анна вышла вперед. Что-то царственное было теперь во всем ее облике. Она не сводила глаз с пришельца с тех пор, как он вошел в библиотеку. Он повернулся в ее сторону, начал было кланяться, да так и застыл в склоненном состоянии с открытым ртом.
— Я уверен, сэр Генри… — начал он было, но осекся и умолк, словно оторопев на несколько мгновений. Потом он опомнился, закончил свой поклон, не отрывая взгляда от девушки, покраснел и повернулся в сторону Грэшема.
— Я уверен, — сказал Генри, — моя подопечная внимательно выслушает печальный рассказ о вашей утрате. Тем более она всегда испытывала глубокую привязанность к вашему отцу. Думаю, если я велю накрыть стол в длинной галерее, вы сможете спокойно побеседовать. Но сперва позвольте мне переговорить с моей подопечной наедине.
Жак Анри кивнул. Не в силах вымолвить ни слова и пятясь, он вышел из комнаты, как будто покидал королевскую резиденцию.
— Ну, теперь и мне очень нужно… оказаться где-нибудь в другом месте, — объявил Манион и также удалился.
— Он просто дитя, этот Жак Анри, — сказала Анна, чуть заметно улыбаясь. — Видели, как он не сводил с меня глаз, а потом налетел на дверь?
— Зато я не ребенок, — ответил Грэшем.
А затем все произошло словно само собой. Их объятия и поцелуи были долгими — время для них остановилось. Они перестали соблюдать осторожность, забыв обо всем. Каким-то странным образом приезд Жака Анри разом освободил всю силу их взаимного стремления к близости, так долго зревшего в их душах. Слишком давно они ждали этого, сами того не сознавая.
А потом они разъединили руки и заговорили почти разом.
— Прости, я… — начал Грэшем.
— Прости, я… — прошептала Анна.
И тут оба молодых человека засмеялись счастливым смехом. Грэшем слегка склонил голову, отступив на шаг, но не выпустив ее рук.
— Мне кажется, я влюбилась в тебя сразу же, как увидела, — сказала Анна, — там, на палубе, когда я казалась себе самой смелой. Ты стоял, окруженный всеми этими моряками, такой молодой и красивый, и ты навел там порядок.
— Как же ты тогда командовала! — заметил Грэшем. — Ты боролась, несмотря ни на что, не боясь ни Дрейка, ни всего английского флота! И хотя я ненавидел тебя за красоту и властность, я тоже чувствовал, что уже влюбился в тебя.
Они снова поцеловались.
— А знаешь, я ведь тогда залезла в бочку ради тебя, — призналась Анна. — Хотелось непременно быть вместе с тобой. Глупо, правда?
— Никогда не называй глупостью желание быть со мной! — Грэшем привлек ее к себе, и они поцеловались снова. Он чувствовал желание слиться с нею в единое целое. Но он еще мог властвовать над своими желаниями. Он годами привык их подавлять и сдерживать. Этому учила его жизнь и судьба.
— Когда-то я убедил себя, что я ненавижу людей и могу любить только какое-то дело, — произнес он. — Потом я возненавидел свое занятие, полюбив тебя…
То, что произошло дальше, можно было объяснить по разному, но нужны ли кому-нибудь подобные объяснения? Для них обоих главным было только то, что это наконец произошло, что они обрели счастливое состояние.
Спали ли они в ту ночь? Наверное, они сами не заметили, как заснули…
Генри помнил только, как утром Анна появилась перед ним уже полностью одетая.
— Я очень тебя люблю, — сказала она. Но почему она так грустно улыбалась, а по лицу ее текли слезы? — И все же я должна выйти за Жака Анри. — Голос ее дрожал, глаза были красными.
Генри не находил слов.
— Анна… как ты можешь? Я думал, мы с тобой… мы… Самое лучшее, что было…
— Генри… мой Генри… Моя самая первая любовь! — Нежность ее слов, кажется, могла бы растопить лед. — Прошу тебя, пожалуйста, не осуждай меня!
Она бережно обняла его. Генри Грэшем плакал! Плакал при женщине! Он всегда считал это страшным позором, а сейчас плакал у нее на плече, как маленький мальчик, встретивший маму после разлуки.
— Как ты можешь?.. — повторил он сквозь слезы.
— Ты должен меня выслушать, — мягко проговорила она. — Ты готов меня слушать?
Он кивнул. Сколько раз он убеждал самого себя: «Не будь зависим от других! Не уступай! Никогда не влюбляйся!» Не был ли он прав?
— Я люблю тебя так же, как, я верю, и ты любишь меня, — тихо сказала Анна. — И дело не в том только, что слово, данное мною моей матери, не позволяет мне выйти за тебя. От моей семьи на свете осталась только я, и чтобы она не умерла совсем, надо дать ей новую жизнь.
— Разве нам с тобой будет трудно размножаться? — спросил Грэшем и сам подивился своей резкости.
— Детям нужен отец. А Генри Грэшем не сможет оставить своей опасной тропы даже ради того, что родилось теперь между нами. Генри Грэшему надо постоянно стучаться в ворота смерти: только так он чувствует, что живет на свете. И мы оба знаем — однажды эти ворота могут затвориться за ним. Женщине нужен мужчина, как ребенку нужен отец. Я люблю тебя, Генри, но я не могу выйти за тебя замуж — ты не создан для семейной жизни. Ты будешь страдать в супружестве, чувствуя себя связанным по рукам и ногам. Твое время еще не пришло. Наступило мое время быть хозяйкой и матерью, рожать детей хорошему человеку, ради которого мне не придется тонуть, лгать, переживать кораблекрушения и проводить ночи в иностранных тавернах… Как странно, но мне всего этого будет не хватать. — Теперь в ее глазах стояли слезы.
— Почему ты так уверена, что этот человек женится на тебе? Вы же виделись всего несколько минут и не сказали друг другу ни слова!
— Я думаю, ради меня он спрыгнет с третьего этажа, а не то что задом выйдет из двери, — ответила Анна. — Женщины понимают такие вещи.
— Разве ты будешь счастлива с ним? — Генри Грэшем все еще не сдавался.
— Мне кажется, он хороший человек. Так говорили и слуги отца, когда мы в последний раз встречались.
У Грэшема возникло скверное подозрение.
— А ты всегда… думала об этом? О том, что можно будет выйти замуж за сына? — спросил он.
— Я запомнила сына с тех пор, как его жирный отец приходил к нам с визитом. Он был очень хорош собой и вел себя со мной по-доброму, как с сестрой. Я тогда спросила слуг, как он к ним относится. Люди ведь хорошо раскрываются в общении со слугами. «О Небо! Может ли мужчина когда-нибудь понять логику женщин?» — подумал Грэшем.
— Для меня это будет хороший брак, — продолжала Анна, но слезы на ее глазах говорили скорее о том, что она сама еще не убеждена в своих словах. — Он богатый человек, и я позабочусь о том, чтобы его богатство росло и он не промотал бы его. Он хорош собой и не пожалеет, что взял меня в жены. Я буду рожать ему хороших, здоровых детей и буду вести его хозяйство так, что он будет думать, будто делает это сам. Он будет мне подчиняться, сам этого не замечая.
— Сможем мы видеться в будущем, если некий Генри Грэшем приедет во Францию? — прошептал Грэшем, прижимаясь щекой к ее шее.
— Я всегда буду помнить героя, человека, ставшего моим первым возлюбленным, — ответила Анна. — Человека, которого я всегда буду любить. Но я не смогу с ним спать и должна буду подавить свои чувства к нему. Хорошая женщина не обманывает своего мужа.
— Так зачем же ты спала со мной? — спросил Грэшем.
— Потому что всем женщинам разрешено иметь одну тайну. Ты — мой первый любовник, Жак Анри будет вторым и последним. И только два человека будут знать, кто в действительности был у меня первым. И ни один из них никому об этом не расскажет. — Она осторожно отстранила его от себя. — Прости. Мы являлись двумя дикими созданиями, и, я думаю, мы нужны друг другу. Ты остался таким же диким, а я больше не могу им быть.
Грэшем вдруг густо покраснел. Анна, казалось, прочла его мысли.
— Ты подумал о том, что Жаку Анри нужна в жены девственница… О, Генри Грэшем…
— Сэр Генри Грэшем, — поправил он с шутливой важностью.
— Сэр Генри Грэшем, — повторила она с наигранной почтительностью. — Мужчины так наивны! Немного крови, стон, как будто от боли… Он поверит в то, во что ему очень хочется верить.
Мог ли он сам верить даже своим впечатлениям от их близости? Но ведь с ним она не играла. Грэшем переживал сейчас сложную гамму чувств: печаль и тоску о будущем одиночестве, гнев — его отвергла та, которую он избрал. Но несмотря на все это, также странное чувство… облегчения. Вспыхнувшая в его душе любовь столкнулась с его извечной потребностью в свободе от привязанностей, и последняя победила.
В дверь осторожно постучали. Смущенный хозяин отворил дверь. За нею стоял Манион. Может быть, он так и стоял у входа всю ночь на страже, закрыв руками уши?
— Молодой Жак Анри ждет вас к обеду, — объявил он.
Оставив Анну наедине с Жаком Анри, друзья отошли в другой конец длинной галереи.
— Она ведь хочет замуж за здоровяка Жака? — спросил Манион.
— Ну да.
— Проклятие! Расстроила она вас, надо думать. Только она права. Вы, как ни жаль, не готовы к семейной жизни.
— Почему «как ни жаль»? — удивился Грэшем.
— Да я надеялся, если вы женитесь, тогда нам не нужно будет то и дело подставлять себя под выстрелы, под угрозы, а то и под пытки.
— Извини. Мне казалось, я только что попал под пытку, — сказал Грэшем.
— Слуга везде следует за хозяином, — подвел итог Манион.
Грэшем вернулся к разговору об Анне:
— Она только телом женщина, но душа и сердце у нее мужские. — «В этом она похожа на королеву», — подумал он. Этим вечером его вызывали ко двору. Может быть, преподнести Елизавете те же слова в виде комплимента? — Почему ты со мной не расстаешься? — внезапно спросил Грэшем. Дружба с Манионом являлась самой прочной из его привязанностей. — Ты ненавидишь Испанию, но помогал мне изображать испанского шпиона по приказу Уолсингема. Ты был со мной, хотя был убежден, что меня повесят либо англичане как испанского шпиона, либо испанцы как английского; ты отправился со мной на море, хотя зарекся это делать. В чем тут секрет?
Манион молчал недолго. Он ответил:
— Все люди умирают, верно? Так вот, по-моему, в компании с вами по крайней мере будет нескучно помирать. — Это все, что он сказал.
Грэшем отправился в библиотеку, но читать ему не хотелось. Вскоре должны были объявить о помолвке Анны и Жака Анри. Дня два эта пара проведет здесь, пока будут упакованы в дорогу вещи Анны, а потом они вместе с горничной Мэри (Грэшем уступил ей эту девушку, которая ни за что не желала расстаться с хозяйкой) отправятся во Францию (на сей раз Дрейк им не помешает!). Перспектива одиночества вызывала у Грэшема душевную боль. С другой стороны, он хорошо знал это чувство — оно сопровождало ею почти всю жизнь, Грэшем знал: он будет видеться с Анной. Их союз, выкованный в жизненных испытаниях, слишком крепок, чтобы он просто распался. При встречах с ней Грэшем будет очень корректен. Он рассчитывал, что Анна станет его женой. Придется довольствоваться тем, что она станет его сестрой. И конечно, с ним останется память о былом. Ему принадлежал великолепный дом в одном из лучших городов Европы, и он обладал тремя из пяти великих земных благ: отличным здоровьем, сказочным богатством, и ему явно сопутствовала удача. Мало кому удавалось выбраться невредимым из того застенка в Тауэре. Не было у него только одного из пяти благ — любви других людей, не считая его слуги и женщины, решившей, будто его любовь — не главное в ее жизни. Можно купить женщину, но любовь купить нельзя. И вот он, Генри Грэшем, уцелевший после стольких испытаний, был наконец у себя дома. Но мысленно он находился рядом с одиноким гордым человеком, стоявшим на корме пострадавшего в битвах корабля. Он может погибнуть у скалистых берегов Ирландии. Если этого не случится, его обвинят в поражении его страны. Это человек чести и, может быть, самый смелый из тех, кого знал Грэшем. Побеждать легко, но требуется настоящее мужество, чтобы сражаться, зная, что потерпишь поражение. Грэшем от всей души желал, чтобы герцог Медина Сидония в свой последний час был уверен — ему удалось сохранить свое достоинство. Во дворе раздался шум, и Грэшем услышал знакомый зычный голос: Джордж явился с поздравлениями.
Историческая справка
Когда мы оглядываемся на прошедшие эпохи, уже зная исход событий, мы невольно сообщаем определенность вещам, которые в свое время ею не обладали. Да, испанская Армада потерпела поражение, но описываемые события — одна из интереснейших интриг истории. Отчего случилось так, что самый могущественный флот Европы не смог соединиться с самой могущественной армией в мире и напасть на Англию? Я надеюсь, в моей книге сколько-нибудь значительно не искажены реальные, установленные факты тогдашней истории. Генри Грэшем, Джордж, Манион, Анна — вымышленные лица, хотя вымысел основан на реальных типах людей того времени. Все остальные основные персонажи, включая продажного оружейника из Лиссабона, — лица исторические. Роберт Сесил, первый граф Солсбери, впоследствии достиг огромной власти. Надеюсь, я не исказил исторических данных в его случае, хотя его характер (если не внешность) во многом списан с некоторых известных мне реальных людей.
Командоры Армады вышли в море, чтобы соединиться с армией герцога Пармского, но направление ветра лишило их такой возможности. Вместо этого они обогнули северное побережье Шотландии, решив вернуться в Корунью, пройдя вдоль западного берега Ирландии, чтобы сохранить большую часть своего флота до лучших времен. Их корабли, уже потрепанные в боях, пережили несколько сильных штормов. Многие современные исследователи считают: испанский флот из-за плохого знания испанцами лоций подошел на слишком близкое расстояние к ирландским берегам. Многие корабли разбились о скалы у берегов Ирландии и Шотландии.
Один из них шпион Уолсингема взорвал в заливе Тобермори. Шестьдесят пять кораблей вернулись в Испанию, включая и флагман «Сан-Мартин», и не менее сорока пяти погибли во время кораблекрушений. Из тридцати тысяч человек, находившихся на Армаде, двадцать тысяч погибли, из них в боях — полторы тысячи, шесть-семь тысяч — во время кораблекрушений, а остальные — от тифа, малярии, гриппа, да и просто от плохого питания. Об огромном количестве больных на кораблях говорилось в одном из рапортов: «Если их перевести на берег, госпитали переполнятся, став рассадником заразы, а если оставить на кораблях, заразятся все здоровые. Со стольким числом больных не справиться».
По иронии судьбы, на английском флоте положение было не многим лучше. Английские корабли не были снабжены достаточным количеством еды и воды и т. п., но следовали за Армадой до Шотландии. Рассказывали даже, морякам на борту некоторых кораблей приходилось пить собственную мочу, чтобы выжить. Вероятно, не более сотни англичан погибли в боях с Армадой. Затем разразилась эпидемия, говоря по-современному, пищевых отравлений, и часть кораблей потеряла половину личного состава. Создалась настолько скверная ситуация, а правительство помогало так несвоевременно, что лорду Ховарду пришлось тратить собственные деньги, помогая голодающим и больным морякам.
Дона Алонсо Перес де Гусман дель Буэно, седьмого герцога Медину Сидонию (1550–1619), король Филипп никогда не считал виновным в неудачах Армады, хотя его мнения не разделяли многие современники и до недавнего времени историки, в пути он пережил эпидемию дизентерии. После возвращения на родину он ушел в отставку, вернулся в имение к своим любимым апельсиновым рощам и прожил еще тридцать один год. Алессандро Фарнезе, герцог Пармский (1545–1592), сделал все возможное, пытаясь отговорить своего короля от организации похода Армады. Ему так надоели обвинения в трусости после провала похода, что он однажды на Гранд Плац в Дюнкерке целый день со шпагой напрасно ожидал своих обвинителей. Будучи не в силах успешно закончить войну в Нидерландах и потеряв свою репутацию перед королем, он скончался от боевой раны через четыре года после возвращения Армады.
Король Испании Филипп посылал против англичан еще две Армады, в 1596 и 1597 годах, но обе попытки не удались из-за непогоды. После его кончины в 1598 году новых попыток не предпринималось.
Для сэра Фрэнсиса Дрейка (1540–1596) бои с Армадой стали венцом его карьеры. После них звезда его закатилась, и он участвовал в ряде провальных экспедиций. Он скончался от дизентерии во время последней, на Порто-Белло. Погребен в море.
Сэр Фрэнсис Уолсингем (1532–1590) скончался в нищете через два года после неудачи Армады. Бедность его была вызвана тем, что он потратил огромное состояние на создание самой эффективной системы шпионажа в мире. Презирая мирские блага, он предпочитал, наряду со своей сетью шпионов, финансировать Оксфордский и Кембриджский университеты.
Роберт Сесил (1563–1612), сын лорда Бэрли, главного министра Елизаветы, в дальнейшем сам стал ключевой фигурой в политике при Елизавете и ее преемнике Якове I.
Королеву Елизавету I изображали по-разному. Она скончалась в 1603 году после одного из самых выдающихся царствований в истории Англии. После этого приоритетным вопросом стал мир с Испанией. Его добился Яков I, после чего поток испанских денег в виде «пенсий» английской знати способствовал превращению старого врага в нового друга. В последние годы многие водолазы исследовали затонувшие корабли Армады. На поверхность извлечено немало пушек и ядер, многие из которых отлиты в спешке и содержат целый ряд дефектов.