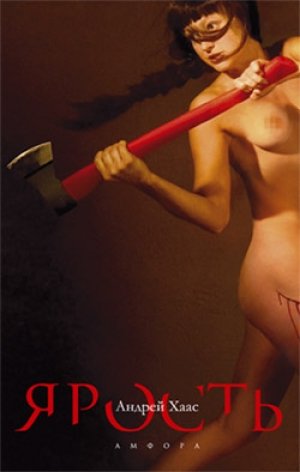
1
Обгоняя автомобильную пробку перед площадью Толстого, ярко-красный «бентли», нарушая все правила, выехал на встречную полосу. Сотрудник дорожной инспекции заметил этот дерзкий маневр, но, разглядев номера, не двинулся с места.
«Пижон», – кипя классовой ненавистью, подумал сержант, отворачиваясь от нарушителя и предостерегающе помахивая жезлом простым смертным.
То же самое или примерно похожее подумали и изнывающие от жары пассажиры на автобусной остановке. Всем им водитель красной машины показался вызывающе наглым. Но за тонировкой салона лица его было не разглядеть, в ней отражались лишь верхние этажи домов, мимо которых проносилась прекрасная машина.
Не думая о производимом впечатлении, водитель «бентли» расслабленно полулежал в своем автомобиле, удерживая руль одной рукой. Вырвавшись с проспекта и перелетев Малую Невку, он совершил еще один недозволенный финт – резко подавшись влево, перерезал встречный поток и въехал на Каменный остров. Теперь в кофейных стеклах машины поплыли длинные пунктиры заборов ведомственных дач и резиденций. У одной из таких крепостей в тени старых дубов стояли массивный «мерседес» с тонированными стеклами и машина сопровождения с мигалкой. Рядом на вынужденном перекуре топтались трое мужчин в одинаковых темных костюмах. Красная машина остановилась, и темные костюмы, как один, повернули к ней свои суровые лица. Из машины вышел элегантный мужчина в белых полотняных брюках, бледно-розовом поло и черных очках. Похлопывая себя по ноге кожаной папкой, новоприбывший уверенно промаршировал к воротам.
Он был невысок, аккуратно скроен, имел поджарое и загорелое тело спортсмена, крепкую шею, красивое лицо с квадратным волевым подбородком и серые глаза. Выглядел он моложаво, и лишь почти полностью седые виски да подломанный в какой-то переделке нос выдавали в нем зрелый возраст и следы разнообразной и, возможно, непростой жизни.
Калитка отворилась без звонка. Гостя, как видно, ждали. Когда он скрылся за воротами, темные костюмы, ревниво присматриваясь, подошли к его машине.
– Опять он на новой, – стараясь говорить как можно более равнодушно, проронил один из них, разглядывая сквозь темные стекла внутренность салона.
– А кто это такой? Похож на комитетчика.
– Черт их разберет, кто сейчас к шефу ездит.
– Может, и комитетчик.
– Ну не школьный учитель, это точно.
Пройдя сквозь рамку металлоискателя и игриво подмигнув напряженным охранникам, новоприбывший уверенно пошел по гравиевой дорожке, ведущей к огромному дому из серого камня с высоким крыльцом и шестью колоннами. Тенистый парк, разбитый вокруг дома, был тщательно ухожен, яркими пятнами на его зеленых лужайках пестрели опрятные цветники, где-то вдали галдели дети, и только их веселые голоса нарушали торжественную тишину этой тщательно охраняемой резиденции.
Войдя внутрь, гость осмотрелся и направился в глубь дома. В просторной гостиной на диване сидели три женщины. Дамы пили чай и, негромко посмеиваясь, о чем-то беседовали. Когда в комнату вошел незнакомый мужчина, все замолчали, а одна из них, полноватая, но с очень приятным лицом, поднялась навстречу.
– Здравствуй, Витя. Владимир Львович на веранде.
Верандой в этом доме, более известном в Петербурге как дача канцлера Белобородко, называлась широкая терраса с балюстрадой и прекрасным видом на Неву. Каменная терраса была уютно скрыта от посторонних глаз стройными туями и защищена от непогоды стеклянной крышей. В центре террасы в прохладной тени деревьев на мягких диванах отдыхали двое мужчин.
– О-о! А вот и он! – поприветствовал новоприбывшего крупный и представительный господин, поднимаясь и протягивая руку. – Вот, Бучаков, послушай, что он тебе скажет, и сделай все, что сможешь, – хриплым голосом обратился он к подскочившему с соседнего дивана сутулому мужчине в светлом костюме. – Это мой старинный друг и, можно сказать, наш коллега, Виктор Андреевич Тропинин.
Обняв хозяина дома, Виктор Тропинин пожал руку мужчине в светлом костюме, а Владимир Львович без церемоний его представил.
– Бучаков Александр. Мой личный юрист, один из тех, кому лучше не попадаться в тяжбе, как ты и просил. С ним можешь говорить по любым вопросам.
Владимир Львович грузно сел и сделал едва уловимый жест рукой. Немедленно из-за стеклянных дверей появились два стюарда – стол со стороны нового гостя быстро оброс приборами и посудой. Пока Тропинину подавали холодные закуски и напитки, все молчали, а когда персонал исчез и запер за собой двери, хозяин дома пожурил своего гостя:
– Давно не навещал старика.
– Специально для этого и прилетел.
– Вот как! – усмехнулся Владимир Львович. – Хорошо! Спасибо, уважил. Не часто мне уже такой почет оказывают. А я-то думал, что ты прилетел не меня повидать, а чего-то понадобилось. Ну, выкладывай, что у тебя за дело?
– Аукцион русского искусства.
– Верно, верно, аукцион, помню, мы же там участвуем. А когда он?
– Завтра вечерние торги, в девятнадцать часов по Москве.
– Так чего ж ты не там? – обратился он к Тропинину.
– Сегодня же улетаю. Через три часа.
– Ясно, – с хитрой улыбкой медлительно цедил слова хозяин дома. – Значит, что-то стряслось и у тебя появились проблемы, иначе зачем тебе Бучаков так срочно понадобился?
– Сейчас расскажу.
Тропинин отпил глоток прохладного белого вина, внимательно взглянул на бутылочную этикетку и расстегнул принесенную папку.
– Дело потому спешное, что оно довольно щекотливое и как раз касается нашего участия в этом аукционе.
– У нас все дела спешные, другими не занимаемся. А кто это нас там щекочет?
– Эксперты «Сотбиса».
– Вот как! – Улыбка мгновенно слетела с лица Владимира Львовича. – Так ты же говорил, что у нас там все чисто! Я и думать об этом забыл.
– Да, верно, еще три дня назад было чисто. По всем вещам, что мы вывезли в апреле, нами представлены положительные экспертизы. Все они приняты на торги, вещи включены в каталог, показаны на предварительной выставке и будут завтра выставлены на продажу, вот, полюбуйся. – Тропинин положил на стол аукционный каталог. – Однако возникло одно непредвиденное «но»…
– Какое «но»? – беря каталог в руки, нахмурился Владимир Львович, и лицо его снова приняло тяжелое выражение. – Говори толком, что случилось?
– Пока еще ничего непоправимого, но кое-что пошло не так, как планировали. Возникла одна проблема. Услышав слово «проблема», юрист немедленно раскрыл блокнот и приготовился записывать, а его патрон нервно застучал толстыми пальцами по столу. На вид ему можно было дать лет шестьдесят или шестьдесят пять. Неулыбчивый, угрюмый, из-за отвислых щек и брезгливых складок у рта похожий на старого бульдога, он презрительно смотрел на мир темно-серыми бусинками безжизненно-равнодушных глаз. Стариковские, кустистые брови и морщинистые подглазники с фиолетовыми сеточками сосудов также не молодили его собаковидной физиономии. О былой природной силе и, возможно, утраченной красоте этого человека напоминала лишь густая шевелюра седеющих волос, хотя и в ней, на самой макушке, предательски блестела протертая временем, но тщательно зачесанная плешь. Высокого роста, с огромными волосатыми руками, тучный и с сипящей отдышкой от постоянных сигарет, Владимир Львович был крупным, рыхлым мужчиной, имевшим больное сердце, отчего его лицо постоянно пылало приливами багровой крови.
– Двенадцать старых картин, десять работ шестидесятников и кое-что из современного искусства, – спокойным голосом перечислял Тропинин, внимательно наблюдая за тем, какое впечатление на собеседника производит его речь.
– Ну, ну и что? – начиная закипать, раздраженно перебил его Владимир Львович.
– По одной из этих вещей возникла проблема.
– Да не тяни ты! Что за проблема?
– Возникло подозрение в подлинности.
– А что это за вещь?
– «Портрет аристократа» кисти Верещагина с заявленной нами ценой в шестьсот тысяч.
– Вот как! – задумчиво протянул Владимир Львович, вставая с дивана и закуривая сигарету.
– Я поначалу думал, что это спор мнений и вопрос просто во времени, но позавчера портрет сняли с торгов. Теперь для окончательного выяснения уже необходим анализ структуры холста и смыв красок. Сейчас вокруг этого работают мои люди, но если они не получат нужного заключения, то нам потребуется уже не только время, но и деньги, и, по всей видимости, немалые, если мы не хотим, чтобы работа безвозвратно пропала в списке фальшивок.
– А с чего они решили, что это фальшак? – спокойным голосом отозвался Владимир Львович. – Мы-то с тобой знаем, что это музейная вещь.
– Ее, как и все остальные картины, проверили эксперты, и они обратили внимание на нехарактерную для автора цветопередачу в колеровке красок. На этой почве возник спор. Дальше стали копать, просветили, увидели под портретом второй слой, ну и пошло-поехало.
– Второй слой? Проклятье с твоими картинами! – раздраженно прорычал Владимир Львович. – Но откуда он там? Не сами же мы его нарисовали!
Виктор еле заметно улыбнулся и пожал плечами.
– А откуда этот портрет вообще взялся? – чирикая карандашом в блокноте, вкрадчивым голосом попытался разрядить обстановку Бучаков.
Тропинин снял темные очки и вопросительно поднял глаза на Владимира Львовича, в ответ тот равнодушно махнул рукой.
– Ему можешь говорить все.
– Темная история, а мы ее запутали еще больше, – стал пояснять Тропинин.
– Портрет поступил из Вышнегорского изобразительного музея, там он хранился еще со времен перемещения частей фондов крупных музеев в провинцию, которое затевало ельцинское правительство в начале девяностых. В Вышнегорске все эти годы работа числилась на временном экспонировании, как часть коллекции одного очень заслуженного артиста сцены, который, по счастью, умер в прошлом году. Итак, портрет восемь лет провисел в этом богом забытом Вышнегорске, а год назад мы устроили ему экспертизу состояния и по результатам отправили в Петербург на реставрацию. Как вы понимаете, в Вышнегорск вернулась наштукатуренная копия, а сам подлинник был вывезен в Англию. Сейчас он во Франции и выставлен на продажу уже как собственность моего фонда, так что я оказался под ударом.
– Вот уж действительно к счастью, – задумчиво проговорил Владимир Львович, снова усаживаясь на свой диван.
– Что к счастью? Что я под ударом? – прохладным голосом поинтересовался Тропинин.
– Нет, это я так, – закачал головой Владимир Львович. – Я об этом артисте, который удачно помер. Вот уж воистину – не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну да бог с ним. Думаю, это дело решаемое. Александр, тебе пока все ясно?
Бучаков пробежал глазами свои записи.
– В целом да. Кое-что нужно будет укрупнить, но это я уже сам. Структурно ситуация мне ясна.
– Хорошо. Не беспокойся, Виктор, и ни о чем не переживай. Передай Бучакову все материалы; думаю, мы решим эту проблему, как говорится, в досудебном порядке. В крайнем случае затребуем картину сюда на экспертизу, не получится – подключим тяжелую артиллерию из Министерства культуры. Просто придется больше заплатить. Надеюсь, она того стоит?
– Стоит, – заверил Тропинин.
– Уверен?
– В этом случае – да.
– Что так?
– Холодный расчет. Если этот портрет подлинник и снова вернется на торги, его можно догнать до полутора миллионов.
– «Загнать» – такое слово я слышал, – насмешливо хмыкнул Владимир Львович. – А вот «догнать» – пока не приходилось. Это как самогон, что ли?
– Извини за банальную терминологию; «догнать» – это разыграть постановочную сцену, раскручивающую покупателя во время торга. Что-то вроде уличного лохотрона с одним зрителем, большими ставками и очень хорошими актерами-помощниками.
– Хорошие у тебя игры, Витя! – возмутился Владимир Львович. – И на такие суммы? Рисковый ты человек! Ну, а если люди не поведутся, не все же дураки, и случится такое, что картину не купят? Тогда что? Она упадет в цене или ее снимут с торгов? А может, ты сам ее купишь за миллион?
После этих слов в воздухе повисло такое электрическое облако, что сидящий между спорящими юрист Бучаков еще больше ссутулился и предпочел закрыть глаза.
– Ты никогда не интересовался такими подробностями, – еле сдерживаясь, ответил Тропинин. – Наверное, потому, что не возникало таких проблем, Но если тебе хочется знать, я отвечу. Мы постараемся довести дело до конца, потому что делаем это не впервые, и схема устроена так, что при этом мы всегда рискуем лишь на сумму комиссионных. Поэтому – чистый и хладнокровный расчет расходов и возможных доходов в пользу дальнейших усилий.
– Чем мы с тобой рискуем? – не унимался Владимир Львович.
– Комиссионные аукциона. Обычно если картина выставлена на продажу, то ее покупает тот, чья цена была последней. В нашем случае, когда известен заинтересованный купец, мы начинаем раскручивать цену до нужных значений, но если в последний момент клиент прекращает торг и покупателями оказываемся мы, то в этом самом худшем случае аукцион получает от нас свой процент, а картина так и остается в фонде.
– То есть как – остается?
– Официально она продается нашему резиденту, поэтому никуда и не девается. Впоследствии она может быть снова выставлена, в другое время, на другом аукционе, или просто продана в частные руки: как угодно. Работы такого уровня не залеживаются, они всегда продаются. Я знаю, о чем говорю.
– Ладно-ладно, не кипятись! Ты же знаешь, я просто не люблю азартные игры – это аморально. Впрочем, все в этой жизни аморально. Хорошо, не беспокойся, эта проблема решаемая, хотя и очень неприятная. Ты же знаешь, не все рты можно заткнуть деньгами.
– Знаю, и я не стал бы тебя беспокоить, если бы мог гарантировать экспертизу сам.
– Понимаю. – перебил его Владимир Львович. – У всех есть предел возможностей. Ты это хотел сказать?
Тропинин промолчал и, как опытный игрок в покер, снова надел темные очки.
– Я только хотел уточнить одну важную деталь, – осторожно вклинился в разговор Бучаков. – А кто еще сейчас знает об этой «проблеме»?
– Здесь никто, но в Монако весь менеджмент «Сотбиса», а это все равно что знают все. Мы засветили портрет, его оценивали, у него даже нашелся потенциальный покупатель, по моим сведениям, банкир из Чехии, собирающий коллекцию, в том числе и русского искусства.
– Значит, если я правильно понял нынешнее положение дела, – подытожил Бучаков, – необходимо осуществить следующие действия: нужно провести подконтрольный анализ подлинности, желательно у нас в России, так? И с его помощью, если есть возможность, доказать чистоту работы. Это раз. Потом забрать копию портрета из этого музейчика, ну, скажем, на специализированную выставку, и уничтожить ее, это два. Следом за этим изъять из фондов в Вышнегорске акты хранения этой работы за все годы и любые упоминания о ней, а для этого послать туда запрос, а еще лучше – проверку, пусть перевернут там все вверх дном, наверняка есть чем их прищучить. Это три! И наконец, самое сложное – задним числом официально вернуть картину артисту по его же просьбе, с тем чтобы он перед смертью успел продать ее фиктивному покупателю, от которого она, чистенькая, поступит в наш фонд. Так?
– Молодец! – изображая на лице подобие улыбки, нетерпеливо буркнул Владимир Львович. – Бери бумаги и действуй. Держи Виктора в курсе событий. Про наследников артиста не забудь.
Тропинин посмотрел на часы и мысленно похвалил себя с успехом. Он потратил всего лишь пять минут на эту беседу, а внезапное обнаружение фальшивки уже воспринимается как непредвиденное осложнение, и ответственность за возможный скандал без раздумий переложена на головы ни в чем не повинных музейщиков. Пока неплохо.
– Да, все так, – вслух согласился он с рабочим планом Бучакова. – Это нужно сделать срочно. Иначе они сами поинтересуются, у кого я купил портрет. В лучшем случае выяснится, что фонд выставил на продажу подделку, а в худшем – краденную из музея картину. Я не могу рисковать репутацией! Нужно изъять абсолютно все упоминания об этой работе, не должно остаться ни одного намека на источник ее происхождения. В противном случае будет даже лучше, если она совсем исчезнет.
– Если только это подделка! – раздраженно прорычал Владимир Львович. – Откуда в музее… ладно, хорошо, не в музее, у покойного артиста могла оказаться фальшивка? А? Подумай сам! И это в какие годы! Конец шестидесятых! Тогда матрешку иностранцам боялись нарисовать, а тут такое дело! Послушай, а этот Верещагин, он что, действительно так хорош и столько стоит? Я чего-то такого и не помню.
Тропинин внимательно посмотрел на удивленного Владимира Львовича и понял – тот не врет. «А ведь действительно не знает, самодовольный осел», – подумал он, застегивая папку и допивая понравившееся вино.
– Подведешь ты меня под монастырь с этими картинами, – мрачно сказал Сидич.
– Василий Верещагин, – наставительно произнес Тропинин, – это гениальный живописец, работы которого находятся во всех крупнейших коллекциях русского искусства.
– Вот как! – насмешливо передразнил его Владимир Львович. – Напугал ежа голой жопой. А я думал, он так, барахло. Ну, тогда ладно, если живописец, придется напрячься. Лети в свою Францию и ни о чем не беспокойся. Все это мелочи. Через три дня твой гениальный Верещагин исчезнет из бумаг музея, как старик Хоттабыч. Можешь мне поверить, это в наших силах. Ну а эксперты, ты сам знаешь, хоть они и продажные шкуры, но многие вопросы теперь даже за деньги не решить.
Когда Бучаков распрощался и ушел, Владимир Львович пригласил Тропинина в дом.
– Будем считать, что с твоей проблемой мы уже покончили, – тяжело дыша, заявил он, поднимаясь позади гостя по старинной скрипучей лестнице. – У тебя еще есть минутка? Тогда давай я тебе расскажу и о моих делах.
Услышав словосочетание «о моих делах», Тропинин улыбнулся. Они были знакомы уже не один год, и Виктор прекрасно знал, что за этим «о моих делах» у матерого аппаратчика Сидича всегда стоит головоломная комбинация, хитроумнейший план, а иногда и сложное театрализованное действо со множеством актеров и статистов, героями, злодеями и целым ворохом сопутствующей бутафории. Такая уж у него работа, если это можно назвать работой. Виктор еще раз взглянул на часы и установил, что до начала регистрации на его рейс остается два часа. Огромный, сопящий, похожий на медведя Сидич влажно дышал ему в спину. На втором этаже особняка размещался кабинет, который соединялся смежными дверями с обшитой дубом библиотекой. Когда они туда добрались, Владимир Львович заглянул в библиотеку и, убедившись, что в ней никого нет, пригласил Виктора в кабинет.
– Здесь нам никто не помешает, располагайся.
Владимир Львович плотно прикрыл массивную дверь и, переваливаясь с ноги на ногу, проследовал к письменному столу.
– Ты сейчас нечасто бываешь дома, нет-нет, я понимаю, такие у тебя дела, но и у меня дел по горло. У нас тут, знаешь ли, у многих задницы начинают гореть. Выборы прошли еще весной, но до сих пор идет великое брожение умов и шатание стульев, каждый старается как может, но в воздухе уже пахнет мочой. Многие просто ссутся от страха. Ты, конечно, далек от всего этого, ты весь в искусстве, но мне сейчас не дает покоя одно, как ты выражаешься, «щекотливое дело», вот о нем я с тобой и хочу поговорить. Думаю, ты сможешь помочь.
Войдя в просторный кабинет, Виктор осмотрелся, и его лицо расплылось в довольной улыбке. На одной из стен висела примечательная живописная картина. Посреди искрящегося яркими красками цветущего летнего луга стоял утопающий в траве черный «мерседес», блестящая лаком дверца машины была распахнута, а за рулем с сигареткой в руке сидела смазливая русская красавица в шитом серебром сарафане, кокошнике, с русой косой до пояса и ярко накрашенными губами. Вокруг машины беззаботно скакали козлята и копошились пугливые зайчики, а на переднем плане в поклоне гнули спины похожие на усталых хоббитов азиатские гастарбайтеры.
– Видишь, приобщаюсь к прекрасному, все твоими стараниями, – услышал Виктор хрипловатый голос Сидича. – Сперва думал на чердак ее отправить, но теперь даже привык. Хотел только попросить этих братьев-художников дорисовать Варе «макаров» в руку.
– А Варя – кто?
– Я так эту бабу называю, напоминает мне одну подругу молодости, была такая Варя Лидина.
– А «макаров» ей зачем?
– Чтобы узкоглазым грозила.
– Хорошая работа. Она и без пистолета хороша, – удовлетворенно заверил Виктор. – Сейчас Близнецы уже подхалтуривают, торопятся, но это еще одна из их ранних. Скоро больших денег будет стоить.
– Денег! – насмешливо фыркнул Владимир Львович. – Витя, очнись! Ты на своем современном искусстве больших денег не заработаешь. Я тебе давно говорю: что ты с этим мусором возишься? Выставки, художники – хлам все это, баловство, так, на даче повесить, людей посмешить. Половина моих друзей вообще не покупает твоих художников только потому, что их картины стоят смешные деньги. Ну что это за суммы – пять, десять, двадцать? Никто и не хочет возиться. Чтобы заработать большие деньги, нужны другие числительные, с большим количеством нулей.
Виктор развалился на скрипнувшем прохладной кожей диване и, мечтательно глядя на Варю, заявил:
– Деньги придут. Все развивается витками, от ноля до бесконечности. Ты думаешь, почему этот Верещагин сейчас стоит миллионы? Что он, самый лучший рисовальщик того времени? Ничего подобного, были и лучше. Просто он во всех коллекциях, он описан критикой и канонизирован историей искусств, а потому не имеет теперь верхнего предела, и его цена будет только расти. Или хоть возьми картины бородачей-шестидесятников. На них сейчас бешеный спрос. Пока они жили в застойное время, нищие и оборванные, о них все ноги вытирали, и можно было их искусство скупать за копейки, за бутылку водки. Сейчас, когда прошло тридцать лет и почти все они померли, их картины стоят по двести пятьдесят тысяч фунтов. То же самое будет и с моими художниками. Вот посмотришь. Шелуха со временем отсеется. А для того, чтобы подобное произошло, нужно именно сейчас ежедневно вымывать из грязи никому не известные имена. Я делаю это потому, что уверен – часть из них через несколько лет сможет конкурировать на мировом рынке, а на единицах впоследствии можно будет сделать по-настоящему большие деньги…
– Годы-ы!! – насмешливо протянул Сидич. – Деньги! Эти два понятия несовместимы! Что прикажешь – ждать годы, пока твои художники все перемрут? Или начать сейчас закупать их картины вагонами? Деньги должны оборачиваться быстро и предсказуемо, иначе их никто не даст!
– Если ты хочешь, чтобы все было быстро, и в глазах крутились нули, – весело улыбаясь, заявил ему Тропинин, – вложи деньги! Я тебе давно говорю – искусство сейчас дорожает, как нефть во время войны. Заметь, это непортящийся товар, который от времени становится только лучше. Дайте денег, вложитесь, но дайте столько, чтобы тут мгновенно появилось все то, что уже давно есть на Западе! Тогда и деньги будут другие.
– Что это ты имеешь в виду? – отозвался Сидич, копаясь в каких-то бумагах на столе.
– Что имею в виду? Я делаю все, что могу, я работаю сутками и, по сути, живу в самолете, но моих мощностей уже не хватает, нужен новый этап. Нужно кормить целую армию людей, платить гранты, иметь свою прессу, нужно участвовать в крупнейших событиях и, наконец, нужно все знаковые события проводить тут, у нас. Нескольких наших ярмарок искусства и этой жалкой биеннале теперь мало, нужно нечто большее, но в первую очередь необходимо создавать новый пласт коллекционеров. Нужно подтягивать богатых людей с их огромными активами. Искусство не может существовать без продаж! Бизнесмены, уже нажравшиеся домами, яхтами и джипами, должны теперь собирать коллекции. Только большие деньги, вложенные в российское искусство, смогут сейчас оживить нынешнюю вялую ситуацию и заставить считаться с нами мировые кланы кураторов. И только это, в свою очередь, начнет приносить ту прибыль, о которой ты говоришь. Но девяносто девять процентов тупоголовых жлобов, называемых российскими коммерсантами, считают современное искусство зоной риска.
– И правильно делают, – раздраженно рявкнул Владимир Львович. – Ты не обижайся, но я тоже так думаю. Вот, например, эти твои Близнецы, как ты говоришь, лучшие наши художники. Я надеюсь, что ты не считаешь меня тупоголовым жлобом? Нет? Если не считаешь, то спроси меня, купил бы я их картину сам, без твоей подсказки? Нет, не купил бы. Боюсь, что не только я – никто не купил бы. Ты же мне просто в руки их сунул, привез и оставил. Но они еще ладно, эту «Варю» хотя бы на стену повесить не стыдно. А все остальное? Что это за говно, которое сейчас называют современным искусством, что эти ненормальные художники рисуют и выставляют? На это же смотреть тошно! Не знаешь? Я знаю! Да им плевать, плевать на меня, на тебя, плевать на людей с деньгами, они рисуют для себя! Правильно, молодцы! Непонятно только, что тогда ты жалуешься, что никто из людей с деньгами не торопится покупать этот мусор. Многие из богатых, конечно, очень тупоголовые, но нужно быть полным идиотом, чтобы купить за десятку кучу разрисованных картонных коробок, срущую поролоновую собаку или трехминутное видео с дебильными рожами!
Одержав эту убедительную победу в завязавшемся диспуте, Сидич всем телом откинулся на спинку кресла и насмешливо уставился на своего оппонента. Виктор нисколько не смутился его железной аргументации и тут же привел свои контрдоводы:
– Раз уж на то пошло, то во всем мире все, с кем я соприкасаюсь, везде продают такой же мусор, какой делают наши художники, если еще не хуже! Уровень наших художников порой даже выше, но западные галереи свой мусор продают так обстоятельно и делают это с таким серьезным видом, что коллекционеры платят сотни тысяч и ни в чем не сомневаются. Они знают, что покупают не раскрашенные коробки, они покупают имя и их деньги защищены. Это как акции на бирже, где котировки не могут упасть ниже номинала. Они просто вкладывают деньги.
– Деньги, деньги, все просят деньги! – раздраженно заворчал Сидич. – Деньги не проблема, их можно найти в любом количестве. Сложность заключается в том, как объяснить тем, у кого они есть, что именно это имя завтра будет в цене и что, например, твоя «Варя» через десять лет будет гарантированно стоить в десять раз дороже.
– Эта «Варя», как ты ее называешь, подлетит в десять раз уже через неделю.
– Опять заливаешь! – засмеялся Владимир Львович.
– Нет, серьезно, есть один план.
– Ну, поживем – увидим. Кстати о твоих планах: а этот самый Рогулин, с которым я тебя познакомил на Мальте, он купил у тебя что-нибудь? Помню, бил себя в грудь кулаком. Вот кто богат.
– Сразу нет, но встал на очередь.
– Шутишь?
– Конечно шучу. Скоро купит. Мы с его женой встречаемся завтра, я консультирую ее на этом аукционе.
– Чужая жена дело хорошее, но ты с ней поосторожней. Рогулин мужик со странностями. Люди для него пешки, но денег у него море, он у нас «хозяин тайги». А пока, – тут Владимир Львович сделал ухмыляющуюся гримасу, – если тебе нужны деньги на твоих нищих художников, могу предложить красивый вариант, и почти по твоей части. У меня самого руки никак не дойдут, а ты вот, если хочешь, займись.
– Что за вариант?
– А вот! – Сидич распотрошил пачку документов и вытащил из нее какие-то листики. – Есть четыреста тысяч тонн бронзы! – объявил он торжественным голосом.
Виктор со смехом вскочил с дивана и замахал руками.
– Да ты послушай! – продолжал Владимир Львович. – Дело говорю. Оформи их на свой фонд, ну, хотя бы как скульптуру, мы без пошлин вывезем ее и подарим какой-нибудь Ботсване, а деньги на Кипр! Чем не искусство? Сейчас за это даже медали дают, могу и тебе выбить: «За вклад в культуру малых народов».
Сидич хрипло засмеялся и стал дальше рыться в бумагах.
– Или вот, гляди! Еще лучше. На эту же тему, но тут и думать не надо, уже готовая скульптура. Если тебе не нравится бронза в чушках, есть лодка!
– Какая еще лодка? – ухмыляясь, поинтересовался Виктор: странный разговор стал его забавлять.
– Натуральная, из высокопрочной стали. Списанная с Северного флота подводная лодка, вооружение снято, но дизель еще на ходу, сама движется в надводном положении! Как тебе? Чем не современное искусство? Ну, раскрась ты ее как-нибудь. Хочешь – продай, хочешь – утопи, хочешь – сожги и фильм про это снимай.
– Фильм мало снять, его еще продать кому-то нужно. Не все так просто.
– Понятно, что непросто. Было бы просто, у нас бы тут все искусством занимались. А может, наполнить ее чеченской нефтью, привезти в Брюссель и поставить перед Советом Европы, как скульптуру – в подарок от благодарных народов Кавказа? Что думаешь? Они нам еще и денег отвалят.
– А есть уже один русский художник, Андрей Молодкин, который нефтью свои скульптуры наполняет, но он живет в Париже.
– Не хочешь нефтью, залей ее мазутом, гудроном, асфальтом, у нас всего навалом, а у них, бедняг, кризис с энергоресурсами, вот и заплатят нормально и за железо, и за нефтепродукты.
– Такой бред никто не купит.
– Почему не купит? Ты же мне сам рассказывал про ловкача, который десять тонн нефтяного вазелина каким-то дуракам под видом скульптуры за миллион продал. Как его звали?
– Мэтью Барни?
– Точно.
– Он не ловкач. За ним крупнейшая американская галерея стоит.
– Да плевать я на него хотел. У него цистерна вазелина, а у меня тут целая лодка водоизмещением в три с половиной тысячи тонн. Неужели с этим ничего не сделать?
– Лодка?
– Лодка. Я тебе говорю, в Кронштадте стоит, и документы есть, а чего с ней делать? Ума не приложу. В переплавку жалко, да и деньги плевые. Может, киношникам ее вдуть?
– Подожди, не переплавляй, я подумаю.
– Подумай, подумай. А чтобы лучше думалось, могу еще и человечка в придачу дать. Из той же структуры, капитан первого ранга в отставке, немного съехавший, но очень забавный капитанчик. Если ты ему объяснишь, чего делать, он тебе горы наизнанку вывернет и, если надо, из лодки самолет сделает. Его папан возглавляет у нас целый холдинг оборонных заводов, представляешь, чего они могут нагородить. Сделай лучше из него художника, больше проку будет.
– Надо подумать. Можно пригнать ее морем в Венецию и сделать на биеннале альтернативный павильон.
– Валяй.
– Договорились, вернусь из Франции и займусь твоим капитаном. Ну а если серьезно, ты хотел со мной о чем-то поговорить? Что это за «дело»? Говори, а то у меня скоро самолет.
Владимир Львович сухо чиркнул зажигалкой, прикурил сигарету и погрузился в облако сизого дыма.
– У нас, как всегда, целый ворох проблем, не знаю даже, как тебе и объяснить, чего я хочу. В общем, ничего конкретного. Как говорится, нужно «ветром искусства качнуть волну мнения».
– Ветром искусства? А если без аллегорий? Объясни попроще.
– Без аллегорий? Хорошо. Возникли перегибы, а точнее, продолжаются некие события, формирующие негативное отношение к межнациональным проблемам в нашем регионе. Вот так вот. Неожиданно, правда? Жили мы жили, и тут выясняется, что у нас не культурная столица, а первенство по этническим конфликтам, убийствам иностранцев в стране, а это, как ты понимаешь, ставит нас в очень зависимое положение от всех бредунишек из прессы. Смольный от проблемы официально открестился, МВД, как по учебнику, ловит скинхедов, вот и получается, что структурно это только наша головная боль. Мы уже готовим к эфиру цикл передач, нужно сейчас кое-что подправить в сложившемся балансе мнений, покуда кликуши из общественных комитетов не повесили на нас своих дохлых собак. Ты же знаешь, наше дружное многонациональное общество, оно как бедный родственник: пока живо и никого не трогает, на него всем плевать, когда начинает покашливать, то все жалеют денег на нормального доктора, а когда помрет, то начинаются выяснения: «кто виноват?». В проблемах текущего момента «лечить» уже некогда: вопрос пора закапывать. В общем, похоже на тот самый труп, который, с одной стороны, целуют в лоб, а с другой – он уже пованивает…
– Владимир Львович, дорогой! Даже я слышал о зарезанных студентах, растерзанных детях, но чем же я могу помочь? Художники увлечены только своим творчеством, и никто из них патрулировать рабочие окраины не пойдет. Да и сам я уверен, что всё это темные ходы в чьей-то игре. Ты же сам говоришь, «все ссут в штаны», вот кто-то и дергает с перепугу не за те нитки.
– А кто говорит, что нужно кого-то спасать? – насмешливым голосом возразил Сидич. – Все и так образуется, слава богу, не в первый раз. Сами художники сейчас никого не интересуют, не те времена. Просто для полноты сложившейся картины я хочу с их помощью добавить один яркий штришок. Ну ты меня понимаешь?
– Пока не совсем.
– Я тебе битый час толкую, есть перекос, нужно попытаться уравнять ситуацию. В общем, нужен направленный микровзрыв, и разорваться он должен там, где его никто не ждет, к примеру в самом загнившем участке, в зоне национального достоинства. Это очень слабое и болезненное, полностью атрофированное место в нашей системе духовных знаков и ценностей. Нужно показать людям нечто такое, что могло бы отвлечь или переориентировать общественный взгляд от мелко-уголовных проблем с убийствами африканцев. Дать понять, что проблема не в единичных случаях расовой ненависти или бегающих по подворотням скинхедах, проблема гораздо глубже – в отсутствии национальной идеи, разрыве памяти между поколениями, неуважении нынешних к предыдущим. Одним словом, срочно нужна какая-нибудь точечная художественная провокация, уголовно не наказуемая, но инспирированная в самом центре общественного внимания, гнусная пакость. Такая, чтобы все вскипели, завозмущались, как тогда, пять лет назад!
– А что у нас было пять лет назад? – Виктор удивленно поднял брови.
– Ну как же! Был ваш блестящий проект с поруганием и рубкой икон на выставке! Вспомни – недоумок с нерусской фамилией предложил всем желающим рубить топором иконы! Я как сейчас помню эффект: земля дрожала от праведного гнева, поднялся такой рев, что, по нашим сведениям, этот «художник» до сих пор в бегах. Пресса просто захлебнулась от воплей, народ всколыхнулся, но самое главное – на какой-то, очень важный тогда для нас момент все и думать позабыли про прочие беды и неурядицы в нашем городке. В этом был главный медийный фокус. Он отвел народный гнев в нужную нам сторону. Прекрасный пример пропагандистской диверсии с удивительным финалом, где каждый получил то, что хотел: иерархи обратились за помощью на самый верх, простые православные сплотились против святотатства, пресса напилась кровью, и даже этот дурак художник не остался внакладе. Сейчас нужен вот такой же «барашек на заклание», который сотворит чего-нибудь, а мы дадим команду, и пресса поднимет вой до небес.
– И кто же это будет на этот раз? Теряюсь в догадках. Для подобного нужен просто смертник.
– Решай сам. У тебя же там целый институт умников проекты по искусству пишет. Но сроки очень сжатые, иными словами, результат нужен срочно.
– У нас послезавтра большая выставка в Манеже, попробую что-нибудь придумать.
– Ну, вот и отлично, а я нагоню туда армию прессы, они будут наготове. Считай это услугой за услугу, так что можешь не церемониться.
Сидич вылез из-за стола и протянул волосатую руку для прощания.
– Ну, лети. Поспешай, а то опоздаешь еще на свой аукцион.
Виктор с сомнением взглянул на часы.
– Не переживай, – успокоил его Владимир Львович. – Есть одно средство, как не стоять в пробках, я сейчас распоряжусь, в крайнем случае тебе самолет подержат.
Получив по рации команду, покрытый дорожной пылью сержант бросился к пульту и едва успел переключить сигнал светофора, как на площадь выплеснулся срывающийся нервными переливами вой сирены. Расталкивая транспорт и требовательно сигналя неуступчивым водителям, по встречной полосе несся белый «мерседес» милиции с включенными мигалками, а за ним в образовавшейся пустоте летел ярко-красный «бентли», в кофейных стеклах которого лица водителя было не разглядеть.
2
Издалека, будто бы из другого мира, сначала неясно и монотонно, а потом все громче и неотвратимей к диванчику со спящим на нем небритым человеком приближался жуткий срывающийся звук. Вой сирены раскаленным сверлом вгрызался в бессознательную оболочку его тяжелого сна, а сам он, прятавшийся от света дня в тесной скорлупе своего пьяного обморока, чувствовал, как на него накатывается этот страшный звук. Чувствовал, но не знал, как спастись. Пошевелившись и шумно вздохнув, человек болезненно застонал. На вид ему было лет тридцать пять – сорок, роста среднего, крепкого телосложения. Необычайно бледное лицо с прямым носом и высоким лбом, капризный рот, темные, но уже с сединой волосы. Спящего можно было бы назвать красивым мужчиной, если бы не жуткая помятость лица и не странность позы, в которой он скрючился на маленьком диванчике в приспущенных джинсах, мятой майке и одном носке. Потянувшись занемевшим телом, он больно уткнулся головой в подлокотник и от неожиданности толкнул ногой стоявшую рядом бамбуковую этажерку. Чашки, кошечки, олимпийские медведи, матросы, танцующие балерины – вся эта фарфоровая дребедень зыбко качнулась и с грохотом посыпалась на пол. Ничего не видя перед собой, человек в ужасе вскочил, но, потеряв равновесие, тут же упал, только чудом не поранив рук о битые осколки. Болезненно морщась, он сел и с трудом открыл слипшиеся веки. Кухня, печка, окно – все вставало на дыбы, к горлу подступала горячая тошнота, и нечем было дышать. Тимур Амуров, так звали бедолагу, проспал всю ночь на старом кухонном диванчике, обычном месте отдыха Перро, любимого мастифа его подруги Сони.
– Как мне плохо, господи, – просипел несчастный, потирая свои красные глаза. – Соня убьет меня за своих пупсиков.
Медленными вялыми движениями он начал счищать с себя налипшую собачью шерсть, потом наклонился собрать осколки, но тут физическая слабость соединилась со свистом в ушах, и ему стало совсем тошно. Птица в клетке, приметив движение рядом с собой, залилась радостной трелью. Монтекристо, старый кенар персикового цвета, вот уже шесть лет безуспешно пытался подманить подругу. В его озабоченных трелях любое хмурое петербургское утро всегда становилось радостней и светлей, но сегодня этот свист сводил Тимура с ума. Он закрыл уши ладонями и вспомнил то единственное, что могло отвлечь птаху от пения. Бедный Монтекристо затихал и, нахохлившись, замирал на шестке, когда на кухне начинали курить. Нащупав в кармане мятую пачку, Тимур прикурил сигарету и, прицелившись, выпустил по клетке клубящуюся в луче света струю дыма.
– Моня, прости и заткнись, пожалуйста, – прохрипел он.
Мучаясь своим гадостным состоянием, Тимур сидел на полу, клял себя нехорошими словами и собирался с мыслями. Собирать, собственно, было нечего. Многолетний опыт художнических пьянок давно уже подарил его памяти предел забвения, и часто выходило так, что после всех более и менее серьезных попоек он просыпался хоть и с тяжелой головой, но чистой совестью безвинного ребенка. Клеточная самозащита мозга, не желающего запоминать последствий последней, и, как правило, лишней бутылки, стирала из его воспоминаний все следы ночных похождений. Грозной совестью в таких случаях выступала никогда не пьющая Соня. Это она со свежим утренним лицом всегда холодно интересовалась, помнит ли он свои подвиги и не желает ли о них послушать, а он только диву давался и, застенчиво смеясь, сжимался от ужаса, слушая рассказы о своих бесчинствах и пьяных выходках. Трезвым он был милейшим человеком, но вино делало из него животное, чаще всего агрессивное и сексуально озабоченное. После таких попоек он каждый раз театрально раскаивался и на неделю другую становился волевым трезвенником, но глубоко в душе ему нравилось такое раздвоение собственной личности, и, как правило, очень скоро все повторялось вновь. Напиваясь, он в натуральном смысле выпускал из винной бутылки свое второе «я», становился разнузданным и похотливым, бесшабашно искал новых приключений.
Ужасно, но, кажется, вчера все именно так и получилось. Головная боль, как грозовая туча, придавила его небосклон. Начиная уже догадываться, как он жутко накуролесил и проштрафился, Тимур трусливо решил притвориться больным и, придав своему прокуренному голосу подобие жалостливого тона, замычал по направлению к закрытой двери:
– Соня! Сонечка! Мне плохо…
Мастерская безмолвствовала.
Оставалась надежда, что он проснулся слишком рано и Соня еще спит. Он решил взять собаку и пойти прогуляться по Александровскому саду. Бог даст, ему полегчает и все как-нибудь наладится. Встав на четвереньки, чтобы попробовать подняться, он вдруг похолодел от ужаса.
А почему я спал на кухне?!
Тимур посмотрел на закрытую дверь и с недоумением увидел на ней множество вмятин и валяющийся рядом поломанный стул. Теперь воспоминания посыпались срочными телеграммами.
– Что же это такое? – с трусливой тревогой спросил он себя. – Кто это дверь ломал? Неужели я?..
И тут ему стало совсем не по себе. Концовку вчерашнего веселья и то, как он ломал двери, а также дурацкий собачий диванчик вспомнить пока не удалось, но сам вечер в общих чертах уже вырисовывался.
Вчера они с Соней были приглашены на день рождения. Именинница – художница Залтия, усыпанная бижутерией темноволосая казашка с милой улыбкой и упругим бюстом, принимала поздравления и порхала по заставленной картинами студии. У нее всегда бывала довольно разношерстная публика, но на этот раз собрался узкий круг друзей, поэтому общество получилось милое. Все гости чествовали именинницу, потом растекались по комнатам и затевали всяческие разговоры. Семейных пар было немного: Тимур с Соней, Никаноровы, Горский со своим гаремом, все остальные: молодые женщины, влюбленные в Залтию модели и несколько ее настоящих подруг – манерных геев разных возрастов, обожающих ее салон за всяческие проказы, которые она позволяла им у себя устраивать. Алкоголь всегда был той бомбой, которая высвобождала бешеную энергию Тимура. Придя на день рождения, он поначалу вяло слонялся от компании к компании, чинно попивая шампанское, пока брют в его бокале не сменила водка. Когда же подали горячее и все уселись за стол, вокруг него образовался кружок пьющих крепкое, и вскоре хохот их компании уже перекрывал всеобщий гул голосов.
Соня, всегда с неодобрением относившаяся к таким его порывам, делала знаки и страшные глаза, но, охваченный куражом и не желая останавливаться, он прятался от нее и пил украдкой за спинами друзей. К концу дня рождения его развезло. Гости постепенно расходились, Тимур с некоторыми из присутствующих вознамерился развлекаться дальше. Соня в ужасе сбежала, а он остался в нежной компании и напился так сильно, что едва не угодил с новыми друзьями в гей-сауну. Тимур с отвращением вспомнил, как он целовался в губы с этими обходительными мужиками и клятвенно обещал через час вернуться. Сбежав от них, он поехал по клубам.
В два места его просто не пустили из-за неформатного вида, а в третьем, что называется, повезло – он встретил на входе каких-то знакомых и оказался на гламурной вечеринке глянцевого журнала «ProNas».
Само по себе общество новых русских буржуа может отравить любого своей лощеной спесью, но пьяный Тимур нырнул в него как рыба в воду и сразу нащупал там знакомых коммерсантов. Под сет модного диск-жокея он выделывался у бара с каким-то владельцем парикмахерской, а еще через полчаса к ним присоединился человек в шикарном серебряном костюме, и все трое забились в туалетную кабинку, где, дружно хохоча, по очереди сгибались над унитазным бачком. Кокаин произвел свое отрезвляющее действие, в носу захлюпали горькие сопли, события стали развиваться быстрее, и к нему частично вернулось сознание.
Что было уже после этого, Тимуру даже вспоминать не хотелось. Денег, чтобы угощаться в дорогом баре, не осталось, кокаин больше не предлагали, он сделался резким в движениях, напряженным и раздражительным. Парикмахер и офисный менеджер куда-то исчезли, он стал рыскать по клубу и приставать к крашеным блондинкам, но вскоре его попросили к выходу, а после непродолжительной беседы с огромными охранниками и вовсе выставили вон. Быстрый переход от призрачного сияния люстр «сваровски» к маслянистому мраку на Садовой улице, издевательская вежливость охранника и презрительные взгляды нарядных проституток вызвали у него приступ необычайной злобы, а за ним и тот самый, «последний», как оказалось, лишний позыв выпить.
И вот тут Тимур все вспомнил.
– Соня! – испуганно закричал он, хватаясь за медную ручку и наваливаясь на дверь всем телом.
Услышав шум в дальней части мастерской, огромная собака палевой масти, размерами напоминающая небольшого льва, подняла голову и нахмурила черную морду. Мастиф вскочил, вопросительно посмотрев на свою хозяйку. Та, кому он был предан больше жизни, плавным жестом руки успокоила храброго пса и осторожно пощупала лиловый синяк на запястье. Она даже поспала немного, забылась на какое-то время. Это безумное утро и разорванные в клочья нервы, страх и ненависть, все вселило в нее жуткую отрешенность от себя самой, от собственной жизни, от своего настоящего и будущего. Теперь, в оцепенении от пережитого стресса ей было необычайно уютно, страх и потрясение вылились в короткое забытье, и, медитируя, она вознеслась на призрачный холм из оставленных ею горестей, с которого вдруг ясно увидела широкую и ровную дорогу, по которой теперь следует идти не оглядываясь. Все правильно, теперь она должна уходить.
Так прощай же, живописец Амуров.
Пытаясь унять подступившие слезы, Соня поднялась и, сделав пару шагов, предстала перед беспощадной пропастью зеркала. Старинный, местами пузырящийся амальгамой лист венецианского зеркала вздымался от пола до потолка и венчался барочным завитком облупившегося золота. Боясь смотреть на себя, она обшарила взглядом привычные безделушки на мраморном столике и только потом стала разглядывать свое отражение. Из темноты зазеркалья на нее грустно смотрела стройная девушка, в длиной юбке, короткой, обнажающей живот кофте, с красивым, но припухшим от слез лицом и усталым взглядом. Тугая почти до пояса темная коса, густые брови, большой чувственный рот, бездонные серые с голубой искрой глаза – вся ее красота была при ней, не хватало только обычной озорной улыбки, да щеки пылали нездоровым румянцем. Она посмотрела на синяк и вспомнила, как он хватал ее своими чугунными ручищами, пытался взять силой, грубый, жестокий и чужой, сопящий в лицо перегаром. От жалости к себе слезы обиды все-таки выплеснулись горячими каплями. Цокая когтями по паркету, к ней подошел Перро. Собака села рядом с хозяйкой, шумно вздохнула и уткнулась в нее своей огромной головой.
Да, мальчик. Тебя люблю. А его…
Зная с детства неистощимость своих слез, она отошла от зеркала и решила, что пора брать себя в руки. Собранная сумка стояла на полу. Соня бессильно опустилась в кресло и с ужасом поняла, что абсолютно все в ее жизни до этого момента они делали вместе – даже покупали эту сумку. Сейчас она сложила в нее самое необходимое, камеру, свой дневник, какие-то вещи и несколько книг по искусству. Больше брать ничего не хотелось.
Со стороны кухни послышался отчаянный грохот, это, сотрясая дом, Тимур пытался освободить дверь, заклиненную буфетом в узком коридоре. Ночью, когда он вернулся пьяным и стал оскорблять ее, глумиться и с кулаками домогаться близости, на него неожиданно бросился Перро. Это был первый раз, когда ее добрый и ласковый Перро проявил агрессию к человеку. Сейчас вспоминая, как трусливо удирал от него Тимур, как он спрятался на кухне и как в конце концов оказался в ней заперт, она даже улыбнулась. Соня встала, взяла ошейник, а мастиф, вообразив, что предстоит прогулка, взволнованно задышал.
– Пойдем, завтра выставка, а послезавтра мы уедем из города!
Она накрутила ремешки от сандалий на свои тонкие лодыжки, подхватила сумку и, тихонько прикрыв за собой дверь, вышла с собакой на лестницу.
Тимур отбил себе все ноги, пытаясь сломать массивную дореволюционную дверь, но, не добившись успеха, приспособил гладильную доску и, разбив ее в щепки, пробил-таки дыру. Когда удалось выломать нижнюю филенку, он, абсолютно мокрый от испарины, задыхаясь, опустился на пол и стал слушать, как бешено стучит сердце. В тяжелом хмельном чаду воспаленный мозг вопил, что он крушит свой собственный дом, свою счастливую жизнь, оставшуюся по ту сторону проклятой двери, но ему казалось, что стоит сломать ее сопротивление, и его сокрушающее усилие докажет, что он истово хочет вернуть всем покой.
И вот удалось!
Просунув в дыру гудящую от боли ногу, он изогнулся всем телом и, поднатужившись, оттолкнул злополучный буфет. Дверь бесшумно открылась. Тимур прислушался и, как раненый волк, прихрамывая, побрел по темному коридору навстречу солнечному свету, льющемуся из огромных окон мастерской. Он решил, что лучше будет войти и сразу упасть к ее ногам, этим стройным, любимым ногам, обнять их и покорно затихнуть. А после – следить за ее движениями, ловить взгляды и быстрее самой мысли предупреждать желания и ждать, ждать, когда этот ангел простит его. Но, преодолевая эти несколько метров, он наполнился таким отчаянием, что только страшным усилием воли заставил себя переступить порог комнаты. Ветер, гуляющий в открытых окнах, весело шевелил белый шелк занавесей. На огромном мольберте в углу пылилась давно заброшенная незаконченная картина, у стены – кровать с мятым бельем и горой подушек, в центре огромный стол, а на нем опрокинутая ваза и сохнущие на мокрой скатерти ирисы. За исключением общего беспорядка все было как всегда, из комнаты исчезли только Перро и сама Соня.
«Ушла, бросила меня, а я чуть ногу не сломал», – зашипела жалостливая змея в голове.
В одно мгновение мучительное раскаяние негодяя, терзавшее его до этой минуты, сменилось тоской самолюбивого зануды и едким раздражением на весь мир. Тимур, прихрамывая, прошелся по комнате, закурил, привычно уселся на подоконник, затем выглянул во двор, плюнул вниз на играющих детей и только тогда заметил в окне напротив лицо соседа, который с искренней укоризной смотрел на него. Придя от этого в еще большее раздражение, он вскочил и так резко задернул штору, что едва не сорвал ее с карниза.
«Старый онанист, всегда подглядывает, до чего же надоела его слащавая рожа, – раздраженно подумал Тимур. – Учитель или кто он там. Представляю, чему учит детей этот педофил, особенно десятиклассниц с торчащими сиськами».
При мысли о молодых девичьих грудях он замаслился лицом и закопошился рукой в кармане джинсов. Не зная, чем себя занять, присел на кровать, сонно склонил голову и, покачиваясь телом, стал прислушиваться к своим тягостным ощущениям.
Очень болит голова, а особенно лоб, тошноты уже нет, но комната все еще плывет перед глазами, горячая и опухшая правая нога жутко болит, у левой ноет пятка, во рту непередаваемый вкус пепельницы и нечищеные шершавые зубы, одежда воняет табаком, в животе голодная резь, хочется холодного пива и голую десятиклассницу. Нет, двух десятиклассниц.
Послушно налившись горячими фантазиями, Тимур живо представил голых, со связанными руками и завязанными глазами школьниц, стоящих на коленях, и себя в роли мускулистого и строгого учителя…
«Похоже, что я теперь надолго отлучен от тела. Наверное, вчера серьезно перебрал. Это все те грудастые бабы из клуба так меня распалили, Полина и Вика, кажется. А, чего вспоминать, бред…»
Сквозняк качнул штору, стукнула входная дверь, и Тимур отчетливо услышал, как в прихожей заскрипел паркет.
– Эй! Есть тут кто? – раздался чей-то хриплый голос.
От неожиданности Тимур замер. Удивленно озираясь, в комнату вошли двое мужчин в синих комбинезонах.
– Здравствуйте, было открыто. А у вас тут всего одна кровать? – спокойно поинтересовался один из них.
Тимур растерянно кивнул головой.
– Ну тогда, Вань, мотай.
Не дожидаясь ответа, тот, кого звали Ваня, подошел к Тимуру.
– Нужно встать.
Машинально поднявшись, Тимур сглотнул вязкую слюну и возмутился:
– А вы кто? И чего, собственно, надо?
– Перевозка картин, – равнодушно сообщил Ваня, начиная энергично обматывать кровать упаковочной пленкой. – Вот заказик от галереи.
В дрожащих руках Тимура оказался желтый бланк с какими-то каракулями.
– А чего это вообще… – не разобрав ничего в написанном, запротестовал несчастный.
Подельник Вани бросил на пол связку зеленых ремней и завладел квитанцией.
– Ну вот же написано. Заказывала гражданка Штейн, кровать одна, со всем содержимым, доставить в Манеж.
Ваня молодецки заржал, указывая товарищу на порнокартинки, которыми были обклеены спинки кровати. В считаные минуты все было упаковано, грузчики обмотали кровать ремнями, завалили ее набок и, не прощаясь, утащили, громко матерясь на лестнице.
В комнате сразу стало пусто. На полу остались лишь след пыли, пара окурков и сиротливо сморщившийся старый носок. Брезгливо осмотрев образовавшийся разгром, Тимур решил привести комнату в порядок.
«Чистота – первое средство, чтобы немного сгладить вчерашнюю размолвку. Рано или поздно она вернется, но будет общаться только с собакой, будто-то бы меня и нет. Это у нас так водится. Ну и что? А я к этому моменту уже все приберу, приму душ, побреюсь… и на что ей кровать понадобилась? А это что?»
На узком столике бюро стоял старенький IBM. Чтобы разобрать написанное, Тимур приблизил лицо к его голубоватому экрану.
Вот и все, дорогой Тимур. Теперь у тебя нет меня. Теперь ты один, наверное, ты этого и хотел. Как-то незаметно наша счастливая жизнь превратилась в прокуренный и пропитый тобою ужас, ты растерял все свои таланты, оставил искусство и стал моей большой грустью. Если любишь, грусть терпится, но унижение никогда.
Сегодня, когда ты ударил меня, я увидела другого, незнакомого мне страшного человека. Потом долго плакала, а когда слезы высохли, я поняла, что не люблю этого человека – я не люблю тебя.
Так прощай же, живописец Амуров. Будь настоящим мужиком, пей, веселись, нюхай свой проклятый кокаин, а меня забудь. Уйди из моей жизни, ты скучный и обыкновенный, мне не интересно с тобой.
Соня Штейн
Уставившись в экран, Тимур так долго не дышал, что едва не задохнулся. В полной мере смысл письма стал ясен только после второго прочтения. Яростно рыкнув, он врезал кулаком по клавиатуре, старенький компьютер подпрыгнул. Тимура обдало жаром. Гнев из воспаленного мозга проник в сердце и вернулся в сознание холодным страхом давно забытой муки одиночества. Он сполз на пол, нащупал выпавшие клавиши и, тяжело дыша, стал прилаживать их обратно. Через какое-то время сознание мало-помалу стало возвращаться. Он малодушно решил уничтожить письмо, стереть его, притвориться, будто его и не было, закрыть и выключить компьютер.
Ухватившись за эту выдумку, Тимур стер письмо, выключил питание и немного повеселел, а когда экран почернел, в прихожей неожиданно громко и требовательно задребезжал старомодный колокольчик.
«Она!!!! – радостно взорвалось сердце. – Соня!»
Забыв про ужасное письмо, он вскочил и сломя голову кинулся к дверям. Перед тем как открыть, потер небритые щеки, даже похлопал по ним для большего отрезвления, резко выдохнул три раза и игриво прогундосил:
– Кто пришел?
Распахивая дверь, он просиял счастливой улыбкой.
– Ну вот! Хоть кто-то мне рад! – нахально улыбаясь, заявил ему стоящий на лестнице молодой человек.
Нежданный гость выглядел как аляповатый коллаж, склеенный из вырезанных в модном журнале разноцветных кусочков: красные шнурованные ботинки, ярко-желтые рейтузы, белые шорты, зеленая маечка, темные очки и серо-голубые волосы.
– Тимур! – повышая интонацию, плаксиво заголосил разноцветный. – В этом городе мне никто не дает в долг!
Дополнив эту реплику коротким ругательством, он, не делая ни малейшей паузы, разразился громким и неестественным смехом.
– Дай мне сто долларов, мне очень нужно. Послезавтра Манеж, и я снова буду богат. Тогда и отдам, ты же меня знаешь…
– Артемон, пошел вон! – темнея лицом, на одном выдохе прошептал Тимур, закрывая дверь.
Но гость с таким странным именем нисколько не смутился. Ловко подставив ботинок под дверь, он ухватился за ручку и энергично потянул ее на себя.
– У тебя нет? Да?! – бодро прокричал он в образовавшуюся щель. – Ну так позвони кому-нибудь, скажи, что тебе дозарезу надо, возьми и дай мне!
Придя от этой наглости в ярость, Тимур отпустил ручку. Дверь распахнулась, и, сжимая кулаки, он рычащим тигром выпрыгнул на лестничную площадку.
– Тебе мало того, что ты заявился на день рождения Сони обдолбанный какой-то дрянью и роняя слюни, весь вечер потел в бреду на диване? Теперь ты набираешься наглости требовать у меня денег в долг?! Пошел вон отсюда!
– Зачем же так грубо? – как ни в чем не бывало ухмыльнулся Артемон.
– Еще одно слово, и ты увидишь свои зубы без зеркала, ты меня достал!
Тимур так хлопнул дверью, что где-то в глубине мастерской эхом грохнула оконная рама.
– Ну позови Соню, мы с ней приятели!.. – неслось из-за двери. – Гад, ты мне тоже никогда не нравился, святоша, академист-неудачник!
Еще с минуту из подъезда доносились возмущенные крики неунимающегося Артемона, но потом все стихло.
Тимур сполз по стене на пол и, обхватив голову руками, мучительно замычал.
3
Когда над головами пассажиров зажегся сигнал «Пристегнуть ремни», вдоль салона еще раз прошлась стюардесса. Одинаково приветливо улыбаясь всем пассажирам, она двигалась по проходу между креслами, выравнивая спинки сидений. Когда она подошла к Дольфу и склонилась, чтобы сложить его столик, он ощутил запах ее волос и незаметно заглянул ей в разрез форменной сорочки. Дольф не был извращенцем или пожилым эротоманом, просто ему всегда нравились стройные женщины в форме, им как-то сразу хотелось подчиняться.
Качнувшись в ледяном тумане, самолет завалился на правое крыло и, описав большую плавную дугу, выпал из белых облачных громадин. Теперь вся эта масса клубящихся водяных паров оказалась сверху над иллюминаторами, даль просияла солнечным светом, а под серебряным брюхом самолета миллиардами бликов заблестело зеленоватое море, усеянное россыпью белых точек – качающихся на его волнах яхт и теплоходов. В теплой дымке простирался холмистый берег, в зеленом ковре густой растительности утопали десятки курортных местечек, сотни отелей и тысячи белоснежных вилл.
Неожиданно массивный «боинг» вздрогнул, ненадолго стало тихо, и, снижаясь, он начал заходить на посадку. Всем известно, что чаще всего самолеты разбиваются во время взлета или приземления, поэтому, когда из крыльев выдвинулись шасси и, хищно загудев, лайнер устремился к парящей знойным маревом земле, Дольф тайком перекрестился. Забыв о стюардессе, он зажмурил глаза.
Взвизгнув, колеса упали на полосатый бетон, раздался страшный гул турбин, и под аплодисменты взволнованных туристов самолет совершил удачную посадку в Ницце.
– Ариведерчэ! Ариведерчэ! – прощалась с пассажирами бизнес-класса улыбающаяся стюардесса.
– До встречи, – прозрачно улыбнувшись в ответ, сказал Дольф, протягивая итальянке визитную карточку.
Когда последний пассажир спустился с трапа, стюардесса сообщила своей напарнице из эконом-салона:
– Этот солидный русский, который выпил бутылку «Кристалла», пригласил меня в Петербург.
– Франческа, поздравляю. Так он богат?
– Не знаю, тут написано, что у него галерея современного искусства.
Скупо улыбнувшись загорелому пограничнику, Дольф принял из его рук свой паспорт и проследовал в стеклянное здание аэропорта. В толпе встречающих, лениво улыбаясь, стоял поджарый мужчина в светлых полотняных брюках и белой тенниске. В руках мужчина держал бумажную табличку «Рудольф Анапольский». Дольф уверенно направился к нему.
– Рудольф Константинович? – вежливо спросил встречающий.
– Да, это я.
– Виктор Андреевич очень торопит, ему нужно встретиться с вами еще до обеда, – сообщил мужчина, здороваясь. – Он прилетел вчера вечером, а ваша картина прибыла только под утро. Мы успеваем, но с трудом.
Всю дорогу до княжества водитель безостановочно что-то рассказывал. Его откровения о себе и шоферские приключения, в сущности пустая и безобидная болтовня, напомнили слегка захмелевшему Дольфу восторженную пену, которая лезет из разговорчивого провинциального мужика, волею судеб оказавшегося в таком сладком, но изолированном от соплеменников месте. Прячась от яркого солнца, Дольф опустил козырек и, лениво развалившись на сиденье, стал сонно поглядывать по сторонам. Автобан петлял между гор. Пропуская мимо ушей россказни водителя, Дольф стал неспешно размышлять о сложной цели своего путешествия и, настраиваясь на предстоящий разговор, анализировать события.
Путаница в делах началась месяц назад, когда в галерею неожиданно позвонил Виктор. Звонки Виктора всегда нервировали Дольфа. Его пугали непредсказуемый разум и железная воля этого человека. Они начали общаться еще в начале девяностых, с тех пор прошло уже пятнадцать лет, но по сей день, когда в трубке раздается этот холодный и безучастный голос, Дольф вздрагивает как ребенок и начинает чувствовать собственную уязвимость. Тысячу раз в течение всех этих лет он спрашивал себя, что за власть возымел над ним этот человек, тысячу раз собирался порвать с ним, но лишь в редкие минуты полного откровения признавался себе, что давно и очень опасно завяз в нем, во многом подчинился его влиянию, а местами и просто растворился в его силе. Это ужасное наваждение с недавних пор не покидало его ни на миг, мешало наслаждаться жизнью и очень злило.
Виктор стоял на его пути, как вросший в землю камень, его было не обойти и не перепрыгнуть, его нельзя было исключить, с ним нельзя было не считаться. Во всяком случае, в нынешнем положении проблема представлялась Дольфу уже почти неразрешимой. Своим познавшим сложности жизни умом он прекрасно понимал, что, захоти он сейчас полной независимости для своего бизнеса, ему пришлось бы своими руками разрушить все, что создано, во многом начать с нуля, а потом, не питая надежд вернуть утраченное, создавать все заново, да так долго, что он вряд ли бы когда-нибудь на это решился.
Да, ему сорок три года, и он давно уже не такой решительный, как раньше. Сейчас он полноватый, медлительный в движениях и вальяжный Рудольф. Но, несмотря на предательски обрюзгшее тело, глубоко в душе он по-прежнему ощущал себя энергичным и бодрым, он чувствовал себя молодым Рудиком, во всяком случае, ему очень хотелось, чтобы так думали все вокруг. Это проклятые нервы, это они; их постоянное напряжение раньше срока состарило лицо, он как-то быстро оплыл фигурой, заматерел, стал выглядеть много старше своего возраста, и его некогда пышная шевелюра, навсегда покинув голову, оставила на затылке лишь небольшой и тщательно оберегаемый каштановый островок. Теперь блестящая лысина, огромный лоб с морщинами, серые глаза, большие уши с длинными мочками – вот, собственно, и все приметы его довольно заурядной внешности. Что же до остального, то дымящаяся трубка из вишневого дерева, очки, вельветовые костюмы, перстни, дорогие часы и обувь – все это делало Дольфа настолько эффектным, что он запоминался тем, с кем имел дела. Рудольф Константинович Анапольский давно и очень серьезно занимался современным искусством, а потому солидный и почти научный внешний вид был важнейшим инструментом в его работе с богатыми и очень капризными клиентами.
Когда Виктор позвонил ему, он между прочим сообщил, что из сибирской глубинки в Питер, а уже потом и в Европу едет развлекаться один очень и очень состоятельный бизнесмен – Иван Рогулин. Как видно, Виктору были хорошо известны все подробности про этого человека, тем не менее он посоветовался с Дольфом, и они решили продать сибиряку несколько работ по заоблачным ценам.
Так все и получилось – светские шестерки, которые рыщут по клубам, веселят толстосумов и за проценты водят покупателей, привели в галерею этого одиозного тюменского нефтяника. Перед визитом ничего не смыслящий в современном искусстве Рогулин успел нанять себе в консультанты парочку подконтрольных Виктору искусствоведов, поэтому, когда он появился у Дольфа и с пафосом заявил, что намерен приобрести лучшее, советчики за руку подвели его к картинам Близнецов.
Самые продаваемые и раскрученные художники современного российского арт-рынка не очень-то и понравились владельцу месторождения, но он без споров выбрал для своего дома в Лондоне их самую дорогую картину, и сделка уже приближалась к шампанскому, как тут внезапно позвонил Тропинин и сообщил то, от чего Дольфа бросило в жар.
– Ничего ему не продавай, – неожиданно весело заявил тогда Виктор. – Скажи что хочешь, придумай сам, но ни в коем случае не продавай Близнецов. Так надо.
– Что же ты предлагаешь мне ему сказать? – меняясь в лице, возмутился Дольф. – Он стоит перед этой картиной и обсуждает свою покупку с женой, на которой висит камней на миллион долларов. Ведь у нас все было решено, и они завтра переводят деньги… И это не маленькие деньги. Он готов заплатить вдвое против обычной цены. Как мы и договорились, я объявил ему сто тысяч! Он согласился и не поморщился.
– Скажи, что в голову придет, например то, что его коллекция незначительная, – беззаботно отвечал Виктор, – можешь быть уверен, у него ее попросту нет, и что по этой причине мы не выпустим часть нашего главного проекта в такую бесперспективную выставочную среду. Он просто богатый тупица. Не бойся, надуй щеки и куражься как хочешь, завали его каталогами, ври, ты же умеешь, но он не должен получить картину. Если хочет, пусть купит своей бабе что-нибудь попроще. Близнецы – наша главная фигура в игре, и он их не получит.
– Какой игре? Что ты меня за нос водишь, я не понимаю, к чему это?
– Всему свое время. Про сто тысяч не печалься. Гони его, забудь, а лучше знаешь что?
– Что еще? – сатанея от такого поворота, взвыл Дольф.
– Вышли эту картину на мой адрес в Монако и сам прилетай вместе с ней, есть дела поважнее.
Разразился грандиозный скандал. Униженный Рогулин так рассвирепел, что натравил свою службу охраны на изничтожение заносчивого галериста. Но все обошлось без рукоприкладства, а когда незадачливый купец уехал и страсти улеглись, популярность и без того прославленных Близнецов стала без преувеличения взлетать к небесам. Анекдот о том, как «Свинья» не продала Близнецов какому-то богатому выскочке, передавался среди художников и коллекционеров из уст в уста и необычайно быстро стал известен всем. Теперь даже обозленный всей этой историей Дольф признавал, что это был не такой уж и плохой пиар-ход, особенно перед предстоящей арт-ярмаркой в Манеже.
Машина нырнула в круто загнутый тоннель, замелькали пунктиры желтых фонариков, а когда они снова выскочили на солнечный свет, то оказались уже на территории Монако. Прямо над дорогой, на вершине небольшого скалистого плато высился старинный княжеский дворец, влево от него, плотно уцепившись за край обрыва и прижавшись друг к другу, громоздились жилые дома. Внизу повсюду, куда ни посмотри, черепичные крыши, высотные здания, завитые цветами белые стены старинных домиков, узкие улочки, пальмы, заросли розмарина и множество парящих в небе беззаботных чаек. Дорога выкрутилась на заставленную яхтами набережную и, преодолев несколько подъемов, выпрыгнула на площадку перед громадным отелем. Масса этого неожиданно выросшего перед глазами здания была так велика, что несколько старинных и невероятно уютных вилл казались рядом с ним игрушечными домиками.
– Ваша гостиница, – по русскому обычаю выразился водитель, паркуя машину.
Дожидаясь своего галериста, Виктор выпил в прибрежном ресторанчике свежего сока и стал просматривать в коммуникаторе дневную почту. Вскоре сидеть под кондиционером ему наскучило, он вышел на залитую солнцем открытую террасу, осмотрелся и медленно спустился на горячий песок пляжа. Прибрежная акватория в этом месте была укрыта от моря двумя бетонными волнорезами, а городская набережная украшена флагштоками с развевающимися на легком бризе красно-белыми штандартами. Сегодня на этом огромном и хорошо знакомом пляже стояла непривычная тишина. В воде никого не было, у причала сонной стайкой покачивались разноцветные гидроциклы, в бамбуковом бунгало скучали дайверы, и только у самого берега несколько молодых мам возились со своими детьми, потешая их выловленными в воде мочалками темно-зеленых водорослей. Эти мясистые водоросли валялись повсюду, и темнокожий бой с садовыми граблями тщательно вычищал их из янтарного песка.
Надумав искупаться, Виктор не спеша разделся, сложил одежду на один из многочисленных шезлонгов, разминаясь, взмахнул в воздухе мускулистыми руками и решительно направился к воде.
– Будьте осторожны, мсье, – обратился к нему мальчишка с граблями, отрываясь от своего занятия. – Вчера был шторм, и к берегу принесло много коричневых медуз. Они больно жалятся.
– Насколько больно? – улыбнувшись, спросил купальщик.
Вместо ответа бой задрал майку и показал три ярко-алых ожога. Купаться расхотелось. Виктор остановился и решил, что будет лучше, если он без риска для здоровья просто позабавит себя кормежкой рыб. Властным жестом он подозвал официанта, тот, метнувшись к ресторанным столикам, мигом принес ему два хрустящих багета. Теперь уже внимательно вглядываясь в слепящую солнечными переливами воду, он осторожно вошел в щиплющее кожу соленое море.
– Жаль, у меня нет фотоаппарата, – раздался рядом хорошо знакомый голос. – Мужик в семейных трусах и черных очках по колено в море с двумя хлебами и радиотелефоном. Даже не мог себе представить, что ты тут так развлекаешься.
Виктор повернул голову и улыбнулся. Рядом с ним на бетонном пандусе стоял Дольф.
– Это не развлечение, – весело ответил он. – Это моя работа. Кормить не ведающих, что их кормят. Рад тебя видеть, спускайся ко мне.
Дольф отверг дружеское приглашение и, сбросив сандалии, как был, в парусиновых брюках, уселся на прогретый бетон, свесив босые ноги в воду.
– Вот я и приехал. Не знаю, правда, зачем, – начиная становится серьезным, принялся прощупывать он нить разговора, – все как-то скоропалительно получается с этой картиной. Ты знаешь…
– Знаю, – обрезал Виктор. – Конечно же знаю, я ведь все и устроил.
Стоя в воде, Виктор отщипывал от хлеба кусочки и бросал их рядом с собой. Не успев даже промокнуть, крошки незамедлительно исчезали под водой, оставляя на поверхности лишь дрожащие кружочки, какие бывают во время сильного ливня. Темными тенями вокруг ног Виктора кружилась внушительная стая огромных пиленгасов.
– Совсем ручные стали, зажирели, – с улыбкой пояснил он Дольфу природу явления. – Там, где рыбу не ловят и ежедневно кормят из безопасной кормушки, она вскорости забывает свой природный страх и начисто перестает бояться. Таково устройство примитивного рыбьего мозга.
– Разве это плохо? – подыгрывая его наставительному тону, поинтересовался Дольф.
– Нет, не плохо, – неожиданно серьезно ответил Виктор, – но чревато началом кризиса отношений. И знаешь почему?
– Нет, не знаю. Поясни.
– Объевшаяся рыба может обнаглеть настолько, что, перестав бояться подстерегающих ее опасностей, захочет покинуть безопасную кормушку, а подобное решение, в свою очередь, неизбежно приведет ее к гибели в открытом море, полном ужасных хищников. Но может быть и по-другому. – Он лукаво улыбнулся Дольфу.
– Что ты имеешь в виду? – насторожился Дольф.
– Добрая кормушка сама захлопнется и больно прищемит глупой рыбе хвост или ее пустую голову.
Выслушав символическую притчу, Дольф закурил и нахмурился. Виктор, выдержав паузу, испытующе посмотрел ему в глаза и, улыбаясь, продолжил наставления:
– Вот так же и мы. Кружимся вокруг кормушки и не задумываемся, что если нарушим заведенный порядок вещей, то наступит час, когда тот, кто его завел, сам закрутит нас в нори. Только полное незнание этого обстоятельства избавляет всех от ежедневного страха быть съеденными. Рыба не ведает, что ее могут слопать, и не боится меня, а пухлый мальчик за тем столиком кушает с мамой жареную рыбу и ничего не знает о дяде, который ему приветливо улыбается. С дядей ты уже познакомился, рекомендую: мой водитель Сережа, усердный парень, однажды мотавший срок за детское изнасилование. А Сереже, в свою очередь, невдомек, что я знаю о его неприятной особенности, и потому он спокоен, работает, но иногда от счастья и своего бесстрашия может даже стащить кусочек с моего стола. И так эта жизнь запутана, Дольф, настолько сложно запутана, что всем хорошо только тогда, когда никто ничего ни о ком не знает. Отсюда и небезызвестная поговорка: меньше знаешь – крепче спишь. Но заметь, в каждом случае всегда есть кто-то, кто знает все. Непосредственно в наших с тобой делах подобным провидцем являюсь я, и дело вовсе не в том, что я знаю чьи-то тайны. Важнее то, что у меня всегда есть информация, которая позволяет нам иметь гарантированный успех в совместном бизнесе. Такая уж это работа, и потом согласись: так действительно лучше для дела. Но не печалься, сегодня и ты многое узнаешь. Личико не хмурь, и давай перейдем прямо к делу, времени у нас маловато.
</em>
Дольф по-разному представлял себе развитие разговора, но он оказался совершенно сбит с толку запугивающей риторикой Виктора. На ум пришли давние и тщательно упрятанные темные концы, которые вели к тайным, закулисным продажам, шальным деньгам, которыми Дольф не счел нужным делиться с Виктором, желчные высказывания, сплетни и интрижки против влиятельного компаньона.
«Может ведь, сволочь, поиметь, – пронеслось в голове у Дольфа. – Чего это он меня кошмарит, что я ему, в конце концов, мальчик, что ли?..»
Их непростые отношения начали складываться спонтанно, давным-давно кто-то впервые познакомил их. Зачем – теперь было и не вспомнить. Тогда, в самом начале своей карьеры, Дольф еще воображал себя независимым и модным арт-дилером, открывал и закрывал свою молодую галерею по любой прихоти, выставлял кого хотел, творил, бунтовал, пробовал, искал, дружил со всеми художниками, но, когда в стране случился дефолт, он попал в просто-таки ужасную ситуацию: у галереи кончились деньги, переставали появляться заказчики, а на его несчастную голову посыпались такие проблемы, что, согнувшись от этого бремени, он был вынужден искать высокого покровительства. Вот тогда-то впервые Виктор Андреевич волшебным образом все и устроил – галерея переехала в шикарное помещение, появились богатые блондинки, посыпались предложения от торговых представительств и отпала унизительная необходимость приторговывать антиквариатом. Жизнь повеселевшего Дольфа снова наладилась, и его галерея «Свинья» выжила, ну а десятки других попросту лопнули.
После этого на какое-то время они с Виктором сделались чуть ли не друзьями, виделись каждый день, советовались, строили планы, продавали искусство «новым русским», боролись с конкурентами и «братками», устраивали выставки, возили художников на первые заграничные арт-ярмарки, открыли электронный портал по искусству и развернули такую деятельность, что к 2000 году «Свинья» прочно заняла лидирующее положение среди прочих галерей.
Сейчас Дольф с холодным отвращением вспоминал тот период своей эйфории от этого общения и был абсолютно уверен, что именно тогда и именно с его помощью Виктор составил себе полное представление о финансовых механизмах арт-рынка, оценил перспективы и масштабы, подготовился, а после плавно отодвинул его самого и всех, кто был рядом, от важнейших контактов, перегруппировал кураторские силы и начал расчетливо действовать сам.
Именно тогда в художественной среде к таинственному и вездесущему Виктору Андреевичу приклеилось прозвище ЧТО – Человек в Темных Очках.
В действительности все так и было: он был человеком в темных очках. Никто ничего не знал о нем и не мог достоверно объяснить, кто он, откуда взялся, где приобрел такие связи и отчего так легко ориентируется в совершенно разных общественных слоях? Виктор оказался загадкой, постепенно ставшей просто тайной. А с ходом времени ЧТО повернул все таким образом, что многие недальновидные игроки и вовсе перестали его замечать, наивно полагая, что везде и всюду действуют сами, а не пляшут под чью-то дудочку. Прозрение пришло очень поздно. Дольф и еще несколько других амбициозных галерейщиков, как могли, начали сопротивляться его всепроникающему влиянию, но их борьба была мучительна и совершенно безрезультатна. Опираясь на подвластные ему фонды и всевозможные институции, ЧТО постепенно опутал всех деньгами и обязательствами, прикормил важнейших кураторов, приручил прессу, искусствоведов, завел везде своих людей и в результате всех этих тщательно продуманных, многоходовых манипуляций перестроил свободный и хаотичный российский арт-бизнес в послушный своей воле и во многом управляемый процесс. И вот с тех самых пор, уже почти пятнадцать лет, этот человек по-прежнему находится в тени и, прячась от публичного внимания за созданной им массивной структурой, дергает за невидимые нитки. И на этих нитях подвешены не пустоголовые куколки, а галереи, выставки, пресса, клиенты, художники, кураторы, да чего уж там, и сам Дольф со всей своей камарильей.
Окончательно разозлившись на себя самого, на свое неумение обернуть разговор в нужном направлении, Дольф нервно выпустил дым изо рта и, бросив сигарету в воду, начал осторожную контратаку:
– Тяжело мне что-то в последнее время с тобой, Витя. Все не пойму, куда клонишь. Без тебя, конечно, галерея ничто, но пойми правильно – работают все равно люди, много людей. Даже если нас считать мозгом – тебя, меня, Зиновия, – то все равно есть еще и тело: три галереи, которые мы создали, школа кураторов, весь наш фонд, огромный электронный ресурс. «Свинья» – участник всех крупнейших ярмарок, по нам равняются, но, черт побери, я все время как на вулкане! Я не знаю, чего ждать завтра! А я хочу знать свою жизнь хотя бы на ход вперед!
Виктор бросил рыбам последнюю краюшку и, неожиданно рассмеявшись, ударил по воде ладонью. Яркий, блеснувший ослепительным светом водный протуберанец взвился рядом с ним и рассыпался веселым дождиком. Испуганные рыбины кинулись врассыпную.
– Вот это по делу! Молодец! Долго репетировал? – подзадорил он раскрасневшегося Дольфа. – Я же тебя знаю, ты все по десять раз пережевываешь, перед тем как вывалить.
Виктор энергично вышел из воды, уселся в шезлонг и, поджав ноги, поманил Дольфа к себе:
– Все так. «Свинья» действительно крупнейшая галерея, и все, что мы создали, работает как часы. Это факт. Но наш бизнес теперь уже настолько сложен, что в нем не должно быть случайностей. И поверь мне, именно поэтому ты сегодня здесь.
Теперь настала очередь рассмеяться Дольфу:
– Вот как! Может быть, именно поэтому мы заимели врагами «Нефтяную Реку» в лице людоеда Рогулина? Его охрана чуть не поимела весь наш офис, а меня он вообще грозился отдать каким-то ворам.
– Он далеко не так плох, как тебе кажется, – спокойно сообщил Виктор. – Он просто богатый и, что очень важно, нестоличный, далекий от нашего круга человек, но ему в наших планах отведена значительная роль, с которой, кстати сказать, он и его красавица жена пока неплохо справляются.
– Тогда для чего ты все это устроил? – возмутился Дольф. – Может быть, ты посвятишь меня в свои планы? Твои люди привели его в галерею, а теперь всем известно, что он ничего не купил!
– Верно, он всем раструбил, что намеревался покупать искусство. Но что покупать, ему было абсолютно все равно. Мы вывели его на Близнецов, а ему самому больше нравятся подделки под Шишкина и Айвазовского. Покупать Близнецов решила его ненаглядная, она рулит муженьком, как хочет. Вот пообщавшись с тобой, он и нажил себе семейную проблему, – со смехом докончил Виктор.
– Плевать! Мы потеряли покупателя! Галерея не смогла подтвердить его деньгами заявленную цену. Вот в чем проблема! Ведь мы же условились перед Манежем вытянуть цены до ста тысяч, и что получилось? Пшик! Самая высокая продажа по «Картине Жизни» была сделана на прошлогодней арт-ярмарке. Если ты помнишь, мы сами у себя купили их картину за пятьдесят тысяч. Скачок цены в тридцать тысяч никого не смутил, и там же, на ярмарке, три их последние работы мгновенно смели со стенда. После той подставки еще двадцать холстов ушли из галереи, все в среднем по пятьдесят тысяч: московская Рублевка, банки, коллекционеры – все быстренько купили себе по одной работе, но на сегодняшний момент все замерло, никто ничего не покупает, а проект уже закончен. Я знаю – серьезные коллекционеры всегда выжидают, они хотят знать, что будет с художниками после первого всплеска цен…
Виктор не дал ему договорить. Брезгливо наморщившись, он заслонился от Дольфа ладонью и раздраженно возразил:
– Вот только не нужно ничего говорить про художников! На художников им плевать, всех интересуют только деньги. Важно только то, что будет с ценами на работы, будут ли расти их вложения в художника, которого посоветовали мы!
– Да, верно! Всем плевать. Только деньги! – еще больше оживляясь, воскликнул Дольф. – Тем более! И что же они видят? Наша «Свинья» в тупом пафосе сливает покупателя! И что? И ничего! К чему все? Или это тоже случайность?
Виктор внимательно дослушал эмоциональный монолог и, взяв Дольфа за руку, сказал ему со всей серьезностью:
– Послушай, Рудольф, успокойся. Все идет по плану. Близнецы – наш самый успешный проект, и он больше других дозрел до настоящих денег – сто холстов, которые они рисуют…
– Постой, постой, – замахал руками Дольф. – Они их уже закончили, и половину мы уже продали!
– Пусть так. Полсотни из них, как ты говорил, мы продали по бросовым ценам. Я правильно тебя понял?
– Да, вышло что-то около миллиона.
– Хорошо, – безразличным голосом продолжал Виктор. – Все равно эти деньги даже не покрывают наших расходов. Зато пятьдесят картин прогрели рынок, и в общем сознании осела мифологема про пресловутых Близнецов, история, которую все до сих пор пересказывают друг другу с умным видом. Вспомни, когда кураторы Зиновия придумали «Картину Жизни», как трудно было выискать кандидата на роль художника, и не просто очередного психа! Нужен был человек, которого можно бы было инсталлировать в проект, живописец, лишенный собственных амбиций, продуктивный и управляемый. Ты нашел и привез из Красноярска это чудо, а их необычная внешность и техника живописи стали предметом зависти всей этой массы медлительных неудачников. Поначалу над ними смеялись, но когда за дело взялись наши критики, о них заговорили. Близнецов самих практически никто не видел, фотографий почти нет, идут лишь контролируемые утечки в прессу и выверенные интервью. На нашем портале они виртуальные герои, мы публикуем десятки статей, о них пишут, их ругают, их хвалят, любят, ненавидят, но даже это сейчас не так уж важно.
– А что же тогда важно?!
Виктор испытующе улыбнулся Дольфу.
– Сам мне скажи, ты же у нас мозг.
– Ну не знаю, – досадливо замялся Дольф, утирая лоб платком. – Для меня важно только одно: чтобы их сейчас не перестали покупать.
– Ты неисправим в своей жадности, впрочем как всегда. Я тебе уже сказал: деньги придут. Сейчас важно не то, что их покупают, а то, что теперь уже никто не оспаривает их место в современном искусстве. Близнецы есть у всех крупных российских коллекционеров, и в целом проект состоялся, по крайней мере у нас в стране. Теперь, если мы не последние тупицы и хотим по-настоящему на них заработать, нужно вывести Близнецов на международный рынок и дотянуть цены на их работы до пятизначных цифр.
Виктор махнул рукой скучавшему на набережной Сергею, и тот принес упакованный в пластиковый кофр светло-серый фланелевый костюм. Переодеваясь, Виктор разговаривал по телефону с кем-то по-французски, поэтому Дольф, совсем не знавший языка, почувствовал себя неуютно.
– Чтобы снять возникшее у нас напряжение, – закончив телефонные переговоры, продолжил Виктор, – я поясню тебе наши дальнейшие действия.
Дольф изобразил на своем лице покорную улыбку усталого скептика.
– Мы продадим эту злосчастную картину на аукционе, который состоится сегодня в «Хотел де Пари».
– Где? На русском «Сотбисе»? – выпучил глаза Дольф.
– Именно там. У меня вместе с ней двадцать шесть лотов, так что об этом не переживай. В каталоге она идет под номером сто шестнадцать.
– Значит, ты еще месяц назад знал, что мы не продадим картину Рогулину! – возмущенно заголосил Дольф. – И все равно подставил меня под его охрану?
– Прости, если бы я тебе все сказал, ты бы так убедительно не сыграл. Мне нужен был твой цинизм и его ярость – все получилось, он тебя ненавидит.
На какое-то время партнеры погрузились в молчание, но один молчал с еле заметной улыбочкой, а второй сопел, красный от возмущения. Закончив переодевание, преобразившийся Виктор уверенной походкой направился к машине.
– Но есть риск! – семеня за ним, заволновался Дольф. – Локальные цены нашего рынка могут здесь провалиться. Что будет, если продажа на «Сотбисе» окажется ниже, чем наши цены? Все обвалится, за них никто больше не даст и копейки. Никто из мировой элиты собирателей их еще не знает…
– Ошибаешься, – ответил Виктор, усаживаясь в машину. – Как выясняется, к ним внимательно присматриваются и в Европе, и за океаном, но сейчас говорить об этом пока еще рано. Какая цена, по-твоему, двинула бы Близнецов на три хода вперед?
– Ну, не знаю, – замялся Дольф. – Подтвердить заявленные Рогулину сто тысяч долларов было бы неплохо. Но, думаю, одного моего хотения будет мало.
– Об этом не печалься. Мы продадим картину, ну, скажем, за сто пятьдесят тысяч евро, как тебе? А ты на «Арт-Манеже» выставишь их по сто тысяч. Думаю, так наше дело пойдет быстрее.
Пока машина медленно двигалась по узким улочкам княжества, Дольф размышлял, но, поймав себя на мысли, что он опять выполняет волю Виктора, встрепенулся и обидчиво возмутился:
– С картиной мне ясно, хотя и очень все зыбко, однако, скажи на милость, зачем я тебе понадобился? У меня в Петербурге невероятное количество дел.
– Я хотел поговорить о самих Близнецах.
– А что с ними?
– Дольф, «Картина Жизни» закончена, и мы сделали практически все, что могли. Если все, что я задумал, получится, они сами двинутся наверх, если нет – так тому и быть. Есть кое-какая закрытая информация, одним словом, нам лучше переключить все наши силы на раскручивание новых имен. Близнецам нужна замена.
– Вот как! – язвительно изумился Дольф. – Какая информация! Они вроде бы бодренькие, пусть немного отдохнут, и мы придумаем им что-нибудь новое. Врачи говорят, что, если ребят не перетруждать, они еще сто лет протянут. И потом, мы же собирались вести их на Венецианскую биеннале?
Виктор пристально посмотрел на своего друга и спокойно спросил:
– И хорошо, что сто лет протянут. А с чего ты решил, что они должны умереть?
Испуганно выпучив глаза, Дольф запротестовал:
– Я?! Я ничего такого не говорил! Это же наши художники. Господи, что я говорю… почему ты на меня так смотришь? Может, ты имеешь в виду тот наш разговор? Но если ты помнишь, это был совершенно пустой разговор, все были пьяны, и мы не говорили о Близнецах. Просто тогда мне показалось смешным, что в нашей среде картины живого художника стоят намного дешевле, чем мертвого, я глупо пошутил, вот и все.
– Мне всегда нравился твой юмор, он у тебя какой-то физиологичный и немного печальный. Но сейчас не об этом. Пусть Зиновий подготовит все, что его кураторы успели придумать; он уверял меня, что в этом выпуске очень талантливая молодежь.
Красный от волнения Дольф скомкал в потном кулаке совершенно влажный платок.
– Зиновий, как обычно, приукрашает свою работу, – с трудом выдавил он из себя, облизывая пересохшие губы. – Его школа создает таких Франкенштейнов, что использовать их в галерее очень сложно. Бронемолодцы заточенные, как карандаши, они приучены думать только о грантах и кураторских интригах. Они ничего не создают, хотя кое-что среди этого мусора действительно попадается. Мы взяли у него группу «Global Tool». Прекрасные ребята с очень подвижным воображением. У них хорошие ходы, которые надерганы из разных мест, и они очень старательные, послушные, хотя, как ты понимаешь, до поры до времени – детки еще те, со своим секретиком…
– Что ты имеешь в виду? – улыбнулся Виктор. – Любят деньги?
– Все ученики Зиновия любят деньги, все они – расчетливые бунтари, но эти, например, еще больше хотят славы. Они делают огромного размера заумные объекты, чем-то напоминающие скульптуры Реббеки Хорн. Как ты понимаешь, у нас это заранее непродажный материал, но они убеждены, что «Свинья» выведет их к музейным залам. А вот наш второй дебютант, Артемон, действительно готов на все. Красавец, пробы негде ставить. Моя находка.
– Я что-то слышал о нем от французского атташе. Не тот ли, который голым заявился на телепередачу?
– Скорее всего он, – воодушевленно заверил Дольф. – Как пишет пресса, ипотажный трансвестит, но на самом деле наркоман, клептоман, нарцисс, крайне неоднозначный персонаж. Ну что еще сказать, обожает переодеваться в костюм королевского пуделя и снимать самого себя на «Ломокомпакт». Получаются ужасные по качеству, но интересные по сути портреты, этакие бурно-эротические черные комиксы на тему похождений Буратино. Бред несусветный, но наша мазохистски настроенная богатая публика и гламурные журнальчики обожают его выходки и наперебой швыряются деньгами.
– Забавно! Кто еще?
– Соня Штейн.
– Кто?
– Нынешняя любовница Амурова. Училась в Академии художеств, но оттуда ее вышвырнули за невыносимый характер и дерзкие выходки. Очень красивая и заносчивая девица. Рисует неплохую абстракцию, но больше всего обожает инсталляции и перформанс. Я их всех выставляю завтра на главном стенде, – приезжай и увидишь, кто лучше.
– Я уже много раз говорил тебе свое мнение, могу повторить еще раз: женское искусство никому не нужно. Зря потраченное время. Слишком наивно, слишком чувственно. Сейчас нужны патологические индивидуумы, художники, способные на бесстыдную страсть, тонко рассчитывающие свое безумие, врущие всем во сне и наяву. Артемон, по-видимому, именно такой. Впрочем, нужно посмотреть. Кстати, скажи, пожалуйста, а что делает сам Амуров? Вот кто был бы нам полезен. Он по-настоящему талантлив и, не побоюсь этого слова, гениален.
– Верно, от своей гениальности он впал в такой пафос, что не общается ни с одной галереей, – мрачно пошутил Дольф.
– Дело поправимое, – со смехом заверил его Тропинин. – Просто никто делал ему нормального предложения. У меня в коллекции три его ранние работы, которые я купил еще двадцать лет назад. У него парадоксальное видение красоты, которое всегда странным образом уживалось с его дикой эмоциональностью. Он что, по-прежнему экспериментирует со своими неоакадемическими штудиями?
– Последнее, что я видел, были портреты античных богов, но это было два года назад. С тех пор он практически нигде не выставляется, а в последнее время начал пить. Ко всему прочему, твой гений принципиально не общается с кураторами, что, как ты понимаешь, делает его шансы на продвижение равными нулю.
– А жаль! – с энтузиазмом воскликнул Виктор. – Вот настоящий герой прошлого, из которого сейчас можно было бы вылепить звездную фигуру.
– Может быть, он и был героем в конце девяностых, но какой нам сейчас в этом прок?
– Не знаю, известно тебе это или нет, – доверительным тоном сообщил Виктор. – Во времена «Новых художников», в середине восьмидесятых, всех еще таскали в Большой дом на Литейный писать доносы друг на друга. По правде говоря, уже начиналась горбачевская перестройка, но тем не менее. Так вот, я тогда сотрудничал с этим ведомством, курировал неформальную среду Ленинграда, и этот Амуров, ему тогда было около шестнадцати, всегда предпочитал получить по почкам или же посидеть в КПЗ, но ни разу, заметь, ни разу ни на кого не настучал. Представляешь? Смеялся в лицо. Он и Пепел. Это была парочка, доложу я тебе. Нынешние проститутки-художники им и в подметки не годятся. Жаль, что судьба их сложилась по-разному. Пепел – мировая знаменитость, за которым гоняются все коллекционеры, и стоит он сейчас бешеных денег, а Тимур увяз в своих экспериментах и бесцельно топчется на месте. А между тем он сильный художник и, если подобрать к нему ключи, заработает для фонда кучу денег.
Дольф скептически наморщил лоб и предпочел промолчать.
Машина остановилась на необъятном по размерам бетонном пирсе, от которого в море отходили плавучие мостки с пришвартованными к ним сотнями лодок и катеров. Вся бухта королевского яхт-клуба была заполнена белоснежными парусниками. Разнообразные по конструкции и невероятные по вычурности богатой отделки, эти морские «птицы» лениво покачивались на воде, а над лесом их мачт и такелажа надменно высилась трехпалубная громадина, океанская яхта «Milena Pacific».
На причале было многолюдно. Под зонтами в летнем кафе веселая разноголосица, за столиками множество туристов: седые мужчины в клубных пиджаках, дамы в ярких платьях. Рядом с публикой по горячему бетону безбоязненно бродили чайки, все вокруг дышало неспешностью и покоем, а к свежему дуновению морского бриза нежно примешивался аромат кофе и запах крепчайших сигар.
Виктор вышел из машины и задумчиво подошел к краю пирса. Специальный подъемный кран вытаскивал из воды моторный катер. Когда похожий на акулу катер завис над причалом на стропах, загорелые парни в шортах и мокасинах на босу ногу облили его из шланга изумрудной водой и стали чистить заросшее ракушками днище.
– Зачем мы сюда приехали? – удивленно поинтересовался Дольф, присматриваясь к хлопотливой жизни яхт-клуба. – Решил совершить морскую прогулку?
– Вполне возможно, – улыбнулся Виктор. – Тебя, прости, не приглашаю: владелец яхты человек со странностями – терпеть не может галеристов. У меня здесь встреча как раз по поводу наших дел, а времени в обрез. Хотелось с тобой договорить. Итак, ты возвращаешься в Петербург и выставляешь на «Арт-Манеже» с десяток холстов Близнецов…
– Десять?
– Да, никак не меньше.
– Постой, постой! – запротестовал Дольф. – Экспозиция давно спланирована! У нас больше нет места. Как же прикажешь их выставлять?
Виктор посмотрел на часы и безразлично ответил:
– Дольф, не будь ребенком. Выкинь кого-нибудь, перевесь. Я прилетаю завтра. С этим все ясно?
Дольф обиженно скривил губы и недовольно пробурчал:
– Чего уж тут неясного, если ты заранее все решил.
– Теперь главная новость номер два, – пропуская реплику мимо ушей, продолжил Виктор. – На «Арт-Манеж» летит целая группа американских коллекционеров, и возглавляет делегацию не кто-нибудь, а сама Руф Кински.
Как ни был подавлен и сердит на своего партнера Дольф, он не смог скрыть эмоций.
– Чего же ты мне раньше-то не сказал? Они что, едут за работами, будут покупать? – суетливо зачастил он. – Ты поэтому выставляешь одних Близнецов?
– И да и нет, – уклончиво ответил Виктор. – Вряд ли они возьмут работы со стендов, но мы можем быть относительно спокойны – в поездке их сопровождает один очень шустрый молодой куратор из Нью-Йорка.
– Кто таков, может, я его знаю? – удивленно приподнял бровь Дольф.
– Может, и знаешь, мир искусства тесен. Это Николай Сожецкий.
– Коля-Микимаус? – расплылся в улыбке Дольф. – Вот пронырливый засранец!
– Так ты с ним знаком? – удивился Виктор.
Дольф насмешливо фыркнул:
– Да кто у нас не знает Микимауса? Он сам русский, американского происхождения, начинал в Сохо с самых низов, рос, продвигался, а сейчас работает со странами бывшего Союза.
– Ну вот и прекрасно! Микимаус очень хочет дружить и собирается открыть в России свою галерею. Я обещал ему помощь, поэтому тебе придется обласкать его в Петербурге. Он же, в свою очередь, будет обрабатывать американцев, чем сильно увеличит шансы «Свиньи» на показ наших художников в Америке.
– Какой еще показ? – недоумевающее воскликнул Дольф.
– Главная интрига в том, что с Кински летят кураторы из фонда Гуггенхайма, они будут отбирать художников для выставки русского искусства в Нью-Йорке. Вот потому-то, дорогой Дольф, сейчас самое важное – показать лучшие работы наших новеньких. Думай только об этом, всем остальным займусь я.
Пожав руку ошеломленному Дольфу, Виктор подошел к белоснежному трапу, набрал на переговорном устройстве несколько цифр и не спеша поднялся на борт «Milena Pacific».
4
– Лот номер сто шестнадцать, – поставленным голосом объявил представительный спикер с трибуны. – Работа современных российских художников Ильи и Михаила Лобановых, «Среди волн». Холст, масло, два на три метра, две тысячи пятый год.
– Наконец-то! – утомленным шепотом обратилась к своему спутнику эффектная блондинка в пятом ряду аукционного зала. – Если бы я знала, что это так долго, то сняла бы тут номер.
Сидящий рядом с дивой Виктор согласно кивнул, но с улыбкой заметил:
– Вы здесь всего час и уже устали. Пожалейте меня – я тут с четырех дня. У нас сегодня прошло продаж старых мастеров почти на три миллиона.
Марьяна возбужденно сверкнула глазами и заерзала на месте. На вид ей было около тридцати лет, стройная, с плотно наполняющим кофточку бюстом, лицо капризное с неестественно большими губами. Нефтяная королева Марьяна Рогулина прибыла на аукцион в довольно демократичном наряде, но ее шею украшал сверкающий полумесяц белого золота, а на пальцах и в ушах голубоватым огнем сияли массивные бриллианты.
На стоящем в центре ярко освещенного подиума мольберте установили картину – купающаяся в сочной, бирюзовой пене пышнотелая девица, окруженная порхающими райскими птицами и резвящимися вокруг дельфинами.
– Экспертная оценка художественного фонда мсье Тропинина, – продолжил свои пояснения спикер.
Блондинка еле заметно толкнула Виктора локтем.
– Мсье Тропинин, вас тут серьезно уважают, – игриво прошептала она, победно улыбаясь.
– Начальная цена лота – сорок тысяч.
По раззолоченному залу конференс-холла пронесся еле слышный гул голосов. Не дожидаясь начала торгов, девушка энергично подняла флажок с номером.
– Мадам в пятом ряду, номер пятьдесят пять, сорок тысяч! Сорок тысяч раз!
Окинув взглядом зал, Виктор негромко сказал:
– Ну вот. Как и обещал. Ее взяли на торги, теперь она ваша и вполовину дешевле, чем тогда в галерее. Смелее, Марьяна.
Аукционист вознес молоточек:
– Сорок тысяч два! Сорок тысяч три!
В последнюю секунду перед вожделенным ударом какой-то полный господин с небольшой блестящей от пота лысиной, сидящий прямо перед Виктором и Марьяной, неожиданно выбросил свой номер вверх.
– Номер четырнадцать, пятьдесят тысяч! – оживился крупье.
Удивленно уставившись на лысого толстяка, Марьяна еще раз азартно подняла руку.
– Номер пятьдесят пять, шестьдесят тысяч!
Тут же какая-то женщина в черном костюме, не прекращая разговора по телефону, включилась в торг, следом за ней поднял руку молодой мужчина в темных очках, за ним – опять толстяк.
– Восемьдесят тысяч, девяносто тысяч, сто тысяч! – воодушевленно трубил спикер, только и успевая указывать молоточком в сторону торгующихся.
Растерянно оглядывая конкурентов, Марьяна упрямо подняла руку на цифре сто двадцать тысяч:
– Черт бы их всех побрал! Откуда они только взялись?
– Говорите тише, – вполголоса попросил ее Виктор. – Тут половина зала выходцев из России, есть очень влиятельные фамилии, меня многие знают. Так не принято.
– Да-да, конечно, – перешла на конспиративный шепот Марьяна. – Но кто эти люди? Вы их знаете? Их было не видно, не слышно, и вдруг на тебе пожалуйста, черт! Уже сто сорок!
Виктор устало вздохнул и посмотрел в потолок.
– Я же уже купил то, что просил Иван, – зашептал он Марьяне. – Откажитесь. Далась вам эта «Картина Жизни»? Тем более так дорого?
– Ну уж нет! Черта с два! – забыв о русскоязычных соседях, зло воскликнула бриллиантовая девушка и, снова спохватившись, раздраженно зашептала: – Вы меня плохо знаете, Виктор Андреевич, я не какая-то там фондовая дешевка с Рублевки! Все эти лузеры уже завесили Близнецами дома, а я буду посмешищем! Плевала я на деньги – дело принципа!
Красная от злости, она снова подняла руку.
– Сто пятьдесят тысяч! Кто больше?
Марьяна нервно покрутила головой, выискивая в зале своих соперников, но те выжидающе притихли: толстяк уткнулся в каталог, дама в черном костюме, безразличная к происходящему, беседовала со своим соседом, а мужчина в очках спокойно сидел на своем месте и, казалось, едва заметно улыбался.
Почувствовав в пересохшем от волнения рту соленый вкус победы, Марьяна еще раз энергично потрясла своим номером.
– Сто пятьдесят тысяч три! Продано номеру пятьдесят пять за сто пятьдесят тысяч! – радостно объявил спикер.
Картину унесли с подиума, а ее место тут же заняла другая работа.
– Ну вот, – вставая и надевая пиджак, спокойно изрек Виктор, – так или иначе, но вы добились своего. Уважаю ваш бойцовский характер.
– Ну что вы, это все благодаря вам, – счастливо улыбаясь, запротестовала Марьяна.
Она встала, повернулась спиной к спикеру и, прищурившись, посмотрела на злокозненно улыбавшегося мужчину и даму в черном. В зале уже успели объявить новые торги, и те, разглядывая следующий лот, не заметили испепеляющего взгляда победительницы. Насладившись моментом, шикарная русская блондинка безразлично бросила каталог аукциона на кресло и, подхватив сумочку, направилась к выходу.
– А знаете что, Виктор Андреевич, – голосом довольной кошечки промурлыкала она, беря своего консультанта под руку и спускаясь с ним по мраморной лестнице в холл отеля. – За сто пятьдесят тысяч она мне еще больше нравится!
– Если честно, я согласен с вами. Картина ранняя, таких уже и нет сейчас. Это еще самое начало их проекта, а он почти распродан, и к тому же поверьте, уже очень скоро их работы будут стоить в разы дороже.
– Вы думаете? – удивилась Марьяна, восторженно глядя на респектабельного Виктора Андреевича.
– Уверен. Есть информация.
– Виктор Андреевич, дорогой, едем к нам! Пожалуйста! Ванечка прилетел из Лос-Анджелеса, устроим вечеринку, погудим, отметим наши покупки! У нас сегодня целый самолет гостей, русские из Калифорнии. Иван привез такого повара, тайца, обалдеть… И потом, ваши комиссионные, нет-нет, не машите головой! Вы же работали. Не возражайте.
Как только Тропинин и Рогулина покинули отель, из зала, где продолжались аукционные торги, один за другим вышли трое: дама в черном костюме, полноватый господин с лысиной и улыбчивый мужчина в темных очках. Тихо переговариваясь, троица неспешно проследовала на огромный балкон бара, где уселась за столик между кустов розовых бугенвиллей. Вслед за ними на балкон вышел франтоватый красавец a-la Monte-Carlo. Простоватый с виду водитель Сергей преобразился до неузнаваемости, – на нем был черный визитный костюм, щегольские лаковые туфли, бабочка. Набриолиненный красавец подошел к перилам балкона, вальяжно осмотрел морскую даль, а после важно присел за их столик.
– Мадам, мсье, Виктор поручил мне завершить наши дела. – Сергей говорил по-французски ужасно, но собеседники закивали головами и заулыбались.
– Для нас всегда большая честь работать с вашим фондом, – заверила Сергея мадам в черном, расстегивая для большей убедительности две верхние пуговицы на жакете.
– Итак, к делу!
С интересом присматриваясь к вздымающемуся от волнения бюсту дамы в черном, Сергей выудил из внутреннего кармана пиджака три одинаковых желтых конверта.
Миллиарды ярких бликов зыбко дрожали в черном зеркале спокойного моря, и в этом космосе отраженного электрического света рядом с нарядно освещенной «Milena Pacific» усыпляюще хлюпали бортами сотни пришвартованных яхт и маленьких пароходиков. Ночь выдалась тихая, спокойная. На защищенном от волн внутреннем рейде стоял полный штиль. Влажный воздух моря и солоноватый запах вечно мокрых прибрежных камней смешивались с ночной прохладой, наполняя легкие свежестью, а душу безмятежностью и ощущением удивительного покоя. Пряными нотками к этому морскому коктейлю нежно примешивался запах бурно цветущих на набережной пиний.
Чтобы смех и гудящая басом музыка не мешали разговору, Виктор вышел из залитого светом салона и по белым полотняным дорожкам, укрывающим тиковую палубу, прогулялся на ют.
– Неужели тебе это удалось? – Голос Дольфа в трубке казался каким-то далеким и тревожным. – Я, конечно, безумно рад, но меня не покидает ощущение, что мы строим песочный замок. Неужели сто пятьдесят?
Виктор медлил с ответом. Разглядывая с высокой палубы веселые компании туристов на бульваре Антуана Первого, он думал не об удавшемся аукционе, а об опасном поцелуе, которым наградила его урчащая от страсти хозяйка яхты. Выпив несколько бокалов вина, Марьяна, весь ужин не сводившая с него пылающих восторгом глаз, заманила на нижнюю палубу и вцепилась с неженской силой. Чтобы не задохнуться от ее поцелуев, пришлось дать клятву похитить ее сегодня же ночью, как только гости как следует разгуляются и сорвутся в казино.
Именно эта сладкая перспектива туманила ум и, путая планы, мешала контролировать ход событий.
С давних пор, с первых еще студенческих похождений, он помнил волнующее ощущение сладострастного заговора и собственной двуличности, которое возникало у него всякий раз, когда он собирался наставить рога своим доверчивым друзьям, а позже подчиненным и партнерам.
– Послушай, Дольф, – Виктору как-то сразу прискучило продолжать разговор, – ложись спать. Завтра я прилетаю дневным рейсом, увидимся у Зиновия. Можешь быть уверен – уже завтра об этой продаже будут знать все.
Окончив разговор, он еще раз оглядел хорошо знакомую городскую перспективу. Внизу, у самой воды, на причале среди вытащенных на сушу катеров двумя горящими зрачками в сумерках хищно светились огни поджидавшей его машины. Над причалом веселая и полная света набережная, жизнь на которой не угасает до поздней ночи. Чуть выше порта в направлении мыса Ай старая городская крепость, правее княжеский замок, еще дальше – бесконечная череда стен, домов, крыш и возвышающаяся над всем этим высотка «Парк Сен-Ромен». Иссиня-черное небо накрывало залитый электрическим светом город денег и надежд, а между чернильными от мрака ночи облаками и рваным силуэтом городских крыш вдали угадывались темные контуры горы Ажель.
– Мсье Тропинин! Мсье Тропинин! – возникший как из-под земли стюард в белоснежном кителе просительно выгнул спину. – Хозяин послал за вами. Он просит помочь ему разрешить спор между гостями по поводу картины, которую только что доставили с берега.
– Виктор Андреевич! Дорогой! – прогудел зычным басом Иван Рогулин, поднимаясь с дивана и широко расставляя руки. Он простовато, но по-медвежьи крепко заключил Виктора в свои объятия.
Огромный ростом, с плотным мускулистым телом Рогулин выглядел настоящим сибиряком, подлинным богатырем, способным на своих кряжистых ногах вынести все земные труды и печали. Природа щедро одарила его тело силой, но лицом он был страшен: многие пугались смотреть ему прямо в глаза. Даже в минуты такого умиления, как сейчас, его зверообразная внешность заставляла содрогаться. Многим из сидящих рядом невольно вспоминались давние истории из его молодости, когда в пылу спора или перед лицом опасности Иван, теряя самообладание, мог убить обидчика ударом кулака.
– Вот рассуди нас, они меня заели. Смеются надо мной. Дантисты проклятые, сволочи, просто зашлись от хохота, только увидели, что вы с Марьей купили сегодня. Ну, чего вы улыбаетесь? Давайте, повторите еще раз, что вы тут мне болтали про своего Гугихайна, – пророкотал он, обращаясь к кому-то из своих друзей, плотным полукольцом окруживших стоящую у стены картину.
Сашка и Аллочка – зажиточная семейная пара, иммигрировавшая в США еще на заре перестройки, – радостно улыбаясь, обернулась на зов и охотно включилась в художественную дискуссию.
– Не Гугихайна, а Гуггенхайма, – с едва заметным акцентом поправил Сашка. – Нет, я, конечно, не специалист, но это очень забавная картина. Такое ощущение, что увеличенный детский рисунок. Правда, Аллочка?
Аллочка внимательно взглянула на Тропинина и, не увидев в нем ни малейшего протеста, стала развивать мысль мужа:
– Даже не столько детский рисунок, сколько непонятно каким образом сформированная композиция. Вот хотя бы центральная фигура купающейся девушки: взгляните, как все перекошено.
Шумная компания стала постепенно возвращаться к столу. Наконец все расселись, взяли в руки бокалы и продолжали обсуждать картину.
– Яркая, кричащая цветом, нереальная вода, – эмоционально твердила Аллочка. – В ней, как дыра в холсте, – нелепое тело. Не женщина, а какой-то борец сумо! И почему она почти красная? От стыда? Смотрите, у дельфина мужской член и, судя по всему, наступила эрекция. Как вам? А это что за куски чьих-то ног, и вон еще рука?
Марьяна не выдержала и возмутилась:
– Какая же ты, Алла, дура! Дались тебе эти члены, руки… Они потому тут нарисованы, что картина – часть огромного сюжета. А всего сюжетов – сто. Если их все собрать и составить вместе, то получится огромное полотно. Оно и называется «Картина Жизни». Мне эта картина просто нравится.
– Чем же? – задорно крикнул кто-то из гостей.
– Ну, не могу объяснить.
– Всем нравится, но за сто пятьдесят никто бы не купил!
– Ну, не знаю, сейчас это очень модные художники.
– Где? – загоготали гости.
– В Москве, в Питере, – отбивалась Марьяна. – У тебя-то в доме что висит? Небось то же, что и в офисе, плакаты из супермаркета? Да скажите же вы им, Виктор Андреевич!
Виктор замкнул на себе все взгляды, помолчал и неожиданно предложил:
– Кто может вспомнить – вспоминайте! Вспомните, что было сто лет назад.
– Что было сто лет назад? – заволновалось заинтригованное общество.
– И сто, и сто пятьдесят, и пятьсот лет назад в искусстве наступали схожие ситуации. Ну давайте возьмем кого угодно, ну хотя бы вот пример: Арчимбольдо, Ван Гог, Модильяни. Всем знакомы эти имена? Хорошо, так вот, все они когда-то были современными художниками, но история искусства не делает тайны из того, что их творения, мягко говоря, не всегда нравились современникам. Чаще всего их попросту поносили и считали неадекватными бунтарями, бездарями, плохими рисовальщиками, отступившими от канона, веры и морали. Люди смеялись над их работами. Да-да, смеялись, и еще громче, чем вы сейчас, да и стоили они тогда гроши.
– Ну а при чем тут вера, мораль и канон? – нетерпеливо нахмурившись, возразил Сашка. – В купленной вами, простите за определение, мазне нет ни того, ни другого, ни третьего.
– Вот именно! – с улыбкой согласился Виктор. – Ни того, ни другого, ни третьего. Но есть четвертое.
– Четвертое?
– Да, четвертое. Я, как вы изволили выразиться, специалист и поэтому охотно отвечу – существует некое не оглашаемое условие, тайное обстоятельство, без которого никто даже не запомнил бы имени автора. Обстоятельство это скрыто от глаз, но, уверяю вас, оно и есть самое главное из того, что вам нужно знать про ту или иную картину, когда вы собираетесь ее покупать.
Виктор встал с дивана, прошелся вдоль стола и остановился у полотна.
– Скажу вам более того, – продолжил он после короткого раздумья. – Без этого четвертого и, как выясняется, самого важного обстоятельства не только эта картина, но и вообще все современное искусство, да и любое другое творчество, будут лишь рядом никем не замеченных усилий, направленных на банальное украшение нашей с вами земной и, простите за откровенность, глубоко материалистической жизни.
После заявления в салоне повисла напряженная тишина.
– Боже, как все скучно, – капризно заныла какая-то девица.
– А-а! Нечем крыть! – загоготал подвыпивший Рогулин. – Виктор Андреевич на этом собаку съел. Это тебе, брат, не с имплантами во рту ковыряться. Га-га-га!!
– Ваня! – тревожным голосом откликнулась Марьяна.
А Ваня и не думал униматься:
– Мне, может, картина тоже не нравится: так, благо, что недорого стоила. Но я же молчу! Молчу, потому что купил ее по другой причине – хочу человечка в нее одного завернуть…
– Иван!!! Что ты болтаешь?!
– Молчу, молчу…
Марьяна приняла из рук официанта бокал шампанского.
– Не слушайте его. Напьется и мелет на людях не пойми что. Дело в том, что я давно хотела ее купить. Она мне нравится. Могу себе позволить. Сразу не вышло, но теперь Виктор Андреевич довел все до конца.
Уязвленный Сашка тоже встал из-за стола, подошел к Тропинину и внимательно уставился на холст.
– Мне не то чтобы нечем крыть, просто вы так и не пояснили суть тайного и важнейшего обстоятельства, которое наполняет эту глупую картину столь важным смыслом.
– Да-да, действительно! – оживленно поддержали его обескураженные товарищи.
– Вы действительно хотите знать? – Виктор всем корпусом повернулся к столу и выжидающе замер.
– Да, да…
– Самое главное в этой картине – мой совет ее купить.
Рогулин захохотал так громко, что на столе дрогнули изящные фужеры на длинных ножках. Постепенно к циклопическому смеху хозяина добавились более человеческие голоса его гостей, и еще несколько минут бешеное русское веселье было слышно над всей акваторией порта.
– Утер носик детям! – плача от смеха, не унимался Иван. – Красавец! Обожаю. Нет, ты видел их лица?! Уха-ха-ха!
В кармане у Тропинина опять требовательно зазвонил телефон, и следом в ночной тишине судовой колокол пробил десять вечера.
– По коням! – заорал встрепенувшийся Иван. – У меня здесь, правда, есть и свой стол для «блек джека», но в городе веселее. Виктор Андреевич, дорогой, поехали с нами, я же завтра уплываю на Кипр, когда еще свидимся?
– Нет, Иван, не проси. Завтра в Петербурге большая выставка, через неделю бьеннале в Шанхае. Дела.
Развеселившиеся гости стали подниматься.
– Петербург красивый город. Прикинь и на меня там что-нибудь, – прощаясь уже на палубе, громко кричал Иван. – Про деньги не думай, если что-то стоящее, бери. Ну, давай по-русски обнимемся, а то ты тут совсем офранцузился.
Рогулин в который раз за вечер сгреб Виктора в охапку и, крепко хлопая его по спине, прошептал на ухо:
– Встретишь в Питере лысого умника, Дольфа, напомни, что Рогулин его не забыл.
– Как скажешь, – спокойно ответил Виктор. – Только подберу момент получше.
– Подбери, подбери. Хорошо, что ты меня понимаешь.
– Я еще позвоню.
С трудом отлепившись от гостеприимного хозяина, Виктор заметил его взволнованную жену. Марьяна делала вид, что беседует с какой-то своей подругой, но глаза ее были полны страстной надежды и влажно смотрели на прощающихся мужчин.
– Виктор Андреевич! – не утерпела она. – Я вам так благодарна! Мне так жаль, что вы нас покидаете. Я очень надеюсь на то, что мы еще сможем увидеться снова, – почти прошептала она ему на ухо, делая жаркое ударение на слове «снова».
Под теплым лучистым взглядом мужа Марьяна дружески поцеловала Виктора Андреевича в щеку и захлопала ресницами, лисьей хитростью понимая, что сладким мечтам сегодня сбыться не суждено.
Когда Виктор спустился с трапа, к ногам упал поток ярчайшего света, и, шелестя шинами, по причалу пронесся блестящий лаком «ауди». Виктор поднял голову и улыбнулся напоследок глядевшим на него с высокой палубы хозяевам яхты. Рогулин на прощанье энергично замахал ему рукой, а Марьяна, воровато оглянувшись, приложила два пальчика к своим пухлым губам и послала Виктору воздушный поцелуй.
– Ну что, Сергей, как наша «святая троица»? – довольным голосом поинтересовался Виктор, усаживаясь в машину. – Деньги передал? Все остались довольны?
– Виктор Андреевич! Да актеришки просто обалдели от счастья!
Виктор нахмурился, он не любил просторечий и жаргонных выражений.
– Изъясняйся культурно.
– Извините, – тут же поправился Сергей. – Деньги передал, они всем довольны и очень просили всегда обращаться только к ним.
– Завтра мы вылетаем в Петербург.
– Виктор Андреевич, пять минут назад звонили из Америки. Ваша линия была занята, и переадресация вывела звонок в машину.
– Кто звонил?
– Микимаус. Он сообщил, что Руф Кински только что вылетела в Россию. Они сейчас уже в воздухе, и если не будет задержек, то прибудут в Петербург завтра около девяти утра.
– Ну и прекрасно, – прошептал Виктор. – Значит, все по плану, но мы вылетим сегодня, первым же рейсом.
– Домой будете заезжать?
– Нет. В аэропорт!
5
– Она спит?
– Похоже, что да. Курила всю ночь. Ида, что мне делать? Может, прогулять чудовище? Оно как-то тяжело дышит и распустило слюни на паркете.
– Почему ты называешь его чудовищем?
– Не знаю.
– А я догадываюсь. Когда Перро лежит, как сейчас, перед ее дверью, он похож на чудовище из «Аленького цветочка», ждущее, когда к нему вернется любимая. Он так мил в этой своей грустной преданности, как будто в его теле прячется не монстр, а самое робкое и трепетное существо. Он такой печальный, потому что ему просто не повезло с размером.
– Мне тоже.
– Не болтай и не напрашивайся на комплимент, сделай мне чай с лимоном и, если хочешь, выведи Перро прогуляться.
Оставшись одна в комнате, Ида качнулась в скрипучем кресле, сбросила плед и, нащупав ногами сабо, поднялась. Щелкнула застежка портсигара. Привычным движением она вставила сигарету в длинный лаковый мундштук, ухватила его своими худыми восковыми пальцами и зажгла спичку.
Откуда-то из глубины квартиры донесся неуверенный голос Евдокии:
– Ну же! Пойдем! Пошли, вставай! Вот наказание!
Ида прислушалась и бросила мундштук с неприкуренной сигаретой на полочку трюмо. Поспешно выйдя из комнаты, она прошагала через свой заваленный книгами кабинет и оказалась в огромном коридоре. Евдокия осторожно трясла ошейником перед мордой собаки.
– Чего смотришь? Пошли со мной. Спит она, не выйдет. Пойдем.
Дверь, перед которой лежал огромный пес, внезапно распахнулась. Соня заспанно терла глаза.
– Лыжница, что ты все утро гудишь? Я только и слышу твой голос. Бу-бу-бу!
– Прости меня, деточка, я хотела вывести его погулять, а он уперся.
– Я сто раз говорила тебе, что я уже не деточка. – Соня присела возле пса и погладила его. – Иди гулять, Перро. Не бойся.
Собака вскочила и радостно задышала.
– Ну вот, так бы и давно! – засуетилась Евдокия, надевая ошейник.
Она отворила дверь, пропустила Перро вперед и поспешно вышла за собакой на лестницу.
Когда входная дверь захлопнулась, Ида с интересом посмотрела на дочь. Соня вновь как-то неуловимо изменилась. Повзрослела, что ли?
Неизбывное для обычных женщин чувство материнской заботы и привязанности к собственному ребенку никогда не было свойственно Иде, но все же она всегда подмечала, как менялась Соня. Подмечала и удивлялась.
– Ты не мать, – со слезами говорила ей свекровь. – Ты «кукушка». Родила себе куклу и бросаешь ее из угла в угол.
Права была суровая женщина, простоявшая всю жизнь у станка и не знавшая покоя до самой смерти. С давних пор своей безумной поэтической молодости увлеченность Иды собой была единственной ее страстью. Поэтому, когда муж ее бросил, а замкнутая и диковатая дочка пошла в школу, в доме появилась неласковая, но слепо преданная хозяйке Лыжница. Великанша-спортсменка не читала нотаций, она боготворила свою королеву, но успевала при этом обстирывать дом и кормить неулыбчивого подростка. Теперь же, когда прошли годы и мужчины окончательно увели Соню из дому, Ида как-то быстро состарилась и, лишь изредка видя дочь, стала с тоской подмечать в ней невиданные ранее признаки расцветающей алым цветом, сводящей с ума красоты.
Смутившись и желая скрыть свое завистливое бабье разглядывание, она забренчала десятком серебряных колец на запястьях и стала оправлять волосы. Седеющая ныне копна летала когда-то по плечам туго скрученной черной косой. Скольких мужчин погубила ее коса, заплетенная алой лентой, теперь и не вспомнить! Сколько слез и признаний, сколько писем, стихов…
– Пойдем пить чай? – предложила Ида.
– Дай мне во что-нибудь переодеться. Я осталась без вещей.
– Боже мой! Вас обокрали?
– Не спрашивай.
</em>
Пока Соня принимала ванну, Ида торопливо перерывала свои бездонные шкафы с нарядами. На полу в гардеробной выросла огромная куча одежды, вышедшей из моды добрых четверть века назад. Большинство из отсмотренного она равнодушно бросала в сторону, некоторые вещи подолгу вертела и прикладывала к себе, кое-что бережно откладывала для дочери. Вскоре с прогулки вернулась Евдокия и, ворча, стала помогать хозяйке – разложили гладильную доску, зашипел утюг, что-то подштопали, кое-где поправили пуговицы, долго спорили, в конце концов выбрали совсем не то, что собирались, и пошли показывать.
Соня без слов надела предложенный наряд и безразлично встала перед зеркалом: черные брюки клеш с цветастыми раструбами штанин, модная по современным меркам белая маечка с коротким рукавом и шелковая жилетка, издали похожая на куст бордовых георгин.
– Заплетите мне косу, – произнесла Соня, снимая жилетку и отбрасывая ее на пол. Затем она уселась на стул и стала завязывать ремни сандалий.
Лыжница метнула взор на Иду.
– Как ты хочешь? Ленточкой или на резиночку? – спросила та.
– Плевать.
– Сонечка.
– Оставь! – Голос Сони был глух и безразличен. – Я не на танцы собралась.
Ида прикрыла руками глаза и произнесла горестным шепотом:
– Ты так изменилась. Стала такой жестокой. Даже не интересуешься, как я себя чувствую. А я болею…
Произнеся это заклинание и проглотив мучительную обиду, Ида, как всегда в таких случаях, почувствовала в переносице жгучий укол подступающих слез. Самое время сказать дочери что-нибудь доброе, нежное, то, что давно для нее приготовлено, сто раз обдумано и, дожидаясь оглашения, лежит на самом дне одинокого материнского сердца. Она даже рот открыла, но, взглянув на вьющиеся кольцами каштановые волосы на гладкой, без единой морщинки Сониной шее, смутилась и стремительно отвернулась к зеркалу.
Зеркало, зеркало, кто тебя создал? Зачем ты дано женщине: для радости или на горе? Пятьдесят два прожитых года – это уже закат жизненного солнца. Бессмысленно себя обманывать, воображать, что впереди еще масса поворотов, за которыми ждет сладкое счастье.
Теперь всякий раз, как она смотрит в зеркало, на нее накатывает неизъяснимая тоска, и, содрогаясь от осознания ужасной правды, Ида понимает, как будут выглядеть оставшиеся годы из отведенной на ее долю земной жизни.
Ей собственными глазами предстоит увидеть постепенное угасание, старение своего лица, спасти которое от власти времени она уже не в силах.
Вслед за утратой былой красоты придется мучительно принять свою поэтическую безвестность, потом познать всю боль и немощь дряхлеющего тела, и когда наконец наступит никому не заметный закат ее остывшего солнца, придет и оно – полное забвение.
И одиночество. Одно сплошное одиночество!
Слезы нашли себе дорогу и вырвались двумя горячими каплями. Ида украдкой вытерла их тыльной частью ладони и театрально вздохнула.
Ей пятьдесят два, и она седеющая, хотя все еще эффектная женщина с бесконечным подмалевком тона на лице, компрессами, масками, дряблой кожей рук, истериками климакса и тоской незадавшейся жизни.
Мужа она уморила, и он сбежал от нее, остальные же мужчины держались при ней от книги до книги, а книжек этих было не так уж и много.
Поэтесса Ида Штейн всю жизнь карабкалась по нагромождениям слов, пытаясь дотянуться до светлого поднебесья поэзии. Иногда ей это удавалась, а иногда, после захваленного льстивыми языками самообмана, наступали черные провалы долгой бессловесной депрессии.
Хороша она, ничего не скажешь, молодящаяся старуха, завидующая красоте своего ребенка и ненавидящая свое отражение. Позади нее, в глубине зеркала тревожно сопит мужеподобная Евдокия, единственная преданная поклонница. А между ними на стуле с безразличным лицом сидит похожая на тень Соня.
– Мне нужны деньги, – таким же безучастным голосом произнесла Соня.
Евдокия, ведающая всеми финансами, ринулась к гардеробу. Ида встрепенулась от своих дум, повернулась к дочери и смущенно сложила на груди руки.
– Что у тебя случилось? Неужели ты не можешь поделиться?
Соня не ответила.
– Сколько нужно? – засуетилась Евдокия, вытряхивая карманы плаща и роясь в сумочках.
– На такси. Туда и обратно.
– Куда ты едешь, деточка?
– Я устала. Я еду за город. Не говорите никому.
Торопливо считая купюры, Евдокия украдкой поглядывала то на мать, то на дочь.
– Тут мало, – с опаской сообщила она.
Ида склонилась над Соней и неловко поцеловала в макушку.
– Возьми мою карточку, там хватит. Код ты помнишь. Пойду прилягу, голова болит.
Когда за ней закрылась дверь, Евдокия подошла к Соне и положила свои руки ей на плечи. Сильные пальцы начали делать привычный с детства массаж шеи. Соня выгнула спину от удовольствия и опустила голову.
– Она сдала в последнее время, – извиняющимся голосом зашептала Евдокия. – Часто плачет, врачей зовет, потом гонит. Я возила ее в Павловск, ну, туда, на ее аллею. Так она не смогла по ней идти, разревелась. Спит плохо и уже месяц совсем не пишет. Ты пожалей ее.
Соня поднялась со стула и ошарашенно уставилась на Евдокию.
– Да-да, – еще тише зашептала напуганная ее реакцией Евдокия. – Говорит, что всю жизнь прожила без любви, всем приносила одни несчастья и тебя, деточка, лишила семьи и детства. Совета просила, да только что я могу посоветовать, сама знаешь, а она вчера впервые в церковь пошла, а к вечеру опять слезы…
Громко и трескуче под ногами заскрипел старинный паркет. Пробраться в спальню матери без шума невозможно. Соня медленно и осторожно ступала по дубовым шашкам, и ее лицо отражалось в десятках застекленных фотографий, полностью заполнивших все свободные места на стенах кабинета.
Ида лежала на софе, укутавшись в похожий на рыбацкую сеть рукодельный платок, и, казалось, спала. Соня тихо присела рядом.
– Ида.
Вместо ответа рука матери взяла Соню за локоть.
Задыхаясь от волнения, Соня склонилась и уже хотела ее обнять, но холодные пальцы матери как-то ослабли, рука сползла вниз, и Соне показалось, что их секундная, подобная вспышке света, духовная связь опять оборвалась. Поджав губы, Соня угрюмо смотрела на неподвижный силуэт ее лица, разглядывала тоненькую синюю жилочку под ухом и еле заметные темные усики, появившиеся у Иды после пятидесяти. О том, что мать жива и дышит, свидетельствовали лишь нервно вздрагивающие ноздри. Бледное, покрытое бесчисленными морщинками лицо напоминало потрескавшуюся при обжиге фарфоровую маску.
– Ида, почему мой отец тебя бросил?
Ида, не открывая глаз, устало поморщилась и медленно зашептала:
– Мне в последнее время часто снится летящий белый платок, который с меня когда-то сорвало ветром. Ты была еще совсем крохой и не помнишь тот случай, мне же он перечеркнул всю нашу жизнь. Шелковый китайский платок уносится вдаль, ветер крутит его, несет, несет… эта картина так и стоит у меня перед глазами. Его сорвало у меня с плеч, когда мы переходили Кировский мост. Твой отец тогда накричал на меня с досады, порыв ветра уносил его подарок, я же безразлично хохотала. В конце концов мы так ужасно поссорились, что я дала ему пощечину и заплакала. Тебе было года три, а мы к тому времени уже прожили с ним около пяти лет и, как мне тогда казалось, очень устали друг от друга. Но мои слезы это еще не конец всей истории. Твой отец пришел в такую ярость, что бросил нас на мосту, а сам перелез через перила и прыгнул в Неву. Нет, он не утонул, он вынырнул и как сумасшедший поплыл за той тряпицей. Тогда был май, и плыть ему пришлось в ледяной воде, а течение было настолько сильным, что, едва живой, он выбрался на берег только у Васильевского острова. Конец истории наступил тогда, когда твой отец вернул мне тот злосчастный платок. Вернув его, он не сказал о нем больше ни слова, но очень скоро сам исчез из моей жизни, так же внезапно, как улетел от меня его подарок. Тебе сейчас двадцать два, и с того случая прошло почти двадцать лет, ты уже взрослая, и теперь я могу сказать тебе, почему он ушел: я была жестока к нему, жестока и нетерпима. Я не прощала ему его слабостей, физическое несовершенство, была равнодушна к его скучной работе и невнимательна к привычкам. А он… он был много старше меня, обыкновенный, но хороший, надежный и совершенно безобидный человек, который терпел меня, сколько мог, дал жизнь тебе, по-своему любил, страдал и был единственным мужчиной в моей жизни, который ревновал меня по-настоящему. Он так хотел сына, что, когда родилась девочка, я в отместку стала доводить его своими фокусами до умоисступления. Тогда меня это забавляло. Ну, а когда его не стало рядом, меняться было уже поздно.
</em>
Желая скрыть подступившие рыдания, Соня уткнулась лицом в свои руки.
– Почему ты спросила? Что с тобой, Сонечка? Ты вся дрожишь.
Ида энергично поднялась, села рядом и, взяв дочь за плечи, постаралась заглянуть ей в лицо.
– Что случилось? Не рви мне сердце. Ты плачешь? Боже мой! У меня давно уже нет своей жизни, я живу только воспоминаниями и тобой! Что произошло? Это Лыжница, дура, тебе наговорила?..
– Я ушла от Тимура.
– Ка-а-ак? – изумленно воскликнула Ида.
Потрясение от услышанного было так велико, что она даже вскочила на ноги.
– Вот это новость! Вы же были так счастливы!
– Я разочаровалась, – глотая слезы, тихо прошептала Соня.
– Но что он натворил? – теряясь от нахлынувшего волнения, спросила Ида.
Она забегала по комнате, подскочила к комоду, извлекла из него пару носовых платков, в один высморкалась сама, другой протянула дочери.
– Он перестал быть художником, – утирая лицо и тихо всхлипывая, горестно сообщила Соня. – Утром я думала удавиться, а сейчас думаю, что он того не стоит. Он предал меня, и я не люблю его, я его ненавижу.
– Он что? – тут Ида сделала театральную паузу и понизила голос. – Изменил тебе?
– Хуже.
– Тогда что же?
– Он изменил себе.
Взглянув на дочь, Ида наконец-то поняла, что так неуловимо изменилось в ней за последнее время – в Соне появилась невиданная ранее решимость. Глаза дочери сверкали, как горящие угли. Ида испуганно отшатнулась.
– Вот те раз, – растерянно прошептала она. – А ну пойдем на кухню, ты нам все подробно расскажешь.
Буквально силой она потащила Соню за собой, и ровно через пять минут три женщины уже сидели вокруг круглого стола, плотно заставленного чайным сервизом.
Рассказ Сони был сбивчив и неясен. Слова вязли в горле, и говорить их не хотелось. Соня чувствовала себя как на медицинском осмотре, когда нужно раздеться догола и дать ощупать свое покрытое мурашками тело брезгливой докторше с холодными руками. Когда слезы высохли, она и вовсе пожалела о том, что разревелась и вынуждена теперь отчитываться. Выпив два стакана сладкого чая и немного успокоившись, она захотела отделаться от надоедливых расспросов. Сделать это было не просто. Ида сверлила свое дитя гипнотическим взглядом, гладила по руке и вообще проявляла признаки повышенного интереса и возбужденности. Драма любви была ее любимой темой, стихией, в которой она чувствовала себя как рыба в воде, в которой черпала все восторги и вдохновения. Лыжница подливала чай, когда надо, охала, когда надо, громко причитала или хватала себя за щеки и начинала сокрушенно мотать головой. Толкая друг друга под столом ногами, они засыпали девушку горячими вопросами, требовали откровенности, строили догадки и сахарно-певучими голосами тешили надежду на лучшее. Этот бабий совет показался Соне настолько унизительным, что она еле сдерживалась, чтобы не вскочить и не сбежать. С гадким чувством участницы глупейшего ток-шоу, где главная тема – ее несчастная любовь, она мучилась с ними до тех пор, пока в квартире не раздался звонок.
Чтобы не разрушить хрупкую атмосферу редкого семейного единения, Евдокия постаралась как можно тише выбраться из-за стола и на цыпочках метнулась в прихожую. Обратно она прибежала, топая как слониха. Картинно появившись в дверях, перевела дух и выпалила:
– Тимур!
– Вот те раз! – ошарашенно повторила Ида свое любимое восклицание.
В ее увлажнившихся от удовольствия глазах сверкнул тот огонь, который всегда появляется у бодрой легавой перед тем, как она стрелой полетит по кровавому следу.
– Что будем делать? – заговорщицки воскликнула мать, как будто все услышанное за столом уже объединило их в одну надежную команду.
Соня поникла головой, а энергичная Лыжница сразу восприняла ее позу как мольбу о заступничестве.
– Я его в шею! Он на лестнице стоит, я сказала, чтобы подождал, так я его…
Ида торопливо схватила дочь за плечи и затрясла ее изо всех сил.
– Тебе нужно что-то решать! Чего ты ждешь? Скорее!
Соня встала из-за стола и произвела пальцами сухой щелчок. Не медля ни секунды, из глубины коридора примчался Перро. Огромная собака в покрытом шипами ошейнике уселась в дверном проходе и вопросительно уставилась на хозяйку.
От тяжелого предчувствия у Иды похолодело внутри, и она с ужасом посмотрела на разинутую пасть собаки.
– Ты не можешь, это бесчеловечно, – тихо прошептала она. – Что бы там ни случилось, он такого не заслужил, одумайся!
– Кто и чего не заслужил? Не понимаю, о чем ты?
– Собираешься натравить на него собаку?
– Ты, мама, совсем тут с ума сошла, я собираюсь уйти через черную лестницу. Если хотите, можете сами с ним общаться, обо мне ничего не говорите. Сегодня у меня выставка в Манеже, а вечером уеду в Павловск. Оттуда позвоню. Вот, собственно, и все. Ты что-то говорила про деньги?
Стараясь двигаться как можно тише, Евдокия выскочила из кухни и на цыпочках прокралась в прихожую. Через минуту она вернулась с кредитной карточкой. Загремели засовы, и в спешке Едокия опрокинула стоявшие между дверей мусорные ведра. Стали прощаться.
– Сонечка, солнышко, девочка моя, – переходя от волнения и суеты на тон торжественной декламации, начала Ида.
Она протянула к дочери руки.
– Как же все это решится?
– Все, Ида, я пошла. Решится.
– Деточка, ни о чем не думай, мы с ним разберемся, – бодро пообещала Лыжница.
– Все, все. Пошла.
– Постой!
– Стою.
– Подожди, не уходи, – упавшим голосом попросила Ида. – Я сейчас.
Она отсутствовала несколько минут, а когда вернулась, бросилась Соне на шею.
– Вот, возьми, теперь он твой.
Ида вложила дочери в ладонь что-то мягкое. Соня взглянула на подарок и непонимающе подняла брови.
– Это тот самый платок твоего отца.
Мятая белая тряпица пахла старыми вещами. Раздумывать было некогда, сунув платок в карман, Соня поцеловала мать и Евдокию и, перепрыгивая через ступеньки, понеслась с собакой вниз. Ида расправила плечи и вельможно молвила Лыжнице:
– Приведи его.
6
Придя на Мойку, Тимур долго разглядывал фронтон нужного дома. Ему пришлось собрать всю свою храбрость, прежде чем он заставил себя войти в парадную. Лифт напоминал гильотину с обратным ходом, и он пошел пешком. Этаж, еще один, еще, – запыхавшись, он добрел до самого верха: вот она, коричневая дверь с эмалированным номерком, привешенный к перилам горшок с засохшей геранью и все тот же коврик с дурацким «Welcome».
Открыла Евдокия. Тимуру даже говорить ничего не пришлось – странная женщина выскочила на площадку, что-то пробормотала и сразу исчезла.
Прошло несколько минут мучительного ожидания. Наконец его пригласили войти.
– Тимур, какой приятный сюрприз! – воскликнула мать Сони, протягивая к нему руки.
Несмотря на жаркий день, Ида была закутана в платок. Ее глаза так и впились в него.
– Вот так встреча. А где моя дочь?
Обострившиеся чувства позволили ему разобрать в том, как было произнесено «моя дочь», скрытый сигнал. Понимая, что стоять и молчать глупо, Тимур глухо выдавил из себя:
– Я потерял ее.
– То есть как потерял? – издевательски спокойно спросила Ида, насмешливо приподнимая брови. – Она что, вещь? Где ты ее потерял? Забыл на улице? Да что с тобой, ты нездоров? Пройди сюда, на свет, дай-ка на тебя взглянуть. Да, хорош гусь, ничего не скажешь. Тебя как будто поездом переехало.
Ида потянула гостя на кухню, усадила на стул, а Евдокия суетно застучала чашками, убирая со стола следы недавнего чаепития.
– Да говори же, ты заставляешь меня трепетать, что случилось?
Тимур открыл было рот, но, подняв глаза, не смог выдержать взгляда двух женщин, прекрасно выучивших свои роли. Смутившись, он глухо забормотал:
– Она ушла, ее нигде нет. Вот я и подумал, может, она дома. Мне нужно ее увидеть…
– Стой, остановись, пожалуйста! – решительно прервала его бормотания Ида. – Вы поссорились?
Тимур уставился в пол, он был противен сам себе. Невыносима была сама мысль о том, что он вынужден объяснять свое унизительное положение и, неуклюже подбирая слова, молить о помощи. Уныло шаря глазами по крашеному паркету, он медлил с ответом и вдруг увидел то, что заинтересовало его свыше всякой меры. Тимур пригнул голову, дотянулся до пола и, подняв ладонь к свету, задрожал от волнения: к пальцу прилипло несколько светлых волосков. Перро! Да ведь это шерсть собаки!
Тимур вскочил и побледнел.
– Соня здесь? – упавшим голосом взмолился он.
Ида не стала разыгрывать комедию и холодно ответила:
– Была.
Тимур сделал умоляющие глаза, но Ида хладнокровно загородилась от него вытянутой ладонью.
– Ты больше не услышишь от меня ни слова, пока не объяснишь, что происходит. Я требую ответа, слышишь? Честного ответа. Я всегда считала тебя порядочным молодым человеком. Соня – моя единственная дочь, но она ничего не говорит мне, так что говори ты! Что у вас случилось, отвечай сейчас же, или ты больше ее не увидишь!
– Я, мне трудно все объяснить, – испуганно забормотал Тимур. – В общем… я, ну выпил. Все вышло так плохо, Соня обиделась на меня, я повел себя… ну, как бы это объяснить…
– Ну перестань же ты мямлить! – неожиданно гаркнула Евдокия. – Нашкодил, так отвечай, и нечего тут сопли жевать, а то я сейчас еще заплаґчу.
Тимур и сам уже был готов пустить слезу, однако собрался и, часто заморгав, кратко прояснил свое положение:
– Я поступил ужасно и хочу найти ее, чтобы извиниться.
Услышав это неожиданное признание, Ида услала Евдокию за своими сигаретами, и пока та ходила, поэтесса нервно выстукивала пальцами по столу. В этом цоканье ногтей по пластику Тимуру даже почудилась какая-то развеселая мазурка, но игривая музыка так не шла к этому невообразимо глупому моменту, что он предпочел молчать и подавленно созерцал пятна кетчупа на сахарнице.
– Значит, ты напился и вы поругались? – закурив сигарету, задумчиво переспросила Ида.
– Ну, можно и так сказать…
– Говори как есть! – неожиданно взвизгнула Ида. – Мне не нужны твои одолжения.
Тимур весь сжался, но промолчал.
– Я знаю свою дочь, Чтобы такую, как она, вывести из терпения, ее нужно по-настоящему обидеть. Подозреваю, что ты чего-то недоговариваешь. Ты же даже не смотришь мне в глаза!
Тимур стушевался еще больше и промямлил почти шепотом:
– Ну, нет, я это, в общем, нехорошо получилось…
Не слушая больше его лепет, Ида взволнованно встала, выпустила тоненькую струйку дыма и подошла к окну.
– Я почему-то уверена, что ты просто забыл о ней. Так ведь? Верно?
Вместо ответа Тимур неопределенно пожал плечами.
– Да, скорее всего, так и было, – горестно прошептала Ида. – Ты перестал о ней думать, и она оставила тебя. Как это похоже на Соню. Это у нее от отца.
Нервно взмахнув руками, отчего крылья платка смахнули со стола серебряную ложечку, Ида стряхнула пепел в чайное блюдце.
– Не знаю, как все у вас сложится, никто не может этого знать, но ты пришел за помощью, а чем же, интересно, я могу тебе помочь? Даже не представляю. Где она сейчас, я тебе не скажу, потому что и сама не знаю, ищи ее, она не иголка, захочешь – найдешь. Жалеть я тебя тоже не буду, терпеть не могу мужчин-пьяниц, но чтобы ты не ушел с пустыми руками, могу рассказать одну поучительную историю. Думаю, тебе будет полезно послушать. Это наша семейная притча про шестилетнюю Соню, она о многом говорит, потому что после семи лет характер людей уже не меняется и дальше они взрослеют только телами. Тебе интересно? Так вот слушай. Это было пятнадцать лет назад, когда Соня только закончила свой первый класс. Наша компания, как бы тебе сказать, чем-то была похожа на вашу сегодняшнюю. Только тогда, в конце восьмидесятых, вокруг меня вместо художников были поэты. У нас в квартире почти ежедневно собиралось шумное общество молодых сочинителей, все курили, иногда пили вино и читали, читали. Все жадно увлекались литературой и стихами, а больше всех я. Крохотная куколка Сонечка росла посреди нашей компании, и всякий гость считал своим долгом позабавить ее. Кто-то показывал ей «козу», кто-то качал на колене, кто-то щекотал до слез, но был один юноша, которого она любила больше всех. Уж он и ласкал ее, и потешал, и гостинцы ей приносил, и по головке гладил, даже портфель они собирали вместе. Она была в него просто влюблена и не слезала с его рук. То был один из моих кавалеров, и он очень хотел мне понравиться. Время шло, и Соня настолько к нему привыкла, что очень загрустила, когда он перестал у нас бывать. Она даже плакала, так ждала его. И вот однажды ее любимый молодой человек появился снова. Он был навеселе и вел себя со мной вызывающе, между нами состоялся откровенный разговор, после которого он, не зная, чем мне еще досадить, попросил у «своей Сони» прочитать ему на прощанье «мамин стишок», и знаешь, что получил в ответ?
Тимур затаил дыхание.
– Не догадываешься?
– Н-нет.
– Ласковая девочка согласилась. Она объявила, чтобы все приготовились, вышла на середину комнаты, после повернулась к зрителям спиной, нагнулась и, сняв трусы, показала своему другу голый зад.
Ида помолчала минуту. Затем, потушив сигарету, добавила ледяным голосом:
– Соня выросла без отца и поэтому может простить мужчине все что угодно, кроме того, что ее забывают. Вот так вот, Тимур.
– Ищи-свищи теперь ее, как ветра в поле! – восторженно глядя на Иду, поддакнула Евдокия. – Эх ты, прозевал свое счастье.
«Ида права, – оглушенный переживаниями, подумал он. – Да, права. Вместо привычной лестной патоки мне поднесли чашу с горькой правдой. Пей, Тимур, угощайся. Теперь можешь напиться ею допьяна».
Минуту назад у него еще теплилась слабая надежда разжалобить этих женщин, но сейчас он с ужасом понял всю несостоятельность этих надежд. Ида и ее наперсница смотрели на него с нескрываемым презрением. Оставалось поскорее выбраться из-за стола и вновь потеряться в этом пыльном городе.
Тимур вышел на залитую солнцем улицу и, остекленело глядя перед собой, поплелся прочь. Выглядел он теперь еще хуже прежнего. Какой-то сгорбившийся, осунувшийся, он как будто сжался и стал меньше ростом. Щеки горели, лоб был бледен, волосы всклокочены. Желая рассмотреть себя, Тимур остановился перед витриной, и страх покрыл лоб горячей испариной – на лице отражавшегося в стекле человека застыла маска безумия.
– Чего это меня так скривило, как будто я на самом деле из ума выжил?
Затравленно оглянувшись по сторонам, он принялся выискивать в уличной толпе ехидно наблюдающих за его позорной паникой чертовски успешных знакомых, но, к счастью, никого не высмотрел и стал приглаживать торчащие во все стороны волосы.
«Боже, что со мной, во что я превратился? Модник, красавец, который всегда нравился женщинам? Как же так получилось? – горестно подумал он. – Теперь ведь никому не скажешь: „Знаете, друзья, я оказался невероятным подлецом, меня бросила любимая девушка, и оттого я теперь самое полное ничтожество…“ Никто ведь не ответит. Не то чтобы смутятся или постесняются, скорее всего – никому не будет дела, все это глупо и неинтересно. Люди хотят общаться только с успешными и счастливыми, а от несчастных и страдающих бегут. Душевные болезни и нравственные падения пугают, как зараза».
Никогда еще за годы своей пестрой и богатой событиями жизни Тимур не был так подавлен и не терзался такими мучениями. Что-то разъехалось в его красивой и легкой жизни, треснуло и лопнуло по швам. Растерянность, охватившую его после ухода Сони, не с чем было сравнивать. За два года, прожитых с этой молоденькой, диковато красивой и гордо замкнутой девушкой, он настолько привык к ее постоянному присутствию, что совершенно утратил чувство реальности и теперь был просто раздавлен ее уходом. В пустых развлечениях была потрачена масса времени, а питаясь все эти годы ее терпением, он превратился в полного бездельника, только по привычке рядящегося в удобный для собственной лени костюм художника.
– Да и какой он теперь художник?
Последний год он почти не рисовал и нигде не выставлялся, а только задирал нос и ревниво посмеивался, когда перепачканная красками Соня доверчиво показывала свои новые работы. О чем он думал, глядя на эти яркие, кричащие цветом абстракции, одному Богу известно, но Тимур никогда ее не хвалил. Поначалу Соня очень страдала от его надменного равнодушия, даже плакала, но потом привыкла и больше ничего не показывала. Но это злило его еще больше, и, желая утвердиться, он принимался насмехаться над ее картинами уже без всякого спросу.
Наверно, тогда Соня впервые поняла, что милый друг эгоист, что он жив лишь мыслями о своем вымышленном величии, что он лелеет эти фантазии и, только говоря о них, по-настоящему расцветает и интересуется собеседником. Тимур, ее любимый Тимур, душа компании и модный художник, обленился и превратился в перебинтованного собственными амбициями мумифицированного божка.
Многих волновала его судьба, но неизбежные в общих компаниях разговоры об искусстве приводили Тимура в сильнейшее раздражение. Больше всего раздражали разговоры о творческих планах. Однако он скоро приучился сочинять различные фантасмагории про торжество подлинного искусства и рассказывал о своих несуществующих планах с таким запалом, что друзья снова стали верить в его грядущие успехи. Вооруженный вымыслами, Тимур уже не боялся расспросов, но в глубине души его по-прежнему терзала никому не ведомая правда: тайный страх возможной неудачи ледяными руками держал за сердце, и только этот прогрессирующий страх не позволял Амурову приблизиться к давно начатому холсту.
Время шло. Продолжая жить в привычном духе, он незаметно для себя перешел тот предел, за которым само творчество стало ему уже почти безразлично. Еще долго в центре мастерской, как памятник, стоял этот огромный холст – мутный подмалевок, начало новой живописи, стоял, пока Соня шаг за шагом не задвинула его картину в угол. Повернутая там к стене, она больше не страшила своей неопределенностью, а со временем Амуров и вовсе перестал о ней вспоминать.
Единственное, что еще напоминало о брошенной живописи, так это ящики с масляными красками да множество банок на полках, в которых засохшими цветами стояли его старые кисти.
Тимур вдруг отчетливо понял, что он опустился на дно, настоящее дно, то самое жуткое место, откуда уже нет возврата, где нет времени, нет модных художников, где обитают только спившиеся бомжи и где, скорей всего, он умрет от несчастья, после чего в настоящем мире никто даже не вспомнит его имени.
Представив во всех красках картину предстоящей смерти и ужасного забвения, он в ужасе отшатнулся от витрины и, понурив голову, побрел по улице. Двигаясь посреди гудящего жизнью людского потока и продолжая машинально приглаживать волосы, он начал приходить в себя и, окончательно стряхнув остатки наваждения, попытался проанализировать положение.
Однако бесформенные мысли полетели непослушными зигзагами в разные стороны, ничего утешительного на ум не пришло.
«Соня во всем виновата!»
«Нет, не Соня! – эхом ответил внутренний голос. – Это все твои пьяные выходки и та мерзость, в которой ты валялся последнее время. Твой трусливый протест против того, чтобы она стала художницей».
Пока она была молоденькой девчонкой, подругой «самого Амурова», рисовала абстрактные акварельки и выступала в студенческих капустниках, он умилялся. Рядом с ней было приятно ощущать себя большим и значимым. Но когда за вызывающую живопись ее изгнали из Академии художеств, а после по этой же причине без оплаты приняли в частную школу современного искусства – тут он не выдержал. Это был удар по самолюбию, с которым он не справился. Тимур принялся глумиться над ее творчеством с таким размахом, что они стали ссориться почти каждый день. Не имея сил сносить ее растущую веру в себя, он сознательно рушил их счастливую жизнь. Тогда она казалась ему едва ли не предательницей. Он и был уверен, что она предала, изменила их духовному союзу, сама стала художницей и заставила говорить о себе.
Нет, конечно же, по-прежнему Соня души в нем не чаяла, но подчиняться ему как художнику теперь для нее было неинтересно.
– Тимур! – закричал кто-то сзади.
Тимур затравленно обернулся и изумленно округлил глаза – его нагнала воровато оглядывающаяся Лыжница. С высоты своего роста она заговорщицки шепнула:
– Сонька только что отправилась в Манеж, а потом поедет в Павловск, к каким-то друзьям. Но я тебе не говорила.
Не зная, что сотворить в знак своей благодарности: прижать к себе, поцеловать или по-мужски пожать руку, Тимур замешкался и совершил какой-то невнятный поклон.
– Ну иди, иди, – покровительственно улыбаясь, просипела Лыжница. – И перестаньте дурить.
– Да! – радостно закричал Тимур. – Конечно!
7
Звонок Зиновия Геймана застал Горского, когда тот уже садился в свой подержанный «пежо». Взволнованный, что часто с ним случалось, Зиновий начал жаловаться на свалившиеся трудности, умолял помочь и настаивал на срочной встрече. День и без того намечался суетный – открытие выставки в Манеже, – а с этой поспешной встречей все усложнялось еще больше.
От неожиданностей всегда плохо пахнет. Андрей Андреевич пообещал Зиновию приехать, повесил трубку и саркастически улыбнулся.
«Все так внезапно, поспешно и так окутано таинственностью, что возникает ощущение, будто они знают что-то, чего не знаю я».
Тайну и предстояло выяснить. Горский задумчиво почесал свой заросший щетиной подбородок.
«Подозрительно, очень подозрительно».
Вчера днем вот так же неожиданно позвонил Дольф, разыскивал Артемона. Несвойственную ему личную заботу о художниках он туманно объяснил изменением в плане выставки и вскользь поинтересовался о подопечных Горского. Восприимчивый к мельчайшей лжи Андрей Андреевич сразу почувствовал, что Дольф чего-то не договаривает, напрягся, но к определенному выводу так и не пришел.
А теперь вот и Зиновий – темнит и крутится. Просто голова идет кругом от этих хитрецов. Что все это значит, одному Богу известно.
Покрутившись и потолкавшись в потоке транспорта, он мастерски вывернул в нужном для себя направлении и, встав на светофоре, стал разглядывать плавучий музей – стоящий на вечном приколе крейсер «Аврора». В памяти всплыла давняя студенческая пирушка, году этак в семидесятом, когда вместе с шумной компанией университетских первокурсников он случайно попал на крейсер и оказался в офицерской бане. Обилие бронзы, сверкающей меди, иллюминаторы, под которыми плескалась серая Нева, тогда всех чрезвычайно поразили, но непривычные к портвейну и изрядному пару гуманитарии так напились, что после того случая их в революционную святыню больше не пускали.
Встреча, на которую спешил Горский, была назначена в школе современного искусства «Art-On». Школа, более известная в художественной среде как курсы «Картонка», располагалась в новом бизнес-центре у моста Свободы. Пафос этого современного делового Сити, изобилующего дорогими офисами и торговыми представительствами, был настолько велик, что многие молодые слушатели «Картонки» по первости даже робели входить в его сверкающий полированным камнем вестибюль.
Да и могло ли быть иначе? На первом этаже роскошного здания находился салон «Ferrari Masserati», выше обосновался филиал какого-то европейского банка, над ним строительные холдинги, финансовые группы, консорциумы, телевизионная компания, ну и наконец, те самые «кураторские курсы». Венчал весь ковчег удачи стеклянный пентхауз, в котором благоухал деликатесами грандиозный по размерам ресторан «Москва». Всякому, кому после обеда там было не лень спуститься этажом ниже, на глаза попадалась лаконичная табличка «Art-On». Заглянув за стеклянные двери, все, пусть даже самые чванливые визитеры, сразу начинали понимать, что школа искусства – чрезвычайно солидная организация, разрабатывающая свой пласт искусства серьезно и основательно.
Не хуже других понимал это и Андрей Андреевич. Три дня в неделю он читал здесь курс основ кураторской работы и вел несколько факультативов по истории перформанса. Кроме того, у него, как у международного куратора, были в школе еще и свои персональные ученики: художники и молодые искусствоведы.
Оказавшись наконец на месте, Горский привычно раскланялся с коллегами и вошел в кабинет ректора. Зиновий стоял, скрестив по-наполеоновски руки, и смотрел в окно на панораму лежащего под ногами Петербурга.
– Ну наконец-то! – расстроенно воскликнул он. – Андрей Андреевич! Выручай! Тут у нас такая игра начинается, прямо не знаю, за что и хвататься.
– Что за игра, кто начинает? – усаживаясь в кресло и закуривая, поинтересовался Горский.
От одолевавшего его волнения Зиновий растерянно взмахнул руками. Бывший физик-теоретик и душа известной компании шестидесятников, Зиновий ровным счетом ничего не смыслил в искусстве, но, каким-то чудом заполучив себе здесь должность директора, он уже пятый год правил этой маленькой империей, ведя ее работу со значительным размахом и всем положенным представительским блеском. Впрочем, иногда, когда в «Art-On» случались непредвиденные авралы, Гейману начинало казаться, что его трон опасно вибрирует. Теряя голову, он превращался в растерянного и машущего руками истерика. Вот и сейчас его взвинченное состояние говорило о кризисе, – небрит, что для него несвойственно, покрасневшие навыкат глаза. Обуреваемый какой-то тревогой, он нервно прикурил очередную сигарету и принялся ходить по кабинету.
Горский с вежливым равнодушием наблюдал за невротиком и безмолвствовал, хорошо зная – рано или поздно беготня закончится и Зиновий начнет вываливать новости. Наблюдая сегодняшнее смятение директора школы, Горский еще и злорадно любопытствовал – обычно в таких случаях он просто наслаждался его научным невежеством, ну а теперь – и паникой.
Горский и Гейман были примерно одного возраста, немного за пятьдесят, роста чуть выше среднего, оба носили очки и неразумно много курили. Горский был худ, как вобла, и всегда аристократически бледен, а розовощекий Гейман упитан и крепок. Горский не смущался сыплющей пыльцой перхоти плохо чесаной шевелюры, а Гейман заботливо пестовал свои светло-русые волосы. Горский был вечно небрит и, как все интеллигенты, немного неряшлив в одежде, а ухоженный Гейман одевался по моде и педантично следил за собой. Но к тайной радости одного и тихой зависти другого, непрезентабельный ученый сухарь Горский был еще и необыкновенно плодовит детьми от разных жен, а худая, как велосипед, анорексичная подруга Геймана, рядившая его в модные тряпки с миланских распродаж, даже думать не могла о детях. И тем не менее Андрей Андреевич и Зиновий Брониславович были давнишними коллегами, совместная работа сблизила их интересы, и они многое доверяли друг другу в сложных делах крутившегося вокруг них галерейного бизнеса.
Пройдя несколько кругов по кабинету, Гейман достиг нужного самовозбуждения и эмоционально начал:
– Как ты понимаешь, на «Арт-Манеж» высадился целый десант! Коллекционеры, критики, пресса! Народу понаехало, глаза бы мои их не видели, но, к счастью, в этом году вся организация без проколов: галереи собраны, места проданы, реклама висит, приглашения разосланы. Как говорится, все на низком старте. И вот за два дня до открытия – началось! Посыпались очень странные новости, и в буквальном смысле возник необыкновенный ажиотаж! Вообрази себе, что еще вчера утром у нас было всего восемнадцать заявок от прессы, а уже к вечеру, под занавес, на сегодняшнее открытие аккредитовалось еще около сорока новостных агентств и телеканалов! С чего бы это? А? Я такого интереса газетчиков к современному искусству вообще не припомню! Им всю ночь готовили дополнительные беджи, и даже пришлось увеличивать фуршет! Но все это так, пена. Главное в том, что наш Дольф, как только узнал об этом, так мне сразу и заявил, что постарается акцентировать внимание прессы только на окончании своего проекта.
– Что это значит?
– Ну как же! Близнецы закончили «Картину Жизни»! – Зиновий воздел руки к небу и нервно хохотнул. – А ты уже знаешь, что он сделал сегодня утром? Он приказал переделать свой стенд!
– Вот оно что, – раздумывая над услышанным, Горский почесал лоб. – Он звонил мне вчера и что-то странное рассказывал про новые планы, но я был занят и толком его не слушал…
– Ты просто еще не все знаешь!
– А что я должен знать? – Горский встал и взволнованно прошелся по кабинету. – Мне все утро кажется, что все знают больше меня. Это просто наваждение какое-то! Просвети меня, пожалуйста! И что за суматоха вокруг новых художников?
– Это еще не суматоха, – суматоха впереди. Вот, послушай, выясняется, что Дольф раскидывает новичков по своим карманным галереям и собирается завесить весь стенд «Картиной Жизни».
– На радостях окончания проекта?
– Не угадал. Вчера на «Сотбисе» «Среди волн» ушла за сто пятьдесят тысяч евро!
– Вот это новость! – удивленно присвистнул Горский. – И кто купил?
– Пока никто не знает, а Дольф молчит, как мумия. Но это и не важно. Как ты понимаешь, даже анонимная, эта продажа сама по себе небывалый прецедент. Кто бы мог подумать, конец такого сомнительного проекта – и тут такой скачок цен! У меня почтовый ящик просто лопается от писем, информация идет, как цунами. Но и это еще не все! Ночью из Франции прилетел Тропинин, и, против всех ожиданий, вернулся оттуда злой как черт. Не знаю, что у них там произошло, но еще до его приезда Дольф меня просто убил, – выясняется, что Тропинин прилетел требовать от меня отчета. Дольф мне так и сказал с ехидной улыбочкой: «ЧТО прилетает посмотреть на работы ваших выпускников, он хочет знать, на что у тебя тратятся его деньги!» Представляешь? Как будто «Картина Жизни» не наш проект! Гадина неблагодарная! Я в полной растерянности! Что мы будем показывать? Кто из наших участвует в Манеже?
– «ФРАУ», сумасшедший чучельник Голенков, Соня Штейн и «Global Tool».
– И все? – Зиновий, задумавшись, поморщился.
– А что, мало? Это наши лучшие художники за последние три года. Остальное – совсем зеленая молодежь.
– Я как подумаю о приезде ЧТО, мне тошно становится, – заныл Зиновий, хватаясь за щеку, как будто у него заболел зуб.
Горский улыбнулся ему на это ничего не выражающей улыбкой и поинтересовался:
– А когда он появится?
– Дольф пробормотал что-то неопределенное. Медлить нельзя! Срочно отыщи своих художников, а не то он опять выдаст нашу работу за свои успехи.
– А-а! – раздумчиво протянул Горский. – Все ждут очередного разгрома.
– Нет! Подлинная причина шумихи в том, что в Петербург прилетела Руф Кински, – прошипел Зиновий.
Горский изумленно вытаращил глаза.
– Да! Можешь мне поверить, и не одна. Она заявилась с целой свитой функционеров из Гуггенхайма. Сейчас они на Миллионной в Русском музее, а к вечеру приедут в Манеж. Нам нужно срочно принять меры, на Дольфа надеяться нечего, он намерен показывать только «Картину Жизни» и своего ненаглядного Артемона, а на остальное ему плевать.
Горский достал телефонную книжку, навертел нужный номер и долго слушал длинные гудки.
– Соня не отвечает. Ты знаешь номер мастерской Амурова?
– Нет! – нервно взвизгнул Зиновий. – Ничьих я номеров не знаю, разве это мое дело?
Горский набрал следующий номер и прислушался к гудкам.
Художники группы «Global Tool» обитали в огромном боксе разорившегося таксопарка, бывших каретных сараях на канале Грибоедова. Андрей Андреевич, как неофициальный идеолог всех их проектов, сам надоумил амбициозную молодежь погрузиться в малокомфортные условия художественного сквота.
– Главное не прекращать традицию, если хотите – не убивать городской миф о вольных художнических мастерских, многие из которых еще в восьмидесятых составили славу художественного Ленинграда, – втолковывал он своим подопечным. – Пробуйте выживать. На критиков и коллекционеров этот антураж сегодня действует просто неотразимо. Это почти вымершая ветвь, архаическая форма художественного комьюнити, но она невероятно сплачивает участников. Сейчас все могут делать что угодно за деньги, а вы попробуйте выжить без денег! Городская среда – ваше поле для поиска материала. Бесчисленные друзья – ваш источник питания. Активные действия – ваш способ остаться на плаву и привлечь внимание. Ничего не бойтесь, все пойдет вам на пользу.
Подготовив проект, Горский, не афишируя себя, арендовал этот огромный гараж без света и отопления, а после со всей возможной шумихой и крохотным управляемым скандалом молодые техно-скульпторы инсценировали в нем художнический самозахват. Пиарщики «Art-On» так постарались, что «Global Tool» едва не попали в криминальные сводки как нахальные рейдеры и охотники за чужим имуществом. Выбор места был сделан не случайно – рельсовый тельфер под потолком, огромное количество ржавого железа, газовая сварка. Художники с небывалым энтузиазмом ухватились за работу.
В телефонной трубке что-то клацнуло, и заспанный женский голос надменно поинтересовался, кто звонит в такую рань.
– Андрей Андреевич Горский, доктор наук, искусствовед, – ласково сообщил Горский своей неизвестной собеседнице.
На другом конце телефонной линии послышалось трусливое «ой», и уже через секунду участник «Global Tool» Илья Ведищев застенчиво извинялся за подругу.
– Двенадцать часов дня, а вы еще спите, – прохладным голосом пожурил его Горский. – У нас непредвиденные изменения. Срочно вызывайте грузовик и везите «Ложку» со всей механикой в Манеж. Нет денег? Пусть водитель ждет, я расплачусь! Только сразу начинайте монтировать! Собирайте прямо на пандусе у главного входа. Я прибуду к пяти, в шесть открытие для прессы, собери всю группу и будьте готовы.
Горский положил трубку и задумчиво уставился в окно.
– Теперь мне все ясно.
– Что ты имеешь в виду, Андрей?
– Дольф так темнит и суетится, потому что хочет показать этой американской ведьме только своих художников.
– Ты лучше скажи, что нам сейчас делать?
– Нужно действовать!
Дверь кабинета приоткрылась, и внутрь заглянула Анжела – личная секретарша Геймана.
– Я занят! – рявкнул директор.
Анжела распахнула дверь настежь и посторонилась.
– Ну здравствуй, – насмешливо поприветствовал Зиновия Тропинин. – Добрый день, Андрей. Вот и мы. Как у вас тут прохладно, а на улице жуткая духота.
Следом за Виктором в кабинет вошел Дольф. Гейман и Горский пожали руки гостям и заговорщицки переглянулись.
– Рассаживайтесь, – по-хозяйски пригласил всех Тропинин.
Все как по команде придвинули стулья.
Дольф эффектно раскрыл портфель и выложил на стол увесистый каталог «Арт-Манежа».
– Только что из типографии, допечатывали ночью, – с торжествующей улыбкой сообщил он Тропинину.
Пролистав нарядную книгу, Виктор быстро нашел нужные страницы, внимательно изучил иллюстрации и недовольно поморщился.
– Если не ошибаюсь, за основу взят один из последних фрагментов «Картины Жизни»?
– Да, сюжет с «Ночным демоном». Мы скомпоновали его с другими разрозненными частями, в общем, подобрали эту десятку довольно цельно.
– Не годится, – огорошил Виктор присутствующих.
– Вот те раз! – удивился Горский.
Зиновий изумленно выпучил глаза, а побледневший Дольф прошептал упавшим голосом:
– Как не годится?
– Слишком вяло! – весело ответил Виктор. – Скучновато, не вставляет! Цветы, луна, голая негритянка, березки…
Дольф смертельно побледнел.
Тропинин встал из-за стола и, взглянув на свой золотой хронометр, прошелся по кабинету. Голос его утратил демократическую мягкость и требовательно зазвенел:
– Нам нужен мощный резонанс, что-то другое, более эпатирующее и запоминающееся. Нужна насмешка над обществом, скандал! И не следует этого бояться! Близнецы уже переросли соревновательный возраст и не обязаны нравиться трусливым покупателям. Сегодня все захотят увидеть финал проекта! Мы просто обязаны показать нечто шокирующее. Публика всегда лучше запоминает тот бой, который закончился нокаутом. А с таким детсадовским и беззубым сюжетом мы его неубедительно размажем. К черту «Демона»! Поступим так: негритоску оставим на потом и срочно вытащим какую-нибудь другую картину. У Близнецов должно быть что-то порочное и неприличное. Ведь было? Вспоминайте! Переройте все их ранние работы! Переверните все вверх дном, но найдите что-нибудь скандальное! Мне нужно, чтобы пресса выла от ярости!
В кабинете воцарилась тишина.
– Может, взять тот кусочек, где дети подсматривают за мамой в туалете? – предложил Горский.
– Продан! – зло буркнул Дольф.
– А летчики с фотоаппаратом?
– Не то.
– Фрагмент с тонущей подлодкой и Посейдоном?
– Продано!
– Японскую Снегурочку?
– Послушайте! – воскликнул Виктор. – А где ранний фрагмент с Красной площадью? Помните? Мы же его так никогда и не показывали.
Дольф болезненно поморщился, Зиновий запнулся на полуслове, и только Горский как ни в чем не бывало ответил:
– Он у нас в галерее. Если честно, мне он тоже очень нравится: думаю, это их лучшая работа…
– Едем. Нужно посмотреть.
</em>
Когда рабочие внесли в галерею шесть холстов и расставили вдоль стенки, ЧТО принялся размышлять вслух:
– Н-да, я даже забыл, как они выглядят, впрочем, времени на маневр уже не остается, да и выбирать особо не из чего. Хорошо, хоть это нашлось. Подойдет. В общем и целом – современно и глубоко асоциально, можно сказать, даже гадко. Добавьте справа и слева еще по два холста какой-нибудь лирики и срочно везите в Манеж.
Дольф только руками всплеснул:
– Но как! А каталог? Виктор, у нас через три часа открытие!
Памятуя нерушимое обещание, данное Сидичу, Виктор равнодушно посмотрел на близкого к обмороку друга.
– Плевать на каталог.
– К чему все это? – продолжал ныть раздосадованный Дольф. – Нас же освищут. Это самоубийство.
– Если боишься скандала, можешь остаться дома. Близнецам нужно закрепить взятую планку, а заявленный тобой «Демон» – приличная, скорее даже гламурная и абсолютно неконфликтная живопись, интересная лишь твоим безликим коллекционерам как модное вложение лишних денег. Не будет у нас с «Демоном» ни общественного, ни художественного внимания, слишком понятно, слишком правильно, а в современном искусстве так нельзя. Пусть поругают, плевать, что про нас скажут и напишут, пусть орут что хотят, нам только этого и надо, а чтобы подхлестнуть еще больший ажиотаж, мы на половину этих холстов еще и навесим красные точки «Продано»!
– Правильно, – восторженно подхватил Зиновий, – не нужно стремиться нравиться, нужно конфликтовать!
Дольф попытался уничтожить обычно трусливого Зиновия презрительным взглядом, но тот разбушевался:
– А почему только Близнецы? У Голенкова готово новое чучело «Отец Павла Морозова убивает сына вилами», очень натуралистическое, с волосами и силиконовой кровью!
Услышав слово «кровь», все присутствующие на минуту замолчали.
– Да, – с еле заметной улыбкой согласился ЧТО, – кровь всегда обращает на себя внимание. Это краска, которой можно сделать действительно бессмертное произведение.
8
Оглохшая от стука собственного сердца Соня бесшумной тенью пронеслась по жирной от хозяйственных нечистот вонючей лестнице и, перепрыгивая сразу через несколько ступеней, спустилась на первый этаж. Вот и он, знакомый с детства двор-колодец. За спиной хлопнула дверь. Взбудораженные грохотом, врассыпную кинулись помоечные коты. Соня задрала голову и настороженно прислушалась – на шестом этаже в открытых окнах квартиры матери тишина. Выждав еще минуту, пока Перро помечал крыло старого «опеля», она закинула холщовую сумку за спину и решительно направилась в пылающую светом уличную арку. День разом навалился на нее – жаркий, по-настоящему летний.
Соня осмотрелась и сказала себе:
– День будет хорошим…
Прямо над ее головой по зажатой между домами голубой реке неба лениво проплывали белые облачные кораблики. Невдалеке мирно зеленел сквер, сонный ветерок покачивал ветки лип, пешеходы смеялись, щурились и подставляли солнцу свои бледные щеки. Хорошо! Даже лучше, чем хорошо, – красота! И действительно – ее собственное душевное расстройство как-то сразу померкло. Страх и смятение в такой идиллии вообще неуместны. Когда все вокруг настолько прекрасно, легко верится, что беды кончились, даже пресловутая питерская депрессия отступает, на душе легчает, и к сердцу приливают чувства живые, добрые, жизнеутверждающие. Соня тотчас испытала прилив необыкновенного оптимизма и бодро зашагала по улице. Забавная теперь у нее жизнь! Тимур догоняет, а она удирает. Любовная драма со спортивной составляющей. Неожиданно для себя самой она остановилась и выругалась:
– Да пошел он! Я не бегу, я свободна! Теперь я от него свободна! Я от всего свободна, и мне не нужно больше того, что называют платой за такое странное, ни на что не похожее, счастье «быть вдвоем». И какая же все-таки это глупая теория, что нужно за него платить! А ведь платила, все эти годы платила: слезами, нервами, унижениями, да так, что, добившись его, в конце концов уже перестала что-либо чувствовать. Хватит! Наверное, стоит теперь попробовать быть одной, тем более что это не так уж и страшно. Солнце по-прежнему взойдет, сквер будет зеленеть, и ничто в этом мире не дрогнет, если художница Соня Штейн останется одна. Нет, конечно, физически «быть одной не так и удобно, но чувства! Боже мой, как много ужасного таит в себе жизнь с мужчиной! Хорошо, если он умен и красив, как Тимур, а если жаден, глуп, хамло, нечист бельем? Ну нет, это, конечно, слишком черный портрет, но и Тимур, если призадуматься, удивительная скотина.
Разом в памяти всплыли все его мерзкие привычки – покрытые пыльным пухом разбросанные везде носки, окурки во всех ее любимых чашках, ненасытная пьяная похоть и, гаже всего, поистине скотская манера стричь ногти, после чего складывать их в горсть и разглядывать черные от грязи роговые пружинки. Бр-р-р!
Идя по улице и разговаривая сама с собой, Соня поймала себя на мысли, что ни минуты не может не думать о нем. Выходило что-то очень непонятное, вроде глупых театральных страданий: он со мной, но я без него. Пришлось в сотый раз себе признаться, что Тимур настолько въелся в сердце и овладел всеми мыслями, что, будучи даже на расстоянии, заставлял трепетать душу и думать о себе. От этого нужно срочно избавиться. Но как?
– Знаю! – Соня решительно тряхнула головой.
Да, теперь у нее есть утешитель! Вот чем она вытравит его из своего нутра.
– Искусство!
– О, да!!!
Соня мечтательно улыбнулась, и ноги сами понесли ее быстрее.
На Адмиралтейском проспекте она встретила компанию приятелей, потом еще кое-кого из знакомых художников и постепенно оказалась в плотной толпе, скопившейся перед входом в Конногвардейский Манеж. На фасаде здания красовался гигантский плакат «Арт-Манеж. Ежегодная ярмарка искусства», а под плакатом, пристально глядя в толпу стеклянными глазами, стояли несколько телекамер. Соня впервые попала на такую представительную выставку в качестве выставляемого художника. Смущенно оглядываясь, она стала пробираться в плотной толчее перед входом и раскланиваться со знакомыми. Сердце волнительно застучало, и в ноги холодным ветерком предательски прокралась трусливая дрожь. Еще когда шла к Манежу, думала, что сумеет выделиться, воображала, что ее инсталляцию заметят, станут обсуждать, а как пришла, поняла, что пропала. Ей не пробиться.
У металлического турникета Соню остановили:
– С собаками нельзя, – с интересом осматривая огромного пса, сообщил охранник.
Соня, совсем позабывшая о Перро, всплеснула руками.
– Но я…
– Нельзя, – решительно промычал черный костюм. – Не загораживайте проход, отойдите.
– Пропустите, это участник выставки, – раздался за спиной негромкий, но уверенный голос.
Соня обернулась и с удивлением обнаружила улыбающегося Андрея Андреевича.
– А этого? – нахмурившись, охранник кивнул в сторону грандиозной морды Перро.
– Я о нем и говорю.
– Спасибо вам, – обрадованно зачастила Соня, когда они миновали турникет.
Горский покровительственно посмотрел на молоденькую художницу и задумчиво почесал подбородок. Взяв девушку под руку, он повел ее по ступеням ко входу, справа и слева от которого вставали на дыбы конные статуи.
– Где же вы пропадали, Соня? Я пытался разыскать вас по телефону. Что-то случилось?
Отвечать ужасно не хотелось, Соня засмущалась, а Горский, сообразив, что ответа не добиться, не стал настаивать.
– Вот, полюбуйтесь, – слегка развернув девушку за плечи, указал он рукой на окруженное людьми хитроумное сооружение.
Ржавая металлическая конструкция, чем-то напоминающая гигантскую ложку, была закреплена на устойчивом кронштейне и с помощью механического привода медленно поднималась вверх наподобие ковша экскаватора. Под черпалом размещалась чудовищная по своим размерам тарелка, наполненная чем-то, напоминающим отработанное машинное масло. Достигнув верхней точки своего подъема, ложка с жужжащим звуком низвергнулась вниз и, шлепнувшись в черную жижу, обрызгала всех, кто стоял рядом. Раздались крики возмущения, визги и смех.
– Наша новая скульптура, – довольно шепнул Горский.
Застенчиво оглядываясь, Соня вошла в массивные двери Манежа – выставка навалилась на нее, как штормовой вал. Гул голосов, яркий свет и тысячи людей, заполнившие пространство, – все это ожило и завибрировало. В невообразимой толчее Горский сразу же куда-то исчез, а Соня, ухватив за ошейник присмиревшего Перро, отправилась обозревать выставку на пару с собакой.
Хорошо знакомый Манеж сегодня было трудно узнать. Его перегороженное белыми стенами пространство напоминало лабиринт. Все галерейные секции пестрели разноцветными пятнами картин всевозможных размеров и невообразимых сюжетов, повсюду стояли скульптуры и мерцали видео-экраны. Такого обилия современного искусства Соня даже вообразить себе не могла. На «Арт-Манеж» съехались галереи Парижа, Хельсинки, Лондона, Мюнхена, Риги, Киева, привезшие на эту ярмарку своих лучших художников. Открытие уже состоялось, и в зале было полно прессы. Сотни зрителей неспешно прогуливались по выставочному пространству, разглядывая экспонаты и обмениваясь впечатлениями. Посмотреть было на что: яркие, кричащие, словно выпрыгивающие из плоскости образы, написанные на холстах, ржавом железе, старых дверях, стеклах и прямо на выставочных стенах, фотографии, раскрашенные принты, аппликация на полиэтилене, крашеные доски, поролоновые скульптуры, хитроумные конструкции из оргстекла, автобусные остановки, расчлененные манекены, прозрачные шланги с нефтью, фанерные ящики и витражи. Отдельными секциями, напоминающими безумные городища, стояли инсталляции, собранные из предметов быта: мебели, телевизоров, посуды, одежды, всевозможного сора и рухляди.
Пугая людей своей собакой, Соня медленно двигалась среди этих художественных завалов, оживленно вертела головой и с интересом осматривала экспозиции. Вскоре она оказалась перед стендом, на котором красовался заветный логотип. «Свинья» являла собой эпицентр происходящего события. Ее внушительный стенд был окрашен, в отличие от прочих, в серо-графитовый цвет. Зрителей перед ним было так много, что Соня не смогла ничего разглядеть. Потолкавшись за спинами людей, она усадила Перро, прицепила ему на ошейник бедж «Участник выставки» и стала пробираться вперед. Во всю длину огромного стенда были вывешены десять холстов – часть знаменитой «Картины Жизни» братьев Лобановых. Справа и слева на боковых простенках висели металлические панно «Global Tool» и фотографии Артемона. Ее инсталляции на стенде не было. От неожиданности Соня задержала дыхание.
– Ну что, не понимаешь? – раздался рядом звонкий и издевательски веселый голос.
– Артемон! – Соня растерянно уставилась на возникшего перед ней человека-собаку. Обтягивающий тело серый латексный комбинезон с овальными дырами, обнажающими ягодицы, длинный подпружиненный хвост с кисточкой – Артемон был при полном своем параде. Венчал этот ошеломительный костюм клепаный ошейник на шее и длинная хромовая цепочка, которой он был прикован к стене.
– Артемон, я что-то не понимаю, а где?..
– Тебя, милочка, слили к туалету.
– Что? – задыхающимся шепотом переспросила Соня.
– Во-он Дольф! – указывая куда-то в толпу, сообщил Артемон со змеиной улыбочкой. – У него и спроси.
Он хохотнул, приветливо помахал кому-то в толпе и вдруг, склонившись, быстро шепнул Соне на ухо:
– Я же говорил тебе, чтобы ты ему дала. Вот видишь, как получилось… А теперь, Штейн, извини. Меня фотографируют!
Бодро отпрыгнув в сторону, он принял одну из своих неотразимых поз, и вокруг засверкали фотовспышки.
Момент для того, чтобы дать этому уроду пощечину, был упущен. Чувствуя, что сейчас разрыдается, Соня сделала несколько неуверенных шагов по направлению к представительной компании, в которой маячила лысина Дольфа, но остановилась и, красная от стыда, стала обдумывать случившееся. В памяти всплыл давнишний разговор, имевший место на какой-то вечеринке, где пьяный Артемон хвастался одним решившим его выставочную карьеру минетом и, указывая друзьям-художникам на декольтированную Сонину грудь, с хохотом советовал ей тоже улечься под Дольфа.
– Ради искусства, – заявил тогда Артемон, – не грех и душу заложить, не то что сексом заняться.
Но молоденькая Соня, переживавшая глубочайшую влюбленность в художника Амурова, тогда даже не обиделась. Счастье ослепляет. Нет, она знала, вернее, догадывалась, что нравится многим, что ее тело приковывает взгляды взрослых мужчин. Наверное, и Дольф – не исключение. Все они, Горский, Дольф, Зиновий, при встрече облизывали ее взглядами… Сообразив, кем почитают ее владельцы галереи, друзья-художники и в какой зависимости оказалось ее творчество, Соня тяжело задышала, утерла едва проступившие слезинки и, решительно сдвинув брови, кинулась в атаку.
– А я вам говорю, нет в мире таких цен на этих художников! – на прекрасном русском языке кипятился седовласый искусствовед из Берна, недоуменно вздевая брови и размахивая какими-то каталогами. – Вы тут, в России, не видите реальности. Откуда вы берете подобные цены?
Дольф деликатно сопел и щурился, пытаясь не реагировать на выпады швейцарца, но тот не унимался:
– Это ценовая провокация, такого не может быть!
Разговор получался до крайности неприятным. Мало того, что надоедливый иностранец портил торжественность момента, он, и сам того не зная, бил в очень слабое место, добавляя к прочим сомнениям Дольфа еще и скользкую неуверенность в положении. Цена, будь она проклята! Оглянувшись на спокойно улыбающегося Тропинина, он убедился, что делать теперь все равно нечего и обратного хода нет.
– Знаете что, – решив наконец разделаться с оппонентом, надменно заявил Дольф. – Есть новая реальность, которую вы из упрямства не хотите признавать. Уверен, что не только вам – многим сейчас очень невыгодно пускать на мировой рынок российских художников, вот вы и плетете всякую чушь про цены и провокации. Если картины покупают, значит, цены, которые за них платят, существуют, нравится вам это или нет, а я продал половину картин еще до открытия. Может быть, вам не подходит именно «Картина Жизни»? Тогда другое дело, но в том и другом случае мне абсолютно безразлично ваше мнение. Оглянитесь вокруг, пройдитесь по выставке. «Новая реальность» в современном российском искусстве существует! Факт невозможно отрицать.
– Какой факт, господин Анапольский? – с изумленным сожалением воззрился на него швейцарец.
– Ну, хотя бы тот, что вчера работа Близнецов была куплена на престижном западном аукционе за сто пятьдесят тысяч евро! Вот откуда такие цены на моих художников, а сейчас извините – я занят!
Обескураженный искусствовед с сомнением уставился на красные точки под злополучной «Картиной Жизни», а улыбающийся Виктор шепнул Дольфу:
– Все правильно, держи удар. Пусть говорят, что хотят. Ты же знаешь наше правило: что бы ни говорили – лишь бы говорили. Победителей не судят, а уже через три дня круче Близнецов не останется никого.
Дольф недоуменно уставился на него.
– А что у нас через три дня?
– Сам увидишь.
Привыкший к его манере говорить загадками и единолично решать все на несколько шагов вперед, Дольф даже не стал переспрашивать и решил вновь заняться посетителями. Однако если от неприятного разговора о ценах кое-как удалось отбояриться, то, оглядев сейчас плотную массу зрителей, он понял – с самой картиной дела обстоят не так благополучно. По растерянным улыбкам и застывшим лицам было видно, что развернутая одним фронтом «Картина Жизни» вызвала у многих недоумение, близкое к шоку. Живописная манера Близнецов, напоминающая журнальную графику, и раньше являлась поводом для насмешек (было в ней что-то от некачественно нарисованных мультфильмов), но сегодня публику потряс сам сюжет. Впервые все воочию увидели расхваленный критиками проект. Вывешенные без зазора, один к одному, десять холстов покрыли весь стенд, образовав монументальную панораму, в центре которой громоздились башни Кремля с Красной площадью. По площади маршировали полчища счастливых геев, с трибуны Мавзолея за происходящим парадом следили затянутый в кожаные садомазо-ремни голый Сталин и дружески обнимавший его за талию голый Гитлер.
Эти двое обнаженных производили настолько странное впечатление, что, взглянув на них снова, Дольф почувствовал раздражение и тревогу. Картина его угнетала. Все в ней было слишком цинично. Толпа, разглядывавшая картину, странно молчала. Дольф ощутил тошнотворную волну головокружения и в подтверждение своих самых худших опасений был тут же атакован журналистами.
– Как настоящее имя автора той работы, где изображен половой акт человекоподобной собаки и бородатого мужчины с плетью? – улыбаясь, спросил сероглазый молодой человек, представившейся собкором федерального телеканала.
– Настоящее имя – его личное дело, а вот авторство принадлежит Артемону.
– А не кажется ли вам, что «Картина Жизни» художников Лобановых оскорбляет чувства зрителя своей намеренной провокативностью? – подхватила рыжеволосая девушка с диктофоном.
– Если человек пришел на выставку современного искусства, он должен быть готов к любым переживаниям. Вы же меня спрашиваете о каких-то явных штампах и ассоциациях, построенных на первичном, неглубоком восприятии, как будто требуете однозначного ответа: «Зачем и по какому праву?» Это неверно. Никто не имеет права так ставить вопрос, только сам творец. Да и к тому же здесь не учебное заведение для растущего юношества, которое нужно беречь от разрушительных воздействий черных медиапотоков, и не культовое собрание – даже не выбор государственного музея: это территория современного искусства, тут возможно все. Абсолютно все. Лично я не вижу никакой провокации, а если она и есть, то только художественная, а в этом случае, уверен, она даже на пользу этой картине, как и любая удачно найденная новая фраза в современном художественном языке. А в целом – не делайте из мухи слона.
– Как вы сами можете прокомментировать подобный художественный знак?
– Картина – вызов обществу?
Журналисты и телевизионщики как по команде набросились на Дольфа. Приготовившись к обороне, тот увидел за их спинами улыбающегося Тропинина.
«Проклятье. Опять меня подставил», – только и успел подумать Дольф.
– Знаете, – неуверенно начал он, сердито посматривая на коварного партнера, – современное искусство и работу художника вообще-то нельзя мерить такими мерками, как традиционная мораль и уважение. Перед вами не общественный памятник на площади, а всего лишь картина, взгляд одного, в данном случае двоих человек, ее соавторов. Да, сюжет «Объятий на Мавзолее» может вызывать разные мнения, особенно у людей старшего поколения, но мне кажется, что в нем заложен совсем другой подтекст, нежели тот, что первым бросается в глаза. Вы по-прежнему намеренно пытаетесь трактовать работу в каком-то протестно-неуважительном ключе по отношению к обществу и народной памяти, а ведь данная работа – всего лишь сюжетная фантазия и не более того…
– А что, по-вашему, должны чувствовать люди, для которых оба персонажа стали источником невообразимых бед и страданий? Например, ветераны Отечественной войны или жертвы сталинских репрессий?
– Никаких комментариев на эту тему. Вы раскачиваете беседу в ненужном направлении.
– Есть ли какая-то грань нравственности, за которую художник не должен ступать, выискивая темы для своих работ?
Быстро сообразив, куда начинает катиться разговор, Дольф сделал знак рукой, обозначающий, что импровизированная конференция закончена, и попытался скрыться, но тут же уткнулся в разъяренную художницу.
– А, Соня! – натужно улыбнувшись, воскликнул Дольф. – Здравствуй. Как дела? Да, вот, кстати говоря, – торопливо добавил он, обращаясь к Тропинину. – Познакомься. Хочу представить тебе новое дарование, Соня Штейн. Стажировалась по гранту в школе искусств у Зиновия Геймана, сейчас пробует силы у нас.
Виктор с интересом уставился на девушку.
– Рудольф Константинович! – срывающимся голосом пролепетала задыхающаяся от волнения художница. – Вы обещали взять мои работы на выставку, а вместо этого их запихнули в самый дальний угол!
– Вот как! – воскликнул Дольф, разыгрывая невинное удивление.
– Боже мой, Дольф, что ты опять натворил? – хитро прищурившись, поинтересовался Тропинин. – На тебя бесконечно жалуются журналисты, а теперь еще и художники! Тем более такие красивые! Объяснись сейчас же!
– А чем ты недовольна? – пробурчал не ожидавший подобного поворота Дольф, с которого разом слетели все остатки лоска и приторность. – Было бы обидно, если бы тебя вообще не взяли, но ты же представлена. Просто твою инсталляцию разместили в дружественной нам галерее, так как у нас на стенде не хватило места, вот и все. Не понимаю, какие могут быть претензии? И вообще, знаешь что, Штейн. – Тут Дольф насупился еще больше. – В таком тоне со своими приятелями разговаривай – надо же, волчья ягодка. Ты кто? Никому не известная художница, и звать тебя пока никак. Перед тобой была одна задача – появиться в Манеже, а для первого раза с такими работами тебе вообще должно быть безразлично, на каком стенде тебя выставят.
– А что мои работы? – хлестко огрызнулась Соня. – Они же вам еще недавно нравились.
– Может, и нравились, – раздраженно передразнил ее Дольф, пытаясь поскорее закончить неприятный разговор. – Мне многое нравится, и что с того? Сегодня нравится, завтра не нравится, я не должен перед тобой отчитываться!
– Дольф, Дольф, – осадил его Виктор. – Полегче.
– Хорошо, если ты и уважаемый Виктор Андреевич так настаиваете на этом объяснении, отчитаюсь! – начал глумиться Дольф. – Одна работа Близнецов, – он эффектно продемонстрировал Соне свой толстый указательный палец, – всего лишь одна их работа стоит в сотни раз больше, чем твоя кровать и невнятные абстракции.
– Вот как! – ершисто выпалила Соня. – Зачем же вы меня вообще позвали? Ну и выставляли бы своих Близнецов.
– Мы выставили тебя, потому что у нас есть определенные надежды. А чтобы ты не обижалась, могу сказать, что многие, уверяю, очень многие художники были бы счастливы оказаться на твоем месте. Такой вот шоу-бизнес. Я внятно выражаюсь? Извини за прямоту, но сама напросилась. И не нужно скандалить, иди лучше посмотри выставку, погуляй, потом поговорим…
Дольф смерил девушку презрительным взглядом и, взяв улыбающегося Тропинина за локоть, попытался увести его, но Соня, ужаленная таким позорным объяснением, не успокоилась и крикнула им в спину:
– Значит, права эта подстилка Артемон?
– Не понимаю, о чем ты? – устало спросил Дольф, медленно поворачиваясь к возмутительнице спокойствия.
– Он заявил, что нужно было переспать с вами, – явственно и четко прозвучал ответ молодой художницы. – Тогда бы мои картины не висели бы у туалета.
Виктор даже присвистнул от удовольствия: его начал занимать происходящий разговор. Дольфа перекосило. Вынужденный улыбаться обступившим их недоумевающим журналистам, он отчеканил с шипящей злобой:
– Может, Артемон и прав. Ты, конечно, девушка очень сексапильная, однако и такую красавицу я должен предупредить: если и дальше будешь выкидывать здесь свои подростковые истерики, я поставлю на твоем красивом имени такую жирную точку, что после нее тебе в искусстве даже секс не поможет. Обещаю, так оно и будет. А пока не мешайся под ногами, здесь выставочный стенд, а не бордель. Иди домой, не мешай работать, у меня идут продажи и работа с прессой, а тобой лично после всего этого я больше не занимаюсь.
– Не знаю, как продажи, но если вы меня выгоняете, то прессы у вас будет много! – отчеканила озверевшая художница.
– Что-о?
Вконец обозлившийся Дольф попросил извинения у всех, кто так или иначе стал свидетелем нелепого разговора, и потребовал от особо назойливых журналистов выключить камеры.
– И что же ты сделаешь? – ледяным голосом пригвоздил он зарвавшуюся художницу к позорному столбу. – Было бы интересно посмотреть.
Соня тяжело молчала.
– Артемон, как и все пидорасы, талантлив во всем и, в отличие от тебя, еще и старается понравиться публике: гляди, как скачет, весь в образе, ну а ты-то что? Чем удивишь прессу? Может, промчишься верхом на своей собаке? На нас уже и так все смотрят, так что теперь не стесняйся, давай, лови момент, ну чего же ты, покажи нам, что еще можешь, кроме своей дэпэишной мазни?
Понимая, что в жизни замаячил конец всему, красная от злости Соня сжала кулаки.
– Сейчас увидишь.
– Ничего я не увижу, – равнодушно заверил ее Дольф. Он подошел к ней вплотную и прошептал на ухо: – Мне говорили, что ты слабый художник, а я не соглашался. Но теперь сам вижу, что ты просто ноль, такой же истеричный ноль, как и твой дружок Тимур.
– Так, значит, ноль? – окончательно затягивая узел на собственной шее, глухо прорычала Соня.
– Абсолютный, голый ноль, – подтвердил повеселевший Дольф и добавил: – Не путать с «ноль-объектом», это не про тебя.
Потеряв контроль над собой, Соня как пружина отскочила от него и едва не уронила стоявшего рядом Зиновия Геймана. Сжимая дрожащие губы, она, как во сне, сквозь пелену слез едва видела мутные фигуры окружающих и, будучи не в силах бороться с разрывавшим душу гневом, бросилась прочь. Многие из присутствующих сочувственно покачали головами, но тут же улыбнулись, когда следом за несчастной девушкой поплелся похожий на трусливого льва понурившийся Перро.
Когда конфликт таким образом ликвидировался, Виктор со смехом похлопал Дольфа по плечу:
– А я тебя даже зауважал. Растоптал девчонку, зверюга. Ты сегодня в ударе. Самому не страшно? Журналисты, критики, художники – всем уже досталось, я даже сам тебя побаиваться начинаю. Эта история будет даже похлеще, чем скандальчик с голым Сталиным.
Дольф вымученно попытался улыбнуться.
– Нет, ну а если серьезно, так это и есть та самая подруга Амурова? «Эффектная девица, обожающая перформанс»? Я ничего не путаю?
Вынужденный поминутно с кем-то раскланиваться, Дольф раздраженно пробурчал:
– Она. Вот сучка, кто бы мог подумать! Как с цепи сорвалась.
– Знаешь, Дольф, когда я тебе говорил, что нам нужен новый проект, а женское искусство никому не нужно, я вовсе не это имел в виду. Знаешь, в ней что-то есть, какая-то искра Божья. Нужно разобраться. Скажи, пожалуйста, а ты и вправду предлагал ей лечь в койку?
Дольф возмущенно засопел.
– И не думал, вот те бог!
– Правильно, – похвалил Тропинин. – В нашем деле нужно тоньше работать. Однако насчет перформанса ты безусловно прав: судя по всему, девица на чувствах, и вообще без тормозов. Хорошо, когда у художника темперамент. Гораздо хуже, когда эмоций нет, а есть один голый расчет, вот как, например, у твоего протеже Артемона – в этом случае таланту уже не помочь, он предсказуем, и живой энергии из него не получишь. Признаюсь, я настолько впечатлен вашей беседой, что теперь мне просто не терпится взглянуть на ее творения. Давай, показывай, куда ты засунул молодого, талантливого и подающего такие надежды художника?
Не понимая, шутит компаньон или говорит серьезно, Дольф повел Виктора показывать.
– Рудольф Константинович! Рудольф Константинович! – заволновалась журналистская братия, увидев, как Дольф и Тропинин покидают стенд. – Еще несколько вопросов. Вы хотите, чтобы картину братьев Лобановых увидели нынешние обитатели Кремля?
– Без комментариев!
– Вы намеренно выставили это произведение, чтобы привлечь их внимание?
– Без комментариев!
– Кто была эта молодая девушка, которая только что вас покинула?
Отмахнувшись от журналистов как от назойливых мух, Дольф шепнул что-то своим ассистентам и бросился догонять Виктора. Чувствуя интересное продолжение, следом потянулись распробовавшие вкус первой крови журналисты.
«Арт-Манеж» уже набрал обороты, и выставка была полна зрителей. Обсуждая на ходу успехи и неудачи коллег, Виктор и раздосадованный Дольф не спеша шествовали по залу, но спокойно дойти до цели им было не суждено. С грохотом распахнулась дверь одного из подсобных помещений, и на их дороге снова встала Соня Штейн. Дольф побледнел как лист бумаги. Сжимая в правой руке топор с пожарного щита, а левой удерживая на поводке оскалившуюся собаку, Соня двинулась на оцепеневших любителей искусства. Молодая художница была абсолютно голая.
Пресса взвыла от радости, а скучавший от вынужденного безделья охранник лишился дара речи. Глупо растопырив руки, он качнулся вперед, но девушка замахнулась на него топором, и черный костюм трусливо замер на месте.
– Слушайте! – срывающимся от возбуждения голосом воскликнула художница. – Слушайте! Меня больше нет! Я ноль!!! Я голый, абсолютный ноль!
В возникшей сумятице и неразберихе никто ничего не понял и слов не разобрал.
– Я ноль! И мои картины ноль! Я умерла как художник!
Соню немедленно начали фотографировать и с нарастающим интересом вслушиваться в ее монолог.
– Но я все равно покажу вам актуальное искусство, самое актуальное на этой выставке! – надрывалась девушка. – Оно свершится сейчас, идите за мной, и вам будет о чем поговорить!
Воодушевившись этим призывом, изумленная публика сообразила, что ничего страшного не происходит, и с живейшим интересом стала следить за развитием действия. Мужчинам начавшийся перформанс так понравился, что многие даже покраснели от удовольствия. И действительно, вид молодого тела был настолько притягателен, что, несмотря на всю абсурдность происходящего, все как зачарованные смотрели на возбужденную Соню, а она в упор смотрела на растерявшегося Дольфа и многообещающе грозила ему красным топором.
Продолжая кричать что-то про смерть художника, девушка в считаные минуты собрала вокруг себя кучу журналистов и была уже освещена ярким светом телекамер. Гул голосов, крики и недоуменные возгласы собрали целое столпотворение зрителей, возник настоящий ажиотаж.
– Все за мной! – как боевой клич прокричала акционистка. – На смерть искусства!
– Вызывай ментов, – только и успел прошептать Дольф оторопевшему охраннику.
Девушка с собакой повела огромную толпу в дальний угол выставочного зала, к маленькому стенду с множеством небольших картин. Там среди прочих, ничем неприметных изображений висели четыре застекленных коллажа с яркими спиралями и цветными точками, густо рассеянными по угольно-черному фону. Под картинами у стены стояла двуспальная кровать с несвежим мятым бельем, в ней, прямо на простыне, опрокинутая пепельница, женские трусы, использованный презерватив и еще какой-то мусор, а на полу перед кроватью – сандалии, майка и остальные элементы сегодняшнего Сониного костюма.
– Вот моя работа! – возопила голая художница, указывая на яркие абстракции и развороченную постель. – Она никому не нужна! Еще вчера она была не настолько плоха, чтобы быть здесь, но уже сегодня оказалась не настолько прекрасна, чтобы попасть в историю искусства! Так пусть все это исчезнет вместе со мной, пусть это будет моей смертью как художника! Сегодня, здесь и сейчас!!!
Голос Сони охрип от крика и стал напоминать рев раненого животного.
– Подавись, галерист, своими деньгами! Искусство должно быть свободно!!! – завыла она на самой высокой ноте, глядя на парализованного страхом Дольфа.
9
Тимур прибыл в Манеж только к шести вечера – пришлось забежать домой, чтобы принять душ и переодеться. Угнетенное настроение, тяжелые личные переживания – весь этот мрак души как рукой сняло, как только страдалец очутился в огромном выставочном зале и с наслаждением вдохнул давно забытый запах художественной выставки. Посвежевший и чувствующий себя много лучше утреннего, Тимур сразу преисполнился неясной надеждой и, не раздумывая, бросился на поиски Сони. Однако, как ни спешил он отыскать любимую, экспозиция невольно приковала внимание, ноги сами замедлили бег. Уже очень скоро он медленно плелся по залу, недоверчиво осматривая выставленное искусство, удивляясь и одновременно пугаясь его уродливому многообразию. Картины, написанные маслом, акрилом, мазутом и аэрозольными красками, фотографии инвалидов без рук и ног, портреты грязных бомжей, демонстрирующих свои гениталии, панно Богоматери, сделанное из слоновьего помета, чучело гориллы с отрубленными конечностями и торчащими в спине топорами, большие бронзовые гномы, сидящие со спущенными штанами и испражняющиеся на пол золотыми крендельками какашек, троллейбус, сделанный из картонных коробок, поролоновая скульптура, мозаика из раскрашенных костей – вся эта пошлая нелепость, халтура и художественная дикость, за которую Амуров всегда так ненавидел современное искусство, сейчас словно смеялась над ним, ослепляя и без того воспаленные глаза своими агрессивно яркими цветовыми пятнами. Чувствуя возврат волны физического удушья, он вытащил темные очки. Однако наваждение никуда не ушло, а только разрасталось. На миг ему даже привиделось, будто бы это не выставка, а гигантская ярмарка запретных развлечений, площадной балаган уродцев, где никому нет дела до искусства и где художник вынужден орать, размахивать руками, плеваться, пытаясь привлечь внимание лишь своим персональным безумием, стараясь, чтобы его заметили, запомнили, а если повезет, то и прочитали фамилию.
С брезгливым ужасом он брел по выставке, диковато озираясь и разглядывая толпы восторженных зрителей. Его собственный творческий путь уже давно разошелся с подобным актуальным искусством, и еще будучи молодым человеком, он как-то художественно устарел, стал неэластичным, а в какой-то давно им забытый и, как выясняется, очень нужный момент отказавшись принять кураторский патронаж, в конце концов вылетел из обоймы модных и постепенно попал в аутсайдеры. Теперь у него осталось только прошлое, блестящее, звонкое, неоспоримо красивое прошлое – девяностые годы, когда его компания была самым модным художественным сообществом своего времени. Многие из тех, кто сейчас встречался на пути, еще его узнавали, с ним раскланивались, какие-то давно забытые знакомые художники несколько раз даже окликнули, кто-то взял по-дружески за локоток, что-то спросил, Тимур не ответил. Понемногу он стал приходить в себя, собрался с духом и попытался абстрагироваться от происходящего. Окончательно в чувство привычной самоуверенности привела фотовспышка, выделившая Амурова из толпы.
«Вот это правильно, поздоровайтесь с дядей», – не без самодовольства поздравил он сам себя.
Поиски не затянулись. Довольно быстро он добрался до стенда «Свиньи», а там лицом к лицу столкнулся с Зиновием – вид у предводителя «Картонки» был озадаченный. Обычно неприветливый и высокомерный, на этот раз Зиновий проявил такую радость от встречи, что едва не кинулся с объятиями на шею. Вся эта сцена неприятно кольнула Тимура в сердце.
«Что-то тут не то. Никогда жирная скотина не была приветлива, с чего он так распелся?»
Жирная скотина действительно была необыкновенно любезна. Зиновий тарахтел без умолку, тряс Тимура за локоть, заглядывал в глаза и торопливо рассказывал об успехах своих учеников. Но от внимания Амурова не укрылось ни то напряжение, с которым на него смотрели девочки-ассистентки, и ни то, как его поприветствовал Артемон. Как только человек-пудель завидел Тимура, он рванулся к художнику так, что натянулась цепь ошейника. Неприлично завиляв бедрами, Артемон изобразил половой акт. Зиновий извиняющимся жестом попытался сгладить возникшую непристойность, а Тимур поморщился от отвращения. И тут Артемон отстегнул цепочку.
– Ну что, святоша, пришел? – приблизившись вплотную, язвительно прошипел он Тимуру в самое ухо. – Сто долларов принес? Или снова решил стать модным художником? А может быть, ищешь свою шлюшку?
Тимура как будто по лицу ударили. Он развернулся, чтобы размазать обидчика по стенке, но тот успел отскочить:
– Была она здесь только что, плакалась, ныла, а Дольф взял и выгнал ее за бездарную живопись. Представляешь себе дебют?
– Послушай, ты, зоопидор!.. – гневно прорычал красный как рак Тимур.
– А я-то тут при чем? – светясь мстительным восторгом, пропел Артемон.
– Что здесь происходит? – рыкнул художник на бледного Зиновия.
– Видишь ли… – смущенно пролепетал тот. – Не обращай на него внимания, все сегодня как с ума посходили… Если ты ищешь Соню, то она где-то рядом, скорее всего на стенде Галереи Шума, там ее работы…
Понимая, что с Соней произошло что-то ужасное и, возможно, даже непоправимое, Тимур теперь уже не оглядывался на окликавших его друзей, не засматривался на искусство. Размахивая руками, он несся по залу, заставляя всех расступаться. Ошибиться было невозможно: впереди происходило что-то невероятное. Уже чувствуя неприятный вкус очередного унижения, он торопливо подошел к плотному скоплению зрителей. Чтобы понять, что происходит и кто собрал здесь толпу, пришлось подпрыгнуть. Он чуть было не упал от шока – у завешенного картинами стенда абсолютно голая Соня с визгом размахивала топором. То, что произошло вслед за этим, повергло Тимура в состояние ступора. Голоса вокруг смешались, и их перекрыл истошный вопль Сони:
– …Свободна-а-а!!! – А дальше раздался звон бьющегося стекла и отчаянные крики.
Толпа качнулась. Тимура грубо толкнули в спину, – расталкивая всех локтями, к месту событий прокладывали дорогу охранники и усатый милиционер в надраенных до блеска сапогах.
– Искусство должно быть свободно! – орала обезумевшая художница на весь Манеж.
Она вскочила на кровать, размахнулась и, к ужасу столпившихся зрителей, ударила топором по раме собственной картины.
Удар так напугал собравшихся, что началась паническая давка. Те, кто был в первых рядах, подались назад, засверкали десятки фотовспышек.
Дольф тоже трусливо попятился и наступил на ногу любовавшемуся перформансом Тропинину.
– Так было задумано? – весело спросил Виктор.
– Что? – не видя ничего перед собой, пролепетал зажмурившийся Дольф, прикрывая руками лицо от сыплющихся осколков.
Раскололась еще одна рама.
– Я говорю, кто ее готовил? – надрывался Виктор. – Горский?
– Черт ее готовил! – в сердцах пролаял Дольф.
– Э-ээх!!! – неистовствовала Соня.
После очередного мощного удара более легкие работы, висевшие рядом со злополучной абстракцией, градом посыпались на пол, а несколько осколков вдребезги разбитых стекол поранили ее. Однако художница уже без комментариев набросилась на следующую работу и принялась крушить с таким остервенением, что свидетели побоища оцепенели.
Когда до места разгрома добрались милиционер и черные костюмы, перформанс был в самом разгаре. Размахивая рациями, охрана попыталась приблизиться к художнице, но огромная псина с диким рыком кидалась на всех, не подпуская никого к своей хозяйке, а та, размазывая по заплаканному лицу кровь, рубила топором то, что еще минуту назад было ее картинами.
Следом за милицией рядом с Соней появился запыхавшийся Артемон. Быстро оценив масштаб акции и количество журналистов, он почернел от злости и, бесстрашно приблизившись к Соне, громко прокомментировал ее действия:
– Хватит придуриваться!
– Пошел прочь! Пес! – рыдая, проголосила голая художница.
Перекрывая грохот, крики, улюлюканье и хохот, перепуганный милиционер что есть мочи засвистел в свисток и достал табельный пистолет. Охрана стала осторожно подступать к разъяренной собаке, но тут перед ней вырос Тимур. Милиционер махнул пистолетом, и охранники навалились на художника, стали крутить руки. На помощь Тимуру бросились несколько его бывших друзей и многочисленные студенты «Картонки». Возникла всеобщая свалка. Пока охранники, расталкивая художников, надевали на Тимура «браслеты», молодежи удалось отбить девушку. Рыдающую художницу завернули в оберточную бумагу и, прикрывая от назойливых журналистов, поспешно увели. Следом за охранниками, потащившими связанного Тимура и еще пару задержанных буянов, к выходу проследовал подавленный Дольф. Однако совершенно неожиданно за арестованных вступился ЧТО. Виктор Андреевич шепнул пару слов начальнику охраны, тот пожал плечами, кивнул костюмам, и бузотеров тут же отпустили.
Когда сотрудники охраны удалились, шум побоища сменил нарастающий, как цунами, шквал восторженных зрительских аплодисментов.
Тимур вновь бросился за Соней, но ее и след простыл. Он заметался по Манежу, врывался в женские туалеты, как полоумный бегал из угла в угол и смог настигнуть ее только случайно, на лестнице. Одетая в незнакомые вещи, с засохшей кровью на щеке, растрепанная и зареванная, она показалась ему жалкой и несчастной. Ее руки были холодны как лед.
Тимур попытался заглянуть ей в глаза, но они были пусты. Амуров пришел в ужас. Все, что произошло с ним сегодня, напугало его до такой степени, что теперь он боялся даже самого себя, боялся разглядывавших их людей, боялся Перро, у которого на загривке шерсть стояла дыбом, и больше всего он боялся, что его Соня уже никогда не станет прежней. Все изменилось в одночасье. Он держал ее холодные пальцы в своей ладони и, понурившись, ждал. Но Соня молчала.
– Я ищу тебя уже третий день. Прости меня!.. – с трудом выдавил он из себя.
– Теперь уже поздно, – равнодушно прошептала Соня.
– Дрянь! – послышался за спиной у Тимура голос Дольфа. – Мы заплатили за стенд пятнашку, а ты перерубила картины и, на потеху чернушникам, устроила скандал. Ты опозорила нас перед всеми, выставила посмешищами. Маленькая неблагодарная дрянь! Никогда, слышишь, никогда ты не появишься ни на одной выставке «Свиньи», и не только «Свиньи» – ты не появишься нигде!
Соня не стала дослушивать, резко рванув Перро за ошейник, она понеслась с собакой по лестнице и в один миг выбежала на улицу.
– Твое имя исчезнет отовсюду! Я тебе обещаю! Ты кончишь, как все эти художники-бородачи, на помойке! – кричал ей вдогонку красный от бешенства Дольф. – Бездарность!..
Тимур задрожал от ярости, но не стал тратить время на разбирательство. Сбежав по лестнице, он рванул дверь, выскочил на залитую ярким солнцем улицу и успел увидеть, как Соня усаживается в поджидавшую ее машину. Хлопнула дверца, Тимур припустил догонять, но машина уже тронулась, его обдало бензиновой гарью, и в заднем стекле качнулась широченная морда Перро.
– Со-оняяяяяя!!!!
– Потрясающе! И очень свежо! – восторженно делились впечатлениями люди, столпившиеся вокруг заваленной обломками и битым стеклом кровати.
– Да уж, необыкновенно!
– Виктор Андреевич, – заискивающе ликовал какой-то коллекционер. – Ваши художники всегда удивляют! Такой смысловой резонанс…
– Ваша девочка – это нечто!
– А я, признаться, поначалу даже оробел, не поверил, что такое возможно…
– Прекрасно.
– Да уж…
– А как ее фамилия?
– Штейн?
– Зиновий, говорят, это ваша ученица?
Горский, Тропинин и Гейман стояли в кругу улыбающихся свидетелей события и принимали поздравления. Как только перформанс закончился, большая часть обычных зрителей разошлась по выставке, но возле груды обломков остались искусствоведы, критики и кураторы. Все те, кому посчастливилось стать свидетелем акции, теперь энергично обменивались мнениями. Общее впечатление узкого круга ценителей было близко к восторгу и склонялось к тому, что акция, безусловно, удалась. На лице Зиновия плавала неуверенная, но в то же время счастливая улыбка, он сам не ожидал такой удачи. Горский, напротив, солидно комментировал произошедшее, напирал на скрытый символизм и социокультурное значение и, не отрицая своего кураторского участия, давал развернутые комментарии. Лишь один ЧТО был внешне безучастен и, думая о чем-то своем, вполуха выслушивал различные впечатления.
– Это напомнило мне акцию, виденную мною на острове Борнхольм в прошлом году, – интригующим шепотом сообщила обществу куратор Вера Акула. – Тогда одна швейцарка обмоталась холстиной своей картины, и все желающие бросали в нее пакеты с краской.
– Ну, нет ничего общего, – воспротивился кто-то еще. – Там была скука, а здесь огонь, мороз по коже, какой-то танец с саблями.
– Вот именно, танец с саблями!
– Чистая энергия…
– Да, да, все очень правдиво. Особенно удалась настоящая кровь.
Виктор, наблюдавший за обменом мнений, неожиданно просиял лицом.
– Вот именно – чистая энергия! – воскликнул он. – Как вы правильно заметили! Это была чистая, искусственно вызванная энергия, пролившая кровь художника и преобразовавшая ее в самостоятельный акт искусства.
Ученое общество тут же развернулось к нему и приготовилось слушать, а Виктор вдохновенно развил начатую мысль:
– Дело в том, что мы уже давно ведем эти опыты: подбираем новую формацию художников, свободных и непредсказуемых, с полным упразднением для них старых теорий, готовых плыть против течения, готовых даже к разрушению. Это трудный процесс, и значимый результат пока не удавался. Сами видите, подобное творчество сложно мерить привычными категориями. Как художником, так и объектом может выступить кто и что угодно, и носитель сигнала может быть ничтожно мал, но высвобождаемая при этих опытах энергия настолько велика, что она потрясает тысячи людей. Вспомните дуэли, корриду, бои без правил. Таков был наш план. Сами знаете, художники, несмотря на свои странности, все же люди, и поэтому многие соискатели оказались к такому не готовы. Ведь нужно подняться над собой, научиться существовать без картин, отречься от всего сделанного и, если надо, отказаться от себя самого, по сути умереть, и пойти на смерть добровольно, а это по силам далеко не каждому. Остается расчет, но расчет, как и любой трюк, почти всегда заметен. Казалось бы, тупик? Но нам помог случай. Вот, например, сегодня мистерия удалась. Возникла чистая энергия, и заметьте – лишь благодаря случайному недоразумению и бешеной эмоциональности художника. Уверяю вас, вы видели не постановочный спектакль, нет, хотя формально план для акции был создан. Все решили импровизация и сила личности.
– Интересный, но не новый метод, Виктор, – перебил его седой искусствовед Лапин. – С разрушительной трансформацией в искусстве уже экспериментировали американцы Райнд и Сибовски. Вы должны помнить. В семидесятых годах все художники бросили вызов обществу, а эти вообще сожгли свои картины, чтобы на закопченном огнем натяжном потолке нарисовать новые. Идея была созвучна времени, и тогда многие поверили в их необычную доктрину перерождения одной энергии в другую – они нарисовали, эти свои «новые» картины, и коллекционеры передрались из-за них.
– Вот видите, их опыт удался!
– Это был не опыт, – с усмешкой возразил Лапин. – Прошло совсем немного времени, и в насмешку над собой они завалили мир бесконечными повторами, озолотились, и эксперимент превратился в бренд. Теперь любому ясно, что таков и был их расчет. Но стало ли подобное новым шагом искусства?
– Безусловно! – воскликнул Виктор. – Вы, как историк искусства, должны помнить любимое высказывание Уорхола: «Лучший вид искусства – умение делать деньги», так что Райнд и Сибовски ничем не погрешили против постулата. Но наша девочка ничего не создавала, и, следовательно, в ее перформансе точно есть что-то новое, – улыбаясь, добавил Виктор.
– А что будет с этим объектом?
Увлеченные собеседники разом повернулись.
Саркастически улыбаясь, седовласая женщина лет пятидесяти указывала пальцем на Сонину кровать.
– Прекрасная выставка, Долфи! – поприветствовала она подскочившего к ней Анапольского.
– Здравствуй, Руф! – ошеломленно воскликнул Дольф, мигом стирая с лица брезгливое выражение, оставшееся на нем после общения с Соней. – Счастлив тебя видеть.
Владелица крупнейшей Лос-Анджелесской галереи Руф Кински, приплывшая со своей свитой как облако, не обратила внимания на приветствие и тут же переключилась на Тропинина:
– Здравствуй, Виктор! Ты тоже прилетел? Прекрасная выставка, и в этом году достойных работ гораздо больше, чем в прошлом, а Лобанови, как всегда, в центре внимания!
Кински эффектным жестом указала своим спутникам на громадную картину. Было видно, что они видят ее впервые и она их очень заинтересовала.
– Хорошо! – продолжила Кински. – Как смело, что вы поместили эту работу, она держит всю выставку. Для нас очень важно было это увидеть. Сколько прессы! Это успех. Моим коллекционерам также понравился перформанс, они желают купить кровать.
Дольф с тревожным лицом вслушивался в беседу.
– Долфи! Мы покупаем объект для частного фонда в Детройте, – надменным голосом сообщила Кински. – Сколько он стоит?
– Художница сорвала выставку, и ее работа не продается… – начал вяло оправдываться Дольф.
– Хороший пиар – «искусство, которое не продается». Блестяще! Так сколько стоит кровать? – не унималась Руф Кински.
– Две тысячи долларов…
– Я покупаю.
– Поздравляю, – замогильным голосом пошутил Дольф.
– Двадцать тысяч, – вмешался Виктор.
Все вздрогнули.
– Коллекционер, которого я представляю, уже купил эту работу, – веско добавил он.
По тому, как Виктор произнес эти слова, Дольф понял гораздо больше, чем было сказано. Посерев лицом, он развел руками:
– Бизнес есть бизнес, ты же понимаешь, Руф.
– Мой клиент дал за всю инсталляцию двадцать тысяч и желает отдельно купить видео по перформансу, – громко, чтобы все слышали, заявил ЧТО.
– Хорошо, Виктор! Вы не дали нам этого художника, но к теме бизнеса мы еще вернемся, – с ядовитой вежливостью ответила седая американка.
Она резко развернулась и, раздраженно переговариваясь со своими спутниками, ушла.
Дольф совершенно не ожидал, что эпизодическое участие в выставке молодой художницы закончится таким свинским скандалом. Эмоции так зашкаливали, что он испытывал острую потребность срочно выпить водки. Его уже не трогали все ужасы, творившиеся вокруг его имени: агрессивное поведение прессы, ссора с Кински, единичные оскорбления и даже то, что кто-то из зрителей запустил стакан кока-колы в картину Близнецов. Страсти так накалились, что он впал в ступор. Все пошло наперекосяк.
Виктор же, напротив, непринужденно беседовал с клиентами, рассказывал про художников, шутил, был бодр и сиял дружелюбной улыбкой. Его вдохновенное настроение мало-помалу стало бесить Дольфа. Время от времени посматривая на компаньона, Дольф злился еще больше, хмурился и покашливал.
Заметив подавленное состояние друга, ЧТО отвел его в сторону и, приобняв за плечи, сообщил:
– Я только что продал четыре боковых холста Близнецов за пятьсот в Ханты-Мансийск.
Видя, что Дольф не оживает, он зашептал на ухо:
– Забудь ты чертовую старуху. Плюнь. Думаю, она хотела купить девчонку только затем, чтобы поизмываться над тобой. Ты просто еще не знаешь ее подлинных планов. Но она натолкнула меня на одну мысль. То, как наизнанку вывернулась наша истеричка, и то, как приняли истерику зрители, – гениальная формула, я просто прозрел! Это чистая энергия, которую мы направим в нужную сторону и заработаем на ней миллионы. Остается только правильно подобрать художников и название под стать их безумию, но с выбором у нас, кажется, проблем не будет…
– Какие еще художники? – не выдержал Дольф.
Виктор мягко повернул его за плечи и указал вперед рукой.
– Вот один из них, собственной персоной, на тебя несется. Познакомься – наш новый проект «Ярость».
Дольф, изумленно выпучив глаза, увидел, что к ним с явным желанием расправы приближается Амуров.
– Алчная, жирная гадина! – взорвался Тимур, протягивая руки к насмерть перетрусившему Дольфу. – Ты никогда мне не нравился, продажная тварь, а сейчас я просто готов тебя убить!
– Нет, я больше этого не вынесу, кто-нибудь, позовите милицию, – завыл Дольф, прячась за Виктора.
Пытаясь достать галериста, Тимур рванулся вперед, но наткнулся на спокойную улыбку Тропинина.
– Убьешь обязательно, – пообещал ему Виктор. – Но не сейчас. Попозже.
– А ты кто такой?
Виктор пропустил мимо ушей реплику и неожиданно протянул руку.
– Давай еще раз познакомимся! Виктор Тропинин, коллекционер. Я только что купил работу твоей подружки.
– Да пошел ты! – недоверчиво огрызнулся Тимур.
– Нет, правда, очень хорошая работа. Двадцать тысяч долларов. Не веришь? Спроси у кого хочешь, хоть у него.
Дольф испуганно закивал головой.
– У нее большой потенциал, просто так все было задумано. Это спектакль, современное искусство, а ты с кулаками. Вот моя визитка. Давай лучше поговорим о тебе…
10
К концу дня жара, сжигавшая город, постепенно стала спадать. На улицу упали длинные тени, посвежело, и возник приятный летний вечер. В поисках прохлады разомлевшие граждане потянулись к тенистой зелени: в Центральном парке культуры и отдыха на Крестовском острове стало многолюдно.
В самом дальнем уголке этого обширного зеленого массива, вдали от гремящих музыкой аттракционов, теннисных кортов и шумных ресторанчиков, за высоким каменным забором таинственно прятался отреставрированный особняк. Подсвеченная надпись на латунной табличке при входе мало что говорила случайному прохожему – на двух языках на ней было написано: «Художественный фонд Тропинина».
С улицы особняк был надежно скрыт деревьями и едва заметен, но прекрасно виден с канала, который находится по его другую сторону, поэтому только спортсмены-байдарочники, энергично рассекавшие водную гладь, смогли наблюдать комичную и малопонятную сцену, разыгравшуюся в тот час на лужайке перед домом. У самой воды на металлических стульчиках сидели двое мужчин. Они были одеты в одинаковые белые брюки и цветастые летние рубахи с коротким рукавом. Между ними на траве стоял сервированный столик, на нем тарелка с фруктами, сыр и бутылки, мужчины пили вино и тихо переговаривались. Совершенно неожиданно один из них залился неестественно громким смехом, разнесшимся по всей округе, а второй в ответ на это скроил мину настолько грустную, что казалось, будто он заплакал. В подтверждение своего неудержимо оптимистического настроения хохотун вскочил на ноги и, взмахнув руками пропищал тоненьким голосом:
– Да все равно! Плевать хотел! Я все решил!
Мрачный же его собеседник трусливо заныл:
– Миша! А я боюсь! Мне страшно!
И трус и весельчак казались людьми одного возраста, лет около тридцати. Одинаково щуплого телосложения; тонкие ручки, желтая кожа, шеи куриные, вытянутые лица с мелкими чертами – про таких в былые времена грустно шутили: «Как тебя ветер не носит?» Странные худосочные граждане в белых брюках вообще мало чем различались друг от друга, являясь единоутробными братьями.
– Теперь поздно менять решение, – радостно провозгласил вскочивший с места. – Я уже договорился о встрече.
Он бодро потряс кулачками, но, видя, что брат по-прежнему находится во власти печальной меланхолии, принялся суетно подливать вино в стаканы.
– Пей! Да пойми же ты, еще пара шагов – и мы свободны! Все, мечта сбудется! Не верится, но еще недавно я даже думать об этом не смел.
Грустный Илья послушно отхлебнул вина.
– Перестань ныть! – повысил голос Михаил. – Что с тобой? Чего ты раскис? Напился? Ну подумай хорошенько, что нас здесь держит? Ничего! Правильно. Теперь уже ничего! Мы, может, к этому всю жизнь шли.
Илья выразительно засопел и, проводив взглядом треугольные спины проплывавших мимо гребцов, брезгливо поморщился. От выпитого его уже буквально тошнило, но брат все подливал и подливал, а он безвольно глотал вино, все больше и больше наполняясь невыразимой жалостью к самому себе.
– Че-ерт бы тебя побрал, – слезливо промычал Илья, разглядывая скачущее перед собой белое пятно братских штанов. – Ты всю жизнь меня мучаешь! А вот возьму и не поеду! Пшо-ол ты знаешь куда!..
– Ильюша, перестань чудить. Я стер руки до мозолей на этой каторге. К концу проекта у меня уже все плыло в глазах, и я уже ничего не чувствовал. Ты тоже почти мертвый дописывал последний холст, и будь я проклят, если сейчас откажусь. Сама удача плывет в руки, и нам остается только забрать свои деньги, а после этого мы свободны как ветер. Подумай…
– Подууумай, – пьяно передразнил Илья брата. – Деееньги? Эта жадная жаба не даст нам больше ни копейки. Ты разве этого еще не понял?
– Я поговорю с Дольфом, он отдаст, – запальчиво возразил Михаил, махом выпивая свое вино. – Это наши деньги. И потом не забывай – это наши картины! Знаешь, какую цену они поставили на сегодняшнем Манеже? Нет? Зарядили по сто тысяч!
Илья насмешливо фыркнул и, не рассчитав движения руки, опрокинул бутылку. Пролитое вино угнетающе медленно стало пропитывать белоснежную скатерть и стекать ему на брюки. От ужаса Илья вытаращил глаза.
– Гляди, Миша! Это же кровь! – завыл он.
– Идиот! Как я устал от твоего кретинизма! Давай о деле! – взорвался Михаил. – У нас в зарытой коробке примерно двести тысяч. Это почти все, что пока удалось получить. Долго считать, но мне кажется, что теперь они должны нам вдвое больше. Нужно только забрать наши деньги. Так что если ты сейчас же не перестанешь ныть, то испортишь все дело. Заткнись, пожалуйста, и слушай меня. Они должны прийти с минуты на минуту, хватит нажираться, иди лучше умойся, а то и вправду похоже, что ты ссался кровью. Кому нужен такой урод? Опять все испортишь!
– Дурак! – истерично заверещал Илья, брызгая слюной. – Это ты все портишь и сам во всем виноват. Ты пьешь, а я пьянею, ты с детства измывался надо мной. Ведь это ты сломал мне палец за то, что я рисовал лучше тебя, забыл? А я не забыл! Ты всю жизнь издевался надо мной, и я тебя за это ненавижу! Тебя-то, душеньку, воспитатели всегда любили больше, чем меня, потому что ты врал лучше…
– Илья, не беси меня, я и так на взводе, – глухо прошипел Михаил. – Прошу тебя, умой рожу и переоденься. Потом поговорим, а если не заткнешься, я затащу тебя в подвал и выключу свет!
– Не-а-а! Нет! – зарыдал Илья, размазывая по лицу слезы неподдельного ужаса.
Михаил схватил его за руку, тряхнул и что есть силы потащил к дому.
– Не хочу в подвал!
– Иди умойся!
Пьяненький Илья попробовал сопротивляться, но, получив удар локтем в живот, пошел за своим мучителем.
Пока Михаил тащил извивающегося и брыкающегося брата, он неожиданно понял, что действует по давно разработанному плану. Куда приведет этот план, он толком не представлял: но то, что первым делом нужно нейтрализовать Илью, – знал точно. Вино было проверенным средством утешить брата и добиться от него чего угодно. И вот Илья пьян, но что он еще может выкинуть, неизвестно. От страха перед этой неизвестностью Михаил и сам неожиданно почувствовал, как у него начинают трястись колени. Страх? Нет. Конечно же нет, скорей винный озноб, вечерняя дрожь, но все задуманное теперь перестало казаться таким уж легким, и совершенно некстати мысли пошли кругом.
Втолкнув брата в ванную, Михаил задержался в коридоре, чтобы понаблюдать за ним через дверную щель. Напоив его до бесчувствия, он частично гарантировал успех задуманного, но, с другой стороны, риск был еще сильнее, чем если бы тот был трезв. Сколько он себя помнил, трусость и непредсказуемость брата всегда мешали осуществлению его желаний. Всякий раз и в самый ответственный момент Илья начинал стонать от страха или подступившего поноса, гнусно трусил, когда они вдвоем совершали какую-то пакость, намеревались что-то украсть, он ломался, начинал скулить, а иногда даже бросал брата и спасался бегством. Вот и сейчас дрожит как заяц. Но деваться некуда, Михаил понял – хоть брат и дурачок, но задуманное без него все равно неосуществимо. Сама жизнь слепила из них одно целое. Так повелось еще с Красноярска, где детдомовские сиротки выучились рисовать, а после, уже бросив интернат, выполняли какие-то грошовые заказы, жили в нищете и убожестве до той самой поры, пока судьба не свела их с шикарным московским господином. Встреча перевернула всю их дальнейшую жизнь. Они переехали в Петербург, получили мастерскую и стали работать на галерею. Как тогда в Красноярске, так и сейчас в Петербурге именно Илья являлся душой творческого союза, главным фантазером, на котором лежала вся тонкая живопись, сюжеты и чувства. Сам же Михаил художественной фантазией никогда не блистал и, взваливая творческие сложности на брата, занимался подмалевками, фонами и задними планами.
Однако сегодня наступил новый день, непохожий на все остальные. Михаил чувствовал, что именно он сейчас совершает то самое важное, что превратит их доселе однообразную и полную трудов жизнь в искрометный праздник. Блестящая комбинация подсказана самим провидением. Опять же – коробка с деньгами у него. Часто, когда брат засыпал, Михаил вытаскивал ее из укрытия и подолгу вертел в руках перевязанные бумажными лентами банковские пачки, колупал их ногтем, нюхал и даже лизал на пробу. Деньги, заработанные у Дольфа, пахли вкусно и вселяли неведомую ранее уверенность. Так бы все и шло, рисовали бы они тихо и копили свои гроши, но однажды братья получили электронное письмо. Илья, никогда не подходивший к компьютеру, его даже не прочитал, а вот в голове Михаила возникла потрясающая идея. С тех пор прошел почти год, письма продолжали приходить, а в последние месяцы их стало так много, что все в них изложенное постепенно сложилось в инструкцию к действию, и план дальнейшей жизни стал проясняться. Михаилу осталось совершить одно невероятно сложное действие – извлечь из галереи заработанные деньги. Дело щекотливое и в чем-то даже опасное, поэтому он оттягивал с ним до последнего. Маленького росточка, но окрепший духом Михаил представлял себе проблему как прыжок в высоту. Вот он взлетает над стадионом и, движимый пружиной разгибающегося шеста, зависает в невесомости над дрожащей планкой. Еще миг – и он чемпион, ему зарукоплещут трибуны. Либо же он дрогнет духом, планка предательски ухнет вниз, а вместе с ней и он под свист трибун полетит на маты. Подкидышу-детдомовцу, заработавшему свои первые сто тысяч и ясно помнившему все нанесенные жизнью обиды, падать мучительно не хотелось.
Пока Илья сопел и фыркал в ванной комнате, Михаил перебрался в мастерскую и там ходил кругами, тер руками голову, думал и собирался с мыслями. Отступать от намеченного нельзя, но то, что прокричал Илья, чистая правда – выцарапать у Дольфа деньги будет ой как непросто. Не у кого даже просить совета. Друзей они так и не нажили. Всякий раз, когда Близнецов возили в галерею или куда-нибудь на выставки, Дольф так опекал и контролировал каждый их шаг, что за все два года они не завели ни одного знакомства среди огромного количества людей, желавших познакомиться.
С первого дня, после того как братьев поселили в этом доме, к ним были допущены всего лишь пять человек: сам Дольф, его длинноногая ассистентка Дина, финансовый директор галереи Роза Михайловна, куратор Горский и приходящая горничная Тося, убиравшая дом и готовившая братьям-художникам еду. Была еще группа безмолвных служащих, состоящая из врача, фотографа и водителя, но все они состояли у Дольфа на жалованье, и надеяться на их заступничество было глупо.
В тысячный раз проанализировав ситуацию, Михаил пришел к выводу, что остается одна надежда – как ни странно, надеждой был сам владелец фонда, таинственный человек, перед которым заискивающе вибрировал даже Дольф. Братья видели его иногда на разных выставках, но лично общались лишь однажды, и встреча запала Михаилу в память. Около года назад весь персонал галереи нежданно нагрянул в особняк и, вытянувшись в струнку, приветствовал седоватого красавца, явившегося лично познакомиться с новыми художниками. Сами они тогда ужасно сробели, но, несмотря на весь пафос своего появления, владелец фонда оказался удивительно прост: он был очень мил, пересмотрел почти всё из написанного, хвалил, давал советы и в конце концов уехал очень довольный новичками, увезя с собой во Францию несколько понравившихся картин. Помнится, Дольф тогда был без ума от радости, и на волне общей эйфории Роза Михайловна даже выдала братьям первые заработанные ими тридцать тысяч. Но, вспоминая сейчас эту встречу, Михаил понимал, что даже не деньги были тогда главным чудом, главное было в том, что ослепительный Виктор Андреевич оставил на заваленном красками столе свою визитную карточку, по счастью не конфискованную никем из галерейных сотрудников и которой Михаил дорожил теперь, как ключом от собственного счастья. Да, сегодня он поборет все сомнения, позвонит Тропинину и настоятельно попросит, вернее, потребует заступничества. Проект закончен – пора и рассчитаться. Окрепнув в этой уверенности, Михаил облегченно упал в кресло. Огромная стена мастерской была сплошь завешена полотнами «Картины Жизни». Непрерывный труд в течение полутора лет, без отдыха и перерыва, так измотал их, что, глядя сейчас на блестящие свежим лаком холсты, он едва не застонал.
– Миша! – Откуда-то из глубины дома голос Ильи казался игривым и вкрадчивым. – Миша!
– Чего тебе? Где ты?
Илья появился на пороге в новом одеянии. Во время шопинга, на который их недавно возил водитель галереи, Илья ухитрился купить себе вещи, от вида которых брат начинал гомерически смеяться: проваренные до белых пятен на ягодицах, сплошь обшитые эмблемами и бирочками пошлейшие джинсы и обтягивающая короткая маечка с надписью «Porno King». В таком наряде Илья мог часами стоять у зеркала, изгибал спину, напрягал ягодицы, очевидно представляя себя этим самым королем, а Михаил катался по полу от смеха.
– Мы так долго работали, – пьяно сопя, начал Илья. – Я устал…
– Короче, – грубо оборвал его Михаил. – Чего ты хочешь?
– Давай позвоним проституткам, а?
– Нет.
– Ну почему нет?
– У нас встреча. Ты что, забыл?
– Я помню.
– Тогда зачем вырядился в этот блядский наряд?
Илья раздул щеки от обиды но ответить не успел – трелью залился дверной звонок.
11
– Виктор, ты спишь?
– Теперь уже нет.
– Там кто-то звонит в дверь. Надеюсь, не твоя подружка заявилась в такую рань?
– Марьяна, ко мне без приглашения не ходят, к тому же сейчас три часа дня.
Тропинин открыл глаза и потянулся.
– Скорее всего по делу, – зевнул он.
– И что мне теперь делать, прыгать в окно? Меня никто не должен видеть в Петербурге, я сейчас в Милане, на неделе моды.
– Прими ванну, займись чем-нибудь. Здесь двенадцать комнат.
Марьяна выскользнула из-под простыни, прошлепала босыми ступнями по полу. Задержавшись на миг в дверях, блондинка послала любовнику полный страсти, игривый взгляд, однако Тропинин его не заметил. Нехотя поднявшись и причесавшись перед зеркалом, Виктор сдвинул стеклянную стену, проник в гардеробную комнату и уже через минуту вышел оттуда полностью одетым.
– Здравствуйте, – поприветствовал его томившийся перед дверями мужчина невысокого роста.
– Проходите.
– Александр, – помог вспомнить свое имя ранний гость. – Александр Бучаков.
– Я помню.
Виктор провел юриста в просторную гостиную.
– Что-то стряслось, раз вы так скоро пожаловали? – предложив кресло, с еле заметной улыбкой поинтересовался Виктор. – Что-то удалось выяснить?
Бучаков окинул мутным взором завешенную картинами комнату, раскрыл принесенную папку и зашелестел бумагами.
– Забавное, ни на что не похожее дело. У меня такое ощущение, что нас уже кто-то опередил, причем тут явно примешана какая-то мистика.
Виктор недоверчиво кашлянул в кулак.
– Если можно, без фантазий и ближе к делу. Что с нашей картиной?
– Мы задействовали все возможности. Теперь в достоверности исследования нет сомнений, но полученный результат остался прежним. Вот заключение английских экспертов, а вот экспертиза центра Грабаря: и там и тут специалисты утверждают, что работа, снятая с торгов, действительно подделка и не представляет никакой культурной ценности.
Улыбка слетела с лица Виктора, он резко встал и заходил по комнате. Тревожно понаблюдав за его перемещениями, Бучаков осторожно продолжил:
– Работа, которую мы вчера изъяли из Вышнегорска, и работа, снятая с торгов, обе подделки, но, важно отметить, подделки совершенно разного уровня.
– К чему вы? – спросил Виктор.
– Судите сами. Если для Вышнегорска была выполнена всего лишь хорошая копия, то картина, попавшая на аукцион, то есть висевший в музее мнимый оригинал, – несомненно, работа мастера.
– Ежу понятно! – нетерпеливо отрезал Виктор. – Неужели вы думаете, что мы могли принять за кисть Верещагина учебную копию студента художественного училища?
– Дело не в качестве живописи, тут другое. – Бучаков понизил голос почти до шепота. – Тот, кто ее изготовил, намеренно заметал следы.
– Что вы плетете?
– Почитайте заключение! – засуетился юрист, протягивая какие-то бумаги. – Набор используемых красок приготовлен из натуральных компонентов и произведен вручную по очень старым рецептурам – зацепиться практически не за что. Холст также не помог – он действительно датируется началом века, а все вместе – холст и краски – сделают анализ возраста просто недостоверным. Получается, что нельзя точно утверждать, когда вторым слоем был написан этот портрет. А раз нельзя выяснить, выходит, мы не узнаем, для чего его делали, кто автор и, что самое печальное, куда делся оригинал.
– А был ли он? – раздраженно воскликнул Тропинин. – Эксперты тоже ошибаются! Чаще всего от них больше вреда, чем толку! Лабораторные крысы. Все, кто видел этот портрет, в один голос утверждали, что это подлинник.
– Значит, его действительно делал искусный мастер. Но не Верещагин. А оригинал все же был!
– Куда же он сгинул? И когда? В начале века?
Бучаков побледнел и нервно забарабанил пальцами по принесенной папке.
– Нет, не в начале века.
– Так когда же?
– Он исчез где-то между музеем и мастерской, написавшей копию. То есть по дороге в Петербург.
– Этого не может быть! – Виктор изменился в лице, и на скулах у него заиграли напряженные мускулы.
– Иного логического объяснения я просто не вижу, – твердо заявил Бучаков.
– Вы что, шутите? Как вы это установили?
– А сейчас начинается мистика! Смотрительница зала живописи из Вышнегорска упала в обморок, когда нам вынесли картину из хранилища. Ей в буквальном смысле стало плохо. Эта женщина последние несколько лет сидела на стуле прямо напротив «Портрета аристократа» и, в первый раз увидев его после реставрации, стала слезно божиться, что с картины исчезла головоломка!
– Какая еще головоломка? Что за чушь!
– Я тоже так поначалу подумал. Уж очень стара смотрительница. Дирекция музея скандал раздувать не захотела, поэтому женщину слушать не стали, но уже в Москве, вместе с документами, родственники владельца передали мне одну фотографию. И вот этот простой и, казалось бы, почти решенный вопрос снова стал завязываться чертовым узлом. Дело в том, что на этой фотографии запечатлен кабинет покойного артиста и сам он, сидящий в кресле, а на стене над ним эта проклятая картина.
– Оригинал, надо думать?
Бучаков вытер лоб платочком и вынул из папки фотографию.
– Да, оригинал, несомненно. Вот, полюбуйтесь. Снимок очень плохой, шестидесятых годов, но отчетливо видно, что на коленях японца действительно лежит какой-то небольшой предмет овальной формы – судя по всему, та самая головоломка, которой бредила старая смотрительница. Значит, эта деталь все же была и смотрительница права!
– И что же? – остекленело глядя на фотографию, растерянно спросил Тропинин.
– Ничего. У меня нет излишне буйного воображения, я не писатель детективов и скорее предпочел бы вообще не думать об этом, если бы сам не убедился, что на обоих копиях этого предмета действительно нет. Заметьте – на старом снимке предмет «еще есть», а вот на наших портретах его «уже нет». Я всего лишь юрист, и подобные несовпадения – не моя сфера, но, выражаясь казенным языком, из цепи фактов исчезло то, что изображено на фотографии.
Оторвавшись от разглядывания снимка, Виктор на минуту задумался.
– Вы правы, мистика какая-то. Сидичу докладывали?
– Да, в общих чертах, мы разговаривали по телефону, но Владимир Львович сказал, что ему плевать на головоломки, и послал меня к вам. Как решите, так и будет.
– А вы-то сами что думаете?
Бучаков запнулся и, тяжело вздохнув, нехотя ответил:
– Если отбросить мистическую составляющую, есть лишь несколько путей, по которым следует искать пропажу: родственники артиста, музей, художники, снимавшие нашу копию, и, прошу прощения, лично вы, вернее, ваши люди.
Тропинин удивленно поднял брови, а Бучаков тут же заверил:
– Хотя я уверен, что розыск в данном направлении ни к чему не приведет.
– Отчего вы так думаете? – хитро улыбнулся Тропинин.
– Не обижайтесь. Я упомянул вас только для полноты списка. Слишком уж все сложно. Бред какой-то. Но кто бы ни был похититель, не проще ли срисовать портрет один к одному? Нет, тут что-то другое, какая-то сверхзадача, и нам не раскрыть тайну, не зная подлинной истории портрета. Тот, кто его похитил, очевидно, знал ее, и подозреваю, что именно поэтому с портрета исчезла та странная вещица. Не знаю, что и думать, в моей практике не было подобных прецедентов, а единственное, что пока есть, – мастерски выполненная копия, скандал в музее, старая фотография и полное ощущение, что кто-то водит нас за нос. Дело остановилось, вот я и пришел к вам. Хочу знать, что еще можно предпринять против человека, действующего таким странным образом. Как я понял, ситуация не позволяет нам прибегнуть к официальному расследованию?
– Вы правы, ментов подключать не будем, – задумчиво произнес Виктор. – Да и незачем. Ситуация с портретом, скорее всего, вообще не имеет однозначного определения. Такое бывает. Редко, но бывает. Подобные дела всегда окутаны тайной. Существует безграничное море тайных фальсификаций, поэтому и живут в искусстве не только шедевры, но и тысячи подделок. За счет этого безбрежного моря кормятся частные коллекционеры, наследники фамильных собраний, случайные аукционные везунчики ну и, конечно, мы с вами – скромные операторы современного искусства. Такие головоломки случаются. Однако кто бы мог подумать, что приятная затея с портретом окажется на деле пустой тратой времени. Ну да бог с ним. Аукцион давно прошел, да и ущерб вышел минимальный.
Он подошел к пристенному бюро, вынул из ящика пачку купюр и подал ее Бучакову:
– Дополнение к вашему официальному гонорару. Берите-берите, и будем считать дело решенным. Мне понравилось, как вы работаете. Живо, аналитично, без ненужного шума, одним словом – буду обращаться.
Юрист смущенно принял деньги и, чувствуя, что встреча закончена, поднялся с кресла.
– А инструкции самые простые, – доверительно продолжал повеселевший Виктор. – Найдите реставратора, делавшего копию для Вышнегорска, пусть ему влепят выговор, ну, скажем, за непреднамеренную порчу портрета. В музей отправьте акт о халатности и благодарность бабке-смотрительнице, а еще лучше, дайте ей премию. Шум по понятным соображениям поднимать не станем, музейную копию сожгите. Несостоявшийся шедевр будем считать проданным в частные руки, а всю историю – закрытой.
Бучаков стоял и как завороженный слушал Тропинина.
– Это все, – вернул его к реальности Виктор. – Рад был нашей встрече.
Бучаков нерешительно замялся.
– Что-то еще?
– Что делать с фотографией? – осторожно поинтересовался юрист.
Виктор улыбнулся, но глаза его сделались холодными.
– Если вы не против, я оставлю ее себе, на память о потерянной прибыли.
Нащупав сквозь ткань кармана увесистую пачку долларов, Бучаков был счастлив, что ужасная белиберда с картиной и ее незаконнорожденными копиями теперь далеко от него, а Тропинин оказался милейшим мужиком, а не людоедом, каким его описывал пьяный Сидич. Все сложилось наилучшим образом.
– И последнее, – закрывая встречу, подытожил Виктор. – Экспертизу о подделке из центра Грабаря тоже оставьте. Может еще пригодиться.
Распрощавшись с юристом и проводив его до дверей, Виктор вернулся в комнату, взял в руки фотографию и задумался.
– Топорная работа, – произнес он вслух. – Все нужно делать самому.
И отпер ключом маленькую, выкрашенную в цвет стены, неприметную дверь.
Приведя себя в блистательный вид, Марьяна вышла в уютную гостиную с видом на Неву, расположилась на диване и принялась смотреть альбомы по искусству. Однако листать каталоги ей скоро наскучило, она стала прохаживаться по комнате и с живейшим интересом присматриваться к обстановке. Чисто женское любопытство толкнуло ее на мысль воспользоваться случаем и найти что-нибудь интимное среди вещей неотразимого Виктора. Проведя бурную ночь в его объятиях, она подобралась к нему уже совсем близко, но, все еще чувствуя между ними некую дистанцию, страстно мечтала найти тайный ключик от сердца своего норовистого любовника. Сумасбродная выходка с прилетом в Петербург ее очень взбодрила. Легкость от полученного телесного удовольствия кружила голову, Марьяна была крайне довольна собой и представляла свои похождения в необыкновенно романтичном свете.
Бросив мужа с его глупыми и бесконечно пьющими дружками на яхте где-то у побережья Кипра, она долетела на маленьком вертолете до ближайшего аэропорта и оттуда перенеслась на Апенинский полуостров. Ревнивый Рогулин в этот раз соглядатаев не приставил, поэтому два дня она гуляла по Милану в полном одиночестве. Обедала в залитых солнечным светом итальянских ресторанчиках, завалила гостиничный номер новыми тряпками, купила кучу совершенно ненужных ей вещей и, только пресытившись дорогими покупками, заскучала, стала засматриваться на мужчин, оттого затомилась здоровой плотью и в конце концов так захотела секса, что стала всерьез подумывать о мужчине по вызову.
Все дальнейшее было как сон: Марьяна позвонила Тропинину в Петербург и напросилась «пообедать». Удивленный Виктор встретил ее в аэропорту, повез в ресторан, после ужина – к себе, а уже здесь, неожиданно превратившись в зверя, набросился на нее с таким жаром, что, вспоминая сейчас отдельные подробности их ночных безумств, Марьяна самодовольно улыбнулась.
Изучив гостиную, она пошла через анфиладу комнат, с растущим интересом осматривая обстановку. Жил ли он здесь или только бывал наездами, понять было сложно. Огромная старинная квартира с тщательно восстановленным интерьером: громадные двери, камины, мраморные подоконники, рояль, библиотека. Все как во множестве других, вычурно дорогих апартаментов, за единственным отличием – повсюду здесь была современная живопись. Везде, на каждой стене, рядами висели десятки полотен – от крошечных до поистине огромных. Разглядывая эту потрясающую коллекцию, Марьяна с удовольствием узнала среди прочих и работу Близнецов: голые по пояс мускулистые мужики, тела и лица которых перепачканы нефтью, торжественно принимают «хлеб-соль» из рук эмо-школьниц. Под обтягивающими майками бесстыдно торчат девичьи груди, а здоровые, словно кони, нефтяники щиплют поднесенный хлебушек и с добрым прищуром косятся на юные прелести.
Осмотрев несколько картинных зал и мысленно отметив особо понравившиеся работы, Марьяна наугад свернула в одну из дверей и оказалась в узком коридорчике. Из полуоткрытой двери напротив доносилась так не вяжущаяся с общей обстановкой детская песенка. Марьяна подкралась к двери, осторожно заглянула и увидела обширную кухню, следы завтрака на столе, работающий телевизор и чью-то широкую спину. Паркет под ногами предательски скрипнул, и человек на стуле резко обернулся.
– Бон суар, мадам! – галантно поприветствовал ее водитель, который вез их вчера вечером из аэропорта. – Входите!
Он живо поднялся, смахнул крошки с коленей и предложил гостье кофе. Пока водитель возился с кофе-машиной, Марьяна осмотрелась и безошибочно установила, что кухня холостяцкая. Самодовольная улыбочка опять тронула ее губы.
– Что вы смотрите? – поинтересовалась она, принимая чашечку дымящегося эспрессо.
– Олененок Бэмби. Обожаю Диснея.
Марьяна улыбнулась и окинула водителя оценивающим взглядом. Рослый, с огромными руками, Сергей был воплощением физической силы, но то, как он признался в своем нежном увлечении, делало его еще и необыкновенно милым.
– Я ищу Виктора Андреевича. Совсем тут заблудилась.
– Нет проблем.
Сергей выключил видео и вывел на экран меню охранной системы.
– Если он в доме, мы его найдем.
Экран распался на десятки квадратов, и в каждом появилась картинка одной из комнат.
– А что, у вас в каждой комнате по камере? – упавшим голосом прошептала Марьяна.
– Конечно, и не по одной! – весело ответил Сергей. И тут же, спохватившись, добавил: – Везде, кроме спальни хозяина и малого кабинета. Там нет. Странно, но его нигде не видно. Спать он в такое время не может, значит, в кабинете.
– А где малый кабинет?
– Я покажу.
Вдвоем они прошли по лабиринту комнат и оказались в другой части дома перед небольшой и незаметной дверью без ручки. Из-за двери доносился голос Виктора. Сергей осторожно постучал и прислушался.
Не дожидаясь ответа, Марьяна вошла. Она так поразилась увиденному, что не сразу заметила самого хозяина кабинета. Секретное прибежище Виктора напоминало нечто среднее между музейным хранилищем и пещерой сказочного Али-Бабы. Небольшая комната без единого окна была заполнена рядами высоких стеллажей, снизу доверху заставленных разнообразнейшими предметами антиквариата. Большая часть из собранного здесь хранилась в коробках, что-то было сложено стопками, картины стояли пачками, с потолка свешивались прекрасные люстры, по углам высились китайские вазы. В самой глубине комнаты стоял стол с компьютером, старинное кресло, а в нем вальяжно развалился и сам Виктор, беседующий с кем-то по телефону.
– Вот где ты от меня прячешься, – игриво атаковала Марьяна. – Да у тебя здесь настоящая лавка древностей.
Застигнутый врасплох, Виктор обезоруживающе улыбнулся, извинился перед собеседником и повесил трубку.
– Как ты меня нашла? Ага, понимаю, Сережа пал легкой жертвой твоих чар. Да, лавка древностей. Привычка, знаешь ли. Все никак не развяжусь с пыльным прошлым, много лет практиковал, но клиенты в этом бизнесе прощаться не торопятся. Осталась еще пара старых заказчиков, которым нельзя отказать. М-да.
Виктор собрал со стола какие-то бумаги, запер их в сейф и поднялся навстречу гостье.
Марьяна прошлась по комнате, подошла к нему и обняла за плечи.
– Зачем же ты занимаешься этой рухлядью? Времени не жаль?
– Только в современном искусстве все случается быстро, – наставительно ответил Виктор. – Еще вчера какой-нибудь бездарь и рисовать толком не умел, а завтра он уже на биеннале знаменитый художник. Со старым искусством все иначе. Тут жизнь художника меряется веками, а за намеченной картиной охотятся годами. Вещи выслеживают, они становятся причиной преступлений, бесследно пропадают, всплывают, перепродаются и в конце концов оседают в частных коллекциях. Я давно уже вышел из дела и распродал большинство вещей, но даже я не могу уйти из своего прошлого насовсем.
– Почему?
– Слишком много тайн.
– Я могу слушать тебя часами, – восторженно прошептала Марьяна. – Расскажи мне еще что-нибудь про эти тайны. У меня от твоего голоса даже мурашки по телу.
– Тайны? – ухмыльнулся Виктор, бросая быстрый взгляд на часы.
– Да, про что-нибудь таинственное и романтическое.
– Как в сказке?
– Да, как в романе, расскажи!
Чувствуя жар ее плотно прижатой к нему упругой груди, Виктор уселся на стол, обхватил Марьяну чуть пониже талии и принялся рассказывать:
– Вообрази себе – сто сорок лет назад в поисках впечатлений один молодой художник отправился в далекое путешествие. За несколько месяцев он рассчитывал повидать юг России, но судьба повела его другим путем, и художник провел в путешествиях большую половину своей жизни. В течение сорока лет он путешествовал по миру и успел повидать Кавказ, песчаные пустыни Туркестана, горы Индии, Святую землю Палестины, был в Америке, воевал на Балканах, и в конце этого длинного пути судьба занесла его в загадочную и закрытую для остального мира Японию. Известно, что во всех своих путешествий художник рисовал портреты, пейзажи и делал путевые зарисовки. Однако из его японского вояжа до нашего времени дошли всего лишь несколько рисунков.
– Красивая история, но в чем тут тайна? Ты обещал тайну, – капризно потребовала Марьяна.
– Будет и тайна. Примерно за тысячу лет до его путешествия в одной из провинций Японии в семье ремесленника родился мальчик. Когда мальчик вырос, он сделался искусным гончаром. Тончайшая фарфоровая посуда этого мастера славилась на всю округу, но главным его увлечением было изучение тайн астрологии и постижение незримых сил звездного неба. Легенда гласит, что перед самой своей смертью мастер сделал удивительную вещь. Из посаженных на костяные валы фарфоровых дисков он собрал покрытую иероглифами магическую головоломку, правильно сложить которую было непросто даже знаменитым мудрецам. Головоломка вошла в японский эпос как «Рука бессмертия», так как считалось, что, пока человек крутит ее в руках, время над ним не властно. Эта вещь, если можно так выразиться, сотни раз переходила из рук в руки и почиталась священной, но в конце концов бесследно пропала в начале прошлого века. В Японии ее ищут до сих пор. Есть множество письменных описаний этого удивительного предмета, но известно лишь об одном его изображении, до недавнего времени тоже считавшемся пропавшим. Ну вот, чем тебе не тайна?
Марьяна озадаченно нахмурила лоб. Видя ее затруднение, Виктор пришел на помощь:
– Единственное изображение «Руки бессмертия» было на портрете богатого японского вельможи, написанного нашим художником за год до своей трагической кончины. Сразу после написания этого портрета разразилась Русско-японская война, и художник погиб на борту взорвавшегося броненосца. Портрет едва не пропал и с трудом был переправлен в Хабаровск, а уже оттуда в Москву, где его следы окончательно потерялись. Такова история.
– Но откуда ты все это узнал? – изумленно воскликнула Марьяна. – Это действительно похоже на сказку.
– Все хорошие тайны состоят из сплетенных между собой фактов с проложенными между ними старыми письмами и воспоминаниями очевидцев. Я рассказал тебе всего лишь о двух из них, но их тут гораздо больше. Ровно год назад я впервые узнал о «Руке бессмертия», и забавно, что именно сегодня эта мифическая история победно завершилась!
– Боже, я вся дрожу от нетерпения! Что произошло, Виктор? Неужели сам Индиана Джонс нашел головоломку?
– Нет.
– Так что же?
Виктор повернул Марьяну к себе спиной и шепнул на ухо:
– Я нашел пропавший портрет.
Марьяна вздрогнула от неожиданности. Прямо перед собой на стене она увидела картину, с которой на нее строго смотрел старый японец в богатом кимоно.
– «Портрет аристократа» кисти Василия Верещагина 1903 года, а на коленях у японца та самая «Рука бессмертия».
– Потрясающе, – зачарованно прошептала Марьяна, разглядывая таинственную картину. – И что же теперь будет? Что ты будешь делать? Об этом должны узнать все! Это же грандиозная находка! Может, снять фильм для телевидения?!
Виктор засмеялся и направился к выходу.
– Идем! Время идет медленно только в этой комнате, а у меня сегодня еще много дел.
Они вышли из кабинета, и Виктор запер дверь.
– Никто ничего не узнает. Все так и останется, просто теперь тайна известна троим: мне, тебе и одному богатому японцу, который и рассказал про головоломку. Фильмов снимать не будем. В старом искусстве свой метаболизм жизни, а у японцев – свои секреты.
– А портрет оставишь себе?
– Верещагин не в моем вкусе! Пусть едет в Японию, к тому, кто искал его всю жизнь. Человек хорошо заплатил за то, чтобы «Рука бессмертия» вернулась домой.
– А ты?
– А я получу свои два миллиона и вложу их в новый проект. Все будут счастливы, а старичок Верещагин поможет современному искусству. Ты не поверишь, но уже много лет я финансирую художников своего фонда, оплачиваю им мастерские, печатаю каталоги, устраиваю выставки и плачу искусствоведам. Огромная структура сжирает почти все мои заработки. В последнее время мне стало не хватать денег даже на жизнь. Вот и приходится рыскать волком за всякими антикварными редкостями.
– А что за новый проект? – восторженно завибрировала Марьяна. – Что-то грандиозное, более интересное, чем Близнецы? Виктор, ну пожалуйста, расскажи…
– Никакой тайны нет. Вчера на открытии «Арт-Манежа» был первый показ. Совершенно новое искусство, смесь продуманной постановки и сумасшедших страстей! То, что вчера произошло, думаю, точно покажут по телевизору. Таких художников у нас еще не было, и я думаю, мой проект станет новым витком в развитии всего русского акционизма.
12
Вечером по завершении второго дня работы «Арт-Манежа» в петербургском ресторане «Ботаника» наконец-то состоялся запланированный ужин. Так уж повелось, что после всех наиболее значимых выставочных открытий Дольф всегда приглашал в этот ресторан важную прессу, кураторов и искусствоведов, разбавляя их для жизненной свежести нужным количеством своих голодных до ласки художников. В такие дни «Ботанику» запирали для посторонних, в камине разжигали огонь, и в свете мерцающих свечей под вино и угощение приглашенные предавались разговорам об искусстве.
Так было всегда – однако сегодняшний ужин устроителя нисколько не радовал. Дольф сидел мрачнее тучи, грыз мундштук трубки и угрюмо молчал. Вчерашнее скандальное открытие так потрясло его, что, все еще ощущая усталость от пережитого, он болезненно морщился от шумного энтузиазма коллег, был рассеян и не участвовал в беседе. Большинство присутствующих догадывалось о причине его вялости, и о Соне Штейн открыто не высказывались, но в кулуарных беседах все сходились во мнении, что вчерашний перформанс не только упрочил и без того исключительное положение «Свиньи», но, бесспорно, стал благом и для всего «Арт-Манежа». Действительно, публичный скандал с опальной художницей и злосчастные «Объятия на Мавзолее» пошли на пользу самой ярмарке. Пресса, оккупировавшая Манеж в день открытия и разразившаяся гневными репортажами, так энергично рассказала о художественном антипатриотизме, безобразии и разгуле безнравственности, что, подогретая этой цензурной истерикой, зрительская масса из одного только любопытства устремилась на выставку. Уже с обеда следующего дня перед Манежем выстроилась длинная очередь. Заклейменная прессой выставка была сразу названа скандальной и стала восприниматься как протестное событие, а возбужденные зрительским ажиотажем коллекционеры начали активно кружить вокруг главных имен, и уже к вечеру второго дня стенды фаворитов покрылись красными точками «Продано». Все это принесло кучу денег, но осторожный Дольф природным чутьем ощущал, что над его головой начинает сгущаться негативное облако непредсказуемых последствий.
Сидя сейчас за одним столом с кураторами и художниками, он угрюмо ковырял вилкой принесенный салат и с досадой наблюдал, как улыбающийся Тропинин что-то шепчет на ухо ассистентке Дине. Девушка доверчиво смеялась, но даже безвинный смех этой офисной дурочки бесил сейчас Дольфа и напоминал ему о вчерашнем фиаско.
Ничего из случившегося отдельно уже не помнилось: все перемешалось и слепилось в ужасное месиво: журналисты, зрители, художники. Вся пульсирующая масса скакала, визжала и истерически выла в голове. Мелькал красный топор, громко лаяла собака, в руке милиционера дрожал пистолет, и горели полные дикой ярости Сонины глаза.
«Черт меня дернул его послушать! – мысленно обругал он себя. – Будь он проклят! Потребовал выкинуть со стенда какого-нибудь новичка, а потом встал в свою любимую позу богатого эстета. Как я это ненавижу!»
Дольф разжег потухшую трубку, выпил вина и решил, что самое отвратительное во всем даже не то, что нахальная девка показала характер, а то, что ее выходка затмила собой всех остальных. «Как будто специально готовилась, сучка…»
– Рудольф Константинович!
Дольф встрепенулся. Дина тронула его за локоть и указала на Горского.
– Вообразите себе! – кричал на весь ресторан раскрасневшийся от вина Андрей Андреевич. – Взял и вцепился ей зубами в жопу!
Эффектным жестом он указал в сторону Артемона, и только тут Дольф заметил, что у молодого художника расквашен нос.
– Я видел многое, но сегодняшнее меня вставило, просто класс! – не унимался Горский. – Это же гениально! Честное слово! Вы только вдумайтесь! Современный художник отбрасывает такие традиционные понятия, как шедевр и талант, встает на четвереньки и, словно юродивый на паперти, как милостыню, просит у зрителя внимания…
– Ну что вы! – порочно ухмыльнулся Артемон. – Идея была в другом. Плевал я на чье-то внимание! Я назвал это «Protect action»! Я лаял и кусался и о зрителях не думал. Напротив – я охранял то единственно значимое, что было на стенде, от посягательств мещан и элемента грязной торговли. Я охранял собственные изображения.
– Кокетничаешь, брат! Какие еще посягательства? Это же ярмарка искусства! Сюда и приходят покупать!
– Я спасал свои работы от произвола денежной оценки. В этом и был мой перформанс – я лаял, рычал и на всех бросался. Но я ждал. Да, ждал, что хоть кто-нибудь, хотя бы один человек, не струсит, подойдет к моим фотографиям, возможно, даже пострадает, но пострадает ради любви к искусству, однако подлая цепь выдралась, и пришлось кусать всех подряд. Я кинулся в толпу, а тут американка со своей змеиной улыбочкой. Ну, досталось ей: бешеная собака кусает всех без разбору! Все было как во сне, это был не я! К тому же сам пострадал!
– Ты что, укусил Руф Кински? – наконец-то улыбнулся Дольф.
Артемон энергично закивал.
– Да! Надоело на цепи сидеть.
– Я и говорю! Протестное мышление, возвращение к естеству! – продекларировал Горский. – Назад к природе! Жаль только, что уже почти все разошлись, но я видел. Впечатляющее зрелище!
– Маленький нюансик! – ядовитым голоском вмешался в разговор Зиновий Гейман. – Кински развернулась и с размаху заехала нашей собаке в нос. Ногой, кажется? Возник ужасный скандал с оскорблениями, при этом ее подруга, лысая фотографиня из Лос-Анджелеса, била Артемона резиновым фаллосом, который она носит вместо дубинки. Потасовку снимали для новостей. Такой вот «Protect action».
Артемон налил себе рюмочку, выпил и, пощупав раздувшийся нос, победно ухмыльнулся:
– Резиновым членом меня не испугаешь. Досадно, что мадам Кински не знает, что жизнь художника во всей ее красоте и мерзости и есть акт искусства, а все побочные проявления этой жизни – тоже произведения. Неважно, пью я вино, сплю, рисую, занимаюсь сексом или кусаюсь, как собака. Нужно понимать, а не ногой в рожу. Но я не в обиде, мы квиты. Пока алеет синяк на ее филейной части, она мой живой арт-объект, а я его автор!
– Ну, брат, хватил!
– А она-то знает?
– Плевать на нее. Художник – я! – заявил расхрабрившийся Артемон, искоса посматривая на реакцию Дольфа. – Даже если я иду посрать, это уже арт, и мое говно может быть выставлено в музее…
– Чудесно сказал, дай запишу, – шутливо засуетился Горский. – Просто гениальная мысль.
– Нет, каков, а?..
Поднялся настоящий вой одобрения. Присутствующие стали громко смеяться и хлопать в ладоши. Счастливый Артемон театрально раскланялся, плюхнулся на диванчик и уже собрался вновь налить себе водочки, как общее веселье прервал спокойный голос Тропинина:
– Продавать и выставлять в музеях твое говно, конечно, волнующая честь, но мы сегодня собрались обсудить совсем другую линию в нашей стратегии. Прошу общего внимания!
Встав из-за стола, Виктор вышел на середину зала:
– То, что произошло вчера на открытии, и то, что по непонятным причинам здесь тщательно замалчивается, окончательно укрепило меня в мысли о необходимости проецирования новых художественных задач в сферу бесконтрольных эмоций. Да, не удивляйтесь. Уверяю вас – перед нами безграничное поле невозделанных возможностей. Люди всегда извлекали пользу из внезапных вспышек гнева, приливов энтузиазма, слезных истерик, обид, ревности, тщеславных мук и больной гордости. Этот поток энергии всегда толкал человечество к непоправимому и рождал героев. На силе ненависти к врагу было выиграно множество неравных сражений. Бессчетное количество людей убивают по причинам ревности. Ослепление жаждой мщения приводит к параличу сознания, а радостная весть поднимает со смертного ложа. Горе, зависть и бесчестие водят человека, как нити кукловода, и должен вам признаться, я просто потрясен вчерашним перформансом. Девочку уже называют новой художественной величиной, открытием года и лицом галереи. Нашей галереи, заметьте! Нам повезло, что случайное недоразумение с ее картинами вызвало такую бешеную реакцию и бомба взорвалась прямо на стенде. Вялый, убогий и примитивный русский акционизм давно стагнирует и держится только на социальном гротеске и хулиганских выходках маргиналов. Не хватало таких людей, как Штейн, не хватало чистой энергии. Ведь что произошло? Художник выставил на общее обозрение не что-нибудь, а свою личную жизнь, без прикрас, как она есть. В виде объекта – кровать с мятым бельем и окурками в пепельнице, использованные презервативы. Что это, как не знак? Она недовольна своей жизнью, судьбой, возможно, неудавшейся любовью, она в ярости и показывает миру свою боль, она обнажается и открывает перед всеми подлинную причину своего творчества. При этом совершенно очевидно, что ничего из прошлого художнику уже не жаль, она разрушает свои картины и дает выход собственной ярости. Это очень современно. У подобного искусства есть будущее, потому что им управляют настоящие сильные эмоции. Объект уничтожен – не полностью, почти, но так даже лучше. Художница изгнана, опозорена, казалось бы, все против нее, но это тоже прекрасно. Представляете, мы сейчас говорим о ней, и еще тысячи людей говорят о ней! Так что же все это значит?
Тропинин снял темные очки и обвел присутствующих своим магическим взглядом.
– Это значит, что ее искусство победило! – веско заявил он. – Она выиграла схватку за зрительский интерес и, как следствие, перешла на другой уровень. И заметьте, без помощи наших многоумных кураторов и вообще без какого бы то ни было научного руководства. Просто сама взяла и сделала. Нарисовала картины, выстроила объект, а потом, придя в ярость от творческой неудовлетворенности, сама же все и уничтожила, объединив тем самым все предметы и действие в одно прекрасное и гармоничное целое. Лучше и не придумать, блеск! Теперь о нашем втором герое.
Широким жестом он указал на Артемона.
– Срать себе в ладошку, потом приклеивать дерьмо на лоб и выдавать за высокое искусство уже неактуально – подобным у нас Бренер занимается, тебе даже не стоит тратить время на то, чтобы с ним тягаться. Эта муха-засеря и так уже обгадила все музеи. Что же до сегодняшней акции, могу сказать – между твоими успешно проданными на этой ярмарке фотографиями и твоим перформансом стоит стена. Нет, конечно же, ты очень старался, громко лаял и пугал народ, но стену так и не разрушил. Совершенно очевидно, что сами фотографии для тебя много важнее, чем сопровождавшее их действие. Ведь «бешеная собака» сорвалась с цепи лишь тогда, когда почти все они были уже проданы? Не так ли?
Тропинин вопросительно уставился на Дольфа, и тому ничего не оставалось, как согласно кивнуть.
– Вот видишь. Заявленное тобой насилие денег над искусством – всего лишь неуклюжая уловка, и поверь мне, совсем неудачная, чтобы ею бахвалиться. Выходит, что твое собачье бешенство – всего лишь плохо продуманная самореклама, шалость любимца умиленной публики! Но так ли все мило на самом деле? Что это? Неумелое перетягивание зрительского внимания? Вульгарный казус или гениальная акция? Подозреваю, что какой-то другой, тщательно скрытый от публики хитроумный план. Совершенно очевидно, что ты хотел понравиться кому-то из зрителей, скорее всего, кому-то из американских кураторов. Сознайся, ведь ты затем и укусил американку, чтобы обратить на себя ее внимание? Не стесняйся, расскажи нам, как все было. В такой проекции твой замысел становится понятен и цинично точен в исполнении!
В ресторане повисла такая тишина, что стало слышно, как на кухне стучит нож повара. Виктор приблизился в растерявшему весь свой кураж Артемону и внимательно оглядел его.
– Если мы все очень постараемся, из тебя действительно выйдет художник – хороший художник. Лично мне нравится твой эгоцентризм и беспринципная расчетливость. Это поможет, но только при одном условии: тебе придется отдавать себя задуманному без остатка. Нигде нельзя работать вполсилы, особенно в искусстве. Нужно надорваться, покрыться потом, стереть в кровь ладони, умереть и заново родиться, понятно?
Артемон едва нашел в себе силы, чтобы кивнуть.
– А если понятно, тогда скажи, пожалуйста, – Тропинин неожиданно нагнулся и двумя пальцами брезгливо приподнял у Артемона штанину полотняных брюк, – почему на твоих коленях нет ни крови, ни царапин? Нет даже покраснений. Ты что, в строительных наколенниках ползал?
Вспыхнув краской, раздавленный Артемон прошептал:
– Я скотчем ноги обматывал и подкладывал поролон.
– Ну вот, поролон. Расчетливо продумано, аккуратно и безопасно. Здесь нет животных или каких-то иных нечеловеческих качеств, присущих изображаемой тобой «бешеной собаке искусства». А если в подобной акции нет ни капли крови, нет страдания, боли или страха, если нет ничего завораживающего – значит, нет настоящей энергии. Возможно, зрительский шок и был, но если приглядеться, то действо – костюм с блестками, хвостик пружинкой – скорее напоминает номер в мюзик-холле, а не надрыв души за актуальное искусство. Уж лучше бы ты разделся догола, как Штейн, и покрылся бы шрамами, а то вся эта костюмированная дурновкусица может потрясти только случайных зрителей, совершенно не знакомых с венским акционизмом. Однако к творчеству великих и ужасных австрийцев мы еще вернемся, а сейчас давай договорим про покусанную тобой задницу. Надо понимать, что от Кубы до Аляски Руф Кински самый влиятельный американский галерист и, набросившись на нее, ты, безусловно, вступил с ней в связь, но в зубы получил не потому, что она не знает, кто такой художник, а потому, что все это уже было. Ей семьдесят лет, пятьдесят из которых она дружит и работает с известнейшими художниками, и – уважаемый Андрей Андреевич не даст мне соврать – лучшие из них ползали, кусались и срали краской на холсты в давно прошедших семидесятых. Она заехала тебе сапогом в лицо потому, что ей стало скучно. Твоя выходка – не новая линия о возврате человеческих способностей к естественному началу, и даже не адвокатирование всего животного, а всего лишь незамысловатая апроприация старого известного перформанса, попросту говоря, плагиат, а с этим нужно быть очень осторожным, потому что, как сказал Флобер: «Даже в искусстве популярность бывает постыдной».
Неожиданно из-за стола встал Дольф.
– Виктор Андреевич, не суди так строго – это я его инструктировал.
– А я и не сомневался, – улыбаясь, откликнулся Тропинин. – Слишком велика пропасть между вчерашним нарядным позерством на открытии и сегодняшним радикализмом.
– Но ты же сам хотел увидеть новичков на максимуме возможного? – угрюмо буркнул Дольф. – Вот и увидел. Идеи, может быть, и не новые, но вполне имеющие право на жизнь – все художники копаются на свалке прошлого. У нас подобного еще никто не делал, а что там было в Вене полвека назад, помнят только высокообразованные искусствоведы. Андрей Андреевич вот, например, выставил скульптуру, которая забрызгала дерьмом всю публику, и ничего, хотя эта железная ложка даже не реплика, а просто чудовищно увеличенное в размере известнейшее произведение. Наша восходящая звезда Штейн махала топором, полагаю, тоже не просто так, ну, а он показал «собаку». Удалось или нет – судить критикам, но лично мне кажется, что акция Артемона вполне самостоятельна, так что явного фаворита у нас пока нет. Гораздо хуже с «Объятиями на Мавзолее» – такой патриотической вони давно не было, и надо думать, что скандалом в прессе наши проблемы с Близнецами не исчерпываются. И я бы хотел…
– Дольф, я не ищу фаворитов, – оборвал его Тропинин. – И мне глубоко плевать на все эти газетные микроскандалы, – я хочу сформировать ядро нового проекта, и мне в первую очередь необходимо найти сбежавшую девчонку. Не знаю как, не знаю где, но разыщи ее как можно скорее. Скажи ей, что ее кровать купили. Обещай деньги, помани выставкой, уговаривай, не знаю, как ты успеешь, но доставь ее в галерею к завтрашнему вечеру. Если мы ее не вернем, то уверяю, очень скоро ей предложит выставку какая-нибудь другая галерея.
– А что будем делать, когда ее найдем? – саркастически поинтересовался Горский.
– Да то же, что и раньше делали, – продавать искусство. Она всего лишь один из наших художников, но у нее уже есть готовый продукт для нового проекта. Все музеи и галереи забиты мертвыми инсталляциями и бессмысленными объектами, так что сама судьба толкает нас пустить кровь всей этой бессмыслице. В рамках проекта «Ярость» мы будем продавать только объекты искусства, созданные силой эмоционального взрыва. Пригласите лучших специалистов в области психологии, пусть они с нашими кураторами подготовят всю концепцию и обоснуют мотивацию таких реакционных поступков. Необходимо выстроить теоретическую оболочку и в кратчайший срок сформулировать развернутое искусствоведческое обоснование. Нужно сплести творческие амбиции художника с его кризисным мышлением, расшифровать язык разрушительных символов и четко откорректировать угол зрения, под которым художественная критика и общество смогут управляемо вести свои наблюдения. Проблемы с картинами Близнецов покажутся детским лепетом по сравнению с тем штормом, который разразится в прессе, если мы без должной подготовки представим обывателю новое искусство во всей его детерминирующей ретроспективе. Нужно работать очень быстро и тайно. Никакой информации наружу. Первую выставку по проекту ставьте в план уже в самое ближайшее время. За работу, господа!
Когда озадаченные сотрудники фонда распрощались с руководством и покинули «Ботанику», в ресторане остались только Дольф и Тропинин. Они уселись друг напротив друга.
– Не понимаю, отчего ты так мрачен? – разглядывая недовольную мину своего партнера, иронично удивился Тропинин. – Злишься, что я отбрил твоего Артемона? Зря! Нет, он безусловно талантлив, но у него совсем нет тех сил, которые потребуются для задуманной мной художественной драмы. Это же очевидно. Другое дело – молоденькая и очень симпатичная голенькая девочка. Ты видел, как все слюни развесили, когда увидели ее зад? Вот у нее может получиться.
Дольф медленно допил вино, вытер губы, скомкал салфетку и бросил ее на стол.
– Не переживай, – беззаботно продолжал Виктор. – Ты ведь человек занятой, тебе просто некогда выдумывать новые теории и изобретать концепции. Я же обдумывал этот проект долгие годы и теперь лучше любого куратора наберу для него художников. Трудность была в одном – к настоящей, ослепляющей ярости способны только сильные личности, а к ним так просто не подберешься. Я долго ждал, но ничего не складывалось. До вчерашнего дня я даже не представлял, как вызвать к жизни подобную силу. Теперь мне ясно! Мы оживим этого динозавра, расчистим путь к управлению его сознанием, а в нужный момент чудище в клочья разорвет робкое сердце художника, и на зрителей выльется поток той самой энергии, которой так не хватает расчетливо выверенным акциям и бесконфликтным живописцам нашей современности.
Дольф засопел и как бык нагнул голову. Тропинин дружелюбно дотронулся до его плеча.
– Поверь мне, – серьезным голосом сообщил он своему галеристу. – Если нам удастся из этой энергии получить некий материальный отпечаток, то полученным произведениям не будет цены!
Дольф раздраженно вскочил из-за стола, брезгливо отмахнулся от официанта, подошел к окну и замер. Его душила злоба, незаметно перебороть которую он был уже не в силах. Годами накопленное раздражение на Виктора, недовольство авторитарной манерой компаньона в отношениях, собственный ревнивый страх быть отодвинутым от дела превысили все пределы. Дольф скрипнул зубами, зажмурился и впервые понял, как сильно он ненавидит этого улыбающегося ему в спину человека. Все невидимые для окружающих унижения, которые его гордая натура снесла за несколько последних дней, весь мрак, в который Виктор погрузил галерею, гнусный скандал на «Арт-Манеже» – все это вылилось сейчас в совершенно несвойственную ему вспышку бешеной злобы, и Дольф мысленно поклялся себе: он пойдет на что угодно, лишь бы уничтожить зарвавшуюся малолетку Штейн и не дать планам Виктора возможности осуществиться.
– Вспомни безумную старуху Орлан, – продолжал Виктор свои размышления. – Она отрезала от себя фрагменты лица и тела, запаивала их в стеклянные капсулы и выставляла как объекты. Вспомни кошмары Гюнтера Браса, кровавые оргии Германа Нитше, Отто Мюхеля и, наконец, скальпель Рудольфа Шварцкоглера. Я хочу создать художников сильных, беспощадных к себе и чужому мнению, а твой четвероногий Артемон совсем не годен для таких страстей. У него кишка тонка, но он, безусловно, прав в одном: жизнь художника во всем своем проявлении – уже акт искусства. Это сущая правда, и нам остается только этим воспользоваться.
– Зачем тебе этот проект? – с ненавистью в голосе глухо прошептал Дольф.
– Что ты там бормочешь?
– Зачем тебе весь этот кровавый бред? – возопил Дольф, багровея. – Во что ты втягиваешь всех нас? Все эти сумасшедшие немецкие художники, которыми ты так восторгаешься, конечно же, потрясли воображение своих современников, но на годы опередили свое право быть понятыми и давно сгинули в далеком прошлом. А ведь то была старая просвещенная Европа! Однако даже в ней, при всей любви немцев к дегенеративному искусству, твои художники выглядели как выжившие из ума экспериментаторы. Нужна ли спустя тридцать лет здесь, в России, группа таких же безумцев и нужна ли «Свинье» такая репутация?
– Дольф! – раздраженно осадил его Виктор. – Мы живем в совершенно других культурно-исторических реалиях. У нас здесь не «просвещенная Европа» и не зеленые поля доброго Шира. Россия – это Мордор с дикими орками, жрущими друг друга живьем. Кровь и скандалы здесь никого не пугают, более того, они специально инспирируются в сознание людей для того, чтобы управлять общественным мнением. В нашей стране жестокость уже давно является типичным признаком психического расстройства всей нации в целом, и не мы с тобой довели несчастных сограждан до такой деградации. Я общаюсь по делам с разными людьми, и, поверь мне, даже те, кто сидит на самом верху, прекрасно все понимают. Впрочем, лично мне глубоко плевать на всех наших граждан, круг клиентов галереи не превышает и двухсот человек, а они развращены настолько, что охотно купят то, что я им готовлю.
Дольф отрицательно затряс головой, а Виктор продолжил свои увещевания:
– Послушай меня! Сейчас не время разворачивать полемику о месте художника в кризисе современной морали. Это сильный и, безусловно, резонансный проект. Не думай об обществе, не думай о журналистах, мы просто делаем свое дело! Да, проект циничен, но именно поэтому я и надеюсь на нем заработать очень большие деньги.
– Вот именно, деньги! – не выдержав, взорвался Дольф. – Допускаю, что ненормальных психов на роль таких художников ты найдешь быстро, но что они нам дадут? Помимо их личного идиотизма и неадекватности галерее нужны продажи, нужны картины, объекты, художественный продукт! А разбитый вдребезги стенд, который Штейн разворотила на ярмарке, – не продукт продажи, а прямой убыток, который мы понесли из-за возникшего скандала! Так на какие же большие деньги ты рассчитываешь в будущем? Не могу себе даже представить! Ну а полюбоваться голым задом этой истерички можно и без всякой «Ярости». Ты ведь заплатишь двадцатку за ее кровать? Так возьми эту девку и делай с ней что хочешь, если она тебе так нравится, но почему галерея должна платить за твои личные прихоти? Если ты всерьез считаешь ее художницей завтрашнего дня, то я не хочу участвовать в этом диком проекте! Не он, ни она мне не нравятся! Будь все проклято!
Последняя фраза, слетевшая с языка Дольфа, все и сказала Виктору. «Дольф, Дольф, Дольф, жирная корова, вот ты и сорвался».
– Прости меня, – вытирая платком мокрый от испарины лоб, тут же пробормотал Дольф. – Но мне действительно не по душе то, что ты задумал, мне не объяснить твою идею моим сотрудникам, не объяснить клиентам, не объяснить никому. Слишком все дико.
Дольф суетливо налил вина в первый подвернувшийся бокал и выпил.
– Нет-нет, ничего, продолжай! – издевательски вежливо предложил Тропинин. – Ты ведь давно хотел мне все высказать, но никак не решался, мучился. Да, кстати, раз уж ты стал развивать тему денег! – меняя тональность голоса на озабоченно-участливую, воскликнул Виктор. – Не хотел тебя расстраивать за ужином, но час назад у меня состоялся совершенно неожиданный телефонный разговор. Не знаю почему, но управляемые тобой художники звонят мне и требуют добиться от тебя отчета. Может, ты пояснишь мне, что все это значит?
Дольф изумленно округлил глаза, силясь понять, куда начинает клониться разговор.
– Чего ты на меня уставился? Час назад мне позвонил один из Близнецов и поначалу в слезной манере, а потом все более нагло потребовал повлиять на тебя с тем, чтобы ты заплатил им причитающиеся деньги. Так и сказал: «Картина Жизни» закончена, пора рассчитаться.
От неожиданности Дольф стал пунцовым и нервно застучал давно потухшей трубкой по столу.
– Так что же выходит? – с пугающей беззаботностью стал рассуждать Виктор дальше. – Ты толкуешь о моем диком, экстравагантном проекте, о своих дурацких страхах и о копеечных убытках, которые мы понесли от перформанса Штейн, а сам годами не отдаешь денег нашим самым продаваемым художникам? Выходит, ты пользуешься моим доверием и оставляешь себе гонорары со всех наших проектов? Крадешь из моего кармана! Так, что ли?
– Гнусные уродцы, я им покажу деньги. Сучьи выродки!..
– Нет, Дольф. Ничего ты им не покажешь. Ты вернешь всю сумму. Михаил даже подсчитал, сколько им должен фонд – четыреста тысяч долларов, так что слушай меня внимательно: возьми откуда хочешь деньги и отвези Близнецам сегодня же. А если этого не произойдет – с тобой уже завтра начнут происходить вещи, от которых ты давным-давно отвык. Я понятно выражаюсь?
– Разве можно давать идиотам такую огромную сумму? – растерянно пролепетал Дольф.
– Это их сумма! – жестко оборвал его Виктор. – Они свои деньги заработали и получат их сегодня же до полуночи. Что до всего остального, – тут ЧТО состроил презрительную гримасу, – мне плевать на твое нежелание участвовать в моем проекте, оно ничего не значит, так как ты уже давно в нем участвуешь. Ты просто пока еще не знаешь об этом, но очень скоро узнаешь, обещаю. Это все.
От этого властно-уничижительного «это все» Дольф залился краской до кончиков ушей, как от настоящей пощечины. Официант и администратор «Ботаники», ставшие невольными свидетелями беседы, стояли по стойке «смирно» и с ужасом ждали развязки дуэли.
– И помни, деньги должны быть у них до полуночи, – закончил беседу Тропинин.
С перекошенным от негодования лицом Дольф вышел из ресторана. Как только за ним закрылась дверь, Тропинин нетерпеливым жестом удалил персонал из зала, достал мобильный телефон и набрал номер Рогулина.
– Здравствуй, Иван, – спокойным голосом поприветствовал он собеседника. – Отдыхаешь, рад за тебя. А у нас работа в самом разгаре, и как раз настал тот момент, о котором ты спрашивал на яхте. Ты все еще хочешь передать привет тому «лысому умнику»? Отлично – ну так передай. Сегодня около полуночи он будет в галерее один, твои люди могут не церемониться. Ну вот и прекрасно, и вот еще что: скажи супруге, она не прогадала с картиной – очень скоро Близнецы действительно взлетят в цене. Абсолютно точно, есть информация.
13
В десять часов вечера Дольф включил сигнализацию, запер за собой стеклянные двери галереи и, опасливо оглядываясь по сторонам, проследовал к своему «тахо». Огромные, пятилитровые, американские внедорожники давно уже стали его страстью, и Дольф менял их модели не реже двух раз в год. Превратившись с возрастом в человека грузного и неповоротливого, он чувствовал себя стесненным в обычных бизнес-седанах, а посему предпочитал эти монстроподобные автомобили всем прочим.
Усевшись за руль на мягком троне бежевой кожи, он сунул между собой и сидевшим рядом с ним Артемоном захваченный в галерее небольшой чемоданчик и завел двигатель.
Артемон многозначительно взглянул на чемоданчик, прокашлялся и, лукаво улыбаясь, стал постукивать пальцами по его глянцевому боку. Дольф искоса пронаблюдал за его манипуляциями и, выводя машину на полный шума Невский проспект, стал раздраженно пенять своему наперснику:
– Если бы ты не был таким оптимистичным идиотом и не трепал лишнего, мне бы не пришлось сейчас терять эти деньги. Не понимаю, почему я до сих пор терплю твои выходки?
Артемон в ответ игриво заулыбался.
– Ты себе даже представить не можешь, во сколько обошлась мне твоя сегодняшняя невоздержанность на язык и хвастливая болтовня в ресторане! – продолжал Дольф.
– Да что я такого сказал? – как ни в чем не бывало воскликнул Артемон и тут же, не делая паузы, спросил: – А во сколько обошлась?
– В четыреста тысяч. Черт бы тебя побрал!
Артемон изумленно выпучил глаза и трясущимся голосом проблеял:
– Штейн получит четыреста тысяч за свой голый бред на выставке?
– При чем здесь Штейн? Ничего она не получит. Вернее сказать, сегодня не получит, но если ситуация будет развиваться в том же духе, то уже очень скоро и она начнет получать такие суммы, а тебе останется только снова стать гоу-дэнсером.
– Рудольф Константинович. – заныл Артемон. – Хоть убейте, не пойму, чего я такого сделал? Поясните, пожалуйста. Мне даже лицо разбила эта лысая коблиха. Я вообще больше всех пострадал.
Вместо ответа Дольф нажал педаль акселератора, и огромный сверкающий лаком джип рванулся в потоке машин, пугая своей массой разбегающиеся из-под колес малолитражки.
– Тебе многое придется усвоить, если ты хочешь удержаться в галерее, но даже сейчас ты не настолько глуп, чтобы не понимать, как все работает! – брызгая слюной, накинулся на него Дольф. – Ты что, идиот? Сколько можно повторять? Ни там в ресторане, ни на экспозиции никого не интересует твое мнение. Нам не нужны твои импровизации, здесь не ночной клуб! Понятно? Ты художник! Делай свои фотографии и не открывай рта, а всем остальным займется галерея, ты же постоянно забываешься и начинаешь утомлять всех своим трепом и глупыми выходками. Ведь у тебя была абсолютно согласованная задача – лаять у стенда и щекотать нервы журналистам, так за каким хреном ты укусил эту дуру?
Артемон перестал восторженно улыбаться и, сделавшись сердитым, признался:
– Мне Коля Микимаус шепнул, что это очень важная тетка, и посоветовал что-нибудь вытворить. Сказал, ей понравится такой экстрим.
– Что? – возопил Дольф. – И ты поверил?
– Да я всего лишь ее укусил. Вон Штейн едва не сорвала всю выставку, и ничего. Чего же тогда все ею так восторгаются? Она ничем не лучше! Разворотила экспозицию, и хоть бы хны. Чего ее все хвалят?
– У каждого свой мотив, – немного успокаиваясь, стал пояснять Дольф. – Кто-то специально хвалит ее в пику мне – как эта проклятая американка, – кто-то ждет заказа на статью для каталога и готов хвалить любой бред за деньги, кто-то уже, возможно, придумал, кому продать этот бред, а кто-то, как, например, Тропинин, тянет ее наверх просто из личной прихоти.
– И что же теперь? – растерянно произнес Артемон. – Штейн станет главным художником «Свиньи»?
Дольф брезгливо поморщился.
– В нашей галерее не может быть хедлайнера. Галерея – рынок сбыта. У всех, даже у самых известных, есть свои взлеты и падения, и всем управляет спрос: вещь совсем непостоянная.
– Вы хотите сказать – непредсказуемая?
– Наоборот. Абсолютно предсказуемая. Серьезных галеристов на нашем внутреннем рынке всего несколько человек, и именно эти люди определяют спрос на новое имя. Их галереи вершат всю политику, и если до вчерашнего дня всем казалось, что вы со Штейн идете ноздря в ноздрю, то уже сегодня очевидно, что девка тебя обскакала. Не знаю, кто ее надоумил, но погром действительно понравился, а твое собачье бешенство только добавило нам проблем, так что про выставку в Гуггенхайме можешь уже забыть.
За поучительными разговорами галерист-отец и его неразумное дитя-художник незаметно добрались до Петроградской стороны, проехали сквозь путаный лабиринт ее улиц и выскочили к мосту, ведущему на Каменный остров. Как только машина полетела по освещенным аллеям острова, Дольф неожиданно замолчал, забыв о своем пассажире до тех пор, пока они не подъехали к высокому кирпичному забору, огораживающему особняк фонда. К безмерному удивлению Дольфа, перед воротами стоял пассажирский микроавтобус «форд».
– Вот тебе и пример бессловесного послушания, – угрюмо пробурчал Дольф. – У них что, гости?
– А кто здесь живет? – засуетился заскучавший Артемон.
Не удосужив его ответом, Дольф прихватил чемоданчик и, тревожно осматриваясь, поспешил к освещенному входу. Калитка была незаперта. Вдвоем они молча прошли по гравиевой дорожке, взошли на крыльцо и оказались перед приоткрытой дверью, из-за которой отчетливо слышались голоса. Побледнев, Дольф распахнул дверь и ринулся внутрь. Прекрасно ориентируясь в доме, он как шторм пролетел через анфиладу жилых комнат и, добравшись до большого двусветного зала, остановился как вкопанный.
В ярко освещенной мастерской находились полтора десятка человек, в числе которых Дольф с изумлением узнал американских музейных функционеров, выбиравших художников в Манеже, своих Близнецов, Микимауса и саму Руф Кински с ее неизменной спутницей фотографиней Анжелой Мак Квин. Дольф был так ошарашен увиденным, что буквально потерял дар речи. Несогласованное присутствие такой обширной делегации на «закрытом объекте», как он сам любил называть приватное убежище своих звезд, было настолько неожиданным, что он недоуменно уставился на улыбавшихся иностранцев. Но его внезапное появление не произвело на американцев ровным счетом никакого впечатления. Один только Михаил, увидев своего патрона, смутился, мгновенно потерял самоуверенный вид и, робко сжавшись, как нашкодивший котенок, начал подавать знаки своему брату. Однако Илья, успевший к этому моменту уже изрядно поднабраться, не заметил его мимикрии и продолжал что-то рассказывать. Микимаус переводил, американцы вежливо слушали и рассматривали холсты. Все были страшно увлечены, а потому только мадам Кински вышла Дольфу навстречу и приветствовала фактического хозяина дома.
– Приятно снова тебя видеть, Долфи! – с бесстрастной улыбкой сообщила она Анапольскому.
Кое-как справившись с эмоциями, Дольф мгновенно изобразил на лице маску неожиданного восторга.
– Здравствуй, Руф! Какой приятный сюрприз!
В ту же минуту Коля Микимаус подскочил с протянутой рукой.
– Здравствуйте, Рудольф Константинович, – весело поздоровался он с едва заметным акцентом, а его цепкие глаза заинтересованно скользнули по желтому чемоданчику.
Неприятно удивленный, Дольф вяло протянул руку.
– Здравствуй, Сожецкий. Чего же ты не сообщил мне, что вы собираетесь к моим художникам?
Микимаус тут же ухватил его за локоть и стал шептать на ухо:
– Не поверите, не было времени.
На вид ему можно было дать лет тридцать пять. Невысокого роста, коренастый, русоволосый Микимаус был довольно невзрачен лицом, но огромный, постоянно ухмыляющийся в каверзной улыбке рот, хитрые серые глаза и здоровенный, надменно задранный нос делали его внешность необычайно выразительной.
– У нас около сорока визитов, планы меняются по нескольку раз за день, всё бегом, а послезавтра они уже уезжают.
Сообщив все это, Сожецкий громко и жизнерадостно засмеялся. Из-за спины Дольфа выглянул удивленно озирающийся Артемон. В ту же секунду улыбка мгновенно слетела с лица Кински.
– Долфи, тебе нужно крепче привязывать этого опасного человека, – возмущенно подняв брови, заявила она. – Или ты специально возишь его с собой, чтобы он кусал твоих конкурентов?
Окончательно обозленный всей этой нелепой встречей, Дольф был вынужден напустить на себя приторно-сладкий вид, и, умиленно зажмурив глазки, он беззаботно сообщил американке:
– У меня в этом городе вообще нет конкурентов!
– Да-да, это очень красивый город, – то ли издеваясь, то ли не расслышав его ответа, воскликнула Кински. – Тем более непонятно, почему ты водишь его по улицам без намордника?
– Нет, Артемон никого специально не кусает, – изображая на своем лице подобие безмятежной улыбки, заверил Дольф собравшихся. – Происшествие на ярмарке – всего лишь художественная игра, художник вошел в образ.
– После такой игры мне пришлось обратиться к американскому доктору, – ядовитым голосом сообщила Кински своим коллегам.
– Художник, которого вы били ногами, тоже ходил к врачу, у него поврежден нос.
Чувствуя непредсказуемое развитие конфликта, удивленный Микимаус перевел американцам последнюю фразу и вопросительно уставился на Кински.
– О’кей, забудем о нем, – разрядила обстановку Кински. – Нам гораздо интересней работы братьев Лобановых, и мы специально приехали, чтобы их увидеть. Потрясающий, очень свежий взгляд.
– Да, но все их лучшие работы находятся в галерее, и вам лучше было бы поехать прямо туда…
– Мы хотели пообщаться с художниками, – не дослушав, перебила его Кински. – Но их почему-то не было в Манеже.
Дольф извинился и, подозвав Михаила, отвел его в сторонку.
– Что все это значит, мой юный друг? – грозно сдвинув брови, прорычал Анапольский. – Вы у нас теперь настолько самостоятельные, что даже не считаете нужным информировать галерею. Что здесь делают эти люди? И что за звонки через мою голову владельцу фонда! Ты вообще уже ни с кем не считаешься?
Растерянный и подавленный, Михаил стоял перед ним, опустив голову. Неожиданно он взглянул Дольфу прямо в лицо и спокойно заявил:
– Рудольф Константинович, я просто хотел узнать про наши деньги.
– Что ты хотел узнать? Откуда такой тон? Поразительно, как быстро ты набрался дерзких манер. Тропинин приехал и уехал, он бывает в стране не больше двух недель в году, а я сижу здесь, и ты работаешь со мной!
Дольфу не удалось довести свое внушение до конца, за спиной Михаила снова возникла Руф Кински, которая мгновенно включилась в их приватный разговор:
– Мы прилетели познакомиться с новыми именами в российском искусстве и намереваемся собрать из них выставку для наших музеев. Пока мы выбрали всего шестнадцать человек, двое из которых – художники твоей галереи.
– Ну что же, прекрасно, – милостиво согласился Дольф, с деланной улыбкой поворачиваясь к ненавидимой им женщине. – И что за художники?
– Братья Лобанови. Поэтому мы хотим отобрать их работы для выставки и закончить юридические формальности, связанные с их отъездом.
– А куда они отъезжают? – с едким сарказмом поинтересовался Дольф.
– Они уезжают в Америку.
– Что? – изумленно воскликнул Дольф.
– Это мое видение эксклюзивных отношений, Дольф, – надменно заявила Кински. – Моя галерея «Up» получает эксклюзив на всю их живопись, а художники – мастерскую в Лос-Анджелесе, выставку, каталог и гонорар не менее миллиона долларов в год, вне зависимости от продаж.
– Но они не могут поехать в Америку, – растерянно пролепетал Дольф, совершенно не ожидавший такого поворота. – Они работают с моей галереей…
– Работали, – решительно отрезала Кински. – «Картина Жизни» закончена, и больше их здесь ничто не держит, у них нет перед тобой обязательств. Бизнес есть бизнес. Ты ведь так говорил мне на ярмарке?
Удар был настолько силен, что у Дольфа от подскочившего давления на какое-то мгновение загудело в ушах. Он полностью растерялся и не нашелся что ответить. Обведя присутствующих помутневшим от бешенства взглядом, Дольф постоял минуту, после чего швырнул чемоданчик с деньгами на заваленный красками стол, выхватил телефон из кармана и, не прощаясь ни с кем, решительно направился к выходу.
– Увидимся послезавтра у тебя в галерее! – прокричала ему в спину Руф Кински.
</em>
Когда они с Артемоном вышли на улицу, вызываемый абонент наконец-то снял трубку.
– Ну, и кому ты хотел помочь? – первый раз в жизни заорал Дольф на партнера. – Эти наглые сволочи кинули нас!
– Что у тебя опять стряслось? – поинтересовался Тропинин.
– Что стряслось? – передразнивая собеседника, взъярился Дольф. – Теперь у галереи не будет ни Близнецов, ни новых проектов, которые можно было бы из них выжать. И знаешь почему? Нет? Они договорились с Руф Кински у нас за спиной и, хохоча, уезжают в Америку, кстати с чемоданом подаренных тобою денег. Старая ведьма переманила их, посулив им выставку в Гуггенхайме и мифические миллионы, а эти проститутки тут же согласились! Послезавтра янки отбирают работы и хотят заключить контракт.
– На миллион?
– Да! – заорал на всю округу Дольф. – На миллион!
– Ну и хорошо, пусть себе едут. Значит, все идет по плану.
– По какому такому плану? – ошарашенно воскликнул Дольф. – Черт бы тебя побрал!
– Ты часто чертыхаешься, Рудольф, смотри, Бог накажет. По-моему плану. Я же тебе сказал три дня назад в Монако – возможностей нашего фонда уже не хватает, настала пора передавать Близнецов в другие руки.
– Теперь я вообще ничего не понимаю! – взвыл от негодования Дольф.
– Чего не понимаешь? – агрессивно рявкнул Виктор. – Мы сделали все, что могли. Теперь будет лучше, если дальше их начнут толкать другие. Пусть Кински выставляет их, где захочет, – с ее коллекционерами они быстрее станут мировыми звездами и озолотят держателей своих картин. Надеюсь, ты не забыл, у нас около пятидесяти их работ. А если тебя что-то не устраивает – скажи прямо сейчас. Заруби себе на носу: в нашей плебейской стране признают только художников, достигших славы на Западе. Пусть станут американскими художниками, у них для этого все есть: медицинский диагноз, бешеный взлет популярности на родине, скандалы вокруг их картин. Под этим соусом их там примут как родных, и, возможно, уже очень скоро за их картины действительно будут платить сотни тысяч.
– Так что выходит? – уже почти шепотом произнес пораженный страшной догадкой Дольф. – Выходит, ты знал обо всем? Знал с самого начала? Рогулин, и аукцион, и скандал в Манеже, и Микимаус – все было тобою спланировано?
– Совершенно верно! Человек без плана – не человек! Так сказал Ницше. Наконец-то ты понял мою простую комбинацию. Но сейчас даже не это главное. Меня заботит другое. Скандал вокруг «Объятий на Мавзолее» начал принимать устрашающие формы, и не сегодня, так завтра перерастет в открытую агрессию. Есть информация, и она еще более неприятная, чем потеря денег и самих художников.
– Что еще за информация? – бледнея как полотно, прохрипел Дольф.
– Некая группировка радикально настроенных славянистов после посещения Манежа преисполнилась ненависти к Близнецам и теперь жаждет мщения. Вероятней всего, уже в ближайшие дни они постараются что-то предпринять, что – неизвестно. Всем нам следует быть начеку и как-то постараться уберечь горе-художников от расправы, по крайней мере до их отъезда в Америку.
– Я же говорил тебе, что картина нас погубит! – злобно закричал Дольф. – Кто эти люди? Я вызываю ментов!
– Это националисты. Менты нам не помогут.
– Так что же делать?
– Оставь все свои дела и поезжай прямо сейчас в галерею. Проверь, все ли там в порядке. Свяжемся позднее.
Закончив разговор, Дольф машинально похлопал себя по карманам, извлек футляр с трубкой, но понял, что в таком возбуждении забить ее ему не удастся. Потерев воспаленные глаза, он устало проследовал к машине и, только открыв дверь джипа, вспомнил об Артемоне.
– Какая наглая тетка, такая мерзкая, отвратительная, высохшая, старая лезба! Она ненавидит меня за мою молодость и красоту, – игриво пожаловался Артемон. – Я еле сдержался, чтобы не укусить ее снова!
– Пошел вон отсюда! – прошипел Дольф.
– Что? – изумился Артемон.
– Вон!!! – заорал красный от бешенства Дольф.
Он вытолкнул из машины художника, вжал педаль газа в пол, и тяжелый джип с визгом умчался в темноту аллеи.
14
Явившись на встречу с художником Амуровым в галерею «Гиперборей», Андрей Андреевич прошел через завешенный пыльными картинами пустой зальчик, проник в местное кафе, заказал себе фирменные «колбаски по-домашнему» и с содроганием уставился на список напитков. Годы шли, но здесь ничего не менялось. Старая, до утра не закрываемая, прокуренная харчевня для художественной братии, прятавшаяся от налоговой инспекции за незаметной дверкой в самой глубине подвального выставочного зала, по-прежнему предлагала всего три напитка: приторно-сладкий чай, всегда подававшийся в пожелтевших от времени граненых стаканах, томатный сок и теплую водку эконом-класса. После некоторого раздумья Горский попросил сок и, протолкавшись среди бородатых посетителей, нашел свободный столик. На протяжении последних пятнадцати лет, в течение которых он по разным поводам бывал в «Гиперборее», он всякий раз не переставал удивляться этому сокрытому от глаз посторонних художественному мирку, где не бушевали страсти времени, куда не проникали ни деньги, ни модные веяния, где рождались, жили и тихо старели десятки художнических судеб, где все знали друг друга по именам, и длилось знакомство так давно, что чаще всего на встречах художники сразу же принимались за теплую водку, а после горячо бредили о жизни и творчестве, иногда до пьяного изнеможения. Это был старый, намоленный приют для обойденных признанием художников, их обветшалый храм, старый, привычный и ничего от них не требующий.
Усевшись за шаткий стол, Горский вытащил из дорогого кожаного портфеля папку с бумагами, блокнот, ручку, привычно разложил все эти вещи перед собой, закурил и, откинувшись на спинку лавки, остекленело уставился перед собой. Решение, которое предстояло принять, требовало концентрации мысли. Поразмыслив пару минут над сложившейся ситуацией и над всеми предшествующими этой ситуации непростыми обстоятельствами, Андрей Андреевич так ничего и не решил, отчего стал нервно теребить свой заросший седоватой щетиной подбородок и малодушно подумывать о теплой водке.
Было от чего прийти в замешательство. Разгром Артемона в «Ботанике», а иначе подобную катастрофу никак и не назовешь, прилюдная порка Дольфа и, напоследок, категорическая директива вернуть сбежавшую художницу – все это самым странным образом подействовало на приглашенных лиц, сбило эйфорию праздника и совершенно парализовало инициативу сотрудников. Мелкие галерейные сошки, видевшие владельца фонда раз в году, референты, бухгалтерия, критикессы и красотки из пиар-отдела покидали ресторан тихо как мыши. Все были подавлены, и всем было ясно – Тропинин жутко гневается на руководство галереи и, что самое печальное, само руководство никак не контролирует ситуацию.
И действительно, старожилы «Свиньи»: искусствовед Белов, Гейман да и сам Горский были настолько потрясены услышанным, что даже не попытались вступиться за молодого художника. Они просто бросили Артемона на съедение, и ЧТО вонзил в него свои страшные зубы. То ли из злорадства, то ли из личного страха, но никто из них не пришел на помощь и к Дольфу. Чем закончился его приватный разговор с Тропининым о новом проекте, можно было только гадать, однако, как только все покинули ресторан, ЧТО позвонил Горскому и обратился с неожиданной просьбой:
– Андрей Андреевич! Разыщи, пожалуйста, Амурова.
– Что, прямо сейчас? – удивился Горский.
– Да, срочно, и обязательно сообщи ему, во сколько завтра привезешь Соню.
– Я – привезу Соню? – еще больше удивился Горский. – А где же я ее возьму?
– Я уже все выяснил. Она в гостях у Пепла. У него в Павловске какой-то дворец, подробностей не знаю. Свяжись с Микимаусом, он везет туда завтра американцев на поклон.
– А для чего Тимуру все знать? – удивился Горский.
– Они поругались с Соней. Вот мы их и помирим. Есть у меня план, – как бы раздумывая над чем-то, неспешно произнес Тропинин. – Потяни его легонько в нашу сторону. Расскажи в общих чертах про новый проект, одним словом, приласкай, чтобы он убрал колючки! Договорись с ним.
«Чего он от Амурова хочет?» Именно эта мысль серьезно заботила сейчас многоопытного Андрея Андреевича, не без оснований слывшего среди научных коллег великим умницей и дипломатом. Окончательно взвесив свои самые важные догадки, Горский уже было вознамерился подвести итог, но тут принесли фирменное блюдо. На огромной квадратной тарелке черного цвета в кровавом пятне кетчупа уныло лежали две обугленные колбаски, рядом с которыми возвышалась гора вялой зелени. Пораженный этой псевдохудожественной кулинарией, Горский придирчиво оглядел общую композицию и строго спросил у официантки:
– А вилы где?
Девушка сделала удивленное лицо.
– Ну, вилы, которыми я буду ворошить этот стог сена, – мрачно развил свою мысль голодный куратор.
Официантка залилась смехом и принесла завернутые в салфетку приборы. Так ничего и не поевший на злосчастном ужине в «Ботанике», Горский жадно проглотил принесенную снедь, выпил сок и, немного подкрепившись, спокойно решил: «Разберемся. Главное – замкнуть все на себе. Дольфу, похоже, конец».
Когда, размышляя над неожиданно открывшейся перед ним сладкой перспективой, он с наслаждением закурил сигарету, потайная дверка открылась и в задымленный мрак кафе вошел Амуров.
Оглядевшись, Тимур уверенно промаршировал к столику Горского, здороваясь по пути с друзьями и пожимая протянутые к нему руки.
– Здравствуйте, – с энергичным вызовом поприветствовал он Горского, усаживаясь рядом.
– Здравствуй, Тимур! Прости, что вытащил тебя из дома в такой час, но у нас события развиваются таким образом…
Не дослушав, Тимур резко поднялся, направился к барной стойке и потребовал водки. Совершенно не ожидавший такой неучтивой выходки Горский прервался на полуслове, но когда Амуров вернулся, сделал выразительный жест официантке – та мигом притащила ему такую же рюмку «Синопской». Художник и куратор молча выпили, закурили и заказали еще по одной.
– Я потому так срочно попросил о встрече, – крякнув от мерзкого вкуса беленькой, доверительно сообщил Горский, – что мне необходимо сегодня же уяснить для себя некоторые вещи.
– Где Соня, я не знаю! – раздраженно буркнул Тимур.
– Понимаю. Но я вовсе не по этому поводу… – изображая на лице удивление, заверил Горский.
– А для чего же еще я вам понадобился?
– Сейчас объясню, – попыхивая сигаретным дымком, пообещал Андрей Андреевич. – Кстати насчет Сони. У тебя телевизор есть?
– А при чем здесь телевизор? – насторожился Тимур. – Вы еще кровать не вернули.
– Сегодня в два ночи по «Культуре» повтор репортажа про «Арт-Манеж», в том числе и интервью со мной, – похвастался Горский. – Посмотри, почерпнешь массу полезной информации…
– Почему вы так уверены?
– В чем именно?
– Да во всем этом! – презрительно воскликнул Тимур. – Ваша галерея, ваши репортажи, которые вы же и снимаете, все эти ваши зомбированные художники, этот ваш счастливый мир избранных и востребованных. Почему вы думаете, что мне будет интересно? Я не рисую, не выставляюсь и не бегу с вами в одной упряжке. К чему эта ваша забота о моей более чем скромной особе? Не понимаю. Вы что, пригласили меня, чтобы рассказать про свою передачу?
– Тебе не идет такое ерничанье, – с укоризной пожурил его Горский. – Мы знакомы уже пятнадцать лет, и я всегда считал тебя не только талантливым художником, но и своим личным другом. Что с тобой, Тимур? Чего ты так напряжен? Я просто хотел пообщаться.
– Вот как! Пообщаться? В двенадцать ночи? Скажите прямо, чего вам надо? Вы уже задурили голову моей девушке, в результате чего она ушла из дому и, вероятно, сошла с ума.
– Сошла с ума? – насмешливо воскликнул Горский. – Почему ты так решил? А если и сошла, при чем тут я?
– Ну как же? Ведь это после ваших курсов в нее вселился этот бес современного искусства. Наверняка именно вы и подучили ее бегать голой по Манежу. Воображаю себе, как проходило обучение! Не отпирайтесь, она бы сама никогда до такого не додумалась. Вы всех используете как пешек, а ваша школа просто калечит молодых людей, заставляя их участвовать в таких сумасшедших проектах.
– Очень захватывающее выступление, – с саркастической улыбкой перебил его Горский. – В целом совершенно правильное, за исключением тех мест, где ты намеренно смещаешь акценты и драматизируешь, превращая минимальную теоретическую подготовку в некую злокозненную интригу.
– Да так и есть! – запальчиво воскликнул Тимур. – Вы же там делаете роботов, выстругиваете им головы из бревен, а руки вставляете в жопу!
– Нет, это совершенно не так! И потом, прости, пожалуйста, к чему такая грубость? Разве я тебя чем-то обидел? Сотрудничество художников и нашей школы взаимовыгодно. Обычный союз творческих сил с научными знаниями – и ничего больше. Движущая сила художественной эволюции всегда опирается на предшествующий опыт, его попросту нужно знать.
– Андрей Андреевич, – устало прервал его Тимур, – основная проблема всех искусствоведов и кураторов – хронический словесный понос от плохопереваренной научной информации. Я не люблю заумные фразы, мне бы что-нибудь попроще.
– Можно и попроще, – спокойно согласился Горский. – Ты глубоко заблуждаешься насчет «Art-On». У нас учебное заведение, и мы действительно готовим своих слушателей по особой программе, но мы учим молодежь искусству, а не калечим души, как ты утверждаешь. А Соня твоя вовсе не сошла с ума, с чего ты взял? Она жива-здорова, и, более того, мне кажется, что ее ум сейчас как никогда светел. Еще вчера она была молодой и никому не известной художницей, а уже сегодня она на обложках всех изданий и перед ней открываются грандиозные возможности.
– Какие еще возможности? – начиная злиться, воскликнул Тимур. – На моих глазах Анапольский орал ей в лицо, что ноги ее больше не будет в галерее. Он наговорил такого, что я чуть не убил его.
– Это не так! – беспечно улыбнувшись, махнул рукой Горский.
– Нет, именно так! Вы сожрете ее так же, как сожрали всех до нее, и не подавитесь! – кипятился Тимур.
– Ты опять преувеличиваешь. Помнишь девиз школы Баухауз?
– Нет.
– «Искусству научить нельзя, но ремеслу можно».
– А при чем здесь Баухауз? – удивился Тимур.
– Работа нашего фонда тоже структурирована. Мы ищем молодых людей, обучаем умению мыслить и техническим основам современного художественного процесса, а потом продаем их работы. Это отработанная годами практика, настоящее производство, если угодно – технология. В результате мы не тратим время на бесплодные поиски, и галерея сразу получает новые имена. Это не преступление и не подлость! Галерея не богадельня, она продает искусство, а обычный принцип любой галереи – регенерация художников. Заметь – искусственная регенерация, так что я просто не принимаю всех твоих обвинений и могу списать их разве что на твою эмоциональную усталость.
– Может быть, и так, пусть будет усталость, – тихо согласился Тимур. – Списывайте на что хотите. Мне безразлично. Наверное, вы правы, я действительно отстал от времени, устал, пью и все такое, но я делаю это только потому, что сам так хочу, никто мне не указ, и я плевать хотел на все ваши правила.
– Поздравляю тебя. Так в чем же дело?
– Спасибо за поздравления, но это я хочу спросить – в чем дело? Что вам от меня надо? Тем более после всего, что произошло?
– Видишь ли, Тимур, – осторожно продолжил Горский, – развивать тему можно до бесконечности, но в этом нет никакого смысла. Правда, в которую ты отказываешься верить, заключается в том, что художник во все времена зависел от окружения и был абсолютно неприспособлен жить без своих заказчиков и покровителей. А современная молодежь, выросшая в век скоростей и информации, не желает годами жить в бедности, она хочет быстрой славы, признания и денег, потому охотно соглашается на патронаж фонда.
– Конечно! – с жаром воскликнул Тимур. – Те, в чьем сознании красота подменена уродством, кто не умеет работать ни руками, ни резцом, ни кистью, конечно же, нуждаются в системе продвижения производимого ими мусора через ваши галерейные залы.
– А ты вокруг себя много красоты видишь? – раздраженно осек его Горский. – Чего ты фарисействуешь? Современный человек вообще окружен одним лишь мусором. Такова наша жизнь. И красота, и мусор – всего лишь слова, означающие в наше время одно и то же.
– Для вас одно и то же.
– Хорошо, для нас, а для тебя нет. Тебя ведь не просят в этом участвовать. Ты зрелый и всем известный художник. Тебе не нужно посещать семинары, которые мы проводим для своих желторотых студентов, и не нужно слушать ученых советов. Делай что хочешь!
– Спасибо, что разрешили. И что же, по-вашему, я должен делать?
– Ты должен вернуться к живописи.
Удар, который нанес Горский, пришелся в самое больное место. Тимур нахмурил лоб и задумался.
– Я просто убежден, все эти недоразумения и личные переживания не должны заслонять от тебя главное – художник должен рисовать, – осторожно продолжил свои увещевания Горский.
– Ничего я вам не должен, – упрямо прошептал Тимур.
– Не мне – себе! Художник не должен прерывать свое творчество, не должен останавливаться, нужно все время работать.
– Не знаю, – устало и подавленно произнес Тимур. – Мне тяжело в последнее время. Я погружаюсь в ужасную депрессию.
– Тебе тяжело оттого, что ты не рисуешь, вот и мучаешься, – безжалостно добил его Горский. – И чем дольше ты будешь тянуть, тем тяжелее будет с каждым днем.
– Вот как? – горько усмехнулся Тимур. – Тяжелее с каждым днем? Да я и так уже ничего не чувствую, из меня давно весь воздух вышел.
– Работай! – с жаром накинулся на него Горский. – Не обманывай себя! Восьмидесятые прошли, девяностые тоже, время поменялось, и сейчас вокруг нас совсем другой мир. Да, он жестче, циничней, но в нем больше возможностей. Почти все твои ранние работы в музеях и частных коллекциях. Многие из тех, с кем я общаюсь, даже считают тебя гением, но даже это не может служить оправданием пустой траты времени.
– Так, значит, есть еще те, кому нравятся мои картины? – насмешливо воскликнул Тимур.
– Конечно, и немало. Но есть и те, кому плевать. А ты чего хотел? Нравиться всем?
– Ничего я не хотел, – махнув в себя рюмку водки, признался Тимур. – Все, что я делал раньше, мне наскучило, повторяться не могу, а то, что все делают сейчас, – смешно. Я не вижу ничего впереди. Одна муть.
– Ты спрашиваешь, зачем я просил тебя прийти? – неожиданно дотрагиваясь до его руки, спросил Горский. – У меня к тебе предложение. Я затеваю новый, на этот раз совершенно фантастический проект и приглашаю для участия самых сильных художников. Я предлагаю тебе участвовать.
Тимур недоверчиво усмехнулся.
– Нет! Нет! – замахал руками Горский. – Ты будешь общаться только со мной, и никто не будет тебе указывать или вмешиваться в твою работу, ты будешь совершенно свободен. Напиши ряд работ. Общее название проекта «Ярость». Я подготовлю выставку, напечатаем каталог, продадим картины, и тогда увидишь – твое самоощущение просто взлетит вверх. Ты смоешь всю эту старую шелуху и воспрянешь духом. Не спеши отказываться, подумай. Не стоит так пренебрежительно относиться к коммерческим галереям. Уже давно прошли те времена, когда иностранцы с пачками денег рыскали по мастерским и художники сами продавали свои работы. Сейчас торговля, которой ты так брезгуешь, смещена в галереи и художнику нужно только рисовать.
– Мне нужно вернуть Соню, – с болезненной безнадежностью признался Тимур.
– Не городи огород, – стараясь развеять его неуверенное состояние, с энтузиазмом воскликнул Горский. – А если тебе так до зарезу нужно ее увидеть, нет ничего проще – приходи завтра в галерею, Соня приедет в «Свинью» в девять вечера. Я приведу ее к тебе, если уж на то пошло, только соглашайся.
Тимур изумленно выпучил глаза.
– Приведете? Вы?
– Ну да! Штейн теперь у нас звезда, и мы будем заниматься ее продвижением. И пожалуйста, брось ты эти мрачные настроения. Все, что ты видел на выставке, всего лишь технологии современного перформанса. Ты же не обижаешься на театральных драматургов? Вот и здесь то же самое! Смотри веселей. Я же тебя знаю, ты весельчак по натуре. У тебя обычная творческая абстиненция. Начни рисовать, иначе действительно сойдешь с ума. Поверь мне – такие как ты засыхают без кисти в руке. Выпусти собственную ярость на холст, и ты заново переродишься.
На этом, как показалось Андрею Андреевичу, невероятно остром психологическом моменте он мгновенно покидал в портфель свои бумаги и, пожав сухой ручкой горячую ладонь Тимура, поспешно убежал. Как только за ним закрылась дверь, за столик к Тимуру подсели Митя Сотин, Иван Жеребов и Илья Камакин – неразлучная троица завсегдатаев «Гиперборея», старинные приятелей Амурова еще с юношеских лет.
– Кто тебя вялил? – густым басом затребовал отчета Митя Сотин, художник-нонконформист, великан в перепачканной масляными красками тельняшке.
– Да так, звали в светлую жизнь.
– Забудь, – наставительно загудел Сотин. – Светлой жизни не бывает, у нас тут всегда темно. Давай лучше выпьем.
– Выпьем? – задумчиво повторил Тимур. – А чего обмываете?
Илья Камакин, из-за своих усов карикатурно смахивающий на Сальвадора Дали, состроил глумливую рожу.
– Сотин отца своего покрестил.
– Да уж, – задумчиво поглаживая себя по огромному лбу, признался Сотин. – Дожили мы, господа сакральные подонки, докатились. А что оставалось делать? Раз уж нас всех без спросу сделали душеприказчиками этой Богом забытой земли, чего же мне не стать крестным отцом родного папаши? Вся сущность нашей мерзкой планеты – убиение и пожирание, а тут еще типический конфликт отцов и детей. Ежли б я его в храм не свел, может, он и не жил бы теперь.
– А я этого хлыща знаю, – откупоривая принесенную из ночного магазина бутылку коньяка, вернул всех к предыдущей теме Камакин. – Куратор из «свинищи», искусствоведишка, словоблуд. Похотливый дедок, между прочим, любит малолеточек окучивать.
Услышав про малолеток, Тимур встрепенулся и напряженно уставился на Камакина.
– Каких еще малолеточек?
– Да студенток своих, – охотно сообщил Камакин. – Чего предлагал-то? Грант распилить?
Камакин засмеялся, а Тимур изменился в лице и сжал под столом кулаки. Ему вдруг представилось, что желчный Камакин совершенно не случайно упомянул про окученных студенток любвеобильного Горского.
– Да ладно, не хочешь, не говори! Нам чужие секреты не нужны! – с деланным равнодушием прибавил Камакин.
– Ну не томи, разливай! – прикрикнул на него Сотин. – Пора увлажнить потроха.
Когда Камакин наконец закончил свои манипуляции с бутылкой, тощий график Жеребов поднял налитую до краев рюмку и, капая себе на брюки коньяком, радостно заявил:
– Действительно, плюнь ты, Тимоша, на «светлую жизнь», у нас тут своя тусовка! Не хуже всего остального. Плюнь, не думай. Все вокруг выставляют одинаковое говно и чувствуют себя прекрасно. В этом и заключается потерянный нами кусок истины, который мы ищем всю жизнь.
Тимур угрюмо взглянул на философствующего Жеребова, но ничего не ответил. Художники дружно выпили, и Камакин, насвистывая популярную песенку, принялся разливать по второй.
– А ты чего? – удивился Сотин, видя, что Тимур по-прежнему нерешительно греет свою рюмку в руке.
– Да чего-то не лезет, – подавленно признался Тимур. – Пейте сами.
– Э, братишка, да ты совсем плох, – засокрушался Сотин. – Прямо меланхолик какой-то, того и гляди заплачешь или начнешь читать стихи. Жеребец прав – плюнь и разотри.
– Ну чего привязался к человеку? – с вызовом заявил Жеребов. – Не слушай его, Тимоша. Искусство – оно своим, ну, как бы хрен его знает каким способом рано или поздно всех нас приводит к пониманию жестокости этого долбаного мира.
– Так ты же мне сам вчера ныл всю ночь, что запутался в трех соснах! – возмутился Сотин.
– Ничего я такого не говорил.
– Говорил, не говорил, – перебил его Камакин. – Какая разница? Искусство из всех обманов наименее лживое, а эти искусствоведы только всё портят.
Жеребов энергично затряс головой, не соглашаясь с высказанной доктриной.
– При чем здесь лживость искусства? Я вот, например, стихи тоже читаю, правда только по пьянке. Так чего ж мне теперь не думать о творчестве?
– Да с чего это человек нормальный начнет читать стихи? – отрезал Сотин и загоготал во всю глотку.
Когда приступ его веселья сошел на нет, он вновь подступился с расспросами к Тимуру:
– А может, ты из-за своей мамзели киснешь? Да ладно, не ври, мы знаем! Лихо она голышом разбомбила буржуям весь праздник. Видели, загляденье. У-ха-ха-ха! Вот до чего доводит художника светлая жизнь!
Тимур зло поджал губы, нахмурился и почувствовал не предвещающий ничего хорошего прилив гнева.
– А мы тоже чувствуем себя миллионерами! – заявил товарищам Камакин, с вызовом поглядывая на Тимура. – Что нам эта «Свинья»? Я совершенно сознательно посвятил свою жизнь этому оплакиваемому труду, поэтому легко могу прожить и на пятьдесят долларов в месяц! Галерея мне не нужна! Были бы хорошие краски, сигареты и вода в кране. Для меня гораздо важнее духовная атмосфера и условия, в которых я работаю.
– А вот и нет, дружочек! – азартно втягиваясь в рассуждения, возразил ему Сотин. – Творчество, оно как понос – не зависит от условий. Если уж пошло, то его уже ничем не остановишь!
– Дурак ты, Митя! – обиделся Камакин. – Цветоаномал безглазый. У тебя действительно один понос по холстам размазан – ни фактуры, ни глубины, ни света. Какие-то кучи масла. Знаешь, на что похожи?
– Все друг друга не понимают! – примиряющим тоном объявил Жеребов.
– Ха, я, может, и цветоаномал, но не дурак! – ничуть не обиделся неунывающий Сотин. – Просто я пытаюсь состыковать позитив и негатив в своих картинах. Другое дело, удается или нет! А напряжение света в моих работах существует, только его не всем видно…
Художники опять выпили, закурили, и тут Сотин хлопнул Камакина по плечу.
– Вся наша жизнь – движенье событий по кругу, лично я становлюсь от этого только умнее. А насчет галерей ты прав – все зло от них.
Камакин согласно закивал головой и, саркастически глядя на Тимура, добавил:
– Истинно так, батюшка. Все богатенькие галереи – дерьмо собачье.
– Верно, верно! – поддакнул Жеребов. – Сутенеры. На кой они нам. Я сам себе доктор и сам режиссер.
– Знаете что, – звенящим от напряжения голосом вдруг включился в дискуссию Тимур.
– Что, дорогой? – навострил уши Жеребов.
– Пошли вы на хер со своими нравоучениями.
– У-у-у! – дурашливо завыл Сотин. – Обидели мальчика.
Тимур отодвинул от себя так и не выпитую рюмку и встал.
– Можете пить в этом подвале паленую «конину» и воображать, что тонко чувствуете свет и композицию, можете обсасывать свои никому не нужные картины, но какого черта вы всю эту чушь рассказываете мне? Я знаю вас уже сто лет, и меня давно тошнит от вашего жалкого пафоса.
– Да брось ты, Амуров, – брезгливо скривился Камакин. – Тоже мне выискался Рафаэль. Тебя поманила богатая «свинка», так ты уже и хвост на друзей подымаешь? Ну ты и говно!
– Эй! Эй! – загудел Сотин. – Чего вы сцепились?.. Сменим тему…
– Что ты сказал?
– Ты прекрасно слышал, что я сказал, – с вызовом ответил Камакин. – Ты из такого же теста, как и мы, так что нечего тут белую кость разыгрывать. А может, бесишься, потому что твоя подружка тебя обскакала? Так зря, нам всем понравилось, я даже снял ее выступление на телефон, могу скачать…
– Да будет вам.
– А чего? Хороший ход! – не унимался Камакин. – Зачем рисовать с такими сиськами! К чему все эти мудреные сложности, свет, фактура, композиция, когда можно просто снять трусы и попрыгать перед зрителями…
Тимур не стал дослушивать. Вложив всю свою боль и ненависть в удар, он резко размахнулся и со всего маху припечатал Камакина в правую скулу. Стул, на котором вальяжно развалился Камакин, опрокинулся, и обидчик упал, задрав ноги. Бутылка коньяка подпрыгнула и опрокинулась, Жеребов закрыл лицо руками, все вокруг ахнули, после чего на какой-то миг в «Гиперборее» стало абсолютно тихо.
– Ты чего делаешь, гад! – изумленно воскликнул Сотин, подымаясь и отряхивая свои пропитавшиеся коньяком брюки. – Совсем взбесился?
Тимур не ответил. На помощь стонущему под столом Камакину поспешно бросились несколько друзей. Совместными усилиями художники подняли поверженного на ноги и, поддерживая его под локти, опасливо уставились на Тимура.
– Что с вами, Амуров? – затребовала ответа подоспевшая к месту событий седовласая хранительница «гиперборейского» очага, Вера Андреевна Штиль. – С какой это стати вы бросаетесь на друзей? Что за дикость?
– Он мне не друг.
– Вот как? С каких пор?
– Подите вы от меня со своими расспросами!
Уперев руки в бока, Вера Андреевна набрала полную грудь воздуха.
– Хам! Вот бы никогда не подумала. Подите вы сами отсюда и никогда больше не возвращайтесь! Надо же…
Окинув всех бешеным взглядом, Тимур оттолкнул ногой стул и развернулся, чтобы уйти, но тут его ухватила за плечо могучая лапа Сотина.
– Постой, братишка! Мы, конечно, не такие крутые и дороже двухсот рублей коньяк не покупаем, но ты нам испакостил вечер! Извиниться не хочешь?
Вместо ответа Тимур со всего маху толкнул здоровяка Сотина двумя руками в грудь, тот потерял равновесие и под общий возглас ужаса упал на стол. Ножки с хрустом подломились, посыпались рюмки, и, нелепо растопырив руки, Сотин с диким грохотом рухнул на пол.
– Не лезь ко мне! – заорал Тимур, хватая стул и поднимая его над головами изумленных художников. – Или я проломлю тебе голову!
– Идиот ненормальный, – испуганно прошептал кто-то в толпе. – Напился до чертиков…
Тимур опустил стул, толкнул плечом бледного Жеребова и покинул помещение.
– Грязный притон, – с ненавистью прошипел он себе под нос.
Все события последних трех дней, которые довели его до подобного бешенства, слились в одно простое и невероятно важное решение.
– «Ярость»? – спросил он сам у себя, выбираясь из подвала на улицу. – А почему бы и нет!
Быстрым шагом он пошел по улице. Прохладный воздух ночи постепенно остудил его голову, Тимур стал оглядываться и вдруг осознал, что впервые за эти дни улыбается. Мимо проносились машины, по тротуарам шла веселая молодежь. Проскочив отрезок Невского от Литейного до Маяковской, Тимур свернул на улицу, ведущую к «Свинье», и от неожиданности остановился. Улица освещалась красными всполохами пожарных машин. Мимо с воем пронеслась карета «скорой помощи». Перед галерей стояло оцепление из милиции, бегали пожарные, а из окон самой галереи валил черный дым.
15
Был почти час ночи, когда шумная компания американцев решила вернуться в «Гранд-отель» и, громко разговаривая, стала собирать свои вещи. За ту пару часов, что они провели в мастерской Близнецов, водитель дважды съездил в магазин, и каждый раз он возвращался на Каменный остров с внушительным запасом вин и коробкой горячего фастфуда. В результате стихийно возникшей вечеринки чопорные музейщики так развеселились, что господа «сняли галстуки», дамы отбросили официальный тон, все демократично попивали из пластмассовых стаканчиков и, разбившись на группки, непринужденно общались друг с другом. Руф Кински, с лица которой теперь не сходила счастливая улыбка, пребывала в прекраснейшем настроении. Она не отходила от Близнецов, собственноручно показала сайт своей галереи, горячо говорила о ждущем их успехе, а в конце вечера подарила целую стопку каталогов и долго поясняла, кто есть кто в этих прекрасных изданиях. Для того, чтобы ее понимали коллеги, Руф говорила по-английски, Микимаус нудным голосом переводил, художники доверчиво слушали, улыбались и млели, а лысая Анжела Мак Квин беспрерывно фотографировала их трогательно-растерянные лица. Таким образом, атмосфера в особняке сложилась самая умиротворяющая. Странный и эмоциональный демарш русского галериста по понятным соображениям никто не вспоминал – «бизнес есть бизнес», но по общему веселью, царившему в стане кураторов, было ясно – заокеанские гости ничуть не обескуражены, и даже напротив, чрезвычайно довольны одержанной победой.
Когда наконец дамы разыскали свои сумочки, а мужчины пиджаки и записные книжки, гости, громко смеясь, вышли на улицу. Прекрасная летняя ночь волшебным образом зачаровала захмелевших иностранцев. Высоко-высоко, в черной пустоте северного неба, над электрическим сиянием спящего Петербурга, безмятежно мерцали ослепительные звезды. Напоенный близостью Невы, воздух благоухал ночной свежестью и, казалось, был соткан из тончайших запахов полевых трав, в густых кустах цветущей сирени заливисто пел соловей, и где-то совсем рядом в ночной тишине парка как-то особенно трогательно, будто в деревне, лаяли собаки.
Пока, залюбовавшиеся непривычными для шумного города красотами, кураторы докуривали свои сигары, Микимаус улучил минуту, взял самого трезвого из братьев под локоть и шепнул на прощанье:
– Даже не ожидал от вас такой прыти. Поздравляю.
Михаил сделал сконфуженное лицо и робко попытался возразить:
– Ну что вы.
Микимаус каверзно улыбнулся.
– Все правильно. Пройдет время, прежде чем вы почувствуете разницу, но уверяю – она будет ошеломляющей. Эти люди, – тут он еле заметным жестом указал на столпившихся перед автобусом американцев, – определяют моду в современном искусстве.
На этот раз Михаил предпочел промолчать и с интересом уставился на своего нового и такого проницательного знакомого.
– Я возвращаюсь в Нью-Йорк по делам, – доверительно продолжил Микимаус. – Буду рад нашей встрече в Штатах. Думаю, теперь мы встретимся уже в самое ближайшее время. А до той поры прощайте.
– Спасибо. Вы даже представить себе не можете, как изменил нашу жизнь ваш визит, – взволнованно зачастил Михаил. – Мы здесь как в тюрьме, к нам никого не допускают, ни одного человека.
– Охотно верю.
– Мы едва тут не сошли с ума за два года…
– Мои дорогие! – подошла прощаться Руф Кински. – Спасибо за прекрасный вечер. Послезавтра в галерее мы закончим все наши формальности.
Она поочередно прижала к груди каждого из братьев и после нежного прощания вошла в автобус. Покровительственно поглядывая на смущенных художников, гости пропели радостное «Бай! Бай!». И погрузились следом. Мягко шурша шинами, автобус надежды мгновенно уехал. Еще с минуту братья стояли у калитки и смотрели, как дрожат в ночи удаляющиеся огоньки его стоп-сигналов, а когда красные точки пропали, Илья с тяжелым вздохом уселся на корточки.
– Это мне снится? – устало спросил он. – Если я сплю, то разбуди меня.
Михаил и сам валился с ног. Прислонившись спиной к прохладному каменному забору, он задрал голову к небу и, сощурившись, посмотрел на горящий над головой уличный фонарь. Любимый с детства калейдоскоп: свет мощной лампы, сжимаясь до размера точки, начинает сиять диковинной звездой с яркими, тянущимися во все стороны лучами.
– Если честно, я так рад, что они уехали, – признался он брату. – У меня уже голова начала отключаться. Кински беспрерывно говорит и говорит, нужно что-то отвечать, а у меня все плывет в глазах и ни одной мысли в голове. Я столько за всю жизнь не улыбался. Даже скулы болят. Плохо, что мы с тобой ни слова не знаем по-английски.
– Почему плохо? Может, и хорошо, – заплетающимся языком возразил Илья. – Я так напился!
– Я тоже.
– Меня чуть не вырвало.
– Я же говорил, не пей! Представляешь, если бы ты там наблевал? Дурак, ведь все бы испортил.
– Эта жуткая баба с фотоаппаратом… – начал оправдываться Илья. – Я вдохнул ее парфюм и едва добежал до ведра…
– Ну и как? Полегчало?
– Мне полегчает, если ты пообещаешь, что мы никуда не поедем.
Михаил подхватил брата под локти и рывком поставил на ноги.
Нетвердым шагом они вернулись в дом и очутились в прокуренной мастерской. Пошатываясь и шаркая ногами, Илья доплелся до своего любимого кресла и в изнеможении упал в его мягкую массу. Запрокинув голову, он сонно осмотрел помещение. На всех стенах висели их ранние работы, на станке в центре комнаты сох последний холст «Картины Жизни». В глаза бросался непривычный бардак: всюду винные бутылки, мусор, а на столе с красками среди кистей, пустых банок и прочей дряни – неизвестно кем оставленный желтый чемоданчик.
– Америкосы так нарезались, что портфель забыли! – потягиваясь всем телом, сообщил он брату.
– Не-а, – с насмешкой в голосе ответил Михаил. – Ты чего, не понял, что произошло?
– Ничего я не понял, – устало буркнул Илья.
Михаил подошел к столу, взял кейс в руки, отстегнул замочки и, радостно улыбаясь, высыпал на колени брату целую кучу банковских пачек. От неожиданности Илья подскочил, как будто увидел змею. На его смертельно бледном от затянувшейся пьянки лице ожили изумленные глаза. Деньги кучей свалились к его ногам, и их оказалось так много, что Илья сделался неспокоен. Он стал поочередно хватать пачки, махал ими в воздухе, подносил к ушам, заламывал и с безумным выражением лица слушал, как фыркают новенькие банкноты.
– Это что? Это что? – твердил он без остановки. – Это что? Это наше? Да?
– Наше, – любуясь полученным эффектом, успокоил его Михаил.
– Дольф, да? Глазам не верю. И что нам с ними делать?
– Мы едем в Америку.
Илья как-то сразу сник, уронил голову на грудь и, пытаясь не смотреть брату в глаза, нерешительно произнес:
– А что мы там забыли?
– В каком смысле? – удивился Михаил. – Мы свободны!
– Свобода? – зло засопел Илья. – А на кой она мне нужна?
– Не дури. Что у тебя здесь было? Что? Ну сидел ты сутками в темноте и, не разгибая спины, переносил через эпидиаскоп картинки. Потом мы до одури красили холсты…
– Но я ничего другого не умею.
– Тогда тебе и волноваться нечего. «Картина Жизни» – не творчество. Тупая работа, на которую нас наняли. В Америке все будет иначе! Да ты пойми! Штаты – огромная страна, и там любят настоящее искусство. Там тебя никто не заставит срисовывать картинки из журналов. У нас будет мастерская, будем выдумывать свои сюжеты.
– Да какая разница, что рисовать? Мне и здесь платят. Смотри, сколько денег дали, – неуверенно сопротивлялся Илья.
– Да разве это деньги? – победно улыбнулся Михаил. – Так, жалкие крохи. Наши картины уже сейчас стоят сотни тысяч. В Америке у нас будут миллионы!
Михаил в волнении схватил со стола один из подаренных каталогов и сунул его в руки брату.
– Посмотри на этих художников. Ну посмотри! Кто они? Один из Эквадора, другой голландец, третий из Сомали. Весь мир ищет славы в Америке. А мы что, хуже? Почему нет? Поехали! Там рестораны, клубы, будем работать, будем путешествовать по миру, тусоваться…
– Я не люблю тусоваться, я боюсь людей.
– Ну и сиди в этой дыре до конца жизни! – рассердившись, закричал на него Михаил, но тут же сменил тон и мягко, без нажима стал продолжать увещевания: – Неужели тебе не хочется самому решать, что рисовать и что делать?
– А как же Дольф? Что он скажет?
– Дольф? – фыркнул с усмешкой Михаил. – Жаль, ты не видел, как он побежал, когда понял, чем закончится ссора с этой дамочкой.
– Не видел.
– То-то!
– И как же мы поедем?
– Не бойся, – воодушевленно заверил Михаил. – Я еще весной заказал нам паспорта в тур-фирме. Если честно, Кински предложила мне подумать насчет переезда еще год назад. Я просто не говорил тебе, чтобы ты не волновался. Понимаешь, деньги, которые мы там получим, даже не самое важное – там шикарные условия. Лос-Анджелес – огромный город, в котором живут все звезды шоу-бизнеса, и он абсолютно помешан на искусстве, а у этой тетки самая крутая галерея, в которой выставляются все крупнейшие художники. Ты даже не можешь себе представить, какая у них коллекция двадцатого века! Боже, я как подумаю о таких возможностях, у меня дух захватывает. Я видел фотографии мастерских, в которых живут ее художники: там вид на океан, ты знаешь…
– Постой! – подняв указательный палец, перебил его Илья.
– Что?
– Кто-то звонит в дверь? Или мне кажется?
– Наверное, эти олухи все же что-то забыли. Открой им и возвращайся поскорее. Мне просто не терпится тебе все рассказать.
Илья нехотя поплелся открывать, а Михаил торопливо стал сгребать ногой кучу разбросанных денежных брикетов поближе к креслу. Перед ним лежало целое состояние. Он пересчитал пачки, потом мысленно умножил их количество на сумму в одной пачке и вычислил потрясающую воображение цифру. С такими деньжищами можно легко начинать новую жизнь, и не только в Америке. Михаил с наслаждением плюхнулся в любимое кресло брата, потянулся всем телом и счастливо улыбнулся.
– Ну, что там? – весело закричал он Илье.
– Сейчас! – донеслось до него из прихожей.
Илья взялся за ручку и открыл замок. Последнее, что он увидел, был вылетевший из темноты кулак. С жутким костным хрустом нос проломился, кровь брызнула на толстовку, Илья вскрикнул и лишился чувств.
16
– Разойдитесь, разойдитесь, – гнусавым голосом повторял молоденький сержант, следивший за тем, чтобы толпившиеся на тротуаре зеваки не подходили слишком близко.
С важной ленцой милиционер прохаживался вдоль гудящих от напряжения мокрых шлангов, которые, как сытые питоны, плавными извивами уползали в распахнутые настежь двери галереи. Где-то в глубине здания все еще шипели струи, стучали топоры и слышались возгласы. Газончик перед входом в «Свинью» был залит водой и начисто вытоптан сапогами, повсюду в этом зеленом месиве валялись битые стекла, легкий ветерок носил по тротуару разноцветные бумажки и легкомысленно развевал на фасаде оборванное полотнище рекламного баннера. Но суета и беспорядок на улице были лишь прелюдией к тому жуткому разгрому, который творился внутри. Пожарные уже установили переносной свет, и с тротуара было прекрасно видно, что в галерее выбиты стекла, а внутри она черна как сажа. Пламя, очевидно вспыхнувшее где-то во внутренних помещениях, успело обуглить только часть паркета и частично уничтожило мебель, но оно самым жутким образом закоптило белоснежные стены и потолок хорошо известного в городе выставочного зала. После того как огнеборцы окончательно придушили все очаги возгорания и, вылив несколько тонн воды, превратили галерею в парящую вонючим дымом баню, в обезображенных залах появились люди в серых погонах. Дознаватели сразу начали деловито осматриваться и разгребать кучи обгоревших предметов. Когда находили что-нибудь интересное, то подолгу совещались, фотографировали, показывали понятым, а после приобщали всю добытую информацию к делу. В том, что это «дело», и «дело» уголовное, теперь уже никто не сомневался – основной свидетель, он же пострадавшее лицо и, собственно, владелец уничтоженной галереи, находился рядом, в машине «скорой помощи». Врач в голубом костюмчике поспешно накладывал швы на его рассеченную лысину. Дольф лежал на жестком топчане и тяжело дышал. Руки его были сжаты в кулаки, рубашка чуть пониже ворота разорвана и вся заляпана кровью, а на красном от побоев лице вспух огромный, закрывший весь правый глаз, синяк. Врач изо всех сил старался поаккуратнее сшить сильно кровоточившую рану, молоденькая сестричка протирала перекисью царапины, а у отрытой двери медицинской кареты стоял капитан милиции и, не обращая внимания на хирургические процедуры, допрашивал пострадавшего.
– Итак, вы говорите, они избили вас и ничего не взяли? – равнодушным голосом допытывался капитан, как будто речь шла о вполне заурядном событии. – Вон у вас одни часы какие, небось бешеных денег стоят?
Дольф тряхнул рукой и машинально взглянул на часы. Кварцевое стекло швейцарского хронометра от удара покрыла причудливая сетка трещин, но часы продолжали идти и показывали час ночи.
– Ничего я вам не говорю! – зло выкрикнул он.
– Успокойтесь, вам нельзя волноваться, – кладя ему руку на плечо, посоветовал врач.
Заканчивая болезненную для пациента процедуру, он строго обратился к капитану:
– Я могу разрешить вам еще всего несколько вопросов. Возможно, есть сотрясение мозга. Ему нужен покой.
– Хорошо, хорошо! – небрежно бросил капитан. – Тогда еще раз, и максимально подробно – что произошло после того, как вы вернулись? Не пропускайте ни одной мелочи! Важно понять, что можно сделать прямо сейчас, по горячим следам. Около полуночи вы прибыли один и прошли в офис, не закрыв входную дверь? Так? Я вас правильно понял? Что произошло дальше?
Врач обрезал лишние нитки, обработал края раны, убрал с груди пострадавшего салфетку и помог ему подняться. Избитый мужчина с трудом сел и, тяжело дыша, похлопал себя по карманам.
– Хотите курить? – угадал капитан, протягивая ему дешевые сигареты.
В знак благодарности Дольф качнул головой, воткнул сигарету в разбитые губы и с наслаждением погрузился в облако табачного дыма. Капитан воспользовался минуткой и снова просмотрел свои записи.
– Их было трое, и они почти не разговаривали, – стал проговаривать он детали прозвучавших ранее показаний. – Имен не называли, двое били вас, а третий крушил компьютеры и затем поджег ворох рекламных плакатов. Так?
Дольф безучастно кивнул головой. Ситуация, в которой он оказался, и его личное самочувствие были настолько отвратительными, что Дольф только горько усмехнулся, представляя себе весь ужас свалившихся на его голову бед. Однако ухмыляться с разбитым лицом и штопаным затылком очень больно – вместо улыбки вышла искаженная болью гримаса.
– Чего же они от вас хотели? – допытывался капитан.
– Послушайте, Трушевский…
– Грушевский, – поправили его.
– Хорошо, Грушевский. Когда эти люди вошли, мне даже показалось, что они по делу…
– Что значит – по делу? Какому делу?
– Ну, просто по делу, – раздраженно махнул рукой Дольф. – Одеты прилично, в костюмах. И не в дешевых, впрочем, я не помню, все произошло так быстро…
– Была полночь?
– О времени я как-то не подумал, а удивляться было некогда. Один сказал: «Здравствуйте», а другой тут же ударил меня в лицо.
Капитан зачирикал в своих листочках, а врач накапал в стаканчик валерьянки, плеснул воды и протянул его Дольфу.
– Он называл вас по имени? – не отрываясь от текста, спросил капитан.
– Кажется. Да, точно, назвал. Один из них сказал: «Здравствуйте, Рудольф Константинович».
– Так, а что в это время делал третий?
– Не помню.
– Хорошо, что было дальше?
– Дальше ничего хорошего не было. Двое просто принялись меня избивать. Не спеша, по очереди, в какой-то момент один из них ударил меня сзади чем-то тяжелым по голове, наверное факсом, после чего я упал и уже ничего не помнил. Когда я очнулся на полу, в офисе – жутко воняло горелой пластмассой, я распахнул дверь и увидел посреди экспозиции костер из картин и мебели. Помню, что схватил огнетушитель, однако струя оказалась такая слабенькая, а дым сделался такой вонючий, что я кинулся к дверям, но они были подперты снаружи. Честно говоря, я совсем растерялся. Единственное, что я знал точно, – потеряю сознание, если не выберусь наружу. Я выбил огнетушителем стекло и полез в окно. Все было как в тумане, кружилась голова, уже на улице какие-то прохожие вызвали пожарных.
– Кстати, а что вы так поздно делали в галерее?
Дольф потер рукой лицо и, мучительно поморщившись, стал вспоминать события минувшего часа.
– Что я тут делал?
– Да, что вы ночью тут делали? – повторил свой вопрос капитан. – Ведь галерея не работает ночью? Или я что-то путаю?
– Действительно. Что я здесь делал?
Дольф, раскачивая перевязанной головой, стал вспоминать.
– Я приехал от своих художников и собирался посмотреть, все ли в порядке… Ах ты… Боже!!! – побледнев и испуганно округлив глаза, прошептал Дольф.
– Что? – встал в стойку капитан. – Вы что-то вспомнили? Говорите!
– Так это же они и есть! – возопил Дольф, вскакивая на ноги.
– Кто они?
– Ну, эти психи, националисты, которые были на выставке.
– Так, вот с этого места подробнее, кто был, на какой выставке…
Дольф вне себя от волнения выскочил из машины «скорой помощи»:
– Как я сразу не понял, что это месть за картину!
В это же мгновение посреди проезжей части затормозила легковая машина с логотипом федерального телеканала, из нее в спешном порядке стала выгружаться съемочная группа. В считаные секунды телевизионщики вытащили весь свой скарб, установили камеру, зажгли свет и стали снимать происходящее. Капитан захлопнул папку и выразительным жестом потребовал от подчиненных убрать прессу. Два смущенных сержанта вяло пошли представляться.
– Так, быстро, в трех словах, – снова насел на Дольфа капитан, пытаясь завладеть вниманием впавшего в истерическое волнение пострадавшего. – Какие националисты? Кто хочет мстить? Говорите конкретнее.
– Наши художники нарисовали картину, – запинаясь, начал пояснять Дольф. – Но из-за этой чертовой картины разразился скандал, и, как нам стало известно, какие-то уроды собрались отомстить.
– А где живут эти художники?
– На Каменном.
– Точнее?
– Чернопрудный канал, подъезд с Семеновской линии, дом семь, особняк нашего фонда…
Капитан посмотрел на часы и выхватил у одного из своих подручных рацию.
– Срочно наряд на Каменный, Семеновская, семь, есть ориентировка, возможен криминал.
17
Тьма, в которой бесконечно долго не существовало никаких мыслей, никаких звуков и ощущений, вязкая, бесчувственная пустота, заполнившая покинутое сознанием тело, неожиданно сменилась тупой болью, ознобом и солоноватым вкусом чего-то теплого во рту. Илья разлепил глаза, с трудом приподнял голову и понял, что лежит на полу в мастерской, лицом в вытекающей из раздувшегося носа лужице крови. По мере того, как к нему начала возвращаться способность думать и что-то понимать, боль стала заполнять все уголки сознания и очень скоро раскаленным гвоздем нестерпимо принялась жечь ему переносицу. Он со стоном перевернулся на спину, приподнялся на локтях и осмотрелся. Комната как будто кружилась, в ушах шумело, в глазах плыли цветные пятна. Самое огромное из них внезапно превратилось в человека, с интересом рассматривающего его беспомощное положение.
– Доброе утро, малыш! – с улыбкой поприветствовал склонившийся над ним незнакомец в белых джинсах и черной футболке, обтягивающей атлетический торс. – Как самочувствие?
Бодрая простота этой фальшивой заботы так напугала Илью, что он почувствовал холод внизу живота и, ожидая чего-то еще более худшего, испуганно зажмурился. Однако ничего страшного не произошло – ужасный незнакомец со смехом перешагнул через распростертое на полу тело и, деловито осматриваясь, подошел к рабочему столу.
– О, бутерброды! – весело воскликнул он, вытряхивая из картонной коробки запаянный в пластик сандвич. – Ты будешь? – участливо поинтересовался у сидящего в кресле Михаила, но ответа не получил.
Илья повернул голову и увидел брата. Михаил сидел неподвижно и был бледен как мел. Второй неизвестный, стоявший рядом с ним и рассматривавший картины на стенах, раздосадованно произнес:
– Глупо все это. Не понимаю!
Мужчина приблизился к Илье. Одет он был в приталенный светло-серый костюм и белую рубашку, глаза скрывали черные очки, на ногах были элегантные туфли, а на руках, несмотря на теплую погоду, – лайковые перчатки.
– Я действительно не понимаю, – повторил он, наклоняясь и брезгливо разглядывая изуродованный нос художника. – Как вам такое могло прийти в голову? Ведь это просто нахальство.
Илья затрясся от страха и неожиданно вспомнил, где он видел этого господина, а вспомнив, с ужасом осознал, что перед ним не кто иной, как владелец их фонда, тот самый шикарный богач, который приходил однажды в мастерскую. Так и есть, это он, вне всяких сомнений! Пораженный открытием, Илья ошарашенно уставился на Тропинина и тяжело задышал.
– Что вы на меня так смотрите? Удивлены?
Не дождавшись ответа, Тропинин покачал головой и вернулся к Михаилу:
– Итак, вы мне не ответили. Вы же тут самый смышленый?
– Что вы еще хотите услышать? – угрюмо буркнул Михаил.
– Не кажется ли вам странным, что двое несчастных сирот, приехавших в город из глухой провинции, в невероятно малый срок становятся самыми известными художниками страны? Перед ними открываются все двери, их имена у всех на слуху, люди неожиданно соглашаются платить за их творчество бешеные деньги. Ажиотаж и сенсация! Успех такой, что просто дух захватывает! Похоже на чудо!
– Вас послушать, так мы тут как мусор придорожный, – безбоязненно огрызнулся Михаил. – А вы – добрые дяди, которые нас помыли, почистили и привесили ярлычок с ценой. А ведь мы не мусор! Мы хоть и провинциальные сироты, но художники!
– Речь не о том, кто вы такие! – резко оборвал его Тропинин. – С этим все более-менее ясно. Я спрашиваю – какая сила привела вас на самый верх успеха?
– А вам не приходило в голову, что все дело в таланте? Мы два года работали не разгибая спины и получили результат.
– Верно, верно! – весело оживился Тропинин. – Труд, усердие и, конечно же, талант. Ваш талант, надо полагать?
– Да, наш.
– Вот, значит, как! А я еще надеялся, что вы сейчас скажете «наш с вами». А как же десятки других людей? Где опыт, авторитет галереи, где массированная реклама, где наши коллекционеры, научные статьи, выставки, где, наконец, мои личные связи и большие деньги, которые я вложил в этот проект?
– Я так и знал, что вы за ними пришли! – криво усмехнулся Михаил. – Можете их забрать!
Опустившись на колени, он стал поспешно складывать разбросанные по полу пачки долларов в валяющийся рядом чемоданчик. Тропинин с отвращением понаблюдал за его действиями, после чего кивнул Сергею – тот подошел сзади, ухватил художника за волосы и могучим рывком вернул его обратно в кресло. Михаил взвыл от боли и схватился руками за голову.
– Не суетись, послушай лучше, что тебе говорят, – добродушно предложил Сергей.
Лицо Михаила сделалось злым, как у маленького хищника. Шмыгая носом, он яростно стиснул кулаки и с ненавистью посмотрел на улыбающегося здоровяка.
– Неужели все нужно объяснять только такими безобразными методами? – начиная раздражаться, повысил голос Тропинин. – Нужно поистине ангельское терпение, чтобы сносить ваши выходки. Действительно, будет лучше, если вы посидите и послушаете, а то мы и до утра не закончим.
Он кивнул еще раз в сторону пригорюнившегося Ильи. Сергей мигом перетащил несчастного страдальца поближе к креслу брата. Илья обнял ноги Михаила, прижался к его коленям лицом и жалобно заплакал.
– Итак, договорим! – не обращая внимания на душераздирающую сцену, продолжил Тропинин. – Налицо ситуация, в которой нарушен паритет наших рабочих отношений. Лично меня такое положение дел не устраивает. Ситуация глупая и настолько безнравственная, что вам придется очень постараться найти из нее выход. Что-то мне подсказывает – теперь даже эти деньги вам не помогут. Вы оказались в очень сложном положении и сами того не осознаете, что вокруг вас происходит. Так что поверьте, будет только лучше, если вы сейчас перестанете выпендриваться и начнете слушать. Мое терпение не безгранично, а вы и так уже зашли слишком далеко.
– Если вам не нужны деньги, – злобно шипя, перебил его Михаил, – тогда чего же вы от нас еще хотите?
– Наконец-то вопрос по существу.
Тропинин подошел к нему вплотную, снял очки и испытующе посмотрел в глаза.
– Я пришел предъявить свои права!
Какие-то мгновения ошарашенный Михаил пытался выдержать его холодный, как сталь, взгляд, но потом смутился и потупил глаза.
– Вы целиком и полностью принадлежите мне! – презрительно продолжил Тропинин. – Проект «Картина Жизни» – мой бизнес, и я вложил в него очень много денег. Я хочу, чтобы вы это поняли, и, поверьте, будет лучше, если вы осознаете свое положение. Есть единственное объяснение этой нелепой ситуации – информационный вакуум, в который вас погрузила галерея. Как видно, от долгого пребывания в сытой изоляции у вас сложилось неправильное представление об окружающей действительности, вы начали делать ошибочные выводы и самостоятельно строить далеко идущие планы. Это и есть ваше главное заблуждение и нелепая ошибка.
Михаил покачал головой и бесстрашно усмехнулся.
– Вам что-то кажется забавным? – грозно сверкнул глазами Тропинин.
– Вы можете забрать все наши картины, и даже деньги, можете бить нас, но мы вам не принадлежим. Такого уговора не было.
– Как физические лица вы никого не интересуете. Но как художественный проект – вы собственность моей компании. Все очень просто, мы искали художников и выбрали вас. На вашем месте мог быть кто угодно – просто воля случая. Единственное, что требовалось, – скромные художественные способности, отсутствие родственников и умение не болтать лишнего. И что же? Прошло совсем немного времени, и вас засыпали деньгами, вы жрете, пьете, вам возят шлюх, казалось бы, что таким скобарям еще надо? Оказывается, вот что – вам захотелось славы!
– Да пошли вы! Не имеете права…
Стоявший сзади кресла Сергей съездил художника по уху, и Михаил утих.
– Права? – бешено округляя глаза, закричал Тропинин. – Ты жалкая кучка дерьма! Сидишь в моем кресле, в моем доме, живешь, питаешься и дышишь за мой счет и еще набираешься наглости толковать о моих правах? Ты действительно безмозглое существо, если думал, что я не знаю о вашей переписке.
Михаил вздрогнул от неожиданности и растерянно заморгал.
– Ваш электронный адрес висит на моем сервере, а в каждой комнате этого дома стоят камеры. Я знаю все, даже то, чем вы ходите в туалет, когда обожретесь валютных деликатесов. Это мой бизнес, и я имею на вас все права! Я создал вас теми, кто вы есть, и жаль, что ты не понял правил игры. Вы – пешки на моей доске, а ваша американская королева – бита! Понятно?
– Мы завтра же уезжаем отсюда! – крикнул Михаил.
– Миша, не надо! – взмолился в ужасе Илья.
– Заткнись! – грубо оборвал его брат.
– Завтра или послезавтра – уже не важно, – веско заявил Тропинин. – Вы уедете отсюда только после того, как я разрешу вам убраться, а единственное условие, при котором я вас отпущу, – процент с каждой продажи. Кроме того, я должен стать вашим единственным представителем в Америке. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сообщить, пока вы не наделали еще больших глупостей, подписывая разные бумаги со своей заморской старушкой.
– Ах вот оно что? – саркастически заулыбался Михаил. – Вы будете нашим представителем и будете получать наши деньги! Неплохо. Ну спасибо, отец родной, прямо благодетель! А вам не кажется, что мы и сами сможем продать свои картины? А вам не кажется…
Сергей снова шлепнул его по лицу. Удар был несильный, тем не менее Михаил едва не слетел с кресла и с глухим стоном схватился за вспухшее ухо. Тропинин покачал головой и какое-то время молча разглядывал маленького человека. Нагнувшись к нему пониже, он шипящим от презрения голосом добавил к сказанному:
– А тебе что кажется – завтра весь мир бросится скупать ваши работы? А ты, сидя в таком же кресле, будешь считать доходы? Думаешь, все будет так красиво, как расписала тебе эта аферистка? Да в Америке на тебя наденут намордник и за каждый доллар заставят работать так, что будешь пот ложкой в жопе черпать – вот что с той произойдет. А деньгами будут рулить совсем другие люди. Ты будешь только мычать, как корова, и со всем соглашаться!
– Может быть, и буду, – с ненавистью прошептал Михаил. – Вам-то что? Художнику не нужно много говорить. Наши картины говорят за себя сами.
– Картины! – с презрительной улыбкой воскликнул Тропинин. – Эту мазню ты еще называешь картинами? Ведь ты даже представить себе не можешь, какого низкого качества ваша живопись.
– Неправда!
– Нет, это правда, мой тупой криворукий ублюдок! У вас мазня, а не живопись! Просто таков был наш проект! Мы специально делали акцент на ваше неумение рисовать, хотя, по правде сказать, сейчас это умение вообще никому не нужно.
– Врете вы все! Наши картины гениальны!
Тропинин схватил со стола огромную кисть и замахнулся ею над головой Михаила.
– Ну тогда смотри, что я иногда делаю с такими гениальными картинами!!
Он подскочил к сохнущему холсту и в бешенстве начал дырявить его древком кисти.
– Ну что, гастарбайтер чертов? Нравится?
Он наотмашь наносил удары, с треском прорывая продольные дыры в крепком и туго натянутом холсте. Илья в ужасе обхватил голову руками и завыл от страха.
– Смотри! – страшно кричал Тропинин – Теперь твоя гениальная живопись стала еще лучше?
Михаил не выдержал и вскочил.
– Не смейте! – что было сил закричал он, тряся кулаками. – Не касайтесь ее своими грязными лапами!
Как дикий кот, он кинулся на Тропинина и повис на его руке. Между ними возникла нелепая схватка: Михаил с воем укусил противника, а тот закрутился на месте, тщетно пытаясь стряхнуть с себя обезумевшего художника. Наконец-то сила возобладала. Тропинин ухватил Михаила за горло и, с ненавистью глядя в его искаженное болью лицо, сильным ударом вонзил древко кисти в его правый глаз. Полированная ручка вошла в голову на половину своей длины и с хрустом надломилась. Михаил издал хрипящий звук и слепо пошатнулся. Алый фонтанчик крови брызнул из разорванной глазницы, рот исказила гримаса, он дико закричал. Предсмертная агония была непродолжительна – жуткий крик внезапно оборвался. Михаил рухнул на пол, затрясся всем телом и уже через пару секунд затих и больше не шевелился.
– Черт бы подрал этого идиота! – в бешенстве заорал Тропинин. – Мерзкий хорек! Он еще кусается!
Со всей силы он начал пинать труп художника, однако, не удовлетворившись, в припадке ярости опрокинул на убитого массивный мольберт с разорванной в клочья картиной.
– Вот тебе, сука, твои картины! – орал он. – Ну что, теперь доволен? Нравится, когда я плохой? Чего молчишь? Чем же ты был недоволен, когда я был хорошим?
Сергей, с лица которого так и не сошла веселая улыбочка, зачарованно наблюдал за действиями шефа.
– Чего уставился? – зло накинулся на него Тропинин. – Видишь, с кем приходится работать? Проклятье, – тяжело дыша, добавил он, брезгливо осматривая разорванный рукав. – Костюм испортил!
Сергей сделал подобострастную мину и вопросительно кивнул в сторону рыдающего на полу художника.
– Вы звери! – прошептал Илья.
– Что? – удивленно наморщил лоб Тропинин. – Звери? А слушай, пожалуй, ты прав.
Он внимательно осмотрел свои ботинки, брюки, перчатки, и лицо его приняло безразличное выражение.
– Я всю жизнь ненавидел, когда меня кусают насекомые. Маленькие гадкие твари. Я всегда топтал их, и их жалкие тельца растекались под моими подошвами склизкими каплями. Однако мы заболтались – это все эмоции и слова. Приберешь здесь, – обратился он к Сергею. – И заберешь все лишнее. Пять минут! Я жду в машине.
Не оглядываясь, он вышел из дома. Часы показывали начало второго. Стояла тихая звездная ночь. Соседние дома спали, нигде не было видно огня, и только в темной массе тропининского джипа тревожно вспыхивал красный огонек сигнализации.
Вскоре появился Сергей с желтым чемоданчиком, прикрыл за собой калитку и запер ее на ключ. Они сели в машину, опустили стекла и прислушались.
– Этот ненормальный все-таки вывел меня из себя, – устало признался Виктор. – Жаль, конечно, но теперь уже ничего не поделаешь, мы все подвержены ярости, и все же мне было бы гораздо выгоднее, если бы они уехали в Америку.
Откуда-то издалека, поначалу едва слышно, но с каждой секундой нарастая и становясь все отчетливей, в ночной тишине парка стал слышен нервный перелив сирены.
– Пора ехать, – скомандовал Тропинин. – Не включай свет.
Черная машина вздрогнула и, глухо заворчав мощным мотором, плавно тронулась с места. Как только она пропала в густом мраке, с другой стороны улицы к дому стали стремительно приближаться мечущиеся по стенам и деревьям красно-синие огоньки милицейских машин.
18
Послышался веселый звон бубенцов, и на тенистой липовой аллее, ведущей к Большому дворцу, появилась пара гнедых лошадок. Ухоженные, сытые животные высокомерно косились на гуляющих и, потрясая вплетенными в гривы нарядными лентами, неспешной рысцой тянули груженный туристами рессорный тарантас. Пассажиры с одинаковыми рюкзачками крутили головами по сторонам, а девушка-матрешка в расписном платке торопливо зачитывала им исторические факты и поясняла, что, когда и кем было воздвигнуто в этом огромном и потрясающем воображение архитектурном ансамбле. Гости Павловска восторженно охали от удивления и фотографировали чудеса русского классицизма. Конная прогулка им очень нравилась, несмотря на то что все вокруг провожали их коляску снисходительными взглядами. День был просто создан для экскурсий и семейного отдыха – у будки мороженщика галдели дети, между деревьев носились велосипедисты, по водной глади скользили лодочки, коляски с младенцами объезжали цветники, гуляющие развлекались прохладительными напитками и озабоченно принюхивались к носящемуся в воздухе прогорклому духу шашлыков. Все дышало покоем и безмятежностью. Над необозримыми просторами ландшафтного чуда Гонзаго в безбрежной синеве июльского неба спали ленивые облака, ветерок сонно покачивал листву берез, а солнце серебрило бликами изогнутую саблю реки Славянки. Казалось, что более благостной и идиллической картины представить себе невозможно.
Растворившись в этом умиротворяющем и способствующем созерцанию пейзаже, Соня размышляла о бестрепетном покое, которым наполнил ее душу сегодняшний день.
«Деревья как люди, – радостно думала она. – Живут на земле, тянутся к солнцу, любят тепло и воду, боятся огня пожара и топора убийцы, родят себе подобных и истлевают в назначенный срок. Значит ли это, что они и любят друг друга, как люди? Да, наверное, так оно и есть. Чувствовать, уж во всяком случае, они точно могут. Биологи доказали: растения различают добро и зло. Они живые…»
Неся сандалии в руках, она легкой походкой шла по аллее, и вид босоногой девушки с огромной собакой вызывал волнительный шепот среди нарядно одетых провинциалов.
Еще всего пару часов назад она с Перро уныло гуляла по парку, с грустью размышляла о своей разбитой любви, колола себя упреками, терзалась и мучилась – и вдруг случайно набрела на луг: нескошенный и дикий, он поразил ее.
Заглядевшись, Соня сошла с дороги и, касаясь ладонями высоких травинок, побрела к одному из его лесных островков, туда, где посреди изрытой кротами поляны стояли, обнявшись, береза с сосной.
Могучие деревья, посаженные традиционно для этого парка вместе, переплелись корнями, их сросшиеся стволы доверчиво льнули друг к другу, а ветви, словно руки влюбленных, сплелись в одну огромную хвойно-лиственную крону. Вдохновленная дружбой дерев-великанов, Соня уткнулась лицом в берестяное тело березы и, дотянувшись руками до изрытой трещинами сосны, почтительно замерла. Легкий, подымающийся из земли поток живительной силы наполнил грудь. Ничто уже не казалось ей заслуживающим внимания из того списка обид, который она сочиняла все предыдущие дни, ничто теперь так не интересовало и не волновало сердце, как мысль о том, что она должна как можно скорее увидеть его вновь. Обнять, вот так же замереть, простить, а после снова жить и никогда уже не расставаться. Ощутив невероятное облегчение, она рассмеялась, и колючая заноза печали выпала из сердца.
Позабыв обо всем на свете, Соня гуляла по лугу, валялась в некошеной траве и, долго лежа на спине, с наслаждением смотрела в пустоту небес. Полуденный зной сморил коротким сном. Проснувшись, она пошла на пруд за Розовым павильоном, разделась прямо у дороги и, не глядя на сконфуженных туристов, упала в зеленеющую ряской воду. Прохладная вода остудила ее придонным ключом. Перро заметался по берегу и с разбегу прыгнул за хозяйкой. Соня вдоволь наплавалась, смущая гребцов на лодочках обнаженной грудью. Когда она выбралась на берег и обсохла, позвонил Пепел.
– Сонечка! Ну где же вы? – требовательно пропела трубка. – Вы обещали партию в шахматы, а сами пропали на целый день. Приходите, будем обедать, а то меня тут одолевает куча каких-то непонятных личностей.
– Георгий! – радостно закричала Соня. – Как я рада вас слышать. Я купалась, чудесный день, но я уже бегу к вам.
Пепел жил в принадлежащем музейному комплексу старинном особняке на самом краю парка. Каменное здание восемнадцатого века в два этажа с огромными окнами и колонным портиком давно использовалось музейными властями как реставрационная свалка, но пару лет назад оно чудесным образом было передано знаменитому сквотеру и обрело другую жизнь. Идея «храма современных искусств», которой художник прельстил музейных хранителей, была проста и убедительна – Пепел взвалит на себя расходы по содержанию ветхого дворца, а музей, в свою очередь, позволит ему временно разместить в нем мастерскую. Так и произошло. Личное обаяние и мировая известность художника быстро превратили руинированное здание в культурное событие городского масштаба. «Дворец», как его стали именовать друзья и завистники, мгновенно стал самым модным художественным салоном, а его удаленность от прозаической суеты города и причуды хозяина как магнит потянули в Павловск толпы богемствующей публики. Однако надменный эстет и чопорный поборник прекрасного беспощадно пресекал все попытки разного рода «художественной голытьбы» проникнуть в его светлый храм и принимал только избранных друзей и только ту молодежь, которую сам для себя определял как «прекрасную». Такой уж он был человек.
На гонорары от собственных картин Пепел остеклил старинные рамы, подлатал текущую кровлю, создал собственное отопление и зажил в ожившем особняке на широкую ногу. Коллекция антикварной мебели из его петербургских квартир перекочевала в Павловск, в старинных зеркалах замерцали огни свечей, в огромном зале приемов восстановили камин, и начались роскошные вечеринки. Георгий обожал вечеринки.
Еще издали, подходя к дому, Соня заметила у парковой ограды белый микроавтобус. Его пассажиры нерешительно столпились перед крыльцом, курили и, любуясь красотами природы, говорили друг с другом по-английски. Проскочив толпу иностранцев, Соня взбежала по ступеням и, войдя в прихожую, столкнулась с хозяином дома. Среднего роста, невероятно худой, с восковой кожей лица, как всегда элегантно одетый Пепел сердито беседовал с каким-то невысокого росточка хитро улыбающимся человеком.
– Все это прекрасно, Николай, – еле сдерживая раздражение, говорил ему Пепел. – Только у меня сейчас совсем другие планы, у меня гости, и я не намерен прерывать своих занятий.
– Но, Георгий! – взмолился Микимаус.
– Нет. Вчера вы позвонили мне вечером и обещали, что заедете с какими-то интересными коллекционерами, модниками и красавцами, а сегодня притащили сюда целый автобус скучных музейщиков и хотите, чтобы я их развлекал? Ну уж нет!
Микимаус замигал и недоуменно развел руками, всем своим видом давая понять, что он и сам недоумевает: как это получилось?
– Сводите их в Большой дворец, пусть лучше посмотрят там выставку императорского фарфора, а мне они зачем? Меня просто тошнит от мысли, что придется битый час разговаривать с этими старыми канальями!
– Да всего десять минут, и мы тут же уедем! – жизнерадостно заверил Микимаус. – Ну я вас очень прошу! Они мне еще в Штатах прожужжали все уши про то, что мечтают с вами познакомиться. Пусть посмотрят картины, а мы с вами пока пообщаемся. Мне так много хочется рассказать про наших общих друзей в Нью-Йорке, ведь мы не виделись больше года!
– Да, действительно, уже прошел почти год, – пробормотал художник.
Лукаво улыбнувшись, Микимаус продолжал:
– А я ведь не забыл, что вы большой поклонник хороших вин, и потому привез вам дюжину бутылок прекрасного «Кастэларэ». Вы должны помнить этот удивительный букет, еще по Риму…
– Я, конечно же, люблю итальянское вино… – удивленно произнес Георгий. – Но…
– Тогда вернусь через минуту!
Блаженно улыбаясь, Микимаус молитвенно сложил ручки и выскользнул за дверь, а Пепел устало махнул в его сторону рукой. Они с Соней направились в глубь дома.
– Какой настырный! – сочувственно заметила Соня. – Может, доверить Перро охранять ваш покой?
– Вы не поверите! – снова помрачнев, стал жаловаться Пепел. – Эти проклятые американцы насели и уже час одолевают меня своим вниманием, а по сути, нахально лезут в мою личную жизнь. Они мешают мне работать! Мне жаль тратить энергию на общение с пустомелями.
– Так гоните их прочь! – удивленно воскликнула Соня.
Пепел просиял лицом и радостно улыбнулся.
– Прекрасный совет. Решено. Я, конечно, давно знаю Микимауса, и он очень веселый малый, но решительно не понимаю, почему я обязан знакомиться с его коллегами по бизнесу.
– Вот уж действительно. А что такое «Кастэларэ»?
– Знал ведь, пройдоха, чем меня сразить – это один из моих любимых сортов «кьянти».
– Двойственная ситуация.
– И не говорите, – вздохнул Георгий.
Они прошли через анфиладу жилых комнат и оказались в большой прямоугольной зале со старыми, местами обсыпавшимися до дранки штукатурными стенами, скрипучим паркетом и свежеразмытой лепкой на высоком потолке. Вооруженные луками и стрелами, веселые круглощекие амурчики беззаботно порхали вокруг крюка для люстры. Самой люстры не было. Десять окон с потемневшими от времени дубовыми рамами пропускали в помещение мягкий поток уличного света. Комната была обставлена набором ампирной мебели с шелковой обивкой и золочеными пиками, между окон высились барочные зеркала, потолок подпирали пыльные пальмы в деревянных кадках, возле камина расположился круглый стол с мраморной столешницей, на стенах висели картины, а в углах громоздились пачки подрамников.
Георгий подошел к стойке с аппаратурой, вытащил из конверта пластинку и поставил диск на проигрыватель – мощный звук разнес по дому забойную танцевальную музыку. Георгий отрегулировал звук и радостно улыбнулся. Соня уселась к кресло. На столе перед ней стояло блюдо с виноградом и шахматы. Она жадно принялась уплетать ароматные ягоды и расставлять фигуры на доске. Дверь в дальнем углу комнаты раскрылась, и в комнату вошли Юрий и Наташа – старинные приятели Пепла еще по музыкальным экспериментам юности. Юрий, крепкий и коренастый, с мощной шеей и тяжелыми руками, казался ужасно неповоротливым и медлительным, но внешность была обманчива, так как давняя страсть к у-шу, когда нужно, делала его движения подобным молнии. Наташа, высокая и стройная, очень улыбчивая и веселая, составляла ему приятную противоположность.
Пыхтя от натуги, Микимаус втащил в комнату увесистую картонную коробку, извлек бутылку, вооружившись штопором, открыл ее, наполнил вином бокалы, а остальное сразу же перелил в старинный декантер.
– Прошу!
Присутствующие выпили по глотку.
– Прекрасное вино! – с восторгом воскликнула Соня. – Какой мягкий и фруктовый вкус! Немного отдает ежевикой или мне кажется? А я вот никогда не была в Италии. Мы с Тимуром собирались. – Тут она запнулась. – Да так и не собрались…
– Италия – родина всего прекрасного! – наставительно произнес Георгий. – Любой уважающий себя художник должен хотя бы раз туда съездить. Италия дала миру больше живописцев, чем скучные прибалтийские страны и прочие депрессивные земли, лишенные света и неспособные к пониманию красоты, вместе взятые. Нигде я не видел столько замечательной живописи, как в музеях Рима и Флоренции! А скульптура! Мы знакомы здесь только с копиями, а все подлинники находятся на виллах и в музеях Италии.
Микимаус аккуратно взял Георгия за локоть и, преданно глядя в глаза, стал умолять:
– Георгий! Они просто хотят пригласить вас участвовать в выставке русских художников, которая будет через полгода…
– Знаете, Николай, у меня нет работ даже для собственных коллекционеров, не говоря уже о музейных выставках! А групповые меня вообще не интересуют. Все мои работы зарезервированы на несколько лет вперед. Забудьте вы об этих людях. Давайте лучше выпьем еще вина.
– Георгий! – взмолился Микимаус. – Ну что мне для вас еще сделать?
– Что сделать? – задумался Георгий. – Мне нужно два костюма «Come de garson» из последней коллекции, размер S, черного и белого цвета.
– Вы шутите?
– Ничуть! Давайте сменим тему, – предложил Георгий. – Сонечка! Какая-то вы сегодня задумчивая.
Соня вспыхнула нежным румянцем до самых ушей.
– Знаете, я сегодня поняла, что не права, – тихо прошептала она.
– Вы о Тимуре?
– Да! Я бросила его в очень депрессивном настроении, и неизвестно, каких бед он теперь может натворить. Я знаю его и чувствую, что мне нужно вернуться, боюсь, как бы он не совершил чего-нибудь ужасного.
– Что же, может, вы и правы, – согласился Георгий. – Возвращайтесь сегодня же. Я знаю Тимура двадцать лет и очень люблю его. Он фантастически талантлив, но нуждается в постоянной опеке. Его нельзя оставлять без присмотра, нужно все время хвалить и позволять чувствовать свое лидерство, иначе он начнет добывать его самыми недозволенными методами.
– Знаете, наши отношения зашли в такой тупик, что мне еще сегодня казалось, будто я утратила к нему уважение. Он вел себя таким образом, что я постоянно плакала.
– Он просто очень гордый и самолюбивый человек. Что-то у него не получается.
– Да, я только сейчас поняла, как я его люблю, – прошептала Соня.
В прихожей зазвенел колокольчик, пес вскочил и, глухо ворча, понесся к дверям.
– Только не пускайте сюда этих американцев, – взмолился Георгий.
Наташа ушла и вскоре вернулась в сопровождении Горского. Куратор имел усталый вид, лицо его раскраснелось от жары, седая шевелюра была всклокочена, туфли в пыли. Горский бросил в кресло свой тяжелый портфель и заключил Пепла в объятия.
– Здравствуйте, Георгий, – устало произнес он, похлопывая хозяина дома по спине. – Здравствуйте, господа! Здравствуйте, Соня! – поприветствовал он компанию. – В городе жуткий ливень, а у вас здесь такая благодать, как на другой планете.
– Андрей Андреевич! – радостно вскочила с места Соня.
Совершенно неожиданно она обрадовалась появлению этого неряшливого человека. Близоруко щурясь, Горский надел очки и с жадностью стал осматривать незаконченную работу на мольберте:
– Обожаю вашу морскую тему!
– Спасибо. Что нового в городе, которого нет? – в ответ поинтересовался Георгий.
– Масса событий, – уставшим голосом сообщил Горский. – Не знаю даже, с чего начать.
– Начните с самого интересного.
– Боюсь, что мои новости скорее печальные.
– А что случилось? Закрылась галерея «Свинья»? – шутливо предположил Пепел. – Неужто вы остались без работы?
– На этот раз в точку. Только она не закрылась, а сгорела!
– Что вы говорите? – изумились собравшиеся. – Как? И кто же ее поджег? Неужели сам Дольф? Очередной рекламный трюк?
– Все не так весело, как вы предполагаете. Я бы сказал, что положение трагическое, и происшедшее не оставляет места для шуток – вчера вечером убиты братья Лобановы, бедняга Дольф получил тяжелые увечья, а сама галерея сожжена и уничтожена. Таковы вкратце новости из города, которого нет, – грустно закончил свой доклад Горский.
– У меня просто в голове не укладывается, – испуганным шепотом произнесла Наташа. – Как убиты? За что?
– Если бы не избитость этой пошлой фразы, то можно было бы констатировать «смерть за искусство».
Георгий выключил музыку, и в комнате воцарилось молчание. Горский налил себе полный бокал вина, выпил, вытер губы тыльной стороной ладони и, сразу захмелев, попытался улыбнуться.
– Ведется следствие. Известно, что действовала какая-то группировка националистов. Картина обессмертила Близнецов, но убила физически.
– Какая картина?
– «Красная площадь». А я ведь, Соня, честно признаться, приехал за вами. Все, конечно, сейчас воспринимается как сплошной кошмар: ярмарка, скандалы, убийства, поджоги! Но я должен сообщить, что после вашего перформанса в Манеже разразилась настоящая буря.
– Какая еще буря? – испуганно прошептала Соня.
– Не бойтесь, ничего страшного – буря восторга! Вот только малая часть прессы, посвященная событию. Везде критики ставят вас выше всех художников, а их там было немало.
Горский вынул из портфеля увесистую пачку ксероксных копий.
– Ваш перформанс и инсталляция признаны одними из лучших. Вашу кровать купили – коллекционеры чуть не передрались за нее. Это успех.
От охватившего ее волнения Соня не нашлась что ответить. Все услышанное настолько ее поразило, что она впала в состояние ступора и перестала что-либо понимать. Горский говорил и говорил: про трагедию Близнецов, про свои новые проекты. Все обсуждали ужасную новость, пили вино, а она неподвижно сидела и, не чувствуя своего тела, подавленно молчала. Только легкий гул в руках, как будто целый день таскала ведра с водой, и растущее откуда-то изнутри ощущение надвигающихся перемен.
– А что, Сонечка, – вывел ее из ступора голос Пепла. – Вы же хотели увидеть Тимура? Вот и поезжайте.
– Да, поедемте! – присоединился Горский. – В городе вас действительно ждет Тимур, я виделся с ним вчера ночью.
– Тимур? Да, я хочу, я очень хочу его увидеть…
19
Тимур спал и с волнением проживал необычайно яркое сновидение. Он видел самого себя в обществе очень миленьких полуодетых девиц, которые строили ему глазки и, казалось, были совсем не прочь, чтобы он ими занялся. Он даже руки вытянул, желая приобнять одну из самых привлекательных красоток, но тут что-то произошло – какие-то посторонние ощущения полезли в этот дивный сон и подло помешали насладиться идущей в руки податливой добычей. Тимур крутился, вертелся, прижимался щекой к подушке, но ни одно из этих ухищрений не помогло. В конце концов он раздраженно открыл глаза и понял, что одеяло съехало на пол, на улице дождь, манящей девушки на самом деле нет, а ему нестерпимо холодно от сырого ветерка, врывающегося в комнату через распахнутое окно. Миллионы дождевых капель с барабанным боем гремели по ржавой жести мансардной крыши и с бульканьем стекали в ливневый желоб. Никакой трубы под этим желобом не имелось, а потому весь поток воды низвергался прямиком на капот припаркованного внизу автомобиля и производил при этом сильнейший фонтанный шум. Тимур толкнул ногой раму, окно прикрылось, а сам он закачался. Когда из мастерской увезли кровать, он стал ложиться спать на надувном матрасе, который, постепенно сдуваясь, превращался под утро в зыбкое ложе, трясущееся, как желе. В памяти всплыли красивые картины крымского побережья, где был приобретен матрас, и то, как он мило покачивался на волнах Симеизской бухточки, когда они с Соней барахтались в теплой воде. Красота была: райские кущи, кипарисы, античные скульптуры на аллее. Жили в малюсеньком домике за пять долларов, у толстой цыганки, под горой Кошка, с видом на море и живописные скалы. На этом самом матрасе он, напившись портвейна, плавал вдоль берега, нырял за мидиями, а Соня голышом загорала среди диких скал, ела немытый виноград и штудировала «Постмодернизм».
Вспомнив сейчас о тех счастливых днях, Тимур страдальчески поморщился и начал привычный для своих поздних пробуждений процесс ленивых потягиваний. Раскинувшись на приспущенном матрасике, он потер глаза и закурил сигарету. Дурацкая привычка – курить спросонья! Бесспорно, гадость, но бросить ее не было сил, а потому он улегся поудобней и в тысячный раз стал осматривать до малейшей мелочи известную ему комнату: стол с тремя икеевскими стульями, бамбуковое кресло-качалку, шкаф с Сониной одеждой, письменный стол, компьютер, книжные полки, цветы, фотографии, замаранный красками мольберт, подрамники, картины. Взгляд уперся в повернутую к стене пыльную картину. Тимур приподнялся на локте и, прищурившись, посмотрел внимательнее.
– Моя картина! – удивленно прошептал он, как будто в первый раз увидел свою давно заброшенную работу.
Живо поднявшись, он подошел к ней, развернул к свету и отступил к противоположной стенке.
– Давно не виделись! Вот ты мне сейчас и сгодишься!
Два тридцать на метр восемьдесят, размер самый максимальный из тех, что можно внести в мастерскую без снятия с подрамника. Качественный итальянский холст, прекрасный трехслойный грунт. Тимур так разволновался, как будто встретил позабытого и нежно любимого в детстве приятеля. Он стал прохаживаться по комнате и задумчиво вглядываться в мутный фон давно просохшего подмалевка. В каше мазков, штрихов и еле намеченных образов смутно угадывалась многофигурная композиция, в которой всадники на бешеных конях вихрем неслись по грозовому небу.
«Долго же я от тебя бегал, – удивленно подумал Тимур. – Ну ничего. Теперь я готов, теперь я вижу, что из этого может получиться».
Встреча с Горским так вдохновила Амурова, что, не мешкая, он перетащил тяжеленный мольберт в центр комнаты, зажег весь свет и бросился вытаскивать из-под шкафов коробки с красками. Тимур торопливо высыпал содержимое коробок на пол, и очень скоро перед ним вырос приличный холмик из сотен тюбиков, пакетов и баночек. Как прозревший слепец, он с вожделением разглядывал собственные краски, читал этикетки, перебирал кисти, озабоченно тряс пузырьки с растворителями и лаками. Многие из пролежавших больше года материалов теперь безнадежно пропали, высохли или загустели, но большая часть была цела и вполне готова к работе. Забыв про завтрак, и умывание, Тимур сбросил со стола все книги, подтащил его поближе к окну и принялся раскладывать краски по цветовым группам. Работа ладилась. Он вытащил из папки целый ворох карандашных рисунков, разложил их перед собой, взял мелок масляной темперы и принялся тщательно прорисовывать контуры будущих фигур, их лица, тела, складки одежды, растрепанные гривы лошадей и прочие детали.
Написать четырех всадников Апокалипсиса он задумал два года назад. Тогда, будучи еще хорошо продаваемым художником, Тимур неожиданно стал одержим этой странной для нашего времени затеей и проболел ею почти год. Уподобляясь мастерам прошлого, он делал множество набросков, тщательно разрабатывал детали и, только достигнув в эскизах известного совершенства, решился наконец перенести собственное видение апокалиптического пророчества на холст.
Идея изобразить жутких вестников конца света, несущихся в кровавых брызгах по поверженным в прах людям, пришла к нему после знакомства с работами Дюрера. Сейчас уже было не вспомнить, кто тогда дал ему тот альбом и зачем, но одна из гравюр прославленного немца настолько поразила Амурова, что впервые в своей жизни Тимур взял в руки Библию. Он запоем читал великую Книгу, вспоминая ранее слышанные изречения, заветы и заповеди, и добрался наконец до того места, где Писание раскрывает тайну самых страшных пророчеств. Более всего его потрясла фраза из Откровений Иоанна о том, что верным признаком грядущего конца всего сущего станет время, когда в мире «не будет никакого художника и никакого художества…».
Древнее прорицание ужасало своей актуальностью – мир, в котором он жил, который питал его и составлял всю его сущность, был абсолютно лжив, продажен, наполнен интригами, низкопробной халтурой, подделками и вульгарной пошлостью. Сознание Тимура словно ядом отравилось этим нелестным для него открытием. И действительно, среди всего окружения художника не наблюдалось ни одного сколь бы то ни было серьезного мастера, искренне стремящегося к красоте или готового ради нее на жертвы. Могла ли нынешняя ситуация в современном искусстве быть простым совпадением со словами праведника? Очевидный ответ был у Тимура перед глазами.
Ни один из его друзей не утруждал себя глубиной и тщательностью. Вся их живопись была технически некачественна, сработана наспех, питалась мелкими идеями и могла соревноваться друг с другом лишь за жалкую усмешку зрителя. При этом такая мазня прекрасно раскупалась, отчего почти все эти художники считались известными и охотно слушали кураторов, специально ставящих перед ними только абсурдные или шокирующие цели. Все галереи современного искусства доверху забились псевдохудожественным мусором, бессмысленными инсталляциями, бездарным видеоартом, объектами и глупенькими картиночками, а живопись и скульптура, воспевающие античную красоту и торжество человеческой жизни, были повсеместно изгнаны и девальвированы до уровня «пыльного прошлого».
Тимур сделался одержим поразившим его открытием. Он беспрестанно говорил о нем со своими друзьями, но мало кем был услышан. Очень скоро за ним закрепилось амплуа сумасброда, вообразившего себе, что только он знает ответ на вопрос «Что есть искусство?». Из-за переживаний и насмешек Тимур даже отменил свое участие во всех ранее намеченных выставках и окончательно замкнулся в себе, чем уже полностью расстроил свои отношения с галереями.
Осознание печальной перспективы так низко павшего искусства и собственного положения в нем глубоко засело в его воспаленном мозгу. Он решил в корне изменить стиль собственной живописи, но более всего ему хотелось продемонстрировать миру свое полное отрицание окружавшей его художественной действительности. Тимур вообразил себя крестоносцем искусства, с кистью в руке сражающимся против всей этой постмодернистской ереси, и он стал тщательнейшим образом выстраивать композицию своей будущей картины. Он жаждал навести мост над выявленной им пропастью художественной истинности и доказать одурманенному зрителю, что выше всего в искусстве нужно ценить лишь умение творить руками из материалов, данных природой, а не все эти принтеры, проекторы и прочие мусорные кучи.
Таково было его личное «откровение». Однако свершить красиво задуманное не удалось, никто его не поддержал, и ничего хорошего из этого не вышло. Реальность посмеялась над ним, а воодушевленное самолюбование художника, испугавшись пустоты холста, шаг за шагом отняло все силы. Тимуру не хватило решимости и мужества. Будучи с юных лет человеком неверующим, он чаще размышлял над возвышающим значением своей горделивой позы или воображал себя на фоне уже написанного шедевра, нежели серьезно верил в его художественное и интеллектуальное значение. В конце концов он стал стесняться насмешливых расспросов и очень тяготиться своими донкихотскими амбициями. Жизнь вокруг него закружилась чередой праздных развлечений, он возжелал веселья и уже очень скоро «пошел на поправку» и «пришел в себя». Недавний замысел стал навевать на него одну лишь скуку. Сказав себе: «Наверное, еще не время», Тимур повернул злосчастную работу к стене и благополучно о ней забыл…
Дождь за окном неожиданно стих. Капли воды еще какое-то время постукивали по жести, но вскоре замедлили свой ритм и перестали стучать вовсе. Тимур прервал работу, поставил чайник и выглянул в окно – небывалый подъем человеческого духа благословлялся небесными силами. Между слившими воду полинялыми тучами засияло солнце, в небе проявились мазки голубой лазури, дунул теплый ветерок, стало светло, и от природного уныния не осталось и следа. Тимур распахнул все окна и впустил в комнату теплый воздух, наполненный грозовым озоном. Глубоко вдохнув, он снова вернулся к работе.
Первый всадник на коренастой лошадке был уже почти закончен. Тимур изобразил его каким-то сморщенным старичком с маленькой головкой в меховом островерхом шлеме. Зловеще улыбаясь, в вытянутой левой руке карлик держал кривой лук, а правой натягивал тетиву. Рядом с ним скакал закованный в латы рыцарь в развевающемся плаще. Под цилиндрическим шлемом с прорезями его лицо было неразличимо. Высоко подняв короткий меч, рыцарь бил окровавленные бока лошади когтистыми шпорами и рвался в бой. Следом за ним летел современный наездник в круглой шапочке, черном жокейском сюртуке и белоснежных рейтузах, заправленных в высокие кожаные сапоги, с аптекарскими весами в руке. Последним всадником был какой-то до невозможности худой и похожий на скелет старик в сгнивших одеждах, открывавших взгляду кости, торчащие из-под его полуразложившейся плоти. Лицо всадника наполовину истлело. В костистой руке мертвец держал косу.
Когда эскизная прорисовка была почти завершена, Тимур окинул оценивающим взглядом свою работу. Конечно, оставалось еще множество деталей: раздавленные копытами коней люди, оружие, копья, сумрачное небо, но общая композиция была собрана, и теперь можно было смело браться за краски. Насвистывая, он порвал на ветошь старую наволочку, смешал терпентин с льняным маслом, налил полученную смесь в масленку, взял кисть и выдавил на плоскую тарелку сиену жженую.
– Так, теперь умбру!
Кисть радостно закружилась в красках и образовала на белом фарфоре двухцветную спираль. Тимур макнул кистью в масленку, провел по получившемуся тону извилистую змейку и улыбнулся.
– Рука не дрожит! – радостно прошептал он. – Я дорисую эту работу! Лучшего времени и не представится, а когда Соня вернется, она увидит ее уже законченной…
Тимур взял свою импровизированную палитру, вытянул в плоскости холста первую линию маслом, и тут же кончик кисти оказался у него в зубах. Тимур улыбнулся: привычка грызть кисти – старая и верная примета нахлынувшего вдохновения. Работа и вправду пошла легко, руки соскучились, он вооружился еще парой кистей и увлеченно начал писать. Быстрыми смелыми мазками он принялся наполнять цветом объемы заданных контуров, и картина стала оживать. На всадниках и их бешеных конях появилась игра света, проступили тени, вырос дальний план, вся композиция получила зримую перспективу и очень эффектную динамику движения. Никогда в жизни Тимур не работал с такой скоростью и вдохновением. Его кисти буквально порхали по плоскости холста. Насвистывая, он отошел от картины, чтобы увидеть ее издали. В прихожей зазвенел колокольчик.
– Нне-ет! – застонал Тимур, застыв с тарелкой в руках и все еще надеясь, что кто-то ошибся дверью.
Но кто может ошибиться дверью на последнем этаже? Колокольчик снова затрясся, да так, что на этот раз его задорный перезвон стал слышен во всем дворе. Тяжело вздохнув, Тимур нехотя поплелся открывать. Прогремели замки входной двери, и в мастерскую вихрем ворвался старинный друг Амурова Захар Шпаровский. Сбросив в коридоре скрипящую, как седло, кожаную сумку, мокрый от дождя Шпаровский, не здороваясь, ринулся к туалету, закрылся в нем, и минут пять было слышно, как он ритмично хлопает там в ладоши. Наконец пророкотала вода из бачка, и гость предстал перед хозяином дома. Среднего роста, худощавый, русоволосый, с открытой улыбкой и крохотной родинкой на кончике носа, живописец Шпаровский был приятным в обхождении веселым оптимистом, не унывающим и почти никогда не испытывающим неудовольствия от жизни.
– Прости, что я сразу на горшок, – стал оправдываться Шпаровский, бодро протягивая Тимуру влажную руку. – Физиология.
– Ничего, валяй, – равнодушно бросил Тимур и тут же заулыбался: – А кому ты там аплодировал? Я, грешным делом, подумал, не перформанс ли? А то я, знаешь, этой хрени не люблю.
– Да нет. У меня с детства такая дурацкая привычка – хлопать на унитазе в ладоши. В армии знаешь как доставалось? Страшное дело. А без этого не выходит… Ну да ладно, главное, что успел.
– Быстро бежал? – съязвил Тимур.
– Быстрее новостей, – загадочно пропел Шпаровский.
– Так, – заинтригованно заулыбался Тимур, – и о чем же гудит молва?
– Ну, например, о странном пожаре в галерее «Свинья», ну или о том, как ты намылил шею Камакину, что тоже забавно.
Тимур вспомнил свою ночную стычку в «Гиперборее» и досадливо поморщился.
– Зачет, одобряю, – радостно хихикая, приободрил его Шпаровский. – Мне он тоже никогда не нравился. Подозреваю, что именно он увел у меня целую кучу дорогущего масла, когда мы пили у меня в мастерской, так что так ему и надо. О, а это что? – удивленно воскликнул Шпаровский, подходя к холсту. – Ты рисуешь или Соня?
– Да так, старые идеи, – уклончиво замялся Тимур.
– Ты же вроде завязал с этим делом?
Тимур стал поспешно срывать с постели простыню, чтобы прикрыть ею работу, но Шпаровский запротестовал.
– Да ладно прятать, только размажешь, дай посмотреть! Никому не скажу. Лошади, кинжалы, пистолеты… Пираты Каспийского моря какие-то. На заказ? Не ресторан ли «Камелот»? Нет? Они тут заказывали моим друзьям шестьдесят метров фрески, такой же исторической мути, денег, между прочим, дали вагон…
Тимур отрицательно затряс головой.
– А, ничего, слушай, – пристально рассматривая картину, воскликнул Шпаровский. – Очень даже ничего! Я и не подозревал, что ты так можешь. Чего же ты раньше одни только торсы рисовал? Гляди, какой талантище, ну, прямо эпическое полотно, Микеланджело, не меньше. Только вот тема какая-то странная…
Видя, что от неунывающего Захара так просто не отделаться, Тимур налил два стакана чаю, закурил и уселся к столу.
– Видишь ли… Ну как бы тебе сказать? В общем – это всадники Апокалипсиса. Символ конца.
– А, знаю я эту телегу! – ничуть не удивившись, заверил Шпаровский. – Камень, железо, золото и что-то там еще… Киргиз с луком, по-видимому, камень, следом рыцарь с ведром на голове, потом драгдилер с весами и, наконец, скелет с косой. Красавцы, все как на подбор! Вот только мужик с весами что бы значил? Ага, понял! «Мировой финансовый кризис». Так, что ли?
Видя, что Тимур начинает хмуриться, Шпаровский оторвался от разглядывания картины и тоже подсел к столу.
– К черту кризис, я вот чего пришел! – заговорщицки начал он. – Был тут у меня наш известный концептуалист Асмолкин. Как ты понимаешь, то да се, ну и накидались мы с ним водочкой. Старичок бухнуґл, расчувствовался и позвал меня на передачу: телемост между художниками Петербурга и Нью-Йорка. Идея сама по себе прекрасная, только вот выяснилось, что у Америки там полная обойма арт-циклопов: Кандис Брейтс, Маурицио Каттелан, Джон Каррин и Кейт Эдмиер – а вот с нашей стороны жидковато. Пока позвали только самого Асмолкина, а он, естественно, притащил Стоцкого. Ну вот, собственно, то, зачем я пришел: старик плачется, что ему некогда этим заниматься, и просит меня пригласить на свой выбор еще пару достойных художников, чтобы можно было схлестнутся по-честному, стенка на стенку.
– Ну а я-то тут при чем? – удивился Тимур.
– Как при чем? Ты же наш, да и в Америке выставлялся! Пошли со мной на студию, побредим…
– Не могу, занят…
– Отговорки, – возмутился Шпаровский. – Да ты пойми, – он вскочил со стула и, возбужденно размахивая руками, принялся расхаживать по мастерской, – если не найдется наших, влезут ненаши. Надо идти самим, пока не пронюхали все остальные, а то уже сбежались тараканьи души. Примчался этот прохвост Саксофон, а следом за ним и Флаворский, – оба землю роют. Саксофон даже заявил, что, если нужно, он купит в этом городе квартиру, чтобы стать здешним художником, так ему интересна передача. А нашим все некогда!
– Что это еще за Саксофон? – брезгливо наморщился Тимур.
– Да есть один такой, – стал с кислой улыбкой пояснять Шпаровский. – Рисует портретики нашим гламурным звездочкам. Известен тем, что подкрадывается на тусовках к заезжим знаменитостям с заранее нарисованным по фотографии их портретом и ляп им ручку на плечо! Иностранцы – люди вежливые, улыбаются, а этот хмырь им портрет в руки, дарит. В общем, радостное недоуменьице, а в этот момент их всех вместе – щелк, и снимочек.
– Ну а зачем ему все это? – удивился Тимур.
– Элементарно. Он фотографии на стенку вешает и заказчикам тычет: я с Мадонной, я с Бекхэмом, это у меня Де Ниро заказал, это Перис Хилтон. Наши лохи знаешь как ведутся? Стратегия! А Флаворский, тот вообще рисует только поверх готовых принтов, так он и сам готов дать денег кому хочешь, лишь бы засветить свое рыло. Воображаешь себе команду нашего искусства: старый гриб Асмолкин, лопушок Стоцкий, хитрован Саксофон и халтурщик Флаворский. Нет уж, давай лучше мы Америку замочим. Это будет наш глубокий шаг наверх.
– Не хочу я никого мочить, – махнул рукой Тимур.
– Тьфу, заладил, – в сердцах плюнул возмущенный Шпаровский. – Не хочу да не хочу! Ну хватит тебе кривляться, пора вылезать, прояви нравственную эластичность! Пойдем со мной, или придурки опять все опошлят. Чего ты сидишь тут один, притворяешься старинным художником? Кому сейчас это нужно? Старые художники – они были как медиумы и рисовали святых, а нынешние заявляют: мы разрушим ваш мир и вытащим вас из ваших же штанов… Так-то!
Тимур равнодушно отмахнулся от него и задумчиво подошел к своей картине.
– Слушай, Тамерлан, а где твоя Сонька? – вкрадчивым голоском поинтересовался Захар.
Тимур настороженно навострил уши.
– Зачем она тебе?
– Может, ее отпустишь? Штейн после Манежа – художник номер один. Вы там такой цирк устроили, что многие до сих пор ломают голову, кто все придумал? Скажи мне, как другу, – Свинья или все-таки вы сами?
– Не скажу, – буркнул Тимур.
– Да и не надо. Все и так знают, что ты замутил. Соня еще ребенок и до такого бы не додумалась.
– Думайте что хотите, – равнодушно махнул Тимур. – А про передачу – извини. Не умею себя пиарить. И не хочу. Ты, Захар, лучше сходи к Кубику, у него борода лопатой, глубокомыслие – быстро сторгуетесь. Американцы как увидят нашего гуру от искусства, так сразу лапки вверх. А вы еще накуритесь на пару и точно всех там сделаете своими гонками.
Шпаровский захохотал во весь голос.
– Ну кто бы говорил, а ты помалкивал! Накуритесь! Тоже мне святоша! В девяностые все художники, в том числе и ты, курили как паровозы, ели грибы и слушали музыку, а многие в результате даже стали диджеями и драгдилерами? И что с того?
– Ничего. Плохо, что сейчас весь этот сброд почему-то записался в художники.
– А что делать! – глумливо улыбнулся Захар. – Искусством в наше время занялись все кому не лень, даже олигархи, – это модно. Я сейчас готовлю к Венеции свои работы, так с нами там выставится одна дамочка – закачаешься. Женушка богатого банкира. Тоже решила стать художницей, купила себе место на биеннале, нашлепала работ и собирается выставить фотографии гениталий своей дочери, по которой ползают красные болгарские перцы. Как тебе проектик? Денег, как она говорит, «ей давно не надо», она – «для души». Я видел, как эта душевная приезжала в галерею: белобрысая мышка, обвешанная золотом, сумка за сто тысяч и космический «лексус», а за ней – два «брабуса» и целый полк людей в черном. Вот как надо рисовать всадников Апокалипсиса. А ты тут лошадок…
– Ну, я хоть лошадок, а ты-то что рисуешь?
– Ничего я не рисую, – запальчиво пояснил Захар. – У меня этим давно молодежь занята. Я им только почеркушки на салфетках даю, а они уже сами все переносят на холсты.
– А сам чего не рисуешь?
– Ты что, дурак, я же художник!
– Понял.
Друзья помолчали какое-то время, продолжая рассматривать тимуровскую работу.
– Интересный у нас с тобой разговор получается, – признался Тимур. – Если бы не знал тебя двадцать лет, точно бы подумал, что ты сумасшедший.
– Да ты со своими всадниками быстрее на сумасшедшего потянешь, – обидчиво надулся Захар. – Тоже мне, бездеятельный философ, образец благоразумия. Все твои потуги на неоклассическую живопись просто смешны. Кому ты это продашь? Разве что какому-нибудь шизику, помешанному на Толкине. Ну ладно, бывай здоров, рисуй свою псевдокрасоту. В будущее, как видно, нужны другие попутчики.
– Да не обижайся ты, просто мы по-разному смотрим на мир.
– А я и не обижаюсь, мне просто пора, куча дел. Будь здоров…
– Подожди, я с тобой.
Вдвоем они вышли из мастерской. Тимур на всякий случай оставил для Сони ключ за газовой трубой. Приятели молча спустились по темной лестнице. Лужи еще не просохли и чернели на асфальте замысловатыми островками.
– Ты куда? – роясь в сумке, поинтересовался Шпаровский.
– В «Свинью». Вернее, в то, что от нее осталось.
– Так ты чего, вернулся в галерею? – удивился Захар. – А чего дураком прикидывался? Молодца, давно бы так!
Тимур добрался до нужной улицы, когда уже начало темнеть и повсюду зажглись желтоватые фонари. Белые ночи почти сошли на нет, но июльское небо все еще выглядело как пыльная простынь. Задумавшись, он шел по тротуару и пытался вообразить себе предстоящую через несколько минут встречу. Они не виделись с Соней целых пять дней, но сейчас эти дни уже казались ему вечностью. Как она встретит его, простит ли?
– Эх, нужно было не со Шпаровским лясы точить, а побриться да сменить футболку… – подумал он, осматривая свои перепачканные краской руки.
Тимур воровато оглянулся и, вскинув локоть, быстро понюхал собственную подмышку, – запах, конечно, еще не олимпийский, но и свежим его не назовешь. Издалека заметив крыльцо галереи, он посмотрел на часы и нерешительно замялся. К сомнениям по поводу собственной внешности добавилась и другая напасть. Налетело запоздалое раскаяние за свое быстрое согласие работать с галереей, которую он еще вчера так яростно ругал под водку.
«Что же это получается? Купился на посулы и побежал, как овечка на рожок? Так, что ли? А если и так? Что же теперь, повеситься? Мерзкое и зависимое от всех безденежье, разве оно лучше? Как унизительно все время рыскать и занимать на жизнь. Все, конечно, дают, но дают с каждым разом все меньше и меньше. Горский, безусловно, прав – галерея просто процесс. Большой, безликий, вездесущий, беспощадный процесс, которому бессмысленно сопротивляться и с которым лучше дружить. Нужно просто работать, а не ломать себе голову, чем завтра платить за мастерскую. Как любит повторять мой веселый друг Шпаровский: „Не рви себе сердце, Тимур!“».
Успокоив себя, Тимур решительно направился ко входу, но тут стеклянная дверь галереи сама распахнулась, и на крыльцо вышла Соня. Тимур радостно улыбнулся и уже поднял руку для приветствия, как следом за Соней вышел какой-то здоровяк, затем выбежала Сонина собака, и, наконец, появился седой мужчина в темных очках. Как только Тимур всех их увидел, он почему-то, не раздумывая, пригнулся и спрятался за припаркованной машиной. Рослый парень был ему совсем незнаком, а вот человек в очках оказался тем самым коллекционером, с которым он столкнулся в Манеже. Троица с собакой вышла на тротуар и стала совещаться. Ждать пришлось недолго: коллекционер усадил Соню в красный кабриолет, здоровяк помог мастифу запрыгнуть в джип, хлопнули дверцы, и роскошные машины тут же умчались. Тимур выскочил из укрытия и почувствовал себя невероятно гадко.
«Обманут, так подло и нагло обманут».
Шумно дыша от охватившего его волнения, он взбежал по ступеням к дверям галереи, приложил ладони к стеклу и посмотрел в мутную тьму, – два маляра в перепачканных краской халатах красили закопченные пожаром стены в белый цвет, а в самом центре обновляемого пространства, задумавшись, стоял Горский. Тимур рванул дверь и как тигр бросился к искусствоведу.
– Куда он ее повез? – дико закричал он, хватая Горского за плечи. – Говори, старая сука!
Испуганно округлив глаза, Горский попытался объясниться, но Тимур ухватил его за горло так сильно, что несчастный смог прохрипеть только что-то нечленораздельное.
– Ты для этого меня сюда позвал? Чтобы поиздеваться? Ах ты гадина, книжный червь!..
В это же мгновение чьи-то сильные руки ухватили Тимура за шею и стали отрывать его от бледного, как покойник, Горского. Амуров попробовал сопротивляться, но получил по ногам, упал на колени. Следующий удар поверг его лицом прямо в черный от вонючей сажи пол.
– Лежать! Лежать! – заорал чей-то грубый голос.
Несколько человек навалились на него сверху и стали торопливо ощупывать карманы. На выкрученных за спину руках щелкнули наручники, а к голове был приставлен холодный ствол пистолета.
– Мы его взяли! – доложил тот же голос по захрипевшей электрическим шумом рации.
Тимур попытался повернуть голову и что-то сказать в свою защиту, но тут же получил третий, и довольно чувствительный, удар рукояткой пистолета по затылку.
– Лежи, сука!
– Да это не он, – задыхаясь от волнения, закричал опомнившийся Горский. – Вы не того взяли, зачем вы его бьете?
Тимура моментально вздернули вверх и поставили на ноги. От удара по затылку в глазах плыли темные круги, словно в тумане он видел двух маляров с пистолетами и перепуганного Горского. В помещение скорой походкой входил капитан Грушевский.
– Кто такой? – властно спросил он у своих ряженых подручных.
– Документов нет, кинулся вот на этого. Еле уложили.
– Да это наш художник, – пролепетал Горский.
– А почему ваш художник прячется на улице и следит за дверями? – раздраженно воскликнул капитан, пристально осматривая черного от грязи Тимура. – Ты кого здесь высматриваешь, художник?
– Он не тот, кого вы ищете, – стал смущенно пояснять Горский. – Он ждал свою девушку, а она…
– Что она? – навострил уши Грушевский.
– Уехала с другим…
Криво усмехнувшись, сотрудники угрозыска сняли наручники с художника и, не спуская с него глаз, отошли в сторонку.
– Андрей Андреевич! Что вы со мной делаете? – зашептал Тимур – Ведь вы же сами мне сказали, что приведете Соню. Куда он ее повез?
– Хорошо, я скажу тебе, – измученно произнес Горский. – Только пообещай, что не натворишь глупостей…
20
Тропинин вел машину, удерживая руль одной рукой, и заинтересованно поглядывал на спутницу. Молодая художница не проронила пока еще ни единого слова. Девушка безразлично смотрела прямо перед собой, но она явно волновалась и, не зная, чем себя занять, нервно теребила конверт с деньгами. Желая вывести ее из смущенного оцепенения, Виктор напустил на себя самый беззаботный вид.
– А я навел о вас кое-какие справки.
– Могу себе только представить, что вам про меня наговорили, – вспыхнув, прошептала Соня. – Истеричная дура, устроившая скандал на выставке? Так?
– Ну нет, что вы! – засмеялся Виктор. – Напротив. Все, что я узнал, меня невероятным образом вдохновило – правда! Кое-что я даже видел сам, поэтому и попросил своих коллег разыскать вас как можно скорее.
Соня повернулась к нему и непонимающе наморщила лоб.
– Я хотел извиниться перед вами от лица галереи и попросить не принимать близко к сердцу всякий вздор наших сотрудников, – смущенно произнес Тропинин. – Дольф у нас, ну как бы это сказать, очень нагружен, так что иногда срывается и позволяет себе дать волю гневным эмоциям. Простите его, и пусть вся эта история как можно скорее забудется и не станет препятствием для нашей дальнейшей работы, тем более что и Гейман, и Горский так лестно мне о вас отзывались.
Соня с тайным восторгом выслушала похвалу, однако постаралась скрыть свое волнение. Все, что с ней происходило, было похоже на сказку. Не хотелось спугнуть удачу. Еще только утром она обреченно гуляла по Павловску, мучилась своим художественным позором и вдребезги разбитым счастьем, как неожиданно появился Горский, и ее жизнь перевернулась с ног на голову. Куратор вывалил кучу ошеломительных новостей и, не дав опомниться, увез ее в галерею. По дороге он продолжал что-то рассказывать, говорил про успехи своих художников, про выставки, продажи, обещал помочь во всем разобраться и всячески подбадривал. Соня так смутилась, что еле переступила порог галереи, однако обещанное «триумфальное возвращение» прошло на редкость гладко – противного Дольфа на месте не оказалось, а вместо него их встретил этот милый Виктор Андреевич, который сразу же потряс ее дивным запахом одеколона, покроем костюма и увесистым желтым конвертом, который он без промедления вручил ей с торжественным рукопожатием. Дальнейшие события разворачивались с еще большей скоростью: Виктор очаровал ее, загипнотизировал, как кролика, и после краткой вступительной беседы неожиданно предложил оставить пропахшую гарью галерею и прокатиться «кое-куда». После получения денег отказываться было неудобно, Соня согласилась, но цель поездки по-прежнему не давала ей покоя.
– Так куда же вы меня везете ? – поинтересовалась она.
Тропинин игриво глянул на ожившую девушку и включил в магнитоле танцевальную песенку.
– Надеюсь, вы простите мне эту вольность? Времени, как всегда, почти нет, а мне хотелось до отъезда самому закончить наши дела. Я хочу показать вам кое-что, а потом, если вы не против, можно будет поужинать.
Женская неуверенность из-за нечесаной головы, пыльного сарафана и внезапно свалившегося на голову шикарного ухажера должна была помешать ей беспечно согласиться, но Соня промолчала. Тропинин смотрел на нее, как журавль на лягушку, Соня заерзала на месте и стала озабоченно оглядываться.
– Не волнуйтесь, – успокоил Тропинин. – Ваша собака не потеряется. Кстати! Она у вас такая спокойная, даже не верится, что может так лаять.
– Когда нужно, Перро показывает зубы, – с хвастливым вызовом заявила Соня.
– Прекрасное качество! – плотоядно улыбнулся Виктор.
Машины остановились перед высоким каменным забором, из-за которого виднелась четырехскатная крыша особняка с небольшим флюгером на башенке. Выйдя из машины, Соня прочитала надпись на табличке у ворот – «Художественный фонд Тропинина». Сергей отпер калитку, пропустил Соню с собакой, Виктора, внимательно посмотрел по сторонам, зашел сам и запер изнутри. Неосвещенный дом стоял темной громадой и казался необитаемым. Сергей открыл входную дверь и включил свет.
– Вы спрашивали, что я о вас узнал? – пропуская вперед свою гостью, продолжал Виктор. – Я выяснил, что у вас трудности с мастерской.
Соня вспыхнула от смущения.
– Нет-нет не отпирайтесь! – улыбаясь, попросил Тропинин. – Личную составляющую таких проблем я даже знать не хочу, меня больше интересуют их творческие последствия. Я ведь, в некотором смысле, бизнесмен, и мое участие в жизни моих художников приносит мне финансовые дивиденды. За этим я вас сюда и привез. Здание принадлежит моему фонду и в данный момент никак не используется, вот я и подумал, может, вы согласитесь здесь работать? Нужно же вам где-то рисовать?
Виктор сделал галантный жест рукой, приглашая изумленную гостью самой осмотреть пространство. Он повел ее через несколько пустых комнат и вывел в двусветный зал с огромным окном во всю стену, открывающим прекрасный вид на гребной канал и дикий парк.
– Как здесь красиво! – воскликнула Соня.
– А главное, тихо, – согласился Виктор.
Соня стала с восхищением осматривать прекрасное помещение. Комната была как будто специально создана для занятий живописью: высокие стены с трубами для навески картин, гигантское окно, очевидно впускающее внутрь потоки дневного света, рабочие стеллажи, столы, мягкие кресла, мольберт.
– А кто здесь работал раньше? – восторженно спросила она, рассматривая разложенные на стеллажах масляные краски.
– Это мастерская, в которой по гранту работают наши лучшие художники, – уклончиво ответил Виктор. – Но сейчас помещение освободилось, так что оно по праву переходит вам, для всех ваших нужд и развлечений.
– Даже не знаю, что и сказать, – ошарашенно прошептала Соня.
– Просто скажите «да», если согласны, – эффектно закончил Виктор.
– Да! – восторженно выдохнула Соня и тут же закашлялась. – Конечно же. Спасибо.
– Ну и отлично, – заулыбался Виктор. – Мне очень хочется, что бы вы создали здесь много прекрасных произведений.
В центре зала стоял какой-то массивный предмет, завернутый в упаковочную пленку, и Соня обратила на него внимание.
– Что это?
Тропинин загадочно улыбнулся.
– Вы должны помнить.
Он разыскал на столе канцелярский нож, прорезал полиэтилен и одним рывком сдернул шуршащий мешок упаковки.
– Ву-аля!
От удивления Соня округлила глаза.
– Это ваша знаменитая кровать, – любуясь произведенным впечатлением, воскликнул Виктор. – Мой фонд купил ее в свою коллекцию.
Соня ужасно глупо хохотнула, но по спине у нее пробежали противные мурашки. Вид обклеенной порнографией кровати, с мятым, заляпанным кровью бельем, окурками и женскими трусами произвел сейчас на нее самое угнетающее впечатление. Ей вдруг стало неуютно наедине с этими двумя, в общем-то, совершенно незнакомыми мужчинами, в странном и пустом доме, находящемся неизвестно где. Сергей, разливая по бокалам шампанское, смотрел на нее с каким-то странным энтузиазмом.
– В холодильнике нашлась кое-какая еда, – неожиданно обратился он к Соне. – Накормить нашего пса?
– Что? – растерянно пролепетала поглощенная своими мыслями художница.
Властным жестом Виктор отпустил шофера и протянул Соне бокал.
– Итак, – воскликнул он, приближаясь к девушке, – чем же вы намерены заняться? Мне безумно интересно.
– Я… Я даже не знаю. Мне нужно подумать…
– Знаете, когда я увидел вас в первый раз, – вдруг, страстно задышав, стал шептать ей Виктор, – тогда, три дня назад, в Манеже вы произвели на меня неизгладимое впечатление. Поверьте, я не шучу. Вы показались мне в своей ярости очень настоящей и исключительно живой… Я был очарован вами, поэтому и хочу сейчас выпить за ваш необыкновенный дар естественности.
Неожиданно Виктор обнял девушку за талию и мягко притянул к себе. Пытаясь защититься от неизбежного поцелуя, Соня выставила вперед свой бокал и трусливо зажмурилась, но тут произошло событие, которое заставило вскочить задремавшую собаку: с жутким звоном бьющихся витринных стекол в мастерскую влетел металлический стул. Следом за ним, перемахнув низкий подоконник, ворвался Тимур. Вид его был страшен: брюки разорваны и до пояса мокры, волосы всклокочены, а лицо измазано чем-то черным. Очевидно, перелезая через забор, он угодил в канал. Выглядел он словно призрак ночи и улыбался какой-то ужасной улыбкой.
– Ну что, голубки? Не ждали? – топча битые стекла, развязно поприветствовал он застывшую парочку. – Не помешал вечеринке?
– Что за выходки?! – обретя дар речи, воскликнул Тропинин.
– Не поверите! Поехал прямо за вами! Не мог себя сдержать! Такая встреча! – изображая на лице радостный восторг, стал паясничать Тимур.
Он подошел к ним и со всего маху ударил Тропинина в лицо. Виктор пошатнулся и, наверное, свалился бы, если б не стоявшая позади кровать.
– Ну здравствуй, дорогой! – осатаневшим голосом заорал Тимур.
Он схватил Тропинина за грудки, тот потерял равновесие.
– Ублюдок, какой ублюдок! – занося кулак над противником, зарычал Амуров. – Я только сейчас понял весь твой план! Ты же специально все подстроил, что бы добраться до нее… Так?!! Ну, что? Удобно на моей кровати? Ты здесь хотел ее трахнуть?!!
– Тимур! Не смей! Что ты делаешь? – истошно заверещала Соня, кидаясь к нему и повисая на плечах. – Что ты несешь? Ты сошел с ума!
Развернувшись, Тимур схватил девушку за локти, встряхнул и, брызгая в лицо слюной, закричал:
– Как ты могла?
Но договорить ему не удалось: поднявшийся Тропинин без лишних слов обрушил на нежданного гостя тот самый, только что влетевший в мастерскую, садовый стул. Оглушенный Тимур упал на одно колено, обхватил голову руками и получил сильнейший удар в область печени.
– Вот это по-нашему! – изменившимся до неузнаваемости голосом радостно прорычал Тропинин. – Молодец, что зашел. Без тебя тут было как-то скучновато!
Подскочив к скорчившемуся Тимуру, он нижним крюком нанес ему удар в челюсть. Тимуру удалось вскочить. Пошатываясь, художник стал пятиться.
– Куда же ты? – завопил Тропинин. – Давай повеселимся!
– Виктор Андреевич! Одумайтесь, что вы делаете? – надрывалась Соня, пытаясь встать между дерущимися. – Он просто не в себе. Это же видно… Простите его…
– Соня, вы лучше бегите отсюда, – глухо шепнул ей Тропинин.
Легким движением руки он отбросил девушку в сторону и кинулся на Тимура. Противники сцепились, упали на пол, стали кататься по осколкам битого стекла, избивая друг друга уже без всяких слов. Вокруг падали предметы, валились стулья, книги, посуда. В считаные минуты мастерская была разгромлена. Когда один из них схватился за каминную кочергу, а другой за бутылочную розочку, нервы у рыдающей Сони не выдержали.
– Чужой!!!!!! – надрывно заверещала художница.
С чудовищным рыком стокилограммовый мастиф ринулся вперед и в одно мгновение сшиб Тропинина грудью. Падая, изумленный Виктор выронил кочергу и, в попытке спасти свою жизнь, обеими руками уперся в шею собаки. Перро закрутил огромной башкой, норовя дотянуться до человека, и стал рвать когтями на Викторе остатки его элегантного костюма. Соня, забившись в угол, выла от страха, собака клацала зубами. Когда силы Виктора были почти на исходе и рычащая собачья пасть уже тянулась к его горлу, раздался оглушительный выстрел. Пес дико взвыл и завалился на бок. Виктор в изнеможении раскинул руки, а Соня замолчала.
– Я же оставил вас всего на три минуты, – послышался чей-то удивленный голос.
Тимур выронил розочку и медленно повернулся, – за его спиной стоял тот самый здоровяк, которого он полчаса назад видел возле галереи. В одной руке тот держал кусок ветчины, а в другой – дымящийся пистолет.
– Помощь нужна? – улыбаясь, спросил здоровяк. И тут же неожиданно и страшно ударил художника.
Тимур закачался и, теряя сознание, рухнул на пол. Последнее, что он услышал, был истерический вопль Сони, которая кинулась на улицу через разбитое окно. Свет ламп погас.
– Ты что, убил его? – тяжело дыша, спросил Виктор, когда спустя минуту они с Сергеем склонились над поверженным.
– Да нет, он просто отрубился.
– Изъясняйся культурно, – раздраженно потребовал Виктор.
– Простите.
Виктор сел на кровать и, болезненно морщась, разорвал на себе пропитанную кровью и шампанским рубашку – жуткие собачьи когти избороздили всю грудь фиолетовыми шрамами.
– Чего с ним делать? – угодливо спросил Сергей, указывая на Тимура.
– Хватит трупов на сегодня. Соседи могли слышать выстрел, так что тащи его на улицу, только предварительно влей в рот стакан водки. Собаку – в канал.
Сергей торопливо захлопал буфетными дверцами и, склонившись на Тимуром, стал лить джин прямо ему на лицо. От мучительного жжения Тимур болезненно застонал и пошевелился. К нему стало возвращаться сознание, он протер глаза и приподнялся на локте, – противник сидел на кровати и безразлично смотрел на него.
– Она мне нравится, – хриплым голосом признался Виктор. – И ты совершенно прав – она мне нравится как женщина. Она красивая, современная, решительная, вместе с ней я надеюсь достичь невероятных успехов в искусстве, и не тебе решать, с кем она предпочтет остаться.
– Подлец! – еле слышно прошептал Тимур.
– На себя посмотри, – презрительно ухмыльнулся Тропинин. – Жалкий неудачник. Таким как ты уготована одна будущность, ты – гумус для искусства, на таких эмоциональных дураках практикуются настоящие профессионалы. Ты, наверное, ослеп, если не видишь, какую я тебе приготовил роль?
– Я убью тебя.
– Ты уже говорил подобное на выставке Дольфу, помнишь? Но Дольф – жирная, женоподобная свинья, старый бэдээсэмщик и не способен к поединку. Я же разделаюсь с тобой с великим удовольствием. Хочешь поединка? А чего, давай. Классика – дуэль из-за бабы. Но поверь мне, ты будешь умирать и видеть, как я целую твою Соню.
– Подонок. Ты храбрый только с пистолетом… – застонал Тимур.
Виктор встал с кровати и, прихрамывая, подошел к разбитому окну. Сергей, внимательно наблюдая за шефом, встал у Тимура за спиной.
– Воображаешь себя героем, этаким художественным самоубийцей, – задумчиво произнес Тропинин. – Готов умереть ради любви и принципа? Ну что же, это мне подходит.
– Ты – призрак зла, – заявил Тимур. – И я отправлю тебя обратно в ад.
Виктор презрительно усмехнулся и повернулся к нему.
– Ну чего ты на меня смотришь, художник? – неприязненно спросил он. – Хочешь драться? А на чем? На бумажных мечах, на линейках или на цветных карандашах?
Тимур сел на полу, вытер с подбородка обильно вытекающую из разбитого носа кровь и спокойно заявил противнику:
– Может, я и псих, но не трус. Шпага, рапира или сабля, мне все равно… Выбирай.
– Героя из себя корчишь? – усмехнулся Тропинин. – Мушкетерских романов начитался? Какие шпаги? Впрочем, как скажешь. Завтра в полночь, в галерее, приходи один… Обещаю, если не испугаешься, то умрешь красиво… А сейчас пошел вон отсюда!
Сергей подхватил пошатывающегося Тимура и поволок его на выход, а Тропинин обвел взором вдребезги разбитую мастерскую.
– Проклятое место.
Виктор подошел к кровати, сдвинул ее в сторону и задумчиво уставился на бурое пятно засохшей крови, пролитой прошлой ночью:
– Чего он насчет шпаги так расхрабрился?
21
Тимур вернулся в мастерскую около полуночи. Шел пешком: ни один таксист не захотел подвезти избитого и, судя по качающейся походке, пьяного парня. Заинтересовались им только проезжавшие мимо менты, но Тимур скрылся от ленивых до бега милиционеров в темноте проходных дворов. Уже дома, обклеиваясь после душа пластырем, он насчитал на теле двенадцать ссадин, кряхтя измазался йодом, разыскал давно припрятанный коньяк, жадно выпил, опьянел и только после этого немного расслабился. О Соне старался не думать, но перед глазами стояла картина, которую художник увидел из темноты парка: в ярко освещенной комнате этот гад протягивает ей бокал вина, обнимает, Соня податливо улыбается, и они вот-вот поцелуются.
Все, что произошло с ним ночью, Тимур без раздумий записал на счет Тропинина. Копошась сейчас в памяти, он неожиданно вспомнил, где видел раньше этого демонического человека. Еще в молодости, музыкант и начинающий художник, он, как и многие тусовщики, частенько попадал в Большой дом для «бесед о тунеядстве». Тимур, как правило, хамил, отчего его почти каждый раз чувствительно избивали. Один из тех, кто промывал там мозги неформалам, и был тот самый Виктор. Только тогда он выглядел гораздо моложе.
– Сучка ментовская, – злобно прошептал Тимур.
Безуспешно попробовав заснуть, он постепенно выкурил все сигареты, сходил еще за бутылочкой, полежал, посидел и только к трем ночи понял, чего жаждет душа, – Амуров зажег свет и взялся за кисти. Сразу пропали боль в переносице и звон в разбитой голове. Он начал работать и со всей страстью выплеснул на холст мучившее его отчаяние. Личный коллапс: поруганная любовь, утраты, сгущающийся мрак души наполняли сейчас картину ужасающим по силе воздействия реализмом. Люди, по которым скакали безжалостные всадники, плакали, умоляли, страшились, взывали к небесам и пытались спастись. Он прописал весь нижний план, насытил его деталями, нарисовал разверзнувшиеся небеса, несущиеся по нему тучи и всполохи молний.
Работая вчера вечером, Тимур вложил в руку последнего всадника косу на длинном древке, но сейчас передумал, смыл косу растворителем и пририсовал к костистой лапе скелета изогнутую саблю с глухой гардой. Без пяти минут мастер спорта по фехтованию, оставивший бои только из-за травмы руки, Тимур знал толк в сабельном бою, поэтому, вложив сейчас в руку Смерти это страшное кавалерийское оружие, мстительно улыбнулся чистоте выбранного символа. Его всадник рубил своей саблей сотни рук, голов и тел, обагряя пролитой кровью всю нижнюю часть картины.
– Я отомщу тебе, – устало прошептал Тимур.
Сон сморил его уже к четырем часам дня. Тимур так и заснул в одежде, не помыв кистей и рук. В комнате стоял густой запах сохнущего масла. Картина была закончена.
Он проспал почти до полуночи, а когда устало поднялся, первым делом вытащил из-под шкафа свою старую саблю. Он взмахнул ею, и сталь со свистом рассекла воздух. Тимур уложил оружие в круглый тубус для чертежей, повесил его за спину и, в последний раз оглядев свое жилище, поспешно вышел из мастерской.
Перед входом в галерею стояла машина «скорой помощи». Тяжело задышав, Тимур взбежал по ступеням, отворил двери и решительно вошел внутрь. Еще вчера закопченное пожаром помещение было черно и страшно, но уже сегодня оно сияло белизной. Эта холодная пустота навалилась на него и заставила насторожиться. Он шел по ослепительно белому пустому залу и диковато оглядывался – даже пол под его ногами был выстлан белоснежным грунтованным холстом.
– Молодец, что пришел.
От ненавистного, равнодушно безжизненного голоса Тимур вздрогнул, – Тропинин сидел посреди зала на белом кубе в черном, обтягивающем тело спортивном костюме. Ссадины на его лице, как и у Тимура, были заклеены лейкопластырем.
– Да еще и с картиной, – усмехнулся Тропинин. – Неужто решил помириться?
Тимур промолчал и, не решаясь двинуться дальше, остался стоять на месте.
– Мое предложение по-прежнему в силе, – с ледяной улыбкой сказал Тропинин. – Протяни руку, и будем вместе работать. За девчонку прости, она эпизод. Ты мне больше интересен как художник.
– Я скорее умру, чем буду на тебя работать.
– Ну что же, умри, – спокойно согласился Тропинин. – Но у меня два условия. Мы подпишем бумаги о том, что все произошедшее – художественная акция. Это избавит галерею от проблем с ментами. И второе, драться будем в масках: не знаю, как тебе, а мне такая популярность не нужна. Если нет возражений, подписывай бумаги и переодевайся.
За белой выставочной панелью для художника был приготовлен спортивный костюм белого цвета. Тимур облачился в панталоны, надел обтягивающую куртку, натянул на лицо фланелевую маску с прорезями для глаз и подошел к оружию. Хорошо отточенные сабля, шпага и рапира лежали рядом на белом кубе. Тимур долго осматривал предложенное оружие, но потом раскрутил принесенный тубус и достал собственное.
Когда он вышел, противник в черной маске уже стоял в центре зала. Он посмотрел на саблю Тимура и, ничего не сказав, взял такое же оружие.
Не зная, как унять внезапно подступившую дрожь в ногах, Тимур стал подходить к противнику, медленно приподымая саблю. От мысли, что через мгновение он может умереть, начинала кружиться голова, но он вспомнил Сонино предательство и яростно стиснул рукоять. Как только Тимур подошел на расстояние удара, враг мгновенно встал в стойку, и кончик его сабли блеснул холодным синим светом. Желая испытать нервы соперника, он сделал пару обманных выпадов, но Тимур легко разгадал маневр и отбил атаку. Клинки вновь схлестнулись, звякнули стальные гарды. По силе удара Тимур ощутил, насколько сильна рука противника.
«Он не новичок, – мелькнуло в голове. – Вот так так!..»
Амуров обрушил на врага целый град ударов, но тот словно играючи отбился и совершенно неожиданно перешел в контрнаступление. Теперь уже Тимуру пришлось пятиться под напором его натиска и отбивать удары. Атаки начались одна за другой, дерущиеся, тяжело дыша и вскрикивая, перемещались в пространстве, заманивали, рубили с плеча, пытаясь дотянуться, наскакивали друг на друга, пока один из ударов фехтовальщика в черном не достиг цели. Тимур увидел, что у него рассечено бедро. По ноге потекла кровь.
– Это ничего не значит! – в бешенстве заорал он, размахивая оружием.
Фехтовальщик в черном перешел к обороне, начал пятиться, водить за собой, лавировать, не забывая при этом контратаковать. Один из ударов едва не стоил Тимуру жизни. Амуров увернулся и ответил целой серией, но противник, словно заколдованный, ускользнул. Бой принял ожесточенный характер. Тимур вновь пропустил выпад. На этот раз удар был куда серьезней – сабля угодила в предплечье, разрубила плоть до кости, и левая рука повисла как плеть. Ранение было ужасно, Тимур слышал пульс прямо в своей голове. Его прошиб озноб и затошнило от вида собственной крови. Тимур снял пропитанную потом маску и, бросив саблю на пол, стал сдирать с себя красную от крови куртку. Противник опустил оружие и неподвижно выжидал на некотором расстоянии. Тимур скрутил жгутом куртку, кое-как перевязал руку повыше рассечения, поднял саблю и вновь принял боевую стойку. Он решил действовать осторожнее и попытался не горячиться. То, что враг прекрасно знаком с фехтованием, теперь уже стало ясно. По тому, как он двигался, реагировал и владел ударом, можно было сказать – это матерый боец. Тимур ослабел и стал неточен в движениях. Однако его и не думали щадить, и даже напротив, желая вывести раненого из себя, издевательски подбадривали ударами саблей плашмя. Рыча, Тимур слепо бросался в атаку, но противник легко уворачивался и, действуя наверняка, наносил ему множество незначительных, но очень болезненных порезов. В считаные минуты на руках, ногах и теле Амурова закровоточило не менее десяти ран. Упав в изнеможении на одно колено, он с мучительным стоном попытался подняться, для чего оперся на саблю, однако подскочивший противник выбил ее ударом ноги и занес свое оружие над его головой.
«Все», – подумал Тимур, теряя силы.
Вытянув вперед сжатые в кулаки руки, он пошатнулся и упал без чувств.
– Помогите! – закричал фехтовальщик в черном.
Из-за выставочной секции немедленно выбежали Сергей и Горский. Следом появился… Тропинин. Они склонились над распростертым художником.
– Боже, что же теперь будет! Бедный Амуров! – бабьим голосом завыл обезумевший Горский.
– Врача! – глухо приказал Тропинин.
Сергей кинулся на улицу и тут же вернулся с людьми в синих халатах. Врач испуганно посмотрел на залитый кровью зал и, склонившись над раненым, стал щупать пульс.
– Он жив? – не унимался Горский.
Санитар раскрыл чемоданчик, извлек все необходимое, и уже через пару минут Тимур был перебинтован и подключен к капельнице.
– Поднимайте осторожно, не размажьте отпечаток! – не совсем понятно обратился Виктор к санитару. Врач удивленно посмотрел на него, а Виктор взял его за локоток и отвел в сторону.
– Это вам за хлопоты, – сказал, протягивая деньги.
Врач опасливо покосился на выросшего у него за спиной Сергея и кивнул санитарам. Уложенного на носилки художника накрыли тканью и торопливо вынесли из галереи.
– Андрей, что ты на меня так смотришь? – раздраженно спросил Виктор Горского. – Он сам так захотел, и это его личное безумие. Я тут ни при чем. Поезжай лучше с врачом и проследи, пожалуйста, чтобы все было хорошо.
Когда врач с Горским покинули помещение, фехтовальщик в черном костюме сорвал с себя маску и вытер ею красное от пота лицо. Это был миловидный, светловолосый молодой мужчина с голубыми глазами и нежным полудетским ртом, но сейчас приятные черты его лица были искажены страхом перенесенного душевного потрясения.
– Мы так не договаривались! – задыхаясь от гнева, воскликнул светловолосый. – Если бы я знал, что этот парень такой псих, я бы не согласился. Он хотел меня убить, я был вынужден рисковать.
– Не беспокойтесь, вы все сделали правильно, – устало произнес Виктор.
– Отдайте мои деньги и забудьте мой номер, – опасливо поглядывая на здоровяка Сергея, потребовал фехтовальщик.
Сергей вынул из кармана увесистый конверт:
– Здесь на тысячу больше!
22
Ночь на какой-то миг рассеялась, Тимур с трудом приоткрыл глаза и увидел над собой неестественно белый свет. На мгновение почудилось, что он снова находится в кубе галереи, он испугался и, желая нащупать выпавшую саблю, пошевелил пальцами рук. С ног до головы обмотанный заскорузлыми от крови бинтами, Тимур лежал на холодном дерматине колесной каталки под ярчайшим светом хирургических ламп, поэтому, пошевелившись, почувствовал только, что накрепко прикручен к каталке ремнями. Из его рук во все стороны торчали пластмассовые трубки, и дышать было очень тяжело. Рядом с ним в операционной стояли какие-то люди в мятых халатах и шапочках, с марлевыми повязками на лицах.
– Это что за Франкенштейн? – спросил один из них, натягивая на руки резиновые перчатки.
– Бригада, которая привезла, говорит – он сам себя так, – тихо прошептала санитарка.
– Псих, что ли? – встревоженно спросил хирург, внимательно вчитываясь в карту больного, доставленную вместе с телом из приемного отделения. – Суицидник?
– Не-а. Художник.
– Во как? – удивился хирург и с интересом уставился на разбитое лицо пациента. – Ничего себе пошли художники! Ну что делать? Давайте сошьем этого поклонника Тарантино.
– Я только что вкатил ему четыре кубика молочка с фентанилом, – лениво доложил анестезиолог. – Давление пока в норме. Видишь, даже глаза открыл… Сейчас еще подышит, и можно будет приступать.
Над Тимуром склонилось какое-то странное существо с холодными и ничего не выражающими глазами. Существо деловито приоткрыло ему веко, посветило фонариком в зрачок и, прогудев, словно колокол, какие-то латинские слова, надело на лицо Тимура пластмассовую маску, из которой потек прохладный газ анестезионной смеси. Чьи-то резиновые руки стали обрабатывать тело холодной спиртовой салфеткой и бесстыдно протерли ему самые интимные места. Тимур попробовал возмущенно застонать, но слабый звук застрял где-то в пересохшем горле. С трудом сглотнув вязкие слюни, он задышал ртом и стал торопливо соображать, что происходит. Заметив страх в глазах очнувшегося пациента, анестезиолог озабоченно посмотрел на секундную стрелку часов и плотнее прижал маску к его лицу. Веки Тимура отяжелели и стали закрываться, силы его оставили, по всему телу разлилась опьяняющая легкость, и, забыв о своих мучителях, он снова провалился в дающую избавление от всех печалей бездонную пустоту.
Сознание вернулось через пятнадцать часов – с острой головной болью, мучительной тошнотой и жаром в левой руке. Все тело горело, и, казалось, он обернут не бинтами, а раскаленными полосами железа. Тимур лежал в шумной, перегруженной кроватями палате, где его пробуждение от наркоза никем не было замечено. Какой-то плешивый старик в засаленном халате монотонно читал соседям по палате спортивную газету. Заметка касалась известного нападающего, на последних минутах реализовавшего важный пас и принесшего команде в ускользающем от нее групповом полуфинале долгожданное очко. Больные слушали, кряхтели и озабоченно почесывали свои желтые от йода послеоперационные швы.
Вошла сестра. Газета была отложена, и мужчины подлизывающимися голосами стали просить у сестрички «принесть им кипяточку». Не обращая внимания на стоны поправляющихся, сестра промаршировала к кровати Тимура, потрогала у него лоб, смерила давление, сокрушенно покачала головой и поспешно ушла. Вскоре она вернулась, сделала больному укол, затем приподняла ему голову и помогла запить целую горсть таблеток. Тимур жадно выпил подряд три маленьких пластмассовых стаканчика теплой, пахнущей больницей воды и бессильно откинулся на подушку. Сестра установила ему в капельницу новую бутылку с лекарством и, неслышно ступая, ушла. Тимур стал постепенно погружаться в дрему. Необоримый сон охватил его, и скоро он снова провалился в уже ставшую привычной черную пустоту.
– Вы меня слышите? Тимур? Вы меня слышите? – донесся до него чей-то голос. – Кивните головой, если слышите.
Тимур раскрыл глаза и с трудом различил перед собой неизвестного человека в белом халате.
– Капитан Грушевский, – представился неизвестный. – Я расследую ряд преступлений вокруг галереи «Свинья». Вы должны меня помнить, мы задерживали вас позавчера в галерее. Помните? Расскажите, что с вами случилось? Вас пытались убить? Кто были эти люди? Опишите их.
– Меня никто не убивал, – еле слышно прошептал Тимур и облизнул бурые корки спекшейся крови на губах.
– Зачем вы их выгораживаете? – досадливо поморщился капитан. – Вам нечего бояться. Помогите следствию, и мы сумеем вас защитить.
Тимур попытался ответить, но лицо капитана стало расплываться, превращаясь в мутное облако.
– Вы подписывали эту бумагу? – торопливо спрашивал Грушевский, доставая из папки какие-то листки и поднося их к лицу художника. – Здесь ваше согласие на некую акцию и заявление об отсутствии претензий. Но бумага подписана только вами. Вас вынудили? Кто был тот, с кем вы дрались? Как его имя? Что с вами? Вы меня слышите? Эй! Врача!.. Кто нибудь… Сюда!
Навострившие уши обитатели палаты всполошились, самый «ходячий» торопливо посеменил за врачом. Меньше чем через минуту в палату вбежала напуганная сестра, а за ней скорым шагом вошел и молодой розовощекий доктор со стетоскопом на шее.
– Разойдитесь! Разойдитесь, не толпитесь! – встревоженно потребовал доктор. – Лазарев! Что вы тут скачете со своей грыжей, немедленно в койку…
– Сергей Анатольевич, давление падает, и пульс нитевидный!.. – упавшим голосом прошептала сестра, припавшая к холодной руке Тимура.
– Аня, срочно адреналин в вену! Так, а вы кто? Зачем здесь?
– Уголовный розыск!
– Не мешайте!
23
Спустя десять дней после скандальной выставки в Манеже и столь неожиданно последовавших за ней мрачных событий галерея «Свинья» уже совершенно оправилась от перенесенных потрясений и, невзирая на циркулирующие вокруг нее ужасающие слухи, представила узкому кругу коллекционеров свой новый, пока еще тщательно скрываемый от публики проект. Для такой скрытности имелись особые причины: творческая манера выставляемого художника была столь неординарна, что подвергающаяся непрерывным нападкам прессы «Свинья» сочла за благо не дразнить пока разъяренное общество красной тряпкой очередной художественной провокации.
Этот приватный и тщательно охраняемый показ был скрыт от журналистов и собрал не более ста человек. Саму галерею было не узнать. Заново остекленная, выкрашенная и празднично подсвеченная «Свинья» преобразилась после недавнего погрома и сияла, как новенькая монета. По случаю столь важного события Дольф, лысину которого теперь украшал бледно-розовый шрам, поручил дело опытнейшей кэтринговой компании: состоятельных посетителей при входе встречали ледяные скульптуры и длинноногие девушки с бокалами шампанского.
Однако сам Дольф прохладных вин не пил. Натянуто улыбаясь, он расхаживал среди коллекционеров, общался, давал пояснения, но чувствовал себя при этом невыносимо гадко. В какой-то момент он заметил торжествующую улыбку Виктора и вовсе впал в полнейшее раздражение. Поводов для таких чувствительных терзаний у него было хоть отбавляй. События последних дней происходили так скоро, что Дольф едва поспевал следить за всеми поворотам этого гигантского калейдоскопа роковых случайностей: скандалы, угрозы, нападения, поджоги, убийства, следователи, прокуратора, похороны, больницы… Вся его легкая и наполненная приятными ощущениями жизнь внезапно превратилась в сущий ад, а сам он, в довершение ко всему, стал общеизвестен как содержатель скандальной галереи, возмутитель спокойствия и провокатор. Но даже с этим можно было бы сейчас смириться, если бы не сегодняшняя выставка! Дольф был убежден, что этот проклятый художник ввергнет галерею в настоящую тьму. Было в его творчестве что-то сатанинское. Впору хвататься за голову, но Виктор настоял на своем: изменить теперь что-либо уже невозможно.
На огромном экране показывалось видео – в зале галереи иступленно дрались двое мужчин. Сразу бросалось в глаза, что их сабельный поединок не постановка и не фантазия заумного куратора. Самодовольные, снисходительно-надменные и любые иные улыбки мгновенно сползали с лиц зрителей, когда они начинали понимать, что происходит на экране. Брызги натуральной, отнюдь не бутафорской крови, стоны, хрипы, восклицания и, в особенности, жуткий звук падения обессилевшего тела – все поражало таким реализмом, что одной из наиболее впечатлительных зрительниц стало худо. Бесконечно повторяясь, бой показывался со всех ракурсов, и было в этом диком зрелище что-то поистине завораживающее.
Андрей Андреевич Горский, нарядившийся по случаю открытия выставки в свой самый шикарный костюм, стоял неподалеку и с невозмутимым видом давал «видеоарту» развернутые пояснения.
– Искусство, как и любой язык, эволюционирует, – вдохновенно вещал куратор. – И любое новое слово в нем сталкивается с необходимостью формирования новых символов. То, что вы видите, – необычный культурный феномен, выросший из психической гиперактивности автора. Склонность к аномальному поведению и личные страсти вызвали у него вспышку ярости, которая и стала программой трансляции патологических идей художника. Является ли его творчество нормальным?.. Отменяет ли оно негласный принцип табуирования безумия?..
Пораженные слушатели молчали, а Горский, так и не получив от них ответа, продолжал толковать о «культурном конфликте», «смене футурологических тенденций», «ориентированности на бессознательное», «материальном следе», «палитре страданий» и особенно о сложном для понимания «вопросе познания пределов агрессии, направленной внутрь жаждущего самоидентификации художника».
Однако если это уснащенное искусствоведческими пояснениями видео просто щекотало нервы, то сама выставка вызывала у VIP-персон настоящий трепет ужаса: на стенах главного зала висели пятнадцать белоснежных холстов, забрызганных абстрактными красными пятнами и запятнанных такими же красными следами рук и ног. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что на холстах не что иное, как кровь. На самой большой картине, занимавшей весь центр галерейного пространства, в огромном пятне такой же красной «краски» эффектно читался отпечаток тела мужчины с распростертыми руками.
– Так это и есть тот самый проект?
Виктор резко обернулся и с удивлением обнаружил рядом с собой улыбающуюся Марьяну.
– Приехала? – насмешливо воскликнул он, целуя в щеку сверкающую драгоценностями девушку. – Ну, точно будешь коллекционером.
– Как я могла не приехать? – вспыхнув нежным румянцем, ответила Марьяна.
Примчавшаяся ради этой выставки из Лондона, она смотрела сейчас на неотразимого Виктора увлажненными от нежности глазами. Виктор и в самом деле был чертовски неотразим: как всегда, подтянутый и элегантный, он стоял посреди гостей и вальяжно улыбался – его забавляла реакция зрителей. С самого начала выставки он с авторским пристрастием ревниво наблюдал за их пугливым непониманием и эмоциональными переживаниями, но сейчас, к моменту своей встречи с Марьяной, уже полностью уверился в успехе собственного проекта. Зрители, конечно, были в шоке, однако их шок был пропитан таким извращенным восторгом, что Тропинину было ясно – расчет оправдался и вся эта публика готова платить. Виктор торжествовал.
– Что-нибудь понравилось? – рассеянно спросил он девушку.
– Все гениально! – шумно вздохнув, восторженно заверила Марьяна. – Только немного страшно, но от этого ощущения еще острее.
– Советую сразу резервировать работы, – серьезно заявил ей Виктор. – Что бы не получилось, как тогда с Близнецами.
Марьяна оторвала от лица Виктора свой влюбленный кроличий взгляд и озабоченно встрепенулась.
– Да-да! Конечно, – наморщив лобик, засуетилась она. – Мне очень нравится вон та, третья слева, и еще вон та… А где же сам автор?
– Автор? – насмешливо переспросил Виктор. – Перед тобой.
Марьяна осеклась и изумленно округлила глаза, а Виктор заговорщицки шепнул ей на ухо:
– Шучу… Художник отдыхает, – обычным голосом добавил он. – Ну, ты понимаешь?..
Тут до Марьяны стал доходить смысл сказанного, она испуганно посмотрела на забрызганные кровью картины и согласно закивала головой.
– Да понимаю… Конечно, после такого…
– Выбирай, – покровительственно предложил ей Виктор. – О ценах поговорим позже.
Он нежно дотронулся до упругого бюста нефтяной королевы. Марьяна вздрогнула от возбуждения и послушно направилась к картинам. Довольный собой Виктор повернулся к гостям и увидел Владимира Львовича Сидича, насмешливо наблюдавшего за воркующей парочкой.
– Ну вот и я, – захрипел прокуренным голосом Сидич, протягивая для приветствия волосатую руку. – Что за бабенка? Рогулина, что ли?
– Спасибо, что приехал, – по-свойски приветствовал Виктор чиновника, пропуская его вопрос мимо ушей.
– Ну куда же я денусь от такой красоты, – утирая потный лоб платочком, съязвил Сидич, оглядываясь на туго обтянутую джинсами Марьянину задницу. – Помнишь, как у Высоцкого? «Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы водолазами…»
– Скалолазами, – думая о чем-то своем, машинально поправил его Виктор.
– Ну я и говорю, – глумливо ухмыльнулся Сидич. – А чего это на картинах намазано? – близоруко щурясь, спросил он. – Месячные, что ли?
– Кровь, – беспечно улыбаясь, ответил Виктор.
– Фу ты, – изумился Владимир Львович.
– Неожиданно, правда? – оживился Виктор. – Специально вымороженная, законсервированная от гниения и покрытая защитным лаком кровь. Наш новый проект «Ярость» – искусство протеста.
Сидич вразвалочку подошел к одной из картин и с минуту осматривал ее через очки. Когда он вернулся к Тропинину, тот улыбался.
– Ты, верно, Витя, совсем тут с ума сошел, если разрешаешь своим художникам рисовать такое, – удивленно пожурил его Сидич. – Вас зеленые распнут, и, между прочим, правильно сделают. Одно дело распилить свинью бензопилой, чтобы потом ее съесть, другое – то, что вы творите.
– А кто говорит про животных? – в свою очередь удивился Тропинин. – Ты что, не видел видео? Это кровь самого художника, который добровольно исполосовал себя.
Кустистые брови Сидича подскочили выше оправы очков, и он изумленно уставился на Виктора.
– И чего, теперь все твои художники начнут вскрывать себе вены? Так, что ли?
– Не все, – ничуть не смутившись, ответил Виктор.
Он взял Сидича под руку и вывел его в соседний зал, где непрерывно прокручивалось видео. Владимиру Львовичу хватило двух минут просмотра: он заметно побледнел и начал хлопать себя по карманам в поисках сигарет.
– Видишь, – насмешливо сказал ему Виктор. – Другие этот опыт повторять не станут, для этого требуется большая сила духа. Ну, а этот уже просто не сможет.
– Он что, помер? – испуганно заморгал Сидич.
– Да какая разница? – весело отмахнулся от него Виктор. – А если даже и умер? Что с того?
Он вновь взял Сидича под локоток и увел от мелькающих на экране ужасов.
– Поверь мне, разница есть, – наставительно стал пенять ему Сидич, брезгливо отказываясь от предложенного шампанского. – Вы тут такую кашу заварили, что я теперь даже не представляю, что со всем этим делать. Статьи в прессе еще ладно, но убийства и пожары – перебор!
– Так ты же сам хотел резонансного скандала? – удивленно улыбнулся Виктор. – Вот и получил все, как договаривались.
– Ну да, конечно! Спасибо за помощь, просто теперь все за голову схватились, кто же все это натворил? Сейчас спецслужбы уже ищут каких-то реакционеров и шерстят подозрительную публику, но виновных пока нет.
– Ну, это дело наживное, – беззаботно ответил Виктор.
– Можно сказать и так, – кивая, согласился Сидич. – Но что же твои художники? Вот беда-то, жаль мальчишек, – добавил он, подозрительно косясь на Виктора.
– А что художники? – развел руками Виктор. – Прекрасная смерть. Они теперь известны всему миру. Лондонская Галерея Тэйт уже хочет устроить их ретроспективу, а коллекционеры дерутся за оставшиеся работы. Кстати, твоя «Варя», как я и обещал, теперь тоже стоит сотни тысяч, так что все не так уж и плохо. Жаль, конечно, ребят, но у нас в художниках нет недостатка. Молодежь, как говорится, в вечном поиске прекрасного, на потоке новые имена. Вот хотя бы этот, – Виктор широким жестом обвел рукой выставку. – Любуйся и покупай, цены, правда, кусаются.
– И почем кровавая баня? – недоверчиво поглядывая на картины, пробурчал Сидич.
– Маленькие по сто, а центральная – двести пятьдесят.
– Да ты рехнулся! – возмущенно отмахнулся от него Сидич.
– Ничуть. Известнейший русский художник, я за час продал уже три его картины с выставки. Сейчас во всем мире бум на китайское и индийское искусство, и стоит оно те же сотни тысяч. Я хочу, чтобы наши художники вытеснили их с рынка, я хочу, чтобы с нами считались. Но нужны деньги…
– Я поэтому и приехал, – напряженно оборвал его Сидич. – Я нашел для тебя деньги, много, как ты и просил. Сейчас сюда пожалует сам Волков. Вот и расскажи ему про китайцев и про все остальное. Я его уже подготовил, он хочет для начала купить что-нибудь для своих банков. Предложи ему Близнецов, он был у меня в гостях и видел «Варю» – очень смеялся. Но картины – это так, мелочь. По большому счету он хочет вложиться в твою мегаструктуру, которая будет у нас рулить всем искусством. Я только объяснить ему все толком не смог.
Виктор недоверчиво усмехнулся, однако слова Сидича буквально тут же сбылись. К дверям «Свиньи» подъехал серебристый «майбах», а следом за ним – черный джип сопровождения. Из лимузина вышел сухонький старичок в сером костюме. На вид ему было лет шестьдесят, невысокого роста, субтильного телосложения, седые волосы, очки. Оставив на улице свою внушительную охрану, Волков вошел в галерею и получил при входе каталог выставки.
– Ну вот и наш, без преувеличения, дорогой Леонид Аркадьевич, – припадая к плечу банкира, приветствовал его Сидич и тут же представил ему Тропинина: – Знакомься с героем.
– Рад знакомству, – деловито улыбнулся Волков, протягивая Виктору руку. – Володя рассказывал мне про вас множество поразительных историй.
– Надеюсь, ничего правдивого?
– Хвалил ваших художников, говорил, что с ценами на их картины происходят прямо-таки чудеса.
– Его художники еще и сумасшедшие провокаторы, – фыркнул Сидич. – Ты только не пугайся, – он по хозяйски стал показывать Волкову выставленные картины, – но эта кровавая пачкотня – тоже дорогущее современное искусство.
– В известной мере Владимир Львович прав, – не стал артачиться Виктор, отправляясь вслед за ними в экскурсию по залу. – Но драма этого художника вовсе не в его телесных страданиях, а в том, что он утратил чувство творческой перспективы. Вот он и захотел вернуть себе внимание ожиревшего от сытости и одурманенного пропагандой человека, но современный мир изжил свою способность понимать трагедии отдельно взятой личности и различает только масштабы «коллективного». Художник отверг поток общего сознания и, желая перевернуть наше представление о собственном предназначении, впал в неистовую ярость к самому себе.
Волков с интересом дослушал пояснения Виктора, пролистал каталог и, как все деловые люди, перевел беседу в практическую плоскость.
– Знаете, мне очень понравились картины ваших Близнецов и, честно говоря, потрясла трагедия их ухода из жизни. С удовольствием выслушаю от вас предложение и куплю лучшие их работы, но, сказать по чести, теперь мне еще больше нравится идея вашей сегодняшней выставки. Ярость как мерило подлинности чувств, ярость как сорванная маска, ярость как вырвавшаяся на свободу страсть, абсолютная и дикая, свободная от условностей приличий и обдумывания сознанием. Это меня завораживает.
Виктор, у которого от возбуждения заблестели глаза, понял, что повстречал благодарного слушателя, и тут же развил свою мысль.
– Да, вы абсолютно правы! – эмоционально воскликнул он охваченному воодушевлением банкиру. – Ярость – вспышка ослепляющего, но абсолютно белого света, миг естественного! Художник протестует против узости выбора средств и превращает самого себя в материал для творчества. Он перестает быть с ним разделенным и становится частью своей картины. Это очень честно. Всем сейчас нужны только подлинники, а перед вами – абсолютно достоверная история. Перевоплощение снято на видео и выдается покупателям как сертификат подлинности его картин.
– Я хочу сказать вам, что, наверное, каждый в своей жизни хоть раз испытывал ослепляющую силу ярости. Образуемый при этом поток энергии уникален. Он сильнее, чем все, что я испытывал в жизни. Сильнее, чем секс, сильнее, чем прыжок с парашютом, чем автоавария, проигрыш в казино и зарабатывание огромных денег. Мне сейчас уже пятьдесят шесть, и здоровье мое, к сожалению, мне уже не принадлежит – доктора держат меня в ежовых рукавицах, и теперь у меня одни лишь воспоминания, но я многое бы дал за то, чтобы испытать чувство подлинной, ослепляющей ярости хотя бы еще раз. Но нет, не могу, – засмеялся Волков. – Слабое сердце.
– Вам тоже выпало испытать это чувство?
– Много лет назад мы рвали с моей тогдашней женой нашу счастливую жизнь в клочья, и я сиганул с моста в Неву. Наверное, я должен бы был умереть, но моя ярость дала мне столько сил, что я не утонул в ледяной воде, не разбился, выбрался на берег и, как видите, остался жив.
– Прекрасный пример ослепляющей ярости, – с восторгом согласился Виктор.
– Когда у вас официальное открытие?
– Э-э, – замялся Виктор. – Через неделю.
– Прекрасно.
24
Слепо шаря по незнакомым полочкам, Евдокия обыскивала кухню Тимура в поисках чая и опасливо косилась на подругу. Ида безучастно стояла у окна, глаза ее были красны от слез. За окном, в гулком колодце двора слышались детские голоса, где-то совсем рядом гудел проспект, а в окне мансардного этажа напротив стоял пожилой мужчина в спортивных брюках и майке и с интересом посматривал на незнакомых женщин. Кенар Монтекристо залился поспешной трелью. Чайник на плитке издал победный свисток и выпустил струю пара. Евдокия отыскала пачку «зеленушки» Самаркандской чаеразвесочной фабрики, сполоснула заварочник и плеснула кипятка.
– Пойдем, что ли? – неуверенно спросила она, поставив на подносик чашки, ложки и плошку с засахарившимся медом.
– Оставь. Попьем здесь. Вообще-то, мне лучше выпить.
Лыжница прокралась на цыпочках в комнату и вернулась оттуда с недопитой бутылкой коньяка.
– Нашла у него.
Ида безучастно кивнула, и Евдокия налила ей в кофейную чашечку.
– Странно, а я здесь впервые, – медленно сказала Ида. – Два года они были вместе, а я так и не удосужилась узнать, как они жили.
– Да уж, житие не аховое, – засокрушалась Лыжница, рассматривая хлопья потолочной пыли над кухонным столиком.
– Что она делает?
– Сидит на корточках на полу и смотрит на картину.
– Что за картина?
– Какие-то мужики на лошадях. Жутковатая. Я мельком видела.
– Мы все так виноваты перед ним.
В прихожей запел входной колокольчик. Женщины встрепенулись и побледнели. Лыжница опасливо выглянула в коридор.
– Кто бы это мог быть? – прошептала Ида. – Открой.
За дверями стоял широкоплечий улыбающийся молодец, в руках у него скрипел гигантский букет ярко-алых роз.
– София Штейн здесь живет? – торжественным голосом поинтересовался он у подозрительно косящейся тетки.
– А вы кто ей будете? – поинтересовалась Лыжница, прикрывая на всякий случай дверь.
– Я никто, – успокоил ее парень. – Передайте ей.
Он сунул Лыжнице в руки огромный букет и присовокупил белый конверт без надписи.
– Кто там? – послышался из комнаты хриплый голос Сони.
Лыжница закрыла дверь, вошла в комнату и положила цветы у ее ног.
– Письмо тебе, деточка.
Соня вскрыла конверт – внутри оказался кусок плотного картона.
ГАЛЕРЕЯ «СВИНЬЯ»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
ТИМУРА АМУРОВА
«Я Р О С Т Ь»
В нижней части приглашения имелась приписка, сделанная шариковой ручкой:
Дорогая Соня,
я всегда эмоции личные меняю на наличные.
В. Т.
Соня повертела приглашение в руках и безразлично бросила на пол. Она поднялась на ноги, посмотрела на розы и, разозлившись, захотела швырнуть ни в чем не повинные цветы в окно. Передумала, снова уселась перед надувным матрасом, взяла неподвижно лежащую руку Тимура и уткнулась в нее лицом. От руки пахло каким-то лекарством. Порывшись в карманах, Соня вытащила белый, пахнущий старыми вещами шелковый платок и стала бережно оттирать ладонь: не грязь – масляная краска въелась в кожу и не поддавалась, даже смоченная ее слезами.
Тимур болезненно вздохнул и наконец открыл глаза.