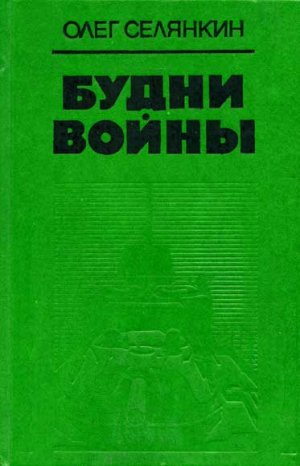
Олег Селянкин
ЖИЗНЬ, ОНА И ЕСТЬ ЖИЗНЬ…
1
С недавних пор лейтенант Манечкин Игорь Анемподистович стал бояться писем из дому. Ждал их с нетерпением и одновременно боялся. Только потому, что отец, которого, видимо, под корень рубанула гибель старшего сына — Глеба, теперь в письмах обязательно сообщал о каждом знакомом, ушедшем на фронт; с особой тщательностью выписывал имена тех, кто пал в боях с фашистами, кто больше никогда не вернется в их районный городок Бродни.
Каждое такое письмо невольно заставляло думать о том, что смерть в этой войне, как никогда в прошлом, жадна на человеческие жизни, что никто не скажет даже приблизительно, сколько еще погибнет молодых парней и мужчин в самом расцвете сил в борьбе с клятым врагом, пока придет победа.
Особенно больно было читать те строки отцовских писем, где он писал о Глебе, погибшем во время боев в районе Вязьмы.
«Может, Игорек, тебе как кадровому командиру нашей родной Красной Армии удастся узнать, где он похоронен? Ты, сынок, уж постарайся для семьи, не поленись и дойди до какого там нужного генерала», — писал отец. И вообще в каждом слове его пространного письма была боль за погибшего, искренняя тревога за двух пока еще живых сыновей. Настолько огромна душевная боль отца, что заглушала чувство реальности: «…дойди до какого там нужного генерала…» Не может отец понять, не хочет понимать, что не только его сын погиб в той кровавой мясорубке под Вязьмой, что у генералов сейчас поважнее задачи, нежели розыск могилы иного солдата. Не знает и пока не узнает отец, что частенько и мы, похоронив иного товарища, не сможем точно указать, где это свершилось: очень часто еле приметные холмики земли оставляли мы на том месте…
А в письме, которое пришло вчера, диким криком отец возопил, что и самый младшенький — Ростиславушка! — ушел на войну, а в какие войска, на какой фронт — неизвестно. И опять просьба, почти слезная: «…поспрашивай, кого надо, найди братика и возьми его под свою командирскую руку».
Он понимал отца: в прошлом обыкновенный конюх, каких в их городке были десятки, а теперь завхоз единственного конного двора, научившийся писать и читать лишь к сорока годам и уже потому считавший себя счастливцем, хотел своим сыновьям только большой судьбы, гордился, что все они имеют высшее образование, — знай наших! — и вдруг война безжалостно вмешалась в его мечты, начала сокрушать их.
Вот и было после получения этого письма у лейтенанта Манечкина отвратительное настроение. А тут еще и работник наркомата, вручая ему направление в новую часть, допустил величайшую бестактность, сказав на полном серьезе:
— Лично я, окажись на вашем месте, обязательно подумал бы о смене фамилии.
Обида, возмущение и сердечная боль, порожденная гибелью старшего брата, сжали горло, и в ответ он только прохрипел:
— От старшего брата, который погиб, защищая Москву, отречься советуете?
С тех пор как состоялась эта короткая перепалка, минуло уже более трех часов. Но даже теперь, сидя в одноместной каюте парохода, который, подгоняемый течением, резво бежал вниз по Волге, он не мог обрести привычное спокойствие; временами даже сейчас передергивало всего, словно прикасался к чему-то чрезвычайно противному.
Да, он, лейтенант Игорь Анемподистович Манечкин, и без подсказок со стороны знал, что фамилия у него незавидная, искренне считал, что из-за нее никогда не будет иметь должного хода по службе; хоть убей, но не звучит «адмирал Манечкин», — нет, не звучит!
Убедил себя в том, что из-за собственной фамилии никогда не сделает настоящей военной карьеры, но не раскаивался в том, что решил стать командиром Военно-Морского Флота: вовсе не обязательно всем быть адмиралами, кое-кому надо стоять и на менее почетных ступеньках. Надежно, со знанием дела, так уверенно стоять, чтобы у старших и ничтожно малого сомнения не зарождалось, когда разговор заходил бы о соответствии его занимаемому месту. Поэтому, когда перед государственными экзаменами у него официально спросили, где, на каком флоте и какого класса корабле он желал бы служить, ответил честно, что заранее согласен на любое решение командования.
Его направили на Черное море, под Одессу, командиром взвода в бригаду морской пехоты, которой командовал полковник Осипов. Оказавшись в окопах, искренне пожалел, что сухопутную тактику считал для себя лишним предметом, ну и учил только для того, чтобы получить зачет; упустил необходимое, когда, можно сказать, тебе насильно его в рот впихивали, вот теперь и пришлось с риском для жизни познавать то, от чего еще недавно так упорно открещивался.
Если судить по реакции матросов и командования, успешно осваивал он законы войны на суше.
Там, под Одессой, и командиром роты стал, и покинул город, повинуясь приказу, не в числе самых-самых последних, но близко к тому.
И снова в бой, теперь в Крыму, на подступах к Севастополю.
А в феврале этого года случилось так, что большой зазубренный осколок фашистской мины, будто топор, рубанул по груди, чуть не развалил ее.
Почти два месяца отлежал в госпитале. Залечил рану, отоспался за все прошлое и про запас немного отхватил. Затем медицинская комиссия, внимательно обследовав, признала его годным к продолжению строевой службы. С этим заключением в апреле и прибыл в Ульяновск, в наркомат. А вот сегодня, 6 мая, получил предписание: «Отбыть в Волжскую военную флотилию в распоряжение контр-адмирала Чаплыгина Ф. И.».
Что известно ему, лейтенанту Манечкину, о новом своем начальнике контр-адмирале Федоре Ивановиче Чаплыгине? Командует бригадой кораблей, дело знает, требователен справедливо и… любит чудить. Маловато, но в то же время и достаточно для того, чтобы сделать вывод: служить с ним можно. А что любит чудить… Во-первых, что конкретно скрывается за этой формулировкой? Во-вторых, кто из больших начальников — и вообще людей, наделенных хотя бы самой малой властью, — по мнению их подчиненных, не лишен каких-либо особенностей характера или привычек, которые при желании можно посчитать чудачеством?
Нет, чудачествами адмирала нас не запугаешь…
А вот что по-настоящему волнует и даже тревожит: сможет ли он, лейтенант Манечкин, быстро установить душевный контакт с подчиненными? Не будет его — много лишних и непредвиденных трудностей возникнет. А это во много раз страшнее для общего дела, чем сказанное за глаза: «Лейтенант Ирочкин…»
Однако вопрос о душевном контакте здесь, сидя в каюте парохода, не решить, здесь ничего путного не придумаешь. А вот прибуду на место — сама жизнь обязательно подскажет что-нибудь. Или впервой предстоит с людьми знакомиться?
Лейтенант успокоил себя этой мыслью и с интересом взглянул на Волгу, половодьем захлестнувшую не только заливные луга, но и многие рощицы, гордо стоявшие на красноватого оттенка яре правого берега. Минут пять он не отрываясь смотрел в окно, потом надел фуражку, не вышел — почти выбежал из каюты и по трапу сноровисто взлетел на капитанский мостик парохода, где, козырнув, сказал вахтенному штурману:
— Лейтенант Манечкин. Прошу разрешения отсюда посмотреть на Волгу, чтобы вспомнить то, чего и не знал.
2
Почти все время, пока пароход бежал к Сталинграду, лейтенант Манечкин провел в рубке: стоял или сидел рядом со штурвальным, всматривался в знаки речной обстановки, лихорадочно вспоминая все то немногое, что знал когда-то. И бакены, и створы, и перевальные столбы. Больше же откровенно любовался Волгой, которая неудержимо и стремительно несла свои воды, ее берегами, то высокими, обрывистыми, то пологими, поросшими светлыми рощицами. А когда пароход побежал Жигулями, прорезанными Волгой, то и вовсе замер очарованный.
Миновали Куйбышев — увидел канонерскую лодку Волжской флотилии: самый обыкновенный буксирный пароход, только и разницы — в носовой части и на корме, где раньше были буксирные арки, спрятавшись за броневыми щитами, стояли орудия; и серой — шаровой — краской был выкрашен этот вчерашний буксир.
Невольно подумалось, что подобным канонерским лодкам невероятно далеко до настоящих боевых кораблей, что у тех боевая мощь во много раз больше; все — и скорость, и маневренность, и живучесть — в несколько раз лучше. И тут же вспомнил, что под Одессой их самодельные танки — трактора, обшитые противопульными броневыми листами, — довольно успешно проявили себя в бою.
А потом в поле зрения попали и катера-тральщики — речные трамвайчики и катера, еще недавно работавшие на лесосплаве. Короче говоря, только бронекатера и пришлись ему по сердцу.
Увиденное не испугало, не разочаровало: и не ожидал большего от флотилии, которая еще только создавалась; вот минет месяца два, тогда и глянем, чего достигли, определим, где и почему не дотянули до намеченного.
С особым интересом всматривался он в приближающийся Сталинград, о котором так много слышал и читал. Сначала пароход бежал мимо заводских корпусов, которым, казалось, не будет конца. Потом появились домишки и домики, прячущиеся за плотными высокими заборами. Понял: это то, что еще уцелело от старого Царицына. Действительно, чем дальше бежал пароход, тем выше становились дома, просторнее и прямее улицы.
— Между прочим, вон Дворец пионеров. Там ваш штаб размещается. Флотильский. Так что примечай к нему дорогу, — сказал капитан парохода.
А что ее примечать, если от пассажирского дебаркадера, к которому подходил пароход, и пройти-то к штабу флотилии надо лишь через сквер-цветник, почти в центре которого стоял какой-то памятник?
Однако едва пароход коснулся бортом дебаркадера, еще и трапа не положили, а какой-то старшина первой статьи уже перепрыгнул на пароход, на одном дыхании взлетел на капитанский мостик и сказал, козырнув:
— Лейтенант Манечкин? Прошу со мной на полуглиссер.
Пересекли Волгу, немного пробежали по течению вдоль невысокого обрывистого левого берега, поросшего молодыми дубками, нырнули в воложку, и лейтенант увидел маленький дебаркадер, прижавшийся к крутому берегу так, что, ветви деревьев нависли над его крышей, спрятав от самолетов, врага. И еще глаза сразу же задержались на большой поляне, на противоположных концах которой стояли футбольные ворота, сделанные наспех. Невольно подумалось, что здесь живут спокойно, без настоящих тревог; а вот под Одессой и Севастополем было не до футбола…
Встретил его капитан-лейтенант с повязкой дежурного на рукаве кителя. Встретил приветливо, просто, как хорошего знакомого.
— Курочкин, — сказал он, протягивая руку. И сразу же, еще не закончив рукопожатия: — Обед уже был, но на вас заявлен расход. Так что прошу. — И жестом руки показал, куда ему идти.
Полуглиссер, высланный к пароходу, обед, оставленный для него, самого обыкновенного лейтенанта, — не привык к подобному Манечкин, и хотя есть очень хотелось (последние крохи сухого пайка, выданного на дорогу, уничтожил еще вчера), он все же сказал:
— Мне бы представиться начальству.
Умышленно обошел, не сказал какому: уже почувствовал, что здесь свои устоявшиеся порядки; может быть, не адмиралу, а начальнику штаба бригады представляться надлежит?
Курочкин ответил без промедления:
— Адмирал просил вас быть в шестнадцать ноль-ноль. — И, как показалось, еле сдержал непонятную усмешку. — А чемоданчик нашего отечественного производства, — показал глазами на вещевой мешок, — можете оставить пока у меня или любого другого дежурного.
За пять минут до назначенного времени лейтенант доложил адъютанту о своем прибытии, а ровно в шестнадцать ноль-ноль тот сказал, показав глазами на дверь каюты-кабинета:
— Адмирал ждет вас.
Манечкин внутренне напрягся, лишь намеревался шагнуть к двери, но она распахнулась, из каюты-кабинета вышел адмирал. Не успел ему представиться, как того требовали не только устав, но и элементарная вежливость, тот, торопливо пожав его руку, отрывисто бросил:
— За мной, лейтенант!
Таким тоном сказал, что, если бы не спокойствие окружающих, Манечкин обязательно бы решил: внезапно напали фашисты или случилось что-то другое, тоже смертельно опасное.
Адмирал, не проронив больше ни слова, привел его на поляну, где с мячом самозабвенно бегали матросы. Это не смутило адмирала, он бесцеремонно заявил, что они с лейтенантом тоже будут играть, и обязательно только друг против друга.
Сказанное адмиралом, похоже, никого не удивило, два матроса, посмеиваясь, моментально присоединились к немногим зрителям.
Бесцеремонность, с которой контр-адмирал не только прервал игру, но и распорядился им, лейтенантом Манеч-киным, пробудила желание показать себя, назло адмиралу показать! И, скинув китель и фуражку, он, не спросив на то согласия команды, решительно занял привычное место центра полузащиты, то самое, на котором вот уже два последних предвоенных года играл в дубле ленинградского «Динамо». Начал игру осторожно, приглядываясь, определяя, на что способны его товарищи и противники, потом, успокоившись, заиграл раскованно, свободно. Все шло нормально, и вдруг на него с мячом пошел адмирал; он вел мяч вполне прилично, особенно если учесть его годы и адмиральское брюшко.
Когда до Манечкина оставалось всего метра три, адмирал сдавленно прошептал:
— Только попробуй отбери!
Сказанное противоречило правилам игры, не соответствовало духу ее. И Манечкин, сделав рывок, перехватил мяч, даже не взглянув на адмирала, как стоячего, обошел его и послал мяч одному из партнеров. Все сделал точно, но желание играть пропало. И он ушел с поля. Адмирал рассердится? Начхать! Он, Игорь Манечкин, никогда не претендовал на роль любимчика начальства. И никогда и никому не будет угождать!
Вопреки ожиданию, его уход с поля зрителями был встречен если и не явным одобрением, то сочувственно: незнакомые матросы и китель с фуражкой подали, и далее пообещали принести на штабной дебаркадер крем, чтобы он смог начистить ботинки.
Самая же большая неожиданность — контр-адмирал тоже вышел из игры, сказал ему, Манечкину, борясь с одышкой:
— Пойдем отсюда, лейтенант.
На берегу у дебаркадера их ждали два ведра с водой. Сняв китель и майку, адмирал спросил обыкновенным человеческим голосом:
— Польешь мне или обида не позволяет?
Обида еще не прошла, но разве можно отказать человеку в самой обыкновенной услуге?
Нагнулся адмирал, подставляя ладони под струю воды, — Манечкин увидел багровый зигзаг шрама, пересекавший его левую лопатку. По цвету рубца определил, что он недавний, в этой войне приобретенный. И что-то дрогнуло в душе, куда-то отступила, а потом и вовсе спряталась обида, вместо нее стало зарождаться самое обыкновенное уважение к человеку, который и старше тебя, и значительно больше пережить успел.
Умывшись, адмирал предложил просто, по-человечески:
— Снимай китель, настал мой черед поливать.
Привели себя в порядок — прошли в кабинет командира бригады, который, как и предполагал Манечкин, оказался самой обыкновенной каютой, правда, несколько больших размеров, чем все другие. Здесь только и были канцелярский стол с одной тумбой, шесть разномастных стульев и кровать, прятавшаяся в самом дальнем углу. И ни одного телефонного аппарата! Хотя зачем они здесь, если у оперативного дежурного их полнехонько, а до того — метров десять?
Усевшись за стол и показав лейтенанту на один из стульев, на тот, который стоял у самого стола, адмирал начал разговор:
— Чтобы ты не вздумал зазнаться — и полуглиссер за тобой выслали, и обед тебе оставили, и сам командир бригады из ведерка воду на твои ручки поливал, — я просто обязан сказать, что так мы встречаем любого, кто едет к нам для прохождения службы. Подчиненный, с которого мне предстоит обязательно драть три шкуры, должен сразу почувствовать и заботу о себе. Нормальную, человеческую. Согласен ты с этим или нет, одобряешь или порицаешь, в душе посмеиваешься — мне наплевать: на то я и адмирал, чтобы иметь и свое непоколебимое мнение… Небось уже слышал, что Чаплыгин любит чудить? — спросил и хитровато посмотрел в глаза Манечкина. Тот уже намеревался кивнуть, но адмирал продолжил: — Каюсь, грешен в этом. Больше скажу: с целью это делаю. Чтобы сразу и получше узнать нутро человека, с которым, возможно, рядом придется в бою насмерть стоять… Вот ознакомился я с твоим делом, все документы, характеристики и аттестации, можно сказать, досконально изучил. А как узнать: сказана там только правда или и некоторая лакировочка допущена?.. Тринадцать минут мы с тобой мяч погоняли, а мне почему-то кажется, что ты не способен кривить душой. Не отвечай, не надо: это я вслух мысли свои высказываю, чтобы вслушаться в них, еще раз проверить… Что успел увидеть за то время, которое я подарил тебе?
— Землянки и блиндажи облазил.
— И каково твое мнение?
— Нам бы на передовую такие, — вырвалось у Манечкина.
Адмирал кивнул одобрительно и сказал, что он приказал сделать все это только для того, чтобы не повторить ошибок недавнего прошлого, когда фашисты перли вперед всей массой, а мы и бои с ними вели, и спешно строили блиндажи, рыли окопы и землянки. В результате — то и другое делали не в полную силу, не так, как смогли бы в иной обстановке. Спрашивается, кому была выгода от этого распыления сил? Конечно, никто не даст гарантии, что именно их бригаде доведется воспользоваться этими блиндажами и землянками. Но разве не скажет искреннее спасибо тот, кому они достанутся? Разумеется, самое распрекрасное — фашисты никогда не выйдут к Волге, никогда здешние берега не услышат воя бомб, разрывов снарядов и мин. Только это, скорее всего, радужная мечта: вовсе не случайно партия и правительство пошли на создание Волжской флотилии, ох, не случайно…
А закончил адмирал разговор и вовсе неожиданным предложением:
— Мое глубокое убеждение — мы должны быть готовы, сам не знаю к чему. Поэтому мне и не дает покоя мыслишка о создании при бригаде особого отрядика, хотя бы — особой группочки на первое время. Штатным расписанием ничего подобного, конечно, не предусмотрено, но хочу создать. Чтобы она, эта группочка, могла действовать там, где этого потребует сложившаяся обстановка. Будет она и десантной, и труппой разведки, и черт знает чем еще. Если у тебя нет возражений, приказом назначаю тебя ее командиром… О деталях поговорим потом, когда вступишь в командование, когда у тебя мысли свои оригинальные появятся. Ну, твое решение, лейтенант? И учти: насильно никого около себя не держу.
Лейтенант Манечкин понимал, что, приняв предложение адмирала, он сам себя ставил в сложное положение. Хотя бы даже потому, что, согласившись, был обязан немедленно перейти на своеобразное нелегальное положение; ведь по документам-то будет числиться в другой должности?
Это и многое другое, сложное и двойственное, видел он, однако искушение стать командиром группы особого назначения было столь велико, что, немного поколебавшись, встал и спросил:
— Когда прикажете приступить к исполнению обязанностей?
— Сегодня. И помни: возникнут вопросы, которые сам решить не сможешь, без стеснения приходи ко мне. В две головы думать будем, — ответил адмирал.
3
Ночь легла на Волгу и ее берега. Тихая, безлунная. Казалось, уснула и сама великая река: ни ничтожно малого шелеста ее струй, ни единого гудочка парохода, хотя они идут, прорезая темень отличительными огнями.
Лейтенант Манечкин сидит на берегу в самом устье той воложки, в которой скрывался штабной дебаркадер бригады, отмахивается не веточкой, а почти целым веником от кровожадных комаров и думает. О том, когда адмирал разрешит еще пополнить группу, как и к чему готовить тех четырех человек, которых уже прибрал к рукам. На другой день после разговора с адмиралом он явился в полуэкипаж. Не успел дойти до начальства — увидел старшего матроса Ганюшкина, с которым в одних окопах воевали еще под Одессой. Нет, тогда они вроде бы и не испытывали друг к другу особой симпатии, добросовестно, со старанием исполняли то, что было доверено каждому, и все тут. А здесь встретились с искренней радостью. И потискали плечи друг друга, и помолчали, не пряча счастливых глаз.
Первым опомнился Ганюшкин, руками по привычке проверил заправку фланелевки и спросил, посуровев:
— К нам, товарищ лейтенант, или как?
Не из вежливости, с искренней заинтересованностью спросил.
Отведя в сторонку, где матросы сновали не так часто, лейтенант и рассказал ему то немногое, что знал и додумал за ночь.
— Так что за кадрами подходящими сюда заглянул, — закончил он. — Как считаешь, не зря?
Ганюшкин помолчал и спросил, стараясь казаться равнодушным:
— Моя кандидатура подходит или отвергается?
Ничего особо выдающегося за ним не числилось: в бою вел себя не лучше и не хуже других, на задания не напрашивался, но, помнится, и не стал отказываться, когда в разведку послали. А разве он, Игорь Манечкин, чем-то прославил себя? Нет, он тоже самый обыкновенный. Лишь одно есть у Ганюшкина преимущество перед другими, которых глаза сейчас видят: вместе с ним, Манечкиным, воевал, одним свинцовым веником война их стегала.
— Возьму… Может, и еще кого порекомендуешь?
— Понимаете, народ тут разный, можно сказать, во всех отношениях полный интернационал, но Дронова, Злобина и… — Тут Ганюшкин замялся, обдумывая что-то, а потом решительно, будто отрубил: — И Красавина возьмите. За этих ручаюсь.
Было это ближе к середине мая, а сейчас июнь на исходе. И с тех пор по сегодняшний день их пятеро. Если считать и его, лейтенанта Манечкина: адмирал сказал, что для начала достаточно, что надо позволить укомплектоваться и другим бригадам флотилии; дескать, пока из этих, кого отобрал, создай добротную основу, а, когда приспичит, об остальных я позабочусь.
Создавай основу… А что ее создавать, если она уже есть? Самая что ни на есть добротнейшая: все проверенные и бомбежками, и обстрелами шквальными; можно сказать, в группе подобрались те самые матросы, которых, паникуя, фашисты и окрестили черной смертью.
Лишь Анатолий Красавин немного наособицу… Когда Ганюшкин привел его, он молча козырнул лейтенанту и уставился на него холодными, настороженными глазами. Без вызова, но и без намека хотя бы на самую малую заинтересованность смотрел. А обратился к нему Манечкин с самыми обыкновенными, можно сказать с дежурными, словами — тот четко высказался:
— Я, товарищ лейтенант, разговаривая с вами, тоже могу «тыкать»? Если так, то ладно, принимаю такую систему обращения друг к другу. В противном случае прошу ко мне обращаться на «вы». Как по закону положено.
С чувством собственного достоинства было это сказано.
Он, лейтенант Манечкин, не обиделся, продолжил разговор спокойно, даже доброжелательно, словно и не кольнуло самолюбия замечание Красавина, и скоро уже знал, что тот лишь несколько дней назад вновь стал матросом. Да, два года назад, честно отслужив свое на торпедных катерах Тихоокеанского флота, вернулся домой и тут черт знает как и почему, но оступился, здорово оступился, ну и был посажен, куда положено, чтобы семь годочков глядел на «небо в мелкую клеточку». Понимает, признает: не зря, за дело такой большой срок дали. Потому и терпел, дни считая. А началась война, ворвались фашисты на нашу землю, стали ее кровью людской заливать, пожарища по ней разбрасывать — написал начальству колонии просьбу об отправке его на фронт. Чтобы мог, как все нормальные люди, защищать родную землю. Отказали. Он снова написал, теперь в более высокую инстанцию. И опять отказ получил! Однако он, Красавин, упрямый, точно уже не помнит, сколько бумаги извел, до самого Михаила Ивановича Калинина письмом дошел, но своего добился: сейчас ему разрешено, если делами славными или кровью своей преступление не искупит, срок наказания отбыть после окончания войны. Вот, мол, и вся моя жизнь. А гож такой или нет в группу, пусть товарищ лейтенант сам решает. Но лично он, Толька Красавин, о себе все точно, без утайки выложил. И еще одно просит учесть: он, Толька Красавин, не навяливается, он человек не гордый, так что может и другого случая подождать.
Заявил, что о себе все точно, без утайки выложил, а сам и словом не обмолвился о том, за что столь внушительный срок получил…
Ему, лейтенанту Манечкину, показалось, что Красавин говорил честно, понравилось, что никого не винил в своей беде. И он сказал, что берет его к себе.
Сейчас Красавин, как и его товарищи, спит в землянке и, может быть, самые сладостные сны уже какой час прокручивает. А вот он, лейтенант Манечкин, сидит здесь, отбивается от ошалевших комаров и думает, чему и как учить своих подчиненных? Строевая подготовка, конечно, дело хорошее и полезное. Однако на войне она не в особом почете, здесь, чтобы врага убить, многим другим в совершенстве владеть надо. Вот и учил он своих матросов ползать, ужом скользя в траве, стрелять без промаха из любого оружия и почти не целясь. Даже ножи метать научил! А дальше что? Конечно, все это можно и должно отрабатывать, совершенствовать до бесконечности. Но очень хочется придумать что-то такое… такое… Чтобы вновь глаза у ребят загорелись!
Мимо, внушительно молотя плицами по черной волжской воде, скребется против течения буксирный пароход с баржами. Сколько и каких барж он ведет — не видно. Да и сам он лишь угадывается по отличительным огням и бою колес.
Все здесь было обычно, буднично мирно, словно на западе и не бесновалась война, пожирая в огне города, села и деревни, калеча людей, даже лишая их жизни. И вдруг лейтенант Манечкин уловил пока еле слышное прерывистое гудение моторов вражеского бомбардировщика. С каждой минутой оно становилось все явственнее, отчетливее. Стало уже ясно, что шел он на высоте, доступной зениткам, а не там, где хаживали фашистские разведчики — «рамы».
Еще не успел принять решения — оставаться здесь или бежать к штабу, — взвыла сирена и голос дежурного, усиленный мегафоном, равнодушно оповестил окрест:
— Воздушная тревога!
Каких-либо обязанностей по этой тревоге у него не было, да и товарищи знали, где его найти, если возникнет необходимость, вот и остался лейтенант сидеть на берегу, не особенно веря, что этот фашистский разбойник предпримет что-то активное: вот уже около недели вражеские самолеты систематически ночами появляются над Волгой, чтобы, полетав вдоль нее, уйти на запад. Предполагал он, что так будет и сегодня. Но в гул моторов самолета, который теперь уже заглушал бой колес буксирного парохода, неожиданно вплелся знакомый до холодка у сердца вой падающих бомб. Томительное ожидание — и грохот взрывов, приглушенных водой. Одна из бомб все же угодила в баржу, рванула там во всю мощь, и моментально огненный шар стал стремительно подниматься из носового отсека баржи, за доли секунды раздулся и лопнул, обрушив на зеркальную Волгу огненную реку, которая понеслась вниз, увлекаемая течением.
Буксирный пароход, будто ему стало невероятно больно, загудел прерывисто, тревожно. По палубе его забегали полуодетые люди, что-то крича, яростно жестикулируя. Теперь, когда горела, казалось, сама Волга, хорошо было видно, что буксирный пароход ведет две баржи-нефтянки, что бомба попала в ту, которая шла сразу за ним; вторая баржа была еще цела, от ее кормы торопливо отходила лодка-завозня, в которую попрыгали все, кто был на этой барже ее экипажем.
Манечкин мысленно одобрил решение шкипера: с минуты на минуту могла сначала загореться, а потом и взорваться и его баржа; у ее бортов суетились язычки кровавого огня.
Шкипер немного растерялся, он хотел как можно быстрее оказаться на берегу, вот и пересекал на лодке-завозне огненную реку; временами их не было видно из-за клубов густого черного дыма.
А рядом с Манечкиным уже оказались его матросы. С оружием. Стояли рядом и, бессильные сделать что-либо полезное, молча смотрели на буксирный пароход, который по-прежнему гудел тревожно, прерывисто, на баржи, вроде бы обреченные на гибель, и на лодку-завозню, все же пробившуюся к берегу.
Решение, как за месяцы войны случалось уже не раз, пришло мгновенно и, казалось, без каких-либо предпосылок: лейтенант вдруг подумал, что вторую баржу еще можно попытаться спасти, отделив от первой. И он скомандовал:
— За мной, братва!
Не помогли шкиперу и его людям выйти на берег, а почти вышвырнули их из завозни, со всей яростью, накопившейся за минуты вынужденного безделья, налегли на весла и устремились к барже, хотя огонь угрожающе шипел совсем рядом с ней.
Считай, повезло: опалив только бушлаты, которыми сбивали язычки огня, цеплявшиеся за лодку, прорвались к барже. Старшина второй статьи Злобин еще швартовал лодку, а остальные уже бежали к носу баржи, где голыми руками, обдирая их в кровь, и сорвали с чугунных тумб петли стальных тросов.
Поверили, что задуманное удалось, лишь через несколько минут, когда просвет между баржами стал быстро увеличиваться. С облегчением матросы выпрямились и устало пошли к корме баржи-нефтянки, где их ждал Злобин.
Похоже, тоже поверив, что смерть пока обошла стороной, перестал гудеть буксирный пароход. Теперь он не просто по инерции бездумно пер против течения, а осмысленно уводил горящую баржу к песчаному осередку, куда суда обычно не подворачивали.
Все это они видели. Заметили даже капитана буксирного парохода, когда он вышел на левое крыло капитанского мостика и помахал рукой. А вот появление двух катеров-тральщиков проворонили. Они как-то вдруг оказались около баржи-нефтянки, деловито завели буксиры, стравили на нужную длину и, бессильные идти с таким грузом против, течения, стали сваливаться под левый берег, в тиховод.
Только на лодке, когда уже шли к берегу, лейтенант Манечкин подумал сразу и о том, что на взорвавшейся барже погибли люди — мужчины в годах, женщины и, может быть, дети, что и сами они могли погибнуть, если бы лодка загорелась, если бы взорвалась от жара их баржа. Захотелось поделиться этими мыслями с товарищами, и он глянул на их лица. Только глянул — понял: они думают об этом же. Не раскаиваются в сделанном, а думают, что могли бы и погибнуть, если бы…
К берегу подошли метров на триста или даже четыреста ниже того места, где высадился шкипер баржи со своей командой. И сразу увидели контр-адмирала. Заложив руки за спину, он стоял на яру и смотрел на них.
Лейтенант Манечкин умышленно медленно выходил на берег: понимал, что обязан доложить, а вот что? Не вспомнил, не придумал. Просто встал по стойке «смирно» и приложил к козырьку фуражки ладонь, черную от копоти и масла, которым были покрыты тросы. Так растерялся, что даже шага навстречу адмиралу не сделал. Тот сам подошел, пожал руку и сказал буднично:
— С почином.
Всем пятерым пожал руку.
4
С почином поздравили и другие. Не словами, а тем, что в кают-компании, едва лейтенант Манечкин сел за стол, чтобы позавтракать, ему немедленно подали и крепчайший чай, и все прочее, что к нему прилагалось; а оперативный дежурный по бригаде доверительно проинформировал, что этой ночью фашисты бесчинствовали над Волгой на участке от Саратова до ухвостья Гусиного острова. И бомбили безжалостно караваны судов, и мины тайком поставили. Морские, неконтактные. Ночью поставили, а на утренней зорьке на них уже подорвались два парохода.
Промелькнуло еще несколько суток, и все поняли: не случайным был тот первый массовый налет фашистских самолетов, он лишь малюсенькая часть того, что задумано гитлеровцами; всем стало ясно, что война добралась и до Волги. Пока без несмолкающего гула канонады, без рева множества танковых моторов и посвиста пуль, но добралась. Хотя посвист пуль уже есть: на одной из канонерских лодок, стоявших в засаде, как зенитная батарея, винтовочным выстрелом с того берега воложки был убит вахтенный матрос. Точно в лоб попала ему пуля. О чем это говорит? Лишь об одном: есть в зарослях по берегам Волги и вражеские диверсанты, и ракетчики, прошедшие основательную подготовку.
Пришла война на Волгу — катера-тральщики разбежались по минным полям и банкам, принялись усердно утюжить их, а бронекатера и канонерские лодки челноками метались от одного каравана судов к другому, чтобы попытаться уберечь их от яростных самолетных атак.
У всех забот оказалось предостаточно, все забыли напрочь, что такое за штука нормальный сон и даже еда по распорядку дня. Лишь группа лейтенанта Манечкина бездействовала. Разве это работа, если тебе за все эти дни только и заданий выпало — взорвать три бомбы, обнаруженные на песках? Единственное изменение в жизни группы — теперь и он, лейтенант Манечкин, жил с матросами в землянке. Для того переселился сюда, чтобы на случай внезапного задания быть всем в кучке.
Теперь, когда не часами, а сутками они неразлучно были вместе, и узнал Манечкин, что старшина второй статьи Злобин, которого он считал человеком вообще без нервов, панически боится самолетов. Даже своих. Как услышит гул их моторов, так и начинает дрожь колотить его. До настоящей трясучки, когда руки и ноги без твоего согласия дергаются. Оказывается, как-то буквально рядом с их крейсером «Красный Кавказ», на котором он проходил службу комендором-зенитчиком, в причальную стенку вместе со всеми своими бомбами врезался фашистский бомбардировщик, сбитый армейскими зенитчиками. Так близко от крейсера в причальную стенку врезался, что очнулся Злобин лишь в госпитале и через несколько дней.
Отлежал на госпитальной койке сколько посчитали необходимым врачи, думал, все в норму вошло, а тут оно и обнаружилось… Доложить по команде, попросить, чтобы врачи снова осмотрели? Никак нельзя: они запросто с флота спишут.
— Никогда бы не поверил, что с тобой такая беда, — искренне посочувствовал лейтенант.
Злобин промолчал, глядя себе под ноги, а Красавин не вытерпел, пробурчал с вызовом:
— Или он не матрос?
За годы службы лейтенант Манечкин не счесть сколько раз слышал эти слова или что-то подобное, вроде: «Матрос ты или балалайка?» Никто не спрашивал, почему именно балалайка, но всегда, после того как они произносились, матрос делал, казалось бы, невозможное.
День ото дня все нахальнее становились фашистские самолеты. Теперь над Волгой они появлялись еще в вечерние сумерки, а неохотно уходили чуть ли не с первыми лучами солнца. И каждую ночь на Волге злобились бессильные зенитки, рокотали пулеметные очереди, рвались бомбы. Так неистовствовали фашистские самолеты, что с приближением ночи все суда спешили приткнуться к берегу, понадежнее замаскироваться там.
Вроде бы все делалось, чтобы уберечь пароходы, но некоторые из них гибли. От бомбовых ударов или на минах взрывались. И поплыли по Волге трупы. Много трупов. Из-за них не только пить волжскую воду запретили, но даже и купаться в ней.
А сводки Совинформбюро подчеркнуто скупо и обтекаемо сообщали о боях на Моздокском направлении и в районе Миллерово. Зато, если верить раненым, которых на госпитальных пароходах увозили куда-то в верховья Волги или даже на Каму, говорили не таясь, что бои идут уже на подступах к Дону, будто бы кое-где нас даже спихнули в него.
Самое время командованию внести ясность, но оно отмалчивалось, нацеливало только на уничтожение вражеских мин и охрану караванов от воздушных налетов.
Единственная радость — письмо отца. Вовсе не похожее на те, которые получал раньше. Без душевного надрыва, нормальное письмо. В нем отец, подробно описав все семейные и городские новости, в самом конце скупо сообщил, что тоже уходит бить фашистов. Не в кавалерию, где служил в гражданскую под командованием эскадронного командира товарища Рокоссовского, а в пехоту-матушку. Так что, сынок, поглядывай внимательно, когда солдат на марше увидишь: может, и встретимся.
Не сразу, но понял столь разительную смену настроения отца: всю жизнь он в семье был главным, общей опорой и защитой, а тут сыновья вдруг ушли на бой кровавый, оставив его дома, будто старика немощного.
Вот и распсиховался, сам себя потерял. А теперь все встало на свои места…
И вдруг в середине августа контр-адмирал Чаплыгин словно вспомнил, что у него в распоряжении томится бездействующий лейтенант Манечкин, и среди ночи затребовал его к себе, приказал на катере-тральщике немедленно отбыть в район Черного Яра, где и оказать посильную помощь коменданту переправы.
Слово «посильную» почему-то выделил голосом.
Матросы приказ встретили внешне равнодушно, только Красавин зло буркнул:
— Сам груздем назвался!
Действительно, разве это задание для группы особого назначения? Нет, не того они ждали, когда давали согласие на службу в ней, не того…
К переправе — довольно жиденьким мосточкам, на берегу около которых толпилось порядочно беженцев: женщин с детворой и узлами с домашним скарбом, — подошли в тот момент, когда над заволжскими степями приподнялось солнце. Золотистое. Обещающее опять жаркий день.
Чуть прижались к мосточкам бортом — они угрожающе заскрипели, ожили. На этот оглушительный скрип из будочки, сколоченной наспех, и выскочил армейский капитан, заорал хриплым, усталым голосом:
— Куда прешь, куда?
Отвечать было некогда: женщины, едва катер коснулся мосточков, скопом, толпой бросились к нему. Лейтенант Манечкин мгновенно почувствовал, что минута промедления — и мосточки рухнут. Он скомандовал во весь голос:
— Полный назад!
Взвыв мотором, катер-тральщик отошел метров на пять и закачался на собственных волнах.
Армейский капитан и два солдата, появившиеся откуда-то, тоже поняли, насколько близка была большая беда, и теперь, взявшись за руки, охраняли вход на мосточки с берега.
Убедившись, что относительный порядок восстановлен, лейтенант Манечкин и произнес речь, которую позднее Красавин, иронизируя, назвал насквозь дипломатичной.
— Предупреждаю: кто без моего разрешения взойдет на мосточки, будет немедленно расстрелян.
Угрозе, сказанной не в полный голос и спокойно, поверили, всей массой отшатнулись от мосточков и замерли в ожидании, с мольбой и надеждой глядя на моряков, на их катер.
Теперь тральщик к мосточкам подошел осторожно, опасаясь толпы, которая, ошалев от пережитых страхов, могла запросто разом броситься на катер и даже перевернуть его. Чтобы все было понадежнее, матросы лейтенанта Манечкина по собственной инициативе спрыгнули на мосточки, молча оттеснили капитана с солдатами и замерли, положив руки на автоматы, висевшие на груди.
Капитан, похоже, был даже рад такому повороту событий, безразлично махнув рукой, он сделал попытку вообще уйти куда-то. Удержал Красавин, громко объявив, что старший морской начальник требует его к себе.
Молодец, Красавин! И не соврал, и малое воинское звание его, Манечкина, надежно упрятал: ведь этот армейский капитан наверняка не разбирается в нарукавных нашивках на флотских кителях.
Оценил лейтенант Манечкин находчивость Красавина, нахмурился сурово и не сказал, а изрек тоном, не допускающим возражений:
— На вас, товарищ капитан, возлагаю организацию живой очереди на переправу. И наблюдение за ней. Исполняйте!
Это было его первое приказание здесь. А потом были еще два: Дронову с Красавиным изыскать материал для сооружения настоящего причала и соорудить его, а командиру катера-тральщика — немедленно исчезнуть, но явиться сюда с плашкоутом или баржонкой подходящей, до заката солнца обязательно явиться.
Убежал катер-тральщик, убежал почему-то вверх по течению, откуда пришли недавно, и вовсе тихо стало у мосточков. Только грудной ребенок плакал где-то совсем рядом. Надсадно, казалось, из последних сил. Лейтенант Манечкин умышленно избегал смотреть в ту сторону, откуда доносился плач: боялся, что, увидев ребенка, потеряет душевную твердость, без которой сейчас никак нельзя; всех этих людей до невозможности жалко, была бы возможность — без промедления и единым рейсом всех их переправил бы на тот берег Волги!
Но пока даже самой захудалой лодчонки нет у него.
А беженцы хотя и медленно, хотя и малыми группами, но прибывают, прибывают…
5
Прошло еще около часа, и лейтенант Манечкин уже знал, что в распоряжении капитана Очкина только он сам, два солдата, мосточки и будка, сколоченная из бросовых полугнилых досок, на случай ливней сколоченная. Командир полка послать-то его сюда послал, сказав, что он, капитан Очкин, отвечает только за порядок на переправе, а все прочее — и катера, и плашкоуты к ним — скоро будет, так что об этом пусть его голова не болит.
Кто и что даст — об этом ни слова.
Как же он переправляет беженцев на тот берег и переправляет ли вообще? А вот увидит пароход, идущий хоть вниз, хоть вверх, выбегает на мосточки и сигналит ему, просит причалить. Случается, причаливают. Тогда уговаривает, умоляет взять хотя бы самую малую часть этих бедолаг. Бывает, берут. Вчера вечером, например, «Александр Невский» взял. Он госпитальный, под приемку раненых порожним шел и сотни три взял.
Безрадостно было услышанное. Лейтенант Манечкин потом и сам не мог объяснить, почему оно не повергло его в отчаяние или уныние, а породило неодолимое желание действовать. Немедленно, активно. Казалось, и решения, которые он принял в эти минуты, пришли сами собой, без какого-либо напряжения мысли. Приказал он Дронову и Красавину раздобыть материал для сооружения причала? Приказ остается в силе. Сказано капитану, чтобы занялся живой очередью и вообще порядком на береговой полосе? Вот иди и работай, не мельтеши перед глазами!
— Ганюшкин, ноги в руки и лети на пристань, по селектору выйди на связь с начальником пароходства или любым его замом и передай им лично телефонограмму, которую сейчас напишу.
— А если не будут подпускать к селектору? Если не будут давать пароходское начальство? — спросил тот без робости, без малейшего признака растерянности, исключительно для подстраховки спросил.
У лейтенанта Манечкина непроизвольно вырвалось:
— Или ты не матрос? — Спохватился и торопливо добавил: — По паролю «Вода» связь требуй.
С первых дней минной войны на Волге был установлен этот пароль, пользоваться которым разрешалось в исключительных случаях. А разве сейчас не исключительная обстановка сложилась?
По этому паролю прекращались все разговоры на линии и адресат давался без промедления.
Тут же и написал телефонограмму: «Поражен бездействием пароходства. Переправа в районе Черного Яра абсолютно не обеспечена плавсредствами».
И подписал: «Манечкин».
Умышленно одной фамилией подписал: был уверен — пароходскому начальству и в голову не придет, что столь категоричную телефонограмму осмелился послать самый обыкновенный лейтенант.
Перечитал написанное, подумал и добавил: «Если меры не будут приняты немедленно, доложу ГКО».
— А копию, для страховочки, шарахни в обком партии, — сказал он, протягивая Ганюшкину листок, вырванный из блокнота.
Ганюшкин, прочитав текст, пытливо и сочувственно взглянул на лейтенанта, бережно упрятал телефонограмму под фланелевку, подчеркнуто уважительно козырнул и почти побежал к ближайшей пристани, до которой было километра четыре.
Лейтенант Манечкин, давая эту телефонограмму, знал, что если она не сработает сразу, если начнут узнавать, разбираться: а кто он такой, этот таинственный Манечкин, наделенный столь большими правами, что выражает свое недовольство самому начальнику пароходства, — ему придется очень туго. Может быть, и до трибунала дело дойдет. Но теперь, когда Ганюшкин ушел, отступать было поздно, и он, спрятав свои переживания внутри, продолжил, словно ничего особенного и не случилось:
— Злобин…
— Слушаю вас, товарищ старший морской начальник, — немедленно откликнулся тот, вставая, вытягиваясь по стойке «смирно».
— Даю вводную. Стемнело. Появились фашистские самолеты. Что предпримете, чтобы спасти вот этих людей от бомб и пулеметно-пушечного обстрела с самолетов?
Злобин медленно прошелся глазами по высокому обрыву, который почти отвесно падал к прибрежной гальке, по женщинам и детям, грудившимся на узкой полоске земли между рекой и тем обрывом.
— Задача ясна. Разрешите выполнять? — наконец сказал он.
Всем нашел дело, всех разогнал. А самому чем заняться? Решил, что большому начальнику, под которого он сейчас работал, даже положено сидеть в одиночестве и думать. Не в этакой халабуде, на собачью конуру похожей, а на свежем воздухе, на виду у людей сидеть положено. И так, чтобы самому все далеко, панорамно видеть.
Даже стал присматривать место для своеобразного командного пункта и тут вспомнил, что в спешке они ушли из бригады, не получив сухого пайка даже на сутки! Команда катера, конечно, в беде не бросит, поделится едой, но что и сколько она имеет? Не по-товарищески получится, если они их паек почти уполовинят.
Думай, Игорь Манечкин, ищи выход: на то ты и командир…
Ничего не успел придумать: из-за поворота реки показался родной катер-тральщик… с баржой на буксире. Баржа — самая обыкновенная железная коробка, в которой еще совсем недавно от землечерпалки отвозили донный грунт; «грязнуха», как окрестили матросы подобные баржи.
Увидел «грязнуху» — вспомнил, что, когда бежали сюда, заметил ее, сиротливо жавшуюся к яру левого берега. Заметить-то заметил, а ведь не вспомнил в нужный момент! Выходит, командир тральщика нервы покрепче имеет: ишь, не позабыл о барже в такой сумятице.
Погрузка людей, хотя баржа и не была приспособлена для этого, отняла считанные минуты: помогло всеобщее желание поскорее оказаться на левом берегу Волги, где, как считали эти исстрадавшиеся женщины, фашисты их не достанут.
Маленькая заминка произошла в самый последний момент, когда оставалось только отдать швартовы.
— Где разгружаться прикажете? — спросил главный старшина — командир катера-тральщика.
Действительно, где? Идти до ближайшей пристани, стоящей на левом берегу? До нее, если память не изменяет, около сорока километров. Сорок туда да обратно столько же… Нет, сама обстановка запрещает так время транжирить! Просто высадить людей на том берегу? Тоже не годится: может быть, где высадят, и малой тропочки не окажется? Может быть, этим умотавшимся женщинам да еще с ребятней на руках десятки километров по бездорожью ноги ломать придется, пока на тракт выйдут?
Выручила одна из женщин, стоявшая в толпе на берегу:
— За тем мысочком, — и показала рукой за каким, — дерево молнией пришибленное. Обугленное, головешкой торчит. Около него и высаживайте. Там и тропка нахоженная, и до тракта рукой подать.
— «Рукой подать» — это сколько, если на километры перевести? — полушутливо спросил лейтенант Манечкин, настроение у которого сейчас было почти распрекрасное.
— С десяток, голубок, наскребется, — подумав, ответила женщина.
Рукой подать — километров десять… Но ни одна из женщин, слышавших этот разговор, и слова не проронила; что для них какие-то десять километров, если они сотни прошагали? И еще он заметил, что те, кто был уже в барже, косили глазом на слинявшее от жары небо: привыкли, что смерть чаще всего обрушивалась именно оттуда.
Лейтенант Манечкин кивнул главному старшине. И катер-тральщик, вспенив винтом желтоватую волжскую воду, осторожно отошел от берега, почти неслышно оторвал баржу от мосточков.
Начался еще только первый рейс, а лейтенант Манечкин уже вздохнул облегченно и вдруг почувствовал, что невероятно голоден и устал.
6
Начали нарождаться сумерки — лейтенант Манечкин приказал катеру-тральщику уйти с баржой к левому берегу и замаскироваться под ветлами, нависшими над рекой, а беженцам, которым и эту ночь предстояло коротать еще здесь, держаться вблизи тех нор в обрыве, которые за день были вырыты под досмотром Злобина.
— Только услышите гул фашистских самолетов — все в убежища, — так закончил лейтенант Манечкин свою короткую речь. — Все понятно или есть вопросы?
— Сыровато там, — робко заметила одна из женщин.
— Прекратить пререкания! — повысил голос лейтенант. Однако сразу же учел, что разговаривает с людьми сугубо гражданскими, натерпевшимися от войны, и пояснил: — Думаете, подвесив люстры, фашистский летчик не заметит здесь скопления людей? Не сбросит бомбы?.. Между прочим, кто не согласен со мной, кому тяжко выполнять наши требования, может сейчас же отойти километра на три и там лагерем расположиться.
Желающих уйти от переправы, которая с рассветом снова заработает, не нашлось. Еще несколько минут суеты — и замер берег, чутко вслушиваясь во все редкие шумы, доносившиеся сюда.
А Красавина с Дроновым все еще нет… Вроде бы и не на передовую они ушли, вроде бы и при полном вооружении, а сердце тревожится, будоражит душу различными невеселыми думами.
Злобин первый уловил приближение фашистского самолета, который сегодня почему-то несколько запаздывал. Не сказал товарищам об этом, а втянул голову в поднятый воротник бушлата.
— Чего это ты сам в себя прячешься? — недоверчиво косясь на Злобина, спросил один из солдат.
— Малярия его донимает, — равнодушно пояснил Манечкин.
А фашистский самолет прошелся над рекой раз, другой, не обнаружил ничего интересного, стоящего внимания, и, круто развернувшись, заспешил на север, где небо искрилось от множества разрывов зенитных снарядов.
Стих, растаял вдали гул его моторов — Злобин отогнул воротник бушлата, вытер рукавом пот, бисерившийся на лбу.
Всю ночь лейтенант Манечкин и его матросы просидели на берегу, поочередно то уступая дреме, то упрямо гоня ее прочь. Дронин с Красавиным явились перед самым рассветом, когда от реки уже ощутимо потянуло прохладой. Усталые и довольные явились: привезли несколько вполне пригодных бревен и много досок-сороковок, с одной стороны даже покрашенных. На коровах привезли. Самое же неожиданное и радостное — с ними пришло около взвода солдат-саперов, которыми почему-то командовал подполковник инженерных войск. Он, подполковник, отдав своим солдатам какие-то приказания, подошел к Манечкину, уже стоявшему впереди матросов, и спросил:
— Если разбираюсь в обстановке, вы и есть тот самый старший морской начальник, который, судя по телефонограмме, наделен почти неограниченными правами?
Манечкин был готов поклясться чем угодно, что в голосе его звучала ирония. Не злая, а добрая.
А подполковник не дает и мгновения, чтобы ответить, он прочно владеет инициативой:
— Поскольку разговор у нас будет сугубо секретный, предлагаю отойти в сторонку.
Лейтенант Манечкин послушно пошел за ним.
Когда они остались одни, подполковник и продолжил:
— Я, лейтенант, не буду развенчивать вас. В обмен прошу одного: не рассказывать товарищам того, что скажу сейчас вам. Пока не рассказывать. Договорились?
Честное слово, в его голосе добрая усмешка!
— Так вот, ваши люди действовали напористо, не выходя из рамок допустимого. Но мы возводим мостки по иной причине. — Подполковник достал из кармана галифе пачку «Беломорканала», предложил Манечкину папиросу, закурил сам и продолжил уже серьезно, без малейшего намека на недавнюю иронию: — Стада скота идут сюда. От самого Дона. Много их идет. И все, что уцелеет от них за время перехода и добредет до этой переправы, вы должны переправить на тот берег.
— Как же скот переправлять, если на том берегу даже таких, как эти, мостков нет? — ужаснулся лейтенант Манечкин.
— А мы зачем сюда пришли? Сделаем, — заверил подполковник, молча несколько раз жадно затянулся, швырнул окурок в Волгу и сказал: — Итак, с лирикой покончено, беремся за работу.
И зазвенели топоры. Дружно, поторапливая друг друга.
Ошеломило, на какое-то время выбило из привычной колеи то, что сказал подполковник. Идут стада скота. От самого Дона… Значит, фашисты опять прорвали нашу оборону, черт им в печень!
Манечкин мысленно представил географическую карту, напряг память, но так и не нашел между Доном и Волгой хотя бы самого захудалого природного рубежа, где можно было держать оборону. Степь там ровная, как хороший стол. Раздолье для танков!
Погруженный в невеселые мысли, краем уха слушал рассказ Дронова о том, как они с Красавиным пришли в сельсовет, поговорили с народом откровенно и тот вошел в их положение: всем миром разобрали дом, хозяина которого за пособничество фашистам переселили куда-то в Сибирь или на север Урала.
Единственное, о чем спросил, где и как подцепили этого подполковника с саперами.
— Он сам за нами увязался, — несколько легкомысленно ответил Красавин. — Прибыл в село в тот момент, когда дом уже разбирали, спросил для чего и сразу же заявил, что поможет нам. Или мы неладно поступили, приведя его сюда?
— Все нормально, — механически ответил лейтенант Манечкин, который никак не мог понять: почему подполковник запретил говорить матросам о том, что скоро обрушится на них? Это военная тайна? Разглашение ее сейчас может основательно навредить нам? Например, выдаст фашистам место, где скот будет переправляться через Волгу? Чепуха сплошная! Появятся стада — матросы сразу поймут, что на Дону наши дела плохи. А что касается будущей переправы, обнаружения ее раньше времени, и того смешнее: коровы, известно, особой скоростью передвижения никогда не отличались, а сколько дней они уже в пути? Фашистские летчики, которые в прифронтовой полосе наверняка висят в небе почти круглосуточно, давно засекли их, может быть, поголовно пересчитали и точно определили, куда они путь держат.
Самое же главное — наше командование тоже не лыком шито, оно небось уже несколько подобных переправ создает?
Пришел к этим выводам — сказал матросам, стараясь оставаться спокойным:
— Все, что уже сделано, будем считать в прошлом и забудем о нем на время. Короче говоря, братцы, нам предстоит переправить на тот берег еще и скот. Когда и в каком количестве — не знаю. Но обязательно переправить. Прошу готовиться к этому молчком.
— А люди? Их или скот вперед переправлять? — вырвалось у Дронова.
— Не знаю. Одно мне известно: и за людей, и за скот мы с вами в полном ответе.
— Интересно будет глянуть, как корова или та овца в «грязнуху» полезут, — будто ледяной водой окатил Красавин.
А и верно, как?!
Значит, и доски для настила, и брусья ограждения немедленно искать и добывать надо…
Невероятно повезло лейтенанту Манечкину: не успел и сам обмозговать, кому и что приказать, Ганюшкин восторженно доложил:
— Вижу буксирный пароход с паромом!
Да, по течению шел маленький буксирный пароходик-угольщик. Над его трубой вился жиденький дымок, а сзади на длинном тросе величаво плыл паром. Современный. На палубу которого не только какая-то корова, но и любая самая тяжелая автомашина могла взойти спокойно.
— Крепко прошибла их ваша телефонограмма, — сказал Ганюшкин, самодовольно потирая руки.
А лейтенант Манечкин подумал, что, скорее всего, не она, сама обстановка на фронте основательно подхлестнула пароходское начальство, заставила так быстро оказать столь существенную помощь. Но мыслей своих не высказал.
Рассвело так, что стал хорошо виден противоположный берег, прибежал катер-тральщик. В его единственном кубрике и позавтракали наспех: хотелось побыстрее начать работу.
Еще с часок минуло — мостки будто вросли в дно Волги. Незыблемо, прочно. Осмотрев их в какой уж раз, подполковник, похоже, остался доволен работой своих солдат, издали козырнул остающимся и на катере-тральщике ушел к левому берегу, где предстояло не только соорудить мостки в рекордно короткое время, но и прорубить малую просеку сквозь заросли густого ивняка.
Первое стадо известило о себе облаком пыли, которое, казалось, недвижимо зависло над степью, опаленной солнцем, и жалобным мычанием множества коров.
Почувствовали коровы близость воды — перешли на рысь, даже неуклюжим галопом устремились вперед, не спустились степенно, а, толпясь, наскакивая друг на друга, скатились по откосу к Волге, забрели в нее по брюхо и пили, пили.
Как узнали потом, более двухсот голов было в этом стаде. А сопровождали его лишь пять женщин, потемневших лицом и осунувшихся от усталости и постоянных забот. Казалось, они еле держались на ногах. Однако ни одна из них не присела, не сполоснула лицо прохладной водой. Они разноголосо, но дружно закричали, что немедленно нужна посуда. Любая: ведра, кастрюли, тазы, миски и даже кружки, чашки. Зачем — не объясняли, но требовали настойчиво. Им принесли, у кого что было. И тогда эти пять женщин тут же на береговой кромке начали дойку. Горячие струи молока сначала звонко били в ведра и кастрюли, миски и кружки, а потом ударили в прибрежную гальку, их стал жадно впитывать ненасытный песок.
— Братцы, да что же это такое творится? Народное добро в землю уходит?! — скорее удивленно, испуганно, чем гневно, крикнул Красавин, даже рванулся к ближайшей корове, над выменем которой трудилась одна из женщин. Она, эта женщина, с трудом разогнув спину, и сказала с горечью, с огромной обидой:
— Может, ты подойники для нас припас? Может, у тебя где-то в холодке и фляги для молока хранятся? — И сорвалась на крик, полный большой душевной боли: — Или не видишь, что молоко им вымя распирает, рвет его? Не чуешь, что бессловесная скотина вторые сутки в муках пребывает?
Прокричала это как вызов им, глазеющим со стороны, и в голос заревела, обняв корову за шею.
Действительно, у тех коров, которых еще не подоили, вымя напоминало сильно надутый мяч; у некоторых оно кровоточило.
В голос ревели пять доярок. Вторили им многие женщины, ожидавшие переправы. Жалобно, умоляюще мычали коровы, до которых еще не дошли руки женщин. И лилось на землю молоко, лилось…
Закончили саперы работу и на том берегу — заработала переправа. Напряженно, в полную силу. Даже коровы, будто понимая, что им хотят добра, послушно входили на паром, недвижимо стояли там, куда их ставили. Стояли, устало опустив рогатые и комолые головы, и безразлично смотрели на воду, плескавшуюся рядом.
Не успели спровадить на тот берег это стадо — объявилось другое. Столь же усталое, истомленное долгим переходом.
Одна из коров этого стада, напившись, почему-то сразу подошла к Красавину, уставилась на него большими грустными глазами и призывно замычала. Он сделал вид, будто не понял, о чем она просит, вообще не видит ее. Но корова не уходила, она по-прежнему смотрела только на него и мычала просительно, жалобно.
И Красавин не выдержал, чуть не плача, сказал товарищам:
— Братцы, да как я помогу ей, если отроду за те сиськи не держался?
— Учись, дурак, пока я жив, — зло ответил ему Дронов, закинул автомат за спину и присел у задних ног коровы.
Красавин, как прилежный ученик, опустился рядом, сначала только смотрел на пальцы Дронова, потом, осмелев, и сам потянулся к другим сосцам.
С этих минут родился неписаный закон: как только появлялось очередное стадо коров, все и без дополнительного на то указания превращались в дояров. Лишь лейтенанту Манечкину, когда однажды он тоже пошел со всеми, было сказано Дроновым:
— Ваше дело, товарищ лейтенант, руководить, за общим порядком наблюдать…
— А любителей за титьки подержаться и без вас хватает, — моментально добавил Красавин, скалясь в доброй улыбке; его поддержали стеснительным смешком.
Манечкин подчинился общему решению, вскарабкался на обрыв и оттуда посмотрел на степь, над которой висели облака пыли.
Сколько же скота еще идет…
Тут, сидя под дубком, росшим над самым волжским обрывом, вдруг и понял, что не только к этой ночи, но в ближайшие двое или трое суток им спокойной жизни не видать. И еще подумал, что нельзя все эти стада подпускать к Волге: сгрудившись на береговой кромке, они такую мишень образуют, что не попасть в нее не сможет самый плохой фашистский летчик.
Он вышел в степь, встретил приближающееся стадо и сказал старшему пастуху, чтобы ближе к Волге подходить не смел, располагался со своим хозяйством в балке или еще где; велел и другим, кто следом идет, передавать этот приказ. Напомнил, что время сейчас военное и что из этого следует. А то, что малейшее ослушание будет караться по всей строгости законов. Вплоть до расстрела на месте.
Сознательно припугнул, чтобы подчеркнуть ответственность момента.
Шли не только коровы, шли табуны коней, отары овец.
— Столпотворение вавилонское, — так сказал Красавин, когда поднялся к лейтенанту и глянул окрест.
— Там легче было, — убежденно ответил ему лейтенант. Помолчал и высказал то, что давно зрело: — Похоже, и ночью придется работать. Ваше мнение, Красавин?
— И чего вы мне все время «выкаете», товарищ лейтенант? Или еще не поверили, что я свой, советский, до мозга костей? — обиделся Красавин.
Можно было бы напомнить ему о том первом разговоре, который состоялся в полуэкипаже, но лейтенант смолчал, а, потянувшись до хруста в суставах, сказал другое:
— Спать смертельно хочется. Ведь третьи сутки пошли… Досмотри вместо меня за порядком, а? И через часик расторкай.
Сказал это, улегся на кружевную тень дубка и сразу канул в тишину. Даже не почувствовал, как Красавин подсунул ему под голову свой бушлат.
7
Манечкин ошибся, думая, что спокойной жизни им не видать еще суток двое или трое. Уже двенадцатый день шел, а переправа все работала. То с предельным напряжением сил, то вдруг спокойно, словно и не было войны вовсе. Случались и паузы. Тогда кто-нибудь обязательно карабкался на обрывистый берег и пристально смотрел в степь, выискивая глазами облако пыли, нависшее над ней. А остальные валились спать. На катере-тральщике, пароме, мостках, но чаще всего на берегу. Или, если это случалось днем, разжигали костер, варили уху и обсуждали слухи, которые лавиной непрестанно обрушивались на них.
Самые разные слухи. Все тревожные, безрадостные. И о том, что от фашистских мин Солодниковские перекаты стали чрезвычайно рисковыми для судоходства, и о гибели парохода «Александр Невский», которого разбомбили у Быковых Хуторов. А вчера приполз и вовсе черный слух: будто фашисты в районе поселков Латышанка и Акатовка вышли к Волге, будто у села Рынок они прямой наводкой расстреляли госпитальный пароход «Бородино»; дескать, бои с фашистами идут уже на окраинах Сталинграда, в районе тракторного завода, будто там, отбивая яростные атаки фашистов, почти полностью погиб сводный батальон, сформированный из моряков, находившихся в полуэкипаже.
Не хотелось верить всему этому, но за минувшие сутки мимо не прошел ни один пароход. И уж очень много утопленников несет Волга. Так много, что перестали вылавливать: сил не хватало работать на переправе и одновременно хоронить всех их, как положено.
Теперь и вовсе считали себя кровно обиженными командованием. Общее настроение выразил Дронов, сказав:
— Никогда не думал, что так тошно коровам хвосты крутить, когда товарищи в боях кровью исходят.
А если Дронов не смог сдержать себя, то что говорить про других? Он шесть лет прослужил на островке, где гарнизон был — раз, два и обчелся, потом, как морской пехотинец, всю оборону Ханко выдержал. Говорил редко и скупо. Но уж если говорил…
— Сдается мне, что забыли о нас в этой круговерти, — подлил масла в огонь Красавин.
И лейтенант Манечкин, которому тоже было тошно здесь, взорвался, он обрушился на всех сразу, обвинив в слабодушии, неверии в командование и вообще в нашу победу, в эгоизме и прочем, что только пришло в голову. Его выслушали. А когда он выдохся, захлебнулся собственной обидой, опять Дронов и подвел итог бурному разговору, вспыхнувшему так неожиданно:
— Зачем вы так, товарищ лейтенант? Мы к вам с открытой душой, а вы…
Действительно, зачем давать волю нервам? Или товарищи в чем-то виноваты? Не они ли вместе с ним честно выполняют то, что им приказано?
Паузу, тягостную для всех, попытался смять Красавин: попробовав уху, он искусственно весело оповестил:
— Бачковая тревога! Отродясь не едал такой вкуснятины!
Под вечер, когда солнце стало подумывать о покое и неспешно покатилось к горизонту, но жара была еще в полной силе, подошло еще одно стадо коров, как сказал дед, голову которого прикрывала выцветшая от времени казачья фуражка, самое последнее, поскребыши: мол, сзади только бойцы нашей армии, сдерживающие германа. Что поскребыши — убедились сразу: многие коровы были мечены фашистскими осколками и пулями, потому и еле брели; и хотя было в этом стаде, как доложил дед, сто пятьдесят три нормальных коровьих головы и две бабьих, растянулось оно чуть ли не на три километра.
Перекуром отметили прибытие этого стада, тогда дед и высказал единственную просьбу:
— Сходил бы кто из вас, сынки, вон к той дальней балочке. Там корова с перебитой ногой мается. С каких пор мается — не скажу, не знаю, но, как думается, не первый день. Ревет жалобно, подождать ее просит… Пожалейте, пристрелите страдалицу.
Переглянулись Дронов с Красавиным, глянули на лейтенанта. Тот кивнул.
— Разрешите прихватить с собой и двух матросов с тральца? — попросил Красавин.
Почему бы и нет? Беженцев ни единой души, похоже, самых последних утром на тот берег переправили, так что команда катера-тральщика будет занята только дойкой коров.
Четыре матроса ушли к дальней балочке. Один из них нес что-то похожее на мешки. Мешки — это понятно, вполне естественно: грешно свежую говядину бросать в степи на растерзание коршунам, лисицам и прочим, кто охоч до чужого мяса.
А коровы все брели, хромали к Волге, надолго припадали губами к ее воде, подернутой легкой рябью. Скоро и дойщики приступили к работе. Одним словом, все было так, как и в минувшие дни; единственное отличие — только две женщины были с дедом, лишь они, а не несколько, сейчас верховодили.
Напились вдосталь коровы, освободились от молока и устало улеглись в тени яра, пережевывая черт знает что. А Дронова с товарищами все не было. Переправу, разумеется, можно было начинать и без них, но вид коров был настолько жалок, что, не сговариваясь, решили дать им возможность отдохнуть, хотя бы частично восстановить силы.
Ждали больше часа, пока на кромке берегового обрыва не увидели четырех матросов и корову. Матросы шли по бокам, заведя под ее брюхо простыни; они почти несли корову, помогая одолеть последние десятки метров до переправы.
Оказалась корова около уреза воды — Ганюшкин, будто его шилом кольнули, сорвался с места, в несколько прыжков достиг катера-тральщика, а еще через считанные секунды перед мордой коровы поставил ведро с водой. Корова жадно пила, а они, моряки и солдаты с капитаном Очкиным, стояли вокруг и молча смотрели на ее провалившиеся бока, на свежую повязку на передней правой ноге, на множество мух и слепней, облепивших этот обрывок казенной простыни, уже успевший пропитаться кровью.
Ее, эту корову, не сознаваясь вслух, но уважая за стремление идти за всеми, первой завели на паром, поставили, как считали, на лучшее место.
Все было привычно, шло нормально. Оставалось сделать всего лишь один рейс, когда над Волгой появился фашистский самолет. И паром, принявший последних коров, замер у мостков, чтобы, выйдя на простор реки, не выдать себя.
Самолет, облетев свой участок, похоже, намеревался уходить, не обнаружив здесь цели для себя, и тут из ивняка, стеной стоявшего на том берегу, одна за другой взвились в небо две белые ракеты, потянулись к парому; не хватило у них сил долететь до него, но внимание самолета привлекли.
— Ракетчик! — крикнули сразу несколько человек. Зло, удивленно, даже растерянно, но только не испуганно.
А катер взревел мотором, стеганул по тому ивняку длинной пулеметной очередью.
Его командиру лейтенант Манечкин и приказал:
— Вызывай бомбовый удар на себя!
И катер-тральщик рванулся к левому берегу, непрерывно строча из пулемета, пуская разноцветные ракеты.
Испугался ли ракетчик пуль, прошивавших кусты ивняка, или посчитал, что свое сделал, но больше ни одна его ракета не оставила на звездном небе дымного следа.
Однако фашистскому летчику хватило и тех двух, он, зайдя от правого берега, пошел через реку вслед за катером-тральщиком, сбросил несколько бомб. Одна из них рванула почти рядом с паромом, обрушила на него потоки воды. И коровы словно обезумели, ошалело полезли на брусья ограждения. Казалось, еще минута — и они сокрушат их, бросятся в Волгу, где и погибнут. Если и не всё, то очень многие.
Выручил дед. Он сорвал с себя пиджачок, набросил его на голову самой психованной коровы, передние ноги которой были уже на брусе ограждения, и заорал, насколько мог громко:
— Бабы! Закрывай им глаза, закрывай!
— Чем закроешь, если под рукой ничего нет? — чуть не заплакала одна из женщин.
— Юбку свою сымай, набрасывай корове на голову! — рассвирепел дед.
Последовали женщины его совету или нет, этого лейтенант Манечкин не видел, он, как и другие, даже не взглянул в их сторону, он свой китель набросил на голову ближайшей коровы. И она замерла. Только мелко дрожала все время.
А катер-тральщик, отстреливаясь из пулемета, уводил самолет от переправы, уводил вниз по реке, где не было даже прибрежной деревни.
Ушел самолет — надел лейтенант Манечкин на себя китель. Осмотрелся. Сразу увидел своих матросов и капитана Очкина с солдатами. Они снимали с коровьих голов бушлаты, шинели. А Красавин уже беззаботно, задиристо рассказывал в полный голос всем, что Ганюшкин, испугавшись коровьего бунта, забыл, где у этой рогатой скотины глаза, ну и накрыл своим бушлатом ее зад.
Ему охотно ответили счастливым смехом.
Никогда моряки не сопровождали паром до того берега. А сейчас изменили правилу. Может быть, потому, что это был последний рейс, потому, что понимали: задание командования, хотя оно и не очень пришлось им по душе, выполнено честно.
8
Контр-адмирал Чаплыгин принял лейтенанта Манечкина сразу, как только он о своем прибытии доложил через оперативного дежурного по бригаде. Пожал руку, предложил сесть и надолго замолчал. Потом спросил неожиданное:
— Твоего отца как звали?
Не уловил этого «звали», ответил несколько удивленно:
— Анемподист Стахеевич Манечкин.
И опять долгое молчание, во время которого адъютант было сунулся в кабинет, но адмирал так посмотрел на него, что тот поспешно и осторожно прикрыл за собой дверь.
Не знал лейтенант Манечкин, сколько времени они просидели молча. Наконец контр-адмирал встал, надел фуражку и будто выругался:
— Пойдем, лейтенант.
На берегу у дебаркадера стояли и курили Красавин, Ганюшкин, Дронов и Злобин. Увидев адмирала, они убрали самокрутки за спину, вытянулись. Словно в строю замерли. Тот кивнул им, но шага не замедлил. Он шел к поляне, на противоположных концах которой стояли самодельные футбольные ворота. Почти рядом, с ним — лейтенант Манечкин, а шага на три сзади, гуськом, матросы.
Адмирал миновал поляну, вошел в дубовую рощицу и остановился около могучего дуба, от которого, возможно, и пошли все молодые дубки, курчавившиеся вокруг. У корней его лейтенант увидел могильный холмик земли, аккуратно обложенный дерном, и столбик с красной звездочкой. На дощечке, прибитой к столбику, было написано химическим карандашом: «Ефрейтор Манечкин Анемподист Стахеевич».
Лейтенант Манечкин видел и могильный холмик, и эту надпись, сделанную торопливой рукой, но несколько минут ему казалось просто невероятным, чудовищно несправедливым, что отца вдруг не стало, что из четырех мужчин, год назад бывших в их семье, пока лишь они с Ростиславом уцелели. Хотя насчет брата — это еще на воде вилами писано…
А контр-адмирал скупо рассказывал непривычно глуховатым голосом:
— Он был ранен в руку. Осколок перебил плечо. Ну, как и полагается в подобных случаях, гипс был наложен. Он, гипс этот, скорее всего, и помешал твоему отцу выплыть, когда фашисты разбомбили госпитальный пароход… Обнаружили твоего отца аж в Куропаткинской воложке. По записи в медальоне опознали…
Тихо шелестят листвой дубки, словно уговаривают облегчить душу слезами. А где возьмешь их, те слезы, если злость к горлу подступила и душит, душит?..
А к Сталинграду, над которым зловеще нависла непроглядная туча черного дыма, идут новые десятки фашистских бомбардировщиков. Там и сейчас рвутся бомбы, снаряды и мины. Много бомб, снарядов и мин. Эхо тех взрывов хорошо слышно и здесь.
Контр-адмирал Чаплыгин, постояв еще немного с обнаженной головой, наконец попятился от могилы лично ему неизвестного солдата, оказавшись под защитой дубков, надел фуражку и сказал, стараясь голосом не порушить скорбную, волнующую тишину:
— Потом зайди. Дело есть.
9
До тошноты пусто и холодно было в груди лейтенанта Манечкина. Словно кто-то разом вырвал все оттуда, вырвал точно в то мгновение, когда он, Игорь Манечкин, понял, что стоит действительно у могилы отца. Пусто и холодно было в груди, но адмирал сказал, и он, пересилив себя, зашагал к штабному дебаркадеру; матросы, будто это было оговорено заранее, потянулись следом. Потому пошел, что твердо знал: без крайней необходимости адмирал сегодня не потревожил бы его.
Шел знакомой тропочкой и мимо тех самых дубков, которыми любовался не раз. И ничего этого сегодня не видел. Бесцветным, лишенным запахов и звуков стало для него сейчас все окружающее. Только этот холмик земли, оставшийся за спиной, был трагической реальностью. И фанерка с лаконичной надписью: «Ефрейтор Манечкин Анемподист Стахеевич»…
Метров сто не дошли до штабного дебаркадера — увидели бронекатер, недавно побывавший в яростном бою: и несколько свежих заплат пятнали его борта и рубку, и во многих местах на корпусе катера краска сгорела начисто.
На палубе этого израненного и обожженного бронекатера стояли контр-адмирал Чаплыгин, какой-то армейский генерал-лейтенант и еще двое без каких-либо знаков различия, но в начищенных хромовых сапогах, диагоналевых галифе и хорошего сукна гимнастерках. Эти двое, по всему чувствовалось, были здесь старшими, именно они наседали на адмирала, допекали его какими-то вопросами; генерал, похоже, пока с большим трудом придерживался нейтралитета.
Увидев Манечкина и его матросов, адмирал призывно замахал рукой и, когда, козырнув, лейтенант остановился в трех шагах от него, сказал с огромным облегчением, которое и не попытался скрыть:
— Он примет бронекатер. Уже сегодня. Сейчас. Он — Манечкин. Тот самый.
Лейтенант Манечкин, на которого сегодня обрушилось много самого разного, еще угрюмо молчал, осмысливая услышанное, а генерал, не тая радости, уже поспешил закончить неприятный ему разговор:
— Так и запишем: и этот бронекатер сегодня ночью тоже работает на переправе.
Прозвучали эти слова — начальство покинуло бронекатер. Тотчас из моторного отсека и носового кубрика вылезло несколько матросов. От них и узнали, что изуродован бронекатер три дня назад у села Рынок, где фашисты все же вышли к Волге; вот и случилось, что приказ командования — прорваться в Сталинград — бронекатер выполнил, но почти без половины личного состава и обгоревший, с пробоинами в бортах и рубке. А на переправах знаете какая сейчас свистопляска? Знаете, в какой цене там сейчас вообще каждая плавающая единица? А тут — новейший бронекатер стоит на приколе! Теперь понятно, почему здесь недавно такой шум был?
— Ты-то откуда знаешь про ту свистопляску, если ваш бронекатер и часа там не проработал? — подколол Красавин.
Чернявый матрос, который вел рассказ, похоже, хотел ответить резкостью, но в последний момент сдержался, только вопросом и ограничился:
— А кто тебе, браток, так безбожно наврал, будто мы на тех переправах не бывали? — Помолчал и пояснил вовсе миролюбиво: — На всех бронекатерах личного состава не хватает, так что отоспаться начальство нам не позволило.
Еще совсем немного поговорили, познавая друг друга, а потом вместе и дружно начали подготовку к ночной работе на переправе: по горловины залили топливо в баки, дополучили боезапас и проверили, нет ли чего лишнего в кубриках или еще где. Такого, что могло вспыхнуть от малейшего случайного огня или вообще без особой пользы занимало место. Сделали все это — лейтенант Манечкин разрешил отдыхать, хотя у самого Душу рвала тревога: вдруг что-то еще сделать необходимо?
Конец душевным терзаниям положил знакомый командир из штаба бригады, который, прибежав на катер, сказал с каким-то необъяснимым задором:
— А вам, салажата, здорово повезло: сегодня по графику я иду обеспечивающим на переправу!
Когда на следующее утро бронекатер вернулся на место стоянки, на календаре, висевшем на стене в каюте оперативного дежурного, было 29 августа. Это число запомнили. Как день, когда стали защитниками этого волжского города. А дальше сутки и вовсе замелькали, похожие друг на друга напряженностью каждой прожитой минуты.
Мелькали сутки — появлялись новые и новые пробоины и шрамы. Пока, правда, вражеские снаряды аккуратно обходили жизненно важное — моторный отсек, топливные баки, орудийную башню и боевую рубку, но Манечкин и его товарищи знали, что везение не бывает бесконечным, что оно, как правило, шарахается от тебя в самую неожиданную, самую необходимую тебе минуту. И, случается, надолго.
Вроде бы и счастье было неизменно с ними, а Ивана Злобина вдруг не стало. Под тот самый срез каски, что его лоб прикрывал, угодил вражеский осколок.
Ивана Злобина, как и других моряков бригады, похоронили на той же полянке, где и отца лейтенанта Манечкина. Днем похоронили, а уже ночью, когда на палубу и в кубрики приняли десантников, лейтенант Манечкин вдруг заметил, что за крупнокалиберными пулеметами вместо Злобина обосновался кто-то не известный ему, командиру бронекатера. Кто такой и как попал на катер — об этом спрашивать не стал: и завтра успеется, если живы будем.
Всю ночь работали как обычно: под огнем фашистов доставляли в Сталинград десантников, боезапас и продовольствие, а обратно спешили, только приняв раненых. Короче говоря, командиру бронекатера забот хватало с избытком, и он лишь в самом начале ночи иногда поглядывал в сторону нового пулеметчика, прослеживал, куда уносились строчки его пуль. Потом, убедившись, что тот дело свое знает, вычеркнул его из памяти. Временно вычеркнул. И был не просто удивлен, был возмущен до глубины души, когда утром, вернувшись на базу, захотел познакомиться с новым членом экипажа, а того и след простыл. Спросил о нем у матросов — ответили, что знать ничего не знают. Однако чересчур преданно они смотрели ему в глаза, поэтому разговор о новом пулеметчике лейтенант решил возобновить поближе к вечеру и, перекусив наскоро, ушел к могиле отца, где привык и даже полюбил сидеть в полном одиночестве; в первые дни — жадно вспоминая прошлое, с головой окунаясь в него или очень бережно прикасаясь памятью к житейским мелочам, которые уже были и теперь никогда больше не повторятся, а потом, когда несколько притупилась боль утраты, стал сравнительно спокойно обдумывать будущее, послевоенное житье. Сначала намеревался маму с Ростиславом после войны забрать к себе. Почти сразу же отказался от этой мысли: и Ростислав уже далеко не мальчишкой станет, свою жизненную тропу самостоятельно пробивать начнет, да и он, Игорь, не осядет где-то на годы, у него профессия такая, что он, повинуясь приказу командования, может в любую минуту сорваться с, казалось бы, насиженного места. Легко ли будет маме привыкать к внезапным и — возможно — частым переездам, если за все прошлые десятилетия она ни разу из Бродска не выезжала?
Да, теперь, когда он сидел у могилы отца, острой боли утраты уже не было. Вместо нее народилась тихая грусть, которая почему-то несла успокоение, давала силы для того, чтобы работать и работать на переправе, не обращая внимания на пули и осколки, дырявящие воздух рядом с твоей головой.
Здесь, у могилы отца, когда лейтенант Манечкин несколько уже обмяк душой, к нему и подошла девчушка в матросской форме. Не козырнула, как того требовал устав, а сказала, чуть поклонившись:
— Здравствуйте, Игорь Анемподистович.
Сказанное так противоречило всему укладу сегодняшней жизни, всему, к чему он привык за годы военной службы, что он не выговорил ей, не поправил ее. Только долго и молча смотрел на нее. Вот и разглядел ласковые карие глаза и задорные ямочки на смугловатых щеках. Подумалось, что он уже видел их где-то. Без твердой уверенности подумалось.
Она выдержала его взгляд, вроде бы нисколечко не смутившись, потом присела по ту сторону могильного холмика, поджав под себя ноги, и удивленно, даже разочарованно спросила:
— Не узнаете, значит? А я вас сразу признала, как только вы сюда вернулись. — Зачем-то прикоснулась рукой к черному берету, кокетливо сбитому почти на левое ухо, и продолжила уже без малейшего намека на игривость: — Вера я, Вера Гулько. Шла с гуртом коров. С теми самыми, которых вы доили… Теперь вспомнили?
Не вспомнил, но не сознался в этом, только спросил:
— И каких же ты вершин на флотской службе достигла?
Не намеревался обидеть, спросил лишь для того, чтобы поддержать разговор, а она угрожающе свела к переносице брови-стрелы, зыркнула на него потемневшими карими глазищами и выпалила с явным вызовом:
— До сегодняшнего дня была посудомойкой на камбузе, а теперь — пулеметчица на вашем бронекатере!
Выпалила это, встала и, даже не взглянув на лейтенанта, решительно зашагала прочь.
Этого он не смог простить и окликнул спокойно, словно и не разозлился вовсе:
— Товарищ краснофлотец!
Она будто не услышала.
Тогда позвал во весь голос и гневно.
Теперь она остановилась, повернулась к нему лицом и сказала чуть дрогнувшим от слез голосом:
— Почему вы кричите на меня?.. Я подошла к вам как к человеку, а вы… Между прочим, направление пулеметчицей на ваш бронекатер самим командиром бригады подписано, так что, когда явлюсь сегодня вечером для прохождения службы, прогнать меня у вас сил маловато будет!
Выпалила это и убежала в дубовую рощицу.
А он, лейтенант Игорь Манечкин, остался сидеть у могилы отца. Сначала сердитый, можно сказать — взбешенный словами и поведением этой взбалмошной девчонки, а потом — и сам не заметил когда — стал думать о краснофлотце Вере Гулько с откровенной симпатией. Даже оправдал ее желание служить не просто на флоте, а именно на боевом корабле: как фактами свидетельствует история, русские женщины еще со времени парусного флота на военных кораблях тайком служили, наравне с мужчинами и с врагами Родины бились, и ураганные штормы осиливали.
10
Себе не признаваясь в этом, он ждал вечера с огромным нетерпением. Как уверял себя, для того, чтобы точно знать: придет на катер краснофлотец Вера Гулько или ее слова о том, что она имеет направление, подписанное самим контр-адмиралом, пустое бахвальство?
Сам не знал, чего хотел больше.
Она пришла еще до захода солнца, пришла в самый разгар подготовки к ночной работе и четко доложила лейтенанту:
— Краснофлотец Гулько прибыла для дальнейшего прохождения службы!
Громко, с вызовом почти прокричала все это и размашистым, несколько картинным жестом, подсмотренным из какой-то книги или фильма, протянула листочек бумаги, сложенный пополам. Лейтенант Манечкин понял, что это и есть то самое направление, которым она грозилась. Он читал его умышленно долго, а она — высокая, почти перерезанная в талии поясным ремнем — стояла перед ним в щеголевато подогнанном обмундировании (и когда только успела?) и смотрела на него с откровенным вызовом.
В ответ и родилась озорная мысль, ее он и высказал, замаскировав под самую обыкновенную команду:
— Марш на свой боевой пост!
Боевой пост пулеметчика — на крыше рубки, туда в юбке, да еще несколько зауженной и укороченной, не очень-то просто вскарабкаться. И матрос Вера Гулько в растерянности смотрела на лейтенанта, глазами молила его об элементарной помощи, просила приказать всем матросам пялиться не на нее, которая уже поняла свою ошибку, а хотя бы на реку, играющую солнечными зайчиками. Всего на считанные мгновения просила приказать всем отвернуться!
Он не понял или не захотел понять ее немой мольбы, он остался холодным воплощением суровой флотской дисциплины. Тогда, разозлившись и не подумав, что это грубейшее нарушение уставов, она и сказанула, решительно шагнув к скоб-трапу:
— Чтоб полопались ваши бесстыжие зенки!
Чуть не плакала от обиды, но полезла на свой боевой пост, ни разу даже мельком не глянув на своих новых товарищей. И зря: с радостью отметила бы, что ни один из них и глазом не повел в ее сторону.
Только доложила, что находится на боевом посту, лейтенант приказал ей наблюдать пока лишь за воздухом, а остальным матросам жестом руки велел спуститься в носовой кубрик, где сразу и спросил, глядя в плутоватые глаза Красавина:
— Еще вчера знали, что она к нам назначена?
— Так точно, — подтвердил тот.
— Это по вашим ухмылочкам я еще утром понял… А вот о нашем к ней отношении подумали?
За всех без промедления ответил Дронов, достав из своего рундука выстиранный комбинезон и протянув его лейтенанту.
Последние сомнения снял Красавин, своими словами выдав, что между собой они все это основательно обговорили:
— Великоват он, конечно, малость, но подгонит по своим габаритам. Или ей грош цена в базарный день.
Лейтенант небрежно бросил комбинезон на рундук, давая знать, что с этим вопросом покончено, и высказал то, что его тоже волновало:
— Надо бы ей на катере место для жилья выделить. Пока, правда, в этом вроде бы и нет нужды — на отдых сюда возвращаемся, но чем черт не шутит?.. Верю, никто из нас ее не обидит, если она и в любом кубрике заночует. Однако зачем без особой на то нужды себя и ее стеснять?.. Думаю, пусть она мою, командирскую, каюту занимает. А я…
— Про вас и говорить нечего, — пожал плечами Ганюшкин. — Какое место облюбуете, то и ваше.
Остальные даже малого протеста не выразили.
11
Обосновавшись на бронекатере, Вера прежде всего и решительно захватила в свои руки все питание личного состава. Потом заявила, что не потерпит заросших волосами физиономий; дескать, ей вообще противно, когда взрослый человек, чтобы скрыть свою самую обыкновенную лень, врет окружающим, будто намерен отпустить бороду и усы.
Когда она завладела камбузом, ее действия даже одобрили. А вот тут кое-кто оказал сопротивление, заявил, что борода и усы уже не ее ума дело, что для этого командир катера и другое начальство имеются. В ответ она сказала с явной угрозой:
— Ты моего характера еще не нюхивал, ну и помалкивай в тряпочку, пока тебя не вызвали.
У каждого матроса характер был свой. Сложившийся за годы флотской службы. Но всем им очень понравилось, что эта девчонка не оробела перед мужиками, которых фашисты с перепугу окрестили черными дьяволами. Потому и оставили без ответа ее столь категоричное заявление.
Попыталась Вера прибрать к рукам и стирку матросского белья. Однако натолкнулась на единодушный отпор; больше того, ей с угрозой заявили, что настала пора самой поукоротить свои загребущие руки, пока другие этого не сделали.
И глазищами гневно сверкала, и с мольбой на лейтенанта поглядывала — не помогло. Тогда, гордо вскинув голову, убежала в бывшую командирскую каюту, где, бросившись на узенькую койку, и наревелась вдоволь.
Единственным, кто оказался бессилен отразить эту атаку Веры, оказался лейтенант Манечкин. И прежде всего потому, что матросы не поддержали его протеста. Больше того, Красавин даже откровенно предал при общем молчаливом одобрении:
— А вот шефство над лейтенантом — стоящее дело.
Только не шефство было это, а самая настоящая большая и первая любовь. Да Вера и не пыталась скрывать этого: не только охотно стирала его тельняшку, стирала чуть ли не при первой возможности, не только дважды в день пришивала к его кителю чистый подворотничок, а раз в неделю умудрялась даже брюки его гладить; она вообще влюбленными глазами следила за каждым движением лейтенанта и по окончании очередной вражеской воздушной атаки обязательно с тревогой заглядывала в рубку: не ранило ли любимого?
Лейтенанту Манечкину нравилось, ласкало душу внимание Веры, становилось ликующе-радостно на душе, когда под его взглядом она вдруг начинала вроде бы светиться изнутри. И у могилы отца он теперь любил бывать больше с нею, чем один. Но от своей любви еще открещивался, упорно убеждал себя, что Вера для него просто хороший товарищ. Не больше.
Самое же радостное — в жизнь личного состава бронекатера составной частью распорядка дня вошли посиделки. Они, как правило, начинались во второй половине дня, если ничего срочного не было. И в зависимости от погоды проходили в носовом кубрике бронекатера или на берегу. Сидели там дружной семьей, душевно пели, что больше всего настроению соответствовало, или неспешно разговаривали, вспоминая прошлую жизнь, мечтая о будущей.
Но первые дни, когда еще только нарождалось это хорошее, расспрашивали преимущественно Веру. О том, где родилась, в какой семье и о многом другом. Она откровенно рассказала, что в этом году в родной станице Краснотальской окончила десять классов, хотела бы и дальше учиться, только… Или сами не видите, как и куда жизнь вдруг пошла?
А семья у них самая нормальная во всех отношениях: кроме отца с мамой, шесть братьев и она, Вера, единственная и в самой середочке между ними. Отец и мама — казачьего роду. И тут же пояснила, нисколько не сомневаясь в правоте того, что говорила:
— Казак, он потому и казак, что, чуть обнаружится враг около наших пограничных рубежей, он хватает пику вострую, шашку верную да винтовку меткую и скок в седло!.. В первый день войны отец и три старших брата ушли в военкомат, чтобы поскорее до части определиться.
Помолчав, добавила, что вот и она, Вера, уже определилась в действующую флотилию; уверена, что и меньшие братья вместе с мамой сейчас в плавнях или еще где партизанят. С большой внутренней гордостью сказала это.
О многом и по первой просьбе рассказывала Вера. Но неизменно, умышленно комкала или даже вовсе обрывала разговор, едва он начинал скользить к тому времени, когда она впервые увидела лейтенанта Манечкина да что при этом почувствовала. Ничего тогда не произошло такого, чего можно было бы стыдиться сейчас, но только так неизменно поступала. Может быть, и потому, что в тот день она впервые увидела живых моряков и их форму, красивей которой — это она определила сразу и безоговорочно — нет ничего во всем мире.
Самым же впечатляющим и влекущим для нее оказался командир. Вот его и запомнила намертво и сразу. Из-за него, оказавшись на левом берегу Волги, сразу и забежала в военкомат, какой первым увидела, заявила военкому, что согласна пойти добровольцем в Волжскую военную флотилию. Он дал ей листок бумаги и подсказал, как написать заявление. А дальше все и вовсе просто было: моряки без малейшей волокиты определили ее посудомойкой на камбуз, особо подчеркнув, что она уже в ближайшее время должна обязательно освоить и хоть одну какую-нибудь сугубо военную специальность. Она почему-то сразу и безоговорочно решила, что будет пулеметчицей. Вот и стала ею. К самому важному для своей судьбы моменту подоспела. Во всяком случае, она так считала.
А любовь пришла после того, как несколько раз увидела лейтенанта на могиле его отца, где он сидел одинешенек и грустно смотрел в землю. Вот тогда впервые и мелькнула мысль, что она, Вера, просто обязана все время быть рядом с ним. Чтобы помочь в трудную минуту, чтобы… Да мало ли почему в жизни ему вдруг может потребоваться настоящий друг?
Твердо решила, что должно быть только так, поэтому, хотя и робела, уловила контр-адмирала, когда настроение у него было сравнительно нормальное, и без уверток, честно высказала свою просьбу. Тот испытующе глянул на нее, немного подумал и все же дал столь нужное ей разрешение.
Вот и все, что теперь осталось уже в прошлом. Ну, спрашивается, чего здесь можно стыдиться? Но она неизменно умышленно комкала или даже вообще обрывала разговор, едва он начинал скользить к тому времени, когда она впервые увидела лейтенанта Манечкина.
А время неумолимо бежало вперед и все круче и круче замешивало Сталинградскую битву, не жалея ни крови, ни железа. Теперь уже почти весь город захватили фашисты, теперь наши солдаты кое-где цеплялись лишь за береговую кромочку. А фашисты все настырнее и настырнее лезли вперед, стянув к городу, истекающему кровью, не только свои лучшие войска и множество боевой техники, но и дивизии, бригады, полки и эскадроны своих союзников. Но наши солдаты по-прежнему держались на своих рубежах обороны. Казалось, из последних сил держались. В том числе и потому, что почти каждую ночь к ним с пополнением, боезапасом и продовольствием прорывались катера Волжской военной флотилии. А на левый берег Волги они увозили только тех раненых, которые уже не могли вести бой. Не сами выбирали таких: те, кто еще мог держать в руках автомат или винтовку, к урезу воды не приближались.
За этот месяц многие катера флотилии, истерзанные вражескими снарядами, бомбами и минами, опустились на дно Волги и лежали там, укутанные илом, заносимые песком.
Их бронекатер судьба пока миловала. Вот и сегодня он уже третий раз бежит в Сталинград, а фашистские снаряды и мины все еще не могут нащупать его.
Благополучно и этот рейс в Сталинград завершили, а, вот, приняв раненых, только отошли от берега метров на двадцать или тридцать, тут и раздался скрежет. Короткий, противный, яростный. Поняли: бронекатер распорол днище. А вот обо что? Еще час назад здесь была нормальная глубина. Хотя так ли уж обязательно знать, на что напоролся бронекатер? Сейчас во много раз важнее то, что он мгновенно сел на нос и ощутимо потерял в скорости.
Немногие раненые, сегодня лежавшие и сидевшие только, на верхней палубе, еще тревожно переглядывались, не понимая, что случилось, бессильные правильно оценить серьезность происшедшего, а Дронов с Красавиным уже нырнули в носовой люк; только лязгнул он. Лейтенант Манечкин, стоявший в рубке рядом со штурвальным Ганюшкиным, несколько секунд ждал, что вот-вот приподнимется та крышка люка, высунется по пояс кто-то из матросов и проорет, чтобы немедленно подали то-то. Но крышка люка оставалась недвижима. Тогда он вдруг, будто на мгновение заглянув в носовой кубрик, отчетливо увидел пробоину с рваными краями, торчащими внутрь катера; на подобные пробоины можно сравнительно легко наложить пластырь, снаружи наложить, или… Или остается терпеливо ждать, когда вода, ворвавшаяся в пробоину, так сожмет воздух, оказавшийся в этом помещении, что сравняет свое и его давление.
Пластыря их бронекатер не имел. Значит, товарищам на выбор оставалось только второе…
Может быть, уже около сердца Дронова и Красавина замкнулся сейчас леденящий обруч воды?..
Чтобы снизить давление забортной воды и тем самым хоть и самую малость, но помочь товарищам, лейтенант Манечкин сбавил ход до среднего.
В носовом кубрике этого будто не заметили.
Тогда, выждав немного, уменьшил ход до малого.
И опять ответом было молчание!
А стоять или даже просто задерживаться здесь никак нельзя: фашисты уже почти пристрелялись, их снаряды и мины вот-вот начнут ложиться с предельной точностью.
Ганюшкин, от которого не укрылась секундная растерянность командира, сказал, будто думая вслух:
— Морзянкой можно воспользоваться. Как политические заключенные при царском режиме.
В ответ ждал чего угодно, только не того, что лейтенанта ярость захлестнет, что он с криком обрушится:
— А ты пробовал морзяночным перестуком разговаривать? Пробовал? А ну, простучи мне сначала две точки, а следом — точку и тире! Чего пялишься на меня? Стучи, раз такой умный!
Ганюшкин уже понял, что обыкновенный стук — это тебе не электрическая лампочка, не сирена или гудок, им длину тире не передашь; значит, есть в этом вроде бы чрезвычайно простом средстве связи какая-то закавыка, может быть, самая малая, немудреная, но обязательно есть. Вот и выходит, что, если ты намерен перестук освоить, сначала ее разгадай.
А лейтенант уже отошел сердцем, ворчит вполне нормально:
— Ничего, не сахарные, не размокнут.
И бронекатер неспешно идет в ночь, идет туда, где ее не рвут, не пластают на куски отблески пожаров. А Ганюшкин думает, что при такой скорости бронекатера Дронову с Красавиным более часа, погрузившись почти по шею, придется сидеть в холоднущей воде. Сегодня не июль, а первое октября…
12
Не подошел — скользнул бронекатер Манечкина и не к мосткам, где швартовались все, а без единого толчка вполз на пески, выбеленные солнцем и ветрами всех румбов. Бригадное начальство, которому по радио доложили о случившемся, уже ждало их и, едва катер плотно сел на пески, поднялось на палубу. Контр-адмиралу Дронов с Красавиным пробоину показали, доложили, что успели сделать для спасения катера.
Контр-адмирал, внимательно осмотрев пробоину и выслушав не только Дронова с Красавиным, но и лейтенанта Манечкина, всему личному составу бронекатера объявил благодарность, всем без исключения пожал руку. Он же и сказал, что днище свое они распороли о паром с танками, который минут за тридцать до их прихода именно там утопили фашисты. И еще добавил, прощаясь:
— Как видишь, от первоначальной моей задумки один пшик остался. Но это ли в жизни человека главное?.. Просто замечательно, когда у человека чиста гражданская совесть.
Ушло начальство — матросы спросили: а что такое за штука гражданская совесть, с чем ее едят? Дескать, совесть — это очень даже понятно, совесть воина, честь его — и того больше. Но при чем в сегодняшней обстановке гражданская совесть?
Лейтенант Манечкин честно признался, что впервые слышит такое, сочетание слов.
— Может, намек на скорую демобилизацию, — начал было Ганюшкин и тут же сам себя опроверг: — Нет, вам, как тому солдатскому котелку, еще вкалывать и вкалывать.
— Скорее всего, адмирал напомнил нам, что самое высокое звание, любого человека — гражданин, — начал лейтенант Манечкин, но Красавин бесцеремонно перебил его с горькой иронией:
— Гражданин начальник — куда уж выше.
— Зачем бросаться в крайности, зачем передергивать? — возразил лейтенант Манечкин. — О большом, о главном значении этого слова мы всегда помнить должны.
Сказал это, а подумал о том, что до сегодняшнего дня не удосужился он, лейтенант Манечкин, узнать у бригадного начальства, снята с Красавина судимость или нет; ведь, если память не подводит, почти месяц назад ходатайство об этом ушло в Москву или еще куда.
В это время на палубе бронекатера и загрохотали ботинки ремонтников — мичмана и семи матросов.
Почти двое суток с короткими перерывами для еды работали матросы-ремонтники и личный состав бронекатера. Настолько измотались, что, наложив последний сварочный шов, вповалку грохнулись на рундуки и так крепко уснули, что проспали приход контр-адмирала. Правда, как потом рассказывали те, кто сопровождал его, он, чтобы не потревожить их сон, сразу же перешел на еле слышный шепот. Но все равно разве это нормальное явление, если матросы кожей своей не почувствовали присутствия высокого начальства?
Как могли добротно отремонтировали бронекатер, и он снова стал еженочно бегать в осажденный фашистами город.
Вроде бы все было по-прежнему на переправах, но уже скоро лейтенант Манечкин почувствовал, что зарождается, крепнет с каждым днем и что-то новое. Прежде всего — непоколебимая убежденность, что фашистские полчища остановлены, что дальше им хода нет. И не будет!
Не только лейтенант Манечкин, очень многие поняли, что обязательно победят в этой битве, разразившейся на берегах Волги. Поняли, что победа уже где-то рядом, что она невероятно близка, но не позволили себе расслабиться: по-прежнему упорно работали на переправах, по-прежнему яростно шли на бой с врагом.
Единственное, что не нравилось лейтенанту Манечкину, что он осуждал открыто, — некоторые матросы настолько пропитались самоуверенностью, что осмеливались высказывать свое недовольство командованием. И непосредственным, и тем, которое больше из Москвы и не боями, а сражениями руководило. Дело в том, что матросы собственными глазами видели на левом берегу свежие дивизии и полки, стоявшие в полном бездействии, когда в Сталинграде горстки советских солдат из последних сил цеплялись за груды битого и задымленного кирпича или просто за подмерзшую землю; упорно полз еще и слушок, будто севернее и южнее Сталинграда наших сил скопилось и того больше. Спрашивается, почему наше командование немедленно не бросит в бой эту огромную силищу? Неужели все еще опасается фашистов, не верит, что здесь они безвозвратно сломлены?
Эти мысли высказывали вслух. Конечно, не в бою, а потом, когда в землянках коротали дневные часы. Самое же удивительное — политработники, при которых, случалось, возникали эти разговоры, почему-то в ответ только и бросали, что всякому овощу свое время.
С конца октября жили в землянках, подготовленных в начале лета, подготовленных без спешки и поэтому добротно. Отогревались в землянках у печек-буржуек и думали, говорили о том, что ходить в Сталинград с каждым днем становится все труднее и труднее. Из-за морозца, который норовил ледяной коркой покрыть катер, из-за снега, слепящего глаза. Особенно же тяжело, можно сказать невыносимо, плавать стало, когда по Волге сначала редкими и еле заметными островками, а потом почти сплошным потоком пошло сало. Оно не только крало скорость и ухудшало маневренность катеров. Оно забивало приемники забортной воды, и моторы перегревались, при малейшем недогляде могли выйти из строя. Но желание работать на переправах было столь неодолимо, что на некоторых катерах находились добровольцы, ложившиеся на палубу и пальцами выдиравшие ледяное крошево из приемников забортной воды. Гребни волн, срываемые ветром, обрушивались на них, и люди примерзали к палубе, становились похожи на ледяные глыбы, но не уходили с боевого поста, который сами себе выбрали.
19 ноября сала Волга несла сравнительно немного, и лейтенант Манечкин с товарищами вполне терпимо и ночь отработали на переправе, и вернулись на место своей стоянки. Только заглушили мотор, не успели и почувствовать окружающую тишину, как земля задрожала мелко-мелко. В тот же миг яркие сполохи заиграли на серых тучах, нависших над правым берегом Волги, севернее и южнее Сталинграда заиграли.
Чтобы в катерном журнале увиденное зафиксировать предельно точно, лейтенант Манечкин глянул на часы. Было 7 часов 30 минут.
Еще переглядывались, остерегаясь дать волю своей догадке, а тут до них и докатился даже не залп, а мощный рокот, порожденный множеством орудий.
Потом, когда исчезли последние сомнения, лейтенант Манечкин, дав волю нахлынувшим чувствам, обнял всех матросов поочередно, всех поздравил с началом конца великой битвы. И как-то так, помимо его воли, случилось, что Вера попалась ему на глаза последней. Значит, самой судьбой было определено им, прижавшись друг к другу и оказавшись почему-то в полном одиночестве, простоять несколько дольше, чем было необходимо для официального поздравления.
А еще через час или около того приполз и радостный слух, которому поверили сразу и безоговорочно: войска Юго-Западного и Донского фронтов одновременно начали наступление, с такой силой и неожиданно ударили по линии фашистской обороны, что она кое-где дала трещины; дескать, пройдет еще совсем немного времени, и фашистские вояки попадут в такое окружение, подобного которому пока не зафиксировано мировой историей.
Очень радовались, можно сказать — ликовали, но с наступлением сумерек, как стало уже привычным, снова ушли на переправу. И проработали там всю ночь, хотя по реке не только сало косяками шло, но и отдельные льдинки и даже льдины беловатыми пятнами обозначались.
Вернулись на базу, не успела Вера приготовить общий завтрак — по ушам ударил грохот артиллерийских залпов здесь, на левом берегу Волги, грохот разрывов многих снарядов в городе, там, откуда еще минуту назад стреляли фашисты. А связисты, дежурившие у коммутаторов и на линии, уже шепчут доверительно: перешла в наступление 51-я армия Сталинградского фронта.
Многие матросы радостно чертыхнулись, кое-кто даже возопил, что вот, мол, оно, то время, когда наши овощи созревать начали!
Только стали успокаиваться — приполз слух, что двинулась вперед и 57-я армия. Минуло еще около двух часов — официально сообщили, что ударила по фашистам и 64-я.
Интересно, а какой приказ получила 62-я армия генерала Чуйкова, на которую они, моряки, и работали все эти месяцы?
А моряки флотилии по-прежнему работали на переправах. Куда посылали, там и работали. Вроде бы даже с еще большим напряжением всех сил, с еще большим ожесточением.
До 23 ноября военное счастье было включено в штатное расписание бронекатера лейтенанта Манечкина. А в эту ночь, едва он, разбрасывая носом сало и раздвигая льдины, пошел в первый рейс, оно сбежало куда-то. Потому, когда они подходили к правому берегу, случайный снаряд разорвался так близко, что мотор мгновенно заглох.
Матросы еще не все и не до конца поняли, что случилось, а лейтенант Манечкин уже прокричал в орудийную башню и Вере:
— Не стрелять! Не обнаруживать себя!
Правильно и своевременно отдал приказание: на черной воде бронекатер сейчас почти невидим.
А берег, припорошенный снегом, угрожающе близок. Единственное, что несколько успокаивает, — вроде бы наши здесь оборону держат.
Лейтенант Манечкин вглядывался в береговую черту, чтобы развеять последние свои сомнения. А течение знай себе несло бронекатер, несло. К песчаной отмели, на которой чернел остов сгоревшей там баржи-нефтянки. Около него Волга уже нагромоздила льдин. Хотя, пожалуй, это даже лучше, что течение прибьет бронекатер ко льду, а не к песчаной отмели: в этом случае под днищем обязательно должен будет остаться запас глубины. Мороз, если к утру наберет силу, может сковать с тем льдом? Правильно, может. А кранцы у нас на что? Мы их проложим между бортом катера и льдиной — вот и весь сказ. В самом худшем варианте, если уж очень мороз рассвирепеет, оставим ему кранцы, а сами убежим. Подумал так лейтенант Манечкин и поэтому, едва коснулись бортом льдины, сказал Ганюшкину:
— Вывали кранцы с левого борта и швартуйся. Так, чтобы в любой момент убежать можно было.
Скомандовал и проследил, чтобы Ганюшкин не забыл вывалить кранцы — две старые автопокрышки.
До берега — метров сто. До фашистов — около трехсот, Не больше. Заметят фашисты катер или нет? Если заметят…
В рубку входит Дронов и говорит:
— Поврежден мотор. Но будет исправен. А вот когда…
Чувствуется, ему хочется поговорить, может быть, поплакаться на свою судьбу-злодейку, но лейтенант настроен решительно, можно сказать — агрессивно, он отрывисто бросает:
— Пусть радист отстучит, где мы и что с нами.
Внешне чрезвычайно спокоен был лейтенант Манечкин, хотя, кажется, в любой жилочке его тела пульсируют вопросы. Самые различные, но все так или иначе касающиеся одного: что надо сделать, чтобы фашисты не обнаружили катер, не расстреляли, не утопили его?
И еще подумалось: просто прекрасно, что сейчас нет на катере ни одного солдата-десантника, что впервые за всю Сталинградскую битву он сегодня обязан доставить в город только боезапас и продовольствие.
Все члены экипажа находились на своих боевых постах. Лейтенант Манечкин — в рубке. Так предписывало боевое расписание. Да и ответ ждал на свою радиограмму. С нетерпением ждал, хотя знал, был уверен, что в нем только и будет сказано: «Принимаем меры спасению катера».
Принимаем меры… Что предпримешь для спасения бронекатера, если плавающих единиц сейчас в бригаде кот наплакал? Хочешь или не хочешь, а невольно вспоминается, что позавчера два бронекатера, продираясь через скопление сала, перегрели моторы, даже заклинили их…
Ответ на радиограмму, ответ за подписью командира бригады пришел неожиданно быстро и гласил: «Личному составу разрешаю на день перейти на берег, укрыться в блиндажах пехоты».
Сам контр-адмирал подписал эту шифровку…
Что ж, все понятно: чтобы спасти хотя бы личный состав, адмирал разрешает покинуть бронекатер. Пожалуй, правильное решение: наша промышленность сейчас темп уже набрала, она тебе какую угодно технику мигом сварганит, а вот солдата стоящего… Только он, лейтенант Манечкин, с катера не уйдет! И не потому, что намерен, начитавшись романов, погибнуть вместе со своим кораблем. Если быть откровенным, все проще, жизненнее во много раз: истории известны факты, когда корабль, покинутый командой без должных на то оснований, случалось, жил еще часы и даже сутки, тонул лишь потому, что в ничтожно малую пробоину, которую на покинутом людьми корабле некому было заделать, непрестанно поступала вода. С их бронекатером подобное никогда не случится!
А вот личный состав пусть уходит к солдатам на берег. Кто хочет, конечно. И он, лейтенант Манечкин, чтобы совесть у него была чиста, просто обязан собрать матросов и всем объявить решение адмирала.
Собрать личный состав? Да не такое сейчас время, чтобы даже самое короткое собрание проводить! И он дает Ганюшкину шифровку, наказывает ознакомить с ней всех. Под расписку ознакомить.
— А Гулько я сам скажу, — заканчивает он.
— Что скажете, Игорь Анемподистович? Интересное? Меня касающееся? — моментально игриво откликается она.
Захотелось вскарабкаться к пулеметам, обнять Веру и сказать, что ему будет невероятно больно, если с ней что-нибудь случится, что она одна такая на всем огромном белом свете. Ограничился тем, что сухо пересказал ей содержание шифровки и спросил, как она, Вера, намерена поступить.
— С вами на катере останусь, — без малейших колебаний ответила она с легкой грустью. И добавила, предваряя его вопрос: — Или я вашего характера не знаю?
Все матросы, словно сговорившись, отказались покинуть бронекатер. Об этом просто, буднично и одновременно с гордостью доложил вернувшийся Ганюшкии.
Итак, решение принято. Единогласно. Теперь для него, лейтенанта Манечкина, как для командира, самое главное — так командовать, чтобы уберечь от смертельных ударов и катер, и его личный состав. И сразу пришло в голову — надо немедленно замаскировать бронекатер. Чтобы по внешнему виду не отличался он от льдины, к которой течение его прибило, сейчас же замаскировать. И лейтенант Манечкин, почему-то понизив голос почти до шепота, позвал к себе Веру, Красавина, Дронова и Ганюшкина. Сгрудились они около него — ткнул пальцем в грудь Красавина и приказал:
— К пулеметам, вместо Веры. — И уже вдогонку: — Без моего приказания не стрелять!
Расправился с Красавиным — принялся за Дронова:
— Все простыни и наволочки, какие есть на бронекатере, тащи в носовой кубрик. И вообще пока поступаешь в полное распоряжение Гулько. И ты, Ганюшкин, с ним.
А Вере сказал тоже тоном приказа, но заметно мягче, душевнее:
— Из всего белого, что есть у нас на катере, нужно сшить полотнище. Хоть через метр стежок, но срочно сшить. Так что валяй.
Последние слова никак не соответствовали обстановке, но Вера будто не заметила этого. Взяв из прикроватной тумбочки, Стоявшей в бывшей командирской каюте, железную коробку из-под зубного порошка, в которой хранила нитки, иголки, наперсток, запасные пуговицы и прочее, что могло потребоваться женщине в любую минуту, она поспешно юркнула в носовой кубрик.
Теперь и вовсе один он, лейтенант Манечкин, оказался в боевой рубке бронекатера.
13
О многом и без спешки подумал лейтенант Манечкин, пока Вера превращала обыкновенные простыни и наволочки в маскировочное полотнище, способное на целый день укрыть бронекатер от глаз фашистов. Поэтому, когда оно было готово, без малого промедления распорядился «срубить» — уложить на палубу — мачту и флагшток, подробно объяснил, куда, как и какую кромку полотнища заводить, где ее следует основательно прижать грузом, а где только слегка смочить водой, чтобы ледком к орудийной башне, боевой рубке или к чему другому прихватило.
Вроде бы и надежно укрылись от глаз врага, вроде бы сделали все, что зависело от них самих. После этого лейтенант Манечкин и приказал Ганюшкину заступить на вахту, всем стоять на той вахте поочередно и по два часа, наблюдение за врагом и вообще за окружающей обстановкой вести в специальные дырочки, для этой цели проделанные в полотнище; и ребенку ясно, что наша пехота, никогда не дозволит фашистам добраться до катера, захватить его, можно сказать, у себя под носом, но свой догляд еще никогда дела не портил.
Убедившись, что Ганюшкин все понял и запомнил, лейтенант спустился в кубрик, где вокруг стола уже сидели матросы. За исключением мотористов, Ганюшкина и радиста, оставшегося дежурить около радиостанции в своем закутке: добровольно и почти на сутки обрек он себя на полное одиночество.
Пять человек вроде бы обыденно, спокойно сидели за столом. Увидев лейтенанта, они сдвинулись, сели поплотнее, так хитро сдвинулись, что свободное место оказалось только рядом с Верой, сидевшей около большого зеленого чайника, парившего на столе. Лейтенант внешне равнодушно сел, куда ему подсказывали, не выдав волнения, принял от Веры железную кружку с обжигающим чаем.
Чаевничали в полном молчании. Потом дружно закурили. Все. Вера сразу скользнула в командирскую каюту, пытаясь там найти спасение от едкого махорочного дыма, Даже дверь в нее прикрыла. Очень своевременно сбежала из кубрика: здесь через несколько минут облако табачного дыма стало настолько ядовитым, что не выдержал даже заядлый куряка Дронов — чертыхнувшись, он, чтобы выпустить дым, чуть приоткрыл входной люк. Табачный дым, конечно, мигом скользнул на волю. Но вместе с ним исчезла и часть накопленного тепла. Это почувствовали сразу. А впереди были многие часы терпеливого ожидания в обстановке, когда было категорически недопустимо разжечь печурку-буржуйку, вольготно расположившуюся в центре кубрика. И лейтенант Манечкин распорядился тоном, исключающим возражения:
— Не курить. — Помолчал и потом все же обнадежил: — Когда на базу побежим, свое наверстаем. До одурения накуримся.
Ему не возразили. Не только потому, что дисциплина обязывала к повиновению. Даже для самого заядлого курильщика самым главным, самым существенным было: а заметят, обнаружат их фашисты или нет? Своя жизнь, она всегда ценится дороже курева…
Ганюшкин, отстояв свое, добавил тревоги, сказав:
— Светать начинает… Правда, пасмурно, снежок падает.
Ни слова больше. Но каждый из моряков, сейчас томившихся в кубрике, всем существом своим понял, что настоящие испытания только еще приближаются, что природа вроде бы на нашей стороне.
С большим внутренним волнением, тщательно и успешно скрывая его от товарищей, ждали, что вот-вот раздастся нарастающий вой приближающегося снаряда. Первого. За которым градом посыплются другие. Но минуты слагались в часы, а фашисты не открывали по бронекатеру огня. Тогда, осмелев, поверив, что сегодня судьба помилует их, Вера и спросила, скорее, чтобы сокрушить тягостное молчание, чем из любопытства:
— За что, Слава, если, конечно, не тайна, тебя судили?
Лейтенант Манечкин знал, что Красавин терпеть не может, когда кто-то интересуется этим, пытается заглянуть к нему в душу. Знал все это лейтенант, вот и насторожился, внутренне приготовился, если потребуется, погасить вспышку Красавина. Однако тот, усмехнувшись, начал вполне нормальным голосом:
— Судили меня по политической статье. Не за воровство, грабеж или даже убийство, а как врага народа судили.
Сказал только это и замолчал. Не хотел дальше рассказывать или любопытство слушателей распалял? Так или иначе, но Вера вопрос подкинула:
— А за что? Вредителя какого или диверсанта вражеского прозевал? Невольно его пособником стал?
— Я? Ихним пособником? — усмехнулся Красавин, и всем стало неопровержимо ясно, что Вера сказала несусветную глупость. — Нет, братцы, все было во много раз проще и страшнее…
И, временами усмехаясь, словно подсмеиваясь над собой или жизненными обстоятельствами, он рассказал товарищам, что, когда, отслужив положенное, вернулся в родное село, у соседа-одногодка, с которым не только в школе, но и в одном классе учился, даже вроде бы дружили, родился сын. Ликовали молодые родители, души не чаяли в своем первенце. Глядя на их счастье, радовались и односельчане. Не был исключением и он, Славка Красавин.
Все шло, казалось, лучше не надо, и вдруг новость, которая мигом из колеи наезженной вышвырнула, ума-разума его, Красавина, на время лишила: молодые родители своего сынишку, своего ненаглядного первенца Адольфом нарекли! Так сказать, чутко откликнулись на текущий момент, на заключение мирного договора между нами и фашистской Германией.
Так он, Славка Красавин, все это и высказал принародно, на все село проорал. И еще добавил, что преданность родной земле иначе доказывать надо. Люди-то смолчали, то ли одобряя, то ли осуждая его слова, а вот Пашка кулаки в дело пустил. Или у него, Славки, своих рук нету? Короче говоря, от всей души врезал он Пашке раза два или три. Ну тот и поостыл, вроде бы понял, что у каждого человека свои мозги и по-своему мыслят.
Помнится, даже выпили за крепкую дружбу…
Но уже завтра его, Красавина, увезли куда следует и давай спрашивать-расспрашивать: а что он такого зазорного видит в том, что советскому парнишке дано имя главы дружественного нам государства? Или он, гражданин Красавин, вообще против нашей дружбы с Германией? Может, ему, гражданину Красавину, ближе к сердцу Англии и Японии разные?
Попробовал втолковать тому, который допрос вел, что он, Красавин, никакой не враг Родины, что он просто за чистокровные русские имена незыблемо стоит. Тот и слышать ничего не хотел, в ответ во весь голос только и долдонил, что насквозь его, Красавина, как врага народа, видит, что не миновать ему, Красавину, встречи с тройкой или трибуналом, которые беда как суровы будут, если он, гражданин Красавин, чистосердечно во всем не покается, если незамедлительно не назовет своих единомышленников.
Как в воду глядел гражданин следователь: состоялась она, та встреча. Правда, не с тройкой, а с трибуналом. Без свидетелей. Если ими не считать конвоиров, которые каждое движение его, арестанта Красавина, настороженно караулили. Единственный светлый проблеск — председатель трибунала временами поглядывал вроде бы сочувствующе. И вопросы задавал вполне человеческим голосом… Но приговор огласил решительно, без самой малой запиночки… В заключение даже «одарил», добавив, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
— А еще через несколько недель я оказался на лесоповале. В таежной глухомани. Где самую тонкую ель один руками не обхватишь.
Сказал это Красавин, нервно похлопал себя по карманам, отыскивая кисет с табаком, потом, вспомнив о распоряжении лейтенанта, скрипнул зубами и лег на рундук, повернулся лицом к чуть отпотевшему борту катера. Лежал неподвижно, и, если бы не чрезмерная напряженность спины, его запросто можно было бы принять за спящего.
Тишина в кубрике такая, что отчетливо слышно было самый слабый удар или шуршание каждой льдины и льдиночки, коснувшейся борта.
В это время внезапно и гаснет единственная электрическая лампочка, тускло горевшая под потолком. Не сама гаснет, а мотористы, оберегая аккумулятор, отключают его от сети освещения. В кромешной темноте и под шорох льдин с особой значимостью звучат слова Красавина:
— Только потому все это вам выложил, что сегодня мы серьезный — на излом — экзамен держим. И хочу, чтобы вы знали: нет у меня на сердце обиды.
— Откиньте броневые крышки с иллюминаторов, — приказывает лейтенант, которому сейчас невыносимы полная темнота и общее тягостное молчание.
Исполнили приказание — теперь в кубрике не полночь в тропиках, а густые сумерки: человека видишь, а выражение его глаз не разглядишь.
Бьются льдины о борт катера. На берегу, до которого метров сто, лениво, короткими очередями рокочет станковый пулемет да изредка рвутся одиночные мины.
Вера, надеясь убежать от грустных мыслей, укладывается вздремнуть. Не на своей койке в бывшей каюте командира, а на рундуке в общем кубрике. Ложится она точно за спиной лейтенанта, укрывшись шинелью по глаза. Лейтенант всей спиной, даже затылком чувствует тепло ее тела.
14
Этим невероятно длинным днем все члены экипажа — даже мотористы, устранив повреждение, — урвали часок для дремы. Кроме лейтенанта Манечкина. Он сначала все думал: а вдруг фашисты все-таки обнаружат их и что делать тогда? Как поступить, если мотористы окажутся бессильны оживить мотор? Потом, когда было доложено, что повреждение устранено, вдруг до него дошло, что Вера все это время не столько дремлет, сколько греет его, Игоря!
И чувство нежной благодарности сковало его, заставило сидеть неподвижно, хотя все его нутро умоляло потянуться, помахав руками.
Зато едва стемнело, едва ночь надежно укрыла бронекатер от глаз фашистов, лейтенант осторожно, но решительно встал, не скрывая удовольствия, потянулся всем телом и приказал немедленно опробовать мотор. Тот взревел сразу же. Тогда лейтенант Манечкин и крикнул радостно:
— Полотнище за борт!
И обязательно упали бы в Волгу многие простыни и наволочки, если бы не матрос Вера Гулько. Это она, тихонько поворчав, упрекнув всех мужиков в извечной расточительности, с их помощью скомкала полотнище и еле втиснула его в люк носового кубрика.
— Оттает — распорю швы и все будет ладно, — пояснила Вера.
А мотор ревел мощно, могуче.
А радист уже отстучал в штаб бригады, что на их катере все в полном порядке.
— Куда побежим, товарищ лейтенант? — спрашивает Ганюшкин, который опять стоит на своем привычном месте — у штурвала.
— В город. Или забыл, что мы задание еще не выполнили?
Всю эту ночь бронекатер лейтенанта Манечкина проработал на переправе, только с рассветом устало приткнулся к невысокому яру левого берега Волги.
15
1 февраля 1973 года в Москве в Центральном Доме Советской Армии состоялось торжественное заседание, посвященное тридцатилетию разгрома гитлеровцев под Сталинградом. Я был приглашен на это заседание. Мое место оказалось в президиуме. Оттуда, из-за стола президиума, когда чуточку отступило волнение, владевшее мной, смог видеть и сам президиум, и даже часть людей, сидевших в зале. Вглядывался, разумеется, прежде всего в тех, кто был в морской форме. И кое-кого с радостью узнал. А вот контр-адмирала, рядом с которым гордо сидела дородная женщина, узнать не мог, хотя и чудилось мне в нем что-то очень знакомое. Может быть, косой шрам, проваливший его левую скулу, был в том виноват?
А потом, едва председательствующий объявил перерыв, смешался президиум с теми, кто до этого сидел в зале, начались дружеские объятия, похлопывание друг друга по спине или плечам.
Порядочно знакомых я встретил тогда. И вдруг на моем пути оказались та дородная женщина и контр-адмирал со шрамом во всю щеку. Они преграждали мне путь умышленно.
Не знаю, когда я узнал бы их, если бы женщина вдруг не захохотала. Звонко, во весь голос. Тогда меня и осенило:
— Верка!
Согласен: не должен был, не имел морального права так называть дородную адмиральшу, но назвал. И тогда она повисла у меня на шее, разревелась. А Игорь осторожно теребил ее за рукав модного платья и ласково говорил:
— Перестань, Веруся… Врачи запретили тебе волноваться…
Нет, нельзя запрещать волноваться, нельзя. Хорошее волнение неожиданного захлестывает тебя с головой…
А еще немного погодя, когда мы успокоились, Игорь и сказал, что еще в 1944 году вдруг был переведен на Тихий океан, что там, когда освобождали от самураев Порт-Артур, и был ранен в голову. Потом… Да ну их к черту все эти «потом», если самое главное — мы живы, мы встретились!
И весь следующий день мы были вместе. Разговаривали так, словно и не было недавней и многолетней разлуки. Вот тогда Вера с огорчением и поведала мне, что у них три дочери и ни одного сына. Разве это справедливо? Нет, мы, бывшие фронтовики, должны обязательно оставить после себя и сыновей. Чтобы было кому доверить защиту Родины и передать свою фамилию.
Я искренне согласился с Верой Манечкиной.