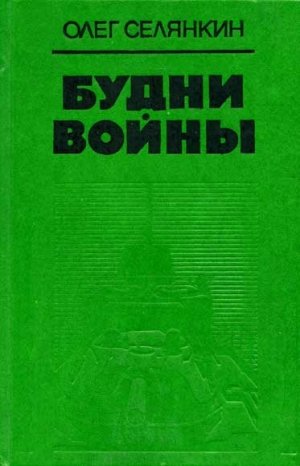
Олег Селянкин
САМАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОЧЬ
1
Все было точно так, как и всегда: и темная ночь, спрятавшая переправу от вражеских самолетов, и матросы и солдаты, грузившие на катера ящики со снарядами, минами и патронами. Даже командиры связи и различные порученцы точно так же, как и вчера, спешили куда-то, задавали самые нелепые и ненужные сейчас вопросы, вроде:
— Получена или нет махорка для личного состава?
Еще вчера командир дивизиона катеров-тральщиков капитан третьего ранга Первушин более или менее спокойно отвечал на подобные вопросы, а сегодня не может. Сегодня его все злит. Поэтому он хмурится, на вопросы отвечает односложно и нетерпеливо поглядывает на ручные часы.
Первушин высок, широк в плечах. Он не в шинели, как все другие командиры, а в полушубке с поднятым воротником, отчего кажется выше и сильнее всех. Невольно думается, что он даже имеет право на эти лаконичные ответы, звучавшие отрывисто, даже с откровенной неприязнью. И командиры связи и порученцы стараются побыстрее отойти от него. Наконец оборвались цепочки людей с ящиками и мешками на спине, и на мостки взбежал молоденький лейтенант, козырнул и отрапортовал:
— Погрузка закончена, товарищ комдив!
— Окончена, говоришь, — сказал Первушин и посмотрел по сторонам, словно хотел убедиться, так ли это, не забыли ли чего.
Ночь была темная, без единой звездочки, и командир дивизиона мог видеть лишь людей, стоявших около него, но этот взгляд по сторонам — привычка; в эти секунды комдив мысленно проверяет, все ли необходимые приказы отданы, все ли сделано, без чего потом, в бою, взвоешь.
И вдруг глаза задержались на старшем политруке. Он появился здесь минут… Командир дивизиона взглянул на часы и мысленно отметил, что сегодня от боевого задания погрузка боезапаса и продовольствия для солдат, держащих оборону в городе, украла только двадцать минут. А старший политрук пришел, когда она только началась. Значит, он здесь минут пятнадцать или восемнадцать. Вспомнил и короткий разговор с ним…
— Разрешите обратиться? — спросил старший политрук.
— Позднее, — ответил он и пояснил: — Занят…
С тех пор и ждет старший политрук. «Видать, дисциплинированный, в споры с начальством предпочитает не ввязываться», — подумал Первушин с неприязнью. Кроме того, ему стыдно за свою забывчивость, и он сказал, не скрывая раздражения:
— Слушаю вас, товарищ старший политрук.
— Прибыл…
— Вижу.
Показалось или действительно усмехнулся старший политрук? Однако продолжил он по-прежнему спокойно:
— …на должность вашего заместителя по политической части.
Утром умер от ран Павел, а сейчас на его место уже явился этот!
И командир дивизиона, с трудом сдерживая себя, говорит с откровенной неприязнью:
— Считайте, что вступили в должность… Сейчас идем в бой, значит, разговоры придется отложить. — И тут не смог сдержать раздражения: — Быстро же вас прислали.
— Разве это плохо? — будто не заметив настроения комдива, спросил старший политрук.
Командир дивизиона круто повернулся и зашагал по мосточкам, поскрипывающим и прогибающимся под его тяжестью. Когда перешагивал через леера, заметил, что старший политрук прыгнул на соседний катер. Это понравилось, но он откинул воротник полушубка и постарался не думать ни о смерти Павла, с которым бок о бок воевал полтора года, ни о новом своем заместителе. Иначе и нельзя: впереди ночь работы на переправе через Волгу, впереди много рейсов в осажденный город, над которым висят осветительные бомбы, на подходах к которому враг встретит дивизион снарядами, минами и пулеметными очередями. Главное сейчас — выполнить задание, а личное… Эх, Павел, Павел… Что ж, возможно, придется извиниться за грубоватый прием, если этот обиделся…
А произнес спокойно и властно, как всегда:
— Дивизиону сниматься со швартовых.
2
Командир катера-тральщика видел, как незнакомый старший политрук прыгнул на катер. Однако не окликнул его, не вышел из рубки, чтобы проверить документы: когда корабль отходит от берега, вся его команда стоит на своих боевых постах, а его личный пост — в рубке, рядом с рулевым. Кроме того, тот старший политрук только что разговаривал с комдивом, значит, начальство в курсе: военный корабль — не трамвай, куда запросто всякий прыгнуть может. Конечно, документы проверить надо будет, но это, успеется и чуть позже, когда катер отойдет от берега.
Однако старший политрук сам вошел в рубку, протянул раскрытое удостоверение и сказал:
— Старший политрук Векшин. Новый заместитель комдива по политчасти.
Голос у него спокойный, чуть бархатистый.
Мичман включил фонарик, прочел удостоверение, потом перевел луч на лицо старшего политрука. Точно, как фотокарточка: зачесанные назад с висков волосы, серые глаза и круглые, налитые щеки. Только ямочек сейчас на них нет, как на фотокарточке. Видать, хорошее настроение было, когда фотографировался.
— Мичман Ткаченко, — в свою очередь представился командир катера. — Особые приказания будут?
Векшин сейчас не намеревался вмешиваться во что-либо, он искренне считал, — ничто так не вредит любому делу, как обилие начальников; в этом имел возможность убедиться, когда сам еще был матросом. И потому ответил:
— Действуйте так, будто меня здесь нет.
— Слушаюсь, — козырнул мичман и нахмурился. Он двенадцать лет прослужил на флоте, всякого начальства насмотрелся и терпеть не мог, когда кто-то из начальства стоял за его спиной: простачком иной такой человек, заявивший, что будет просто пассажиром, прикидывается, вроде бы и в стороне он, а советами так и сыплет! Успевай собирать. Или, что и того хуже, вдруг разразится серией приказов, хотя отдавать их здесь имеют право лишь он, мичман, и его непосредственные начальники.
А этот хитер, притворяется, будто рассматривает рубку! А чего ее разглядывать? Что в ней мудреного? Фанерная будка с большим смотровым окном спереди!
— Почему лобовое стекло не поднято?
Ишь, уже вцепился!
Но ответил мичман спокойно:
— Нам оно не мешает.
— Разобьется — вас же осколками поранит, — и неожиданно ловко старший политрук поднял стекло, прицепил к козырьку рубки.
Командиру катера и рулевому стало ясно, что замполит морское дело не по учебнику знает. Это обрадовало: значит, должен быть с понятием к морской службе.
Командир катера даже намеревался спросить, где он служил, но катер уже вынырнул из-за островка и сразу вблизи звонко разорвалась мина, свидетельствуя, что фашисты заметили катер. Тут уж не до разговоров: только успевай следить за столбами воды, вздымающимися на реке, только успевай от них отворачивать.
Катер то стопорил ход, то так бросался вперед, будто хотел выскочить из воды. Или вовсе неожиданно круто ложился на борт. Тогда волжская вода пенилась почти вровень с палубой.
Наконец рулевой взволнованно доложил:
— Вижу сигнальный огонь!
Мичман тоже видит короткие вспышки. Это солдаты сообщают, что к приему груза готовы и просят пристать здесь.
Вот он, город, в котором почти два месяца идет непрерывный бой. Нет домов. На береговом обрыве торчат только их дырявые стены. Нет и улиц, прямых, просторных. Их перегородили перевернутые трамвайные вагоны и развалины зданий.
Берег, куда приткнулся катер, изрыт воронками от бомб и снарядов. Кажется, здесь так много упало металла, что не должно уцелеть ни единого человека. Но люди есть. Они пережили неистовые многочасовые бомбежки, артиллерийские обстрелы, от которых подрагивала земля даже на левом берегу Волги, отразили танковые атаки и цепко держатся за эту землю. Вот они, эти люди, вылезают из щелей, канализационных колодцев, из-под развалин домов и бегут к катеру.
С носа катера сброшен узенький трап. Он прогибается, кажется, потрескивает, но солдаты и матросы будто не замечают этого. Они торопливо взбегают по нему на катер и, взвалив на спину ящик с боезапасом или мешок с крупой, осторожно сходят на берег. Непрерывно движется вереница людей, хотя мины то и дело рвутся рядом, хотя их осколки предательски вкрадчиво и подло все время шуршат в воздухе.
В этой веренице людей и старший политрук Векшин. Он ничего никому не приказывал, он просто работал наравне со всеми, но мичман, который сейчас один стоял в рубке, видел, как ему уступали дорогу, как осторожно клали на спину очередной ящик или мешок. Это было уважение к старшему, который мог бы не прийти, но пришел на помощь.
Утащили на берег последний ящик с патронами — немедленно, прижимая к груди перебитую руку, пошел по трапу раненый. За ним второй, третий…
Раненые идут, идут. Будто рождает их ночь. Они не просят, не умоляют перевезти их на левый берег Волги. Лишь изредка услышишь стон. Или заскрежещет кто зубами. Но вот впереди снова только темень ночи. Старшему политруку сначала подумалось, что их катер один режет носом волны в этом районе. Только подумалось так — какой-то катер проскочил мимо. Его не видели, его почувствовали, его угадали по крутой волне, которая неожиданно и задорно стукнула в борт.
Часто налетают волны и всегда неожиданно.
3
Во время второго рейса, чтобы не мешать мичману советами, старший политрук поднялся на крышу машинного отделения, где торчал крупнокалиберный пулемет.
— Матрос Азанов! — представляется пулеметчик.
По голосу ясно, что настроение у матроса нормальное. А ты, замполит, думал, что неуютно этому матросу одиноко торчать на площадке, открытой для всех пуль и осколков.
Старший политрук осторожно коснулся пальцем дульного среза ствола пулемета.
— Не бойтесь, он не кусается.
— Так я же не зубы проверяю, а смотрю, нет ли затычки от сырости. Некоторые товарищи любят такие штучки.
И оба засмеялись, довольные собой и друг другом.
— Значит, настроение подходящее?
— Как положено по уставу… У вас газетки не найдется?
— Темно же, строчки не прочтешь…
— Уж больно курить охота.
— Курить? На посту?
— У нас, товарищ старший политрук, устав особый, каждый его параграф кровью пишется. Да и на посту другой раз мы сутками стоим, так все это время и не курить?.. Загнешься! Не от пули фашистской, а без курева загнешься!
Старший политрук сам был заядлым курильщиком и после этого разговора он так захотел курить, что достал из кармана кисет и спросил с усмешкой:
— Курить в рукав умеешь?
— Детский вопрос!
Сидели на коробках с пулеметными лентами, курили тайком — от кого? — и молчали. Наконец старший политрук сказал:
— Загляну, пожалуй, к мотористам.
— Туда следует, там запросто обалдеть можно.
Захлопнулась за старшим политруком крышка люка машинного отделения — в глаза ударил яркий свет электрической лампочки. Пришлось ненадолго зажмуриться.
Очень жарко. Давно ли здесь, а по телу уже бегут струйки пота. Пахнет разогретым машинным маслом и бензином. И мотор так тарахтит, что уши ломит.
А когда открыл глаза, увидел мотористов. Они стояли у муфты сцепления. Оба в синих комбинезонах, оба с темными от масла и железа руками. Но один из них — белобрысый, веснушчатый — смотрел с любопытством и настороженно, словно ждал, что старший политрук, как и большинство различных поверяющих, вот-вот задаст какой-нибудь каверзный вопрос.
Зато второй, черный, как жук, держался спокойно и независимо. Как хозяин, которому ничего показать не стыдно.
— Командир отделения мотористов старшина второй статьи Фельдман! — прокричал тот. — А вы — новый комиссар?
— Замполит.
— Ну это от человека зависит, кем он станет.
Старший политрук не был уверен, что полностью правильно понял, что хотел сказать Фельдман, но обстановка не располагала к философской беседе, и он перевел разговор на то, что сразу бросилось в глаза:
— Почему стоите во весь рост?
— Устав, — пожал плечами Фельдман и добавил: — И не трусы.
— Ссылка на устав — от лени придумана… У нас мотористы, когда я еще срочную служил, во время длинных переходов сидя работали… А ведь вы еще и в бою.
Фельдман несколько секунд удивленно смотрел на замполита, потом рукой показал своему помощнику — присядь! Тот опустился на корточки. Сам Фельдман присел с другой стороны мотора, осмотрелся. Даже дотянулся до регулировки газа. После этого встал, выдвинул из угла ящик с инструментом, опустился на него, еще раз осмотрелся и, широко улыбаясь, поднял вверх оттопыренный большой палец.
Невольно улыбнулся и старший политрук. Через силу улыбнулся: мутило от паров бензина, духоты и грохота мо тора. И он поспешил выбраться на палубу.
На обратном пути фашисты накрыли катер минами. Осколком одной из них ранило рулевого. И пришлось старшему политруку перевязывать его раны. Он же и сдал его санитарам, когда подошли к левому берегу.
Рулевого унесли. Именно тогда в рубку протиснулись мотористы с железными листами палубного настила из машинного отделения.
— Куда прете? Ошалели? — набросился на них мичман.
И Фельдман, приставив оба листа к фанерной стенке рубки так, чтобы они стали вроде бы ее повторением, затараторил:
— Мичман, ты меня знаешь? Разве Фельдман трепач? Он всегда, если иначе нельзя, говорит только правду!.. Что такое осколок? Мой папа сказал бы — презренный кусочек металла. А я, его сын, отвечаю: осколок — ранение или смерть…
— Ближе к делу, — нахмурился мичман.
— А я разве уклонился? Назаров, что ты ждешь? Или считаешь, что и этих двух листов хватит на всю рубку? Мы с тобой растянем их? Они резиновые?
К приходу старшего политрука вдоль всех стенок рубки, как броня, стояли листы палубного настила машинного отделения. Между ними и фанерными стенками рубки лежали пробковые спасательные пояса.
Сделай все это раньше, может, и уцелел бы рулевой?
4
Еще три рейса закончили благополучно. Если, конечно, не считать за чепе разбитые осколками фонари клотика и сорванный гафель. А сейчас, едва выскочили из-за острова, фашисты обрушили на катер не только огонь пушек, минометов и пулеметов, но и авиацию. Самолеты повисли над Волгой, прицепили к черному небу люстры — осветительные бомбы. Светло так, что видно каждую заклепочку. Мичман покосился на старшего политрука, который вместо рулевого стоял у штурвала. Ничего, справляется. Гольцов, конечно, вел катер лучше, но и этот ничего.
Несколько раз звякнули листы палубного настила. Те самые, которые мотористы поставили вдоль стенок рубки.
Пулеметные очереди с самолетов дырявили палубу, мины и снаряды тоже старались впиться в него, а он по-прежнему рвался вперед, проскальзывал меж столбов воды или нырял от самолетов в дымовую завесу, поставленную каким-то бронекатером.
С каждой минутой бой становился все слышнее. Сомнений не могло быть: наши перешли в наступление! И поэтому никто не удивился, что едва катер ткнулся носом в берег, его сразу облепили солдаты, вошли даже в холоднущую воду и все это лишь для того, чтобы сподручнее было работать.
По трапу идут раненые. Их необычайно много — с осунувшимися лицами, обмотанных белоснежными бинтами, обрывками белья и просто тряпками.
Наконец старший политрук сказал:
— Все, катер перегружен.
Оборвался поток раненых. Взвыл мотор, винтом поднял со дна ил. А катер даже не шелохнулся. Будто вмерз в дно Волги.
Несколько раз мичман переложил руль с борта на борт, резко менял ход с полного вперед на полный назад. Не помогло. Тогда мичман вышел на палубу и сказал, стыдясь своих слов:
— Может, сгрузим часть?.. Катер сразу облегчится…
Все катера дивизиона сегодня работают на переправе. Все они ходят по одному маршруту. Только с интервалом. Может, действительно несколько раненых оставить другому катеру?
— Нельзя, мичман, — за всех матросов катера ответил старший политрук. — Для раненого минута ожидания…
Замолчал старший политрук. И так всем ясно, что пока подойдет следующий катер, окончательно ослабеет кто-то из этих раненых. Может быть, до безнадежности ослабеет.
И психику человека учитывать надо. Легко ли ждать? Минуты покажутся часами.
А Фельдман уже кричит:
— Кому жарко — прошу за мной!
Он прыгает в воду, упирается плечом в борт. Одному нечего и думать сдвинуть катер, но рядом уже багровеют от натуги товарищи и незнакомые солдаты, прибежавшие с берега.
Неистово завывает мотор. Из-под винта вырывается взбешенная вода. Люди напряглись — больше невозможно…
Катер дрогнул!
Чуть шевельнулся катер и вдруг сразу рванулся от берега. Так стремительно рванулся, что кое-кто не удержался на ногах и окунулся с головой. А ведь октябрь не июль, и Волга — не Черное море. Однако никто не жалуется.
5
Разрывы снарядов и мин окружили катер. Осколками в нескольких местах пробиты и спасательные пояса, и листы палубного настила. Непрерывно строчит пулемет: Азанов расстреливает осветительные бомбы, висящие над рекой. Но только рассыплется желтыми слезами одна — вспыхивают несколько, других.
Все небо исчерчено трассами, оно искрится от взрывов зенитных снарядов. А самолеты все ходят, ходят. Иногда спускаются так низко, что видны их силуэты. Самолетам не страшен огонь с катеров: мало на катерах крупнокалиберных пулеметов, а скорострельных пушек и вовсе нет.
Стеной встают разрывы перед носом катера, однако он не отворачивает, словно не видят их ни старший политрук, ни мичман. Нет, они прекрасно видят все. Но что им остается делать? Разрывов такое множество, что не знаешь, как и куда маневрировать. Одна надежда на спасение — густая дымовая завеса, поставленная каким-то бронекатером. Только дотянуть бы до нее!
За несколько последних минут старший политрук осунулся, спал с лица. Мичман заметил даже и то, что он навалился на штурвал — «брюхом рулит», как подначивали моряки. И все же сейчас в этом он не видит ничего позорного: с любым человеком, попавшим в такую передрягу, конфуз может случиться. Кроме того, это тебе не парад, где выправка и внешний вид — главнее всего. Здесь война, здесь смертный бой.
Вдруг катер будто зарылся носом в волны, завяз в черной воде. Лишь зыбь покачивает его. Да за рубкой ярится пулемет Азанова.
— В машине! Что случилось? — кричит мичман в переговорную трубу.
— Вода заливает! Страсть как хлещет!
Отвечает Назаров. Где же Фельдман?
Но спрашивать об этом некогда: из кубрика уже лезут раненые. Наиважнейшее сейчас — пресечь панику, и мичман орет:
— Обратно! Кто сюда сунется — морду в кровь исхлещу!
Раненые еще недавно не были трусами. Но катер для них место новое, непривычное. Вот и боязно. А тут еще и вода из-под сланей пошла. Разве усидишь? Когда ты ранен, когда твоя жизнь в опасности — жить во много раз больше хочется…
А вообще-то — спасибо мичману, успокоил: раз сам стоит в рубке, да еще грозится в морду дать — значит, ничего страшного близко не маячит. А что вода вдруг пошла… Может, так и полагается в это время?
— Сходи, мичман, в кубрик, успокой людей, распорядись, — говорит старший политрук.
— Вам сподручнее…
— Я не прошу, а приказываю.
Мичман ныряет в кубрик, а старший политрук достает носовой платок и вытирает лоб, покрытый нехорошей липкой испариной. В это время рубку заволакивает дымом. Неужели проскочили в завесу? Только подумал так — в рубку ввалился Фельдман. Он сначала откашлялся и лишь потом сказал:
— Катер как решето моей бабушки… Я сбросил дымовую шашку, может, обманем гадов, проскочим… Вы, товарищ комиссар, сейчас держите чуточку правее, а потом все прямо, прямо!.. Сейчас врублю мотор.
Буроватые клубы дыма обтекают рубку и не поймешь — то ли сам движешься или ветер несет дым мимо тебя.
Еще правее или уже прямо?..
Попросить дать полный ход, чтобы хоть что-нибудь увидеть? Нельзя: при большой скорости и вовсе не справятся с откачкой воды. И сейчас раненые ведрами, касками, котелками и даже кружками вычерпывают ее. Ишь, как скребут…
Все сейчас борются за жизнь катера. Только он и Назаров на боевых постах. Назаров следит за мотором, а он ведет катер. Куда ведет? Кажется, прямо, кажется, к левому берегу…
Наконец дым начал редеть. Впереди и вдоль левого борта — темная полоска берега. Выходит, он так забрал вправо, что катер идет почти по течению.
Старший политрук перекладывает руль левее и выбирает место, куда пристать. И сразу находит глазами песчаную косу. На нее можно выбрасываться спокойно: здесь катер не затонет и в том случае, если своими силами не удастся заделать пробоины.
— Правильное решение, — одобрил мичман, когда вылез из кубрика и осмотрелся.
— Дай бинт, — просит старший политрук.
Мичман вскидывает на него глаза. Так вот почему ты, комиссар, так осунулся!.. Так вот почему ты в кубрик к раненым не сам пошел, а меня послал!..
— Комиссара ранило! — кричит мичман, распахнув дверь рубки.
Первым в рубку ворвался Азанов. Он закинул руку старшего политрука себе на шею и спросил:
— Шагать сможете?
— Куда ему шагать, если ранен в обе ноги. Говори спасибо, что еще стоит, — ворчит мичман, который бесцеремонно уже распорол одну штанину и накладывает тугой жгут на ногу комиссара.
На одеяле вынесли старшего политрука на берег, прислонили спиной к молодому дубку. Здесь мичман более основательно и занялся ранами старшего политрука, а остальные — Азанов, Фельдман, Назаров и некоторые раненые солдаты — понимающе переглядывались и говорили совсем не то, что думали:
— Царапины!.. Недели через две плясать будет…
Старший политрук понимал, что это самая наглая ложь: он уже убедился, что одна нога вообще перебита, а вторая даже очень основательно задета двумя другими осколками. Но он был благодарен матросам и солдатам за их слова: ведь они врали лишь для его успокоения.
Потом был общий перекур. Сидели и лежали на сырой земле, решали, что делать теперь. До тракта — километров пять, а лежачих раненых столько, что четырех из них придется на какое-то время оставить здесь. Это если решиться идти к тракту, И еще одного здорового. Чтобы охранял костер и за ранеными доглядывал.
Еще немного поспорили, но так и решили: идти к тракту и не медля ни минуты.
— Азанов, останешься ты, — распорядился мичман. — А кому из раненых здесь куковать, это сами решайте.
Не хочет мичман называть тех раненых, которым придется на какое-то время задержаться здесь. Конечно, есть среди них и такие, что и сейчас без сознания, эти возражать не станут. Но в любом человеке имеется и самая обыкновенная жалость. Вот и хочет мичман, чтобы другие приняли за него это жестокое решение. Однако и у тех нет желания брать ответственность на себя. До тех пор спорили, пока не пришли к выводу, что все надо порубить жребию. Пришли к этому единому решению — старший политрук и сказал, что с роковой пометкой должно быть лишь три бумажки, что четвертым раненым, который на время задержится здесь, будет он сам.
Короткая пауза, и Фельдмана прорвало:
— Вы слышали? Он думает, что сказал что-то умное!
— Разговорчики, — чуть повысил голос старший политрук.
— А чего, ребята, с ним говорить? Забираем комиссара, и точка! — разозлился Азанов.
Старший политрук достал пистолет, снял с предохранителя:
— За невыполнение приказа могу и застрелить.
Сказал так спокойно, что ему поверили. Убедившись, что победил, он добавил:
— Сам себя уважать перестану, если поступлю иначе…
6
Старший политрук сидит, навалившись спиной на молодой дубок. Рядом еще трое раненых. Светает. Над рекой медленно плывет туман. Густой и низкий. Высок ли здесь берег, а он, Векшин, уже над туманом. И флаг катера тоже. Будто над облаками реет флаг.
Ноги начали сильно болеть. Там, на катере, боль была какая-то тупая, как от сильного ушиба. А сейчас…
Жаль, что придется покинуть этот дивизион: народ здесь подобрался хороший, с ним работать можно. И комдив хорош, с характером, а не флюгер…
А здорово он любит своего бывшего замполита. Так и врезал: «Быстро же вас прислали!»
Это очень хорошо, когда человек уже умер, а люди по-прежнему любят его, не спешат расстаться с ним. Значит, он правильно, достойно вел себя при жизни… А вот он, Векшин, в этом дивизионе фигура эпизодическая: вечером пришел, утром не стало… Что ж, не повезло…
Интересно, почему листья дольше всего держатся на вершинах деревьев? Им бы, кажется, первым облетать, а они держатся… Обязательно нужно спросить у специалиста, может, позднее и его кто спросит…
Сколько же времени минуло с тех пор, как ушли матросы? Жаль, что по часам не заметил… Сейчас раненые, наверное, уже в госпитале, их перевязывают… Нет, скорее всего, матросы еще только подходят к тракту. Пока поймают машину, пока доедут до госпиталя и сдадут раненых, а потом и сюда вернутся — уйма времени уйдет.
Только бы не больше четырех часов! За четыре часа, говорят, нога мертвеет под жгутом. Если же омертвеет…
В лесочке стрекочут сороки. Рвутся бомбы в городе… Хотя… Теперь явственно слышно, что гудит машина.
— Наши! Честное слово, наши! — ликует Азанов.
А вот и машина, обыкновенная полуторка. Она вывалилась из леса и несется по поляне. В ее кузове, облапив ручищами кабину, стоит командир дивизиона. Он по-прежнему в полушубке.
— Ты что же, комиссар, подводишь дивизион, а? — оглушает басом комдив. — Только пришел, только узнали твое нутро, а ты сразу и в госпиталь?
— Вы же знаете, не нарочно…
— Не «выкай». Зови меня Федором Григорьевичем или просто Федей. Договорились? А как тебя навеличивать?
— Александром… Сашей…
— При матросах Сашкой звать не буду. Отчество?
— Петрович.
— Так вот, Александр Петрович, как поправишься — полным ходом в мой дивизион. Так и запомни: жду тебя комиссаром!
— Сам знаешь, нет теперь комиссаров.
— Вот и врешь! Это институт комиссаров упразднили, а комиссаров… Называй ты их замами, помами или еще как — достойного политработника матросы все равно комиссаром величать будут. Понимаешь меня?.. Ты не подумай, что я болтун. Тороплюсь, вот и стреляю очередями. Сам понимашь — дивизион! Тут глаз и глаз нужен… Значит, договорились? Значит, вернешься?
Рядом стояли Азанов и приехавшие с комдивом Ткаченко и Фельдман. Они тоже ждали ответа.
— Ладно.
— Порядочек! — Первушин ткнулся подбородком ему в щеку. — Ну, быстрей поправляйся, комиссар Сашка…