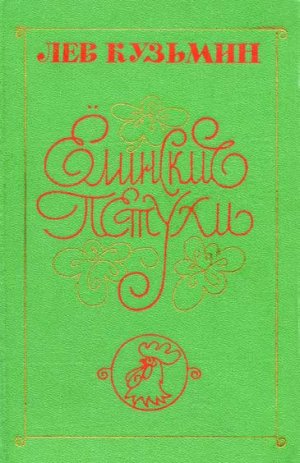
Лев Кузьмин
ОЛЁШИН ГВОЗДЬ
1
В городке Батурине живёт с мамой пятилетний мальчик Олёша. Мама у Олёши молодая, характером тихая, и поэтому все соседи зовут её просто Аннушкой. Олёша сам нет-нет да скажет ей:
— Ты моя мамушка Аннушка!
Городок невелик и тоже очень тих. Он стоит на холме среди зелёных лугов. На его улицах темнеют вековые прохладные липы. Обочины заросли крупными ромашками, золотыми одуванчиками, голубым цикорием. Пёстрое разнотравье разлилось по всему городку, а особенно ярко цветёт на самой окраине, у высоких стен древнего монастыря.
В белых монастырских постройках теперь фабрика. На фабрике всю войну шили солдатские гимнастёрки. Нынче там шьют ситцевые рубахи, мамушка Аннушка тоже шьёт рубахи, а Олёша стережёт дом и терпеливо ждёт маму по вечерам с работы.
Долгая война кончилась не так давно, и жизнь в городке трудная. Но всё равно в нём стало пошумнее. Теперь что ни день, то там, то тут начинают хлопать двери, с весёлым сверканием распахиваться окна; из окон доносятся песни, смех, топот, ликующий голос гармошки, и это значит — в Батурине возвратился с войны ещё один солдат.
А в стареньком, тёмном и скрипучем от времени Олёшином доме, под стопкой белья в комоде, хранится казённый конверт.
Кто и когда принёс конверт, Олёша не помнит. Он только помнит этот конверт у мамы в руках. Мама в белой кофточке сидит у самой стены, русую, с тяжёлым узлом волос голову запрокинула, над нею медленно качается медный маятник часов, а мама закрыла глаза и тоже, как маятник, медленно поводит головой из стороны в сторону, из стороны в сторону и молчит, молчит.
На лавке бок о бок с мамой печально сгорбились две молодые в чёрных косынках женщины — мамины подруги, тётя Настя и тётя Вера. Они тихонько просят:
— Поплачь, Аннушка… Покричи, Аннушка… Сердце не выдержит, по себе знаем. Ну, покричи…
Но мама всё молчит. Мама всё так же медленно поводит головой, и Олёше вдруг становится жутко, и он кричит сам:
— Ну мама! Ну ма-му-шка!
Мама вздрагивает, словно просыпаясь, открывает глаза, протягивает Олёше руки. Он бросается к ней, и вот они плачут вместе.
А когда мамины подруги потихоньку встали и ушли, мама сказала:
— Нет теперь папки у нас, Олёша, нет! Одни мы теперь с тобой, горькие сиротинушки.
И тут она заплакала так громко, что Олёша очень испугался, уткнулся ей головой в колени и не отходил до той поры, пока мама не притихла.
С того дня мама стала совсем другой. Она купила на базаре чёрный платок, сшила чёрную кофту и сразу словно состарилась. Даже голос у неё постарел, стал слабым и жалостным. Она то и дело повторяла:
— Одни мы с тобой, Олёша, остались, одни. Надеяться нам теперь не на кого. Никто к нам теперь не придёт, не поможет…
— Почему никто не придёт? — спрашивает Олёша. — А тётя Настя? А тётя Вера? Ты их позови, они придут. А хочешь, я сбегаю. Тут близко.
Но мама склоняется к Олёше, грустно качает головой:
— У них тоже горе. У них горе своё — у нас, Олёша, своё. Чем они нам помогут? Ничем. Нет, лучше не зови, и на улицу, милый сын, не бегай. Там лошади, там машины, и теперь я боюсь, как бы и с тобой чего не вышло.
— Не выйдет, — успокаивал Олёша. — Я ловкий!
И, желая маму утешить совсем, он лезет к ней на колени, смотрит прямо в синие, очень печальные глаза и говорит:
— Ты, мамушка Аннушка, не расстраивайся. Ты знаешь, на кого надейся? Ты на меня надейся. Я для тебя всё сделаю… Помнишь, говорила, нам домик поновей надо бы? Так вот, я немного подрасту — и новый дом построю. Я уже гвоздь припас! Большой, крепкий… Показать?
И Олёша срывается, чтобы показать гвоздь, но мама удерживает Олёшу, гладит ладонью по его рассыпанным белой копёшкой волосам:
— Видела, видела. Я уже видела… Я тебя об одном прошу, ты на улицу не убегай.
Аннушка так теперь боится улицы, что, когда идёт на работу, запирает калитку на замок, и Олёша уйти дальше двора никуда не может. Но он не сердится. Он понимает: сердиться на маму сейчас нельзя.
Проводив маму на работу, он сразу вынимает из потайной щели за печкой тот самый гвоздь — большой, крепкий, с колким остриём. Подобрал его Олёша на мостовой, когда в последний раз был на улице, и теперь вот, пока до задуманной постройки ещё далеко, употребляет находку на другое, тоже полезное дело. Гвоздь у Олёши — вместо карандаша.
Рисует он гвоздём прямо в прихожей на переборке. В прихожей сумрачно, рисунков мама не замечает или делает вид, что не замечает, и Олёша исчертил всю стенку вдоль и поперёк.
На крашеных тёмных досках проступают здесь и там по всей стенке странные, похожие на большие деревья цветы. Под цветами стоят кривобокие теремки с печными трубами, из труб вылетает и завивается поросячьими хвостиками дым, а вокруг, даже по небу, бегают тонконогие, тонкорукие человечки.
Рисованные человечки улыбаются. Олёше очень хочется, чтобы они были как живые, чтобы в пустом доме было с кем поговорить.
Но человечки улыбаются молча, и поговорить не с кем. Разве только с котом. Кота зовут Милейший. Как рассказывала мама, это имя дал коту ещё до войны отец. Кота он подобрал совсем крохотным где-то в осеннем поле под холодным дождём, принёс домой, посадил на печку и сказал:
— Ну, милейший, отогревайся, живи…
И Милейший стал жить. И вот с тех пор очень вырос. Он стал большим угольно-чёрным котом-котофеем и, хотя он Олёше ровесник, всё равно считает себя намного умней и серьёзней. Когда мама на работе, кот сам, по своей воле, приглядывает за Олёшей, не отходит от мальчика ни на шаг.
Олёша рисует на переборке, а Милейший вьётся вокруг, проводит по голым Олёшиным коленкам тёплым боком, пушистым хвостом и слушает Олёшины рассуждения.
— Вот нарисовать бы такой теремок, а в нём такую дверь, чтобы она открывалась по-настоящему. И мы бы с тобой туда вошли, а там — серебряная комнатка, в комнатке золотой столик, за столиком сидят мои человечки, болтают ногами, хохочут, разговаривают и пьют чай с малиной. С малиной и с сахаром! Правда, весело?
— Мр-р, мр-р… — отвечает Милейший. — Мр-р, мр-р…
— Мур-мур! Мур-мур! — передразнивает Олёша. — Ничего ты не понимаешь, потому что тебе и так неплохо. Я знаю, ты по ночам бегаешь на улицу, у тебя там приятели. Скажи, есть у тебя приятели?
Но кот о ночных прогулках помалкивает, и Олёше становится скучно.
Шлёпая босыми ногами по скрипучим половицам, он идёт на кухню. Невысокое окно кухни сплошь закрыла черёмуха. Отцветающие кисти ломятся прямо в стёкла, врываются в распахнутую форточку. На полу, на клеёнке стола нежными белыми чешуйками лежат привядшие лепестки, вся кухня полна их сладковатым запахом.
Олёша выдвигает из-под крышки стола ящик. Там, как всегда, чёрствая долька хлеба, катаются две серые, неочищенные картофелины да стоит чайная жестянка с крупной солью. Это всё, что по нынешним трудным временам может оставить мама Олёше на обед. Но до обеда Олёша не вытерпливает. Он съедает и картошку, и хлебный ломтик с утра, за один присест, лишь отламывает самую малость от корочки и угощает этой малостью кота.
Предлагает он Милейшему и картофельные кожурки, но Милейший на них даже не смотрит.
— Ишь, какой сытый! В подвале за мышами наохотился! Ну, ничего. Мне тоже теперь не так скучно, — говорит Олёша, гладя себя по животу, и сразу добавляет: — Пойдём теперь посмотрим в дырку.
Чтобы посмотреть в дырку, надо выйти во двор.
Олёша отворяет тяжёлую дверь в тёмные сени, потом другую дверь на крыльцо, и в глаза ударяет золотисто-голубой свет.
К лицу ластится ветерок, шевелит волосы, забирается под воротник розовой рубахи, Олёше приятно и немного щекотно.
Он смеётся, громко чихает от солнца, от ветра, говорит сам себе:
— Будь здоров!
Милейший тоже жмурится от солнца и медленно, по-хозяйски оглядывает узкий дворик. Земля тут покрыта мягкой муравой, по мураве тропка, она уходит под калитку в старых тесовых воротах.
А в плотной калитке проделана круглая дырка для ремешка щеколды. Ремешок тонкий, дырка почти вся свободна, и в неё можно глядеть. Олёша, пыхтя и покряхтывая, катит от поленницы толстый чурбан, встаёт на него и припадает глазами к дырке.
Видно ему лишь небольшую часть улицы, но смотреть всё равно интересно.
Если глянуть в дырку с утра, то в неё видно, как под липами по сизой и влажной от росы мостовой торопятся к фабрике небольшими стайками работницы в белых платочках и с узелками в руках. Они громко разговаривают, поглядывают по сторонам, даже на Олёшину калитку смотрят, но самого Олёшу не видят.
Они даже и не подозревают, что Олёша здесь. И получается так, как будто Олёша уж не Олёша и стоит не за калиткой, а надел на себя волшебную шапку и стал мальчиком-невидимкой. Он-то всех в дырку видит, а его — никто!
А если подождать ещё немного, то слева за калиткой сначала зафырчит мотор, а потом по мостовой промчится старый, обшарпанный грузовик. На грузовике, крепко держась друг за друга, проедут куда-то шумные загорелые мужики в солдатских гимнастёрках. И хотя грузовик промелькивает быстро, Олёша каждый раз успевает разглядеть в кабине рядом с водителем знакомого плотника Арсентия.
Арсентий тоже недавно вернулся с войны. Мама с Олёшей ходили к нему. «Вдруг Арсентий нашего папку на войне видел? Вдруг он про него знает что-нибудь другое?» — сказала тогда мама, и стала даже лицом посветлей, и даже перемыла в доме все окна, которые нынешней весной так ни разу ещё и не открывались.
К Арсентию они собрались уже на третий день, когда солдат отпраздновал своё возвращение.
Он, широкоплечий, кудрявый, в распущенной поверх галифе гимнастёрке, стоял с топором в руках у крыльца, видно, собирался его подновить, а когда увидел Олёшу и Аннушку, то сразу топор воткнул в ступеньку и пошёл к ним навстречу. Пошёл — и Олёша тут же увидел, что Арсентий хром. Правая нога у него не гнётся, и при каждом шаге он загребает этой ногой низенькую траву. Но толстогубое, с впалыми щеками лицо Арсентия — доброе, карие глаза улыбчивые. Олёша подумал, что он и расскажет им с мамой тоже что-то очень хорошее.
Только вышло всё не так. Разговор получился грустный. Мама во время разговора смотрела в землю, теребила дрожащими пальцами чёрные концы платка и всё почему-то Арсентия, который был нисколько её не старше, называла по имени-отчеству — Арсентий Лукич.
А тот тоже смотрел в землю. И хотя улыбался, но улыбался так, будто был в чём-то очень виноват. В чём — Олёша не понял. Он только понял, что Арсентий за всю войну об отце ничего не слыхал.
Кроме того, над головой Олёши вдруг растворилось окно, и в нём показалась румяная, гладко причёсанная, в цветном платье жена Арсентия. Она высунулась из окна до половины и принялась так жалостно вздыхать, так смотреть на маму, что Олёше сделалось неприятно. С той поры Олёша с мамой расспрашивать про отца уже никуда не ходили, а мама стала опять часто повторять:
— Надеяться нам теперь не на кого и не на что…
Воспоминания наплывают на Олёшу, но он тут же и забывает о них. Ему очень интересно, куда это каждое утро ездят мужики на машине. Ему всё-таки хочется выбежать за калитку, и на всякий случай он трогает щеколду за железное кольцо.
Кольцо поворачивается, планка с тихим звяком подымается, но калитка — ни с места. На той стороне — висячий замок.
— Опять заперто, — объявляет Олёша коту. — Ну ладно… Давай играть с тобой. Что ты там делаешь?
А Милейший в это время сидит под черёмухой у самой стены дома и во все свои зелёные глазищи смотрит на трухлявый нижний венец. Там шуршит жук-древоед по прозванию Шашель, и кот опасается, как бы этот Шашель не выполз и не напугал Олёшу.
Кот весь так и насторожился.
Но Олёша жука не боится. Он присаживается рядом с котом на корточки, ковыряет гвоздём стенку.
— Сейчас мы ему поможем. Его там, наверное, мама-жучиха закрыла, а ему хочется к нам, под солнышко. Пусть выходит.
Древесная труха сыплется на траву, на Олёшины колени, гвоздь работает как бурав, и жук внезапно стихает, прячется куда-то глубже.
— Не захотел! — удивляется Олёша. — Вот глупый! Если бы кто мне калитку открыл, я бы сразу на волю выглянул.
И он опять идёт к запертой калитке, опять блямкает кольцом, но — бесполезно.
Таким вот манером ходит Олёша по тихому, скучному двору с утра до вечера, а кот ходит за ним, и все дни для Олёши одинаковы, похожи друг на друга.
Но вот однажды он повернул кольцо, железная планка поднялась, калитка вдруг скрипнула и — отворилась!
Олёша так и замер.
Перед ним распахнулась вся от конца до конца улица.
Перед ним разбежались вправо и влево тенистые липы. Он увидел голубые и жёлтые, синие и розовые, большие и маленькие, деревянные и кирпичные соседние дома, белёные заборы, сквозные весёлые палисадники, пёстрые цветы — и было всё это вдруг таким ярким, таким невозможно манящим, что Олёша услыхал, как в груди у него застучало сердце.
Кот выгнул спину, хрипло мяукнул:
— Мау!
Днём на улице он тоже почти не бывал. Он знал её только серой, ночной, а такой вот празднично-светлой увидел чуть ли не в первый раз.
Правда, на улице было пусто. Все, кому надо, уже прошли и проехали на работу. Но за домами в садах громко звенели вёдра, весело гомонили ребятишки, и где-то совсем далеко в каком-то дворике ласковый женский голос всё выкликал какую-то Манюшку:
— Манюшка, где ты? Манюшка, где ты? Где наша Манюшка?..
Голоса манили, яркая улица звала, но переступить порог в калитке Олёша так вот сразу не решался.
Он вспомнил: вчера мама до ночи стирала бельё, а наутро проснулась и перепугалась:
— Ох, опаздываю!
На работу она так спешила, что даже оставила на табуретке свой чёрный платок и, как видно, калитку не замкнула тоже второпях.
И вот Олёша стоит, глядит и не знает, что делать.
Он уже хотел было толкнуть калитку, закрыть от греха, да вдруг увидел в собственной руке гвоздь.
Увидел — и обрадовался.
Обрадовался и сказал коту:
— Ага! Нам же дом строить надо! Нам же гвоздей насобирать надо! Вдруг на улице ещё гвозди лежат? Пошли?
Кот глянул на мальчика так ясно, так понятливо, словно тоже хотел сказать: «Пошли!» — и прыгнул через доску-порог. Олёша — раз, два! — перешагнул доску за ним. А потом прикрыл за собой калитку, накинул на пробой цепочку и погладил калитку ладонью:
— Не бойся, мы скоро…
2
Гладкие булыжники мостовой грели, как печка. Стоять босыми ногами на них было приятно.
Мостовая уходила одним концом вверх, к белокаменной фабрике, другим концом убегала под гору. Под горой городские дома и верхушки лип исчезали. Там, дальше, просторно распахнулись луга, поблёскивала далеко и чуть приметно речка, за речкой уходил к самому горизонту сосновый бор.
Олёша задумался: куда идти? Вверх или вниз? Но тут из раскрытых ворот фабрики выкатилась конная подвода, затарахтела колёсами по булыжной мостовой. Лошадь бежала рысцой, звонко цокала подковами, а на телеге, на мягких пачках с новыми рубахами, сидел рыжий краснолицый парень без шапки. Он увидел Олёшу, увидел кота, засмеялся:
— Эй вы, босоногие! Поехали, до Москвы прокачу!
Олёша понял, что рыжий шутит, и ответил тоже весело:
— Не-а! В Москву нам не надо. Нам гвозди собирать надо. Поезжай один.
За грохотом колёс возчик ответа не расслышал. Телега, дробно подпрыгивая, покатилась под гору.
Олёша посмотрел из-под руки вслед, решительно вздохнул и тоже пошёл под гору.
Гора была длинной. Дорога спускалась тут в луга широкой выемкой, по откосу шагали телеграфные столбы, за столбами виднелись коньки окраинных домиков.
К домишкам по крутой тропе маленькая, сухонькая старуха в просторной кацавейке и в серых валенках с калошами тянула на верёвке сердитую козу. Коза упиралась изо всех сил. Как видно, возвращались они с лугов, а время было ещё раннее, и коза идти домой не хотела. Она орала что есть мочи, крутила рогами, тянула хозяйку вниз, а хозяйка — вверх, и перетянуть друг дружку они не могли, бестолково топтались на месте.
Олёша сказал коту:
— Гляди, что делается! Погоди-ка…
Милейший уселся на краю дороги, Олёша побежал по тропе вверх.
Ни слова не говоря, он шлёпнул козу по мосластой спине; коза удивлённо мемекнула, пробежала шага три-четыре вперёд.
Старушка тоже попятилась вверх по тропе, радостно закивала:
— Спасибо, ангел, спасибо. Шлёпни ее, негодницу, ещё разок!
Олёша опять шлёпнул, коза опять пробежала чуть-чуть, и старушка опять похвалила:
— Умница! Погоняй её, погоняй.
Когда взобрались на самый верх, старушка придержала «негодницу», взялась за сердце и сказала:
— Ух!
Потом отдышалась, протянула руку, осторожно двумя пальцами пощупала воротник Олёшиной розовой рубахи.
— Экий ты баский. Экий ты хороший. Чей хоть будешь-то?
— Я мамин, — ответил Олёша. — А ещё Козырев. Я гвозди пошёл искать.
Он раскрыл потную ладошку, показал гвоздь и торопливо принялся объяснять:
— Надеяться нам с мамой не на кого, а надо строить дом, и я пошёл собирать гвозди, и как только насобираю, накоплю, так сразу дом построю… Вот!
— Ух ты!
Старушка удивилась, долго смотрела на Олёшу, долго старалась понять, в чём дело, наконец поняла.
— Верно! Собирай, копи. Вырастешь — хозяйственным мужиком будешь. Маминым кормильцем. А для почина вот тебе… На-ко!
Она пошарила в глубоком кармане юбки и сунула в Олёшину ладонь приятно круглое, в белой скорлупе яичко.
— Прими, скушай. Утром варила.
Яички Олёше перепадали нечасто. Он крепко стиснул гостинец в кулаке, помчался вниз. Потом встал, оглянулся.
— Бабушка, бабушка! Вот построю новый дом, так ты сразу приходи к нам в гости. Придёшь?
— Приду, — улыбнулась старушка, — только ты поживее строй, поторапливайся.
— Ме-е! — завопила упрямая коза, и старушка не договорила, поволокла козу дальше.
Олёша понюхал яичко. Оно было тёплое и ничем не пахло. Тогда Олёша присел на корточки, показал подарок Милейшему. Тот обнюхал яичко старательно и даже облизнулся. Нюх у него был тоньше, и он сразу понял, что под скорлупой что-то очень вкусное.
— Не облизывайся, — сказал Олёша. — Яичко оставим на потом. Обратно идти потом будет шибко тяжело.
После старушкиной похвалы Олёше мерещились целые россыпи новеньких гвоздей. Ему думалось: вот стоит пройти ещё немного — и прямо на дороге он увидит гвоздь, потом ещё гвоздь, а потом ещё.
Он даже головой с досады покачал, что не догадался прихватить из дому корзинку или пустое ведро.
— Ну, ничего… Унесу сколько смогу в руках и в кармане, потом вернусь опять.
Мостовая меж тем давно кончилась. Дорога стала мягкой, пушистой. Босые ноги тонули в пыли по самые лодыжки. Милейший брезгливо, как тёплую воду, попробовал топкую пыль кончиком лапы, отпрыгнул на твёрдую обочину и, то и дело огибая запашистые кусты пижмы и полыни, затрусил стороной.
Вдоль дороги за кустами тянулся колхозный капустник. По его краю медленно двигались в наклон женщины-огородницы. В руках у них взблёскивали тяпки, босые ноги, как в чулках, были в чёрной земле, а головы до самых глаз укутаны от солнца платками.
Вот одна бросила тяпку, принялась подтыкать под платок непослушные волосы, и Олёше показалось — это мамина подруга тётя Настя. Объявляться тёте Насте не стоило, Олёша пригнул голову и помчался по-за кустами вдоль капустника всё дальше и дальше по пыльной и солнечной дороге.
А гвоздей не было. Правда, один раз в пыли тускло блеснуло. Но когда Олёша кинулся туда и схватил, то это оказалась какая-то непонятная железина, вся в густой тракторной смазке.
Олёша кинул железину в канаву и провёл маслеными руками по рубахе. На животе, на подоле отпечатались полосы. Олёша попробовал их стереть, но полосы лишь размазались и стали ещё заметнее.
Настроение испортилось. Олёша вдруг почувствовал, как знойно и душно вокруг, как непокрытую голову припекает солнце, во рту сухо, на губах солоноватая шершавая пыль.
Олёша перелез канаву, проломился сквозь пыльные, словно в белёсой муке, заросли и вышел на край сочной зелёной луговины. Там он опустился на траву, стал вытирать руки.
Тёр, тёр, и только вытер, как вдруг услышал: где-то что-то шуршит. Олёша приподнялся на четвереньках, да так и замер.
Перед ним в двух шагах стоял серый зверь.
Зверь был остроухий, остромордый, с мохнатым большим хвостом.
«Серый волк!» — ужаснулся Олёша, сунул руку в карман, ощупал гвоздь, на всякий случай зажал его в руке, по спине пошли мурашки.
А зверь шевельнул хвостом, шагнул к мальчику.
Олёша гвоздь выпустил, собрался закричать, но тут из травы — злой, чёрный, дико встопорщенный — вымахнул кот. Он пал на все четыре лапы, бешено фыркнул:
— Ф-фу!
Зверь вскинул голову, попятился.
Милейший подпрыгнул на месте, фыркнул ещё громче:
— Ф-фу!
Зверь поджал хвост и с оглядкой, с тонким, визгом помчался в сторону капустника.
Милейший выпрямил спину, прижался к Олёшиным голым, в гусиных пупырышках, ногам и так вот, плотно прижимаясь к ним, сделал торжественный круг:
«Не бойся, мол! Со мной не пропадёшь. Это и не зверь совсем, а паршивенькая, трусливенькая дворняжка».
— Да я и не боюсь, — разгадал котофеевы мысли Олёша. — Я только сначала напугался, а теперь вот и поесть почему-то захотел… Давай поедим?
— Мр-р! Мр-р! — сказал кот, и Олёша достал из кармана и расколупал гвоздём яичко.
Они уселись на примятую траву рядом, и на этот раз Милейшему достались не скорлупки, а добрая половина желтка, добрая половина белка — в общем, всё то, что ему полагалось по справедливости.
Но шагать по пыльной дороге уже расхотелось. Теперь хотелось лишь так вот, руки в стороны, лежать на спине среди травы и глядеть в небо. «Когда смотришь в небо, — говорит мама, — отдыхают глаза. Отдыхают и становятся чище».
Глаза у Олёши и так чистые, тоже синие, но глядеть в небо он любит.
Он лежит, а над ним качаются на зелёных тонких соломинках пушистые хвостики созревающей тимофеевки. Высоко над Олёшиным лицом возносит лилово-красные шапки сочный клевер. Над клевером бесшумно кружит бабочка, а там дальше, выше, так высоко, что захватывает дух, — бездонное небо.
В небе ни облачка. Взгляду задержаться там не на чем, И Олёше вдруг начинает казаться, что небо не над ним, а далеко внизу под ним, и он вот-вот упадёт, навсегда улетит в эту синюю пропасть…
Олёша вскакивает на корточки и даже щупает вокруг себя лужайку. А под руками опять ласковая трава, а под ногами опять крепкая земля, на согретой солнцем земле хорошо — только вот каплю водички бы!
Жажда приходит снова, и Олёша вспоминает речку, которую видел с горы. Он говорит Милейшему:
— Сбегаем, попьём, на рыбок посмотрим, а там домой. Гвоздей на дорогах нынче нету.
И вот они опять бредут по краю дороги. Близко ли речка, далеко ли, Олёша не знает. «Наверное, не очень близко», — думает он, и на память ему приходит рыжий возчик. Если бы сейчас подвода очутилась рядом, то прокатиться на ней до речки Олёша бы не отказался.
И только он так подумал, как позади раздалось очень сильное громыханье и шлёпанье. По дороге от города мчался тот самый старенький грузовик, на котором каждое утро куда-то ездят мужики. Но теперь над ним высилась груда жёлтых длинных досок. Доски гибкие, свисают с кузова, и когда грузовик ныряет в ухабы, то доски шлёпают друг по другу, и над лугами раздаётся громкое: «Трах! Трах! Трах!»
— Вот кто нас подвезёт! — обрадовался Олёша, схватил кота в охапку и выскочил на самый край дороги.
А грузовик был уже рядом. Олёша даже увидел круглое, распаренное лицо шофёра, даже разглядел его кожаную фуражку, и шофёр кивнул, помахал рукой, но хода не убавил. Он как мчался на полной скорости, так и промчался дальше. «Трах! Трах! Трах!» — прошлёпали рядом доски, а потом Олёшу и кота накрыло душное облако пыли.
Олёша закашлялся, опустил кота на дорогу, с обидой сказал:
— Жадина! Тоже мне, знакомый!
Он совсем позабыл, что знакомство-то было через дырку. Что сам он машину и шофёра видел сто раз, а они его — ни разу.
И, расстроенный, Олёша повернул бы домой, да откуда-то потянуло приятной свежестью. Кот поставил торчком хвост, побежал трусцой. Олёша — делать нечего — потянулся за ним. А когда они взошли на небольшую горку, то сначала услышали шум падающей воды, а потом увидели внизу речку, ивы и широкий омут. Над омутом играли ласточки, но писка их из-за шума воды было не слышно.
3
Омут подпирала новая плотина, усыпанная жёлтой щепой. Медленное течение в омуте ходило воронками. Вода с протяжным гулом врывалась в деревянный жёлоб, с жёлоба падала вниз, в другой омут, и там вся в белой пене бурлила, старалась подмыть берег с тенистыми большими ивами, но под навесом ветвей мало-помалу успокаивалась и бежала дальше через луга к сосновому бору.
Под плотиной у водопада стояли радуги. Они были маленькие, но совсем настоящие — весёлые, семицветные. На гребне плотины стучали топорами плотники, двое разгружали ту самую машину с досками. Шофёр копался в моторе, он почти целиком влез под высоко поднятый капот.
Олёша как только заметил шофёра, так сердито отвернулся и стал смотреть на новенький бревенчатый сруб.
Возле сруба на траве громоздилось что-то круглое и непонятное. Там, всё так же закидывая чуть вбок раненую ногу, расхаживал и постукивал молотком Арсентий. Семицветные радуги наплывали на Арсентия, он то и дело утирался рукавом гимнастёрки, но работу не бросал.
Олёша хотел подбежать, расспросить, что это он такое делает, но вспомнил тот грустный разговор, когда ходили к Арсентию с мамой, и спрашивать раздумал.
Он помчался вслед за Милейшим.
Кот спустился вниз по крутому берегу, по высокой траве, припал к воде всей грудью и быстро залакал узким языком. Олёша, хватаясь руками за траву, задом наперёд тоже полез к воде, но тут его увидел и сам Арсентий.
— Ага! Старый знакомый! — закричал он. А потом широко взмахнул руками, широко шагнул и ловко поймал Олёшу за воротник. — Ты куда? Утонешь. Там с ручками не достать. Пить, что ли, захотел?
— Пить, — ответил Олёша.
— Ну, коли пить, так айда за мной, — сказал Арсентий и — ширх, ширх, — подминая траву и размахивая рукой так, словно косил, пошёл в тень под ивы.
Там он раздвинул дремучую крапиву, кусты багульника, зачавкал по мокрому сапогами, и Олёша увидел зелёную, всю заросшую мхом каменную кладочку. Из кладочки торчал осклизлый деревянный лоток, с него тонко цедилась в крохотную лужицу прозрачная струя.
С краю лужицы поблёскивала на траве жестяная самодельная кружка. Арсентий кружку подставил, вода зазвенела по тонкому донцу, потом зажурчала, потом забулькала — и кружка наполнилась до краёв.
— Пей! Ключевая, сладкая… В омуте совсем не то.
У Олёши заломило зубы, даже внутри живота стало холодно от ключевой воды, и он выпил только половину кружки. Остальное допил Арсентий, зажмурился, утёр толстые губы ладонью, крякнул:
— Порядок!
Олёше вдруг стало очень просто, очень свободно с Арсентием. Он спросил:
— Ты что здесь делаешь?
— Колесо.
— Какое колесо?
— Пойдём посмотрим.
У плотины и впрямь лежало колесо. Только это было не какое-нибудь простое колесо, а огромное.
Оно даже лежачее было выше Олёши, а если его поставить стоймя, то до верха не дотянулся бы и сам Арсентий. Между двух круглых деревянных боковин в нём виднелись крепкие дощатые перегородки.
— Ого! — сказал Олёша. — Это такая великанская телега будет?
Арсентий засмеялся:
— Чудак! Это колесо — водяное. Оно жернова станет крутить, зерно молоть, муку вырабатывать. Вот достроим мельницу — и будет наше Батурино с хлебом. Со своим.
Про муку и хлеб Олёша понял сразу. Понял, потому что не раз они с мамой Аннушкой сиживали на одной картошке. Не раз мама приходила из магазина с пустой кошёлкой, сердито совала её в угол и говорила: «Опять хлеба нет. Опять пекарня без муки. Ну когда это кончится?»
Муку в городок доставляли издалека, весной и осенью по бездорожью, а своя мельница обветшала и сломалась. Чинить её было некому, потому что все способные к этому делу работники ушли на войну. И вот каждый раз, когда кошёлка была пустой, мама вздыхала: «Видно, уж только тогда всё наладится, когда солдаты к домам придут».
После таких слов мама всегда замолкала. На глаза у неё набегали слёзы, и она отворачивалась. Она старалась, чтобы Олёша этих слёз не увидел, но Олёша всё равно видел и понимал: плачет мама об отце. Она всегда, когда хлеба не хватало, вспоминала об отце, и в такие дни Олёша хлеба не просил.
Он и Арсентию ничего не сказал про всё это, лишь грустно произнёс:
— Хорошо, что хоть ты вернулся.
— Куда вернулся? Откуда? — не понял Арсентий.
— Оттуда. С войны.
Арсентий удивлённо поглядел на мальчика. Его худое со впалыми щеками лицо опять, как тогда, стало немножко растерянным, и он ответил тоже тихо:
— Да, брат, хорошо. Конечно, хорошо…
Но Олёша думал уже о другом. Он окинул взглядом колесо, уважительно похлопал по нему ладошкой:
— Сам делал? Один?
И Арсентий вопросу обрадовался, даже засиял весь, быстро заговорил:
— Ты что? Разве один такую махину своротишь? Ни в жисть не своротишь! У меня друзья. Коллектив, так сказать… Я тут последки доделываю.
И, то ли желая немного похвалиться, то ли желая окончательно убедить Олёшу в будущей замечательной жизни, плотник махнул на колесо рукой, сказал:
— Мельница с водяным колесом — дело невеликое, допотопное. А вот мы настоящую заводскую турбину получим — тогда, друг ты мой, поглядишь и ахнешь! Тогда цельный комбинат построим и будем кормить не только себя, а и всех соседей! Смотри, как фронтовички стараются. Гвардия!
На плотине по-прежнему стучали топорами рабочие, и были они тоже все в выцветших добела гимнастёрках. Дело у них шло так дружно, топоры постукивали так складно — тюки-тюк! тюки-тюк! — что Олёше захотелось и про себя сказать что-нибудь хорошее.
— А я вот гвозди собираю, — громко заявил он. — Один уже нашёл. Показать?
— Покажи.
— Вот.
Олёша вынул гвоздь, и на широкой ладони Арсентия тот показался намного меньше, чем был на самом деле. Но Арсентий железную вещицу внимательно осмотрел и даже слегка подкинул:
— Отличная штука!
Олёша обрадовался:
— Ещё какая отличная! Я, знаешь, кем буду? Я хозяйственным мужиком буду. Накоплю гвоздей — и буду. Вот.
— Кем? — изумился Арсентий, и в карих глазах у него запрыгали смешливые искорки. — Кем-кем-кем?
— Мужиком. Хозяйственным, — повторил Олёша, но тут же развёл огорчённо руками: — Только тихо гвозди-то копятся. У меня один вот этот и есть. Я, знаешь, что им дома делаю?
— Что?
— Человечков рисую. На переборке. Они такие смешные, такие весёлые, только что не говорят. Но зато мы с котом разговариваем. Правда! Как мама на работу уйдёт, так мы с ним и разговариваем.
— О чём?
— Обо всём! О солнышке, о траве, о доме, о человечках, о маме. Мы только про папку с ним не разговариваем. Про папку говорить грустно. Плакать почему-то хочется…
Улыбка на лице Арсентия погасла. Он тихо накрыл шершавой ладонью голову мальчика, запрокинул её легонько и пристально взглянул в Олёшины синие глаза.
— Да, брат… — Потом помолчал и опять сказал: — Да, брат…
И вдруг склонился так близко к мальчику, что Олёша увидел себя в его тёмных зрачках, и зашептал быстро-быстро:
— Ты знаешь что? А ведь папка твой, может быть, и вернётся. Честное слово, может, вернётся… Это бывает. Это с солдатами очень даже бывает. Вот и письмо про него пришлют, и уже все навроде бы простятся с ним, а солдат возьмёт и придёт!
— Верно? — прижал руки к груди и даже отступил на один шаг Олёша.
— Верно! Честное солдатское, верно! Мне бы и тогда вам про то сказать, да, понимаешь, не сообразил я… Растерялся.
— А теперь не растерялся?
— Теперь нет. Теперь, думаю, вернётся. Должен вернуться!
— Живой-живой?
— Конечно, живой! Ну, может быть, раненый. Как я. Ну, может быть, и не очень ещё скоро.
— Это ничего, что не скоро! — замахал руками Олёша. — Это ничего! Я потерплю. Я ужас какой терпеливый! Хочешь, залезу в крапиву и стану терпеть? Не веришь?
— Верю, верю, — уже опять ласково и почти легко сказал Арсентий. Сказал — и даже вздохнул, выпрямился, будто сронил с плеч целую гору. — Верю. Да только в крапиву лазить не надо, а лучше лезь-ка ты на колесо. Поработаем вместе… Идёт?
Олёша обрадовался, закивал и полез по шаткой лесенке на колесо.
4
На колесе было ровно и гладко, как на столе. Там одиноко торчал плотницкий ящик. Олёша заглянул в него и увидел топор, молоток, пилу-ножовку и кучу гвоздей, очень похожих на тот, что лежал у него в кармане. Арсентий, опираясь на руки, медленно сел, хлопнул возле себя ладонью:
— Давай молоток, подноси гвозди.
И Олёша стал подносить гвозди.
Арсентий забивал их в доски почти с одного раза.
А как забьёт, так обопрётся руками, пересядет, скажет Олёше:
— Давай новый гвоздь. — И опять у них на колесе идёт весёлый стукоток.
Время близилось к полудню. Раскалённое солнце поднималось всё выше и выше. Тени от густых, с дремотно опущенными ветвями ив почти пропали, и работать на колесе стало жарко. Но чуть заметное движение воздуха от плотины нет-нет да и наносило водяную пыль, и тогда Олёша подставлял ей разгорячённое лицо, ловил эту влажную морось губами, а потом, подражая Арсентию, утирался рукавом своей теперь уже вконец измаранной рубахи.
Да что рубаха? Про неё Олёша и думать позабыл.
Так славно, как сейчас, ему еще не бывало никогда.
Он смотрел, как ловко взлетает молоток в руках Арсентия, прислушивался, как бойко и складно стучат топоры на плотине, и у Олёши под этот стукоток прямо-таки сама собой выпевалась не то считалочка, не то песенка:
Пел он, конечно, даже не шёпотом, а про себя. Запеть вслух он стеснялся. Но было ему всё равно хорошо, и он даже попробовал заманить на колесо Милейшего.
Тот устроился на куче бревен у самой реки, на Олёшин зов чутко оборачивался, умильно щурил глаза, но идти на колесо, по которому Арсентий так бухал молотком, не желал. Ему там, на брёвнах, было тоже отлично.
Наконец Арсентий пристукнул особенно громко и сказал:
— Всё!
Олёша заглянул в ящик: гвозди там кончились. Арсентий сказал:
— Надо бы серёдку чуть покрепче уколотить, ну да ладно. Сойдёт.
Он постучал молотком по доскам, прислушался и опять подтвердил:
— Пожалуй, сойдёт…
И тут Олёша вдруг сел на корточки, выхватил из кармана свой гвоздь и протянул Арсентию:
— На! Давай забьём и вот этот.
Он протянул свой драгоценный гвоздь, сам не зная почему. Он об этом не успел даже подумать. Он только испугался, что работа сейчас кончится, что Арсентий встанет и скажет: «Ну, брат, спасибо! Теперь беги домой!» — и тогда всем этим прекрасным минутам тоже придёт конец, и песенке про папку тоже придёт конец, и вот он поэтому испугался и протянул гвоздь и повторил:
— Давай забьём! Ну пожалуйста…
Арсентий кинул на Олёшу быстрый взгляд и сразу всё понял.
— Ну, когда так… — сказал он и на обеих руках передвинулся к центру колеса, туда, где темнела квадратная дыра для толстой оси. — Ну, когда так, забивай сам. Вот здесь наиважнейшее место.
— Сам? — так и всколыхнулся Олёша.
— Сам. Бей, да только не согни.
И Арсентий показал пальцем, куда бить.
Олёша взял тяжёлый молоток, нацелил на это место гвоздь и тихонько тюкнул по шляпке. Гвоздь немного вошёл.
Олёша снова тюкнул, и гвоздь ещё чуть-чуть вошёл.
Олёша тюкнул два раза подряд — гвоздь как был, так и остался стоять.
— Колоти смелей! — приказал Арсентий, и тут Олёша начал бить смелей, и гвоздь пошёл, пошёл, пошёл и вот уже весь до самой шляпки скрылся в дубовой доске, в самом наиважнейшем месте.
Арсентий перехватил молоток, добавил ещё один хлёсткий удар, сказал своё любимое словцо:
— Порядок!
А ещё он сказал:
— Я так и знал, Олёша, ты мужик компанейский.
— Какой? — переспросил Олёша.
— Компанейский. Не для себя одного, а для всех, значит. Пойдём перекурим…
Они слезли вниз, уселись на старое щелястое бревно у самого родника, Арсентий скрутил папироску, набил махоркой, и от папироски поплыл горьковатый дым. Но Олёше этот запах был приятен.
Олёше вдруг почудилось: когда-то где-то он этот запах уже вдыхал. И он опять услышал в самом себе песенку:
А в Арсентии ему нравилось теперь всё до капли. Ему нравилось и то, как плотник бережно поглаживает крепкой ладонью своё больное колено, как закидывает кудрявую голову и пускает вверх, подальше от Олёши, табачный дым, и даже то, как после каждой затяжки он морщится и сухо покашливает.
Наконец Арсентий докурил, встал и опять шагнул к роднику. Только на этот раз он вынес из прохладных зарослей не кружку с водой, а солдатский мешок.
— Развязывай, — сказал он Олёше. Тот потянул завязку, и туго набитый мешок сам раскрылся.
На самом верху там заманчиво горбатилась непочатая буханка, сочно зеленели луковые перья, а под этой вкуснотой лежало что-то ещё.
Дальше Арсентий принялся опрастывать мешок сам. Из мешка появилось объёмистое, величиной с добрый таз, эмалированное блюдо, потом берестяной тяжёлый бурак, соль и варёная картошка.
— Чистить умеешь?
— Умею, умею! — сказал Олёша, схватил картофелину и принялся чистить.
Арсентий покрошил ножом-складнем в блюдо картошку, лук, щедро посолил всё это и залил из бурака жёлтым шипучим квасом. Затем он вдруг сунул пальцы в рот и так свистнул, что у Олёши заложило в ушах, а кот Милейший проснулся, подпрыгнул и кинулся под брёвна.
Стук топоров на плотине разом умолк. Арсентий кинул на траву пустой мешок, разложил на нём хлеб и поставил блюдо с квасом.
Олёша оглянуться не успел, как вокруг собралась целая толпа мужиков. Вблизи он их всех узнал. Это были те самые мужики, за которыми он следил по утрам через дырку в калитке, но они-то Олёшу, конечно, как тот шофёр, не узнали.
Один, седоватый, бровастый, с цыганской бородищей во всю грудь, ещё издали закричал:
— Ого! У Арсентия помощник. Ты где его мобилизовал, Арсентий?
— В кустах нашёл, — смеясь, ответил за Арсентия молодой парень с конопатым озорным лицом, в распоясанной и расстёгнутой гимнастёрке. — В кустах нашёл! Долго ли ему? Он у нас полковая разведка.
Двое других, один — худой, длинный и очень сутулый, другой — маленький, коренастенький, с застенчивой белозубой улыбкой, ничего не сказали, только засмеялись.
А конопатый сдёрнул через голову тёмную от пота гимнастёрку. На его молочно-белой спине, под самой лопаткой, мелькнул розовый, сморщенный и глубоко впалый шрам. Мелькая этим шрамом, он запрыгал на одной ноге, стал стягивать сапоги, а стянув, кинулся к омуту, плюхнулся в глубокую воду всей пластью, заколотил, зашлёпал руками, ногами, заорал:
— Бла-адать! Ух, бла-адать! Всю жи-изнь мечтал!
Старшие мужики в омут не полезли. Они, подставляя по очереди ладони ковшиком под струйку родника, умылись, утёрлись подолами своих солдатских рубах и расселись вокруг мешка-скатерти. Конопатый был уже тут как тут. Он пристроился прямо голышом, только и натянул на себя что брюки. А на мокрой груди у него розовел такой же шрам, только чуть поменьше. Олёша хотел спросить, отчего это, но конопатый парень был так шумен и весел, что Олёша подумал: ответит он обязательно что-нибудь насмешливое.
Арсентий глянул на стоящий вдали грузовики спросил всех:
— Чижов почему не идёт? Особое приглашение надо?
— Он свой драндулет чинит. У него искра в колесо убежала. Пока не поймает, Чижа за руки не оттащить, — весело объявил конопатый и вытянул из кармана брюк алюминиевую ложку.
Все тоже вынули ложки: кто из кармана, кто из-за голенища. Арсентий пристукнул по краю блюда, громко сказал:
— Наваливайтесь! А то «бульон» простынет… Чижову оставим.
— Куриный бульон, цена — миллион, в нём квас, да картошка, да ещё луку немножко, — подхватил шутку конопатый, а бородач сверкнул на него синими белками глаз, одобрительно усмехнулся:
— Складно у тебя, Дружков, получается. Тебе стишки надо в газету писать, а не топором тюкать. У тебя бы вышло.
— А я и то и это успеваю, даже с ложкой не отстаю, — ответил бойкий Дружков и принялся хлебать первым.
К блюду потянулись все. Только Олёша как стоял за спиной Арсентия, так и остался стоять, потому что хлебать ему было нечем.
Он шмыгнул носом.
Арсентий обернулся:
— Чего стоишь? Присаживайся. — И тут же спохватился: — Мать честная! Да у тебя же ложки нет!
Он схватил с мешка складной с перламутровой отделкой нож, закрыл, повернул, опять открыл — и на рукоятке ножа появилась блестящая металлическая ложка.
Олёша на секунду и про квас позабыл, когда увидел эту ложку. Потом взял её, несмело потянулся к блюду, и похожий на цыгана плотник сказал:
— Смотри, какой деликатный… Да ты не бойся, шуруй. Поддевай чаще, тебе расти надо.
— Стесняется, — объяснил Арсентий, а Дружков усмехнулся:
— Значит, не наработался. Вот поступит к нам в бригаду, стесняться перестанет. Как тот солдат…
— Какой солдат? — наконец-то промолвили высокий и низкий плотники. — Что за солдат?
— Тот самый! Который зашёл к старушке вечерком в избу и говорит: «Бабушка, бабушка, дай попить, а то щей да каши хочется и ночевать негде!»
Все опять засмеялись. Олёша тоже улыбнулся и хотел сказать, что не стесняется, что похлёбку с квасом тоже заслужил, что работал вместе с Арсентием и даже гвоздь забил.
А ещё он хотел сказать, что папка у него тоже солдат и скоро, наверное, вернётся домой, да тут за рекой оглушительно грохнуло и с раскатистым рокотом покатилось во все стороны.
Плотники перестали хлебать, уставились в небо, а бородатый сказал:
— Ого! Бухнуло, как из гаубицы… Собирай манатки, пошли в сруб.
Олёша вскочил, посмотрел на реку. Там всё нахмурилось. Узкие листья на ивах зашумели, стали белыми. Радуги над омутом исчезли. Быстрые ласточки спрятались в норки, а над высоким обрывом на той стороне клубились, громадились, медленно наползали друг на друга тяжёлые грозовые тучи.
По гребню плотины с берега на берег побежал пыльный вихрь. Он поднял высоко в воздух сосновую щепу и стружки. На небе опять сухо и раскатисто треснуло. Кот Милейший выскочил из-под брёвен, метнулся туда-сюда, увидел Олёшу, поскакал к нему, и Олёша обнял его поперёк живота.
А грузовик на плотине вдруг затарахтел, зафыркал, из выхлопной трубы пошёл кольцами дым, и голый по пояс Дружков захохотал:
— Ёлки зелёные! Чижов искру нашёл. Чижов молнию за хвост сцапал и в мотор вставил… Вот ловкач!
Но Чижов уже мотор заглушил, быстро захлопнул капот и, нагибаясь так низко, будто по нему стреляли, кинулся к срубу.
Бородатый плотник осторожно подхватил блюдо, тоже заторопился длинными шагами к укрытию, его товарищи побежали за ним. Только Арсентий не мог сразу вскочить, он долго и трудно поднимался с примятой травы, упираясь в неё руками.
А Олёша как только обнял кота, как только увидел вихрь, так сразу вспомнил о незапертой калитке, о том, что калиткой теперь, наверное, вовсю хлопает ветер, что сейчас прибежит с фабрики мама проведать дом, проведать его, Олёшу, и никого не найдёт, и заплачет, — он обнял кота ещё крепче и бросился в ту сторону, где была городская дорога.
— Стой! — закричал Арсентий. — Стой! Пережди с нами! Глянь, что за рекой деется!
Олёша глянул — за рекой было черным-черно. Там было пусто и страшно. Там одиноко метался, взблёскивал белыми крыльями чибис, кричал так, словно звал на помощь, но в грозовой полутьме над ним ослепительно полыхнуло — и чибис кувыркнулся в луговое болотце.
Олёша зажмурил глаза и, больше не оборачиваясь, помчался по дороге.
5
На город гроза ещё только-только надвигалась. В синие прогалы меж чёрных туч падали косые лучи солнца. Они резко высвечивали красные крыши домов, белые стены фабрики, черно-зелёные макушки лип. Всё там стало таким чётким и таким тревожно-светлым, что казалось, город сам со своим холмом шагнул Олёше навстречу. Казалось, ещё минута — и Олёша взбежит на этот пёстрый холм, промчится по крутым улицам и откроет знакомую калитку.
Но лучи погасли — город опять стал далёким. Над пыльной дорогой засвистел ветер, на телеграфных столбах заныли провода, и Олёше снова сделалось страшно.
Кот в охапке у него завозился. Бежать с котом в руках было неловко и тяжело. Ноги оступались в глубокой пыли, и один раз Олёша упал, но кота всё равно не выпустил. Он боялся остаться на дороге один.
И вот, когда он поравнялся с капустным полем, на котором уже не было ни души, на дорогу шлёпнулась крупная дождевая капля. Она ударилась в пыль, расплескалась тяжёлыми, как ртуть, брызгами, а впереди упала вторая капля, третья. Ветер надул Олёшину рубаху пузырём, и небо над ним опять треснуло.
Гром ударил с такой силой, что Олёша присел, а потом, не разгибаясь, полез через канаву, через обочину в тёмные, пока еще сухие и горько пахнущие заросли полыни.
Он свернулся там калачиком, прикрыл грудью кота, а с дороги над ним, над согнутыми полынными кустами, над голым полем понеслись клочья сухой травы, какие-то перья, пыль. Вокруг стало ещё чернее, и в этой черноте всё чаще, всё ужаснее, всё ослепительнее стали бить молнии.
Они искали его, Олёшу. Олёше подумалось: ещё миг — и громовая стрела ударит в него, он закрыл глаза пыльной ладонью, тоненько закричал:
— Не на-до!
Словно услышав его, близко и пронзительно откликнулся автомобильный гудок. Олёша раздвинул пальцы и одним глазом увидел, как по дороге, вихляя и подпрыгивая на ухабах, мчится старенький грузовик Чижова, а на самом верху, в кузове, стоит Арсентий. Он быстро поворачивает голову то влево, то вправо, то влево, то вправо, будто что высматривает.
— Миленькие, хорошенькие! Миленькие, хорошенькие! — вскочил Олёша и с котом в обнимку, неведомо как, перелетел канаву, бросился прямо в колею, чуть не под колёса.
Машина резко встала. Арсентий не удержался, упал грудью на кабину.
Дверца распахнулась, оттуда выглянул Чижов, бледный, злой, глаза смотрят бешено:
— Жить надоело? Очумел?
Он даже замахнулся, но сверху крикнул Арсентий:
— Чижов, не ори! Хорошо, что догнали. Сажай его к себе, газуй дальше! Сейчас как из ведра хлынет.
А по железному крылу машины, по стёклам кабины, по Олёшиной спине уже и в самом деле начали бить хлёсткие, холодные капли. Там, откуда грузовик примчался, дождь шёл сплошною стеной.
Эта стена быстро приближалась.
Шофёр дёрнул ручку второй дверцы, резко приказал:
— Садись!
Олёша глянул на дверцу, на шофёра, потом на Арсентия, потом опять на шофёра и сказал:
— Нет, я лучше туда.
— Куда туда? — опять заорал Чижов, да тут Арсентий перегнулся через борт, крикнул:
— Руку давай!
Он вдёрнул Олёшу в кузов.
Олёша больно ударился обо что-то коленом и выронил кота из рук. Тот присел, собрался прыгнуть обратно на землю, но Олёша упал на него, закричал:
— Убежит!
— Не убежит, — сказал Арсентий. Он ловко подцепил Милейшего, распахнул ворот гимнастёрки, сунул взъерошенного кота за пазуху. Милейший и мявкнуть не успел, как очутился под солдатской гимнастёркой. Лишь усатая морда осталась торчать наружу.
Арсентий хлопнул по кабине:
— Давай!
Машина фыркнула, понеслась.
Олёша уцепился одной рукой за грохочущий борт, другой — за Арсентия, за широкий ремень его гимнастёрки.
В лицо ударил сырой воздух. Дождевые капли стеганули по голове, потекли под рубаху. Олёше опять показалось, что молния ударит в него, и при каждом раскате грома он оглядывался, приседал. Но, увидев, как твёрдо стоит у кабины Арсентий, и чувствуя рукой тёплую спину его, Олёша стал понемногу успокаиваться. Он даже подумал: «Хорошо, что ливень так бьёт по лицу, ливень смоет слёзы, и Арсентий не увидит, какой я зарёванный».
Да и чем ближе сквозь мутную пелену дождя проступал городок, тем больше начинал одолевать Олёшу совсем другой страх.
Когда грузовик, разбрызгивая лужи, подлетел к дому, то Олёша увидел: калитка закрыта, но цепочка с пробоя скинута. Это, наверное, увидел и шофёр Чижов. Он как встал, так сразу принялся давить на гудок, вызывать маму.
А дождь лил всё пуще и пуще. В хмуром небе уже не грохало, не сверкало, там теперь словно кто большой и неуклюжий перекатывал с места на место огромную пустую бочку. Бочка глухо рокотала, а гудок вторил ей, надрываясь что есть мочи.
Арсентий не вытерпел, ударил по кабине кулаком:
— Да перестань ты! Сейчас вылезем.
Гудок смолк, и тут калитка распахнулась, ударила скобой по забору, со двора под дождь выскочила мама.
Гребёнку свою она, видно, где-то потеряла, светлые волосы рассыпались, а на лице темнели огромные испуганные глаза.
Была она без тапочек, босиком. К мокрым ногам прилипли жёлтые лепестки, подол платья намок почти до пояса. Видно, она уже бегала по дворам, по лужайкам, искала Олёшу.
— Ну, парень… Ну, парень… — плачущим голосом закричала она и ухватилась за высокий борт, хотела вскочить на грязное колесо машины.
Арсентий осторожно снял её руки с борта, спокойно сказал:
— Погоди. Шуметь погоди.
А потом распахнул гимнастёрку, под которой сидел кот, и широко улыбнулся:
— Приехали!
Милейший сиганул прямо на сырую траву, мокро ему не понравилось, он подскочил и — длинными прыжками, хвост трубой — помчался на крыльцо.
Арсентий глянул на маму, засмеялся:
— Одного потеряшку тебе доставили, сейчас сдадим другого.
Он медленно слез на колесо, на землю, распахнул руки:
— Прыгай ко мне, Олёша.
Олёша упал к нему на руки, задел щекою колючий подбородок, и на него опять приятно пахнуло махоркой. А Чижов из кабины закричал:
— Скоро вы там? У меня время нет! Мне некогда!
Олёша подумал, что Арсентий сейчас тоже уедет, крепко обхватил его, но Арсентий лишь крикнул шофёру:
— Езжай!
Машина брызнула грязью и в одну секунду скрылась за поворотом.
Арсентий кивнул ей вслед, подмигнул Олёше:
— Ну и дела! Сочиняет Чижов-то, что некогда… Это он просто грозы трусит. Трусит — и сердится. Войну прошёл, вся грудь в медалях, а грозы, чудак, боится! Только из-за тебя от плотины и помчался в поле.
— А ты не боишься? — спросил Олёша.
— А мы с тобой не боимся, — ответил Арсентий и, хотя мама протянула руки, Олёшу ей не отдал, а сам понёс к дому.
Ливень хлестал по крыльцу так, что от ступенек отскакивали крупные брызги. Когда мама распахнула дверь, брызги полетели через порог прямо в сени. Кот заскочил туда первым. Он по-собачьи отряхнулся и промчался в прихожую, из прихожей в кухню.
За окном кухни мотались под струями дождя гибкие ветви черёмухи. С них лилось на раму, на мутные стёкла. Из открытой форточки несло зябкой сыростью.
Кот мигом запрыгнул на печку, а высокий Арсентий пригнул голову, прошёл в чистую комнату и поставил Олёшу на пол.
— Теперь полный порядок. Принимай, Аннушка, пропажу.
От Олёшиных ног сразу отпечатались на полу следы, с мокрой рубахи закапало.
— Горе моё! — опять всхлипнула мама, но быстро справилась и начала сдёргивать с Олёши все мочушки. И рубаху, и майку, и даже трусы. И не успел голый Олёша съёжиться, завернула его в свой длинный, с красными горошинами халат и поддала рукой по халату чуть пониже Олёшиной спины.
— Напугал до смерти! Где вы его, Арсентий Лукич, подобрали?
И опять она всхлипнула, опять собралась подшлёпнуть Олёше, да тут Арсентий придержал её руку, очень добрым голосом сказал:
— Не надо, не ругай… Он молодец у тебя. Помощник. Он гвоздь нам, плотникам, подарил. Верно, Олёша?
— Угу! — вскинул тот на Арсентия сразу просиявшие глаза и торопливо добавил: — Я тебе ещё помогу! Хоть сто раз помогу, хоть тысячу!
— Во! — торжественно поднял руку Арсентий. — Слышала? Тысячу раз. — Потом засмеялся: — Тысячу — не надо, а вот колесо наше завтра ставить в плотину помоги. Я утречком за тобой зайду.
Олёша чуть не задохнулся:
— Врёшь!
— К чему врать? Не вру.
И Арсентий опять, как тогда на реке, провёл шершавой ладонью по Олёшиным волосам, а потом шагнул было к двери, да там вдруг остановился.
Остановился, подумал, медленно поднял голову и сказал маме:
— Ты, Анна Матвеевна, вот что… Ты на меня и на мою Марью за тот разговор не обижайся…
У мамы лицо сразу потемнело. Она хотела взяться за концы платка, но платка на голове не было, и руки упали.
— На что обижаться? На правду?
— Не такая уж это правда! — взмахнул и словно что-то отсёк ладонью Арсентий. — Я, Анна Матвеевна, подумал, снова прикинул и теперь полагаю: Фёдор твой ещё вдруг и вернётся. Ну, мало ли что? На войне случается по-всякому! Я об этом и Олёше сказал, не сердись. А меня за то, что я сразу тебя хоть каплю не обнадёжил, прости.
И тут мама тоже подняла голову, схватилась за верхнюю прозрачную пуговку кофты и хоть горько, но всё-таки улыбнулась:
— Спасибо вам.
За окошком в это время забарабанило по мокрой листве ещё сильнее. Раскатисто, но уже не сердито проворчал далёкий гром, и мама опять глянула на Арсентия, вздохнула:
— Льёт-то как… Измочит вас до нитки. Переждали бы…
— Не сахарный, не размокну, — засмеялся Арсентий. — Побегу Чижа в обратный путь сватать. Гром попритих — Чиж, поди, успокоился.
— Спасибо и ему. Обоим вам спасибо, — опять поблагодарила мама.
Олёша кинулся к окошку и через потное стекло увидел, как высокий, чуть сутуловатый Арсентий, сильно при каждом шаге отмахивая правой рукой, идёт прямо по лужам к чёрной от дождя калитке. Олёша посмотрел, как эта калитка распахнулась, потом закрылась, вдруг обернулся к маме и показал ей на окошко пальцем:
— Вот!
— Что «вот»?
— Ты, мамушка, говорила, надеяться нам не на кого. А на Арсентия нельзя, да?
Мама подхватила Олёшу под мышки, поставила на печной приступок, на лесенку:
— Можно, можно. На Арсентия Лукича можно. Полезай на печку, обсохни, уймись.
Но Олёша перешагивал с приступка на приступок и всё не унимался:
— А на Чижова надеяться нельзя, да? А на Дружкова нельзя, да? А на Цыгана нельзя, да?
— Кто такой Дружков? Кто такой Цыган? — улыбнулась мама. — Весь белый свет у тебя в приятелях?
— Не весь, а плотники на реке! Я теперь плотником буду. Мы с бригадой для тебя новый дом построим. И для тебя, и для папки, если он раненый придёт. Он придёт — а я уже плотником буду, таким, как Арсентий, вот!
— Ну, будь, будь, — подсадила мама Олёшу на самую печку и с тихой улыбкой спросила: — Гвоздя-то своего не жалко теперь?
Олёша мигом развернулся на печке, свесил вниз голову, широко распахнул глаза:
— Ты что? Я же его не кому-нибудь подарил! Я же его для всех подарил! Теперь у нас в городе свой хлеб скоро будет. У нас теперь знаешь, как всем хорошо будет? Знаешь?
— Знаю, знаю… Теперь знаю, — сказала мама.
А из-за маминой спины с тёмной переборки смотрели весёлые человечки. Они махали Олёше тонкими руками, они словно поняли весь разговор и теперь просились к нему, к Олёше, в плотницкую компанию.
Милейший тихонько подлез под бок мальчика, зажмурил зелёные глаза, уютно замурлыкал. Он тоже считал, что всё теперь будет хорошо. Он тоже был согласен, что надеяться им с Олёшей и с мамой Аннушкой всё-таки есть на кого и запирать калитку на замок больше никогда не надо.