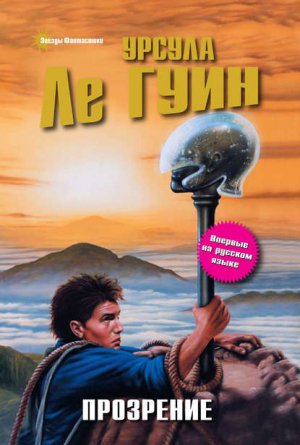
ЧАСТЬ I
Глава 1
— Никому об этом не рассказывай, — говорит мне Сэлло.
— А если скажу? Что тогда будет? Как когда я снег увидел?
— Вот именно. Поэтому и не надо говорить.
Моя сестра обнимает меня, и мы с ней раскачиваемся из стороны в сторону, сидя на скамейке в классной комнате. Ее теплые объятия и это покачивание успокаивают меня; я выбрасываю из головы ненужные мысли. Но совсем забыть о том, что видел, никак не могу, слишком сильным было испытанное мною потрясение, и очень скоро я опять не выдерживаю:
— Нет, я все-таки должен им рассказать! Это же настоящее вторжение! Пусть предупредят армию, чтобы была наготове!
— А если тебя спросят, когда это вторжение случится?
Вопрос сестры меня озадачивает.
— Ну, пусть армия просто будет готова, — неуверенно отвечаю я.
— А если никакого вторжения не произойдет или оно случится еще очень-очень не скоро? И на тебя все будут сердиться, потому что ты зря поднял тревогу? И потом, если в город действительно вторгнется вражеская армия, всем непременно захочется узнать, откуда тебе стало об этом известно заранее.
— А я им скажу, что просто вспомнил, и все!
— Нет, — решительно говорит Сэлло. — Никогда не говори в таких случаях, что ты «что-то вспомнил». Люди заподозрят, что раз ты все время так говоришь, то у тебя есть какой-то особый дар. А ведь очень многим не нравится, когда кто-то наделен особым даром и отличается от всех прочих.
— Но у меня же ничего такого нет! Просто иногда я вспоминаю, что видел то, что должно вскоре случиться!
— Я знаю. Но послушай, Гэвир: ты все-таки не должен никому об этом рассказывать. Никому, кроме меня.
Когда Сэлло своим тихим нежным голосом произносит мое имя и говорит: «Послушай…», я действительно ее слушаюсь. Даже если все еще продолжаю спорить.
— И даже Тибу нельзя?
— Даже Тибу. — Ее округлое смуглое личико и темные глаза спокойны и серьезны.
— Но почему?
— Потому что здесь только мы с тобой уроженцы великих Болот.
— Гамми тоже была оттуда!
— Вот Гамми мне и сказала то, что я тебе сейчас говорю: болотный народ и впрямь обладает кое-какими способностями, а горожане этого побаиваются. Так что мы никогда никому не рассказываем, что способны на что-то такое, чего не могут они. Это было бы слишком опасно. Правда опасно. Обещай мне, Гэв.
Она протягивает руку, я говорю: «Обещаю» — и кладу ей на ладонь свою грязноватую ручонку, как бы скрепляя данное ей слово. И она отвечает:
— Я слышала твое обещание.
В другой руке она сжимает маленькую фигурку богини Энну-Ме, которую всегда носит на шее.
Затем Сэл целует меня в макушку и шутливо толкает, да так сильно, что я чуть не слетаю со скамейки. Но отчего-то мне совсем не хочется смеяться; я по-прежнему полон теми ужасными «воспоминаниями», и увиденное мною было так страшно, что меня так и тянет немедленно всем об этом рассказать, закричать во весь голос: «Берегитесь! На нас идет враг! Вражеские воины несут зеленые флаги, они готовы дотла сжечь наш город!» И я, не отвечая на шутки Сэлло и печально нахохлившись, сижу и задумчиво качаю в воздухе ногой.
— Расскажи-ка мне свой сон еще разок, — говорит сестра. — И постарайся припомнить все, о чем сперва сказать позабыл.
А мне только этого и надо! И я снова с энтузиазмом рассказываю ей, что видел, как вражеские солдаты идут по нашей улице.
Иногда мои «воспоминания» действительно содержат некую тайну, и тогда они принадлежат только мне, это мой секрет, мой личный подарок, и я тщательно его берегу и достаю, чтобы им полюбоваться, лишь оказавшись в полном одиночестве. Точно так же, украдкой, я любуюсь и тем орлиным пером, которое подарил мне Явен-ди. Самое первое из моих тайных воспоминаний — это то непонятное место, где только вода и тростники. Я никогда и никому об этом месте не рассказывал, даже Сэлло. Да и что рассказывать? Я помню только серебристо-синюю воду, тростники на ветру, солнечные блики и какой-то голубой холм в отдалении. А несколько позже я стал видеть еще какую-то комнату с высоким потолком и мужчину, лицо которого скрыто в тени; и этот мужчина вдруг оборачивался и окликал меня по имени… Но об этом я тоже никому не рассказывал, да и зачем?
Бывают и другие воспоминания, или видения, или как там еще можно это назвать. Например, однажды мне привиделось, как Отец нашего Дома возвращается из Пагади, и вдруг у него захромала лошадь. Домой он, правда, вернулся только следующим летом, зато все было в точности как я «помнил»: приехал он на хромой лошади. А один раз я «вспомнил», как все улицы в городе стали белыми, и крыши, и даже воздух, а с небес все летели и летели вниз стаи крошечных белых птичек. Это было так удивительно, что мне, естественно, захотелось всем рассказать об этом, я и рассказал. Вот только слушать меня никто не стал — мне ведь было всего года четыре или. может, пять. Но снег той зимой действительно выпал, просто случилось это немного позднее. И все выбежали на улицу, чтобы посмотреть, как падают на землю снежные хлопья, — такое в Этре случается, может, раз в сто лет, так что мы, дети, даже и не знали, как эти белые штучки называются. А старая Гамми меня тогда спросила: «Ты именно это видел? Были твои «белые птички» похожи на снег?» И я сказал ей и всем остальным: да, я именно так все и видел. И Гамми, Тиб и Сэл мне поверили. Должно быть, именно тогда Гамми и сказала Сэлло то, что Сэлло только что сказала мне: никогда никому не говорить, если я снова «вспомню», что уже это видел. Гамми уже тогда была совсем дряхлая и больная, а вскоре после того снегопада, весной, она умерла.
И с тех пор у меня были только такие воспоминания, которые я держал в тайне от всех — до сегодняшнего утра.
С утра я в полном одиночестве подметал коридор возле детской и вдруг начал вспоминать то, что видел. Сперва мне вспомнилось, как я откуда-то сверху смотрю на одну из городских улиц и вижу, как над крышами ее домов взметается пламя, и слышу, как кричат люди, и эти крики становятся все громче. А потом я узнал Долгую улицу, которая тянется через всю Этру на север от той площади, что позади Гробницы Предков. На дальнем конце улицы клубы дыма превращались в страшные, клубящиеся темно-серые облака, внутри которых мелькали языки пламени. Мимо меня через площадь с криками бежали люди, женщины и мужчины — в основном в сторону Сената, а городская стража, выхватив мечи, бежала почему-то в противоположном направлении. Затем сквозь клубы дыма я увидел, как на Долгой улице показались воины с зелеными знаменами и длинными копьями; некоторые из них ехали верхом и были вооружены мечами. Когда их отряд столкнулся с нашей городской стражей, сразу стало очень шумно — крики, звон доспехов, бряцанье оружия, грохот, как на кузне; и вся эта огромная толпа сражающихся людей все приближалась и приближалась ко мне. А потом из этого месива сверкающих мечей, шлемов, доспехов и голых безоружных рук вылетела лошадь и понеслась по улице прямо на меня. Седока на ней не было; вся она была покрыта белыми хлопьями пота, смешанного с кровью; и кровь прямо-таки ручьем текла у нее из дыры, зиявшей на месте выбитого глаза. Лошадь пронзительно ржала. Я попятился от нее и вдруг… оказался у нас в коридоре с веником в руках — вновь и вновь вспоминая и переживая то, что мне привиделось. Я был просто в ужасе, ведь все это я видел совершенно отчетливо и никак не мог отделаться от ощущения, что и сам был там. Увиденное то и дело вставало у меня перед глазами, каждый раз обрастая новыми подробностями. И на этот раз мне необходимо было кому-то об этом рассказать.
Так что, когда мы с Сэл пошли готовить классную комнату к занятиям, я все ей и рассказал, пока мы там были совершенно одни. И теперь снова пересказывал все сначала, еще более ясно вспоминая увиденное, и, по-моему, рассказывал гораздо лучше и подробнее. Сэлло, во всяком случае, слушала меня очень внимательно и даже вздрогнула, когда я описывал ей ту раненую лошадь.
— А какие на этих воинах были шлемы? — спросила она.
И в моей памяти, как на картинке, возникли те пришельцы, что развязали бой на улицах нашего города.
— В основном черные. А у одного шлем был с черным гребнем и плюмажем, похожим на конский хвост.
— Так, может, они из Оска?
— Нет, у них не было таких вытянутых деревянных щитов, как у осканцев. Помнишь осканских пленных во время парада? По-моему, у этих все доспехи были из какого-то металла — может, из бронзы — и ужасно громко лязгали, когда они стали рубиться на мечах с городской стражей. По-моему, они из Морвы явились.
— Кто это явился из Морвы, Гэв? — услышал я за спиной чей-то приятный голос. От неожиданности мы с Сэл оба так и подскочили, точно марионетки на веревочке. Оказалось, что это Явен. Мы настолько увлеклись, что даже шагов его не расслышали, и теперь не знали, долго ли он слушал мой рассказ. Мы быстро вскочили, почтительно поздоровались с ним, сыном нашего хозяина, и Сэл сказала:
— Гэв рассказывал мне одну из своих историй, Явен-ди.
— И, похоже, весьма интересную, — сказал Явен. — Хотя войска из Морвы обычно выступают под черно-белым флагом.
— А у кого флаг зеленый? — спросил я.
— У Казикара. — Явен сел на переднюю скамью и вытянул перед собой длинные ноги. Явену Алтантеру Арке было семнадцать лет, он был старшим сыном в Семье и готовился стать офицером этранской армии. В последнее время он по большей части находился на службе и дома бывал редко, но когда все же бывал, то всегда приходил в класс и, как прежде, слушал уроки вместе с нами. Мы любили, когда он приходил, потому что в его присутствии казались себе такими же взрослыми, как и он; а еще Явен ко всем относился очень доброжелательно и всегда мог уговорить Эверру, нашего учителя, чтобы тот позволил нам читать разные интересные истории и поэмы вместо уроков грамматики и логики.
В класс уже входили девочки; потом влетели Торм, Тиб и Хоуби, потные и запыхавшиеся после игры в мяч на дворе; и, наконец, в класс вошел Эверра, высокий и, как всегда, сумрачно-суровый в своем сером одеянии. Мы встали, приветствуя его, и расселись по скамьям. Нас, учеников, было одиннадцать: четверо — дети Семьи, семеро — дети Дома.
Явен и Торм были родными детьми Семьи Арка, как и Астано. А Сотур была их двоюродной сестрой, так что принадлежала к тому же семейству.
Что же касается нас, домашних рабов, то Тибу и Хоуби было соответственно двенадцать и тринадцать лет, мне — одиннадцать, а девочкам, Рис и моей сестре Сэлло, по тринадцать. Око и ее братишка Мив были значительно младше и еще только начали учить буквы.
Все девочки обычно учились до тех пор, пока их не сочтут взрослыми и не выдадут замуж. Тиб и Хоуби, научившись читать, писать и декламировать кое-какие отрывки из эпических сказаний, тоже могли уже ближайшей весной покинуть нашу школу. Надо сказать, они просто дождаться не могли, когда это наконец произойдет и можно будет заняться каким-нибудь «настоящим делом». Меня же учили для того, чтобы я впоследствии мог стать здесь учителем и навсегда остаться в этой просторной продолговатой комнате с высокими окнами. Я знал, что, когда у Явена и Торма появятся дети, именно я, скорее всего, буду учить их, а также будущих детей наших домашних рабов.
В начале урока Явен призвал духов Предков благословить наши занятия, а Эверра упрекнул Сэл и меня за то, что мы не разложили по партам учебники. Потом мы принялись за работу, и почти сразу же Эверре пришлось призвать Тиба и Хоуби к порядку, потому что они дрались. Оба послушно вытянули перед собой руки ладонями кверху, и Эверра каждого по одному разу ударил своей палкой. В Аркаманте вообще редко кого-нибудь били, а уж таких мучительств, каким, насколько мы слышали, подвергали слуг в других Домах, и вовсе не допускалось. Нас с сестрой, например, ни разу никто даже пальцем не тронул; стыд, который мы испытывали, когда нас за что-то ругали или упрекали, всем представлялся вполне достаточным наказанием, и мы всегда старались как можно быстрее исправиться. А вот Хоуби и Тибу стыдно никогда не было, и наказания они, по-моему, ничуть не боялись, да и чего бояться, если ладони у обоих были твердые, как подошва. Они вовсю гримасничали и ухмылялись, только что не хихикали в полный голос, когда Эверра их наказывал; да и он, разумеется, делал это только потому, что так надо. Честно говоря, Эверра, как и сами эти ребята, просто дождаться не мог, когда же они наконец покинут его школу. Вот и сегодня, наказав их, он попросил Астано проверить, знают ли они сегодняшний урок — нужно было выучить наизусть отрывок из исторической хроники «Славные деяния города Этра», а Око велел помочь маленькому Миву писать буквы. После чего мы, то есть все остальные, вновь погрузились в изучение «Этики» Трудека.
«Как встарь», «как прежде», «по-старому» — эти слова мы частенько слышали в Аркаманте, и произносились они исключительно с одобрением. Вряд ли кто-то из нас понимал, зачем мы учим наизусть нудные нравоучительные пассажи старины Трудека; впрочем, никому даже в голову не пришло бы спросить, зачем это нам. Такова была традиция Дома Арка — дать образование всем своим людям. А это означало, что нужно знать труды древних моралистов, эпос и историю Этры и других городов-государств, немного разбираться в геометрии и основных принципах инженерного искусства, а также — в математике, музыке и рисовании. Так в Аркаманте было всегда. Так было и сейчас.
Если успехи Хоуби и Тиба ограничились «Баснями» Немека, то Торм и Рис изо всех сил вместе с нами пробивались сквозь хитросплетение премудростей Трудека. Впрочем, Эверра, поистине превосходный учитель, сумел заставить нас, то есть Явена, Сотур, Сэлло и меня, одним махом преодолеть эти трудности и перепрыгнуть прямиком к изучению исторических хроник, летописей и эпоса, чему все мы были несказанно рады, хотя больше всех подобными вещами увлекались Явен и я. Когда мы наконец завершили обсуждение того, как «важно уметь держать себя в руках при любых обстоятельствах», на основе тех примеров, что были приведены в 41-й главе «Этики», я громко захлопнул книгу Трудека и потянулся за экземпляром «Осады Ошира», которая у нас с Сэл была одна на двоих. Мы только в прошлом месяце начали ее читать, но я уже знал наизусть каждую прочитанную строчку.
Наш учитель заметил, что я взял другую книгу, и его кустистые, черные с сединой брови удивленно поползли вверх.
— Гэвир, — сказал он, — ты закончил? Тогда, пожалуйста, послушай, как Тиб и Хоуби читают наизусть заданный урок; пусть Астано-йо пока отдохнет от них и присоединится к нашим занятиям.
Я понимал, почему Эверра это сделал. Не из вредности; это тоже был очередной урок этики. Он приучал меня к тому, что не всегда удается делать то, что хочется, и приходится делать то, чего совсем не хочется, и этот урок я обязан был усвоить. В общем, об этом как раз и шла речь в 41-й главе «Этики».
Я сунул книгу по истории Сэлло и пересел на боковую скамью. Астано с нежной улыбкой тут же передала мне книжку о подвигах нашего города. Астано было пятнадцать, и она была такая высокая, худая и светлокожая, что братья, желая ее подразнить, говорили, что она «из альдов» — так называется народ, проживающий в восточных пустынях; говорят, что у альдов кожа белая, а волосы курчавые, как овечья шерсть. Впрочем, у нас слово «альд» означает еще и просто «дурак». Только Астано вовсе не была дурочкой; просто она была чересчур застенчивой и, по-моему, слишком хорошо выучила ту самую 41-ю главу. Молчаливая, какая-то очень правильная, очень скромная и очень выдержанная, она была истинной дочерью своего отца, сенатора Арки; нужно было очень хорошо знать Астано, чтобы понять, какая она на самом деле добрая, участливая, какие неожиданные мысли порой приходят ей в голову.
Одиннадцатилетнему мальчику очень трудно изображать учителя перед старшими ребятами, которые к тому же привыкли относиться к нему свысока, грубо с ним обращаются и обзывают то Креветкой, то Болотной Крысой, то Клюворылом. Хоуби, например, просто не выносил, когда я на уроке чего-то от него требовал. Хоуби родился в один день с Тормом. Только Торм был настоящим сыном Семьи, а Хоуби нет. Все это знали, но вслух об этом никто не говорил. Получалось, что Хоуби — сводный брат Явена и Торма, только его мать — рабыня, а значит, и он тоже раб. Впрочем, никакого особого отношения к нему в Доме не было, однако его бесило, если хозяева выделяли кого-то из рабов. Например, он всегда со злобной завистью относился к моему особому положению в классе. И теперь тоже хмуро поглядывал на меня, зная, что сейчас я к ним с Тибом «пристану».
Астано уже успела закрыть книжку, так что я спросил:
— Вы до какого места дошли?
— А мы никуда и не уходили, Клюворыл, все время тут сидели, — заявил Хоуби, и Тиб одобрительно захихикал.
Особенно противно было то, что Тиб вообще-то считался моим дружком, но стоило ему оказаться в компании Хоуби, и он сразу же перебегал на его сторону, а меня бросал.
— Продолжай с того места, где вы остановились, — сказал я Хоуби, очень стараясь, чтобы голос мой звучал холодно и сурово.
— А я не помню, где это.
— Тогда начинай, откуда было задано на сегодня.
— А я и этого не помню.
Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо и зашумела в ушах, и, конечно, тут же совершил ошибку, спросив:
— Что же ты помнишь?
— А я не помню, что именно я помню.
— Раз так, давай с самой первой страницы.
— А я и первой страницы не помню. — Хоуби был явно воодушевлен собственным успехом, однако на этот раз его хитрая уловка не сработала.
— Значит, ты вообще ничего из этой книги не помнишь? — спросил я, нарочно повысив голос, и Эверра тут же глянул в нашу сторону. — Ну, хорошо, — продолжал я довольно громко. — Тогда ты, Тиб, расскажешь специально для Хоуби то, что написано на первой странице.
Эверра все посматривал на нас, и Тиб, заметив это, не решился мне перечить и принялся невнятно бормотать, пересказывая главу «Начало великих подвигов», которую они обязаны были давным-давно знать наизусть. Когда он с горем пополам добрался до конца первой страницы, я остановил его и велел Хоуби повторить, отчего тот разозлился уже по-настоящему. Я чувствовал, что победа за мной, но понимал, что потом придется за это расплачиваться. И все же я заставил Хоуби отвечать урок, хоть он и бубнил его сквозь зубы. После чего я сказал:
— Ладно. А теперь продолжай с того места, где вы остановились с Астано-йо.
И он, как ни странно, подчинился, монотонно излагая содержание главы, посвященной набору в армию.
— А ты, Тиб, — посмотрел я на своего приятеля, — перефразируй. — Эверра всегда заставлял нас пересказывать текст своими словами, чтобы убедиться, что мы действительно его поняли, а не просто вызубрили наизусть.
— А ты, Тиб, — противным скрипучим голосом пробурчал тихонько Хоуби, передразнивая меня, — ферефвазивуй.
Тиб, естественно, снова захихикал.
— Ну, что же ты, Тиб, — подбодрил я его.
— Да-да, Тиб, давай, ферефвазивуй, — снова передразнил меня Хоуби, и Тиб заржал.
Эверра в это время увлеченно, с сияющими глазами, пояснял остальным какой-то отрывок эпического сказания, и все слушали его открыв рот; один лишь Явен, сидевший во втором ряду, быстро глянул в нашу сторону и сердито нахмурился. Под его мрачным взглядом Хоуби тут же съежился, опустил плечи, потупился и незаметно пнул Тиба ногой. Тот сразу перестал хихикать и после некоторой борьбы с собой затянул:
— Ну, там, в общем, говорится… э-э-э… В общем, если городу угрожает враг, ну, то есть нападением угрожает, то Сенат делает, ну, я не знаю… как это называется?
— Созывает совет, — подсказал я.
— Да, совет и осуждает…
— Обсуждает, наверное?
— Да, обсуждает вопрос о призыве в армию людей свободных и дееспособных. А что, «обсуждать» и «осуждать» — это очень похоже, только как бы наоборот, да?
Вот за это я и любил Тиба: все-таки он способен был уловить разницу, все время задавал вопросы да и соображал довольно быстро, хотя мысли у него, по правде сказать, бывали довольно странные, неожиданные; вот только никто, кроме меня, почему-то этого не ценил, ну и сам он тоже о себе был весьма невысокого мнения.
— Нет, «обсудить» значит «о чем-то как следует поговорить друг с другом».
— Это если ферефвазивовать, — тихонько вставил Хоуби.
В общем, препираясь и запинаясь, мы потащились дальше. Урока они, можно сказать, совсем не знали, и я с огромным облегчением отложил наконец «Подвиги», но тут Хоуби, наклонившись вперед и в упор глядя на меня, прошипел сквозь зубы:
— Хозяйский любимчик!
Я привык, что меня дразнят то учительским, то хозяйским любимчиком. До некоторой степени это было правдой. Только вот учитель наш «хозяином» не был; он был таким же рабом, как и мы. А это большая разница. Когда говорят «хозяйский любимчик», все-таки имеют в виду подхалима, или ябеду, или даже предателя. А Хоуби к тому же сказал это с настоящей ненавистью.
Он завидовал тому, что Явен за меня заступается, а его заставляет стыдиться. Явена мы все просто обожали и страстно жаждали его похвалы. Хоуби всегда казался мне очень грубым и ко всему равнодушным, и я не мог понять такой простой вещи, что и он, возможно, любит Явена столь же сильно, только у него гораздо меньше возможностей угодить ему и куда больше причин чувствовать себя униженным, когда в нашем с ним противоборстве Явен принимает мою сторону. Тогда я понимал лишь, что та кличка, которую он ко мне приклеил, отвратительна и несправедлива, и тут же, не выдержав, взорвался.
— Ничего подобного! — громко воскликнул я.
— Что «ничего подобного», Гэвир? — холодно спросил Эверра.
— То, что говорит Хоуби!.. Неважно… извините, учитель. Прошу прощения за то, что прервал вас. И вы все меня простите.
Эверра милостиво кивнул и сказал:
— Тогда садись и веди себя тихо. — Я снова сел рядом с сестрой и какое-то время даже строчек в книге не мог разобрать, хотя Сэлло старалась держать ее так, чтобы мне было видно. В ушах у меня стоял звон, перед глазами плыла пелена. Нет, это просто ужасно, что Хоуби так меня назвал! Я никогда не был хозяйским любимчиком! И ябедой я не был. И никогда не стал бы, как наша служанка Риф, шпионить за другими и нарочно вызывать на разговор, чтобы втереться в доверие, а потом донести хозяевам. Только Риф похвалы не дождалась. Мать Фалимер так и сказала ей: «Ябед я не люблю», и в итоге Риф отправили на рынок рабов и продали. За всю свою жизнь я не припомню, чтобы еще кого-то из взрослых рабов Аркаманта продали. У нас и хозяева, и рабы доверяли друг другу и отчетливо сознавали свой долг. А как же иначе?
Когда занятия подошли к концу, Эверра роздал наказания тем, кто мешал ему вести урок: Тиб и Хоуби должны были выучить дополнительно целую страницу из «Великих подвигов»; затем нам троим было велено переписать 41-ю главу из «Этики» Трудека; а я получил еще и отдельное задание: набело переписать в общую классную тетрадь тридцать строк из эпической поэмы Гарро «Осада и падение Сентаса» и к завтрашнему дню заучить их наизусть.
Не знаю, понимал ли Эверра, что его наказания чаще всего воспринимаются мной как награды. Наверное, понимал. Впрочем, тогда я воспринимал его как человека невероятно старого и мудрого; мне и в голову не приходило, что он способен думать обо мне или интересоваться моими переживаниями. И поскольку Эверра называл переписывание поэзии «наказанием», то и я очень старался поверить, что это так. На самом деле я с наслаждением, высунув язык, переписывал заданные строки. Почерк у меня тогда был ужасный, какие-то кривоватые каракули, а не почерк. А толстая тетрадь, в которую мы переписывали набело, должна была достаться в наследство тем, кто будет учиться после нас, — точно так же, как и нам достались книги и тетради предыдущих поколений учеников; они ведь тоже некогда переписывали те же строки, сидя в нашем классе. Последний отрывок в общей тетради был переписан Астано. После ее мелкого изящного почерка, почти такого же четкого, как в настоящих печатных книгах из Месуна, написанные мною строчки выглядели особенно ужасно; буквы ползли вкривь и вкось, как бы с трудом пробираясь по бумаге, и смотреть на это уродство было для меня сущим наказанием. Ну а наизусть этот отрывок я и без того уже знал.
Я вообще все запоминаю как-то очень быстро, точно и полно. Даже в раннем детстве, да и потом, уже подростком, я мог запомнить целиком страницу книги, или мельком увиденное помещение, или чье-то лицо, промелькнувшее в толпе, а потом все это вспоминалось мне столь же отчетливо, как если бы я вновь видел это прямо перед собой. Возможно, именно поэтому я и сбивал с толку собственную память тем, что условно называл «воспоминаниями», хотя на самом деле ни к памяти, ни к воспоминаниям эти видения не имели ни малейшего отношения.
Тиб и Хоуби сразу ринулись вон из класса, отложив свое наказание на потом; я же остался и все сделал сразу, а потом пошел помогать Сэлло подметать коридоры и внутренние дворики, поскольку такова была наша повседневная обязанность. Приведя в порядок дворик перед «шелковыми комнатами», мы отправились на кухню и перекусили хлебом с сыром, а потом я хотел было продолжить уборку, но Торм прислал за мной Тиба и передал, чтобы я шел вместе с ним «учиться военному делу».
Подметать дворы и коридоры этого огромного дома — работа, между прочим, немалая; полагалось, чтобы там всегда было чисто, и у нас с Сэлло обычно большая часть дня уходила на то, чтобы этому требованию соответствовать. Мне не хотелось бросать все на Сэл — тем более она и так уже достаточно потрудилась одна, пока я переписывал стихи, но ослушаться Торма я не мог.
— Ох, да иди ты, иди, — сказала мне сестра, лениво подметая под тенистыми арками центрального атриума, — тут совсем немного осталось. — И я, разумеется, тут же радостно помчался в парк, на ту аллею под городской стеной, где росли гигантские сикоморы. Парк находился в южной части города на расстоянии нескольких улиц от Аркаманта. Торм уже вовсю муштровал Тиба и Хоуби в тени сикомор, и я присоединился к ним. Такие игры мне ужасно нравились.
Явен был таким же высоким и гибким, как его сестра Астано и их мать, а вот коренастый, мускулистый Торм больше походил на отца. Во внешности Торма вообще было что-то не то — какая-то кривобокость, что ли. Он вроде бы и не хромал, но при ходьбе как-то странно нырял вперед, приволакивая ноги. И лицо у него тоже было каким-то кривоватым, точно две его половины не совсем подходили друг к другу. Торм отличался внезапными приступами неукротимой ярости; порой это были настоящие припадки, когда он дико кричал, дрался со всеми, точно безумный, рвал на себе одежду и сам себя царапал. Теперь, становясь взрослым, он, похоже, понемногу приходил в себя: детские припадки почти прекратились, а бушевавшая в нем ярость несколько улеглась. Он очень много внимания уделял своей физической форме и в результате постоянных упражнений постепенно превращался в настоящего атлета. Все его помыслы были связаны с армией; он мечтал стать воином и сражаться за Этру. Однако в армию его могли взять в лучшем случае года через два, и он пока решил создать собственный боевой отряд из Хоуби, Тиба и меня. Вот уже несколько месяцев он нещадно муштровал нас, точно солдат на плацу.
Мы устроили тайник под одной из огромных старых сикомор, росших в парке, и прятали там свои деревянные щиты и мечи, а также поножи и шлемы, сделанные из кожи мною и Сэлло под руководством Торма. У самого Торма на шлеме красовался плюмаж из рыжих конских волос, которые Сэл собрала на конюшне и весьма удачно скрепила; по-моему, плюмаж этот был просто великолепен. Маршировали мы обычно на длинной, поросшей травой аллее в глубине парка, под самой городской стеной. Место было весьма уединенное. Я бежал к ним меж деревьями напрямки и еще издали увидел, как они там маршируют. Быстренько надвинув на голову шлем и схватив меч и щит, я, все еще задыхаясь от быстрого бега, встал в строй, и некоторое время мы разучивали повороты и остановки по команде. Затем Торм, наш востроглазый орел-командир, заставил нас стоять по стойке «смирно», а сам принялся бегать вдоль «строя», ругая одного за то, что он криво надел шлем, второго за то, что он стоит недостаточно прямо, третьего за то, что он не туда скосил глаза, и т. п.
— Эх вы, жалкие вояки! — рычал он. — Шпаки проклятые! Разве сможет Этра когда-нибудь победить проклятых вотусанов, если в армию берут такой сброд?
Мы застыли, как изваяния, и, не мигая, смотрели прямо перед собой, исполненные решимости во что бы то ни стало победить «проклятых вотусанов».
— Ну, ладно, — смилостивился наконец Торм. — Значит, так: Тиб и Гэв будут вотусанами, а мы с Хоуби — этранцами. Вы, парни, займете позиции за земляным валом, а мы совершим кавалерийскую атаку.
— Почему-то всегда именно они бывают этранцами, — проворчал Тиб, когда мы бежали с ним к «земляному валу» — заросшей травой дренажной канаве. — Почему нам-то хоть разок нельзя этранцами побыть?
Вопрос был чисто риторический, разумеется; ответа на него не существовало. Мы скатились в канаву и приготовились к бешеной атаке кавалерии Этры.
Отчего-то напали они далеко не сразу, и у нас с Тибом хватило времени, чтобы приготовить вполне приличный запас снарядов: небольших комков твердой, как камень, глины. Когда мы наконец услышали ржание и храп лошадей, то встали и стали яростно отражать атаку с помощью этих снарядов, которые по большей части либо не долетали до цели, либо пролетали мимо. Но один комок, как ни странно, угодил Хоуби прямо в лоб. Не знаю уж, кто его бросил, Тиб или я. Хоуби остановился, явно потрясенный этим, и стоял, как-то странно качая головой и неотрывно глядя на нас. А Торм продолжал мчаться вперед с криками: «На врага, воины! За наших Предков! За Этру! За великую Этру!» — и в итоге свалился прямо в канаву, хотя при этом и не забыл заржать, подражая боевому коню. Мы с Тибом, естественно, отступили под натиском столь яростной атаки, и Торм, чувствуя себя победителем, наконец оглянулся и увидел Хоуби.
Хоуби, с потемневшим от ярости и грязи лицом, во весь опор мчался прямо на нас. Спрыгнув в канаву, он бросился на меня и замахнулся своим деревянным мечом, явно намереваясь разрубить меня пополам. Я попятился к росшим по краю канавы кустам, понимая, что бежать мне некуда и остается только поднять щит и обороняться, пытаясь с помощью своего меча как-то отразить его бешеные удары.
Деревянные мечи с громким стуком ударились друг о друга, и мой меч, выбитый его куда более сильным ударом, мелькнув в воздухе, полетел ему прямо в лицо. А его меч с такой силой обрушился мне на руку, повредив запястье, что я взвыл от боли.
— Эй! — крикнул Торм. — Не драться! Оружие в ход не пускать! — Вообще-то он с самого начала предупредил нас насчет строгости тех правил, согласно которым мы имели право брать в руки оружие лишь для того, чтобы исполнить нечто вроде танца с мечами: то есть мы могли делать выпады и парировать, но удары наносить не должны были ни в коем случае.
Торм бросился к нам, пытаясь нас разнять, и я был первым, на кого он обратил внимание, потому что я плакал и протягивал к нему руку, которая нестерпимо болела. Только потом он повернулся к Хоуби; тот стоял, закрыв руками лицо, и между пальцами у него текла кровь.
— Что там у тебя? Дай-ка я посмотрю, — сказал Торм, и Хоуби простонал:
— Я ничего не вижу! Я ослеп!
Рядом даже воды не было; ближайшим ее источником был фонтан во дворе Аркаманта. Но наш командир не растерялся: он велел Тибу и мне спрятать оружие в тайник и быстро бежать домой, а Хоуби повел домой сам. Мы нагнали их уже у фонтана. Торм смывал у Хоуби с лица грязь и кровь.
— В глаз он тебе не попал, — говорил он, — я уверен, что не попал. Разве что чуть-чуть задел. — Сам я, правда, не был полностью в этом уверен. Острый конец моего деревянного меча, который Хоуби выбил у меня из рук, нарисовал у него под глазом кровавый зигзаг, а может, и в глаз попал. Из раны все еще текла кровь, и Торм, оторвав от подола рубахи лоскут, сложил его в несколько раз и велел Хоуби прижать его к ране. — Ничего страшного, — приговаривал он, — все обойдется. И вообще, солдат, это благородное ранение. Воина шрамы только украшают! — Вскоре Хоуби, обнаружив, что левым-то глазом он, по крайней мере, видеть может по-прежнему, несколько успокоился и вопить перестал.
Я, замерев от ужаса, стоял рядом навытяжку. Когда я увидел, что Хоуби видеть все-таки может, то, испытывая огромное облегчение, воскликнул:
— Прости меня, Хоуби!
Он оглянулся, сверкнув здоровым глазом — второй глаз по-прежнему был прикрыт куском тряпки, — и прошипел:
— Ах ты, маленький ябедник! Сперва ты в меня камнем кинул, а потом и мечом прямо в лицо угодил!
— Это был вовсе не камень, а просто земля! И мечом я тебя задеть совсем не хотел! Просто он у меня из рук вылетел, когда ты по нему ударил…
— Так ты что, камнями кидался? — грозно спросил у меня Торм, и мы с Тибом дружно принялись оправдываться, уверяя его, что бросались только комками глины. И вдруг выражение лица у Торма стало совершенно иным; он тоже вытянулся по стойке «смирно». Мы даже не сразу поняли, в чем дело.
Его отец, Отец Аркаманта, Алтан Серпеско Арка, возвращался домой из Сената и заметил у фонтана нашу четверку. И теперь стоял всего в паре шагов от нас, внимательно на нас глядя, а рядом с ним стоял его охранник Меггер.
Алтан-ди был широкоплечим, с мощным торсом и сильными руками. Даже в чертах его округлого лица — в выпуклом лбе, вздернутом носе, узких глазах — чувствовалась энергия, некая напористая сила. Мы почтительно с ним поздоровались и замерли, ожидая, что он скажет дальше.
— Что случилось? — спросил Алтан-ди. — Он что, ранен?
— Мы играли, отец, — ответил Торм. — Он просто порезался.
— А глаз задет?
— По-моему, нет.
— Немедленно отведи его к Ремену. А это еще что такое?
Мы-то с Тибом успели спрятать все наше оружие в тайнике, но на голове Торма по-прежнему красовался шлем, украшенный плюмажем; и Хоуби тоже позабыл про свой шлем, хотя и несколько менее красивый.
— Это шапка, отец.
— Это не шапка, а шлем. Вы что, в войну играли? С этими мальчиками?
Он снова быстро окинул взглядом нас троих. Торм промолчал.
— Говори ты, — сказал Отец Алтан, обращаясь ко мне — и явно считая меня самым младшим, самым слабым и самым трусливым. — Ну, говори: вы играли в солдат?
Я в ужасе посмотрел на Торма, ожидая подсказки, но он по-прежнему стоял, точно воды в рот набравши, и лицо у него было как каменное.
— Мы маршировали, Алтан-ди, — прошептал я.
— Больше похоже на то, что вы сражались друг с другом. Покажи-ка мне свою руку. — В голосе его не было ни угрозы, ни гнева, только абсолютная холодная властность.
Я вытянул перед собой руку; на запястье, у основания большого пальца, виднелась большая багровая опухоль.
— Каким оружием пользовались?
И снова я устремил свой взор на Торма, мучительно взывая к нему. Неужели я должен лгать нашему Отцу?
Но Торм смотрел прямо перед собой, и мне пришлось ответить.
— Деревянным, Алтан-ди.
— Так, значит, мечи у вас были деревянные. Что еще у вас было?
— Щиты, Алтан-ди.
— Все он врет! — сказал вдруг Торм. — Он с нами даже не маршировал! Он же еще маленький. Просто мы пытались на сикомору взобраться, и Хоуби сорвался, вот ветка его по лицу и хлестнула.
Некоторое время Алтан Арка молчал, а я испытывал странную смесь дикой надежды и пронзительного ужаса, слушая вранье Торма.
Затем Отец медленно проговорил:
— Но вы, значит, все-таки маршировали?
— Иногда мы учимся маршировать, — сказал Торм и, помолчав, прибавил: — Я их учу.
— Вы маршируете с оружием?
Торм снова умолк, точно язык проглотил. Стоял и молчал, и это затянувшееся молчание становилось просто невыносимым.
— Вы оба, — сказал наконец Отец, обращаясь ко мне и Тибу, — немедленно отнесете все ваше оружие на задний двор. А ты, Торм, отведи этого мальчика к Ремену и проследи, чтобы тот хорошенько его осмотрел и сделал все, что нужно. А потом приходи на задний двор.
Мы с Тибом дружно поклонились и со всех ног помчались назад, в парк. Тиб плакал, у него даже зубы от страха стучали. А я пребывал в каком-то странном болезненном состоянии вроде лихорадки, отчего все вокруг казалось мне каким-то неестественным, точно во сне; я был довольно спокоен, но разговаривать с Тибом не мог. Мы сразу направились к тайнику, выудили оттуда наши деревянные мечи и щиты, шлемы и наколенники и поволокли их на задний двор Аркаманта. Там мы свалили все это в кучу и встали рядом, ожидая кары.
Отец, уже переодевшись в домашнее платье, быстрым шагом подошел к нам, и я прямо-таки почувствовал, что Тиб весь съежился от страха. Я поклонился Отцу и стоял спокойно. Я не боялся Отца, во всяком случае, Хоуби я боялся гораздо больше. А перед нашим Отцом я испытывал некий благоговейный трепет, полностью ему доверяя. Этот человек в моих глазах был абсолютно всемогущ, и абсолютно справедлив. Он, конечно же, поступит с нами по справедливости, и если мы должны быть наказаны, то пусть так и будет.
Вскоре из дома вышел и Торм; широко шагая, он поспешил к нам. Он казался уменьшенной копией своего отца. Резко затормозив перед печальной грудой деревянного оружия и доспехов, он поклонился Алтану-ди, но стоял с высоко поднятой головой.
— Ты знаешь, Торм, что это преступление — давать рабу любое оружие?
— Да, отец, — пролепетал Торм.
— Ты знаешь, что в армии Этры рабов нет? Что воины — это свободные люди? Что обращаясь с рабом, как с воином, ты проявляешь оскорбительное неуважение по отношению к нашей армии и нашим Предкам? Тебе все это должно быть хорошо известно, Торм.
— Да, мне это хорошо известно.
— Но ты все же совершил это преступление, проявив крайнее неуважение к нашим законам и традициям.
Торм стоял совершенно неподвижно, только лицо его как-то жутковато подергивалось.
— Итак, кого же следует наказать за это, тебя или рабов?
Глаза Торма широко распахнулись — видимо, подобная возможность даже в голову ему не приходила, однако он по-прежнему молчал. И молчание снова затягивалось.
— Кто у вас командовал? — спросил Отец.
— Я.
— Ну и?
Снова надолго воцарилось молчание.
— Ну и наказание должен понести я, отец.
Алтан Арка коротко кивнул и снова спросил:
— А они?
Торм, явно преодолевая себя, буркнул:
— А они делали то, что им велел я.
— Так я не понял: надо их наказывать за то, что они следовали твоим командам?
— Нет, отец.
Еще один короткий кивок, и Отец посмотрел на нас с Тибом, но так, словно мы находились где-то далеко-далеко.
— Сожгите этот хлам, — велел он, — и учтите: подчиниться преступному приказу — это тоже преступление. Вы остаетесь безнаказанными лишь потому, что ваш хозяин берет всю ответственность на себя. Тебя, мальчик с Болот, кажется, Гэв зовут? А тебя…
— Меня зовут Тиб, Отец Алтан. Я с кухни, — пролепетал Тиб.
— В общем, сожгите все это и немедленно возвращайтесь к работе. — Он повернулся к Торму. — Идем, — сказал он ему, и они пошли куда-то бок о бок под длинной аркадой. Выглядели они, точно воины на параде.
Мы сходили на кухню, взяли там из очага пылающую головню и запалили сваленные в кучу деревянные мечи и щиты; но когда мы бросили в костер наши кожаные шлемы и наколенники, те несколько прибили огонь, и костер задымил. Тогда мы, обжигая себе руки, разгребли полуобгоревшие деревяшки и противно пахнувшие кожаные ремешки и закопали все это в палисаднике перед кухней. И уже после этого окончательно распустили сопли. Быть воинами было тяжело и даже немного пугающе, зато почетно, и мы так гордились собой, играя в эту игру. Я, например, просто обожал свой деревянный меч и частенько ходил к тайнику один, доставал его оттуда, пел ему песни, без конца полировал его грубо выструганное щелястое лезвие камнем и натирал его для блеска салом, припасенным с обеда. Но в итоге игра обернулась ложью. Даже во время игры мы никогда не были воинами — только рабами. Мы так и остались рабами. Рабами и трусами. А я еще и предал своего командира. Да меня просто тошнило от стыда и позора!
К началу послеобеденных занятий мы, естественно, опоздали. Когда мы, бегом промчавшись через весь дом и задыхаясь, влетели в класс, Эверра с отвращением посмотрел на нас и велел:
— Идите умойтесь. — А мы-то на себя и внимания не обратили; только теперь я заметил, как перепачкана наша одежда, какие грязные у нас руки, а физиономия Тиба к тому же вся в потеках сажи, слез и соплей; да и сам я, наверное, выглядел не намного лучше. — Сходи с ними, Сэлло, — попросил учитель мою сестру, — и проследи, чтобы они привели себя в порядок. — По-моему, добрый Эверра послал Сэл с нами, понимая, до какой степени мы оба расстроены.
Я успел заметить, что Торм сидит в классе на своем обычном месте, а вот Хоуби там нет.
— Что случилось? — спросила Сэлло, помогая нам отмыться, но я вместо ответа спросил:
— А что вам Торм сказал?
— Он сказал, что Отец Алтан приказал вам сжечь кое-какие игрушки, так что вы, возможно, опоздаете к началу занятий.
Значит, Торм прикрыл нас, придумал для нас оправдание! С одной стороны, я испытал огромное облегчение, но с другой — это оказалось настолько незаслуженным после моего предательства, что я чуть не расплакался от благодарности и стыда.
— Интересно, какие такие игрушки он велел вам сжечь? Чем вы там занимались?
Я молча покачал головой, решив ничего ей не говорить. Но Тиб не выдержал:
— Мы играли в воинов и маршировали, а Торм-ди нами командовал.
— Заткнись, Тиб! — сказал я, но было уже поздно.
— С какой это стати мне затыкаться?
— Мало тебе неприятностей?
— Мы же не виноваты! Так и Отец сказал. Он же сказал, что во всем виноват Торм-ди.
— Ничего подобного! Ты бы лучше об этом помалкивал, раз не понимаешь! Ты же предаешь его!
— Ну, так ведь он же соврал, — сказал Тиб. — Он сказал, что мы лазили по деревьям.
— Он просто пытался уберечь нас от лишних неприятностей!
— А может, себя самого? — возразил Тиб.
У фонтана во дворе Сэл как-то ухитрилась погрузить наши головы в воду и почти дочиста оттереть наши перепачканные физиономии. Возилась она довольно долго. Сперва мои многочисленные ожоги сильно щипало, потом я почувствовал приятную прохладу; особенно приятно было опустить в воду свое уже очень сильно распухшее запястье. Отскребая с нас грязь, Сэлло постепенно вытянула-таки из нас всю историю с оружием, но отреагировала весьма немногословно, сказав Тибу:
— Гэв прав. Не надо об этом болтать.
На обратном пути я спросил у нее:
— А что, теперь Хоуби на один глаз ослепнет?
— Торм-ди сказал только, что он слегка повредил себе глаз, — пожала плечами Сэлло.
— Хоуби ужасно на меня зол, — вздохнул я.
— Ну и что? — вдруг возмутилась Сэлло. — Ты же не нарочно его поранил! А вот он как раз хотел ударить тебя мечом. Пусть только еще раз попробует, вот тогда действительно в беду попадет! — Она говорила чистую правду Мягкая и добродушная, моя сестра моментально воспламенялась, стоило кому-нибудь меня обидеть, и готова была защищать своего младшего брата столь же свирепо, как кошка защищает своих котят. Об этом все знали. А Хоуби, кстати сказать, она никогда не любила.
Прежде чем войти в класс, Сэлло обняла меня за плечи и на минутку прижала к себе; я тоже быстро обнял ее, я снова все стало хорошо… почти хорошо.
Глава 2
Глаз у Хоуби поврежден не был. Безобразный шрам пересекал его бровь ровно посредине, но, как выразился Торм, «не так уж Хоуби и красив, чтобы эту красоту можно было испортить». На следующий день Хоуби вернулся в школу, вовсю шутил и вообще вел себя вполне мужественно, хотя голова у него и была перебинтована. Он со всеми был весел и дружелюбен — за исключением меня. Какова бы ни была истинная причина его странного соперничества со мной, действительно ли он считал, что я пытался его унизить, бросив камнем ему в лицо, он так или иначе явно видел во мне врага и с тех пор уже не скрывал своего неприязненного ко мне отношения.
В таком огромном хозяйстве, как Аркамант, у любого из домашних рабов сколько угодно возможностей навлечь беду на своего недруга. К счастью, ночевал Хоуби в так называемой мужской Хижине, а я — по-прежнему в доме… Однако даже сейчас, когда я пишу эту историю для тебя, моя дорогая жена, и для тех, кому, возможно, захочется ее прочесть, я думаю так же, как думал и тогда, двадцать лет назад, когда был еще мальчиком-рабом. Моя память дает мне возможность настолько ясно видеть прошлое, словно все это снова происходит здесь и сейчас, у меня на глазах, и я забываю, что кое-что уже стоило бы пояснить и тебе, и читателям, и, пожалуй, даже самому себе. Описывая нашу жизнь в Аркаманте, в городе-государстве Этра, я снова погружаюсь в мир моего детства, я воспринимаю эту жизнь именно так, как воспринимал и тогда — как бы изнутри и стоя на самой нижней ступеньке существовавших в нашем Доме отношений. Я не имел возможности ни с чем эту жизнь сравнить и считал подобное положение вещей единственно возможным. Детям вообще свойственно именно так воспринимать окружающий их мир. Как и рабам. Свобода ведь в значительной степени связана с пониманием того, что существующему порядку вещей есть некие альтернативы.
А я, кроме Этры, в те времена не знал ничего. Этра и соседние города-государства почти перманентно пребывали в состоянии войны, и воины в обществе занимали весьма важное положение. Воинами обычно становились только представители двух высших классов: знати, из числа которой выбирались и члены Сената, и так называемых свободных людей — земледельцев-фермеров, купцов, подрядчиков, архитекторов и т. п. Мужчины, входившие в последнюю группу, имели право голосовать по некоторым законодательным вопросам, но не имели права занимать государственные должности. К тому же среди «свободных» имелось и небольшое количество «освобожденных», т. е. бывших рабов. Ниже их стояли только рабы.
Женщины, представительницы всех классов, занимаются физическим трудом только дома, а мужчины-рабы трудятся как в доме, так и вне его. Численность рабов увеличивается за счет пленных, захваченных во время войны или бандитских вооруженных налетов на другой город или Деревню, или же за счет детей, рожденных домашними рабами; рабов можно покупать или дарить, что и делают те, кто принадлежит к двум высшим классам. Раб не имеет никаких законных прав, не может вступить в брак и чаще всего живет в вечной разлуке и со своими родителями, и со своими детьми.
Жители городов-государств поклоняются Предкам тех, кто здравствует ныне. Люди, не имеющие Предков, то есть «освобожденные» и рабы, могут поклоняться только праотцам того семейства, которое ими владеет или владело, или же праотцам самого города, великим духам давно минувших времен. Но рабы поклоняются и некоторым другим божествам, известным повсюду на Западном побережье: богине Энну, богу Раниу и богу Удачи, которого называют также Глухим богом.
Ясно, что и я от рождения был рабом, а потому и говорю в основном о рабах. Но если вы прочтете любую историческую хронику — Этры или другого города-государства, — то там все будет только о правителях, сенаторах, генералах, славных воинах, богатых купцах и так далее; там будут описаны только деяния тех людей, которые вольны были совершать или не совершать эти деяния. О рабах там вы не найдете ни слова. Основное качество и добродетель раба — его незаметность, даже почти невидимость. Людям бесправным, лишенным власти, приходится быть незаметными; они порой даже самих себя толком не видят. Эту важную вещь Сэлло, например, давно уже поняла, а я еще только учился этому.
В Аркаманте мы, домашние рабы, ели на кухне; там всегда можно было найти вкусную кашу из пшеничных зерен, свежий хлеб, сыр, оливки, свежие или сушеные фрукты, молоко, а по вечерам еще и горячий суп. Впрочем, зимой горячего супу можно было похлебать и утром. Одевали и обували нас вполне прилично, постели были всегда чистые и теплые. Аркамант славился своим богатством и щедростью. Наша Мать с презрением отзывалась о тех хозяевах, которые отправляют своих рабов на улицу босиком, голодными, со следами побоев. В Аркаманте старых рабов, которые уже не могли приносить пользу своим трудом, продолжали содержать в холе и тепле, кормили и одевали до самой смерти; а к старой Гамми, которую мы с сестрой очень любили и которая была нянькой еще самого Алтана-ди, все относились с особой теплотой. Мы хвастались перед рабами из других Домов, что суп для нас варят с мясом, а одеяла у нас шерстяные. Мы презрительно смотрели на те безвкусные и претенциозные «ливреи», которые вынуждены были носить рабы чужих Домов. Нам гораздо больше по душе были традиционные, «как у наших предков», прочные, добротные одежды. Как, впрочем, и все в Аркаманте.
Взрослые рабы-мужчины спали в большом отдельном строении на заднем дворе, Хижине; женщины и дети ночевали в просторной спальне рядом с кухней. Младенцы, как принадлежавшие Семье, так и из числа домашних рабов, вместе с няньками и кормилицами размещались в детской неподалеку от покоев самой Семьи. «Подарочные» девушки проживали и развлекали гостей или своих постоянных любовников в «шелковых комнатах», красиво убранных помещениях в дальнем западном крыле, отделенном внутренним двориком.
Женщины сами могли решить, когда мальчику следует переехать из общей женской спальни в мужскую Хижину. Например, несколько месяцев назад они отправили туда Хоуби — главным образом для того, чтобы просто от него избавиться: он постоянно всем грубил и жестоко издевался над младшими детьми. Сперва, по-моему, более взрослые юноши, жившие в Хижине, встретили его в штыки, но он тем не менее страшно гордился этим переселением, считал его существенным признаком собственной мужественности и презирал нас, младших, за то, что мы спим «в норе вместе со всем выводком».
Тиб тоже только и мечтал о том, чтобы его отправили на ту сторону двора, а мне так жилось очень хорошо: у нас с Сэл был собственный крошечный закуток, собственный запирающийся сундучок и собственная просторная лежанка; да и Гамми по-матерински опекала нас. А когда она умерла, нас не разлучили и позволили заботиться друг о друге. Тут надо пояснить: поскольку у рабов как бы нет ни родителей, ни детей, то любая женщина имеет право даты выход своим материнским чувствам и заботиться о каком-то ребенке или о нескольких детях; во всяком случае, ни один ребенок не ложится спать, испытывая горечь одиночества. А у некоторых детей бывает даже несколько «приемных матерей». Всех женщин дети называют «тетя» или «тетушка». Наши «тетушки» частенько говорили, что мне приемная мать и вовсе не нужна, потому что у меня такая замечательная сестра. И я был совершенно с этим согласен. Когда Хоуби убрали из нашей общей спальни, моей сестре больше не нужно было защищать меня от его преследований, однако за пределами спальни все стало гораздо хуже. Обязанность подметальщика вынуждала нас с Сэлло ходить по всему огромному дому, и Хоуби подстерегал меня в таких уголках двора и в таких коридорах, где люди бывали довольно редко. Он хватал меня за шиворот, приподнимал и начинал трясти и мотать из стороны в сторону, как собака трясет пойманную крысу, желая сломать ей шею. При этом он все время гнусно ухмылялся, заглядывая мне в лицо, а потом с силой швырял меня на пол, пинал ногой и удалялся. Это было ужасно — вот так, беспомощно, болтаться в его руках! Я брыкался, я вырывался изо всех сил но был гораздо меньше и слабее его, да и руки у меня были коротковаты, я даже дотянуться до него не мог, а если мне все же удавалось пнуть его ногой, то он, похоже, этих жалких пинков даже не замечал. Звать на помощь я не осмеливался: если ссора между рабами тревожила покой членов Семьи, то этих рабов непременно сурово наказывали. По-моему, моя беспомощность только распаляла жестокость Хоуби, ибо он вел себя все хуже и хуже. Он был хитер и никогда не тряс и не пинал меня в присутствии других людей, но стал все чаще устраивать свои гнусные засады, исподтишка ставил мне подножки, выбивал у меня из рук тарелки с едой и т. д. Но хуже всего то, что он не упускал случая оболгать меня, обвиняя в воровстве и ябедничестве.
Впрочем, женщины у нас в спальне почти не обращали внимания на россказни Хоуби, а вот старшие ребята, жившие в Хижине, к нему, увы, прислушивались и в итоге стали относиться ко мне как к жалкому маленькому шпиону и хозяйскому любимчику. Я этих юнцов видел редко, ибо они были заняты работой и почти не попадались мне на глаза. Зато с Тормом я каждый день встречался в школе. С того дня, когда состоялась наша битва на «земляном валу», то есть в заросшей травой канаве, Торм совершенно перестал обращать внимание на нас с Тибом и своим единственным дружком сделал Хоуби, а тот с некоторых пор стал обзывать меня «вонючкой», и Торм вскоре последовал его примеру.
Эверра не мог напрямую сделать Торму замечание или тем более устроить ему выговор. Торм был сыном Семьи, а Эверра — рабом. Уважения заслуживала лишь та роль, которую Эверра играл, но не он сам. Он имел право исправлять ошибки, которые Торм делал при чтении, или, скажем, в чертежах, или исполняя какую-нибудь мелодию, но делать ему замечания по поводу поведения он не мог; он мог, например, сказать: «Тебе придется переделать это упражнение», но остановить его окриком: «Немедленно прекрати это!» — не мог. Впрочем, те болезненные приступы бессмысленной ярости, случавшиеся с Тормом в детстве, давали Эверре кое-какие дополнительные возможности; он и теперь порой пользовался этими возможностями, чтобы держать Торма в руках. Когда тот начинал орать и драться, Эверра просто хватал его в охапку и выносил из класса, а потом запирал в кладовке в дальнем конце коридора, пригрозив, что если он сам попытается выбраться оттуда, то его родителям будет сообщено, как отвратительно он вел себя на уроке. И Торм, посидев какое-то время в одиночестве, обычно приходил в себя и терпеливо ждал, когда Эверра его выпустит. Мне кажется, он и сам бывал рад, что его заперли, потому что, даже став старше и гораздо сильнее, когда Эверра уже и не смог бы, наверное, с ним справиться, он чуть ли не бегом бросался по коридору, стоило нашему учителю сказать: «В кладовую, Торм-ди!», и охотно позволял Эверре запереть за собой дверь. Теперь, правда, у него уже почти год не было настоящих припадков, но один или два раза, когда он снова начинал выходить из себя, Эверра тихо говорил ему: «В кладовую, пожалуйста», и он послушно направлялся туда.
Однажды весной Хоуби снова стал приставать ко мне в классе; он нарочно толкал скамью, когда я писал, потом разлил чернила и обвинил меня в том, что я специально испортил ему тетрадь, затем принялся очень больно щипаться, стоило мне пройти мимо. Заметив это, Эверра сказал:
— Оставь Гэвира в покое, Хоуби. Вытяни перед собой руки!
Хоуби встал и, выбросив перед собой руки ладонями вверх, со своей обычной бараньей упрямой усмешкой приготовился к наказанию.
Но тут вмешался Торм.
— А он ничего такого не сделал, чтобы его наказывать! — заявил он.
От неожиданности Эверра не сразу нашелся, что ответить. Но все же сказал:
— Он мучил Гэвира, Торм-ди.
— Этого вонючку? Да это его надо наказывать, а не Хоуби! Это же он чернила разлил.
— Он сделал это случайно, Торм-ди. Я за это не наказываю.
— Нет, не случайно! А Хоуби и вообще ничего такого не сделал! Нечего его наказывать! Скорее уж этот дерьмец наказания заслуживает!
Хотя Торма пока еще не трясло от ярости, как бывало, но он явно был на грани очередного срыва: лицо его исказилось, глаза вдруг словно ослепли и даже побелели от бешенства. Наш учитель стоял и молчал. Я заметил, как он быстро глянул на Явена, склонившегося над каким-то чертежом и совершенно поглощенного своим занятием. Я тоже очень надеялся, что Явен — все-таки он был старшим братом Торма — заметит, что происходит; но он словно ничего не слышал; а Астано в тот день в классе не было.
Наконец Эверра сказал:
— В кладовую, пожалуйста, Торм-ди.
Торм машинально сделал пару шагов. И остановился. Затем повернулся лицом к учителю и хрипло, с трудом выговаривая слова, сказал:
— Я, я, я… приказываю тебе наказать этого дерьмеца! — Лицо его при этом дергалось и тряслось, как и в тот день, когда нас ругал его отец за то, что мы играли с оружием.
А у Эверры лицо стало совершенно серым. Он стоял неподвижно и выглядел очень худым и старым. Потом снова бросил взгляд в сторону Явена, по-прежнему ничего не замечавшего, и промолвил очень тихо, но с достоинством:
— В этой классной комнате распоряжаюсь я, Торм-ди.
— Но ты всего лишь раб и обязан выполнять мои приказания! — выкрикнул Торм, и голос его, еще не успевший сломаться, сорвался на визг.
Это наконец услышал и Явен; он поднял голову, удивленно огляделся и спросил:
— В чем дело, Торм?
— Довольно с меня непослушания каких-то дерьмовых рабов! — выкрикнул Торм, снова срываясь на визг. В эти минуты он был похож на сумасшедшую старуху, особенно своим хриплым визгливым голосом, и может быть, именно это и заставило маленького четырехлетнего Мива рассмеяться. Когда в наступившей тишине прозвенел негромкий смех Мива, Торм резко обернулся к нему и с размаху ударил его по голове кулаком. Малыш так и слетел со скамьи, ударившись о стену.
И тут Явен не выдержал: подскочив к Торму, он с мрачным видом торопливо извинился перед Эверрой, схватил брата за руку и поволок его вон из класса. Торм не сопротивлялся. Он умолк, но глаза его по-прежнему горели слепой яростью, хотя лицо несколько обмякло, да и вид у него был скорее смущенный.
Хоуби с тупым, каким-то пришибленным выражением смотрел ему вслед. Никогда еще так резко не бросалось в глаза то, что они с Тормом разительно похожи — почти одно и то же лицо.
Сэлло подняла маленького Мива и баюкала его, прижав к груди. Малыш так и не издал ни звука: похоже, он был оглушен тем страшным ударом по голове. Потом он немного повозился и уткнулся лицом в плечо Сэл. Если он и плакал, то совершенно беззвучно.
Наш учитель опустился возле них на колени, пытаясь определить, нет ли у мальчика каких-либо иных повреждений, кроме здоровенной шишки, которая уже набухала и вскоре должна была закрыть ему половину лица. Потом Эверра велел Сэлло и Око, сестре Мива, отнести мальчика в атриум к фонтану и как следует умыть. В классе, таким образом, остались только Рис, Сотур, Тиб, я и Хоуби. Учитель повернулся к нам и сказал:
— А мы пока почитаем Трудека. — Голос его показался мне каким-то хриплым и слабым. — Итак, шестидесятая Мораль. «О терпении».
Первой он велел читать Сотур. И она храбро принялась за дело, но все равно то и дело запиналась.
Сотур была племянницей Алтана-ди. Ее родной отец погиб во время осады Морвы, когда она была еще совсем крошечной, а мать умерла, давая ей жизнь. Сотур, оставшуюся сиротой, приняли в Семью Арка, где она оказалась самой младшей из детей. Она была очень похожа на свою старшую кузину Астано — такая же спокойная и скромная; она обожала Астано, доверяла ей целиком и полностью и подражала во всем, и все же темперамент у нее был несколько иной. Сотур была не то чтобы бунтаркой, но и особой покорностью не отличалась. И чувствовалось, что душа ее по-прежнему одинока.
А в эти минуты Сотур была страшно расстроена тем презрением и неучтивостью, которую Торм выказал по отношению к нашему учителю, которого она очень любила. Будучи единственным членом Семьи, оставшимся в классе, она не могла не чувствовать ответственности за отвратительное поведение Торма, за побои, нанесенные малышу Миву, и за те извинения, которых Торм так и не принес Эверре. Но что она, двенадцатилетняя девочка, могла поделать? Разве что моментально подчиниться и продемонстрировать нашему учителю высшую степень учтивого к нему отношения. Так она и поступила, но читала все же отвратительно. Книга так и тряслась у нее в руках. И вскоре Эверра, поблагодарив ее, велел мне продолжать с того места, где она остановилась.
Стоило мне начать читать, как Хоуби у меня за спиной вдруг завозился и что-то прошипел. Учитель только глянул на него, и он сразу примолк, но ненадолго. И все время, пока я читал, я чувствовал, как он готовит у меня за спиной какую-то гадость.
В общем, мы как-то добрались до конца урока. Вернувшаяся Сэлло сообщила, что оставила маленького Мива и его сестру у нашего лекаря Ремена, потому что у Мива все время кружится голова и он все время засыпает. Матери Дома также сообщили о случившемся, и, по словам Сэл, она собиралась навестить малыша. Это внушало надежду. Старый Ремен только и умел, что рабов лечить, причем для всех болезней он использовал камфарную мазь да отвар из кошачьей мяты, а наша Мать Фалимер по всей Этре славилась своим опытом и умением исцелять по-настоящему.
— Арки всегда заботятся о своих людях, даже о самых маленьких, — промолвил Эверра с мрачной благодарностью. — Когда сегодня пойдете из класса, загляните в комнату Предков, поклонитесь им и попросите благословить всех детей этого Дома, всех его детей, а также его добрую Мать.
Мы, разумеется, послушались. Одна лишь Сотур имела право войти в святилище, где на стенах теснились имена Предков и их резные изображения. Это была большая темноватая комната с потолком-куполом. Глядя вслед Сотур, мы, домашние слуги, преклонили колена на пороге святилища, и Сэлло, зажав в кулачке резную фигурку богини Энну-Ме, прошептала:
— Благослови нас, Энну, и сама будь благословенна! Прошу тебя, сделай так, чтобы Мив поправился! А я вечно буду следовать твоим указаниям, дорогая моя наставница великая Энну-Ме!
Я же мысленно молился тому из Предков, которого выбрал сам. Это был Алтан Бодо Арка. Лет сто назад он тоже был Отцом Аркаманта, и его портрет, вырезанный в камне, и раскрашенный, был хорошо виден с порога, где мы стояли на коленях. У него было замечательное лицо, точно доброго ястреба, а проницательные глаза смотрели прямое на меня. Я выбрал его еще совсем маленьким и решил, что именно он и есть мой самый главный защитник и всегда знает, что у меня на душе. Мне не нужно было объяснять ему, как сильно я боюсь их обоих — Торма и Хоуби. Он и так все понимал. «О, Великая Тень, прародитель наш, дедушка Алтан-ди, помоги мне от них избавиться! — безмолвно молил я его. — Сделай так, чтобы они не были такими злыми, и прими мою благодарность. — И, подумав, Я еще прибавил: — А еще, пожалуйста, сделай меня хоть чуточку храбрее!»
Это была хорошая мысль. Ибо в тот день мужество мне очень даже понадобилось.
Мы с Сэл все подмели, а потом весь день были вместе: она пряла, а я делал задание по геометрии. Хоуби нигде видно не было — ни на кухне, ни в доме. Наступил вечер, и я уже решил, что все обошлось; я даже собирался пойти и поблагодарить за это нашего Предка, Алтана Бодо Арку, но. возвращаясь в нашу комнату из уборной, я вдруг услышал за спиной голос Хоуби:
— Вот он!
Я бросился бежать, но было поздно: они все равно сразу меня поймали. Я брыкался, вопил и дрался изо всех сил, но я был все равно что кролик в зубах у гончих.
Хоуби и другие большие мальчишки притащили меня к колодцу за мужской Хижиной, вытащили из колодца ведро и стали опускать меня головой в колодец, держа за ноги, пока голова моя не уходила под воду и я не начинал задыхаться. Стоило мне начать булькать и вдыхать воду, как они быстро вытаскивали меня наверх, давали немного оклематься, и все повторялось снова.
Каждый раз, когда они вытаскивали меня на воздух, задыхающегося, извивающегося, исходящего рвотой, Хоуби наклонялся надо мной и говорил странным ровным голосом:
— Это тебе за то, что ты предал твоего хозяина, жалкий вонючка! И за то, что ты вечно подлизываешься к этому вонючему старому пердуну Эверре, болотная ты крыса! Ничего, посмотрим, как тебе понравится в воде мокнуть, тварь болотная! — И они снова заталкивали меня в колодец, как бы я ни сопротивлялся, расставляя руки, цепляясь за каменные стены колодца и отворачивая голову от воды. Вскоре меня все равно погружали в воду и держали так до тех пор, пока вода не начинала заливаться мне в ноздри; я начинал задыхаться и кашлять, захлебываясь, и меня снова поднимали наверх. Не знаю, сколько раз они проделывали это; в итоге я потерял сознание, и, когда я совсем обмяк, они испугались: решили, наверное, что я умер.
Убить раба может только его хозяин; для всех остальные это считается тяжким преступлением. И мои перепуганные мучители убежали, так и бросив меня у колодца.
Нашел меня старый Ремен, «чинилыцик рабов», когда пришел к колодцу на заднем дворе; он всегда утверждал, что в этом колодце вода гораздо чище, чем в фонтанах. «Наткнулся на него в темноте, — рассказывал он впоследствии. — Думал, это дохлая кошка валяется! А потом смотрю, нет, великовато для кошки-то. Значит, думаю, кто-то собаку в колодце топил, да у него не вышло? Глядь, это и не собака вовсе, тут мальчишку чуть не утопили! Клянусь богом Удачи! Кто же это тут у нас мальчишек топит?»
Но на этот вопрос он от меня ответа так и не получил.
По-моему, Хоуби и остальные мои мучители считали, что придуманная ими пытка никаких видимых следов на оставит и все мои обвинения против них легко будет опровергнуть за недостатком улик; но на самом деле мои плечи и запястья были покрыты ссадинами и синяками, а на голове красовалось несколько шишек. Я отчаянно сопротивлялся, когда меня опускали вниз головой в узкий колодец, дергался изо всех сил, так что даже лодыжки мои были в черно-синих кровоподтеках. Парни они были крепкие мускулистые, им, возможно, даже в голову не приходило, какие следы остаются на моем теле от их безжалостных рук. Пытаясь просто меня напугать, они на самом деле причиняли мне серьезный физический ущерб.
Я пришел в себя только ночью в маленькой больничке Ремена; грудь нестерпимо болела, в висках что-то тикало, но я лежал очень тихо и словно плыл в неглубоком озерце, тусклого желтоватого света, чувствуя, как эта тишина исходит из моей души и расплывается вокруг, точно круги на спокойной воде. Через некоторое время я заметил, что моя сестра Сэлло сидит рядом со мной и спит, положив голову на край постели, и от этого чудесный покой, что окружал меня, и эта тишина стали еще прекраснее. Я лежал так довольно долго, порой видя лишь этот неяркий золотистый свет и неясные тени, а порой кое-что вспоминая. Например, мне снова вспомнились те тростники, и спокойная, синяя, как шелк, вода, и голубой холм вдалеке. Затем я снова вернулся на свою постель и закачался на волнах золотистого света, следя за неясными тенями вокруг и слушая сонное дыхание Сэлло. Вдруг я вспомнил, как Хоуби крикнул: «Вот он!», но ужас, который я испытал при этом, был каким-то отдаленным, невнятным, как и боль в висках, и не причинил мне особого беспокойства. Я немного повернул голову и увидел маленький масляный светильник, от которого струился этот теплый, золотистый свет, озерцом разливавшийся вокруг его огненной сердцевинки. И, глядя на светильник, я «вспомнил» того человека в темной комнате с высокими потолками. То, как он стоял у огромного стола, заваленного книгами и бумагами, а на столе горела лампа и лежала грифельная доска, и над столом виднелось высокое узкое окошко; а потом этот человек обернулся и посмотрел на меня, стоявшего на пороге. И в этот момент я сумел как следует разглядеть его. Волосы у него начинали седеть, а красивое лицо было чем-то похоже на лицо того «моего» Предка — такое же яростное и доброе одновременно; но если лицо Предка был исполнено гордости, то в лице этого седеющего человека было больше печали. И все же, увидев меня, он ласково мне улыбнулся и назвал меня по имени: Гэвир…
— Гэвир… — И снова я очутился в озерце неяркого желтого света. Надо мной склонилось чье-то лицо, и я долго вглядывался в него, пытаясь узнать. Это была женщина в ночном капоте и белой шерстяной шали, накинутой на голову. Лицо у нее было нежное и суровое, немного похожее на лицо Астано. Но это была не Астано, и я решил, что она тоже из моих «воспоминаний», но потом догадался — не сразу, медленно, — что надо мной склонилась Мать нашего Дома, Фалимер Галлеко Арка. До сих пор мне ни разу в жизни не доводилось смотреть ей прямо в лицо, и теперь я не сводил с нее глаз. Мне казалось, что она похожа на резное изображение одного из наших Предков, и я смотрел и смотрел на нее сонно, мечтательно, не испытывая ни малейшего страха.
Рядом со мной Сэлло чуть шевельнулась во сне, но не проснулась.
Мать Фалимер легко коснулась тыльной стороной ладони моего лба и чуть заметно покивала головой.
— Ну, как ты, ничего? — услышал я ее шепот. Я был каким-то слишком усталым и сонным, чтобы ответить, но должно быть, все же кивнул или улыбнулся ей в ответ, потому что и она тоже слегка улыбнулась, ласково коснулась моей щеки и отошла от меня к стоявшей рядом детской кроватке.
Она некоторое время постояла возле этой кроватки, и я понял, что там, должно быть, лежит маленький Мив, но тут же снова уплыл куда-то по озерцу желтоватого света в ту благословенную тишину. И тут на меня вдруг нахлынули эти видения, или «воспоминания»: мы шли хоронить Мива к реке, и молодые листики ив, росших на берегу, были как зеленый дождь на фоне серого весеннего дождя. И сестра Мива, Око, стояла возле маленькой черной могилки с какой-то цветущей веткой в руке, а я все смотрел на тот берег реки, и поверхность воды была рябой от дождя. А я вспоминал, что, когда мы здесь, на берегу реки, хоронили Гамми, была зима и прибрежные ивы стояли голые, но все равно душа моя была не так переполнена печалью, как сейчас, потому что похороны Гамми были почти как праздник — столько людей собралось, чтобы проводить ее, а после похорон должен был состояться еще и поминальный пир! А потом промелькнуло и еще одно короткое видение: какие-то другие похороны, но тоже весной, вот только я не знал, кого это хоронят, и даже еще подумал: может, меня самого? Я же хорошо видел печаль в глазах того человека, что стоял у стола с зажженной лампой в окутанной полумраком комнате с высоким потолком…
А потом наступило утро. И мягкий дневной свет сменил то озерцо неяркого света от ночника. И Сэл рядом уже не оказалось. А на соседней кроватке лежал маленький Мив, свернувшись клубочком. В дальнем углу я увидел какого-то старика. Потом-то я узнал его: это был Лотер, который до глубокой старости работал у нас поваром, а потом заболел и вот теперь лежал здесь и ждал смерти. Ремен как раз помогал ему сесть, подкладывая под спину подушку, а Лотер стонал и сердито ворчал. Я чувствовал себя вполне хорошо и даже попытался встать, но тут голову мою пронзила острая боль, перед глазами поплыла пелена, как-то сразу заболело все тело, и мне пришлось присесть на кровать.
— Никак уже и встать пытаешься, крыса болотная? — добродушно сказал старый Ремен, подходя ко мне и ощупывая шишки у меня на голове. Вывихнутый большой палец на правой руке уже, оказывается, был уложен в лубок. Ремен осмотрел его, заодно пояснив мне, зачем в таких случаях нужен лубок. — Ничего, скоро с тобой все будет в порядке, — ободрил он меня. — Вы, мальчишки, народ крепкий. А кстати, кто это с тобой такое сотворил, а?
Я только плечами пожал.
Он быстро на меня глянул, коротко кивнул и больше этого вопроса не задавал. Он, как и я, был рабом и понимал, что всем нам приходится жить в сложном сплетении недоговоренностей и умолчаний.
В то утро Ремен, правда, не разрешил мне уйти из больницы; он сказал, что Мать Фалимер непременно собиралась зайти еще раз и как следует осмотреть и меня, и Мива. Ожидая ее прихода, я сидел на кровати и изучал свои многочисленные шишки и ссадины, что оказалось занятием Довольно интересным. Потом мне это надоело, и я стал нараспев повторять разные куски из «Осады и падения Сентаса». Около полудня наконец-то проснулся Мив; я подсел к нему и немного с ним поболтал. Он, удивленно глядя на меня, спросил, почему нас двое.
— Как это двое? — спросил я, и он пояснил:
— Ну, вас двое. Два Гэва.
— Это у него в глазах двоится, — пояснил старый Ремен, подходя к нам. — После ударов по голове и не такое бывает… Ох, госпожа! — И Ремен низко склонился, заметив, что в комнату входит Мать Фалимер; я тоже встал и поклонился ей.
Она очень внимательно осмотрела Мива. Его голова приобрела какую-то странную форму из-за огромной опухоли над левым ухом, и Мать даже в это ухо ему заглянула, а потом осторожно ощупала весь его череп и скулы. Лицо у нее было сосредоточенным, даже суровым, но под конец она сказала своим грудным нежным голосом:
— Ничего, он уже возвращается, — и улыбнулась. Она держала Мива на коленях и разговаривала с ним очень ласково: — Ты ведь возвращаешься к нам, маленький Мив, правда?
— У меня в ушах все время что-то ревет, — жалобно сказал он, морщась и растерянно моргая глазами. — А где Око? Она придет?
Ремен, потрясенный неучтивостью мальчонки, попытался заставить его отвечать Матери как полагается, но она только отмахнулась и сказала:
— Он же совсем еще малыш! — И снова обняла Мива. — Я очень рада, что ты решил вернуться, маленький. — Она еще немного побаюкала его, прижимаясь щекой к его волосам, потом уложила его в кроватку и сказала: — А теперь давай-ка поспи, а когда проснешься, твоя сестренка будет возле тебя.
— Хорошо, — сказал Мив, послушно свернулся клубочком и закрыл глаза.
— Ах ты, ягненочек! — с нежностью сказала Мать Фалимер и посмотрела на меня. — Ага, а ты, значит, уже встал. Что ж, это хорошо. — Она действительно была очень похожа на свою тоненькую юную дочку Астано, только лицо у нее, как и ее тело, было более полным и гладким, а голос — куда более властным и звучным. И еще у Астано взгляд был застенчивый, а Фалимер-йо смотрела спокойно и внимательно. Я, разумеется, сразу смутился и потупился.
— Кто же тебя так избил, мальчик? — спросила она.
Не ответить старому Ремену — это одно. А не ответить Матери Дома — совсем другое.
Я ужасно долго медлил с ответом, но сказал то единственное, что пришло мне в голову:
— Я упал в колодец, госпожа.
— Да ладно! — сказала она с упреком, но весело, словно ей мой ответ, в общем, понравился. Но я больше не прибавил ни слова.
— Ты очень неуклюжий мальчик, Гэвир, — услышал я ее мелодичный голос. — Но очень мужественный. — Она осмотрела мои шишки и ссадины и повернулась к Ремену. — Мне кажется, с ним все в порядке. А как его рука? — Она взяла мою руку, осмотрела на уложенный в лубок большой палец и сказала: — Чтобы это как следует зажило, потребуется несколько недель. Ты ведь учишься в школе, да? Так вот: ни в коем случае ничего этой рукой пока не делай, и писать некоторое время тоже будет нельзя. Впрочем, Эверра сам найдет, чем тебя занять. Ну что ж, беги.
Я неуклюже поклонился ей, сказал старому Ремену «спасибо» и вышел. Потом бегом бросился на кухню, отыскал там Сэлло; мы радостно обнялись, и она принялась расспрашивать меня, как я себя чувствую, а я рассказал ей, что наша Мать, оказывается, помнит мое имя, знает, кто я такой и что я учусь в школе!
Я, правда, не стал упоминать, что Мать Фалимер назвала меня «мужественным мальчиком». Это было бы чересчур: о таких вещах никому не рассказывают!
Но, когда я попытался поесть, куски пищи почему-то не глотались, а застревали в горле; и в висках снова затикало, а сама голова словно вдруг распухла, так что Сэл пришлось отвести меня в спальню и уложить в постель. Весь остаток того дня и большую часть следующего я проспал. А когда проснулся, то почувствовал себя совершенно здоровым и страшно голодным. И вообще все было бы хорошо, если бы не мой вид, по поводу которого Сотур сказала, что я похож на убитого воина, которого бросили на поле боя воронам на съедение.
Меня не было в классе всего два дня, но приветствовали меня так, словно я отсутствовал несколько месяцев. Самое интересное, что мне и самому так показалось. Учитель осторожно взял мою искалеченную руку, положил ее на ладонь и погладил своими длинными пальцами.
— Когда это заживет, Гэвир, мы с тобой будем учиться писать красиво и аккуратно, — сказал он, — чтобы больше никаких каракулей в нашей общей тетради не было. Согласен? — Эверра улыбался, и почему-то слышать все это от него было мне чрезвычайно приятно. В этих словах чувствовались забота и любовь, выраженные столь же деликатно, как и ласковое прикосновение его пальцев.
Я чувствовал, что Хоуби не сводит с нас глаз, да и Торм тоже. Я резко повернулся к ним и поклонился Торму, но он отвернулся. А я сказал:
— Привет, Хоуби.
Вид у Хоуби был довольно тухлый. По-моему, он просто испугался, увидев мои бесчисленные шишки, ссадины и синяки, ставшие теперь лиловыми и зеленоватыми. Но он наверняка знал, что я так никому ничего и не сказал. И все это знали. Точно так же, как все отлично знали, кто именно на меня напал. Я уже говорил, что наша жизнь была полна умолчаний, но тайн в ней почти не было.
Впрочем, раз я никого не обвинял, то никому до случившегося и дела не было; в первую очередь нашим хозяевам.
Итак, Торм с сердитым видом от меня отвернулся, зато Явен и Астано смотрели ласково и дружелюбно, ну а Сотур и вовсе явно жалела, что ляпнула, не подумав, насчет моего сходства с трупом, брошенным на съедение воронам, ибо, едва оставшись со мной наедине, торжественно заявила:
— Ты, Гэвир, настоящий герой! — И мне показалось, что она вот-вот расплачется.
Тогда я еще не понимал, насколько серьезна вся эта история, куда серьезнее той незначительной, как мне казалось, роли, которую мне довелось в ней сыграть.
Сэлло, конечно, уже рассказала всем, что маленький Мив останется в больнице, пока более-менее не поправится, и я, зная, что о нем заботится сама Мать Аркаманта, постарался больше не думать ни о нем, ни о своих лихорадочных «воспоминаниях» о чьих-то похоронах.
Однако вечером в спальне, когда все собрались, Эннумер, молодая женщина, заботливо опекавшая Мив и Око, вдруг горько расплакалась, и все женщины и девочки собрались вокруг нее, в том числе и Сэлло. А потом Тиб прокрался ко мне и шепотом рассказал то, что ему удалось подслушать: у Мива из уха стала течь кровь, и женщины думают, что от того удара у него треснула голова. Тут-то я и вспомнил те зеленые ивы у реки, что привиделись мне, и внутри у меня все похолодело.
На следующий день у Мива несколько раз случались судороги. Мы слышали, что Мать Фалимер то и дело заходила к нему, а потом и вовсе осталась там и просидела рядом с Мивом весь вечер и всю ночь. Думая об этом, я вспоминал, как она стояла у моей постели, окутанная тем золотистым светом. Вечером, когда мы втроем забрались к нам на лежанку, я сказал Тибу и Сэлло:
— Наша Мать такая же добрая, как Энну.
Сэлло кивнула и обняла меня, а Тиб сказал:
— Это потому, что она знает, кто его ударил.
— Ну и что, если знает?
Но Тиб не ответил, а просто показал мне язык.
Я рассердился.
— Она же наша Мать! — сказал я. — Она всех нас любит, обо всех заботится. Она добрая. А ты о ней вообще ничего не знаешь!
Я-то чувствовал, что знаю ее очень хорошо, как только сердце может знать того, кого любит. Она тогда так ласково коснулась меня своей нежной рукой! И сказала, что я очень мужественный.
Тиб нахохлился, пожал плечами, но возражать мне не стал. Он вообще постоянно был не в настроении с тех пор, как Хоуби от него отвернулся. И хоть я по-прежнему считал его своим другом, ему дружба с Хоуби всегда была важнее моей. И теперь при виде моих синяков и шишек его терзал стыд, и он в моем присутствии чувствовал себя не в своей тарелке. Вообще-то не я, а Сэлло позвала его в наш закуток посидеть и поговорить, пока женщины свет не погасили.
— Хорошо, что Мать Фалимер разрешила Око все время быть с ним рядом, — сказала Сэлло. — Бедный Мив! Бедная Око! Она так за него боится!
— Эннумер тоже очень хочется его проведать и посидеть с ним, — заметил Тиб.
— Наша Мать — настоящая целительница! — возразил я. — Она вылечит Мива. А твоя Эннумер все равно ему ничем не поможет. Она только и умеет, что причитать да плакать. Вот как сейчас.
Эннумер и впрямь была особой весьма шумной и глуповатой, лишенной и половины того здравомыслия, каким обладала шестилетняя Око; если честно, она не слишком много внимания уделяла Око и Миву, но действительна очень их любила, любила как умела, особенно Мива, своего «куклёнка», как она его называла. И теперешнее ее горе тоже было неподдельным, хотя и слишком громким.
— Ох, мой маленький куклёнок! — завывала она. — Как же мне хочется повидать его! Обнять, прижать к своей груди!
Наша старшая, Йеммер, подошла к ней и обняла за плечи.
— Успокойся, — сказала она. — Фалимер-йо о нем позаботится.
И растрепанная заплаканная Эннумер вдруг, словно испугавшись, притихла.
Йеммер была старшей уже давным-давно и пользовалась среди женщин непререкаемым авторитетом. Она, конечно, обо всем происходящем в общей спальне рассказывала Матери Фалимер и другим членам Семьи, но никогда не пыталась искать в этом выгоду для себя или специально доносить на других слуг. Хотя могла бы. Но Мать Фалимер уже один раз дала всем понять, что терпеть не может сплетниц и ябед, продав одну такую доносчицу и назначив старшей Йеммер. Йеммер всегда вела честную игру. У нее, конечно, были свои любимцы — и больше всех она любила мою сестру Сэлло, — но она никогда никого особо не выделяла, не оказывала никому предпочтения и никому особо не докучала.
А Эннумер просто преклонялась перед нею; по-моему, Йеммер казалась ей фигурой куда более могущественной — особенно в том, что касалось повседневных дел, — чем сама Фалимер Галлеко Арка. Так что Эннумер еще немного похныкала, позволяя собравшимся вокруг нее женщинам ее утешать, и замолкла.
Эннумер прислали к нам из Херраманта лет пять назад в качестве подарка Сотеру, старшему брату Сотур, ко дню его рождения. Тогда Эннумер была хорошенькой пятнадцатилетней девушкой, ничего толком не умевшей и неграмотной, ибо в Херраманте, как и во многих других Домах, считалось излишним хвастовством, показухой или даже рискованным бахвальством давать рабам образование, тем более девочкам-рабыням. Я знал, что у Эннумер были дети, двое или трое. Оба старших брата нашей Сотур частенько посылали за этой молодой женщиной, она беременела, рожала и ребенка отдавали одной из нянек, а потом побыстрее продавали в какой-нибудь другой Дом. Между прочим, Мив и Око тоже появились здесь в результате подобной сделки Младенцев вообще почти всегда либо продавали, либо обменивали. Гамми часто нам говорила: «Я родила шестерых а вот матерью никому не была. Даже и не смотрела ни на кого из детей, не пыталась никого в приемыши взять после того, как Алтана-ди вынянчила. А на старости лет вы двоя мне на голову взяли да и свалились, чтобы воспоминаниями меня мучить!»
Очень редко продавали мать, а не ее ребенка. Так случилось, например, с матерью Хоуби, который родился в один день с Тормом, настоящим сыном Семьи. Алтан-ди воспринял это как некий знак свыше и приказал оставить мальчика. А его мать, тоже «девушку-подарок», поскорее продали, чтобы избежать в дальнейшем возможных осложнений с выяснением родства. Мать может, конечно, считать в душе, что тот ребенок, которого она выносила и родила, принадлежит ей, однако понятно, что собственности не может обладать другой собственностью. А все мы являлись собственностью Семьи Арка; и Мать этого Дома считалась нашей Матерью, а Отец Алтан — нашим Отцом. Все это я отлично знал и понимал.
Но понимал я и то, почему плачет Эннумер. Для мальчика моих лет почти невыносимо видеть женские слезы, и я старался не думать об этом, отгораживаясь от этих мрачным мыслей, точно стеной.
— Давай в «морской бой» поиграем? — предложил я Тибу. Мы вытащили грифельные доски и мел, разбили поле на клетки и играли до тех пор, пока женщины не погасили свет.
А утром, на рассвете, Мив умер.
Смерть ребенка-раба обычно не вносит никакого замешательства в жизнь такого огромного Дома, как Аркамант. Ну, женщины-рабыни, конечно, поплачут, а члены Семьи, может, и зайдут, скажут добрые слова, принесут усопшему красивый саван или дадут денег, чтобы этот саван купить. А потом рано утром маленькая группа рабов в белых траурных одеждах отнесет носилки к реке, на кладбище, и помолится у могилы богине Энну, чтобы та отвела невинную детскую душу в его новый дом, а потом люди, утирая слезы, вернутся назад и вновь займутся привычной работой.
Но эта смерть была не совсем обычной. Каждый в Аркаманте знал, почему умер Мив, и это вызывало у людей тревогу. На этот раз разговоров среди рабов было довольно много; хозяева же помалкивали.
Разумеется, говорили рабы только с другими рабами.
Но это были такие разговоры, каких я никогда прежде не слышал: в них звучали горький гнев и презрение, и выражали эти чувства не только женщины, но и мужчины. Меттер, охранник нашего Отца, которого все уважали за силу и благородство, сказал в Хижине, что смерть Мива — это позор всей Семьи и Предки непременно потребуют искупления этого греха. А старший конюх Сим, человек умный, энергичный и бесстрашный, при всех назвал Торма бешеным псом. И эти слова шепотом передавались из уст в уста, об этом говорили и в коридорах, и на кухне, и в нашей общей спальне. Всем стала известна и та история, которую поведал Ремен: о том, как Мать Фалимер держала Мива на руках все то время, пока он был при смерти, прижимала его к себе и шептала: «Прости меня, малыш, прости».
Ремен рассказал это, надеясь, что его рассказ, возможно, несколько утешит Эннумер, которая просто обезумела от горя, и ей действительно чуть полегчало от сознания того, что мальчик, умирая, находился в чьих-то нежных и ласковых руках и что наша Мать искренне опечалена тем, что не сумела спасти его. Но другие люди восприняли это иначе. «Она вполне могла бы и прощения попросить!» — сказала Йеммер, и остальные с нею согласились. История о том, как Мив совершенно невинно рассмеялся, глядя на Торма, а Торм за это на него набросился, сильно ударил кулаком и швырнул об стену, была известна всем. Око, рыдая, рассказала об этом в тот же день, а Тиб и Сэлло все подтвердили, и я точно знаю, что, сколько бы раз ни говорили об этом в Хижине и на конюшне, никаких излишних подробностей в рассказе о жестокости Торма не появилось.
Хоуби, правда, защищал Торма, говоря, что тот всего лишь хотел шлепнуть назойливого и нахального мальчишку и сам не знал, что удар у него получится таким сильным. Но и самого Хоуби в доме недолюбливали. Никто, правда, открыто не обвинял его за то, что приключилось со мной у колодца, поскольку и сам я его обвинять не стал, однако никто особого восторга по этому поводу не выказывал и уж тем более по головке никто Хоуби не гладил. И теперь его верность Торму играла против него; уж больно это было похоже на предательство; уж больно явно он перешел на сторону хозяев. Я слышал, как старшие мальчишки на конюшне обзывали его «двойничком» — за спиной, конечно. А Меттер сказал ему прямо: «Настоящий мужчина, который не знает, какова его собственная сила, должен сперва узнать это и научиться управлять ею, сражаясь с мужчинами, а не избивая младенцев».
Эти разговоры о вине и невозможности прощения страшно меня тревожили. Они словно открывали трещины и неполадки в основах нашего мира, и мне начинало казаться, что этот мир вот-вот рухнет. Подойдя к дверям в комнату Предков, я опустился на колени и попробовал молиться моему тамошнему хранителю, но его нарисованные глаза смотрели как бы сквозь меня — высокомерно и равнодушно. В святилище я обнаружил Сотур, низко склонившуюся в безмолвной мольбе; она воскурила благовония у алтаря Матерей Дома, и ароматный дымок поднимался к темноватому куполу.
В ночь после смерти Мива мне приснилось, что я подметаю один из внутренних двориков и обнаруживаю там какой-то незнакомый коридор, которого никогда раньше не замечал; и коридор этот приводит меня в комнаты, о существовании которых я тоже прежде не знал, и там я встречаюсь с какими-то незнакомыми мне людьми, которые приветствуют меня так, словно хорошо меня знают. Я боюсь совершить грех, боюсь преступить некий запрет, но они улыбаются, и одна женщина протягивает мне прекрасный спелый персик и говорит: «Возьми, не бойся», и называет меня каким-то другим именем, но, проснувшись, я так и не смог припомнить это имя. И вокруг головы этой женщины разливается такое сияние, словно дрожат и переливаются солнечные зайчики. Я проснулся и снова заснул, и мне снова приснился тот же сон, но теперь я уже обследовал эти новые коридоры и комнаты, только людей тех уже не встречал, а лишь слышал их голоса, а потом я вышел в какой-то светлый внутренний дворик, где журчал небольшой фонтан, и ко мне подошел какой-то красивый золотистый зверь и доверчиво позволил его погладить. Даже окончательно проснувшись, я все еще продолжал думать о тех комнатах, о том доме. Это был и Аркамант, и не Аркамант. «Мой дом», называл я его про себя, потому что чувствовал себя в нем совершенно свободно. И солнечный свет там, по-моему, был ярче. И неважно, что это было за видение, — я страстно мечтал, чтобы оно снова повторилось!
Но те зеленые ивы у реки были моим «воспоминанием» о том, что должно было произойти сегодня.
Утром мы спустились к реке, чтобы похоронить Мива. Рассвет только занимался, и до восхода солнца было еще далеко. Редкий дождь падал меж ветвями ив и морщил поверхность речной воды. Я вспомнил, что уже видел все это во сне, а теперь снова видел все в реальной действительности, своими глазами.
Большая толпа людей следовала за плакальщиками в белом, за накрытыми белыми покрывалами носилками. Толпа собралась такая же большая, как во время похорон Гамми; пришли почти все рабы Аркаманта; отсутствовали только те, кому никогда, даже в случае похорон, даже в столь ранний утренний час, не разрешалось бросать свои дела. Было весьма необычно видеть столько мужчин на похоронах ребенка. Эннумер горько плакала в голос, да и многие другие женщины тоже, но мужчины хранили молчание, молчали и мы, дети.
Они опустили маленький белый сверток в неглубокую могилу и забросали его черной землей. Сестра Мива, Око, вся дрожа и не помня себя от горя, вышла вперед и положила на могилу длинную ивовую ветку, покрытую нежными желтыми сережками. Йеммер взяла ее за руку и, стоя у могилы, вознесла молитву Энну, которая сопровождает души умерших в страну мертвых. Чтобы не заплакать, я смотрел на реку, покрытую пузырьками от дождевых капель. Мы стояли совсем рядом с водой. Неподалеку, где берег еще ниже, мне было видно, как течение реки в излучине подмыло старые могилы. Весь внешний край огромного кладбища рабов весной во время паводка заливало водой. Ивы стояли сейчас далеко от берега, макая в реку свои гибкие ветви с молодыми зелеными листочками. Я подумал о том, что скоро вода доберется и сюда, к этой новой могиле, просочится в землю, где лежит Мив, завернутый в белый саван, заполнит яму, поднимется до краев, вымоет вместе с землей и листвой его косточки и унесет их с собой, а белый саван Мива будет плыть по течению, точно клок дыма… Сэлло сжала мою руку, и я прижался к сестре, чувствуя, что все вокруг рано или поздно вода размоет и унесет прочь — все, кроме моей Сэлло, кроме нее одной. Лишь она останется здесь, со мной.
Глава 3
А потом мы вновь вернулись к повседневным делам, хотя занятия в школе Эверра в тот день отменил. Мы с Сэл подметали дворик перед «шелковыми комнатами», и она вдруг подошла ко мне, взяла меня за руку, и я увидел, что она вся в слезах.
— Ох, Гэв, я все думаю об Око… — с трудом промолвила она. — Если бы я потеряла своего братишку, я бы просто умерла! — И она крепко-крепко обняла меня. Я тоже заплакал, и она, заметив это, еще крепче обняла меня и прошептала: — Ты ведь никогда меня не покинешь, да, Гэв?
И я пообещал:
— Никогда! Ни за что!
— Я слышала твое обещание, — откликнулась она привычной формулой и попыталась улыбнуться.
Мы оба прекрасно знали, чего стоит подобное обещание, если его дает раб, но все же это нас обоих немного успокоило.
Когда мы покончили с уборкой, Сэлло вместе с Рис отправилась в прядильню, а я — на кухню. Там я обнаружил Тиба, и мы с ним неизвестно зачем потащились на задний двор. Увидев там кое-кого из тех больших мальчишек, которые меня топили, я попятился. Кстати, я ведь так толком и не разобрался, кто из них на самом деле помогал Хоуби мучить меня. Но эти ребята заговорили с нами вполне дружелюбно. Они играли в тосс, и один из них кинул мяч мне. Я мог действовать только одной рукой, но все же поймал мяч и вполне благополучно передал другому игроку, а потом отошел в сторонку и стал смотреть, как они играют. Потом один из них спросил:
— А где Хоуби?
Ему ответил парень по имени Тэн:
— У него неприятности.
— С чего бы это?
— Да уж есть с чего. Вот он и подлизывается, — презрительно бросил Тэн и с такой силой послал мяч Тибу, что тот его не поймал. Мяч ловко перехватил другой большой мальчишка и отбил назад. Тэн принял мяч, высоко его подбросил, поймал и вдруг повернулся ко мне. Я знал, что Тэн служит на конюшне и что ему лет шестнадцать или семнадцать. Он был невысокий, худенький и почти такой же темнокожий, как я. — Ты правильно поступил, братишка, — сказал он мне. — Знаешь, Гэв, всегда держись своих и не пытайся искать там, наверху, благодарности или защиты, — Он выразительно посмотрел на окна Аркаманта, выходившие на задний двор, и подмигнул мне. У него было живое умное лицо. Мне Тэн всегда нравился, и я был польщен его ободряющими словами. Доиграв, старшие ребята собрались уходить, и еще один из них, проходя мимо нас, дружески хлопнул меня по плечу — такой жест может показаться пустяком, но на самом деле значит очень много. У меня сразу потеплело на душе; я так нуждался в поддержке. Ведь с самого утра меня преследовали мысли о том, что было сегодня на берегу реки, под серым холодным дождем, среди подавленно молчавших людей.
Тиб убежал на кухню: у него там были еще дела. А мне делать было нечего, идти некуда, и я пошел в класс. И потом, если я какую-то комнату в Аркаманте и считал своей, так это классную. Я очень любил наш класс с его четырьмя высокими окнами, выходившими на север, с изрезанными, выкрашенными в мрачный цвет скамьями, с доской и учительской кафедрой, с книжными полками вдоль стен и стопками тетрадей и грифельных досок на большом столе, с большим стеклянным кувшином, полным чернил, откуда мы отливали чернила себе в чернильницы. За чистоту здесь отвечали мы с сестрой, и классная комната всегда была чисто подметена, повсюду вытерта пыль и так далее. И хотя сейчас в классе тоже царил полный порядок, хотя все там выглядело мирно и опрятно, я принялся переставлять и поправлять книги на длинных полках. Делал я это довольно неловко из-за лубка на большом пальце, часто прерывал свое занятие и открывал какую-нибудь книгу, которую еще не читал. В итоге я сел на пол у книжных полок, открыл «Историю города-государства Требе» Салтока Аспера и принялся читать о долгой войне между Горным Требсом и Карволом, которая завершилась восстанием рабов в Требсе, и город оказался полностью разрушенным. Это была чрезвычайно увлекательная история, и я, совершенно захваченный ею, настолько зачитался, что не заметил, как ко мне подошел Эверра. Я даже подпрыгнул от неожиданности, услышав вдруг его голос.
— Гэвир, что это за книга? — спросил он. Я вскочил, поклонился ему и извинился. Но он только улыбнулся и снова спросил: — Что за книгу ты читаешь?
Я показал.
— Читай, пожалуйста, если нравится, — успокоил он меня. — Хотя, по-моему, для начала лучше прочесть Ашама. Аспер — политик. А Ашам выше политики, он вообще никогда своего личного мнения впрямую не высказывает. — Эверра подошел к своей кафедре, поворошил какие-то бумаги, потом сел на длинноногий табурет и снова внимательно посмотрел на меня.
Я снова принялся расставлять книги по порядку.
— Тяжелый сегодня был день, — грустно сказал Эверра. Я кивнул.
— Меня сегодня вызвал к себе Алтан-ди и попросил ему помочь. Кстати, я узнал кое-что весьма интересное. Возможно, эти новости немного поднимут тебе настроение. — Он провел рукой по губам и подбородку и сказал: — Семья в этом году собирается выехать за город как можно раньше, уже в начале мая. Я, разумеется, тоже поеду вместе со всеми моими учениками, за исключением Хоуби. Отныне он исключен из школы и будет служить под началом Хастера. А Торм-ди получил разрешение остаться в городе и учиться искусству фехтования у настоящего мастера, так что он присоединится к нам лишь в конце лета.
Новостей оказалось слишком много, чтобы мой взбудораженный разум сумел сразу все их переварить. Сперва все затмило, разумеется, обещание долгого чудесного лета за городом, на ферме в Вентайнских горах. Затем я осознал и главное преимущество этой поездки — Хоуби и Торм с нами не едут! И, осознав это, я испытал истинное блаженство, Лишь через некоторое время я сумел посмотреть на это и с другой стороны.
Значит, понял я, Тэн и его приятели, конечно, уже обо всем знали, когда мы встретились с ними на заднем дворе, — новости всегда молниеносно разносятся по всему дому: «У Хоуби неприятности… Вот он и подлизывается…» В общем, никакой награды Хоуби за свою верность Торму не получил; наоборот, он был за это наказан. «Служить под началом Хастера» означало быть посланным в гражданскую трудовую армию, куда каждая Семья выделяла определенное количество своих рабов-мужчин для выполнения наиболее трудных и тяжелых работ по благоустройству города; жили эти рабы в городских казармах, которые, по-моему, были ненамного лучше тюрьмы.
С другой стороны, Торма-то не наказали за убийство маленького Мива! Он, скорее, получил некое вознаграждение, ибо всегда только и мечтал о том, чтобы учиться военным искусствам.
И у меня вырвалось:
— Это несправедливо!
— Гэвир… — попытался остановить меня Эверра.
— Нет, это действительно несправедливо, Учитель! Ведь это Торм убил Мива!
— Он не хотел этого, Гэвир. И будет за это наказан: ему не разрешили поехать вместе со всеми в Венте. Теперь он будет жить не дома, а у своего учителя, мастера фехтования Аттека; дисциплина там весьма суровая, и ему придется строго соблюдать все ее правила. Кстати сказать, все ученики Аттека жизнь ведут тяжелую, питаются достаточно скудно, постоянно тренируются, не получая за свои успехи никаких вознаграждений, кроме постоянного увеличения нагрузки. И все ради того, чтобы совершенствовать свое мастерство. Алтан-ди говорил об этом с Тормом в моем присутствии. Он сказал: «Ты должен наконец научиться владеть собой, сын мой, а у Аттека ты этому научишься непременно». И Торм-ди только поклонился в ответ.
— Но почему тогда Хоуби… Что он такого сделал, чтобы его наказывали?
Мой вопрос застал учителя врасплох.
— Что он такого сделал? — повторил он и выразительно осмотрел меня с ног до головы со всеми моими синяками, шишками и уложенным в лубок большим пальцем.
— Но ведь это… Ведь сама Семья от этого ничуть не пострадала! — Я не знал, как выразить то, что было у меня на душе. Мне хотелось сказать, что если Хоуби наказан за то, что он сделал со мной, то и наказание ему должен был вынести наш народ, его и мой, то есть рабы. Именно поэтому я никому и не сказал тогда, кто именно меня бил и мучил. Это касалось только нас, рабов. К Семье это не имело никакого отношения, да и не было, на мой взгляд, достойно ее внимания. Но если Хоуби наказали за попытку выгородить Торма, пусть даже весьма неуклюжую, то это настолько несправедливо, что Семья наверняка просто ошиблась, просто не поняла, что произошло…
— То, что случилось с тобой, — это отнюдь не случайность, — быстро сказал Эверра, прервав мои безмолвные рассуждения. — Несмотря на то что ты, не желая подводить своего школьного товарища, сказал, что это был просто несчастный случай. Но Хоуби вел себя оскорбительно по отношению ко мне. А я в школе воплощаю авторитет Отца Аркаманта, так что подобная наглость просто недопустима, Гэвир. А теперь послушай-ка меня внимательно; иди сюда сядь рядом.
Эверра отошел к столу, уселся, и я сел с ним рядом, словно мы собирались вместе разбирать новый текст.
— Преданность — великая вещь, — сказал он. — Однако неуместная преданность может стать вредной и даже опасной. Я понимаю, тебя продолжает мучить все это. Да и всех нас это мучает. Смерть невинного ребенка всегда ужасна. Ты наверняка слышал гневные речи и в Хижине, и среди женщин и, слушая их, должно быть, думал: что же это за дом такой? Это ведь не дикая пустыня и не поле брани? И откуда это бесконечное противостояние затаенного гнева, молчаливой ярости и несокрушимой силы? Неужели в этом и заключена истина твоей жизни здесь? Или ты все-таки, как и прежде, являешься членом некоей Семьи, благословляемой предками этого Дома, где каждый человек играет свою собственную, определенную роль и всегда старается поступать по справедливости? — Эверра дал мне минутку, чтобы обдумать его слова, потом продолжил: — Если тебя одолевают сомнения, Гэвир, подними глаза и смотри вверх. Не вниз. Смотри вверх и там ищи подсказки. Сила приходит сверху. Твоя роль в этом Доме связана с самым высоким, что есть на свете, со Знанием. Родившись в дикости, будучи рабом, как и я, и не имея семьи, ты все же был принят в лоно большого дома и обрел все необходимое — кров, пищу. Предков и доброго Отца, который руководит тобой. Мало того, тебе была дана еще и пища духовная, те знания, которые некогда получил и я и которые я смогу впоследствии полностью возложить на твои плечи. Тебе было оказано доверие, Гэвир. Это поистине священный дар. Семья доверяет нам, мой мальчик. Она препоручила мне своих сыновей и дочерей! Чем я могу отплатить за подобную честь? Только своим преданным трудом. И мне бы очень хотелось, чтобы после моей смерти обо мне сказали: «Он никогда не предавал тех, кто верил ему». — Суховатый голос Эверры звучал сейчас почти нежно; он некоторое время молча смотрел на меня. Потом продолжил: — Знаешь, Гэвир, там, позади, в тех диких краях, откуда ты родом, для тебя нет ничего. И на тех зыбучих песках, что зашевелились сейчас у тебя под ногами, ты ничего построить не сможешь. Но посмотри вверх! Там, в той силе, что поддерживает тебя, в той мудрости, что тебе предложена, ты можешь обрести успокоение своему сердцу, только на них ты сможешь полностью положиться. Только там, наверху, ты сможешь обрести богатство и справедливость. И материнское сострадание, которого ты никогда не знал.
А мне казалось, что Эверра говорит о том доме, который некогда привиделся мне во сне: залитый солнечным светом дом, где я чувствовал себя в безопасности, где меня с радостью ждали, где я был свободен. Слова моего учителя заставили меня представить себе этот дом наяву таким, каким он был в моих видениях.
Но, конечно, сказать что-либо я был просто не в силах. Эверра, впрочем, и так обо всем догадался, понял, что я немного успокоился, и ласково потрепал меня по плечу, точно младшего брата, как это сделал и тот парнишка на заднем дворе.
Затем, решив, видимо, что на сегодня чувствительных разговоров довольно, Эверра встал и спросил:
— Ну, давай решать, что бы нам взять с собой на лето из книг?
И я, ни секунды не задумываясь, выпалил:
— Только не Трудека!
Два минувших лета мы провели в городе, поскольку глава Семьи счел ферму недостаточно защищенной от набегов вооруженных банд из соседнего Вотуса, которые давно уже грабили селения, находившиеся в Вентайнских горах. Но теперь неподалеку от Венте армия Этры разбила военный лагерь, оттеснив вотусанов на их собственную территорию, и в горах стало значительно безопаснее.
До сих пор ферма Венте помнится мне как место совершенно чудесное, и при мысли о ней у меня всегда возникает ощущение летнего тепла. Даже приготовления к отъезду были для нас радостно-волнующими, а уж когда мы отправлялись в путь, это выглядело как парад победителей, хоть у нас и не было барабанов и труб. Огромная, вытянувшаяся вдоль дороги процессия, направлявшаяся к Речным воротам Этры и состоявшая из конных повозок, всевозможных фургонов и влекомых осликами тележек, а также сопровождавшая нас вооруженная охрана верхом на лошадях — все это производило на окружающих неизгладимое впечатление. Я уж не говорю о том, что и нас, тех, кто шел пешком, набиралась целая толпа. Повозки, где ехали женщины, девочки и старики, были такими высокими и неуклюжими, что казалось, мост через реку Нисас слишком узок для них. Но конюхи Сим и Тэн, а также все прочие возницы проявляли высочайшее умение и легко проводили наш караван не только по мосту, но и через любое другое препятствие. Копыта лошадей уверенно цокали, и в такт им качались перья на конской сбруе; впереди ехали старшие братья Сотур и Явен на прекрасных лошадках, привыкших ходить под седлом. А повозки и тележки со скарбом, скрипя, тащились следом за нашими «кавалеристами» под бесконечные крики возниц и щелканье кнутов, и, разумеется, какой-нибудь осел непременно останавливался посреди моста и не желал переходить реку. Некоторые рабыни с маленькими детьми тоже ехали в повозках, взобравшись на груду всевозможных вещей и продовольствия, но большая часть рабов шла пешком; мы, дети, страшно гордились тем, что уезжаем за город, и когда люди останавливались, чтобы посмотреть на нашу процессию, Тиб и я махали им, поглядывая на них с неким покровительственным состраданием: им-то, тараканам запечным, придется все лето торчать в раскаленной Этре!
Мы с Тибом вообще вели себя как собаки на прогулке, так что проделывали путь раза в три больше, чем все остальные, без конца бегая из конца в конец растянувшегося по дороге каравана. К полудню сил у нас, естественно, несколько поубавилось, и мы в основном держались возле той женской повозки, где ехали Сэлло и Рис — они обе уже вступали в такой возраст, когда девочкам не годится бегать, высунув язык, вместе с мальчишками. С ними ехала и Око, а также несколько малышей, и женщины с кухни то и дело, добродушно ворча, совали нам с Тибом всякие вкусные кусочки, когда мы, запыхавшись, подбегали к повозке.
Теперь дорога уже шла вверх и вилась среди небольших полей, раскинувшихся по склонам пологих холмов среди дубовых рощ; а впереди уже виднелись округлые зеленые вершины Вентайнских гор. Когда же мы поднялись еще выше, то, оглянувшись, увидели не только окрестные поля и серебристые извивы Нисас, впадавшей в более широкую реку Морр, но и нашу родную Этру, окутанную туманной дымкой, — крыши домов, тростниковые, деревянные или из красной черепицы, и городские стены с четырьмя воротами, над которыми возвышались сторожевые башни из желтого камня. В центре города сразу бросались в глаза здание Сената и купол Гробницы Предков, и мы все пытались отыскать в сплетении улиц и наш Аркамант; нам казалось, что мы видим даже верхушки тех сикомор у городской стены, где мы когда-то маршировали под командованием Торма…
Повозки скрипели все медленнее, лошади напрягались изо всех сил, таща груз вверх по дороге, кнуты так и мелькали у возниц в руках, пестрые верхушки повозок впереди то исчезали в низине, то начинали опасно покачиваться, когда высокие колеса проваливались в колдобины на пыльной дороге. Солнце жарило вовсю, но ветерок, особенно в тени придорожных дубов, был довольно прохладный. Коровы и козы за деревянными оградами пастбищ восторженно провожали глазами нашу процессию; жеребята на ферме знакомого нам коневода удирали при виде наших повозок, смешно выбрасывая заплетающиеся задние ноги, а потом снова опасливо подбегали к изгороди, чтобы еще разок с любопытством глянуть на нас. Вдруг я увидел, что вдоль длинной вереницы повозок и фургонов к нам бежит какая-то девочка; оказалось, что это Сотур, которой удалось улизнуть от родственников, чтобы ехать вместе с Рис и Сэлло. Сотур разрумянилась от возбуждения, вызванного этим проявлением непослушания, и даже стала несколько более разговорчивой, чем обычно.
— Я сказала Матери Фалимер, что хочу ехать в открытой повозке, и она потихоньку меня отпустила; вот я и прибежала сюда. Там, в фургоне, так ужасно тесно и тряско, что малыша Редили даже вырвало. На открытом возке гораздо лучше! — Вскоре Сотур запела одну старую, всем известную песенку; ее нежный сильный голос так и звенел. Сэлло и Рис вторили ей, а потом к ним присоединились и ехавшие в той же повозке кухарки, и те, кто шел рядом или ехал в соседних повозках. В общем, музыка помогала нам, уже немного уставшим, подниматься в Венте.
До фермы мы добрались уже на закате; эти десять миль, отделявшие нас от города, потребовали целого дня пути.
Если оглядываться назад, вспоминая то лето и лета, последовавшие за ним, то кажется, будто глядишь поверх морского простора на какой-то далекий остров, окутанный золотистой дымкой и точно парящий над поверхностью вод, и невольно начинаешь думать: не может быть, что когда-то и ты тоже жил на этом волшебном острове! Однако воспоминания о ферме по-прежнему со мной и по-прежнему ярки и сладостны: запах сухого сена, неумолчный, пронзительный стрекот кузнечиков и цикад в траве на холмах, вкус спелых, нагретых солнцем абрикосов, тяжесть камня в руке, след падающей звезды на бескрайнем летнем небосклоне.
Мы, молодежь, всегда ночевали под открытым небом. Мы все делали вместе — вместе ели, вместе играли. Мы — это Явен, Астано, Сотур, их родственники из Херраманта, а также Сэлло, я, Тиб, Рис и Око. Из Херраманта на ферму приехали худенький мальчик Утер тринадцати лет и его десятилетняя сестра Умо; оба были не совсем здоровы, и их мать, старшая сестра Сотур, привезла их в Венте, надеясь, что горный воздух пойдет им на пользу. А уж малышня на ферме просто кишела — младшие дети Семьи, племянницы и племянники Сотур, а также маленькие рабы с приемными матерями; впрочем, о малышне заботились женщины, и мы в своей деревенской жизни с ними почти не соприкасались. Мы, «старшие», каждый день с утра занимались с Эверрой, а потом на весь долгий и жаркий день обретали полную свободу. Никакой работы здесь для нас не было. Женщины-рабыни, привезенные из города, прислуживали Семье и заботились о поддержании порядка в огромном старом доме; им помогали и постоянные обитатели и хранители поместья, которых тоже было немало. Даже Тиб, который в городе исполнял обязанности поваренка, в сельском доме оказался совершенно не нужен, и его отпустили, так что он учился и играл вместе с нами. Всем остальным на ферме занимались тамошние постоянные обитатели. Жили они в основном в большой деревне у подножия холма, на котором возвышался господский дом; рядом с деревней протекал ручей и была дубовая роща. Деревенские жили своей жизнью, возились с землей, и мы, городские дети, ничего о них не знали, и к тому же нам велели к ним не приставать и не мешать их занятиям.
Это было легко: у нас и собственных дел хватало. С утра до ночи мы исследовали окрестные холмы и леса, бродили по мелким ручьям, брызгаясь водой, строили плотины, совершали разбойничьи налеты на соседские сады, мастерили ивовые свистульки, плели венки из ромашек, строили шалаши и домики на деревьях — в общем, были страшно заняты, болтаясь по всей округе со свистом и пением, точно стая молодых скворцов. Явен, самый старший, какое-то время, естественно, проводил в обществе взрослых, но все же по большей части именно он возглавлял нашу команду, организуя экспедиции в холмы или разучивая с нами какую-нибудь пьесу или танец, чтобы вечером развлечь Семью. Эверра в таких случаях писал для нас сценарий небольшого представления в масках. Астано, Рис и Сэлло учились танцевать и чудесно делали это под аккомпанемент замечательного голоса Сотур и лютни, на которой очень неплохо играл Явен. В общем, мы всем на радость показывали на прохладной веранде настоящие спектакли, используя сенной сарай как задник декорации. Нам с Тибом чаще всего доставались роли комического плана, а иногда мы с ним изображали даже целую армию. Я очень любил репетиции, особенно в костюмах, и то пронзительное напряжение, которое овладевало нами в такие вечера; все мы испытывали примерно одинаковые чувства и, едва успев завершить представление и получить заслуженные аплодисменты зрителей, сразу начинали строить планы насчет нового спектакля и упрашивали Эверру придумать нам сюжет.
Но самым лучшим временем были все же ночи в середине лета, когда после жаркого дня наступала наконец прохлада, с запада прилетал легкий ветерок, а в темном небе где-то на юге погромыхивали сухие грозы. Мы лежали на соломенных тюфяках под звездным небом и разговаривали, разговаривали, разговаривали без конца, один за другим постепенно умолкая и засыпая…
Если вечность характеризуется каким-то временем года, то пусть это будет лето! Самая его середина. Осень, зима, весна — все это время перемен, краткие переходные периоды, а в середине лета год словно останавливается и замирает. Это, конечно, тоже период довольно кратковременный, но даже когда он кончается, сердцем чуешь: лето всегда останется летом.
Хоть у меня и великолепная память, я все же не всегда могу с уверенностью сказать, какое именно из событий связано с теми или иными летними каникулами, которые мы провели в Венте: все они представляются мне одним долгим золотистым днем, который сменяется чудесной звездной ночью.
Про то первое лето я, правда, помню, что чувствовал себя совершенно счастливым, потому что с нами не было Торма и Хоуби. Мы с Сэл часто говорили об этом и удивлялись тому, что даже не понимали до сих пор, насколько подавляло нас враждебное отношение Хоуби, как сильно мы боялись внезапных припадков Торма. А вот о смерти Мива мы с ней говорили редко, хотя именно эта смерть сделала наш страх перед Тормом поистине неотвязным. В общем, вдали от него мы чувствовали себя отлично.
Астано и Явен, похоже, испытывали в его отсутствие не меньшее облегчение. Во всяком случае, вели они себя совершенно свободно. Они были старше нас, они были членами Семьи, но здесь они играли с нами, не оглядываясь ни на возраст, ни на происхождение. Для Явена это было последнее лето в его мальчишеской жизни, и он наслаждался им, прощаясь с детством, не задумываясь о соблюдении правил и приличий. Живой, энергичный, веселый, Явен всегда был полон сил и идей. В обществе Явена, вдали от чопорных женщин Семьи, и его сестра Астано тоже повеселела и осмелела настолько, что именно она впервые предложила нам совершить налет на фруктовый сад нашего соседа. «Подумаешь, они и не заметят, что у них несколько абрикосов пропало!» — заявила она и показала нам короткий путь через дырку в заборе, которую еще не успели заметить сторожа.
Зато сторожа сразу заметили нас и, решив, что это обычные воришки, принялись с криками швырять в нас камнями и палками. Надо сказать, настроены они были весьма решительно, куда решительнее нас с Тибом, когда мы, играя в войну, были вотусанами. Мы с позором бежали, а когда оказались на своей территории, Явен, задыхаясь от смеха, процитировал отрывок из «Моста через Нисас»:
— Какие все-таки они ужасные, эти люди! — воскликнула Рис. Ей едва удалось уйти от здоровенного парня, который преследовал нас до самой границы наших владений, а потом еще и камень бросил вслед Рис, но, к счастью, лишь слегка оцарапал ей плечо. — Скоты!
А Сэлло едва успокоила маленькую Око, которая, естественно, тоже потащилась за нами, но отстала и страшно испугалась, когда мы промчались мимо нее в обратном направлении, преследуемые дождем камней и палок. Око немного приободрилась, только услышав наш смех и нарочито торжественную декламацию Явена. Явен, всегда хорошо чувствовавший настроение малышей, к Око относился с особой нежностью. Он подхватил девочку, посадил ее на плечо и, встав в позу, произнес торжественно:
— И чего это они все такие злые? — воскликнула Астано. — У них же абрикосы с веток падают! Им все равно никогда их все не собрать!
— Ну да, а мы им просто немного помогаем, — усмехнулась Сотур.
— Вот именно! А эти злюки глупо себя ведут.
— А по-моему, нам надо было просто пойти и спросить у сенатора Оббе, нельзя ли нам нарвать у него в саду немного фруктов, — рассудительно заметил тощенький Утер из Херраманта. Я его недолюбливал: он казался мне чересчур законопослушным.
— Фрукты гораздо вкуснее, когда ни у кого разрешения не спрашиваешь, — насмешливо возразил ему Явен.
Я же, по-прежнему тоскуя в душе о наших боевых схватках и засадах под старыми сикоморами в парке, которые столь плачевно закончились, с искренним гневом воскликнул:
— Они же морваны! Трусливые, жестокие, себялюбивые морваны! Неужели же мы, этранцы, станем терпеть их оскорбления?
— Разумеется, не станем! — воодушевился Явен. — Мы намерены и впредь есть их абрикосы!
— А когда они перестают их собирать? — спросила Сотур.
— Вечером, — ответил кто-то. Никто, правда, этого толком не знал; мы как-то не обращали внимания на бесконечную возню тех, кто трудился в полях и в садах; она напоминала нам деятельность пчел, муравьев, птиц или мышей — в общем, каких-то иных существ. Сотур немедленно предложила ночью вернуться в тот же абрикосовый сад и уж на свободе разгуляться как следует. Тиб осторожно предположил, что по ночам в сад, скорее всего, выпускают сторожевых собак. Явен, заразившись моим воинственным настроением, предложил составить план нападения на сады «морванов», но на этот раз провести операцию как полагается, после предварительной разведки; кроме того, он считал, что непременно надо выставить сторожевые посты, а также устроить поблизости оружейные склады, чтобы иметь возможность ответить, если противник откроет артиллерийский огонь, и прикрыть наше отступление.
Так началась великая война между «этранской» семьей Арка и «морванской» семьей Оббе, которая продолжалась — в зависимости от сроков созревания тех или иных фруктов — примерно с месяц. Работники поместья Оббе вскоре прекрасно поняли наши грабительские намерения и тоже, как и мы, стали выставлять дозорных. Только мы-то были совершенно свободны и могли выбирать, когда нанести очередной удар, тогда как наши «враги» были связаны работой. Им приходилось не только собирать фрукты, но и сортировать их, то и дело унося полные корзины, и делать все это под неусыпным оком надсмотрщика, который чуть что пускал в ход кнут, если ему казалось, что они работают слишком медленно или лениво. А мы вели себя как стая птиц — налетят, поклюют и снова улетят. Нам было плевать на тех, кто работает в садах, на их гнев, на их ненависть к нам; мы безжалостно издевались над ними и страшно веселились, когда удавалось совершить особенно удачный налет. Они прекрасно знали, что не все из нашей шайки дети рабов, и это связывало им руки. Если раб, бросив камень, попал бы в кого-то из детей семейства Арка, то всем работающим в саду пришлось бы несладко. Так что им, беднягам, приходилось смирять свой гнев и пытаться отпугнуть нас превосходящей численностью да натравливанием на нас своих злющих дворняжек.
Чтобы как-то сгладить возникшее между сторонами неравенство, ибо «морваны» неизменно оказывались в менее выгодном положении, чем мы, было решено: если они нас увидят, нам придется отступить. Несправедливо, сказала Астано, нагло рвать фрукты у них под носом, зная, что они не могут соответствующим образом нам ответить; красть фрукты следовало незаметно, но только в то время, пока и работники находятся в саду. Это делало игру чрезвычайно опасной и возбуждающей. Теперь в налете участвовали всего двое, которые, собственно, и обчищали деревья, а остальные обязаны были следить за противником и предупреждать налетчиков о его приближении уханьем совы, птичьей трелью или молодецким посвистом. Затем мы удирали, унося наши трофеи — несколько слив или ранних персиков, — устраивались с той стороны амбара, которая выходила к хозяйскому дому, делили добычу и восторженно праздновали победу.
Великие фруктовые войны подошли к концу, когда Мать Фалимер сказала Явену, что дети рабов из нашей деревни были сильно избиты работниками из садов Оббе, поймавшими этих ребятишек за кражей слив. Одному мальчику, по-моему, даже глаз выбили. Больше Мать Фалимер ничего Явену говорить не стала, но он, сообщив об этом нам, сказал, что придется, видимо, прекратить наши налеты. Те детишки, наверное, рассчитывали, что их примут за нас и им удастся уйти безнаказанно, но эта уловка не сработала, и вся ярость работников Оббе обрушилась на них.
Явен, будучи среди нас старшим, для порядка извинился перед нами за то, что, не подумав, увлек нас совершением дурных поступков. Астано, с трудом удерживаясь от слез, поддержала его и сказала:
— Это я виновата, не вы! Никто из вас не виноват. — В общем, Явен и Астано взяли всю ответственность на себя; наверняка они поступили бы так же и будь они взрослыми — Отцом и Матерью своих Домов, обязанными самостоятельно принимать любое решение.
— Ненавижу этих ужасных садовников! — воскликнула Рис.
— Да уж, они повели себя как настоящие скоты, — поддержала ее Умо.
— Морваны вонючие! — прибавил Тиб.
Мы были безутешны. Но, раз мы теперь лишились врага, надо было срочно придумать что-нибудь еще.
— Знаете что, — сказал Явен, — а ведь мы могли бы поставить «Падение Сентаса».
— Только без оружия, — очень тихо и нетребовательно заметила Астано.
— Ну конечно без оружия. Я имел в виду настоящий спектакль, на сцене.
— А как?
— Ну, сперва нам, естественно, придется Сентас построить. Мне тут как-то пришло в голову, что вершина вон того холма, что за восточным виноградником, очень похожа на крепость. Там еще — помните? — повсюду такие огромные камни валяются, так что будет нетрудно построить и крепостную стену, и ров вырыть, и земляной вал сделать Кстати, Эверра, по-моему, взял с собой книгу «Осада и падение Сентаса», так что планы крепостных сооружений можно, наверное, прямо там посмотреть. Затем надо распределить роли — например, Око могла бы быть генералом Туром, а Гэв сумеет произнести речь не хуже любого посланника, ну а Сотур, по-моему, годится на роль прорицательницы Юрно… Сражения мы, конечно же, изображать бы не стали — это просто смешно. Только переговоры.
Пока что все это звучало не слишком увлекательно и особого энтузиазма среди нас не вызвало, однако все мы следом за Явеном потянулись на вершину того холма. Явен так носился среди нагромождения огромных каменных глыб и с таким воодушевлением расписывал нам, где именно можно построить стену, а где вырыть крепостной ров, что идея строительства постепенно начала захватывать и наши души. Потом Явен выпросил у Эверры на время эту книгу и зачитал нам несколько отрывков оттуда, и наше воображение окончательно воспламенилось под воздействием этой великой эпической поэмы, посвященной одному из самых трагических эпизодов нашей истории. Роли себе мы выбрали сами — и все, разумеется, оказались жителями Сентаса, сентанами. Никто не хотел становиться захватчиком из Пагади, армия которого и осадила Сентас, — даже их великим генералом Туром или знаменитым героем Руреком. Хотя именно город-государство Пагади выиграл тогда войну и полностью разрушил осажденный Сентас. Даже теперь, несколько столетий спустя, на месте великолепного Сентаса был всего лишь жалкий городишко, окруженный полуразрушенными стенами, свидетельницами его былой славы. Обычно мы, разумеется, были на стороне победителей, но сейчас, собираясь строить приговоренный к смерти Сентас, мы всей душой болели за этот город и твердо намерены были погибнуть с ним вместе.
Весь остаток того лета мы строили Сентас и по мере сил и возможностей старались воплотить в своем строении и славу этого города, и причину его падения. Строить крепость на вершине холма, покрытого редкой колючей травой, оказалось нелегко, особенно под беспощадно палившим с небес солнцем, когда нигде не было тени, чтобы укрыться, разве что под теми стенами и башнями, которые мы сами же и возводили. Младшие девочки, Око и Умо, неустанно бегали вверх и вниз по склону холма, нося нам воду из ручья, а мы, остальные строители, только потели и ворчали, грозно ругаясь, когда тот или иной камень не желал вставать на место или выскальзывал из рук и попадал по пальцу. Наших маленьких водонош мы всегда приветствовали радостными криками и похвалами. Изящные ручки Астано стали грубыми и покрылись ссадинами. Мать Фалимер даже сказала, что они напоминают ей лошадиные копыта, но ругать дочку не стала, только улыбнулась. Она даже несколько раз выходила из дома и поднималась к нам на Холм Сентаса, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Явен и Астано показали ей шедевры нашего зодчества — Восточные ворота, Башню Предков и крепостной вал. Очень прямая, в легких летних одеждах, нежно улыбаясь всем, Мать Фалимер слушала и одобрительно кивала. Я видел, как ее рука порой слегка, почти застенчиво, касалась плеча высоченного Явена, и чувствовал в этом жесте острую тоску по сыну, хотя и не понимал, чем она вызвана. По-моему, Мать Фалимер радовалась нашей радости и от всей души хотела, чтобы эту радость не затмили никакие горькие мысли — ни о прошлом, ни о грядущих днях.
Эверра тоже часто поднимался к нам на холм, проверяя, насколько соответствуют схемам из его книги намеченные нами планы строительства и расположение зданий; и мы, конечно же, каждый раз уговаривали его остаться и почитать нам немного, пока мы отдыхаем от бесконечного строительства — возведения каменных стен и копания рва, Эверра соглашался, говоря, что этот замечательный урок, безусловно, пойдет всем нам на пользу. Он с таким энтузиазмом относился к нашему увлечению зодчеством, что, пожалуй, даже немного надоедал нам своими педантичными требованиями тут улучшить, там исправить. Однако к полудню он обычно начинал чувствовать себя неважно из-за жары и возвращался в дом, а мы оставались на обдуваемом горячим ветром раскаленном холме и продолжали ворочать камни, воплощая свою мечту в жизнь.
Все эти месяцы в огромном сельском доме хозяйничали в основном женщины и дети. Отец Алтан был вынужден оставаться в Этре, потому что заседания Сената происходили почти ежедневно. А вот Сотер, старший брат нашей Сотур, довольно часто навещал гостивших в Венте жену и детей, приезжая туда верхом, и даже иногда ночевал, но другой старший брат Сотур, Содера, юрист, тоже все время торчал в городе; его держали там «целые сундуки документов», как выражалась Сотур. Из мужчин на ферме постоянно оставался только двоюродный дедушка Явена, Херро Арка, которому было уже за девяносто и он все время сидел в тени под развесистым дубом. В общем, большую часть времени наш Явен был, по сути дела, единственным мужчиной в доме, хотя роль «настоящего хозяина» ему явно была не по душе.
Среди слуг в доме было несколько умельцев, мастеров на все руки, но все они были уже стариками и по-настоящему почти не работали. Основные заботы легли на плечи женщин. Они привыкли вести хозяйство в отсутствие самих хозяев и были более независимыми как в действиях, так и в поведении, чем городские служанки-рабыни. Да никто здесь особенно и не следил за тем, кто на какой ступеньке общественной лестницы стоит. Все и так шло как по маслу безо всяких там формальностей и строгостей, столь свойственных той жизни, которую мы вели в Аркаманте, — без скрипа, без напряжения, без ненужных сложностей. Когда Мать Фалимер захотела сварить сливовое варенье именно так, как это делали когда-то в ее детстве в Галлекаманте, то никакой особой суеты, никаких поклонов и тщательного выскребания кухни, как это непременно было бы в Аркаманте, не возникло. И никто втихомолку не фыркал презрительно по поводу того, что хозяйка вторглась на чужую территорию. Старая Акко, наша главная повариха, просто встала рядом с Фалимер-йо, как встала бы возле любой своей ученицы, и направляла ее действия, и даже замечания ей делала, и никто ни на кого не обижался. А малышня и вовсе была как бы общей собственностью; женщины-рабыни, разумеется, заботились о детях Семьи, но и наша Мать Фалимер, и жены Сотера и Содеры тоже не гнушались присмотреть за ребятишками рабов, и весь этот «горох» так и катался повсюду; детишки ползали, налезали друг на друга, а потом падали и засыпали, свернувшись клубком и положив друг на друга кто голову, а кто ногу, точно котята.
Ели мы на улице за большими столами, стоявшими в тени дубов возле кухни, и, хотя там, разумеется, имелся «стол Семьи» и «стол рабов», садились все отнюдь не всегда в соответствии с этим правилом. Эверра, например, обычно сидел за «семейным» столом по приглашению Матери и Явена, а Сотур и Астано, сами себя пригласившие, садились вместе с Рис и Сэлло за наш стол. Различия между нами тогда были связаны не столько с положением в обществе, сколько с возрастом и дружеской привязанностью. Эта легкость и простота в общении были, наверное, определяющими в той счастливой жизни, которую мы вели в Венте. Но все изменилось — не могло не измениться! — когда приехал Отец, чтобы провести с нами последние несколько недель лета, и привез с собой обоих своих племянников и Торма.
В первый же вечер мы почувствовали, что их приезд не сулит нам ничего хорошего. Теперь за «семейным» столом было полно мужчин. И все женщины и девочки, принадлежавшие Семье, тоже пересели туда, одетые как полагается и выглядевшие куда более похожими на настоящих дам, чем в течение всего лета. Когда говорили мужчины, они хранили скромное молчание. Меггер и те слуги, которые приехали вместе с мужчинами из города, сидели вместе с нами, но разговаривали только друг с другом. Эверра теперь тоже сидел с нами и молчал. Если же кто-то из нас, детей, осмеливался заговорить, то бывал тут же остановлен хмурыми взглядами.
Обед подавали с соблюдением всех правил приличия, и все это продолжалось ужасно долго, а после обеда дети Семьи — Явен, Астано, Сотур, Умо и Утер — ушли в дом вместе со взрослыми.
Мы же, пятеро детей-рабов, остались снаружи и бродили поблизости, совершенно безутешные. Было слишком поздно идти на холм к Сентасу, и Сэлло предложила прогуляться по дороге мимо деревни, прилегавшей к поместью. и посмотреть, не созрела ли черная смородина в зелень в изгородях. Некоторые из деревенских детей заметили нас и, прячась за разросшимися кустами смородины, стали кидаться камнями — не очень большими, всего лишь галькой, но, наверное, у них были рогатки, потому что даже такой камешек, попав в тебя, жалил очень больно и оставлял темный синяк. Бедная маленькая Око! В нее попали почти сразу, она пронзительно вскрикнула и стала уверять всех, что ее ужалил шершень. А потом и всех нас стали «жалить шершни». Мы видели эти снаряды, вылетавшие из-за изгороди, а потом мельком увидели и самих нападающих. Один из них, уже почти взрослый парень, подскочил и так сердито завопил на своем странном, почти непонятном наречии, что мы бросились бежать. Не смеясь, как когда бегали от преследовавших нас садовников, а испугавшись по-настоящему. Тем более что сумерки уже начинали сгущаться, а спинами мы чувствовали прямо-таки волну ненависти.
Когда мы вернулись на ферму, Око и Рис расплакались от боли и обиды. Сэлло успокоила ревущую Око, мы промыли полученные ссадины и уселись на набитых сеном тюфяках, любуясь высыпавшими на небе звездами. Но разговор не клеился.
— Они увидели, что с нами не было никого из детей Семьи, — сказала Сэлло.
— Но за что же они нас так ненавидят? — проныла Око.
Но никто не смог ей этого объяснить.
— Может быть, потому, что мы можем делать много такого, чего им нельзя, — сказал я.
— А еще потому, что их отцы нас ненавидят, — прибавила Сэлло. — За наши фруктовые войны.
— Я тоже их ненавижу! — воскликнула Рис.
— И я, — подхватила Око.
— Грязные деревенские свиньи, — сказал Тиб, и я, испытывая столь же яростное презрение, почувствовал одновременно и слабое, почти нежное отвращение к самому себе из-за того, что заставляю себя разделять подобные предрассудки и презирать то, чего на самом деле боюсь.
Мы довольно долго молчали, глядя, как звезды выплывают из-за черных дубовых крон и крыш.
— Сэлло, — прошептала Око, — а что, он и спать с нами будет?
Она имела в виду Торма. Око до ужаса его боялась. Она ведь видела, как он убил ее брата.
Под выражением «спать с нами» Око подразумевала, естественно, что и Торм уляжется вместе с нами на соломенный тюфяк под открытым небом, как в течение всего лета это делали мы все, в том числе и дети Семьи.
— Вряд ли, малышка, он этого захочет, — сказала ей Сэлло своим тихим нежным голосом. — Я думаю, никто из них сегодня вообще не придет. Им придется остаться в доме и вести себя, как полагается детям из порядочной Семьи.
Но, проснувшись на рассвете, когда в светлеющих небесах уже таяли зимние звезды, я увидел, как Астано и Сотур, вскочив со своих тюфяков и завернувшись в легкие одеяла, босиком, крадучись, возвращаются в дом.
В то утро дети Семьи вышли из дома гораздо позже, чем обычно. Мы еще не успели решить, стоит ли нам идти на Холм Сентаса без них, когда они наконец появились и Явен крикнул:
— Пошли скорей! Чего это вы тут расселись?
Торма с ними не было. А девочки были одеты как всегда — в такие же, как у нас, длинные рубахи-туники поверх весьма потрепанных и насквозь пропыленных штанов.
Мы отправились на холм, и Явен, подхватив Око, посадил ее себе на плечи.
— Ну что, храбрая наездница, — сказал он ей, — правь своим свирепым жеребцом! Пусть он несет тебя к высоким стенам и неприступным воротам Сентаса! Вперед! — Око слабо пискнула, что должно было изображать военный клич, Явен заржал, как конь, и галопом помчался по тропе. Мы все бросились за ним.
Выражение «прирожденный вожак» весьма распространенное. Я полагаю, многие люди по природе своей являются таковыми; существует множество способов руководить другими и множество целей, к которым можно кого-то вести. И первый такой прирожденный вожак, которого я знал, был юношей семнадцати лет, звали его Явен Алтантер Арка, и впоследствии я всех подобных людей всегда сравнивал именно с ним. Такой тип людей характеризуют прежде всего личная притягательность, обаяние, живой ум и безусловная способность брать любую ответственность на себя. Есть и еще кое-что, но это определить уже гораздо труднее: некое напряжение, возникающее между чувством справедливости и состраданием; напряжение это никогда не удается устранить, опираясь лишь на одно из этих чувств, а потому устранить его вообще почти невозможно.
В данный момент Явен как раз и разрывался между верностью своим преданным «сентанам» и необходимостью оказывать поддержку и защиту своему младшему брату. Ближе к полудню, когда пришло время послать кого-то на кухню за хлебом и сыром или чем-то еще, что могли предложить нам на завтрак, Явен вдруг предложил:
— Я сам схожу. — И вернулся с целым мешком еды. И… с Тормом.
Как только Око увидела, что Торм поднимается на холм, она тут же спряталась, присев на корточки за грудой камней у задней стены недостроенной Башни Предков. А потом Сэлло потихоньку увела ее вниз к ручью, бежавшему у подножия холма.
Явен показал Торму все наши сооружения, стену, земляной вал и ров, объясняя, насколько они соответствуют реальному историческому плану города, и рассказал ему о тех сценах, которые мы собираемся поставить, когда закончим строительство и будем готовы и к осаде Сентаса, и к его падению. Торм охотно ходил за ним по территории крепости, но говорил мало и казался каким-то напряженным, словно чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Впрочем, он все же сказал несколько слов похвалы в адрес наших оборонительных сооружений — стены и рва, наивысших наших достижений.
Разумеется, строения наши, попросту сложенные из камней, были маленькими и весьма шаткими и нужно было смотреть очень пристрастно, чтобы увидеть в них достаточно сходства с башнями и воротами настоящего города, но ров, вырытый нами, был хоть и небольшим, но, безусловно, настоящим. Мы окружили вершину холма частоколом и рвом с отвесными стенами, а вырытую землю подгребли к внутренней стороне частокола, чтобы защитникам крепости было удобнее отражать атаки неприятеля. В саму крепость можно было попасть только по длинному мосту шириной в одну доску, перекинутому через ров и ведущему к единственным воротам. Торм по-прежнему в основном помалкивал, но, по-моему, его впечатлил объем проделанной нами работы.
— Вот, — говорил Явен, — я, например, начну внезапный штурм… Защитники Сентаса, на стены! К воротам! Враг наступает! Защитим наши дома! — И он немного спустился с холма, а мы пока закрыли ворота и уложили в гнезда огромный деревянный засов; потом мы вскарабкались на скользкую насыпь внутри частокола и на шаткие каменные стены самой «цитадели», и Явен «с атакующим войском» двинулся вверх по склону холма. Когда «враг» пересек ров по мосту, мы с возмущенными воплями принялись осыпать его дождем невидимых стрел и копий. Явен сперва с силой барабанил в ворота, затем вдруг осел на землю и сделал вид, что умирает у нас на глазах, — и все это под наши радостные кличи.
Торм смотрел на нашу игру, не участвуя в ней, но заинтересованно; похоже, даже он заразился нашим воодушевлением.
Мы открыли ворота, впустили Явена внутрь, а затем все вместе устроились в жалкой тени и принялись за принесенную им еду. Сотур, правда, незаметно ускользнула: она хотела отнести немного Сэлло и Око, притаившимся у ручья.
— Ну, как тебе наш Сентас? — спросил Явен у брата.
— Очень хорошо получилось, — сказал Торм. — Просто отлично. — Голос у него окреп и стал очень похож на голос Отца Алтана. — Вот только… как-то все же глупо получается: бегаете без оружия, с пустыми руками… — И Торм изобразил, как мы понарошку натягиваем тетиву, вкладываем стрелу и стреляем.
— Да, наверное, для тебя это выглядит немного глупо. Ты ведь все лето имел дело с настоящим оружием, — сказал Явен как всегда спокойно, без тени зависти.
Торм снисходительно кивнул.
— Но это же просто игра! Хотя благодаря этой игре Эверра полностью освободил нас от уроков, — сказал Явен. Так оно и было. Эверра давно уже перестал делать вид, что у нас продолжаются занятия, когда строительство Сентаса развернулось вовсю. Он убедил Мать Фалимер — и себя самого, — что на самом деле это исключительно его идея, этакий своеобразный педагогический прием, чтобы мы как можно лучше выучили не только сам текст поэмы, но и как можно больше узнали об истории войн между Пагади и Сентасом и о том, что такое оборонительные сооружения.
— Если бы вы обошлись без вон тех, — и Торм мотнул головой в нашу сторону, — то могли бы обзавестись и мечами, и луками. И тогда нас было бы шестеро.
— Но ведь оружие все равно было бы игрушечным, — возразил ему Явен после секундной паузы. — Не такое, как то, которое изучаешь ты. Ха! Да я ни за что не дал бы Сотур даже игрушечный меч с острым концом! Она же и таким в один миг мне кишки выпустит! Я и охнуть не успею!
— Но ведь рабам давать оружие нельзя, — сказал Утер, не понявший, что значит «вон те». Утер вечно цитировал всевозможные законы, правила и запреты, вечно всех поучал, так что Сотур даже прозвала его Трудеком. — Это противозаконно.
Торм нахмурился и промолчал. А я быстро посмотрел на Тиба, который сразу так весь и съежился — видно, вспомнил, как нам попало, когда мы играли в войну, а Торм нами командовал. Я заметил также, что и Явен обменялся взглядами со своей сестрой Астано. «Помоги найти какой-нибудь выход!» — говорил его взгляд, и она помогла, причем очень быстро, как это умеют только женщины: заговорив очень эмоционально и как бы о другом:
— А мне совершенно не хочется даже игрушечным оружием пользоваться! Мне, например, даже нравится, что у нас и луки, и стрелы воображаемые. Из таких я уж никогда не промахнусь! И они никому не причинят вреда. К тому же со времени тех сражений уже несколько столетий прошло, верно? И вообще, нам еще нужно успеть придумать речи всех эмиссаров, а мы столько времени на один только ров потратили, ужас! Да и Башня у нас пока не слишком-то хорошо держится. Зато камни вполне настоящие. Ах, Торм, если б ты знал, каково это, целый день таскать их да укладывать! Нам даже самые маленькие помогали, Умо и Око. И теперь мы все себя сентанами считаем.
В общем, Астано сражалась с помощью своего, женского оружия, но, как и у нас, ее главным желанием было во что бы то ни стало защитить город, который мы вместе строили все лето, придуманный нами город, весь пронизанный солнечным светом и сухим горным воздухом.
Торм только плечами пожал, продолжая молча жевать хлеб с сыром. Потом он спустился к ручью, чтобы напиться, и мы увидели, как Сэлло, Око и Сотур нырнули в высокую траву на берегу, прячась от него. Но Торм не обратил на них ни малейшего внимания. Напился, выпрямился, махнул Явену рукой, что-то крикнул и в полном одиночестве зашагал, размахивая руками, назад к дому по белой тройке мимо виноградника, крепкий, коренастый, совершение отдельный от нас.
Мы какое-то время еще занимались строительством, однако настроение было уже не то, и на вершину холма точно черная тень упала.
Мы и до конца лета почти каждый день ходили строить Сентас, но прежнего вдохновения как не бывало. Да и потом детей Семьи часто отзывали — Явен, Торм и Утер ездили на охоту вместе с Алтаном-ди и его богатыми соседями а девочки в это время развлекали дома соседских жен. Сотур и Умо, страстно увлекшиеся нашей крепостью-мечтой, при любой возможности манкировали подобными обязанностями и сбегали из дома к нам, но Астано, уже почти взрослая, уйти никак не могла, а без нее и особенно без Явена у нас ничего не клеилось — нам не хватало вожака, не хватало его энергии и убежденности.
Впрочем, и других радостей, связанных с летним отдыхом в Венте, оставалось еще немало — мы плавали, бродили по ручьям, начали созревать смоквы (которые нам не нужно было красть, потому что смоковницы росли сразу за большим домом), а по вечерам мы, как и прежде, подолгу беседовали под звездным небом, прежде чем уснуть. А еще напоследок мы устроили себе настоящий праздник. Это был просто великий день счастья. По предложению Астано мы отправились в пеший поход на вершину одной из Вентайнских гор. Путь был неблизкий, за день туда и обратно не обернешься, так что мы взяли с собой еду и воду, а также одеяла на случай ночевки. Нас сопровождал один из деревенских мальчишек с вьючным животным, похожим на осла, на которого мы и погрузили свои пожитки.
Мы вышли в путь очень рано, еще до восхода солнца; в воздухе уже чувствовались сырость и прохлада, предвестники наступающей осени. Сухая трава на холмах выгорела и стала бледно-золотистой, да и тени стали длиннее, чем в середине лета. Мы все поднимались и поднимались по старой тропке, протоптанной пастухами, которая вилась среди больших округлых холмов. Повсюду мы видели пасшихся на склонах овец, которые совершенно нас не боялись, смотрели с любопытством и громко, вызывающе блеяли, словно вызывая нас на поединок. Здесь не было никаких оград, поскольку горные овцы и без того держатся своих пастбищ, им не нужны ни ограды, ни пастухи. Между стадами бегали огромные серые пастушьи собаки, охранявшие овец от волков. Эти собаки не обращали на нас никакого внимания, если мы просто шли мимо, но стоило нам остановиться, и какой-нибудь пес тут же вставал и начинал медленно к нам приближаться, всем своим видом говоря: «Ступайте себе, куда шли, и все будет хорошо». И мы, разумеется, тут же шли дальше.
Торма и Утера с нами не было. Они предпочли охотиться в сосновом лесу на волков вместе со своими дядьями Сотером и Содерой. Но малышки Око и Умо отправились в поход вместе со всеми. Умо, хоть ей и было уже десять лет, была ненамного крупнее шестилетней Око, и обе девочки, хоть и спотыкались то и дело, вели себя мужественно и старались не отставать. Явен время от времени подносил Око на плече, а во время последнего, особенно долгого и довольно крутого подъема, когда день уже склонялся к вечеру, мы сняли со спины нашей ослицы — во всяком случае, мне это животное казалось именно ослицей — припасы и одеяла и усадили обеих младших девочек в седло. Ослица была очень симпатичная, серенькая, как мышка. Я тогда понятия не имел, что такое «лошак», хотя ослица действительно, пожалуй, была похожа на маленькую лошадку. Сотур объяснила, что если ее отец был ослом, а мать лошадью, то она считалась бы мулом, но поскольку у нее мать — ослица, а отец — жеребец, то это лошак. Тот деревенский мальчик, что шел вместе с нами, слушал объяснения Сотур с каким-то тупым и одновременно сердитым выражением лица, которое мы и раньше видели на лицах здешних крестьян.
— Я ведь правильно объясняю, да, Коуми? — обратилась к нему Сотур. Он как-то странно дернул головой и отвернулся, еще больше нахмурившись. — Все зависит от того, кто были твои предки, верно, Мышка? — сказала Сотур ослице, или лошаку.
Мальчик Коуми потянул за повод, и Мышка покорно двинулась дальше, Око и Умо так и вцепились в седло, чуть испугавшись, но ликуя, ибо теперь ехали верхом. Груз мы разделили на всех, и он был совсем не тяжелый, мы, конечно же, легко могли бы нести его и весь день. Но радости нашей все же не было предела, когда мы наконец добрались до вершины самого высокого из окрестных холмов и решили прекратить подъем. Невозможно было оторвать взгляд от великолепного вида, который оттуда открывался; со всех сторон нас окружал залитый солнцем простор; бледно-золотые дали у горизонта отливали синевой; длинные августовские тени лежали в складках окрестных холмов. А где-то далеко за этими просторами была Этра, казавшаяся сейчас совсем крошечной и какой-то нереальной. Повсюду виднелись деревушки и отдельные фермерские домики, приткнувшиеся по берегам ручьев и вдоль реки Морр, а Явен, обладавший орлиным зрением, сказал, что различает даже стены Казикара и сторожевую башню, хотя я, например, сумел разглядеть только какое-то неясное пятно в глубокой излучине реки Морр. Дальше на восток, а также к югу земля была холмистой, но к западу и к северу пространство было почти ровным и как бы расширялось, гигантскими расплывчатыми уступами спускаясь к горизонту, где свойственный ему зеленый цвет бледнел и начинал отливать синевой.
— Это Данеранский лес, — сказал Явен.
— Это Болота, — возразила Астано, а Сотур спросила:
— Это ведь оттуда вы с Гэвом родом, да, Сэл?
Сэлло стояла рядом со мной; мы долго смотрели в ту сторону. От созерцания этой бескрайней пустоты, за пределами которой раскинулась неведомая страна, где мы с сестрой когда-то родились, душу мою охватило какое-то странное, пронзительное, леденящее и одновременно восторженное чувство. Я знал о людях с Болот только то, что они живут не в городах, что они «совершенно не цивилизованные», что они «варвары и дикари». А ведь и у нас с Сэл где-то там были настоящие предки, как у всех свободных людей. Мы тоже были рождены свободными. Тревожно, мучительно было думать об этом. Да и бесполезно. Какое все это имеет отношение к моей теперешней жизни в Этре, к нашей Семье, к Аркаманту?
— А вы хоть чуть-чуть помните Болота? — снова спросила Сотур.
Сэлло покачала головой, а я, сам себе удивляясь, вдруг заявил:
— Иногда, по-моему, я кое-что вспоминаю.
— А какие они?
И я, чувствуя себя полным дураком, принялся рассказывать ей о своем простеньком детском видении.
— Там повсюду вода и тростники… Тростники тоже растут в воде, и из них возникают такие маленькие острова… А вдалеке виднеется красивый голубой холм… Может даже, вот этот, на котором мы сейчас стоим.
— Ну что ты говоришь, Гэв! Ты же тогда совсем маленьким был, — сказала Сэл, и в голосе ее едва слышно прозвучало предостережение. — Мне, наверно, уже года три было, и то я ничего не помню.
— Не помнишь даже, как вас украли? — Сотур была явно разочарована. — Это было бы так интересно!
— Я помню себя только уже в Аркаманте, Сотур-йо, — мягко сказала Сэл, и в голосе ее прозвучала улыбка.
Мы устроили настоящий пир, расположившись на тонкой сухой траве, покрывавшей вершину холма, и ели, глядя на великолепный закат, в котором нестерпимым блеском отражались воды далекого океана. Мы долго сидели так и никак не могли наговориться, и беседа текла столь же легко и непринужденно, как в прежние, счастливые деньки этого долгого лета. Малыши в итоге уснули. И Сэлло тоже задремала, положив голову мне на колени. Рис принесла одеяло, и я бережно укрыл им сестру. На небе замигали первые звезды. Деревенский мальчик Коуми, весь вечер просидевший в отдалении и слегка отвернувшись от нас, вдруг запел. Сперва я даже не понял, что это пение, — звук был такой тонкий, странный и печальный, что больше походил на то дрожание в воздухе, какое долго еще сохраняется после того, как ударишь в колокол. Это странное пение становилось то громче, то затихало…
— Спой еще, Коуми, — прошептала Сотур, когда он «молк. — Ну, пожалуйста!
Коуми так долго молчал, что мы уж решили больше к нему не приставать, ибо петь он все равно ни за что больше не будет. Затем тот же слабый, дрожащий, нежный звук возник снова. Голос Коуми точно прял тончайшую музыкальную нить, невнятные обертоны которой уловить порой было почти невозможно. Мелодия была невыразимо печальной, но в то же время странно безмятежной, лишенной тревоги. А когда эти звуки опять замерли вдали, мы еще долго прислушивались, мечтая, чтобы они вновь к нам вернулись.
Теперь на широкой вершине холма воцарилось полное безмолвие. Блеск звезд стал ярче той, почти померкшей сине-бронзовой полосы, что еще светилась где-то далеко внизу, на западе.
Ослица — или лошак? — вдруг принялась топать ногами и так забавно фыркать, что мы засмеялись; потом мы еще немного поговорили вполголоса, а потом легли спать.
Глава 4
Следующие года два прошли без особых волнений. Мы с Сэл продолжали, как всегда, мести полы и дворики и каждый день ходили в школу. Хоуби никто даже не вспоминал, Даже Тиб; по-моему, по нему в доме особенно не скучали. Торм, по-прежнему душой и телом преданный своей главной мечте, увлеченно постигал искусство владения клинком. Дома и в классе он всегда выглядел насупленным и Надменным, впрочем, был на редкость послушен, а когда Раза два чуть снова не вышел из себя, раздраженный чем-то во время урока, то просто извинился и вышел в коридор. Явена мы почти не видели: он был призван в армию. В тот период Этра ни с кем никакой войны не вела, и молодые офицеры, вроде Явена, проходили обучение на плацу, а порой их отправляли в дозор на границу. Время от времени Явена отпускали домой, и он всегда был веселым, подтянутым и в прекрасном настроении. Два лета подряд мы ездили в Венте, но и там ничего особенного не происходило. Летние дни, как обычно, тянулись в лени и счастливой безмятежности. Явен с нами не ездил. В первое лето у него были армейские учения, а во второе он сопровождал своего отца, отправившегося с дипломатической миссией в Галлек. Торм тоже на ферму не приезжал, все лето проводя в своей фехтовальной школе. Так что вожаком нашим стала Астано.
В первый же вечер она повела нас на холм, к выстроенному нами Сентасу, и мы испытали настоящее потрясение, увидев там одни руины. Мы были прямо-таки убиты горем. Еще бы! Ров заплыл илом во время зимних дождей, насыпь за частоколом совсем расползлась, сам же частокол в некоторых местах был повален, а с таким трудом сложенные нами из камня Башня Предков и Ворота были развалены и разбиты, но отнюдь не непогодой, а какими-то злодеями.
— Ох уж эти вонючие крестьяне! — ворчал Тиб. Ворчать он теперь мог по-настоящему, почти что басом. Мы потерянно бродили вокруг разрушенной крепости, испытывая одни и те же чувства — ненависть и смешанное со стыдом презрение к деревенским рабам. Они ведь были такими же, как мы, но бросали в нас камни, а теперь еще и разрушили город нашей мечты! Надо сказать, что Астано и Сотур проявили должное мужество и объяснили нам, что мы легко сумеем восстановить частокол и Башню, так что можем прямо сейчас, в сумерках, начать собирать для нее камни. В общем, в дом мы вернулись уже затемно, вытащили на улицу свои тюфяки и улеглись, энергично обсуждая планы восстановления нашего Сентаса.
— А знаете, хорошо бы, нам удалось и кое-кого из них тоже привлечь к работе, — сказала Сотур. — Если они станут нам помогать, то, возможно, перестанут так ненавидеть и нас, и нашу крепость.
— Фу! — воскликнула Рис. — Не желаю я, чтобы эти вонючки тут торчали!
— Я тоже считаю, что деревенским нельзя доверять, — согласился с ней Утер, который стал теперь, пожалуй, менее тощим и костлявым, зато еще более чопорным.
— Тот мальчик с ослицей, которую вы называли «лошаком», был ничего, — возразила Утеру его сестра Умо.
— Коуми. — подсказала Астано. — Да, хороший мальчик. А помните, как он пел?
Мы примолкли, вспоминая тот золотистый, загадочный вечер на вершине высокого холма.
— Придется, наверное, у деревенского старосты спросить, — деловито сказала Астано, обращаясь к Сотур, и они быстренько обсудили, возможно ли заполучить себе в помощь кого-то из деревенских, ведь тогда их придется освободить от других работ.
— А если мы скажем, что им надо кое-что для нас сделать? — предложила Сотур, и Астано откликнулась:
— Ну да, конечно! Это ведь действительно очень тяжелая работа. Мы и сами ее в поте лица выполняли. Особенно когда этот проклятый оборонительный ров копали! Без Явена мы бы ни за что не справились!
— Только теперь все будет совсем по-другому, — осторожно заметила Сотур. — Приказывать кому-то придется…
— Это верно, — согласилась Астано.
И на этом вопрос был закрыт. Больше идея об использовании деревенских детей не возникала.
Мы сами восстановили Сентас, пусть и не совсем хорошо и не в полном соответствии с тем планом, соблюдения которого требовали от нас Явен и Эверра. А когда крепость была восстановлена, мы самостоятельно провели обряд очищения, причем не понарошку, а так, как описано в поэме Гарро. Нашу процессию, совершавшую торжественный круг внутри частокола, возглавлял сам Эверра в качестве верховного жреца; он же зажег в цитадели священный огонь. И потом мы все лето ходили на этот холм — то все вместе, то по двое, то поодиночке, — испытывая одно и то же чувство: этот холм, несмотря на все богатство окрестных лесов, холмов и ручьев, стал для нас самым дорогим местом, нашей крепостью, нашим убежищем.
Помимо восстановления Сентаса никаких выдающихся проектов мы в то лето не осуществили; поставили, правда, несколько танцевальных спектаклей, но, насколько я помню, Тиб и я по большей части либо плавали в озерах под сенью ив и ольховин, либо лениво бродили по тенистым тропинкам и болтали обо всем на свете. А порой мы с ним отправлялись в долгие, но не имевшие никакой конкретной цели экспедиции в южную часть леса. К тому же каждый день до полудня у нас были занятия с Эверрой, а Рис и Сэлло после обычных уроков еще и довольно часто занимались музыкой вместе с Сотур и Умо, для которых учителя музыки и пения специально привезли из Херраманта. Маленькая племянница Сотур, Утте, которая выросла из разряда «малышни», теперь тоже повсюду ходила с нами, находясь под особой опекой Око. А порой мы и малышню брали с собой к ручью и смотрели, как детишки с удовольствием плещутся в воде, вопят и визжат, а потом засыпают, уставшие, прямо на берегу и спят в течение нескольких особенно жарких полуденных часов.
Тетушка Сотур и Мать Фалимер тоже часто ходили с нами на ручей, а иногда даже купались вместе со старшими девочками, и тогда Утера, Тиба и меня отсылали прочь. Утер, убежденный, что деревенские мальчишки прячутся в кустах и подглядывают за ними, вечно ходил вокруг дозором и заставлял нас с Тибом помогать ему «держать этих дерзких скотов подальше от наших женщин». Зная, какое ужасное наказание полагается за подобное преступление — тем более в отношении столь священной персоны, как наша Мать Фалимер, — я, например, даже на сомневался: никто из деревенских и близко не подойдет к купальне, когда там наши дамы. Но Утера было не переубедить; он был уверен, что «у деревенских в голове исключительно грязные мысли».
Я-то взрослел довольно медленно, и мне навязчивая идея Утера казалась столь же нелепой, как и дурацкий смех Тиба, когда он с видом всезнайки пытался намекнуть, что именно можно увидеть, если спрятаться в кустах рядом с купальней. Я и без того прекрасно знал, как выглядят женщины. Я же всю свою жизнь прожил на женской половине. Как, впрочем, и Тиб, который только прошлой зимой перебрался в мужскую Хижину. Однако Тиб вел себя так, словно в женщине без одежды есть что-то особенное, неприличное, и это, по-моему, было полным ребячеством.
И, безусловно, не имело ни малейшего отношения к тому, что я и сам вскоре испытал, услышав, как поет Сотур. Это было нечто прекрасное, не имевшее ни малейшего отношения к телесным отправлениям. И я всей душой, преисполненной боли, торжества и неясного, невыразимого желания, внимал ее пению…
А под конец лета в Венте вновь приехали Отец Алтан, Явен и Торм, и вновь возникло разделение нашего маленького общества на членов Семьи и рабов. Однажды я вышел из дома, желая побыть в одиночестве и прогуляться, и в долине между двумя заросшими лесом холмами к югу от нашего поместья обнаружил прелестную дубовую рощу. Там бежал чистый ручей, а чуть выше по склону, над ручьем, виднелась какая-то странная каменная горка, точнее останки каменной кладки. Похоже, это был старинный алтарь, только я не знал, какому богу он посвящен. Я рассказал об этом Сэлло, и она захотела тоже посмотреть. Так что однажды я отвел туда ее, Рис и Тиба. Тиб сказал, что ничего интересного он тут не видит, вел себя как-то беспокойно и вскоре один побрел назад. А вот у девочек. Рис и Сэлло, возникли те же ощущения, что и у меня: нам всем казалось, что в этой роще есть что-то особенное, что здесь то ли витает чье-то благословение, то ли ощущается чье-то невидимое присутствие, и все это явно связано с поляной у ручья и разрушенным алтарем. Вскоре девочки уселись на землю в негустой тени старых дубов и принялись прясть; у каждой из них всегда были при себе веретено и мешочек с шерстью, похожей на облако. Теперь они вошли уже в такой возраст, когда женщин полагается постоянно видеть за выполнением какой-нибудь женской работы. То, что они вообще смогли удрать из дому вместе со мной, никем не замеченные и даже не спросив разрешения, было частью той чудесной простоты и свободы, какой отличалась жизнь в Венте. В любом другом месте две домашние рабыни четырнадцати лет ни за что не получили бы разрешения просто так, без дела, уйти из дома. Но Сэл и Рис были хорошими девочками и взяли свою работу с собой. Да и наша Мать Фалимер доверяла им, как доверяла и общей благожелательности этих мест. Так что мы сидели на склоне холма, поросшего редкой травой, в горячей августовской тени, чувствуя прохладное дыхание бегущей воды, и долгое время просто молчали, наслаждаясь свободой и покоем.
— Я вот думаю: а может, это алтарь Энну-Ме? — нарушила затянувшееся молчание Рис.
Сэлло покачала головой:
— Нет, вряд ли. У алтаря Энну форма другая.
— Тогда какому же богу он принадлежит?
— Наверное, какому-то местному божеству.
— Например, дубовому, — предположил я.
— Нет, дубам покровительствует богиня Йене. Но это и не ее алтарь, — возразила Сэл с какой-то несвойственной ей уверенностью. — Это явно какой-то другой бог. Здешний. Или дух.
— Что бы нам такое оставить ему в качестве подношения? — спросила Рис полусерьезно-полушутя.
— Не знаю, — пожала плечами Сэлло. — Ничего, потом выясним.
Рис умолкла и вновь принялась прясть; легкие, изящные движения ее руки действовали на меня усыпляюще. Рис была не такой хорошенькой, как моя сестра, но от ее чудесных, густых и шелковистых, черных волос и мечтательных миндалевидных глаз исходило очарование ранней женственности. Она тихонько вздохнула и сказала:
— Тут так хорошо, что мне отсюда и уходить не хочется.
Я понимал, что Рис, конечно же, через пару лет отдадут кому-то «в подарок»; возможно, молодому Одирану Эдиру или наследнику Херраманта — в зависимости от того, каковы будут в тот момент интересы, обязательства и долги семейства Арка. Все мы это прекрасно знали. Девушек-рабынь и воспитывали для того, чтобы кому-то «подарить». Рис очень доверяла нашим хозяевам и надеялась, что будет отдана в такой Дом, где ее сумеют оценить по достоинству и будут хорошо с ней обращаться. Страха она не испытывала; ей было пока что просто интересно узнать, куда и к кому ее отошлют. Я как-то слышал, как они с Сэл разговаривали об этом. Сэл отдавать на сторону не собирались; она с детства была предназначена для Явена, и это тоже всем было хорошо известно. В Семье Арка не было принято слишком рано выдавать замуж своих дочерей, да и девушек-рабынь тринадцати-четырнадцати лет тоже никому не «дарили», Даже если физически они выглядели вполне взрослыми. Йеммер неустанно повторяла нашим девочкам слова Матери Фалимер: «Женщина бывает гораздо здоровее и живет Дольше, если у нее хватило времени достигнуть зрелости и только тогда вынашивать и рожать детей. Не годится делать это, пока она сама еще ребенок». И Эверра, полностью поддерживая эту идею, цитировал Трудека: «Пусть девушка остается девушкой, пока окончательно не созреет и не наберется житейской мудрости, ибо для Предков наших нет ничего приятнее поклонения невинной дочери». А конюх Сим говорил по-простому: «Вы же не станете вязать годовалую кобылку, верно?»
Так что приведенные выше слова Рис были вызваны отнюдь не озабоченностью и страхом перед тем, что ей вскоре придется покинуть родной дом и познать участь «подаренной девушки» где-нибудь в Эдирманте или Херраманте. Просто она понимала: через два-три года у нее начнется новая жизнь и она крайне редко сможет видеться с нами и уж почти наверняка никогда даже отчасти не испытает такой свободы, как сейчас.
Ее покорная грусть тронула и Сэлло, и меня; мы-то оба чувствовали себя в безопасности, зная, что всегда будил жить со своей Семьей, среди знакомых людей.
— А что бы ты сделала, Рис, если бы тебя отпустили на свободу? — спросила ее моя сестра, глядя за ручей, на теплую тенистую лесную чащу.
— Девушек на свободу не отпускают, — разумно ответила практичная Рис. — А вот мужчину могут, если он совершит какой-нибудь героический подвиг. Вроде того раба-зануды из «Басен», который спас богатство своего хозяина.
— Но ведь бывают же страны, где никаких рабов нет. Если бы ты, скажем, туда попала, то стала бы по-настоящему свободной. Как и все там.
— Но там я считалась бы иностранкой, — усмехнулась Рис. — И откуда мне было бы научиться тому, как себя там вести и что делать? Нет уж, от этих заморских штучек можно с ума сойти!
— Ну а ты все-таки представь себе, что получила свободу здесь, в Этре.
Рис задумалась.
— Ну, если бы я стала «освобожденной», то смогла бы выйти замуж. И тогда имела бы возможность оставить при себе своих детей… Впрочем, мне пришлось бы самой о них и заботиться, верно? Тут уж хочешь — не хочешь. Не знаю… Я ни с одной «освобожденной» женщиной даже не знакома, и понятия не имею, на что эта жизнь похожа. А ты бы что сделала?
— Не знаю, — сказала Сэлло. — Я не знаю даже, зачем мне вообще подобные мысли в голову приходят. Но почему-то все время об этом думаю.
— А хорошо, наверное, было бы выйти замуж, — помолчав, задумчиво сказала Рис. — Что бы уж точно знать.
Я не понял, что она имела в виду.
— О да! — от всего сердца воскликнула Сэлло.
— Но ты-то знаешь, Сэл. Явен-ди никогда никому тебя не отдаст.
— Да, он, наверное, не отдаст, — сказала Сэлло, ив голосе ее прозвучали нежность, как и всегда, когда она говорила о Явене, и гордость, и некоторая растерянность.
Теперь-то я понимаю, что тогда имела в виду Рис: хозяин был волен передать девушку, которую ему подарили, другому мужчине, или одолжить ее кому-то на время, или отослать на женскую половину нянчить чужих детей — он мог все, что ему заблагорассудится, и она, не имея ни малейшей возможности изменить его волю, обязана была просто подчиниться. Когда мне в голову приходят мысли об этом, я испытываю огромную радость по поводу того, что родился мужчиной. Я даже немного растерялся, когда Сэлло спросила меня:
— А что бы ты делал, Гэв?
— Если бы меня отпустили на свободу?
Она кивнула. На меня она смотрела с той же нежностью и гордостью, что и на Явена, но, разумеется, без тени смущения и чуть насмешливо.
И я, подумав немного, сказал:
— Ну, я бы хотел путешествовать. Побывал бы в Месуне, в тамошнем университете. И в Пагади. Посмотрел бы на руины Сентаса и других городов, о которых все мы читали, например на башни Резвы. Полюбовался бы Ансулом Великолепным с его четырьмя каналами и пятнадцатью мостами…
— А потом?
— А потом вернулся бы в Аркамант и привез бы с собой много-много новых книг! Наш учитель ведь даже говорить о покупке новых книг не хочет. «Старые надежнее», — надменно поджав губы, передразнил я Эверру. Рис и Сэл захихикали. На этом и закончился наш разговор о свободе, которую мы толком даже и вообразить себе не могли.
И духу того чудесного места мы никакого подношения не оставили — если только память не является чем-то вроде подношения.
А на следующее лето наша жизнь на ферме была внезапно прервана слухами о грядущей войне.
Мы прибыли в Венте, как обычно, с родственниками из Херраманта, и в первый же вечер все вдевятером отправились к нашей крепости на холме, ожидая вновь увидеть ее в руинах. Но, хотя зимние дожди и нанесли некоторый ущерб рву и земляному валу, стены и башни стояли прочно и, как нам показалось, были даже слегка надстроены. Должно быть, кто-то из деревенских ребятишек решил превратить наш Сентас в свое убежище и взял на себя заботу о нем. Умо и Утер негодовали больше всех; им казалось, что теперь наша крепость «загажена этими скотами», но Астано сказала решительно:
— Это даже хорошо; теперь, возможно, она так и останется стоять здесь.
Око и Умо были единственными из девочек, вместе с нами принимавшими участие в расчистке рва и укреплении земляного вала и частокола; они вообще работали в крепости больше всех. Астано и Сотур большую часть времени вынуждены были оставаться в доме вместе с женщинами, а мы, мальчишки, несколько утратив интерес к Сентасу, предпочитали заниматься другими делами. Например, мы с Тибом плавали, ловили рыбу и ходили в ту дубовую рощу — иногда с Сэл, когда она могла уйти из дома, иногда с Рис, но чаще вдвоем. К тому же у меня совершенно неожиданно появился новый друг.
Как-то раз я помогал Око и Умо восстанавливать частокол в Сентасе, а потом пошел домой через виноградник; стояла полуденная жара, в траве пронзительно трещали кузнечики и стрекотали цикады, словно опьяненные солнечным светом и теплом. Я заметил, что кто-то из работников идет мне навстречу по соседнему междурядью, то и дело скрываясь за высокими лозами, на которых уже начинали наливаться виноградные грозди. Когда мы поравнялись и уже должны были разойтись в разные стороны, он вдруг остановился, поклонился и сказал: «Ди». Именно так деревенские жители уважительно обращались к хозяевам — не по имени, а просто «господин».
Удивленный, я тоже остановился и внимательно посмотрел на него сквозь переплетение мощных лоз. Я узнал его: это был Коуми, тот парнишка, что со своим лошаком помог нам подняться на вершину высокого холма и так здорово пел, когда мы сидели вечером у костра. Теперь он сильно повзрослел, и я бы, пожалуй, принял его за взрослого мужчину, если бы не был с ним знаком раньше. На щеках у Коуми уже прорастала бородка, черты худого сумрачного лица стали резкими. Я назвал его по имени, и он явно удивился и обрадовался, что я его помню. Некоторое время он стоял молча, потом сказал:
— Надеюсь, мы все ваши камни сложили как полагается?
— О да, получилось просто прекрасно! — заверил я его.
— Это кто-то из ребят Мерива тогда все там разломал…
— Ничего. Это же просто игра. — Я не знал, что еще сказать этому мрачному парню. Он говорил с таким сильным акцентом, что я не сразу его понимал, и от него жутко несло застарелым потом, хотя мы стояли на расстоянии четырех или пяти футов друг от друга. Он был босиком, и его темные загрубелые подошвы упирались в землю, точно крепкие корни виноградной лозы.
Мы довольно долго молчали, и я уж хотел попрощаться и пойти домой, но тут Коуми предложил:
— Если хочешь, я покажу тебе одно отличное место для рыбалки.
В то лето я очень часто ходил ловить рыбу. Мыс Тибом слышали, что в тех местах есть такие ручьи, где местное жители ловят форель, но нам ни разу не удавалось такое место найти. Я дал понять, что меня подобное предложение чрезвычайно интересует, и Коуми быстро сказал:
— Хорошо. У каменной крепости сегодня вечером, — И тут же решительно зашагал прочь.
Хоть меня и одолевали некоторые сомнения, но вечером я все же пошел на Холм Сентаса, убедив себе, что если Коуми все-таки не придет, то неплохо будет немного помочь Око и Умо. Но не успел я подняться на холм, как заметил его, быстро идущего через виноградник, и пошел ему навстречу. Мы свернули и молча двинулись вдоль ручья, окаймлявшего холм, к тому месту, где этот ручей соединялся с другим, более широким. Затем мы еще с полмили пришли по берегу этого ручья, и в итоге едва заметная тропинка, что вилась в зарослях ивы, ольхи и лавра, привела нас к подножию очередного холма, где ручей, падая с небольшой высоты вниз, образовал несколько глубоких заводей, окруженных массивными валунами. Вода в этих заводях казалась неподвижной, течение почти не ощущалось. Мы дружно вытащили свою нехитрую рыболовную снасть, молча насадили наживку и, выбрав себе по валуну, забросили лески в темную воду озерца. Вечер был теплый, безветренный; сейчас, в середине лета, до заката оставался еще по крайней мере час, и солнечный свет, просачиваясь сквозь листву, падал на воду мягкими косыми полосами. Крошечные мошки плясали над поверхностью воды и исчезали в тени под высокими берегами. Уже через минуту у меня клюнуло, И я, сам себе не веря, вытащил великолепную рыбину, покрытую розовыми пятнышками и весившую фунта три или четыре. Я понятия не имел, что мне делать с таким роскошным уловом, и ошарашенно посмотрел на Коуми. Тот усмехнулся, сказал: «Новичкам везет» — и снова забросил свою лесу.
Клевало отлично, и мы то и дело вытаскивали из воды форель. Я все сильнее испытывав приязнь и благодарность к этому худому, молчаливому, загадочному юноше, а он ко мне почти и не поворачивался, и я так и не мог понять, почему он потянулся ко мне, чем я ему понравился. Как, несмотря на довольно-таки враждебные отношения, существовавшие между деревенскими рабами и нами, жителями города, он догадался, что мы можем стать друзьями, несмотря на огромную разницу в наших познаниях и опыте? Но в тот вечер мы с ним действительно подружились, хотя почти не разговаривали. Видимо, оба чувствовали в этом молчании некое взаимное доверие.
Когда за деревьями погасли последние темно-красные отблески заката, мы собрата свой улов. У Коуми была с собой плетеная сумка, и я положил туда свою рыбу — ту первую большую рыбину и еще две поменьше. Он тоже поймал несколько форелей и еще одну рыбу с узким телом и свирепой мордой, наверное, щуку. Затем мы вновь прошли по уже невидимой в сумерках лесной тропке, и, когда добрались до виноградника, стало совсем темно. Выйдя на ведущую в поместье дорогу, я сказал:
— Спасибо, Коуми.
Он кивнул и остановился, чтобы отдать мне рыбу.
— Оставь себе, — сказал я.
Он колебался.
— Я же все равно не смогу сам ее приготовить, — заверил я его.
Он пожал плечами, и в сумерках блеснула его улыбка. Пробормотав какие-то слова благодарности, он быстро повернулся и почти сразу же исчез в темноте среди высоких виноградных лоз.
После этого мы еще несколько раз ходили с ним на рыбалку, и всегда в разные места. Мне, правда, стало немного не по себе, когда я понял: Коуми всегда знает, где я нахожусь, и только от него зависит, захочет ли он взять меня с собой. Он сам находил меня и почти без слов спрашивал, не хочу ли я сегодня вечером пойти ловить рыбу. Тиба я никогда с собой не брал; я вообще ни слова не говорил ему о своих походах с Коуми: я чувствовал, что не имею на это права. Если бы Коуми захотел, чтобы Тиб пошел с нами, он бы сам его об этом спросил. А Сэл я, конечно, обо всем рассказал, от нее у меня никогда никаких секретов не было. И она нашей с Коуми дружбе обрадовалась. Когда же я попытался вслух решить мучившую меня загадку, почему он именно меня выбрал себе в товарищи и именно меня отвел в самые наилучшие, потаенные рыбные места, Сэл сказала:
— Ну, он, наверное, просто очень одинок, а ты ему нравишься.
— Да откуда ему было знать, что я могу ему понравиться?
— Он же целый день наблюдал за тобой, когда мы в горы ходили! Да и вообще, они замечают гораздо больше, чем мы; да и понимают все лучше нас, тут я уверена… Он уже тогда наверняка понял, что тебе можно доверять.
— Знаешь, иногда мне кажется, будто я с волком в лесу познакомился, — признался я.
— Хотелось бы мне сходить к ним в деревню, — задумчиво промолвила моя сестра. — Как это все-таки странно, по-моему, что нам этого делать нельзя. Словно они впрямь какие-то дикие звери! Между прочим, некоторые из тех женщин, которые прислуживают в доме, состоят в родстве с нашими городскими слугами. И все эти деревенские женщины, по-моему, очень даже милые. Вот только разговор их порой трудно понять.
В общем, у меня зародилась мысль как-нибудь, спросив у Коуми разрешения, вместе с ним сходить к нему домой. Меня и самого давно уже мучило любопытство; хотелось посмотреть, что за жизнь идет в тех темных хижинах, что разбросаны в долине под холмом, хоть между нами и деревенскими и сложились не самые дружественные отношения из-за «садовых войн» и засад, которые мы устраивали друг другу на дорогах. И вот как-то раз, когда мы с Коуми вернулись вечером с реки, я сказал:
— Я провожу тебя до деревни.
В тот вечер улов у нас был особенно хорош; самым большим моим трофеем была крупная форель длиной с руку, так что я вполне мог бы сослаться на то, что ему будет тяжело одному тащить столько рыбы. Коуми ничего мне не ответил, и я через некоторое время спросил:
— А ваши не будут против?
По-моему, у него мой городской выговор вызывал те же трудности, что и у меня — его деревенский. Он немного подумал, потом пожал плечами, и мы двинулись дальше. Над деревней плыл дымок, поднимавшийся из многочисленных труб, по улицам разносились ароматы готовящейся пищи. Темные людские фигуры мелькали мимо нас на покрытой колдобинами пыльной дороге, которая вилась меж домами; во дворах яростно лаяли собаки. Коуми свернул в сторону, но не к одному из больших бревенчатых домов, а, вопреки моим ожиданиям, к какой-то убогой хижине, построенной на невысоких сваях, чтобы уберечься от зимней грязи и сырости. Какой-то человек сидел на деревянных ступеньках крылечка, и я вспомнил, что уже видел его раньше: он часто работал на виноградниках. Они с Коуми приветствовали друг друга каким-то дружелюбным ворчанием, и мужчина спросил:
— Кто это?
— Он из Большого Дома, — ответил Коуми.
— Ого! — Мужчина явно был очень удивлен и хотел уже испуганно вскочить, решив, наверное, что Коуми привел с собой кого-то из хозяйских детей, но Коуми что-то сказал ему — видимо, пояснил, что я всего лишь один из городских рабов, — и мужчина, сразу успокоившись, молча уставился на меня. Мне было страшно не по себе, но раз уж я пришел в деревню, то отступать не собирался и спросил:
— Можно мне войти?
Коуми поколебался, потом, как всегда, то ли кивнул, то ли пожал плечами и повел меня в дом. В хижине было совершенно темно, если не считать слабых отблесков, которые отбрасывали тлеющие угли в очаге. Я заметил там неясные силуэты еще каких-то людей — женщин, старика, нескольких детей; все они жались друг к другу, и в спертом воздухе противно пахло немытыми людскими телами, псиной, едой, деревом, землей и дымом. Коуми взял у меня ту большую рыбину и передал ее вместе с остальным нашим уловом какой-то женщине — я заметил лишь ее сгорбленный силуэт да блеснувшие в темноте глаза. Затем Коуми что-то сказал ей, и она, повернувшись ко мне лицом, спросила:
— Так ты, может, хочешь поесть с нами вместе, ди? — Мне показалось, что голос ее звучит весьма недружелюбно, даже насмешливо, однако она явно ждала ответа, и я сказал:
— Нет, ма-йо, спасибо, мне еще надо домой добраться.
— Какая огромная рыбина! — восхитилась она, держа в руках ту самую форель.
— Спасибо за рыбалку, Коуми, — невпопад сказал я и попятился к двери. — Удачи всем вам, и пусть Энну благословит ваш дом! — И я поспешил выбраться из хижины, страшно смущенный, почти испуганный, радуясь, что наконец-то возвращаюсь домой. Но все же был горд тем, что сумел преодолеть себя. Ладно, по крайней мере, будет что рассказать Сэлло, думал я.
Сэл тут же предположила, что вместе с Коуми проживает вся его большая семья, а тот человек, сидевший на ступеньке, — скорее всего, его отец. Она давно уже поняла из разговоров деревенских женщин, что хотя никаких браков между деревенскими рабами по закону не существует, они все же обычно живут вместе со своими женами и детьми (иногда этих жен бывает несколько, и они все вместе воспитывают многочисленных детей). Все это только на пользу хозяйскому поместью: рабы сами себя воспроизводят, воспитывая новых рабов и с детства приучая их к той же работе, которую выполняют сами. В итоге и родители, и дети знают только эту землю и эту работу, а больше ничего, и жизнь их, как и жизнь их предков, проходит в жалкой деревне у ручья.
— Я бы тоже хотела еще разок повидаться с Коуми, — сказала Сэлло.
И на следующий раз, когда он, как всегда, первым подошел ко мне, я спросил:
— Коуми, ты знаешь тот старый алтарь в дубовой роще?
Он кивнул; разумеется, он знал; Коуми знал здесь каждый камень, каждое дерево, каждый ручей и каждую поляну.
— Приходи туда сегодня вечером, — сказал я. — Вместо рыбной ловли. Мы тебя будем там ждать.
— Кто это «мы»?
— Моя сестра и я.
Он немного подумал, потом, как всегда, то ли кивнул, то ли пожал плечами и ушел.
Мы с Сэлло пришли в рощу примерно за час до заката. Она уселась и стала прясть; облачко дочиста вычесанной шерсти под непрерывно вращавшимся в ее руках веретеном превращалось в серовато-коричневую ровную нить. Коуми появился неожиданно, абсолютно неслышно поднявшись сквозь заросли ивняка. Сэлло поздоровалась с ним, он кивнул в ответ и уселся на некотором расстоянии от нас. Она спросила, виноградарь ли он, и он сказал, да, он работает на виноградниках, а потом даже немного, то и дело останавливаясь и умолкая, рассказал о своей работе.
— А ты все еще поешь, Коуми? — спросила Сэл, и он, пожав плечами, кивнул.
— Не споешь ли нам?
Как и тогда, на вершине холма, он довольно долго молчал, но потом все же запел — тем странным, очень высоким и нежным голосом, у которого, казалось, не было ни источника, ни средств звучания. Казалось, его песня исходит не из человеческой глотки, а как бы висит в воздухе, точно пение насекомых, столь же бессловесное, только невыразимо печальнее.
Мне хотелось в следующий раз привести в дубовую рощу и Сотур — может быть, послушать, как Коуми поет, или просто посидеть с нами и насладиться царившим там покоем. Я уже представлял себе, как Сотур станет рассматривать алтарь и, может быть, поймет, какому богу он посвящен; как она спустится к ручью и немного побродит по воде, чтобы охладить усталые ступни; как они с Сэлло будут сидеть рядышком и прясть, тихо беседуя и порой смеясь. Я решил, что лучше всего именно Сэл предложить ей пойти с нами. С недавних пор, как бы сильно я ни хотел поговорить с Сотур, мне по какой-то причине все труднее становилось сделать это. И я все откладывал и даже к Сэлло с этой идеей не обращался, сам не знаю почему; возможно, мне доставляло огромное удовольствие просто думать об этом, просто воображать себе, как Сотур поведет себя, оказавшись в нашей дубовой роще… А потом вдруг сразу стало поздно.
Из Этры примчались верхом оба старших брата Сотур и Торм; они были прямо-таки переполнены тревогой и тут же потребовали, чтобы мы незамедлительно начали паковать веши, а завтра ранним утром уже выехали в город. Оказывается, отряд вооруженных бандитов из Вотуса, переправившись через реку Морр, напал на деревню Мерто, находившуюся не более чем в десяти милях от Венте, и сжег там все сады и виноградники. В Венте бандиты могли оказаться в любой момент, и Торм, явно чувствовавший себя в своей стихии, шагал взад и вперед по дому и резким, воинственным тоном раздавал приказы. Девочкам, членам Семьи, было велено остаться ночевать в доме, а нам, оставшимся снаружи, тоже нормально поспать не удалось, потому что Торм кругами ходил возле дома и сторожил. Очень рано, еще до восхода солнца, приехал сам Алтан-ди; он до полуночи занимался в городе делами, однако так беспокоился о нас, что просто не смог дождаться, когда мы вернемся в Этру.
Утро выдалось ясным и жарким. И мы, и деревенские работали не покладая рук, чтобы вовремя успеть все упаковать и уложить на повозки. Затем они печально простились с нами, и процессия потянулась меж холмов в обратный путь. Рабы, работавшие в полях и на виноградниках, лишь поглядывали в нашу сторону, когда мы проезжали мимо, но ничего не говорили. Я поискал глазами Коуми, но не увидел ни его, ни кого-либо еще из знакомых. Мне было не по себе: ведь этим совершенно беззащитным людям придется просто ждать, надеясь, что этранские воины сумеют перехватить мародеров. Отец заверил их, что сюда из Этры уже послан большой отряд и в данный момент он должен находиться где-то между Мерто и Венте, оттесняя вотусанов назад, к реке.
На дороге было жарко и пыльно. Торм на нервной, покрытой пеной, потной лошади криками торопил возниц. Отец Алтан, ехавший рысцой рядом с повозкой жены, даже не пытался утихомирить Торма. Я давно заметил, что Отец всегда очень строг, даже иногда жесток в обращении с Явеном, зато все чаще колеблется в отношении Торма, не желая ни бранить его, ни хотя бы сдерживать. Я сказал об этом Сэл, высказав предположение, что наш Отец просто боится своей строгостью вызвать у Торма очередной приступ ярости и неукротимого гнева. Сэлло кивнула, но прибавила:
— Дело в том, что Явен совершенно не похож на своего родного отца. А Торм как раз очень похож. Во всяком случае, внешне. У него и походка теперь в точности такая же. Да и у того, у «двойничка» нашего, тоже.
Слово «двойничок» довольно грубо прозвучало в устах нашей мягкой и нежной Сэлло, но она всегда недолюбливала Хоуби, да и Торма тоже. Мы оба внезапно замолчали, заметив, что Сотур-йо, решившая, видно, тоже немного пройтись пешком, идет рядом с нами и, возможно, слышала, как мы обсуждаем Алтана-ди и его сыновей. Однако Сотур не сказала ни слова; она просто шла с нами рядом, и лицо ее было непривычно хмурым и замкнутым. Мне показалось, что она даже и просить разрешения слезть с повозки не стала — ведь ей, девушке из Семьи, не пристало идти пешком вместе с рабами, — а просто сбежала от своих родственников, как часто делала и раньше. Мы долго шли так, в полном молчании, и единственные слова, которые Сотур обронила за все это время, болью отозвались у меня в сердце:
— Ох, Сэлло, Гэв!.. Вот и закончились навсегда наши славные летние деньки! — И я увидел слезы у нее на глазах.
Глава 5
Бандитов наши славные воины оттеснили к реке, и лишь немногие из вотусанов вернулись в свой город.
А мы в то лето в Венте уже не поехали; и на следующий год тоже. Налеты продолжались; постоянно звучали сигналы тревоги; на территорию Этры вторгались теперь вооруженные отряды не только из Вотуса, но и из Оска и даже из куда более могущественного города-государства Казикара, нашего давнего врага.
Вспоминая эти годы, наполненные тревогами и сражениями, я думаю, что несчастливыми они нам, детям, отнюдь не казались. Угроза близкой войны вызывала особое напряжение, придавая любому обычному поступку отблеск подвига. Возможно, мужчины потому и чувствуют себя на войне столь уверенно, что война, как и политика, усиливает у них ощущение собственной значимости, которого им порой не хватает. А возможность того, что их родные дома могут быть подвергнуты насилию и разрушению, придает особый вкус той обычной домашней жизни, которую они в иное время почти презирают. А вот женщины, которые, по-моему, не нуждаются в подтверждении собственной значимости и не разделяют презрительного отношения к обыденной жизни, зачастую не видят никакой необходимости в войнах и не могут понять, в чем заключается добродетель военного дела. Однако и женщин порой способен захватить блеск военных действий, а кроме того, они очень любят прекрасные проявления подлинного мужества и храбрости.
Явен, став офицером, находился в действующей армии Этры. Его полк под командованием генерала Форре в основном защищал западные и южные окраины города от налетов осканских и морванских банд. Сражения с этими вооруженными отрядами случались нерегулярно, с довольно долгими спокойными перерывами на перегруппировку сил, и во время таких перерывов Явену удавалось приехать домой.
На двадцатилетие Мать подарила ему мою сестру Сэлло, которой к этому времени исполнилось почти шестнадцать. Подобный подарок «из рук Матери Дома» — событие Довольно значимое и осуществляется в соответствии со строгими правилами. Надо сказать, что для Сэл лучшего и Желать было нельзя: она всем сердцем любила Явена и просила у судьбы одного: позволить ей любить его до самой смерти. При всем желании он не смог бы противиться такой щедро изливаемой на него нежности, но, к счастью, и Сэлло была его давней избранницей. Со временем предполагалось, разумеется, что Явен женится на женщине из своего круга, но пока что о свадьбе не было и речи, так что еще несколько лет влюбленным можно было об этом не думать, Они оба были так счастливы, их наслаждение друг другом было столь очевидным и непосредственным, что и вокруг них разливалось некое блаженство подобно свету от горящей свечи. Когда Явен приезжал в город и был свободен от дежурства, он все дни проводил в компании своих молодых приятелей, военных и штатских, но каждую ночь неизменно возвращался домой, к Сэлло. Когда же он уезжал в полк, она горько плакала, горевала и с нетерпением ждала, когда же он снова приедет домой; и он приезжал, высокий, красивый, и кричал со смехом: «Где же моя милая Сэлло?», и она стремглав выбегала из «шелковых комнат» ему навстречу, смущаясь и одновременно светясь радостью, гордостью и любовью — и чувствуя себя настоящей женой молодого воина.
Когда мне исполнилось тринадцать, меня наконец выдворили из женской спальни и отослали на тот конец двора. Я всегда боялся перебираться в мужскую Хижину, у это оказалось не так уж и страшно, хотя я все же очень горевал, с тоской вспоминая тот уютный уголок, который занимали мы с Сэлло и где всегда подолгу беседовали перед сном. Тиб, которого отослали в Хижину на год раньше, старательно меня опекал, что оказалось вовсе не нужно: старшие ребята и не думали меня преследовать. Они, правда, бывали порой очень жестоки к тем, кто был их младше, но я, очевидно, выплатил весь свой долг в ту ночь у колодца и заслужил их уважение своим молчанием. Они дразнили меня Болотной Крысой или Клюворылом, но и только; а в общем, даже это бывало редко, и никто из них меня не трогал.
Впрочем, в течение дня я мало с кем из них виделся, поскольку моя работа была теперь полностью связана со школой и библиотекой, где я стал работать вместе с Эверрой, а Око и маленький мальчик по имени Пепа заняли наше с Сэлло место, подметая дворы и коридоры. В мои обязанности входило дальнейшее самообразование и помощь Эверре во время занятий с младшими учениками. В классе появилось несколько новых ребятишек — подросли племянницы и племянники Сотур, а также Семья купила и обменяла какое-то количество новых рабов, в том числе и детей. Сэлло, будучи «подаренной», да еще и сыну хозяйки, освобождалась, естественно, от любой тяжелой и грязной работы и должна была лишь какое-то время прясть или ткать, а также всегда быть свежей и хорошенькой, радуя Явена. Она очень скучала, когда Явен уезжал к себе в полк, а общество других обитательниц «шелковых комнат», а также хозяйских горничных находила скучным и, как она говорила, «душным». Она, правда, никогда особенно не жаловалась, но при каждой возможности старалась убраться из «шелковых комнат» и чем-то занять себя, например посидеть на уроке вместе со всеми или помочь Эверре и мне с малышами. Сидеть целыми днями без дела ей было невмоготу. Мы с ней часто встречались также в библиотеке, где можно было спокойно поговорить и где нам никто не мешал. Сэлло полностью мне доверяла, как, впрочем, и я ей, и наша тесная дружба была для меня настоящим счастьем. Моя сестра стала как бы моим вторым «я». Только с нею я чувствовал себя совершенно свободно и спокойно мог говорить о чем угодно.
Что же касается моих «воспоминаний» — тех видений. Или вещих снов, которые являлись мне, когда я был ребенком, — то они по-прежнему посещали меня, хотя уже и не так часто. И некогда данное Сэлло слово ни с кем, кроме Нее, не говорить об этом, даже сейчас делает для меня разговор о них несколько затруднительным.
В Венте подобные видения тревожили меня крайне редко, но когда мы вернулись в Аркамант, они стали являться мне все чаще и чаще, обычно когда я бывал один и читал перед сном или уже почти засыпал. Иногда, проснувшись утром, я все еще продолжал видеть перед собой тот далекий голубой холм над сверкающей водой и зарослями тростника и ощущать легкое неровное покачивание плывущей лодки. Или же я снова «видел», как снег падает на крыши Этры (и это действительно могло быть как воспоминанием, так и вещим видением). Или же я вдруг снова «оказывался» на кладбище у реки, или «смотрел» откуда-то сверху на улицу, где сражались друг с другом мужчины в латах, или «входил» в ту высокую полутемную комнату, где тот седеющий мужчина поворачивал ко мне свое тонкое печальное лицо и громко произносил мое имя.
По-настоящему новые видения теперь бывали у меня лишь изредка — превращаясь в «воспоминания» о том, чего я еще никогда не видел в действительности. Например, несколько раз я «вспоминал», как взбираюсь на крутой холм, на вершине которого стоит неизвестный мне город; идет дождь, и улицы, зажатые между высокими темными домами, кажутся мне на редкость мрачными и совершенно чужими. Двигаюсь я словно в неком световом пятне, и этот свет то ли горит во мне, то ли падает откуда-то сверху, точно я несу, подняв высоко над головой, невидимую мне лампу… в общем, лучше я вряд ли сумею это описать.
Однажды, той зимой, когда Сэлло подарили Явену, мне привиделся некий ужасный обнаженный мужчина, худой и черный, как обгорелый труп. И этот человек танцевал! Голова у него была какая-то слишком большая, глаза очень яркие, но совершенно невыразительные, а вместо рта зияла жуткая красная дыра. При этом я смотрел на него как бы снизу, словно лежа в какой-то темной яме. Это было очень страшно, и я очень надеялся, что больше об этом вспоминать не буду. А вот другое видение я вспоминал несколько раз: это была пещера с низким каменным сводом, ее каменный пол был слегка освещен каким-то странным слабым светом, падавшим неизвестно откуда. И все, что там происходило, мелькало у меня перед глазами настолько быстро, что невозможно было удержать это в памяти и потом как следует вспомнить. Хотя если мне случалось порой даже в обычной, дневной своей жизни встретить какого-то человека или мельком увидеть какое-то место, я потом всегда знал, видел я это или нет. У многих людей время от времени бывает такое: им кажется, что они вроде бы вспоминают что-то, хотя совершенно уверены, что это происходит с ними впервые. У меня, правда, было немного иначе: в тот момент, когда что-то начинало происходить со мной в действительности, я всегда мог точно сказать, где и когда уже видел все это прежде — чаще всего в своих снах-«воспоминаниях».
После того как мои видения становились реальностью, а «воспоминания» о том, что случится в будущем, превращались в обычные воспоминания о прошлом, я мог сколько угодно призывать их по собственному желанию, что было невозможно с теми видениями, которые в жизнь еще не воплотились. Так было, например, с тем редким для Этры снегопадом: я отлично помнил это невероятное событие в жизни нашего города, однако все это привиделось мне задолго до того, как произошло на самом деле, и теперь время от времени воспоминание об этом возникало само собой, непроизвольно и мгновенно. Получался один снегопад — и три совершенно разных воспоминания о нем.
Отчасти особая радость, которую доставляло мне общение с сестрой, была связана именно с тем, что только ей одной я мог рассказать об этих странных видениях, или «воспоминаниях». Только с ней обсудить их смысл и значение, тем самым существенно уменьшая тот ужас, который они вызывали в моей душе. А Сэл, в свою очередь, только со мной могла поговорить о том, что творилось в лоне Семьи.
Теперь, когда Явен и Астано школу окончили, а Торм, получив освобождение от школьных занятий, стал обучаться военным искусствам, я видел в классе только младших детей Семьи и Сотур. Сотур по-прежнему посещала уроки Эверры и часто просто так приходила в класс или в библиотеку, чтобы там спокойно почитать. И довольно часто мы втроем, Сэлло, она и я, беседовали почти столь же непринужденно, как когда-то под звездным небом в Венте. Но столь же свободными мы больше уже никогда себя не чувствовали. Перестав быть детьми, мы вынуждены были считаться со своим положением в обществе. Кроме того, меня мучительно смущало некое чувство, которое я в последнее время испытывал к Сотур. Это была смесь целомудренного обожания — что я еще вполне мог оправдать, — и страстного полового влечения, которого я до сих пор никогда еще не испытывал, совершенно не понимал и воспринимал со страхом и отвращением.
Страсть была запрещена. Целомудренное обожание было разрешено. Но я оказался слишком косноязычен (а порой от смущения и вовсе лишался дара речи), чтобы выразить свои чувства словами, так что изливал их в весьма дурных виршах, которые никогда Сотур не показывал. Однако самой Сотур не нужны были ни страсть, ни обожание. Ей нужна была наша старая дружба, ибо она чувствовала себя очень одинокой.
Ее ближайшей подругой всегда была Астано, но Астано сейчас вовсю готовили к свадьбе. Ходили слухи (так сказала мне Сэлло), что Астано выдадут за Коррика Белтомо Рунду, сына самого богатого и самого влиятельного сенатора Этры, которому наш Отец, Алтан Арка, и сам был обязан немалой долей своего влияния и власти. Сэлло говорила, что в «шелковых комнатах» только об этом и шепчутся. Коррик Рунда в армии никогда не служил и, по слухам, «якшался» с дурной компанией — богатыми молодыми людьми из числа «освобожденных» и отпрысками не слишком-то знатных семейств, которые вели весьма разгульную жизнь. Говорили также, что будущий жених Астано хорош собой, но склонен к полноте. Нам очень хотелось знать, какие чувства к этому Коррику испытывает наша нежная, красивая и храбрая Астано, действительно ли она хочет выйти за него замуж, а также насколько Отец и Мать Арка могут быть поколеблены в своем решении, если их дочь откажется от этого брака.
Что же касается Сотур, их сиротки-племянницы, то ее желания относительно замужества в расчет вообще не принимались. Ее все равно выдали бы за того, кого сочли бы «наилучшей партией». Такова судьба почти всех девушек в знатных Семьях, и, по-моему, она не слишком отличается от участи рабынь. Мысль о том, что мою слегка мрачноватую, нежноголосую Сотур отдадут какому-то чужому и равнодушному мужчине, который ее не любит и не понимает, приводила меня порой в состояние такой жгучей беспомощной ярости, что мне уже и самому хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Пусть она навсегда исчезнет из нашего Дома, зато я не буду вынужден каждый день видеть ее и стыдиться того, что я всего лишь раб, что мне только четырнадцать лет, что я способен лишь на то, чтобы писать глупые стишки и страстно мечтать коснуться ее, но так и не иметь этой возможности…
Сэлло, разумеется, знала о моих чувствах; да если б я даже и захотел что-нибудь скрыть от нее, то все равно не смог бы. Она знала, что на шее в крошечном мешочке я ношу тщательно свернутую записку, которую Сотур написала мне год назад, когда я болел лихорадкой: «Быстрее поправляйся, дорогой Гэвир, без тебя все стало скучным, словно пылью покрытым». Сэлло очень огорчало то, что мои страстные желания совершенно неосуществимы. Ей казалось страшно несправедливым то, что сама она обрела счастье и полное удовлетворение в любви, а мне было это запрещено Даже в мечтах. Разумеется, и раньше возникала порой любовь между женщиной из благородного семейства и рабом, но все подобные истории всегда заканчивались весьма печально и означали для мужчины пытки или смерть, а для женщины если не смерть — во всяком случае, в наши дни, — то чудовищный публичный позор и полное забвение. Сэлло все пыталась найти в этих жестоких законах хоть какой-то смысл, понять, чем же они нас защищают, и старательно убеждала и меня, и себя, что они действительно нас защищают, но доказать, что они справедливы, все равно не могла, даже и притворяться не пыталась. Справедливость в руках богов, писал один старый поэт, а в руках смертных лишь милосердие и меч. Я процитировал Сэл эту строчку, ей очень понравилось, и она потом часто повторяла эти слова. И при этом, по-моему, думала о Явене, своем добросердечном возлюбленном, своем герое, обладавшем и милосердием, и мечом.
Романтическая любовь и страстные мечты совершенно измучили меня. Только Сэлло служила мне утешением, да еще работа.
Эверра наконец позволил мне свободно пользоваться библиотекой Аркаманта, куда прежде мне даже входить не разрешалось, хоть я и подметал повсюду в доме. Дверь в библиотеку находилась в коридоре чуть дальше куполообразного святилища Предков. Впервые переступив порог библиотеки, я испытал некий священный ужас, наверное не меньший, чем если б осмелился войти в святилище. Библиотека была небольшая, но хорошо освещенная благодаря высоким окнам с чистыми прозрачными стеклами. На полках имелось более двух сотен книг, тщательно подобранных и расставленных Эверрой; он же регулярно стирал с них пыль. В комнате пахло книгами — этот невнятный аромат некоторым людям кажется душным и пыльным, а некоторых, напротив, возбуждает. И еще там было очень тихо. До этого помещения почти никто никогда и не добирался, разве что подметали пол в коридоре; и в библиотеку тоже почти никто не входил, кроме Эверры, Сотур, Сэлло и меня.
Сотур давно уже упросила нашего учителя даровать им с Сэлло эту привилегию, а Сотур Эверра ни в чем отказать не мог. Она была единственной из старших детей Семьи, кто продолжил занятия в школе, ибо ни Явен, ни Астано больше уже не могли делать то, что им хочется. К тому же Сотур постоянно читала книги и сказала Эверре, что это он поселил у них с Сэл в душе «книжный и душевный голод», так что теперь просто не имеет права отказать им в утолении этого голода. Она объяснила ему, что Сэлло сходит с ума, слушая глупую болтовню обитательниц «шелковых комнат», а она, Сотур, страдает от дурацкой необходимости беседовать с напыщенными торговцами и необразованными политиками. В общем, с разрешения Отца и Матери Арка, прочитав девочкам массу нотаций относительно неразборчивости в подборе книг, Эверра выдал им обеим по ключу.
Однако как ни тяжело было мне признаться в этом даже самому себе — а уж ни Сэлло, ни Сотур я и вовсе никогда об этом не говорил, — но столь давнее желание свободно посещать нашу библиотеку принесло мне жестокие разочарования. Оказалось, что более половины имевшихся там книг мне уже хорошо известны, а те, которых я еще не читал, которые издали выглядели столь таинственными и недосягаемыми в своих темных кожаных переплетах или в футлярах для свитков, оказались по большей части довольно скучными — это были юридические анналы, всевозможные компендиумы, бесчисленные сборники эпических поэм, созданных весьма посредственными авторами. Этим книгам было по крайней мере лет пятьдесят, а то и значительно больше, что составляло особую гордость Эверры. «Никакого современного мусора я в Аркаманте не допущу», — говорил он, и мне хотелось верить, что большая Часть современных литературных произведений — это действительно мусор. Однако я убедился, что и это старье — тоже зачастую самый настоящий мусор. Впрочем, Эверре я, разумеется, ничего такого не говорил.
И все же я очень полюбил нашу библиотеку: это было единственное место, где мы могли видеться с Сэлло и Сотур и где я мог оставаться наедине с самим собой. Для меня это было некое средоточие покоя; только здесь я мог полностью отдаться чтению своих любимых поэтов и великих историков, а также мечтам, что, может быть, и я когда-нибудь сумею внести в литературу свой вклад.
Стихи, которые я посвящал Сотур, хоть и были написаны «кровью сердца», получались неуклюжими и глупыми. И я понимал, что поэт из меня никакой, хотя поэзию очень любил, и история мне тоже очень нравилась — оба эти искусства придавали ясности в понимании смысла жизни и человеческих чувств, давали оценку бессмысленным, бесконечным и жестоким войнам людей друг с другом, а также многим прежним правителям и правительствам. Я чувствовал, что история мне, пожалуй, ближе, что именно она должна была стать для меня основным предметом. Я понимал, конечно, что мне нужно еще очень много учиться, но учение доставляло мне огромную радость. У меня были великие планы относительно тех книг, которые я, конечно же, напишу. Трудом всей моей жизни, решил я, будет соединение летописей и документов о жизни городов-государств в одну великую историю; и, написав эту книгу, я тоже стану великим и знаменитым. Я даже набросал несколько развернутых планов своего будущего труда; наброски получились довольно невежественные, чересчур честолюбивые, полные ошибок, но, в общем, не такие уж и глупые.
Больше всего я опасался, что кто-то уже написал задуманную мною историю городов-государств, а я об этом просто не знаю, потому что Эверра ни за что не желает покупать новые книги.
Однажды весной он с утра пораньше отправил меня через весь город в Белмант, Дом, столь же известный своей библиотекой и ученостью, как и наш. Я любил ходить туда. Тамошний учитель, Мимен, ближайший друг Эверры, был значительно моложе его. Они постоянно обменивались книгами и манускриптами, и чаще всего за ними посылали именно меня. Я выполнял эти поручения с радостью, поскольку это освобождало меня от необходимости слушать, как малыши нудно твердят алфавит, и давало возможность выбраться наконец из дома. Утреннее солнце так чудесно светило, что я выбрал самый длинный, кружной путь — через парк, где росли старые сикоморы и где Торм когда-то заставлял нас маршировать. Потом я не спеша шел по ведущим на юг улицам вдоль городской стены и наслаждался своей недолгой свободой. В Белманте Мимен встретил меня очень приветливо. Я ему нравился, и он частенько рассказывал мне о работах некоторых современных авторов и читал наизусть стихотворения Реттаки, Каспро и других, чьих имен Эверра даже слышать не хотел. Но книг этих писателей Мимен мне никогда не давал, зная, что Эверра запрещает их читать. В тот день мы с ним тоже немного побеседовали, но в основном о слухах, связанных с грядущей войной: ведь наш Явен, как и один из сыновей Семьи Бел, был в армии. Потом Мимен сказал, что ему пора возвращаться в класс, вручил мне целую охапку книг, и я отправился домой.
На этот раз я пошел прямиком через город, потому что книги оказались весьма тяжелыми. Я как раз пересекал Долгую улицу, когда услыхал крики на ее дальнем конце, выходившем к Речным воротам, и увидел там дым — похоже, горел какой-то дом, а может, и не один, и клубы дыма вздымались все выше и становились все гуще. Люди бегом проносились мимо меня к Гробнице Предков, к пожарищу или, наоборот, в обратном направлении. К горящим домам бежали, правда, в основном городские стражники, и они 3ачем-то на бегу выхватывали из ножен мечи. А я стоял и смотрел на них, вспоминая, что уже однажды видел все это. Затем в конце Долгой улицы появились пешие и конные воины под зелеными знаменами. На них налетела городская охрана, и завязалась битва, сопровождаемая громкими криками и звоном оружия. Я же застыл, как памятник, не в силах сдвинуться с места, и тут увидел, что какой-то конь, лишившийся ездока, вырвался из схватки и галопом несется по улице прямо на меня, весь покрытый белыми хлопьями пота и потеками крови. Кровь текла у него из дыры видневшейся там, где должен был быть глаз. Вдруг конь пронзительно заржал, и я наконец заставил себя отойти в сторону, а потом, пригнувшись, бросился бежать через площадь.
Нырнув в переулок между Гробницей Предков и зданием Сената, я боковыми улочками добрался до Аркаманта и влетел в мужскую Хижину с криком: «Вторжение! Вражеские воины в городе!»
Я оказался первым, кто сообщил обитателям нашего Дома эту новость, посеяв среди них панику. Дело в том, что Аркамант отделен от остальной части города тихими площадями и широкими улицами. В других местах вести о вторжении распространились значительно быстрее, та что, вполне возможно, к тому времени, как Эннумер перестала наконец пронзительно причитать, городской страже с помощью тех воинов, которые в данный момент находились не в полку, уже удалось изгнать незваных гостей и оттеснить их за Речные ворота.
Кавалерийский отряд, расквартированный неподалеку от Скотного рынка, бросился в погоню и поймал сколько-то вражеских воинов на восточном берегу реки у моста, но основной части войска все же удалось уйти. Никто из наших воинов убит не был, хотя имелось несколько раненых. Никакого особого ущерба городу наглые захватчики также нанести не успели, если не считать нескольких сожженных сараев, крытых тростником, возле Речных ворот; но потрясение все же было огромным. Как среди бела дня вражеское войско смогло не только приблизиться к Этре, но и ворваться через Речные ворота на улицы города? И не являлся ли этот наглый налет просто сигналом того, что грядет полномасштабная атака со стороны Казикара, к которой Этра была совершенно не готова? И после того первого нападения все мы испытывали поистине невероятный стыд, гнев и страх, которые оказались не в силах подавить. Я, например, видел, как наш Отец, Алтан Арка, плачет, приказывая Торму во что бы то ни стало защитить Аркамант; сам же он должен был уйти на срочное заседание Сената.
Душа моя разрывалась от страстного желания помочь моей Семье, моему народу, Этре. Я мечтал вместе с нашим войском выйти на бой с врагом. Я помог Эверре собрать всех детей в спальне под присмотром Йеммер, а сам пошел в классную комнату и стал ждать дальнейших указаний, как и все остальные домашние рабы. Мне очень хотелось быть в эту минуту рядом с Сэлло, однако ее и всех девушек заперли в «шелковых комнатах», куда рабам-мужчинам вход был запрещен. Эверра, седой, с серым от волнения лицом, сидел и в полном молчании что-то читал; я же нервно мерил шагами классную комнату. Весь огромный дом окутала странная затянувшаяся тишина. Так прошло несколько часов.
Наконец к дверям классной комнаты подошел Торм и, увидев меня, спросил:
— Что это вы здесь делаете?
— Ждем, пока нам скажут, чем мы могли бы быть полезны, Торм-ди, — вежливо ответил ему Эверра, поспешно вставая.
Торм никак на это не отреагировал и крикнул кому-то:
— Эй, тут еще двое! — И выбежал за дверь, так и не сказав Эверре ни слова.
В класс вошли двое молодых людей и велели нам следовать за ними. При себе у них были мечи, так что они наверняка были из благородных, хотя мы никого из них совершенно не знали. Они отвели нас через задний двор к Хижине, к дверям которой снаружи был прикреплен огромный засов. Я впервые заметил его; во всяком случае, я никогда прежде не видел, чтобы его задвигали. Молодые люди отодвинули засов, велели нам войти внутрь, и мы услышали как засов с лязгом задвинулся у нас за спиной.
В Хижине оказались все рабы Аркаманта, мужчины, разумеется. Даже личные слуги Алтана-ди, которые обычно даже спали у дверей его покоев, даже работники конюшни, даже Сим, наш главный конюх, который и жил, и ночевал в клетушке над стойлами лошадей. В Хижине стало буквально не протолкнуться, ведь обычно там собиралось не более половины всех ее обитателей, поскольку у многих и днем и ночью находились различные занятия и поручения, да и вообще многие приходили туда разве что переодеться или поспать. Там даже и топчанов-то для такой кучи народа не хватило бы, а сейчас и вовсе сесть было некуда. Многие так и остались стоять, возбужденно переговариваясь. В помещении было почти темно — оказалось, что не только двери заперты, но и окна наглухо закрыты ставнями. В спертом воздухе пахло потом и грязноватым постельным бельем.
Мой учитель стоял совершенно растерянный у самых дверей. Я подошел к нему и провел в его комнатушку, крошечный закуток, отделенный от общей спальни; в Хижине было четыре таких комнатушки, они предназначались для самых старых и самых ценных рабов. На лежанке Эверры уже устроились трое конюхов, но Сим тут же велел им убраться оттуда, заявив: «Это комната нашего учителя, нечего тут рассиживаться, вонючие конские яблоки!»
Я поблагодарил Сима, а сам Эверра был настолько потрясен, что даже говорить не мог. Я усадил его на кровать, и он сумел наконец сказать мне, что чувствует себя нормально и хотел бы отдохнуть. Я оставил его и пошел послушать, что говорят другие рабы. Сперва, когда нас всех загнали в Хижину, слышалось немало криков возмущения и протеста, но постепенно эти крики смолкли. Кто-то из старших мужчин объяснил, что в этом нет ничего особенного, что это отнюдь не наказание, а простое правило, которое начинает действовать, когда возникает угроза нападения: в таких случаях всех рабов-мужчин где-нибудь прячут и запирают.
— Подальше от опасности, — прибавил старый Фелл.
— Подальше от опасности? — возмутился один из камердинеров Алтана-ди. — А что, если враг сумеет снова прорваться? Что, если начнутся пожары? Мы же поджаримся тут, как пирожки в духовке!
— Заткни свою вонючую пасть, — тут же посоветовали ему.
— А кто за нашими лошадьми-то смотреть будет? — спросил кто-то из конюхов. Его поддержали:
— Почему они нам не доверяют? Что мы такого сделали? Разве что всю жизнь горб на них гнули!
— Да и с какой стати они нам доверять станут, если мы для них все равно что вещи?
— Нет, я все-таки хочу знать: кто будет ухаживать за нашими лошадьми?
В общем, подобные споры все продолжались, то стихая, то вновь разгораясь. Кое-кто из мальчиков учился у меня в школе, и эти ребята старались держаться поближе ко мне — я думаю, скорее по привычке. Мне стало скучно; монотонным спорам не было конца, и я наконец не выдержал и предложил:
— Вот что, урок, в конце концов, мы отлично можем провести и здесь. Пепа, начинай декламировать «Мост через Нисас»! — Мы как раз разучивали с ними эту несколько монотонную балладу, и она им очень нравилась.
Пепа, очень хороший ученик, тут же смутился; ему неловко было декламировать стихи в толпе взрослых мужчин, и я, чтобы подбодрить его, сам произнес первую строчку:
— «У стен высоких Этры…» Ну же, Пепа, продолжай! — Он тут же подхватил, и очень скоро все мальчики по очереди повторяли нараспев прекрасные строки баллады; один начинал, второй подхватывал — в точности как мы это делали в классе. Ралли пронзительно чистым, точно звук трубы, голосом смело пропел:
И я вдруг заметил, что люди вокруг нас притихли и слушают. Кое-кто вспомнил, что и сам когда-то ходил в школу; а многие слышали эти стихи впервые, но внимали им без насмешливых улыбок, явно тронутые описываемыми в балладе событиями и призывом мужественно защищать родной город. Когда один из мальчиков запнулся, двое каких-то взрослых мужчин подхватили полузабытые строки, которые и они когда-то учили в классе у Эверры, а может, у того учителя, что был до Эверры. Завершив начатую строфу, они словно передали эстафету следующему мальчику, а когда отзвучал впечатляющий финал поэмы, послышались одобрительные возгласы, поздравления в адрес учеников и первый смех за весь этот день.
— Хорошая песня! — похвалил нас конюх Сим. — Теперь давайте еще что-нибудь этакое! — И я заметил, что Эверра стоит в дверях своей комнатушки и очень внимательно слушает. Выглядел он каким-то очень хрупким, старым и седым.
Мы продекламировали одну из баллад Феррио, которая нашим слушателям тоже очень понравилась, — теперь уже слушали почти все. Впрочем, «Мост через Нисас» явно вызвал наибольшее одобрение.
— Давайте еще разок этот «Мост», — сказал кто-то и. вытащив вперед одного из мальчиков, подсказал ему начало: — «У стен высоких Этры…»
К вечеру многие в Хижине уже знали эту балладу наизусть, и на помощь им пришла та способность быстро все запоминать, которую мы часто теряем, научившись читать и писать, и взрослые мужчины в унисон с учениками школы хором ревели знакомые слова.
Порой, правда, они добавляли такие четверостишия, от которых у Феррио волосы бы на голове встали дыбом. Впрочем, сквернословам тут же затыкали рот: «А ну прекратите непристойности! Здесь дети!» И эти взрослые люди просили прощения у Эверры. Вообще большая часть взрослых рабов испытывала к нашему учителю неподдельное уважение, а сейчас — еще и желание защитить его. Эверра хоть и был одним из них, но все-таки не совсем таким же, как они; его и хозяева очень ценили — как же, образованный человек, который знает куда больше, чем многие высокорожденные! Рабы им гордились. Постепенно в Хижине стал устанавливаться порядок, за которым следили в основном Сим и Меттер, как бы взявшие на себя ответственность за соблюдение правил поведения и принятие решений. С Эверрой они, разумеется, советовались, но по большей части все же оберегали его и держали в стороне. И мне повезло: ведь я был его учеником и последователем, а потому мне разрешили спать в его клетушке на полу, а не в чудовищной тесноте большой комнаты, где к тому же ужасно воняло уборной, находившейся рядом, за дощатой стеной.
Хуже всего для большинства из нас было то, что нас держали в полном неведении относительно того, что происходило снаружи, относительно судьбы нашего города и нашей судьбы. Еду нам готовили на общей кухне, и дважды в день кто-то из кухарок приносил ее к дверям Хижины. Тогда отодвигали засов на двери, саму дверь ненадолго распахивали настежь, и женщину встречал рев приветствий и непристойных предложений. Затем все это смолкало, и сыпались вопросы: идут ли бои? напал на нас Казикар или нет? удалось ли вражескому войску пробиться в город? Разумеется, на большую часть этих вопросов у наших кухарок ответа не было, а вот слухов хоть отбавляй. Впрочем, болтать с нами женщинам особенно не позволяли и очень быстро прогоняли обратно в дом, а мы за обедом все продолжали перемалывать вместе с хлебом и мясом эти жалкие сведения и слухи, пытаясь извлечь из них какое-то рациональное зерно. В основном все соглашались в том, что у стен города, скорее всего у Речных ворот, ведутся бои, но атакующей стороне в город прорваться не удалось, хотя и отогнать войско Казикара от наших стен окончательно этранцам тоже пока не удается.
И когда на четвертый день нас наконец выпустили из заточения, оказалось, что именно так все и было. Войска, занимавшиеся военной подготовкой в лагерях, были поспешно переброшены в город из его южных окрестностей и присоединились к кавалерии, находившейся неподалеку, Первую мощную атаку им удалось отбить, и теперь кавалерия преследовала войско Казикара уже за пределами Этры. Городская стража сумела вовремя отступить под прикрытие городских стен и стойко удерживала их, несмотря на мощный натиск вражеских отрядов. Впрочем, авангард Казикара не имел при себе никаких осадных орудий, явно рассчитывая на внезапность массированной атаки на главные городские ворота, через которые легко было проникнуть в самый центр города. В этом и заключалась их тактическая ошибка. Если бы командир вражеского войска, видимо страстно жаждавший славы, не предпринял столь плохо подготовленной атаки, которую городской страже удалось не только замедлить, но и остановить, у нас действительно могло бы не хватить времени предупредить армию и поднять горожан по тревоге, и Этра вполне могла быть захвачена и сожжена.
А нас еще и заперли в Хижине… Впрочем, теперь уже не имело ни малейшего смысла размышлять на эту тему. Мы вышли на свободу, и радость освобождения была столь всепоглощающей, что горький осадок почти не ощущался.
В тот вечер все, кто смог, выбежали на улицы, чтобы приветствовать первые отряды, возвращавшиеся по мосту через реку Нисас. Даже Сэл украдкой выскользнула из «шелковых комнат», переоделась в мужскую одежду и вместе со мной отправилась к Речным воротам встречать наши войска. Это был совершенно безумный поступок, ибо «подаренной» девушке, осмелившейся выйти на улицы города, грозило ужасное наказание. Но в ту ночь всюду царили радость, всепрощение и вседозволенность; мы точно купались в этом потоке всеобщего ликования, от всего сердца приветствуя наших воинов. В диком мерцании факельных огней мы заметили среди военных и Торма, коренастого, мрачного и воинственного, узнав его по странной походке и привычке размахивать руками. Сэлло тут же опустила голову, скрывая лицо, потому что встреча с Тормом не сулила нам обоим ничего хорошего и вряд ли Торм промолчал бы, увидев подаренную своему брату девушку болтающейся по улицам. Мы с Сэл тут же бросились назад к Аркаманту, смеясь и задыхаясь, и по тихим темным улочкам и дворам быстро добрались до дому.
На следующий день мы услышали от Сэл — а она узнала это от самой Матери Фалимер, — что полк Явена собираются вернуть для охраны города. Сэлло прямо-таки светилась от радости.
— Он возвращается! И будь что будет, мне все равно! Только бы он был со мной! — все повторяла она.
Но, как оказалось, это была последняя хорошая новость, дошедшая до нас.
В Казикаре отлично знали, что войска Этры заняты борьбой с вооруженными бандами из Морвы и Оска, а потому и послали тот первый, довольно большой отряд, чтобы он попытался, совершив молниеносную атаку, внезапно захватить город. Но эта попытка провалилась. Отброшенные защитниками города, воины Казикара поспешно отступили, но всего лишь к границам наших владений, где уже разместилась вся огромная вражеская армия, успешно преодолевшая и довольно большое расстояние от самого Казикара, великого города-государства на реке Морр. и приграничные горы.
В Этре появилось множество беженцев-селян, охваченных паникой; многие явились в город с пустыми руками, другие же, наоборот, волокли с собой все, что могли, погрузив свое имущество в фургоны и повозки, а перед собой гнали еще и скот. Но уже на третий день после того радостного вечера, когда мы встречали наши войска, городские ворота были заперты. Этра оказалась окружена вражескими войсками со всех сторон.
Стоя на стенах, мы видели, как воины Казикара методично воздвигают один лагерь за другим; волокут бревна, копают оборонительные рвы на случай атаки противника. Теперь они были явно хорошо подготовлены к долгой осаде. Среди простых палаток высились расшитые шатры офицеров; то и дело прибывали повозки, доверху нагруженные зерном и фуражом; были построены просторные загоны для коров и овец, захваченных по дороге в деревнях и на фермах, так что мясом войско Казикара себя обеспечило надолго. У нас на глазах вокруг Этры рос еще один город, город мечей.
Сперва никто даже не сомневался в том, что вскоре с юга подойдет наша армия и попросту сметет захватчиков. Надежда на это умирала с трудом. Прошло несколько недель, прежде чем мы увидели, как первые этранские отряды стали изгонять казикарцев с насиженных, укрепленных рвами позиций. Мы радостно приветствовали наших воинов, стреляли зажженными стрелами по палаточному городу, дабы отвлечь врага. Однако этранцам все время приходилось отступать, поскольку захватчики превосходили их численностью раз в десять. Нас мучил вопрос: где же те мощные полки, что отправились отгонять от наших границ морванов и осканцев? Что же происходит на юге? По городу поползли страшные слухи, которым невозможно было не верить. Ведь мы были отрезаны ото всего мира и почти никаких вестей не имели.
В первое же утро осады Сенат направил депутацию в башню над Речными воротами, желая предложить противнику вступить в переговоры и объяснить причины столь беспричинной и наглой агрессии. Однако генералы Казикара от переговоров отказались и позволили своим солдатам выкрикивать оскорбления и насмешки в адрес наших сенаторов. Одним из этих сенаторов был Алтан Арка. Я видел, как он вернулся домой, черный от гнева и унижения.
На следующий день Сенат провозгласил одного из своих членов диктатором Этры; им стал Канок Эреко Бахар. Это был древний титул, о котором вспоминали лишь в случае крайней необходимости, присваивая его временному верховному командующему. И всей нашей жизнью сразу стали править новые правила и указы. Прежде всего, ввели строгий учет продовольствия: все запасы провизии были свезены из домов и собраны в просторных общественных складах на рынке; продукты выдавались с поистине ритуальной четкостью и пунктуальностью; пытавшихся утаить продовольствие повесили на площади перед Гробницей Предков. Все мужское население от двенадцати до восьмидесяти лет было записано в оборонительные отряды, которыми командовала городская стража. Что же касается рабов-мужчин, то в начале осады многих снова позапирали в амбарах и мужских Хижинах. Нам, например, Отец Арка попросту запретил выходить по ночам за пределы нашего Двора; кстати, точно такой же строжайший комендантский час был вскоре введен приказом диктатора и во всем городе. Было очевидно, что рабы-мужчины, крайне необходимые для самых различных работ, стали совершенно бесполезными, поскольку их запирают, точно телят, когда хотят, чтобы животные поскорее набрали вес. И диктатор Бахар издал следующий декрет: рабы по-прежнему остаются собственностью своего хозяина, однако сейчас в связи с чрезвычайным положением они поступают в распоряжение города и Сенат может затребовать группу рабов из любого Дома и присоединить ее к гражданской трудовой армии, проживающей в казармах. Раб, получивший такой приказ, немедленно переезжает в казармы и выполняет ту или иную работу под командованием нашего ветерана, генерала Хастера.
Впервые меня послали в казармы в июне, после почти двух месяцев осады. Я был даже рад этому; мне хотелось быть полезным своему городу и своему народу, и пребывание в классной комнате Аркаманта казалось мне постыдным, слишком уж далеки были там повседневные страхи и заботы Этры. Я страстно мечтал уйти и присоединиться к взрослым мужчинам и был настроен чрезвычайно патриотично, как и большинство обитателей Аркаманта да и жителей города в целом. Когда миновали первые ужасы и потрясения осадного положения, мы обнаружили, что вполне можем жить и в весьма суровых условиях, по строгим правилам, при минимуме пищи, терзаемые бесконечной тревогой и со всех сторон окруженные врагом, стремившимся сокрушить нас если не огнем и мечом, то голодом. Оказалось, что и в такой ситуации можно не просто жить, но жить хорошо, не теряя надежды и чувства локтя.
Сэл пришла ко мне вечером накануне того дня, когда я должен был отправиться в казармы гражданской армии. Она была беременна, но это ничуть ее не портило: глаза горели, смуглая кожа так и светилась. Мы, разумеется, давно уже не получали от Явена никаких известий, но Сэлло была уверена: если с ним что-нибудь случится, она непременно сразу это почувствует, так что пока у него все хорошо.
— Вот ты всегда все помнишь, — сказала она, улыбаясь и обнимая меня. Мы с ней сидели на школьной скамье, как когда-то в детстве, и она, помолчав, спросила: — А помнишь, ты мне рассказывал об одном своем видении — ты еще часто его потом вспоминал? Оно ведь было в точности похоже на самое начало этой войны, на тот, самый первый налет. А ты это видел задолго до этого… Я вот ничего такого не вижу. Зато я кое-что понимаю. Я в этом уверена. Помнишь, старая Гамми говорила нам: «У людей с Болот есть странные способности…»? Сэлло засмеялась и ласково подтолкнула меня.
— Ох, Сэл, — сказал я, — а ты никогда не думала о том, что хорошо было бы попасть туда, на эти Болота? Увидеть места, откуда мы родом?
— Нет. — Она помотала головой и снова засмеялась. — Я хочу быть здесь, с Явеном-ди, и чтобы он почаще бывал дома, и чтобы не было никакой осады и было сколько угодно еды!.. А вот тебе… Может быть, тебе все же удастся туда поехать, когда кончится осада. Вот станешь ты ученым, начнешь путешествовать… Для начала тебе, наверное, разрешат покупать в других городах книги, как, например, Мимену. Он ведь часто ездит в Пагади, верно? Вот и ты сможешь путешествовать по всему Западному побережью и на великие Болота сможешь поехать. Там наверняка у всех такие же длинные носы, как у тебя. — Она погладила меня по носу. — Или как у аистов. Ах ты, мой Клюворыл! Вот увидишь, все так и будет!
Сотур тоже зашла ко мне накануне моей отправки в казармы, и это произвело на меня столь сильное впечатление, что я совершенно утратил дар речи. Она вложила мне в руку маленький кожаный кошелечек и сказала, улыбаясь:
— Это, возможно, тебе пригодится. Ничего, Гэвир, скоро мы опять будем свободны!
Да, разумеется, освобождение нашего города означало и нашу свободу, хоть мы и оставались рабами.
Однако в казармах гражданской армии царили, как оказалось, совсем иные настроения. Да и жизнь там шла иначе. Во всяком случае, я очень скоро понял, насколько по-детски глупым было мое стремление попасть туда. Ведь после Аркаманта я был совершенно не подготовлен к тяжелой работе и скотскому существованию общественного раба. Группа, к которой меня присоединили, должна была разбирать старый склад и относить строительный камень к Западным воротам, где его использовали для восстановления башни и стены. Эти каменные глыбы весили, наверное, не меньше полтонны, и для подобной работы, разумеется, требовалось определенное умение, которым никто из нас не обладал. Не было и соответствующих инструментов, их вообще приходилось выдумывать самим. Мы работали с рассвета до темноты. Пропитание у нас было таким же, как и в Аркаманте, но для той жизни этого вполне хватало, а сейчас всем нам постоянно хотелось есть. Староста нашего отряда, Коут, славился невероятной физической силой и почти полной нечувствительностью к боли. А начальником Коута и правой рукой Хастера — Хастер вообще был здесь самым главным — оказался Хоуби.
Войдя в казарму, первым я увидел именно Хоуби. Он здорово окреп за последнее время, тело его так и бугрилось мускулами. Голову он теперь чисто брил, что делало его сходство с Алтаном-ди и Тормом менее очевидным. Но старый шрам, пересекавший ему бровь, и свирепый взгляд остались прежними. Я поздоровался и хотел даже немного поговорить с ним, но он лишь глянул на меня с нескрываемой ненавистью и презрением и отвернулся.
Он ни разу не заговорил со мной в течение тех двух месяцев, что я провел в казармах. Именно он определил меня в тот отряд, который должен был разбирать и таскать камни, в «каменную бригаду», как нас называли, и старался любыми способами сделать мою жизнь как можно тяжелее. Власти у него для этого хватало. И кое-кто, желая выслужиться перед начальством, тоже пытался мной помыкать. Другие же, напротив, старались по возможности защитить меня от происков Хоуби и постоянно спрашивали. что, собственно, «наш командир» против меня имеет. Я неизменно отвечал, что не знаю; возможно, он просто считает меня виноватым в том, что когда-то в детстве во время игры получил этот шрам.
Хастер сразу потребовал, чтобы мы сдали ему все наличные деньги, потому что в казарме кое-кто вполне мог и за грош соседа прикончить, если б узнал, что у него этот грош имеется. Мне страшно не хотелось расставаться с подарком Сотур — десятью бронзовыми «орлами» в кожаном кошелечке; у меня ведь никогда прежде не было собственных денег. Хастер был с нами честен — по своему разумению, конечно, — и сразу сказал, что пятую часть каждой суммы, оставленной ему на хранение, возьмет себе; однако остальное выдавал по первому же требованию, хоть и мелкими монетами. В городе, естественно, процветал черный продовольственный рынок — в Аркаманте я о таких вещах и понятия не имел, — и я вскоре отлично знал, куда надо идти, чтобы купить дробленое зерно или вяленое мясо, чтобы насытить свое вечно голодное брюхо. За продукты черные торговцы вымогали у людей последние гроши.
Денежки, подаренные Сотур, подошли к концу гораздо раньше, чем закончился мой срок службы в гражданской армии, и последние полмесяца в «каменной бригаде» были самыми тяжелыми. Я даже не очень хорошо их помню, потому что голод и чудовищная усталость довели меня до того, что прежние видения, или «воспоминания», стали являться мне все чаще и чаще и я иногда как бы переходил из одного видения в другое, не успевая прийти в себя. Из тех райских мест с шелковистой синей водой и зелеными тростниками я перекочевывал прямо на вонючую казарменную постель и потом долго лежал без сна, глядя на низкий каменный свод, нависавший прямо над моим лицом (видимо, это был свод пещеры из другого моего видения); а потом вдруг оказывался у окна неизвестного мне дома и смотрел на белоснежную гору по ту сторону сверкающего под солнцем пролива; а потом это чудное виденье сменялось жестокой действительностью, и мне вновь приходилось ворочать тяжеленные каменные глыбы под палящим летним солнцем. Меня стали все чаще возвращать к реальной действительности свирепые жалящие укусы хлыста, которым Коут нещадно меня охаживал. «Приди в себя, дубина! И нечего на меня глаза пялить!» — орал он, а я тщетно пытался понять, где нахожусь и что мне надо делать. Мои сотоварищи по команде ругали меня, считая, что я отлыниваю от работы, подвожу их, а порой даже подвергаю опасности их жизнь. Позже я узнал, что Коут давно уже просил Хоуби убрать меня из «каменной бригады», но тот отказался. Наконец Коут через его голову обратился прямиком к Хастеру, который посмотрел, как я работаю, и сказал: «Да уж, от него и впрямь никакого толку. Отправь-ка его домой».
Так я получил освобождение. На то, чтобы добраться до дому, мне потребовался целый час. Приходилось присаживаться чуть ли не на каждом углу, чтобы перевести дыхание, собраться с силами и попытаться отогнать от себя те «воспоминания», те голоса, и странные огни, и лица, которые постоянно мелькали передо мной. Наконец сквозь ветви какого-то неведомого леса я увидел фонтан на залитой солнцем площади и широкий фасад Аркаманта, но, чтобы пересечь знакомую площадь, мне пришлось сперва нырнуть в темную зловонную пещеру. Когда же я добрался до нужной мне двери и постучался, открыла мне Эннумер.
— Уходи, нечего нам тебе подать! — рявкнула она и попыталась закрыть дверь. Говорить я не мог, и она, приглядевшись внимательней, узнала меня и разразилась слезами.
Меня отнесли в больницу и уложили в постель. Старый Ремен растер камфарной мазью рубцы от ударов хлыстом и напоил меня отваром из кошачьей мяты. Затем пришла моя сестра; сев у постели и роняя слезы, она обнимала меня, гладила по голове, баюкала, а потом, немного успокоившись, стала слегка надо мной подшучивать. Я хорошо помнил, как ко мне в больницу приходила тогда Мать Фалимер; эти воспоминания были настолько яркими, что сейчас казались мне чем-то вроде предвидений. И я с благодарностью сказал сестре:
— Как хорошо, что я уже дома!
— Ну конечно хорошо! А теперь поспи, тебе нужно отдохнуть, — сказала Сэл своим нежным, чуть хрипловатым голосом. — А когда проснешься, то поймешь, что ты по-прежнему дома и никуда отсюда не денешься, милый ты мой Клюворыл. — И я уснул.
Как только я немного поправился — а отдых и нормальная еда, хотя еды-то как раз стало, увы, совсем уж мало, сделали свое доброе дело, — я сразу же отправился в классную комнату и приступил к своим прежним обязанностям, словно никуда отсюда и не уходил.
Когда же в августе меня снова призвали в ряды гражданской армии, Эверра был настолько этим огорчен, что даже осмелился пойти к Алтану-ди и выразить свой протест. Вернувшись, он сказал мне:
— Да будет вечно благословен Дом Арка, Гэвир! Отец наш заботится о детях своих даже в дни войны и голода. Алтан-ди объяснил мне, что под началом Хастера ты больше работать не будешь; и жить в казарме тебе тоже больше не придется: тебе предстоит совсем другая работа, с людьми образованными. Вам нужно будет перенести свитки со священными пророчествами и древние летописи из старого хранилища, что у западной стены, в подвалы Гробницы Предков. Там этим драгоценным документам будут не страшны ни огонь, ни вода; там их никто не найдет даже в случае вторжения. Священной Коллегии Жрецов требуются для выполнения этой задачи исключительно умные и образованные люди, ибо необходимо соблюсти все возможные предосторожности и все тонкости соответствующих ритуалов. Эта работа действительно требует чрезвычайной аккуратности, однако она не будет слишком тяжелой. Это большая честь для Аркаманта, что выбрали именно тебя! — Эверра, по-моему, даже слегка мне завидовал, страстно мечтая собственными глазами увидеть все эти древние документы и рукописи.
Я тоже обрадовался; хорошо было бы на какое-то время забыть о своих учительских обязанностях, хотя меня не сколько тревожила, скажем, проблема еды. Кто его знает, думал я, как эти жрецы будут нас кормить? Теперь все в городе только и думали что о еде. В Аркаманте никогда особых запасов не водилось, а городские кладовые были уже практически истощены; в относительном достатке имелось только зерно. Отец и Мать Арка являли собой пример терпеливого воздержания; они неусыпно и строго следили за тем, что делается на кухне, и еда в доме, хоть ее и было очень мало, всегда распределялась по справедливости. Я с ужасом думал о том, что снова придется вернуться туда, где существуют всевозможные любимчики, где царствуют несправедливость и жестокость, где из-за пищи дерутся насмерть, где голодных бедолаг вовсю обманывают и обвешивают торговцы с черного рынка. Но ослушаться приказа я не мог и вскоре отправился в ту часть здания Священной Коллегии Жрецов, которая была отведена под жилище рабов. Во время первой же трапезы нам подали наваристый куриный бульон с сочным ячменем. Такой еды я не пробовал уже несколько месяцев и сразу понял, что мне здорово повезло.
Полдюжины тамошних рабов были все людьми пожилыми, так что жрецы просили прислать им помощников помоложе и из таких Домов, как Арка, Эрре и Бел, где, как известно, имелись и вполне образованные рабы. Например, я страшно обрадовался, увидев среди них Мимена из Белманта, доброго приятеля Эверры. Мимен привел с собой троих своих учеников. Затем там было двое рабов из Эрреманта, оба лет сорока; их звали Таддер и Йентер. Я о них и раньше слышал от Эверры, который ворчливо говорил о них с неким странным подозрительным восхищением: «очень образованные, но какие-то несерьезные, нет недостаточно серьезные!» Я понимал, что он имеет в виду: видимо, они читали «эти современные книги» — «современными» Эверра, как известно, называл все книги, написанные в последние сто или двести лет. И я оказался прав. Когда мы в тот вечер отправились спать — а в спальне было очень тесно, поскольку нам, тринадцати, пришлось как-то разместиться там, где прежде спали шестеро, но зато было тепло, светло и, в общем, вполне уютно, — то первое, что я увидел у кровати одного из моих новых знакомых, это «Космологии» Оррека Каспро. Эверра как-то раза два упоминал эту поэму, но таким тоном, каким врач упоминает об ужасной, смертельно опасной и страшно заразной болезни.
Таддер, сухолицый мужчина с острым взглядом, глаза которого словно прятались под густыми черными бровями, заметил мое изумление и спросил:
— Ты что, никогда этого не читал, парень? — У него был говор северянина, и в речи встречались порой незнакомые мне обороты.
Я покачал головой.
— Так возьми, — и Таддер протянул мне книгу. — Ознакомься хотя бы!
Я растерялся, не зная, как поступить. И невольно глянул в сторону Мимена, словно тот мог донести Эверре, что я посмотрел на запретную книгу.
— Представляешь, Эверра им не разрешает читать новых поэтов, — сказал Мимен, обращаясь к Таддеру. — Да и вообще никого со времен Трудека. Может, Каспро — это немного чересчур для начала?
— Нисколько, — возразил северянин. — Тебе, паренек, сколько? Четырнадцать? Пятнадцать? В самый раз просесть Каспро и восхититься его стихами. Ну вот, например, знаешь ты эту его песню? — И Таддер запел приятным чистым тенором: — «Как во тьме ночи зимней…»
— Эй, эй, вы там, потише! — проворчал Йентер, второй человек из Эрреманта. — Не стоит, братцы, в первую же ночь гусей дразнить!
— Это что же, тот самый гимн, который Каспро написал? — спросил старший из местных рабов, пожилой мужчина с тихим голосом и повадками безусловного вожака. — Мне, к сожалению, ни разу не довелось услышать, как его поют.
— Да, в общем, в некоторых местах за пение этого гимна могут и повесить, Реба-ди, — с улыбкой заметил Йентер.
— Только не здесь, — сказал Реба. — Продолжай, пожалуйста. Мне бы очень хотелось его послушать.
Таддер и Йентер быстро обменялись взглядами, и Таддер запел:
Красота его голоса и этот мягкий, но неожиданный прыжок мелодии на последних словах настолько потрясли меня, что я чуть не заплакал.
Йентер заметил это и сказал:
— Ага, ты только посмотри, Таддер, что ты с мальчиком сделал. Испортил ребенка одним-единственным стихотворением!
— Вот-вот, Эверра никогда мне этого не простит! — рассмеялся Мимен.
— Спойте еще разок, Таддер-ди, пожалуйста! — попросил один из учеников Мимена и быстро глянул на Ребу разрешит ли он? Реба молча кивнул, и Таддер снова запел, но на этот раз к нему присоединилось еще несколько голосов. И я вдруг понял, что уже слышал эту мелодию, точнее, отдельные ее фрагменты, те несколько нот, которые в казарме гражданской армии некоторые из рабов то и дело насвистывали, точно подавая друг другу некий сигнал.
— Ну все, спели, и довольно, — тихо, но очень твердо сказал старший. — Или вы хозяев разбудить хотите?
— Ох, вот уж нет! — вздохнул Таддер. — Чего не хотим, того не хотим.
Глава 6
Работать с этими людьми оказалось настолько же приятно, насколько ужасно было работать в «каменной бригаде». Порой, правда, приходилось поднимать и переносить огромные тяжелые сундуки и ящики, полные книг и документов, однако мы подходили к работе с умом, не бросались ворочать тяжести с нетерпеливой яростью; и, самое главное, друг к другу тоже относились терпеливо и с уважением. Наиболее трудную работу мы старались распределить по справедливости. Да и подбадривали нас не свист кнута и не сердитые окрики, а шутки и неспешные беседы прямо за разборкой и укладыванием манускриптов и бумаг. Мы разговаривали и об этих древних свитках, и о непрекращающейся осаде нашего города, и о последней огневой атаке — в общем, обо всем, что происходит или происходило под солнцем. Я получил немало дополнительных знаний, просто работая вместе с этими людьми, и прекрасно понимал это. Но очень многое из того, о чем они говорили между собой, вызывало в моей душе неясную тревогу.
Пока мы работали вместе с Ребой и другими здешними рабами, беседы наши обычно носили нейтральный характер. Но большую часть дня жрецы и их рабы были заняты отправлением ежедневных ритуалов в Гробнице Предков и Сенате, и вскоре Реба, убедившись, что нам можно полночью доверять и мы все сделаем с величайшей осторожностью и вниманием, стал оставлять нас без присмотра. Так что, спустившись в старое хранилище у западной стены, мы, семеро рабов, были предоставлены самим себе, и здесь, в подземелье древнего храма, за толстыми стенами, никто нас услышать не мог. И вот здесь, пока мы прикидывали, как лучше применить свои небольшие силы, как вытащить и перенести подгнившие сундуки и хрупкие свитки, не повредив их, и начиналось самое интересное. Здесь Мимен, Таддер и Йентер вели такие беседы, каких я еще ни разу в жизни не слышал. Теперь я понимал, почему Эверра считает, что современные авторы оказывают на людей «дурное влияние»! Мои новые товарищи постоянно цитировали Дениоса, Каспро, Реттаку и других «новых» поэтов и философов, о которых я никогда прежде даже не слышал. И все цитируемые ими стихи, хоть они и были поистине прекрасны, носили критический, взрывной, мятежный характер, были полны яростных эмоций — боли, гнева, неудовлетворенного желания.
Меня это чрезвычайно смущало. В «каменной бригаде», где я работал прежде, царили жестокие нравы, но тем людям и в голову не пришло бы ставить под вопрос свое положение в обществе; они, скорее всего, сочли бы детскими вопрос о том, почему у одного человека есть власть, а у другого ее нет совсем. Неужели, думал я, то общество, которое оставили нам в наследство наши Предки, о котором позаботились и судьба, и боги, можно в мгновение ока полностью переменить, стоит только захотеть? Меня окружали сейчас люди, куда более образованные и воспитанные, чем большинство высокорожденных жителей Этры, и куда более честные и тактичные в повседневной жизни, чем они; однако в своих разговорах и мыслях они проявляли просто невероятную, прямо-таки бесстыдную неверность по отношению к своим Домам и самой Этре, осажденной сейчас врагами. Они безо всякого уважения говорили о своих хозяевах, презрительно отзывались об их ошибках и просчетах. Они не испытывали ни малейшей гордости по поводу того, скольких солдат поставил в армию их Дом. Они критиковали даже моральный облик самих сенаторов! Таддер и Йентер, например, и вовсе считали, что, возможно, некоторые сенаторы, вступив с Казикаром в тайный и преступный сговор, намеренно отправили большую часть наших войск на юг и тем самым расчистили Казикару подступы к Этре.
Я целыми днями слушал подобные рассуждения, но сам предпочитал помалкивать, хотя в душе моей росли гнев и протест. Когда Таддер, который даже и этранцем-то по рождению не был и прибыл к нам с севера, из Азиона, взялся рассуждать о падении Этры, но не как о страшном несчастье, а как об одной из возможностей переменить наше будущее, я не смог больше сдерживаться и буквально набросился на него. Не знаю, что уж я там сказал, — я смутно помню то, как с яростным гневом обвинял его в безверии, в предательской готовности разрушить наш город изнутри, в то время как враг находится у самых его стен…
Тут вмешались двое других юношей, ученики Мимена, и принялись осыпать меня презрительными насмешками, но Таддер остановил их.
— Гэвир, — сказал он, — извини, если я тебя обидел. Я уважаю твою верность родному городу. Но прошу, прими во внимание и то, что я тоже храню верность, только не тому Дому, который меня купил, и не тому городу, который использует мой труд. Я верен своему народу, таким же, как я, простым людям. И что бы я там ни говорил, я никогда не стану подбивать кого-то из рабов к мятежу! Я знаю, к чему это ведет. Так что пусть тебе подобные мысли даже в голову не приходят.
Ошеломленный его извинениями и его искренностью, устыдившись собственной несдержанности, я совсем смешался, отступил, и мы, как ни в чем не бывало, продолжили заниматься своей работой. Ученики Мимена, правда, всячески меня избегали, презрительно поглядывали в мою сторону и разговаривать со мной не желали, но старшие мужчины обращались со мной точно так же, как и прежде. На следующий день, когда мы с Йентером везли в подвал Гробницы Предков один из древних сундуков, погрузив его на маленькую ручную тележку, которую сами же и соорудили для перевозки наиболее хрупких реликвий, он успел рассказать мне историю Таддера. Рожденный свободным в одной из северных деревень, Таддер еще совсем мальчишкой был взят в плен вооруженными налетчиками и продан в рабство — в какую-то семью старинного города Азиона, где и получил образование. А когда ему было лет двадцать, в Азионе вспыхнуло восстание рабов, которое жесточайшим образом подавили. Тогда погибли сотни рабов, женщин и мужчин, а каждого подозреваемого в бунте клеймили каленым железом.
— Ты же видел его руки, — сказал Йентер.
Я действительно видел эти страшные шрамы и еще подумал тогда, что это, наверное, следы пожара или несчастного случая.
— Когда Таддер говорит «мой народ», — пояснил мне Йентер, — то имеет в виду не какое-то отдельное племя, или город, или Семью. Он имеет в виду всех нас, тебя и меня.
Я по-прежнему мало что понял из его слов, ибо тогда даже еще представить себе не мог человеческую общность, большую, чем та, что отгорожена от остального мира стенами Этры; я просто принял это как факт.
Ученики Мимена продолжали меня игнорировать, но уже довольно беззлобно. Все-таки я был гораздо младше даже самого младшего из них и, видимо, казался им всего лишь жалким недоучкой. Хорошо было уже и то, что они по-прежнему мне доверяли, зная, что я ни разу их не выдал. и в моем присутствии продолжали разговаривать совершенно свободно. И я — хоть меня по большей части и возмущало то, что они говорили, и я в душе презирал их за ханжество, за притворную верность хозяевам, которых они на самом деле ненавидели, — обнаружил вдруг, что все же прислушиваюсь к ним. Точно так же и дома я, словно зачарованный, прислушивался, испытывая отвращение, даже омерзение, и к разговорам об отношениях мужчин и женщин, которые велись порой у нас в Хижине.
Ансо, самый старший из учеников Мимена, любил разглагольствовать о «барнавитах», банде беглых рабов, живущих где-то в великих лесах, раскинувшихся к северо-востоку от Этры. Под предводительством некоего Барны, человека выдающегося роста и силы, эти рабы создали собственное государство — республику, в которой все люди были равны и свободны. Каждый человек имел право голоса и мог быть как избранным в правительство, так и исключенным оттуда, если плохо справлялся со своими обязанностями. Всю работу «барнавиты» делали вместе, товары и добытую пищу делили сообща и поровну. Жили они в основном охотой и рыбной ловлей, а также грабили на дорогах богатых купцов и торговые караваны, которые направлялись в Азион или из Азиона. Местные крестьяне и фермеры их поддерживали и никогда не выдавали ни Казикару, ни Азиону, поскольку «барнавиты» щедро делились с ними награбленным и нажитым добром, а эти земледельцы, хоть и не были рабами — чаще всего они были «освобожденными», — жили в ужасающей нищете.
Ансо весьма живо описывал жизнь «барнавитов» в этих диких лесах и уверял, что они не подчиняются ни хозяину, ни сенаторам, ни правителям государств и связаны лишь обетом верности своему сообществу, который дают исключительно добровольно. Ансо знал множество историй о смелых, даже отчаянных нападениях «барнавитов» на торговые караваны, охраняемые вооруженными воинами, на купеческие корабли, плавающие по реке Расси, а также о том, как «барнавиты», умело замаскировавшись, неузнанными приходят в большие города, даже в Казикар и Азион, и обменивают на рынке награбленное добро на то, что им более всего необходимо в лесу. Людей они никогда не убивают, сказал Ансо, только в случае самообороны; а если кто-то случайно забредет в их город, скрытый глубоко в лесной чаще, то ему придется либо молить их о помиловании и впоследствии, принеся обет верности, жить вместе с ними как свободный человек, либо умереть. И у бедняков они никогда ничего не отнимают, да и у зажиточных фермеров забирают только часть собранного урожая, но никогда не трогают зерно, оставленное для посева. Даже женщины на уединенных фермах и в деревнях «барнавитов» не боятся; женщин они тоже с радостью принимают в свое общество, но только в том случае, если женщина сама захочет к ним присоединиться.
Таддер, правда, сразу утыкался носом в книгу или попросту выходил из комнаты, как только Ансо садился на своего любимого конька и начинал рассказывать эти бесконечные истории. Но один или два раза Таддер все же не выдержал, взорвался и обозвал пресловутых «барнавитов» «обыкновенной бандой беглецов, промышляющих воровством». Он с таким презрением говорил о них, что это заставило меня задуматься, уж не имеют ли эти люди какого-то отношения к тому восстанию рабов, из-за которого пострадали и сам Таддер, и многие другие рабы в Азионе. Йентер относился к историям Ансо гораздо спокойнее, высмеивал их, называл «невозможной романтической бредятиной», и я был, пожалуй, согласен с ним. Идея о том, что сборище беглых рабов способно обустроить свою жизнь так, словно они сами в ней хозяева, перевернув при этом вверх тормашками вековой, священный миропорядок, казалась мне тогда абсолютно утопической. И все же мне нравилось слушать эти идиллические повествования о лесном братстве свободных людей.
Ибо слова «свобода» и «воля» постепенно завоевали свое, весьма существенное, место в моей душе; от них исходил какой-то яркий свет, точно от крупных летних звезд, которыми я так часто любовался в Венте. Я и в городе частенько поднимал глаза к темному небу, но здесь звезды всегда казались более далекими и тусклыми. Вечера у нас были свободными; мы проводили их в своей комнате, и жрецы разрешали нам брать масло для светильников. Я читал «Превращения» Дениоса. Эту книгу одолжил мне Таддер, и она стала для меня поистине великим открытием. Она была похожа на тот сон, превратившийся в «воспоминание», когда мне казалось, что я нахожусь в каком-то неизвестном мне доме, где в светлых комнатах меня радушно встречают незнакомые мне люди, и я вижу множество различных чудес, и меня приветствует какое-то чудесное золотистое животное… Дениос — величайший из поэтов, так утверждали все мои старшие товарищи. Он был рожден рабом и в своих стихах пользовался словом «свобода» с такой нежностью и почтением, что я неизменно вспоминал Сэлло, мою сестру, в те мгновения, когда она говорила о своем возлюбленном. У Мимена был потрепанный, умещавшийся в кармане рукописный вариант «Космологии» Каспро; он сказал, что никогда не расстается с этой книгой, и убедил меня прочесть ее. Мне поэма Каспро показалась очень странной и какой-то тревожной; понял я в ней очень мало, но порой та или иная строчка брала меня за сердце с той же щемящей силой, как тот гимн о свободе, который я услышал в самую первую ночь, проведенную здесь.
Однажды мне позволили отлучиться на часок и сбегать повидаться с сестрой. Стоял жаркий сентябрь. Сэлло выглядела неважно, из-за беременности ноги у нее сильно отекали, осунувшееся лицо казалось каким-то усталым. Она обняла меня и стала расспрашивать обо всем — о жрецах, о других рабах, о нашей работе, — так что все время говорил один я, а потом время у меня вышло, и пришлось бегом бежать назад.
А через несколько дней я получил весточку от Эверры: он писал, что ребенок у Сэлло родился семимесячным и прожил всего лишь час.
Мы не могли похоронить его на нашем кладбище у реки, потому что оно находилось за городской стеной. Во время осады тела умерших рабов сжигали в так называемых огненных башнях, как и тела полноправных горожан. И прах рабов смешивался с прахом свободных людей в водах Зольного ручья, который протекал возле огненных башен и выбегал наружу из-под городской стены через неширокую трубу, чтобы затем воссоединиться с водами реки Нисас, затем — реки Морр, а затем и с морем.
Я стоял в час осеннего заката у огненных башен на берегу ручья с горсткой других людей из Аркаманта. Сэлло на похоронах не было: она еще плоховато себя чувствовала, но Йеммер успокоила меня, сказав, что самое страшное уже позади. А через несколько дней мне позволили навестить сестру. Она показалась мне страшно худой и еще более усталой. Она все время плакала, обнимая меня, а потом сказала своим нежным, тихим, усталым голосом:
— Понимаешь, если бы он остался жив, его бы все равно постарались поскорее куда-нибудь сбыть или обменять на что-нибудь полезное. Я слышала, как в одном из Домов ребенка-раба обменяли на фунт мяса. Кому во время осады нужен лишний рот… Знаешь, Гэв, по-моему, он это понимал. Понимал, что никому по-настоящему и не хочется, чтобы он остался жив. Даже мне. Чем… — Она не закончила своего вопроса, а просто слегка развела руками в безнадежном жесте, и я понял, что она хотела сказать: «Чем он мог бы быть для меня или я для него?»
Меня потрясло, как изменились за это время все обитатели Аркаманта. Лица худые, даже костлявые, а взгляд такой же усталый и настороженный, как у Сэлло. Это было лицо осады. Зайдя в классную комнату, я с грустью обнаружил, что мои маленькие ученики совсем отощали, просто кожа да кости, стали равнодушными, вялыми. Дети во время голода всегда умирают первыми. Мы у себя в Коллегии Жрецов ели в два раза лучше, чем большинство людей в городе. Сэлло очень обрадовалась, увидев меня в добром здравии, и все просила, чтобы я рассказал ей, чем нас кормят. И я рассказывал о том, какой у жрецов рыбный пруд, как тщательно они охраняют своих кур-несушек, как нам время от времени перепадает то кусочек мяса, то тарелка наваристого супа, какой у них садик со священными травами и овощными грядами. Рассказал я и о том, что Предкам обычно приносят зерно в виде подношений, и получается, что зерно это кормит теперь не священных Предков, а их потомков. Мне было стыдно рассказывать об этом, но Сэлло сказала:
— Мне так приятно хотя бы послушать о еде! А оливки у жрецов есть? Ох, до чего же я соскучилась по оливкам! Больше всего! — Пришлось сказать, что и оливки нам иногда дают, хотя на самом деле я уже много месяцев ни одной не пробовал.
Перед самым уходом я успел еще повидаться с Сотур. Она тоже была бледной и вялой, ее прекрасные волосы пересохли и потускнели. Она ласково со мной поздоровалась, и я вдруг сказал, сам того не ожидая:
— Сотур-йо, ты не дашь мне бронзовый грошик? Я хочу купить Сэлло несколько оливок.
— Ах, Гэв! Где же ты их возьмешь? Мы их несколько месяцев не видели, — удивилась она.
— Ничего. Я знаю, где их можно достать.
Она молча посмотрела на меня своими большими глазами, кивнула и куда-то ушла. Потом вернулась и сунула мне в ладонь монетку.
— Жаль, что я не могу дать больше, — сказала она, тем самым превратив мою первую в жизни попытку попросить милостыню в нечто обыденное, простое и ничего не значащее.
За эту монету, на которую в прошлом году можно было купить фунт оливок, торговец на черном рынке дал мне всего десяток жалких сморщенных плодов. Я бегом бросился в Аркамант и попросил Йеммер передать их Сэлло, которую уже перевели в «шелковые комнаты». На работу я, разумеется, сильно опоздал, но Реба ничего мне не сказал — возможно, заметил, что я вернулся в слезах.
Реба вообще обладал мягким отзывчивым характером и ясным умом. Иногда мы с ним понемногу беседовали, и он рассказывал мне о священных ритуалах и обрядах, которые зачастую отправляли сами рабы. Он заставил меня почувствовать достоинство этой затворнической жизни и мирную красоту бесконечно повторяемых циклов обрядов и молитв, обращенных к Предкам, от которых зависело само благополучие, сама жизнь нашего города. По-моему, Реба видел возможность того, что мой Дом согласится отдать меня Коллегии Жрецов, и мне льстило, что он заинтересован именно в моей персоне. Я вполне мог представить себе жизнь там, в святилище, но хотел жить только в Аркаманте, рядом со своей сестрой, и не хотел заниматься более ничем, кроме того, к чему меня готовили с самого детства: выучиться и получить возможность учить детей моего Дома.
Наша работа приближалась к концу. Старинные документы были перенесены в подвалы под Гробницей Предков, и теперь их оставалось только разобрать и сложить. Эту работу можно было бы делать, почти не думая, однако большая часть старинных свитков и летописей не имели ни имени автора, ни каких-либо иных данных, а потому их следовало сперва просмотреть, пронумеровать страницы, постараться выяснить название и имя автора, затем очистить от грязи, пересыпать порошком от насекомых и только после этого как следует упаковать. Поскольку никого из нас дома особенно не ждали — кому нужен лишний рот в период голода? — то мы с удовольствием принялись за разборку этих безымянных документов. Жрецы и их немолодые рабы были очень этому рады; на самом деле без нас им было бы просто не под силу со всем этим справиться. Я с удивлением убеждался, что мы, семеро домашних рабов, и даже я сам, оказались куда более образованными, чем члены Коллегии. Они, разумеется, превосходно разбирались в древних обрядах и ритуалах, однако историю нашего города и его соседей знали очень плохо, как, впрочем, и историю тех обрядов, которые каждый день отправляли. Мы раскопали огромное количество самых разнообразных и невероятно интересных документов: жития великих людей Этры, начиная с самых первых дней ее существования; пророчества; описания гражданских и межгосударственных войн и союзнических отношений с другими городами. Все это чрезвычайно меня увлекало, и мне не давала покоя давняя моя мечта — написать историю всех наших городов-государств. Я чувствовал себя совершенно счастливым, зарывшись в груду старинных свитков и пергаментов в тиши глубокого подвала под мостовыми безмолвной, умирающей Этры.
— До чего же все-таки приятно окунуться в прошлое, — сказал как-то Мимен, — особенно если будущее ничего хорошего тебе не обещает.
Теперь у Зольного ручья днем и ночью горели погребальные костры — это жгли тела тех, кто умер от голода, — и дым от этих костров, поднимаясь вверх, смешивался с осенними туманами, отчего над крышами домов постоянно висела голубоватая пелена. Иногда в этом дыме чувствовался запах подгоревшего мяса, и рот у меня тут же невольно наполнялся слюной от голода и тошнотворного отвращения.
Снаружи у северной стены вражеская армия строила огромный земляной вал — опору для осадных орудий, из которых можно было бы бить по верхнему, более тонкому краю стены. Стража Этры и простые горожане, дежурившие на стенах, сбрасывали на строителей булыжники из разобранных мостовых, но враги были чересчур многочисленны и проворны, как муравьи, да и вражеские лучники стреляли в каждого, кто осмеливался показаться между зубцами стены. Защитники города собирали стрелы, выдернутые из тел умирающих; они вообще использовали любую возможность, чтобы пополнить свои колчаны, и делали стрелы даже из ветвей тех деревьев, что росли внутри городских стен, в том числе и старых сикомор.
Тревога царила и в Сенате; там шли жаркие дебаты и споры, порой изливавшиеся на городские площади. Почему, вопрошали уличные ораторы, Этра оказалась настолько неподготовленной к нападению? Почему в нашем городе не было достаточных запасов ни оружия, ни продовольствия и даже армия оказалась отосланной в дальние края? По городу ползли слухи: неужели среди сенаторов действительно есть предатели, сторонники Казикара? Говорили, например, что сенаторы отказались открыть городские ворота, потому что хотели, чтобы жители Этры вымерли от голода, прежде чем город будет сдан. В общем, одни считали упорство сенаторов благородным и мужественным, а другие — гнусным предательством. Кроме того, все шептались о несправедливом распределении продуктов. Многие торговцы с черного рынка были жестоко убиты, когда товары у них подошли к концу и их обвинили в утаивании продуктов. А дом одного купца разъяренная толпа попросту разнесла в щепы, ибо все были уверены, что у этого богача закрома ломятся от припасов, в то время как остальные умирают от голода. Но в кладовых купца люди не нашли ничего, только полбочонка сушеных фиг, спрятанного в Хижине рабов. Ходили слухи о запасах зерна, припрятанных в подвалах Сената или в подвалах Гробницы Предков и Коллегии Жрецов, и последнее, кстати сказать, было недалеко от истины. Жрецы просто в ужас пришли, узнав об этом. Они опасались не только за сохранность собственной жизни, но и своего драгоценного рыбного пруда, кур и огорода, и умоляли поставить вокруг святилища дополнительную охрану. В итоге охрана действительно была выставлена — десять человек, которые, разумеется, ничего не смогли бы сделать, если бы толпа все же ринулась на обитель жрецов. Однако святость Гробницы Предков по-прежнему охраняла и жрецов, и нас заодно.
Была уже середина октября. Жизнь как бы застыла, повиснув на волоске, и всем казалось, что наш конец близок. Еще несколько дней — и либо начнется штурм северной стены, который, конечно же, закончится успешно, либо вышедшая из повиновения толпа горожан откроет какие-то ворота, пытаясь спастись, прежде чем в городе начнутся пожары и резня. Впрочем, возможно было, что Сенат все же решит сдать город, дабы избежать полного его уничтожения.
И тут случилось то, на что мы уже давно утратили всякую надежду.
На рассвете, когда дымная пелена и туман тяжело висели над улицами Этры, над вражеским лагерем и над рекой Нисас, мы вдруг услышали сигналы боевой тревоги, громкие крики, пение горнов, ржание лошадей, бряцанье оружия. Это армия Этры наконец-то вернулась домой.
Все утро мы слушали шум битвы за городской стеной, а те, кому посчастливилось подняться на стены, могли и наблюдать сражение. Нас, рабов, естественно, заперли во дворе, и мы лишь просили тех, кто пробегал мимо наших ворот, сообщить нам хоть какие-то новости. Ближе к полудню большой отряд городской стражи промаршировал через площадь и остановился перед Гробницей, желая получить благословение Предков. Все воины были пешими, лошадей в городе давно уже не осталось: их забили и съели. Вид у стражников был жалкий — худые, оружие убогое, одежда превратилась в лохмотья, лица измученные. Казалось, это просто нищие, притворяющиеся воинами, или, может, призраки воинов. Однако Предки благословили их устами жрецов, и они двинулись по Долгой улице к Речным воротам. Шли они молча, слышно было лишь ритмичное бряцанье их оружия. Затем впервые за шесть месяцев ворота распахнулись, и отряд этранских стражников ринулся наружу, ошеломив врага этим неожиданным нападением с тыла, ибо те уже вступили в бой с нашими войсками. Об этом мы, по крайней мере, услышали собственными ушами, потому что люди, забравшись на крыши и наблюдая оттуда за сражением, во все горло комментировали его. Потом мы услышали оглушительный рев и победные кличи, и наблюдатели с крыш закричали:
— Ура, мы захватили мост! Мост перешел в руки Этры! И весь тот день, хотя не раз звучал сигнал тревоги и отдельные отряды Казикара все еще пытались отбить прежние позиции, продолжался постепенный откат вражеского войска от стен города. Армия Казикара бежала под натиском этранцев, тщетно пытаясь перегруппироваться и найти более выгодные пути к отступлению, но все они в итоге оказались блокированы, и к вечеру огромное войско, столько месяцев осаждавшее Этру, превратилось в разбросанную по полям между Этрой и рекой Морр толпу обезумевших людей, пытающихся спасти свою жизнь. Тех, кому удалось переправиться на тот берег реки Нисас, наша кавалерия преследовала, точно охотники дичь, — впоследствии это побоище получило название «охота на диких свиней». Снаружи, у городских стен, на земляном валу и повсюду в разгромленном лагере толстым слоем лежали мертвые тела, тысячи мертвых воинов, уже лишенных доспехов и оружия. Река Нисас местами вышла из берегов, так она была запружена мертвецами.
Нас выпустили на свободу после заката. Я поднялся на стену у Северных ворот и увидел, как живые движутся среди груд мертвецов, приподнимая и переворачивая их, словно туши забитых овец, чтобы снять с них доспехи, а порой и перерезая кому-то горло, если возникали сомнения в том, что человек мертв. Вскоре призвали рабов — нужно было собрать погибших этранцев и перенести их тела к погребальным кострам на берегу Зольного ручья. Нас семерых тоже послали туда, и мы всю ночь при свете луны и факелов собирали и носили трупы. Это была жуткая работа. Я отчетливо помню лишь то, что каждый раз, когда мы с Ансо, работая в паре, клали очередное тело возле погребального костра, мне приходила в голову одна и та же мысль: о ребенке Сэлло, сыне Явена и моем племяннике, который прожил всего час в умирающем от голода городе. И каждый раз я просил Энну сопроводить в страну мертвых не душу этого мертвого воина, а ту крошечную, безвинно загубленную душу, не оставить ее во время странствий по полям вечной тьмы и вечного света.
Очень много было погибших из числа городских стражников. Они дорого заплатили за свою храбрую атаку.
Всю ту ночь в городе было неспокойно; и свободные граждане, и рабы ринулись в открытые ворота и принялись грабить продовольственные кладовые армии Казикара, и этранским солдатам, которые обязаны были охранять и ворота, и эти кладовые, пришлось отступить под натиском изголодавшихся людей, в большинстве своем к тому же хорошо им знакомых. Некоторые воины даже привезли в город повозки, нагруженные зерном, и горожане, облепив их, точно муравьи, дрались из-за каждой горстки зерна. Порядок был восстановлен лишь на рассвете, да и то пришлось применить силу — кнуты, дубинки и даже мечи. В тусклом утреннем свете я видел, какой ужас был написан на лицах воинов, когда они смотрели на своих соотечественников, женщин и мужчин, которые копошились над обглоданными останками овец, точно черви на дохлой крысе.
Рабам под угрозой смертной казни было приказано к полудню вернуться в дома своих хозяев. Так что я покинул святилище, успев лишь поблагодарить старого Ребу и принять в подарок от Мимена его рукописную копию поэмы Каспро.
— Только Эверре эту книжку не показывай, — сказал Мимен со своей суховатой усмешкой, и я, не зная, как его благодарить за столь щедрый дар, лишь пробормотал, заикаясь:
— Нет, нет, ни за что…
Это была моя первая собственная книга. Первая по-настоящему ценная вещь, которая действительно принадлежала мне. Я называл одежду, что была на мне, «своей одеждой» и доску в нашей классной комнате «своей доской», но даже эти вещи мне не принадлежали. Они были собственностью Дома Арка, как и я сам. Но эта книга… эта книга была моей!
Явен, вернувшись домой, первым делом, разумеется, поздоровался с родителями, выразил им свою любовь и почтение и поспешил прямиком в «шелковые комнаты», Было необыкновенно приятно видеть, как после его возвращения сразу расцвела и засияла Сэлло. Явен не слишком исхудал — во всяком случае, у многих горожан вид был гораздо хуже, — но и ему, безусловно, здорово досталось, и выглядел он измученным, огрубевшим и усталым. Он много рассказывал нам об этой военной кампании — мне, Сэл, Сотур, Астано и Око, когда мы все собрались у Эверры в классе, как в былые времена. Оказывается, против Этры вместе с войском Морвы выступили и несколько полков из Галлека, а также из Вотуса и Оска, так что нашим воинам приходилось нелегко, отбивая атаки по нескольким направлениям одновременно. Явен считал, что этранские военачальники допустили несколько существенных ошибок, отдавая путаные приказы, но никакого предательства в рядах нашей армии не было. Этранской армии действительно никак не удавалось поспешить на помощь родному городу, поскольку они постоянно вели сражения с вражескими полками, наступавшими с разных сторон, и в случае их отступления враги, несомненно, стали бы преследовать их до самых городских стен. Однако им все же удалось одержать победу, и они сразу же бросились на помощь Этре. Ночью они по лодочному мосту переправились через реку Морр и врасплох застали осаждавшую наш город армию Казикара, нанеся удар с востока, откуда его никто не ожидал.
— Однако мы и представить себе не могли, до чего трудно вам здесь приходится! — признался Явен. — Мне и сейчас страшно подумать, как вы здесь голодали… — Астано показала ему кусочек «осадного» хлеба, который специально для этого сохранила: коричневатую корочку, похожую на древесную стружку; хлеб в последние недели осады пекли из небольшого количества ячменной или пшеничной муки грубого помола, смешанной с соломенной трухой и солью.
— Вот уж соли у нас было сколько угодно, — сказала Астано. — Не было лишь того, что ею полагается солить.
Явен улыбнулся, однако мрачные морщины у него на лице так и не разгладились.
— Ничего, Казикар нам еще за это заплатит, — сказал он. — Мы его заставим!
— Ах, и ты говоришь о плате… — промолвила Сотур. — Значит, мы теперь купцы?
— Нет, сестренка. Мы воины.
— Нет, а вот с нами, женами воинов, их возлюбленными, матерями и сестрами… как будет Казикар расплачиваться с нами?
— Да уж как получится, — мягко ответил Явен и обнял за плечи Сэлло, сидевшую с ним рядом на школьной скамье.
Эверра заговорил о чести города, об оскорблении, нанесенном нашим великим Предкам, о необходимости мести. Явен слушал его внимательно, но больше о войне не сказал ни слова. Зато принялся расспрашивать меня о том, как мне жилось у жрецов, что мы делали в Гробнице Предков и какие древние документы и реликвии спасали. И когда я рассказывал ему об этом, то видел перед собой лицо прежнего Явена, страстно любившего историю, эпос и поэзию и с таким вдохновением руководившего нами, когда мы «возводили» на вершине холма в Венте старинную крепость Сентас. Мне вдруг захотелось спросить у него, что он думает насчет «новых» поэтов. Возможно, подумал я, наш Явен когда-нибудь станет Отцом Аркаманта, а я буду учителем в его школе и тогда непременно дам ему прочесть «Превращения» Дениоса — пусть и он откроет для себя целый новый мир… Впрочем, все это были только мечты, по-настоящему я себе подобной возможности не представлял. И все же под воздействием мыслей об этом я рассказал Явену и о том, как мы еще в самом начале осады декламировали в мужской Хижине, где нас заперли, «Мост через Нисас» и все собравшиеся там мужчины хором ревели «У стен высоких Этры…». В общем, кончилось все тем, что мы прямо там, в классе, тоже принялись декламировать баллады, и Явен вел нас своим звучным голосом, и кое-кто из моих учеников, отощавших за время осады малышей, потихоньку прокрался в класс, чтобы послушать этот странный хор. Ребятишки с округлившимися от изумления глазами и не понимая, что происходит, смотрели на молодого высокого воина, который, радостно смеясь, с воодушевлением выкрикивал строки прекрасной поэмы Гарро: «Спасалось бегством войско Морвы, // Ее храбрейшие сыны бежали…»
— Снова и снова, — услышал я вдруг шепот Сотур. — И так далее, и тому подобное… — Она не выкрикивала вместе с нами патриотические стихи, и вид у нее был несчастный и растерянный. Заметив, что я смотрю на нее с пониманием и сочувствием, она резко отвернулась.
Всю ту осень после осады мы наслаждались одним из самых сладостных удовольствий — освобождением от непрерывного, сильнейшего напряжения и постоянного страха. В этом ощущении легкости и избавления от гнета, по-моему, наиболее ярко и проявляется свобода, ибо оно позволяет душе как бы воспарить над миром. И в Аркаманте царила атмосфера всеобщей терпимости и доброты. Люди были благодарны друг другу за то, что пережили вместе и выжили, несмотря ни на что. И теперь могли сколько угодно радоваться и смеяться, и действительно смеялись.
В начале зимы домой вернулся и Торм. Всю осаду он прожил где-то в городе, а не в Аркаманте. Временный диктатор учредил особое войско, состоявшее из тех, кто еще только учился военному делу, и воинов, которые в силу подученных ранений или по старости уже в армии не служили. Эти отряды были призваны оказывать всемерную помощь городской страже, стеречь крепостные стены и ворота, патрулировать улицы, а также порой выполнять функции пожарных и охраны общественного порядка. Войско, в котором служил Торм, немало помогло городу, защищая его и бесстрашно отражая огневые атаки противника. Сперва этих воинов многие считали настоящими героями, однако они все чаще стали принимать участие в казнях торговцев с черного рынка и вообще всех, кто припрятывал провизию, а также тех, кого подозревали в предательстве, и в итоге люди стали их бояться. Больше всего они боялись тех расследований и допросов, которые воины этого особого полка проводили всегда с особой жестокостью. Понемногу их стали обвинять в том, что они слишком широко и чересчур вольно пользуются данной им властью. Впрочем, через несколько дней после освобождения Этры это войско было распущено — после того, как временный диктатор подал в отставку, передав всю полноту власти Сенату.
Торму исполнилось всего семнадцать, но выглядел он значительно старше, да и вел себя как взрослый мужчина, мрачный, замкнутый и молчаливый.
Он привел с собой в Аркамант и Хоуби. В порядке вознаграждения за службу он попросил, чтобы Хоуби освободили от работы в гражданской армии и передали ему в качестве личного телохранителя. Как и Меттер, телохранитель Отца Алтана, Хоуби спал теперь у дверей комнаты своего хозяина. Он по-прежнему брил себе голову и стал куда крупнее Торма, но не заметить их сильнейшего сходства друг с другом было невозможно.
Причиной возвращения Торма в родной дом послужила помолвка Астано. Мать Фалимер так и не одобрила ее брал с Корриком Белтомо Рундой и выбрала ей в мужья родственника Коррика по материнской линии, Ренина Белтомо Тарка. Таркмант был одним из древнейших Домов Этры, хотя и не слишком богатым, а сам Ренин, многообещающий молодой сенатор, отличался приятной внешностью и умением вести беседу, хотя, по словам Сэлло, нашего главного источника сведений об очередном женихе Астано, образованием не блистал. «Он даже Трудека не читал! — возмущалась она. — Хотя, может, в политике он и разбирается».
А от Сотур мы на тему замужества не слышали ни слова Мы вообще мало ее видели. Казалось, она в отличие от нас так и не сумела освободиться от пережитого страха и напряжения. Она никак не могла набрать прежний вес, и у нее по-прежнему было «осадное» лицо. А если я встречал ее в библиотеке с книгой в руках, она лишь ласково здоровалась со мной, но старалась поскорее ускользнуть прочь. Моя мучительная страсть к ней прошла, превратившись в некую болезненную жалость с легким оттенком нетерпения: я совершенно не мог понять, почему она продолжает хандрить в такие чудесные дни, озаренные обретением свободы.
Эверре предстояло вручить жениху и невесте поздравительный адрес, и он целыми днями готовился к этому, выписывая подходящие цитаты из своих любимых классиков В благостной атмосфере той осени я чувствовал, что гадко и нечестно утаивать от моего старого учителя то, что я узнал от Мимена и других, работая в Гробнице Предков. И рассказал Эверре, что прочел Дениоса, а Мимен даже подарил мне свой экземпляр «Космологии» Каспро. Эверра помрачнел, покачал головой, но гневной тирадой не разразился, что весьма меня вдохновило, и я спросил: чем же поэмы Дениоса могут испортить тех, кто их читает, если они столь благородны как по языку, так и по содержанию?
— Неудовлетворенностью, — ответил Эверра. — Благородные слова, которые учат быть несчастным. Такие поэты отказываются от того, чем одарили их предки. Их труд — это бездонный колодец. Ведь если удалить твердую основу тех верований и представлений, на которых, собственно, и строится наша жизнь, то все будет впустую. Останутся одни слова! Заносчивые, пустые слова. А одними словами, Гэвир, сыт не будешь. Только вера дает нам и жизнь, и покой. Вся наша мораль основана на вере.
Я пытался доказать, что и в произведениях Дениоса, несомненно, есть некая мораль, просто более широкая, чем та, что известна нам, но разум мой тогда еще плутал наугад в потемках, и все мои доводы Эверра отмел своей незыблемой уверенностью.
— Дениос не учит ничему, кроме бунта, который, собственно, является… отказом от истины. Молодежь любит такие игры. Я хорошо с этим знаком. Да и ты, став старше, почувствуешь, как надоело тебе состояние этого болезненного безумия, и вернешься к вере, единственной основе нашей морали и нашего права.
Я с огромным облегчением вновь внимал уже известным мне незыблемым истинам. Да и сам Эверра больше ни слова не сказал о том, что запрещает мне читать Каспро. Кстати сказать, я тогда не так уж и часто открывал эту книгу: она оказалась чересчур трудной для меня; идеи, заключенные в ней, представлялись мне странными и весьма далекими от действительности; но порой строки из произведений Каспро или Дениоса сами собой всплывали в моей памяти, раскрывая вдруг весь свой потаенный смысл, раскрываясь во всей своей красе подобно тому, как весной прямо на глазах разворачивается только что проклюнувшийся буковый листок.
И одна из этих строк непрерывно крутилась у меня в голове, когда я стоял вместе со всеми домочадцами и смотрел, как Астано в белом с серебром платье идет через наш просторный атриум навстречу своему жениху: «Она подобна кораблю, плывущему в сиянье вод…»
Эверра произнес свою речь, блистая цитатами из классики и стремясь каждого из гостей потрясти образованностью обитателей Аркаманта. Затем Мать Фалимер сказала все те необходимые слова, которые всегда говорит мать, передавая свою дочь Дому ее будущего мужа. Затем вперед вышла Мать Таркманта, чтобы, в свою очередь, приветствовать и принять в свои объятия нашу Астано. После этого мои маленькие ученики спели свадебную песню, которую Сотур репетировала с ними в течение нескольких недель, На этом официальная часть закончилась. Музыканты на галерее настроили свои лютни и барабаны, и родовитые гости отправились в парадные комнаты пировать и танцевать. Для нас, домашних слуг, тоже устроили пир с музыкой и танцами, только на заднем дворе. Было холодно, моросил дождь, но мы все равно готовы были сколько угодно танцевать и пировать.
Свадьба Астано состоялась в день весеннего равноденствия. А через месяц Явена вновь отозвали в полк.
Этра готовила вторжение в Казикар. Вотус, заключивший во время войны против нас союз с Морвой, теперь переметнулся на нашу сторону, опасаясь растущей мощи Казикара и видя некую возможность для себя урвать свой кусок, пока Казикар ослаблен поражением в войне с Этрой Этранцы и вотусаны намеревались вместе штурмом захватить Казикар или осадить его. Это был огромный город-государство, порой выступавший против нас, а порой бывший нашим союзником в войнах с другими городами-государствами. В общем, «снова и снова, и так далее, и тому подобное», как сказала тогда Сотур.
Я виделся с Сэлло в тот день, когда уезжал Явен. Ей было позволено спуститься к Речным воротам, чтобы проводить его полк, отправлявшийся на войну под громкие торжествующие крики толпы. Сэлло не плакала. Она по-прежнему лелеяла твердую надежду, что Явен непременно к ней вернется; эта надежда согревала и питала ее душу в течение всей осады.
— Я думаю, Глухой бог все же прислушивается к нему, — сказала она с улыбкой, но совершенно серьезно. — Во время битвы, я хочу сказать. Во время войны. Но, к сожалению, не здесь.
— Не здесь? Что ты имеешь в виду, Сэл?
В этот момент мы были в библиотеке одни и могли разговаривать совершенно свободно. И все же она довольно долго колебалась. Наконец она подняла на меня глаза и, увидев, что я действительно ее не понял, пояснила:
— Алтан-ди даже рад, что Явен уходит на войну.
Я запротестовал.
— Нет, Гэв, это действительно так, честное слово! — Сэл говорила очень тихо, придвинувшись к самому моему уху. — Алтан-ди ненавидит Явена. Правда ненавидит! Он ему завидует. Ведь Явен должен унаследовать всю его власть, и его дом, и его место в Сенате. И Явен красив, высок ростом и добр, как его мать. Явен — настоящий Галлеко, он совсем не похож на представителей семейства Арка. И вот его родной отец едва может смотреть на него, до такой степени он ему завидует, ревнует его. Да-да, я столько раз это замечала! Наверное, раз сто! Почему, как ты думаешь, почему именно Явена, старшего сына и наследника, вечно отправляют на войну? Тогда как младший сын, которому и следовало бы служить в армии и который, кстати, получил великолепное военное образование и всю жизнь мечтал стать воином, остается дома в безопасности? Да еще и с этим своим «телохранителем»! С этим трусливым самоуверенным гаденышем! Я ни разу в жизни не слышал, чтобы моя добрая, нежная сестра говорила с такой ненавистью, и был потрясен до глубины души. Я просто слов не находил, чтобы ей ответить.
— Вот увидишь, — снова заговорила она, — именно Торма подготовят для того, чтобы он впоследствии служил в Сенате. Алтан Арка надеется, что Явена на войне… убьют… — Ее тихий страстный голос на этом ужасном слове дрогнул и прервался; она крепко стиснула мою руку. — Он действительно на это надеется! — прошептала она.
Мне безумно хотелось опровергнуть все, что она сказала, но слова по-прежнему не шли у меня с языка.
И тут в библиотеку вошла Сотур. Она остановилась, увидев нас, и уже хотела повернуться, чтобы уйти, но Сэлло подняла на нее глаза и так жалобно прошептала:
— Ах, Сотур-йо… — что Сотур бросилась к ней и с такой горячностью обняла ее, что я подивился в душе: я никогда прежде не видел, чтобы наша сдержанная, застенчивая, гордая Сотур столь бурно проявляла свои чувства. Казалось, они обе пытаются друг друга поддержать, подбодрить, но не в состоянии сделать это. Я был потрясен и все пытался убедить себя, что они утешают друг друга из-за того, что Явена снова нет дома, что он ушел в опасный поход, но сердцем понимал: дело совсем не в этом. То, что я видел перед собой, не было общим горем или общей любовью. Это был страх.
И когда глаза Сотур встретились с моими — поверх головы моей сестры, — я увидел в ее глазах яростное возмущение. Вскоре, впрочем, взгляд ее смягчился. Какого бы врага она до того ни видела перед собою, сейчас она наконец вновь увидела рядом меня, брата ее любимой подруги Сэлло
— Ах, Гэвир! — сказала она. — Не мог бы ты убедить Эверру, чтобы он попросил отпустить Сэлло в школу? Пусть бы она помогала ему учить малышей или еще что-нибудь — все, что угодно, лишь бы вытащить ее из этих проклятых «шелковых комнат»! Я понимаю, ты не можешь, он не может… Я все понимаю! Я и сама просила Мать Фалимер, чтобы Сэл отдали мне в горничные. Просила… подарить мне ее на день моего наречения именем, хотя бы пока Явена нет дома… Но она мне отказала; сказала: нет, это совершенно невозможно. А ведь раньше я никогда ни о чем ее не просила! Ах, Сэлло… ты должна заболеть! Или снова начать голодать и стать такой же худой и безобразной, как я!
Я ничего не понимал!
Но Сотур это было невдомек. Зато Сэлло сразу обо всем догадалась, поцеловала Сотур в обе щеки, повернулась ко мне, обняла и сказала:
— Ничего, Гэв, не тревожься. Все будет хорошо!
И ушла; вернулась туда, где жили наши «благородные» хозяева, где находились их «шелковые комнаты», а я пошел назад, в Хижину рабов. Я был озадачен и встревожен этим разговором, однако меня не оставляла искренняя уверенность в том, что Отец, Мать и Предки Аркаманта не допустят, чтобы в нашем Доме что-то и впрямь пошло не так.
ЧАСТЬ II
Глава 7
Я лежу в темноте, и от моей постели исходит какой-то странный сильный запах. Потолок совсем близко от моего лица, это невысокий свод из дикого черного камня. К моей ноге крепко прижимается что-то теплое и довольно тяжелое. Какое-то животное. Оно поднимает голову, заросшую серой шерстью; в уголках черных губ свирепая складка; темные глаза его смотрят куда-то за меня. Кто это — собака или волк? Я и раньше множество раз «вспоминал» это видение — пробуждение в неведомой пещере с гранитным сводом, и этого пса или волка, крепко ко мне прижавшегося, и эти вонючие шкуры вместо постели. И теперь я снова вспомнил об этом, ибо именно в такой пещере я и лежал сейчас, и рядом со мной тонко поскуливал серый пес, потом с ворчанием встал и куда-то направился, перешагнув через меня. И кто-то разговаривал с этим псом, затем подошел, присел возле меня на корточки, что-то сказал мне, но я ничего не понял. Я не понимал ни кто этот человек, ни кто такой я сам. Я даже голову приподнять не мог. Даже пальцем пошевелить. Я совершенно ослабел, я был пуст, я превратился в ничто. И ничего не помнил.
Но я, конечно же, стану рассказывать вам о том, что со мной случилось, по порядку, как это делают, скажем, историки, хоть и считаю это совершенно неправильным. В подобном изложении событий уже таится ложь. Ведь я прожил свою жизнь совсем не так, как написана ее история. Моя душа постоянно совершала как бы прыжки в будущее, и я запоминал то, чего еще не было, что еще только должно было произойти. Но теперь то, что было моим прошлым, оказалось для меня утраченным. И то, о чем я сейчас намерен вам поведать, мне пришлось довольно долго разыскивать в глубинах памяти, восстанавливать заново. Воспоминания эти прятались от меня, скрываясь во тьме прошлого, и я лежал в той темной пещере, точно в собственной могиле. Все началось ранним утром. Уже наступили теплые весенние деньки, и внутренние дворики Аркаманта казались в солнечном свете такими веселыми.
— Где Сэлло?
— Ой, Гэв, Сэлло и Рис ушли с Тормом-ди!
— С Тормом-ди?
— Да. Он повез их куда-то к Горячим Ключам. Они еще ночью уехали.
Вот что сказала мне Фалли, привратница из «шелковых комнат», вечно сидевшая в западном дворике со своей пряжей. Это была сырая, тяжеловесная, медлительная женщина; когда-то, очень давно, она и сама была «девушкой-подарком», ее подарили Отцу Алтану. Фалли каждый раз приседала и почтительно кланялась, стоило упомянуть Отца или Мать Аркаманта или кого-то из членов Семьи. Впрочем, она преклонялась вообще перед всеми представителями родовитых семейств, точно перед богами, и многие смеялись над ней из-за этого нелепого обожания знати. «Фалли, наверное, думает, что все знатные люди уже при жизни стали нашими Предками», — говорила Йеммер. Фалли вообще отличалась редкостной глупостью. Ну вот что за чушь она только что несла? Да еще и почтительно кланялась каждый раз, стоило ей упомянуть Торма! Ну с какой стати Торму брать с собой на Горячие Ключи мою сестру, да еще вместе с Рис?
Горячие Ключи принадлежали Коррику Рунде, сыну сенатора Гранока Рунды. Гранок был самым богатым и влиятельным человеком в правительстве Этры. А Коррик когда-то хотел жениться на нашей Астано, однако ему отказали; но он, похоже, никакой злобы не затаил и даже подружился с Тормом, а не так давно стал его начальником. Торм близко с ним сошелся и постоянно торчал в его компании, среди таких же богатых молодых людей, которые теперь только и делали, что радовались жизни. Ведь Этра опять стала свободной и процветающей, так их веселью просто не было конца. К сожалению, эти бесконечные пирушки в обществе веселых женщин частенько заканчивались уличными драками. Правда, кое-кому из нас эта дружба казалась довольно странной, ведь Торм всегда был букой, да к тому же увлекался военными искусствами, а франту Коррику он почему-то полюбился. Коррик прямо-таки ни дня без него прожить не мог; да и Отец Алтан весьма эту дружбу одобрял и всячески ее поддерживал как нечто полезное для Семьи, для всего Аркаманта, интересы которого были тесно связаны с Домом Рунда. Алтан-ди говорил, что молодость есть молодость, что женщины и выпивка — это нормально, что ничего страшного в этом нет, что ничего плохого с Тормом и Корриком, разумеется, не случится.
Тиб, ставший теперь помощником повара, по-прежнему таскался за Хоуби, как собачонка, стоило тому появиться в Аркаманте. А потом Тиб, разумеется, пересказывал нам то, что узнавал от Хоуби. Коррику и его приятелям нравилось спаивать Торма, поскольку тот в пьяном виде совсем разум терял и готов был на что угодно. Вот они его и подстрекали то подраться сразу с троими, то сразиться с медведем, то, сорвав с себя одежду, голым плясать на ступенях Сената, пока весь в мыле на землю не рухнет. Они, по словам Хоуби, Торма просто обожали и дружно уверяли его, что он просто потрясающий, хотя некоторым из нас казалось, что эта развеселая компания просто использует Торма, держит его для собственного развлечения, как шута или тех карликов, которых Коррик вечно заставляет бороться друг с другом. Я, например, считал, что роль Торма ненамного интереснее роли телохранителя Коррика, полоумного одноглазого великана Хурна. Но Хоуби уверял всех, что Коррик Рунда чрезвычайно ценит Торма, берет у него «роки фехтования и вообще воспринимает его как своего учителя и великого знатока воинских искусств. Он также говорил, что и все друзья Коррика очень уважают Торма и боятся его невероятной силы. Просто им нравится, когда Торм стервенеет от выпивки, потому что тогда и все вокруг начинают бояться не только самого Торма, но и всей их честной компании.
— Торм-ди молод, — заметил по этому поводу Эверра. — Пусть перебесится, погуляет, пока молодой. Ничего, став старше, он станет и мудрее. Его отец это прекрасно понимает. Он ведь и сам в молодости немало дров наломал.
Поместье Рунда под названием Горячие Ключи находилось недалеко от Этры среди богатых пшеничных полей. Сенатор выстроил там большой новый дом и подарил его своему сыну Коррику. Об этом Тибу тоже рассказал Хоуби, а уж Тиб, естественно, — нам. Загородное поместье Рунда роскошно обставлено, в «шелковых комнатах» полно красивых женщин, внутренние дворики все в цветах, а на заднем дворе — чудесный бассейн, куда вода поступает прямо газ горячего источника и всегда имеет ту же температуру, pro и человеческое тело. Вода в бассейне прозрачная, красивого зеленовато-голубого цвета, а на облицованных зеленым и пурпурным мрамором бортиках бассейна распускают свои роскошные хвосты павлины. Хоуби видел все это собственными глазами, поскольку в качестве телохранителя Торма бывал в этом поместье много раз. У всех знатных молодых людей в соответствии с тогдашней модой имелись телохранители. А у Коррика их было трое, не считая великана Хурна. Да и Торм тоже недавно вторым обзавелся. В Горячих Ключах телохранителей тоже иногда приглашали в «шелковые комнаты» позабавиться с женщинами и полакомиться разными вкусностями — разумеется, после хозяев. Довелось Хоуби и поплавать в этом теплом бассейне, Он хвастался перед Тибом и бассейном, и женщинами, и невероятными деликатесами — паштетом из печени каплунов или язычками нерожденных ягнят.
В общем, когда глупая Фалли сообщила, что Торм забрал с собой в Горячие Ключи мою сестру и Рис, мне показалось, что я с разбегу налетел на каменную стену и был настолько оглушен этим ударом, что в голове у меня стало как-то совершенно пусто. Я тут же бросился на кухню разыскивать Тиба; я надеялся, что, может, хоть он что-нибудь знает о намерениях Хоуби, хотя вряд ли тот стал бы болтать о подобных вещах. Тиб, естественно, ничего не знал, и когда я пересказал ему слова Фалли, он, похоже, не просто растерялся, а был совершенно ошеломлен. Помолчав, он сказал неуверенно:
— Но там же и так женщин полно; эти Рунда у себя в «шелковых комнатах» десятки рабынь держат. Торм говорил, что просто выбирает себе девушку по душе и вовсю с нею развлекается.
Не помню уж, что я ему на это ответил, но после моих слов Тиб надулся и перешел в наступление.
— Знаешь что, Гэв, ты, может, и учительский любимчик и все такое, но вспомни: ведь, в конце концов, Сэл и Рис — «девушки-подарки»!
— Торму их не дарили! — мрачно возразил я. Говорил я медленно, с трудом, потому что по-прежнему ощущал какую-то странную пустоту в голове. — К тому же Рис еще девственница, а Сэл подарила Явену сама Мать Фалимер. Торм не имеет права никуда уводить их из дома. Мать Фалимер никогда бы ему этого не позволила.
Тиб пожал плечами.
— Может, Фалли просто все перепутала, — сказал он и поспешно отвернулся, вновь занявшись своими делами.
Я пошел к Йеммер и рассказал ей то, о чем сообщила мне Фалли, прибавив то, что прежде сказал и Тибу, что Торм не имел никакого права увозить Сэлло и Рис и что Фалимер-йо никогда бы этого не позволила.
Йеммер, как и очень многие люди после осады, выглядела теперь гораздо старше своих лет. Некоторое время она молчала, потом воскликнула: «Ах ты…», горестно покачала головой и снова надолго умолкла.
— Да… Нехорошо это! — сказала она наконец. — Надеюсь, впрочем, что… Фалли просто ошиблась. Да наверняка ошиблась! Как она могла позволить ему увести куда-то девушек без разрешения хозяев? Я с ней поговорю. И с другими женщинами из «шелковых комнат» тоже. Ах, Сэлло! — Она всегда больше всех любила мою сестру. — Нет, этого просто быть не может! — вдруг воскликнула она куда более энергично. — Конечно же, ты прав: Фалимер-йо никогда бы этого не позволила. Никогда. Сэлло принадлежит Явену-ди! И ведь малышка Рис еще… Нет, нет, нет! У нашей Фалли просто мозги жиром заплыли, вот она все и перепутала. Прямо сейчас пойду и все выясню!
Я привык доверять Йеммер; она действительно всегда все тут же выясняла и исправляла. От нее я прошел прямиком в классную комнату, и мы с младшими учениками вновь принялись выпевать наизусть старинные тексты. До конца занятий я старался больше ни о чем не думать. Потом пошел на кухню, чтобы перекусить, и увидел, что там собралось довольно много людей, которые встревоженно о чем-то беседовали.
— Нет, — услышал я голос конюха Тэна, — я сам потом лошадей в стойло заводил. Он их в закрытый возок посадил и уехал вместе с Хоуби и этим бандитом, которого он у своего дружка Рунды перекупил; а лошадьми он сам правил.
— Ну, если Фалимер-йо позволила им поехать, так ничего страшного в этом нет! — пропищала Эннумер.
— Конечно, нет! И, конечно же, Мать Фалимер их отпустила! — поддержала Эннумер еще одна женщина, но Тэн покачал головой и сказал:
— Девушки были связаны! Он их точно узлы с грязным бельем в возок запихивал! Я даже не сразу понял, что это такое, пока Сэлло, высунувшись оттуда, не попыталась что-то крикнуть. Только Хоуби ей не дал и тут же снова ее туда запихнул, словно мешок с мясом, и дверцу захлопнул. А потом они уехали; Торм лошадей галопом погнал.
— Может, это просто шутка? — предположил кто-то из стариков.
— Ага, просто шутка! Только и самому господскому сынку, и его проклятому «двойничку» здорово влетит, когда Отец Алтан об этой «шутке» узнает! — злобно ответил Тэн и тут увидел меня. Он так и впился мне в лицо своими темными глазами, а потом спросил с тревогой: — Ну что, Гэв, ты-то хоть что-нибудь об этом знаешь? Может, Сэлло с тобой поговорить успела?
Я молча покачал головой. Говорить я не мог.
— Ох, да ничего, не тревожься, может, все еще обойдется, — спохватился Тэн. — Это просто дурацкая шутка, дядюшка верно говорит. Нет, правда шутка, хотя и чертовски глупая! Я думаю, они сегодня к вечеру уже домой вернутся.
Я стоял там вместе со всеми, но мне казалось, что все как бы отодвинулось от меня, и я остался один в совершенно пустом помещении, и вокруг меня, в остальных комнатах и двориках Аркаманта, тоже царит пустота. Голоса слуг, столпившихся вокруг, долетали до меня словно издалека.
А потом эта пустота окончательно сомкнулась надо мною, превратившись в тот темный, низкий свод из грубого черного камня, какой я «видел» в той пещере в своих «воспоминаниях»…
И в ушах у меня прозвучали слова Сэлло о том, что она способна понимать кое-что такое, чего не понимают другие люди. «Мы, люди с Болот, обладаем странными способностями!..» Она смеялась тогда, и ее ясные глаза так и светились.
Я понял, что ее нет в живых, еще до того, как за мной послали. До того, как Эверра сказал мне об этом. Они сочли, что будет лучше, если именно он это сделает.
Несчастный случай. Все произошло вчера ночью в бассейне. Очень, очень печально. Но, разумеется, это просто несчастный случай, говорил Эверра, и в глазах его стояли слезы.
— Несчастный случай, — повторил я.
И тут он сказал, что Сэлло утопили. Нет, она утонула, тут же поправился он. Утонула, когда эти молодые люди чересчур много выпили и, совершенно забыв о приличиях, стали забавляться с девушками прямо в бассейне.
— Да-да, бассейн с теплой водой, — пробормотал я, точно во сне, — где на мраморном бортике красуются павлины…
Да, подтвердил мой учитель и посмотрел на меня. Он плакал, но мне показалось, что выражение лица у него какое-то странное, ускользающее, хитроватое, словно он стыдится того, что делает, что делать этого ни в коем случае не должен, но, точно школьник, ни за что в этом не признается.
— Рис дома, — сказал он, — она сейчас с женщинами в «шелковых комнатах». Состояние у нее просто ужасное. Бедная девочка! Она не ранена, но… Нет, это просто безумие, безумие! Ведь известно же, что Торм-ди всегда… Что у него постоянно случались эти приступы… Но забрать девушек из дома! Отвезти их туда, к этим недостойным мужчинам!.. Безумие, безумие! Ах, какой стыд, какой стыд! Как ужасно мне жаль тебя, мой бедный Гэвир! — И мой учитель склонил передо мной свою седую голову, скрывая свои заплаканные глаза и свое кривящееся, умоляющее, раболепствующее лицо. — И что теперь скажет Явен-ди? — вдруг с отчаянием воскликнул он.
Я повернулся и пошел прочь — по бесконечным коридорам, мимо комнаты Предков, в библиотеку. Там я некоторое время сидел один, чувствуя, что та пустота по-прежнему окружает меня. Пустота и тишина. Я молил Сэлло прийти ко мне, но она не приходила. «Сестра!» — громко окликнул я ее, но отчего-то даже собственного голоса не услышал.
Затем мне ясно представилось, что если ее утопили, то она наверняка так и лежит на дне того бассейна с зеленой водой, теплой, как кровь. Но если ее там нет, то где же она? Она никак не могла быть там, значит, ее не могли и утопить.
И я пошел ее искать. Я пошел в «шелковые комнаты», в западный дворик, и всем женщинам, которые попадались мне навстречу, говорил: «Я ищу свою сестру».
Не помню, кто из этих женщин — а может, это были мужчины? — отвел меня к ней. Но ее я сразу узнал.
Она лежала, укрытая белыми простынями, из-под которых виднелось только ее лицо. И оно было не смугло-розовым, как всегда, а каким-то серым, и на одной щеке виднелся большой темный синяк. Глаза ее были закрыты, и она казалась очень маленькой и очень усталой. Я опустился возле нее на колени, и люди ушли, оставив нас с нею наедине.
Потом, помнится, они снова явились и сказали мне:
— Мать Дома послала нас за тобой, Гэвир, — словно это имело значение, словно это было нечто чрезвычайно важное. Я поцеловал Сэлло, пообещал ей скоро вернуться и пошел с ними.
Они повели меня по знакомым коридорам в покои Матери Фалимер. Впрочем, коридоры эти были мне знакомы лишь снаружи; Сэлло разрешали входить в комнаты Матери, чтобы прибрать там, а мне нет, так что я подметал только коридор. Фалимер-йо ждала меня и показалась мне очень высокой в своих длинных одеждах.
— Нам так жаль, Гэвир, что твоя сестра умерла, — услышал я ее чудный голос. — Какая ужасная, трагическая случайность! Прелестная была девушка… Я просто не знаю, как мне теперь сказать об этом сыну. Для него это будет таким тяжким ударом! Ты ведь очень любил свою сестру, Гэвир, верно? Но и я тоже очень ее любила. Надеюсь, это послужит тебе хоть каким-то утешением. Да, вот еще что… — и она вложила мне в руку маленький, но тяжелый шелковый кошелек. — Я пошлю на ее похороны всех своих служанок, — сказала она, глядя мне в глаза. — Поверь, мы все просто убиты смертью нашей милой Сэлло.
Я поклонился ей, но продолжал стоять и молчать. Снова вошли какие-то люди и увели меня.
Но назад, к Сэлло, я уже не вернулся и больше никогда ее не видел, так что мне пришлось запомнить ее лицо таким, каким оно было во время нашего последнего свидания: посеревшим, в синяках и очень усталым. Мне не хотелось помнить его таким, и я постарался выбросить эти воспоминания из головы, позабыть о них.
Меня снова отвели к Эверре, вот только ни он не хотел меня видеть, ни я его. Впрочем, как только я его увидел, слова так и посыпались у меня изо рта:
— Они накажут Торма? Накажут?
Эверра отшатнулся, словно испугавшись.
— Успокойся, Гэвир, успокойся, — бормотал он, пытаясь как-то усмирить мой гнев.
— Они накажут его?
— За смерть девушки-рабыни?
И вокруг этих его слов снова кругами стала расходиться та всепоглощающая тишина. Она захватывала все большее пространство вокруг, становилась все плотнее, все глубже. Я словно погрузился в некий бассейн, на самое его дно, только в бассейне была не вода, а тишина, а вокруг — пустота, и вскоре все заполнилось этой тишиной. Я даже дышать не мог — вдыхал не воздух, а эту тишину и эту пустоту…
А Эверра все еще что-то говорил. Я видел, как открывается и закрывается его рот. Как блестят его глаза. Странно, думал я, старый седой человек беззвучно открывает и закрывает рот? И я отвернулся.
В душе моей точно стена возникла, отгородив собой все то, чего я вспомнить не мог, потому что этого еще никогда не случалось. Раньше я никогда ничего не забывал, просто не мог забыть, зато теперь смог. Я мог забыть дни, ночи, недели. Мог забыть людей. Мог забыть все, что потерял, потому что у меня никогда этого как бы и не было.
Но я помню кладбище, где стоял ранним утром следующего дня, когда в небесах еще только блеснули первые лучи зари. Я хорошо это помню, потому что не раз «вспоминал» это и раньше.
Я хорошо помнил, как мы хоронили старую Гамми и маленького Мива, помнил тот зеленый дождь молодой ивовой листвы, помнил, как мы стояли под городской стеной у реки, помнил, как пытался понять: кого же все-таки мы снова хороним этим утром…
Видимо, это был кто-то важный, ибо там присутствовала вся личная прислуга Матери Фалимер; все они были в белых траурных одеждах и прикрывали лица длинными белыми покрывалами; и тело покойного тоже было завернуто в прекрасный белый шелк, а Йеммер плакала навзрыд и никак не могла прочесть молитву Энну-Ме. Начнет и тут же срывается, начинает в голос рыдать, своим горестным плачем разрывая в клочья окутавшую всех тишину, так что и другие женщины, тоже плача, сразу принимаются ее утешать.
Я стоял у самой реки и смотрел, как она лижет и грызет землю, подтачивая берег, подъедая его снизу так, что белые корни трав повисают в воздухе и болтаются над водой. Если бы удалось заглянуть в глубь здешней земли, там можно было бы увидеть множество белых косточек, тонких, как эти корни, — косточек маленьких детей, которые похоронены там и ждут, когда вода придет туда и съест их могилы.
Какая-то женщина стояла неподалеку от меня, но не вместе со всеми. Длинная поношенная шаль, накинутая на голову, скрывала ее лицо, но один раз она все-таки на меня посмотрела. И оказалось, что это Сотур. Это я точно знаю. И некоторое время помнил, что рядом со мной была она.
А потом, когда Сотур и другие женщины ушли, вокруг меня появились еще какие-то люди, мужчины, и я спросил, нельзя ли мне еще немного побыть здесь, на кладбище. И один из них, Тэн, тот конюх, что всегда был добр ко мне, когда мы были еще детьми, положил руку мне на плечо и сказал:
— Может, лучше пока немного пройдешься? А потом возвращайся, хорошо?
Я кивнул.
Я видел, что губы он крепко сжал, чтоб не дрожали. И долго молчал, прежде чем сказать:
— Знаешь, Гэв, я другой такой чудесной девушки за всю жизнь не встречал!
А потом и Тэн, и все остальные мужчины тоже ушли. Перед уходом они тщательно закопали могилу и обложили ее зеленым дерном, так что теперь она почти ничем не отличалась от других могил; впрочем, все это, на мой взгляд, никакого значения не имело: все равно река вскоре их подмоет и там ничего не останется, разве что несколько кусков белой материи зацепятся за корни и будут, точно змеи, извиваться в быстро бегущей воде, стремящейся к морю…
Теперь на кладбище уже никого не осталось. Я еще немного постоял у могилы и побрел прочь — вверх по течению Нисас под зелеными ветвями ив.
Вскоре я вышел на тропу, которая, извиваясь между городской стеной и рекой, привела меня к Речным воротам. Я подождал, пока по мосту проедут направлявшиеся на рынок повозки — тяжелые фургоны, запряженные белыми быками, и маленькие тележки, которые тащили ослики или рабы, — и как только между ними образовался проход, я перебрался через дорогу, прошел по мосту и двинулся дальше по западному берегу реки Нисас. Извилистая тропа, по которой я шел, сама вела меня и была очень красива; она то спускалась к самой воде, то взлетала на холмистый берег, где рачительные горожане устроили небольшие сады-огороды. Несколько стариков в этот ранний час уже торчали там, рыхля землю мотыгами, выпалывая сорняки и наслаждаясь теплым весенним утром. А я уходил все дальше, все глубже погружаясь в ту тишину, в тот пустой безмолвный мир, и мне уже казалось, что надо мною не небо, а низкие каменные своды той привидевшейся мне когда-то пещеры и я ухожу прямо в ее недра, в ее непроницаемую темноту.
Очень многое я больше уже никогда, наверное, не вспомню да и не стану вспоминать — особенно те дни, что последовали за похоронами Сэлло. Когда я наконец научился забывать, то освоил эту науку очень быстро и, пожалуй, даже слишком хорошо. А жалкие обрывки воспоминаний о тех днях, которые я еще способен порой обнаружить в своей памяти, могут оказаться как реальными воспоминаниями о прошлом, так и теми видениями, которые прежде часто мне являлись, — то есть «воспоминаниями» о временах, которые еще не наступили, и о местах, где я еще никогда не бывал. Я жил как бы одновременно и там, где в данный момент находился, и там, где меня никогда не было; и так продолжалось много дней, может, даже месяц или два. Нельзя даже сказать, что я уходил или убегал от Аркаманта, потому что позади у меня не осталось ничего, только та стена, и я уже успел позабыть почти все, что находилось за этой стеной. А впереди у меня и вообще ничего не было, кроме пустоты.
Я просто шел. Кто шел рядом со мною? Может, богиня Энну, которая провожает нас в царство смерти? Или, может, бог Удачи, которому молишься порой, хоть он и глух? Скорее меня вел сам путь. Если попадалась тропа, я шел по ней; если попадался мост через реку, я переходил по нему на тот берег; если встречалась деревня и я, уловив ароматы пищи, чувствовал, что голоден, то шел туда и покупал себе поесть. В кармане у меня по-прежнему лежал тот маленький шелковый кошелек, довольно тяжелый, плотно набитый деньгами, — так полнится кровью сердце, тяжелея от этого. Шесть больших серебряных монет, восемь «орлов», двадцать бронзовых «полуорлов» и девять бронзовых четвертаков. Я пересчитал эти монеты, когда впервые присел отдохнуть на берегу Нисас в зарослях цветущих кустарников и густой высокой травы. В деревнях я тратил только четвертаки. Там даже такая монета казалась слишком крупной, и ее почти невозможно было разменять. Крестьяне, у которых не было даже нескольких грошей сдачи, предлагали мне взять провизию про запас. Да и вообще почти все люди там охотно делились со мной продуктами, а некоторые и вовсе предпочитали отдать мне еду даром, а не продавать ее. Я был в белых траурных одеждах, у меня была речь образованного горожанина, так что в деревнях меня почтительно называли «ди» и спрашивали: «Куда же ты идешь, ди?», а я отвечал: «Сестру иду хоронить».
«Бедный мальчик!» — вздыхали женщины. А малышня порой долго бежала за мной с криками: «Сумасшедший! Сумасшедший!», но ко мне не приближалась.
Меня не ограбили в тех бедняцких селениях, через которые я проходил, только потому, наверное, что у меня даже и мысли такой не возникло; и я ничуть не боялся, что меня могут ограбить; впрочем, даже если б и ограбили, вряд ли это имело бы для меня какое-то значение. Просто я лишний раз убедился, что когда тебе и молить-то богов не о чем, вот тут-то глухой бог Удачи и слышит твои шаги.
Если бы в Аркаманте объявили, что у них сбежал раб, и Меня стали бы искать, то, конечно же, сразу и отыскали бы. Я ведь не прятался. Любой человек на берегах Нисас, видевший меня, мог навести на мой след. Но, видимо, в Аркаманте решили, я утопился с горя; мол, Гэвир нарочно остался один на кладбище, а потом взял в руки камень потяжелее и бросился в воду. А на самом деле я вместо камня взял из рук Матери Фалимер шелковый кошелек с деньгами, сунул его в карман да и пошел куда глаза глядят — просто в тот момент мне в голову не пришло, что можно взять тяжелый камень и броситься в реку. Мне, собственно, было все равно, как поступить, и все равно, куда идти; и все дни казались похожими друг на друга. И только в одну сторону я пойти не мог — назад.
Не помню, где я перебрался через Нисас. Сельские дороги, петляя, вели меня из одной деревни в другую, и вот однажды я увидел впереди вершины округлых зеленых холмов Оказалось, что я невольно вышел на дорогу, ведущую в Венте. Я понимал, что если пойти по этой дороге, то она приведет меня к знакомой ферме и к «нашему» Сентасу. Откуда-то из глубин забвения вдруг всплыли эти слова: ферма. Венте, Сентас; а потом я вспомнил и одного человека, который раньше там жил, деревенского раба по имени Коуми.
Я сел в тени дуба и стал жевать кусок хлеба, который кто-то дал мне. Мысли мои текли очень медленно, и, чтобы что-то решить, мне требовалось невероятно много времени. Мы с Коуми когда-то были друзьями. И я решил, что вполне мог бы дойти до самой усадьбы, а может, и остаться там. Все домашние рабы хорошо меня знают, думал я, и, наверное, будут неплохо ко мне относиться. И мы с Коуми будем вместе удить рыбу.
Но что, если ферма сожжена дотла во время войны с Казикаром? Что, если сады вырублены под корень, а виноградные лозы выкорчеваны из земли?
Ну что ж, тогда я, наверное, смогу жить в построенном нами Сентасе, как в настоящей крепости…
Дождавшись, когда закончится череда этих медлительных и глупых мыслей, я встал, повернулся спиной к дороге, ведущей в Венте, и двинулся на северо-восток по тропке меж двух полей.
Тропа вывела меня на какую-то почти безлюдную дорогу, узкую и покрытую колдобинами. Дорога эта тянулась и тянулась без конца, все дальше уводя меня ото всего того, что я еще помнил и хотел забыть. Я все шел и шел и наконец попал в какой-то город, где на рынке купил себе еды на несколько дней и грубое коричневое одеяло, чтобы не замерзнуть ночью. Потом я снова двинулся в путь, и вскоре дорога привела меня в жалкую, заброшенную деревушку, где меня облаяли выбежавшие из дворов собаки, а потому я решил там не останавливаться. Да мне и не для чего, собственно, было там останавливаться.
После той деревушки дорога превратилась в узкую извилистую тропку. На округлых холмах, где я не заметил ни одного распаханного поля, паслись и жирели овцы; их охраняли крупные серые пастушьи собаки. Собаки непременно вставали и внимательно следили за мной, когда я проходил мимо. В лощинах меж холмами густо росли деревья, и в этих рощах я устраивался на ночлег. Воду я пил из маленьких ручейков, что струились среди деревьев. Когда у меня совсем не осталось еды, я стал искать там и что-нибудь съедобное. Но было еще слишком рано, и мне попалось только несколько ранних ягодок земляники; впрочем, я и не знал толком, что и как искать, чтобы хоть немного утолить голод, а потому бросил это занятие и пошел дальше. Тропа по-прежнему вилась среди холмов. Меня стал донимать голод, и в голове мелькнула мысль — нет, не воспоминание, просто мимолетная мысль, — о том, что, пока меня очень неплохо кормили в святилище у жрецов, один очень близкий мне человек так сильно голодал, что погубил этим своего еще не родившегося ребенка. Так что теперь по справедливости наступила моя очередь голодать.
С каждым днем я проходил все меньше и меньше и все чаще садился отдохнуть на припеке среди диких трав. Цветущие травы были прекрасны в своем разнообразии. Я с удовольствием наблюдал за крошечными мушками, за пчелами, гудевшими в воздухе, или же что-то вспоминал — то ли случившееся в действительности, то ли бывшее одним из моих «воспоминаний», — но все это казалось мне одним и тем же длинным-предлинным сном. День постепенно подходил к концу, солнце завершало свой путь по небосводу, так что мне приходилось встать и, едва волоча ноги пуститься в путь, чтобы найти место для ночлега. Однажды в темноте я сбился с той тропы и, не найдя ее утром, пошел просто так, без дороги.
Как-то раз, уже в сумерках, я медленно спускался по склону холма, рассчитывая найти у его подножия ручеек и напиться. Ноги подо мной подгибались от слабости и усталости. Вдруг сзади на меня что-то обрушилось, сильно ударив в спину, так что у меня перехватило дыхание; деревья замелькали, закружились перед глазам, вспыхнул какой-то странный свет, и все померкло.
Через некоторое время я пришел в себя и обнаружил, что лежу на какой-то странной постели из шкур, от которых исходит чрезвычайно сильный и не слишком приятный запах. Совсем близко от моего лица находился потолок, точнее, низкий свод из грубого черного камня. Вокруг было почти темно. Я чувствовал, что к моей ноге прильнуло какое-то крупное и теплое животное. Оно шевельнулось, и я увидел длинную собачью морду, покрытую серой шерстью, с тяжелым лбом, с мрачными складками в углах черных губ. Темные глаза пса смотрели не на меня, а куда-то дальше, за мое плечо. Затем пес тоненько заскулил, встал и куда-то пошел, перешагнув через мои ноги. Я услышал, как кто-то ласково с ним разговаривает. Потом этот человек подошел, присел возле меня на корточки и стал о чем-то расспрашивать, только я почему-то не понимал ни слова и лишь смотрел на него. В слабом свете, который, казалось, отражался от черного каменного пола пещеры, я отчетливо видел яркие белки его глаз и черные с проседью волосы, неопрятными пучками торчавшие вокруг темнокожего или просто смуглого лица. От незнакомца исходил еще более сильный запах, чем от тех грязных, явно плохо выскобленных шкур, на которых я лежал. Он принес мне воды в чашке сделанной из коры, и помог напиться, потому что я даже руки поднять не мог.
И потом я еще долго просто лежал под этим низким казенным сводом, и в голове у меня не было никаких воспоминаний об иных местах или временах. Я существовал только там и только в данный отрезок времени. В основном я лежал в полном одиночестве, хотя порой со мной оставался пес, всегда устраивавшийся возле моей левой ноги. Иногда пес поднимал голову и смотрел куда-то в темноту пещеры. В лицо мне он никогда не смотрел. Когда в пещеру, пригнувшись, входил тот человек, пес вставал, подходил к нему, тыкался своей длинной мордой ему в руку и исчезал. Через некоторое время он, правда, возвращался, вместе с хозяином или один, перешагивал через меня, один разок поворачивался на месте и снова укладывался возле моей левой ноги. Звали его Страж.
А хозяина его звали Куга или Куха. Иногда он произносил свое имя так, иногда иначе, но всегда очень невнятно. Он вообще как-то странно говорил: звуки доносились откуда-то из глубины его горла, словно что-то мешало им вырваться наружу, словно в глотке у него застряли и перекатываются мелкие камешки. Вернувшись в пещеру, Куга первым делом садился возле меня, давал мне свежей воды и немного поесть: обычно это было несколько тонких полосок вяленого мяса или рыбы, а иногда и немного ягод, когда они стали наконец созревать. Но кормил он меня всегда понемножку.
— С чего это ты так оголодал-то? — спрашивал он. — И зачем сюда забрел? — Он вообще говорил довольно много и не только со мной; я часто слышал, как он где-то в другой части пещеры разговаривает сам с собой или со своей собакой, но всегда негромко и довольно невнятно — он явно и не ждал ответа на свои слова. У меня же он все допытывался: — Никак я не пойму, что тебя заставило голодать? Еды-то кругом полно. Поищешь и найдешь. Я-то сперва решил, что ты из Деррама и они снова вздумали за мной охотиться. Вот и пошел за тобой. Шел и наблюдал. Я, видишь ли, могу хоть весь день за кем-нибудь наблюдать. А Стражу я сказал: лежи и молчи. Потом ты вроде бы дальше собрался идти, я и успокоился. Но ты взял да и поперся прямо сюда. И что я, по-твоему, должен был делать? Ты нахально лезешь прямо ко мне в пещеру и меня не замечаешь хоть я и стою у тебя за спиной с дубинкой в руке, вот я и врезал тебе по башке — хрясь! — И он, изобразив, как это было, рассмеялся, показывая свои редкие коричневые зубы. — Ты ведь небось меня так и не заметил? В общем, я уж решил, что прикончил тебя. Ты ведь свалился, точно сухая ветка с дерева. Так на месте и рухнул. Ну и ладно, думаю, убил так убил! И поделом этим нахалам из Деррама! Вдруг смотрю — да это ж совсем мальчишка! Сампа, Сампа, думаю, до чего я дошел! Мальчишку ни за что ни про что прикончил! Ан нет, оказалось, ты вовсе и не мертвый, а очень даже живой! Вон, даже и башку свою пустую о камни не расквасил! Но упал, точно ветка сухая. А уж тощий! Я тебя с земли одной рукой поднял, точно козленка. Я ведь сильный! Они все это знают! Потому сюда и не суются. А ты-то чего сунулся, парень? Что тебя заставило? И почему так голодал? Лежал, точно мертвый, а у самого в кармане денег — не перечесть! И бронзовых монет, и серебряных, и с ликами богов! Богатый, как король Кумбело! Ну скажи, чего ж ты голодал-то? И чего тебя сюда-то занесло с такими деньгами? Ты что, оленя у госпожи нашей Йене купить хотел. Или ты, может, не в себе, а? Ты, случаем, не спятил? А, парень? — Он кивнул. — Ну да, точно спятил! — Он добродушно усмехнулся и доверительно сообщил: — Так ведь и я тоже, парень, спятил. Меня так и прозвали — Чокнутый Куга. — Он снова тихонько засмеялся и дат мне тоненькую полоску сладковатого мяса, волокнистого и чуть горьковатого, с привкусом дыма и пепла. Я медленно жевал, и рот мой был полон голодной слюны.
Вот и все, что сохранилось в моей памяти об этом периоде моей жизни: постоянное чувство голода, живой вкус пиши, которую скупо выдавал мне мой спаситель, его надломленный невнятный голос, непрерывно что-то бормочущий, черные каменные своды пещеры над моим лицом, сильный, довольно противный запах дыма и шерсти. Да еще прижимающийся к моей ноге пес. Затем я наконец смог сесть. Затем — доползти до входа в свои «каменные покои» и понять, что это самая внутренняя, самая нижняя часть той огромной пещеры, которую Куга превратил в свой дом. Я медленно-медленно обследовал ее. Кое-где я мог даже выпрямиться во весь рост, например в центре. Самая большая ее «комната» оказалась весьма просторной, но пол ее был покрыт толстым слоем каменных осколков, потому что черный пористый известняк, из которого состояли стены и потолок пещеры, постоянно трескался и осыпался. Сверху сквозь эти трещины и щели проникал дневной свет, благодаря чему в пещере царил некий дымный полумрак. Когда же я впервые вышел наружу, то яркий солнечный свет совершенно меня ослепил; перед глазами замелькали золотистые и красные пятна, и я чуть не потерял сознание. А воздух показался мне слаще меда.
Даже вблизи вход в пещеру заметить было почти невозможно; в глаза бросалась только мощная каменистая осыпь, похожая на пересохший водопад и поросшая ползучими Растениями и папоротниками.
Основное имущество Куги составляли многочисленные шкуры оленей и кроликов, выделанные, надо сказать, весьма плохо и грубо. У него имелось также несколько чашек из коры, несколько ложек, еще кое-какая кухонная утварь, вырезанная из ольхи, и моток тонких жил для шитья и изготовления лесок. Но самым главным его сокровищем была большая металлическая коробка, наполовину полная грязной крупной соли. Имелись еще трутница и все необходимое для разведения огня, два охотничьих ножа с лезвиями из хорошей стали и ручками из рога косули; эти ножи Куга постоянно точил с помощью гладкого речного камня-голыша. Свои сокровища он ревностно охранял и, подозревая меняв возможном воровстве, старательно их прятал. Я, например, никогда не знал, где он хранит соль. Когда ему впервые пришлось в моем присутствии достать один из своих ножей, он тут же принялся, скалясь, хвастаться им передо мной, а потом сказал своим задушенным голосом:
— Смотри, не вздумай его трогать! Даже не прикасайся к нему! Не то, клянусь богом-Разрушителем, я этим самым ножом сердце тебе из груди выну!
— Ни за что даже в руки его не возьму, — пообещал я.
— Учти, он сам у тебя в руках извернется и горло тебе перережет, стоит тебе к нему прикоснуться!
— Да не буду я к нему прикасаться!
— Ты лжешь, — заявил он. — Лжешь! Все люди — лжецы. — Иногда он изрекал нечто подобное и потом повторял это без конца, словно у него внутри что-то заело, и больше за день не произносил ни слова. Вот и сейчас он начал бормотать как заведенный: «Все люди — лжецы, все люди — лжецы… Не тронь его, держись от него подальше!..» Хотя в! другие дни разговор его был вполне разумным.
Самому-то мне нечего было ему рассказать, но его это, по-моему, вполне устраивало. Он ведь и со мной разговаривал точно так же, как со своим псом, — не ожидая ответа рассказывал о своих вылазках в лес к кроличьим силкам или вершам для ловли рыбы, о том, как собирал ягоды, и обо всем, что видел, слышал или почуял. Я молча слушал — тоже как пес — эти долгие рассказы, даже не пытаясь его прервать.
— А ведь ты беглый, — сказал он мне как-то вечером, когда мы сидели снаружи и смотрели сквозь листву на крупные яркие августовские звезды. — Ты домашний раб, воспитанный и обласканный хозяевами, настоящий неженка. Значит, ты убежал? И небось думаешь, что я тоже беглый раб? Ох, нет! Нет, нет и нет. Но, может, тебе другие беглые рабы нужны? Тогда иди на север, в леса, они там. Только мне у них делать нечего. Все они лжецы и воры, А я — человек свободный! И рожден свободным. И не желаю с ними путаться. И с крестьянами тоже не желаю. И с горожанами, чтоб их всех Сампа покарал, этих лжецов, болтунов и ворюг. Все люди — лжецы, болтуны и воры!
— Откуда ты узнал, что я раб? — спросил я.
— А кем еще ты можешь быть? — сказал он со своей мрачной усмешкой и лукаво на меня посмотрел.
Я не нашелся, что ему ответить.
— Я пришел сюда, чтобы стать свободным от них. От всех, — сказал Куга. — Они называют меня диким человеком, отшельником, чокнутым, они меня боятся. Зато теперь они оставили меня в покое. Куга-отшельник, ха! Вот и держатся отсюда подальше. Даже нос сюда сунуть боятся!
— Ты настоящий хозяин Кугаманта! — сказал я с искренним восхищением.
Он некоторое время молчал, переваривая это определение, затем вдруг разразился своим задушенным кудахчущим смехом и принялся шлепать себя по ляжке крупной тяжелой ладонью. Он вообще был человеком очень крупным и очень сильным, хотя ему наверняка уже перевалило за пятьдесят.
— А ну, скажи-ка это еще раз, — попросил он.
— Ты настоящий хозяин Кугаманта.
— Вот именно! Так оно и есть! Это все мои владения, и я здесь хозяин! Клянусь Разрушителем, так оно и есть! Наконец-то я встретил человека, который говорит правду! Клянусь Разрушителем! Это ж надо! Человек, говорящий правду, пришел ко мне, и как я его приветил? Разбил ему голову палкой! Ничего себе приветствие! Добро пожаловать в Кугамант — и хрясь! — Куга еще долго смеялся, то замолкая, то вновь начиная тихо кудахтать, потом внимательно посмотрел на меня и сказал торжественно: — Здесь ты свободный человек, можешь мне поверить!
И я сказал:
— Да, я верю тебе.
Куга жил в грязи, никогда не мылся, отвратительно выделанные шкуры гнили и жутко воняли, однако пищу он хранил весьма аккуратно и старательно делал запасы. Он коптил, точнее, вялил мясо всех наиболее крупных животных, которых ему удавалось добыть — кроликов, зайцев, иногда козлят или оленей, — подвешивая его над очагом в той части пещеры, где у него была «кухня». Он ловил в силки всевозможных полевых зверюшек — даже древесных крыс, даже мышей-полёвок, — и варил их сразу, с аппетитом поедая свое нехитрое варево. Его силки имели весьма хитроумное устройство, а терпение его было поистине безгранично. Но вот с лесками и крючками ему явно не везло, и рыбу он ловил редко. Во всяком случае, достаточно крупные рыбины, чтобы их стоило коптить, ему почти не попадались. Я понимал, что вот тут-то моя помощь и была бы очень кстати. В качестве лесок Куга использовал только сухожилия, вымоченные для мягкости, а я вытянул из льняной основы своего коричневого одеяла несколько крученых нитей и привязал к ним те прекрасные костяные крючки, которые он вырезал сам. Вскоре мне удалось поймать несколько крупных окуней, затем я наловил мелкой коричневой форели, в изобилии водившейся в заводях нашего ручья, и Куга научил меня вялить и коптить рыбу. Но в целом ему от меня пользы было мало. Он не разрешал мне ходить с ним вместе в лес и зачастую вообще целыми днями не обращал на меня внимания, блуждая в потемках своего скособоченного разума и без конца бормоча себе под нос одно и то же. Но когда он садился есть, то всегда делился едой со мной и со Стражем.
Я никогда не спрашивал его, почему он взял меня к себе, почему оставил в живых. Такие вопросы мне и в голову не приходили. Я вообще старался ему вопросов не задавать, до только однажды спросил, откуда взялся Страж.
— Одна пастушья сука, — пояснил он, — ощенилась вон там. чуть подальше, с восточной стороны той скалы. Я заметил ее щенков, они выползли из норы поиграть, и решил, что это волчата. Взял нож и пошел туда. Хотел вытащить их всех из норы да глотки им перерезать. Подхожу к ее логову, а эта сука как вылетит из-за валуна и прямо на меня! Тут я ей и говорю: «Эй, спокойно, мамаша. Волка я бы точно убил, но собаку никогда не трону, ясно тебе?» А она мне зубы показала, вроде как улыбнулась… — и Куга в насмешливом оскале продемонстрировал мне свои коричневые зубы, — да и нырнула к себе в логово. А я домой пошел. Потом еще несколько раз туда приходил, мы с ней познакомились, и она перестала меня бояться, стала сама щенят наружу выносить, а я смотрел, как они играют. А с этим малышом мы подружились. Он потом сам со мной ушел. Я иногда хожу туда ее навестить. У нее сейчас как раз новый помет.
Сам Куга так ни одного вопроса мне и не задал.
А если бы задал, то ответов у меня все равно не было бы. Стоило мне начать что-то вспоминать, и я тут же гнал эти воспоминания прочь, отворачивался от них, старался думать только о том, что в данный момент было у меня перед глазами или в руках, только этим и жил. И те, прежние, «воспоминания», или видения, меня совсем не посещали. А если мне что-то и снилось, то, проснувшись, я этих снов уже не помнил.
Свет по утрам теперь отливал старинным золотом, дни стали короче, а ночи — холоднее. Как-то раз «хозяин Кугаманта», сидя напротив меня у нашего небольшого очага, снял губами с палочки небольшую, целиком зажаренную форель, отправил ее в рот, тщательно прожевал, проглотил, вытер руки о голую, покрытую коркой грязи грудь и сообщил:
— Зимой тут ух как холодно! Помрешь ты тут со мной.
Я ничего не ответил. Он знал, о чем говорит.
— Ты дальше иди.
Я долго молчал, потом сказал:
— Некуда мне идти, Куга.
— Есть, есть куда! В лес — вот куда тебе надо! — Он мотнул головой в сторону северных лесов. — В Данеран. В большой лес. Говорят, у Данеранского леса и конца нет. И уж там-то никто за рабами охотиться не станет. Нет-нет. Охотники за рабами туда не суются. Там только лесные люди встречаются. Вот туда тебе и надо идти.
— Там у меня тоже крыши над головой не будет, — сказал я и подбросил в очаг еще кусок коры.
— Нет-нет. Они там славно живут. И крыши у них есть, и стены, и все такое. И кровати, и одеяла. Они меня знают, и я их знаю. Мы с ними друг друга не трогаем. Они меня хорошо знают! Потому и держатся от меня в сторонке. — Куга нахмурился и снова, как обычно, принялся бормотать: «Держатся в сторонке, держатся в сторонке…»
На следующий день он растолкал меня с утра пораньше, выложил на плоский камень у входа в пещеру мое коричневое одеяло, шелковый кошелек, полный монет, вонючую меховую шапку, которую не так давно подарил мне, и сверток с вяленым мясом.
— Ну, давай! — И он кивнул в сторону моих пожитков.
Но я застыл как вкопанный. Лицо Куги помрачнело, стало напряженным.
— Сохрани это для меня, — сказал я, протягивая ему шелковый кошелек.
Он задумчиво пожевал губу, помолчал и спросил:
— Боишься, что тебя из-за него убьют?
Я кивнул.
— Может, и убьют, — сказал он. — Это очень даже может быть. Воры, болтуны… Только и мне эта штуковина совсем ни к чему. Да и где мне ее спрятать-то?
— В коробке с солью, — подсказал я.
Глаза у него гневно вспыхнули.
— А где ты ее видел? — рявкнул он, охваченный неприязненной подозрительностью.
Я пожал плечами.
— Нигде. Я ее так и не сумел найти. По-моему, ее никто бы не нашел.
Это ему понравилось, и он засмеялся, широко раскрыв рот.
— Я знаю, — сказал он. — Знаю, что не нашел бы! Ну, ладно.
И тяжелый, покрытый пятнами, утративший свой первоначальный цвет кошелек исчез в его огромной ладони. Куга нырнул в глубины пещеры и довольно долго не появлялся. Затем он вышел оттуда, кивнул мне и сказал:
— Ну, давай, пошли. — И тут же двинулся в путь своей неуклюжей — он слегка прихрамывал — походкой; казалось, он идет довольно медленно, но на самом деле легко преодолевал огромные расстояния.
За лето я окреп, так что вполне поспевал за ним, хотя к вечеру и почувствовал себя совершенно измотанным, да еще и ноги себе стер.
У последнего ручья, где мы остановились, Куга велел мне напиться вволю. Затем мы перебрались через ручей, взобрались по пологому склону холма и остановились на вершине. Это был последний холм; дальше расстилалась просторная равнина, на дальнем краю которой виднелась темная полоска леса. Лес охватывал весь горизонт, утопая в голубоватой дымке, и не было ему ни конца, ни края. Солнце еще не село, но тени уже стали длинными и темными.
Куга тут же захлопотал: принес дров и разжег костер, причем большой костер, специально воспользовавшись сырым деревом, чтобы дым можно было заметить издали.
— Вот и хорошо, — сказал он. — Они скоро придут.
И сразу собрался уходить назад.
— Погоди! — не выдержал я.
Он остановился, явно испытывая нетерпение, и попытался меня успокоить.
— Ничего, ты просто подожди немного. Они скоро будут здесь.
— Я еще вернусь к тебе, Куга.
Он сердито помотал головой, повернулся и ушел, широко шагая по сухой траве и слегка горбясь, а через минуту уже исчез за деревьями на склоне холма в той стороне, где пылало закатное солнце.
В ту ночь я спал один у костра, завернувшись в свое коричневое одеяло и напялив меховую шапку, пропахшую дымом, и теперь этот запах был мне даже приятен. Я ведь исцелился, окруженный этой вонью.
Спал я тревожно, то и дело просыпался, а потом встал и снова разжег костер — не для того, чтобы согреться, а в качестве сигнала. К утру я снова задремал, и мне приснилось, что я ночую на холме Сентас, в крепости нашей мечты, и все остальные тоже там, со мной. Я слышал, как они шепчутся в темноте. А одна из девочек даже тихонько засмеялась… Проснувшись, я все еще помнил этот сон, и мне не хотелось упускать его из памяти, хотелось еще пожить там, в этом сне. Однако проснулся я, собственно, от жажды и теперь лежал, ожидая рассвета и уговаривая себя встать, пойти к подножию холма и поискать там воду.
Мы ведь никогда не ночевали на холме Сентас, думал я. Мы всегда спали рядом с домом, под деревьями. И всегда сквозь листву видели звезды. Мы, разумеется, не раз говорили, что хорошо бы хоть раз переночевать в нашей крепости, но так на это и не решились.
Глава 8
Я еще ни одного из них не успел заметить, а четверо уже окружили меня. Я едва успел проснуться. Я уже говорил. что лег спать на открытом склоне холма у погасшего костра, и вот теперь они стояли вокруг меня и не двигались, вынырнул из травы, из сероватого воздуха предрассветных сумерек, точно призраки. Я переводил глаза с одного на другого и боялся пошевелиться.
Они были вооружены, но не как воины — всего лишь небольшими луками и длинными ножами. Двое, правда, держали в руках еще и пятифутовые посохи. Вид у всех был весьма мрачный.
Наконец один из них спросил тихим, хрипловатым голосом, почти шепотом:
— Костер потух?
Я кивнул.
Он подошел, пнул ногой полуобгоревшие валежины, тщательно затоптал уголья и даже руками их пощупал. Я встал и принялся вместе с ним забрасывать кострище землей.
— Ладно, пошли, — сказал он. Я быстренько свернул свое одеяло, сунув внутрь остатки вяленого мяса, и нацепил на голову шапку из шкурок кролика и белки.
— Воняет-то как! — заметил один из этих людей.
— Не то слово, — подхватил второй. — В точности как сам старый Куга.
— Это он меня сюда привел, — сказал я. — Куга?
— Значит, ты у него жил?
— Да, все лето.
Один внимательно меня осмотрел, второй сплюнул, третий пожал плечами; а четвертый, тот, что первым заговорил со мной, молча мотнул головой в сторону леса и стал спускаться по длинному пологому склону холма, ведя нас за собой.
У подножия холма протекал ручей, и я опустился на колени, чтобы напиться, но вожак с хриплым голосом ткнул в меня своим посохом и, не дав мне как следует утолить жажду, сказал:
— Хватит, и так весь день мочиться будешь. — Я поспешно вскочил и последовал за ним на тот берег ручья, под темную сень деревьев.
Шли мы очень быстро, часто даже бежали рысцой и лишь в полдень остановились передохнуть на небольшой полянке в чаше леса. Над поляной висел тяжелый запах крови. Стая стервятников, тяжело хлопая огромными черными крыльями, взлетела с чьих-то останков — на траве валялись кишки и черепа. Туши трех оленей, выпотрошенные и подвешенные высоко на ветвях дерева, блестели от покрывавших их мух. Мои спутники сняли туши и распределили груз так, чтобы каждому досталось примерно поровну. Затем мы снова пустились в путь, но теперь уже не так спешили. Меня по-прежнему мучила жажда, да и проклятые мухи продолжали роиться вокруг нас, соблазненные запахом мяса. Груз, который достался мне, был увязан не слишком удачно, а ноги мои, еще вчера истерзанные долгим путешествием и стертые в кровь, причиняли мне весьма ощутимые страдания. Извилистая тропа, по которой мы шли, была еле заметна в полумраке леса; вперед ее можно было разглядеть в лучшем случае на два-три шага. Вокруг росли огромные деревья с темными кронами; я все время спотыкался о вылезшие из земли корни; а когда мы наконец добрались до ручья, пересекавшего тропу, я прямо-таки рухнул на землю и припал к воде.
Вожак обернулся и, толкнув меня посохом, заставил подняться.
— Идем! Вот доберемся, там и напьешься! — сказал он. Но один из его спутников, который тоже с жадностью пил, поднял голову и сказал ему:
— Да ладно, Бриджин, пусть пьет.
Вожак возражать не стал и подождал, пока мы не напились вдоволь.
Когда мы вброд переходили ручей, вода омыла мои истерзанные ступни чудесной прохладой, но потом боль в стертых ногах стала совсем невыносимой, а мокрые башмаки еще усилили эту пытку, и, когда мы добрались до лесного лагеря, я уже хромал вовсю. Сбросив свой груз оленины под открытым навесом, я наконец выпрямился и огляделся.
Если бы я пришел в это лесное селение из Аркаманта, оно, скорее всего, вообще никакого впечатления на меня не произвело бы. Несколько низеньких хижин, людей совсем немного, на лужайке у небольшого ручья растут высокие ольховины, а вокруг темная лесная чаща. Но я явился из диких краев, из своего одиночества, и этот поселок в чаще леса меня ошеломил, а присутствие незнакомых людей, от общества которых я совершенно отвык, даже, пожалуй, напугало.
Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. И я, собрав все свое мужество, пошел к ручью, протекавшему в тени ольховин, и наконец-то утолил терзавшую меня жажду; затем снял башмаки и опустил свои окровавленные, горящие ноги в воду. Поляна была насквозь прогрета еще довольно теплым осенним солнцем, так что, немного поколебавшись, я снял с себя одежду, залез в ручей и как следует вымылся. Затем, как сумел, выстирал свою одежду, которая когда-то была белой. Белое платье надевает невеста во время церемонии обручения, в белый саван закутывают покойника, в белых одеждах люди провожают умершего в последний путь. Но сказать, какого цвета моя одежда теперь, не мог даже я. Она приобрела некий серо-коричневый оттенок и более всего напоминала старый половик. Впрочем, я и не думал, что смогу вернуть ей прежнюю белизну. Разложив выстиранные вещи на траве, чтобы немного подсохли, я снова залез в ручей и погрузился в воду с головой: мне хотелось хоть немного отмыть свои свалявшиеся космы. Когда же я вынырнул, то на мгновение ослеп: спутанные отросшие волосы совершенно залепили мне лицо. Я долго и тщательно тер и отскребал их, то и дело ныряя в ручей, а когда в очередной раз вынырнул, то увидел, что возле моих одежек на берегу сидит какой-то человек и смотрит на меня.
— Уже гораздо лучше, — одобрил он мой внешний вид, Это был тот самый человек, который сказал вожаку, чтобы тот позволил мне напиться из ручья.
Он был невысок и смугл; на его высоких скулах рдел румянец; глаза были темные, узкие; волосы, подстриженные очень коротко, стояли ежиком. И говор у него был какой-то странный, нездешний.
Я вылез из воды, кое-как вытерся своим старым коричневым одеялом и натянул еще сырую рубаху, стремясь хоть как-то соблюсти приличия, хотя вокруг, похоже, были одни мужчины. Кроме того, я здорово замерз, и мне хотелось согреться. Солнце уже ушло с поляны, хотя небо было все еще светлым, и я весь дрожал, но все же не хотел пачкать грязной вонючей шапчонкой свои чистые волосы, ибо чистота эта досталась мне с превеликим трудом.
— Эй, — сказал мне мужчина, — погоди-ка. — Он куда-то ушел и вскоре вернулся, неся рубаху и еще кое-что из одежды; я даже не сразу понял, что это такое. — Надевай. Это, по крайней мере, сухое, — сказал он.
Я стянул с себя липкую, мокрую рубаху и надел ту, что он мне принес. Рубаха была из мягкого коричневатого полотна, сильно поношенная, с длинными рукавами, очень теплая и приятная на теле. Он подал мне какой-то второй предмет, черного цвета, из тяжелого плотного материала, и я решил, что это накидка или плащ. Я даже попытался набросить эту штуковину на плечи, но никак не мог понять. как же ее пристроить.
Мужчина некоторое время наблюдал за моими действиями, потом рухнул навзничь на берег ручья и захохотал, дрыгая в воздухе ногами. Он смеялся до тех пор. пока глаза его совсем не скрылись в морщинах, а лицо не приобрело багровый оттенок. Затем он перекатился на живот, встал на колени и продолжал смеяться, пока не прослезился. Хотя смеялся он не слишком громко, некоторые обитатели лагеря, услышав его смех, подошли к нам, посмотрели на него, на меня и тоже принялись хохотать.
— Ох, — с трудом промолвил наконец мой новый знакомец, вытирая глаза и садясь. — Ох, ну и посмеялся же я! Это килт, малыш. Его носят… — и он снова захохотал, даже пополам от смеха согнулся. — В общем, носят его… на другом конце туловища!
Я внимательно осмотрел «накидку» и увидел, что у нее есть пояс, как у штанов.
— Ладно, я и без этой юбки обойдусь, — сказал я. — Если ты не против.
— Нет, я не против, — сказал он, ухмыляясь. — Давай сюда мой килт.
— Что ж ты парню свои дурацкие юбки подсовываешь, Чамри? — спросил один из тех, что наблюдали за этой сценой. — Погоди, парень, сейчас я раздобуду тебе что-нибудь более пристойное. — Он ушел и вернулся с парой узких штанов, которые вполне мне подошли, хоть и были немного великоваты. Я с удовольствием их натянул, и он сказал: — Оставь их себе, все равно они мне теперь малы, на пузе не сходятся. Значит, это тебя сегодня Бриджин привел? Решил, значит, к нам присоединиться? И как же прикажешь тебя называть?
— Меня зовут Гэвир Арка, — сказал я.
Тот человек, что попытался одеть меня в килт, усмехнулся:
— Ага, значит, так и будем тебя звать.
Я непонимающе на него уставился, и он пояснил:
— Ты что, хочешь пользоваться именно этим именем?
Я так мало думал в последнее время, что мозги мои никак не желали просыпаться; им, видно, требовалось время для разгона. И Я, решив, что мое полное имя звучит слишком торжественно, сказал:
— Можно просто Гэв.
— Ну, Гэв так Гэв, — пожал он плечами. — А я — Чамри Берн из Бернманта; я пользуюсь своим настоящим именем, потому что сейчас я так далеко от родного дома, что меня никому не выследить — ни по имени, ни по слухам, ни по приметам.
— Ага, он родом оттуда, где мужчины носят юбки, а женщины мочатся стоя, — пояснил один из собравшихся на берегу, и эти слова снова вызвали смех.
— Нижнеземельцы, что с них возьмешь! — презрительно бросил Чамри Берн, махнув в их сторону рукой. — Только свои Нижние Земли и знают! Ну, пошли, Гэв. Надо тебе клятву принести, если ты надумал с нами остаться. В общем, принеси скорей обет и получишь свой обед. Я, кстати, видел, как ты целую кучу мяса притащил, так что обед ты вполне отработал.
Бог Удачи, говорят, глух на одно ухо — на то самоед которому мы и приникаем со своими мольбами, так что услышать нас он не может. А что он на самом деле слышит, к чему прислушивается, не знает никто. Поэт Дениос, например, утверждал, что бог Удачи слышит «грохот звездных колесниц на перепутье в небесах». Я знаю одно: пока я был погружен в глубины той всеобъемлющей тишины, где не было ни мыслей, ни воспоминаний, ни желаний, ни надежды, ни веры, бог Удачи оставался со мной. Я выжил, хотя мне было все равно, выживу ли я. И никто из незнакомых. совершенно чужих людей не причинил мне зла. Я нес с собой много денег, но меня не ограбили. Когда я остался один и готовился умереть, старый безумный отшельник заставил меня вернуться к жизни. И теперь бог Удачи послал меня к этим замечательным людям, и одного из них звали Чамри Берн.
Чамри подошел к столбу, торчавшему возле самой большой хижины, и ударил висевшим там ломиком по прибитой к этому столбу железной перекладине. Возле столба тут же стали собираться люди.
— Вот, познакомьтесь, — сказал Чамри, обращаясь к толпе. — Это новичок. Его зовут Гэв. По его словам, он довольно долго прожил вместе с Кугой-Гоблином, чем и объясняется тот запах, который он принес с собой. Впрочем, он уже успел вымыться в нашей речке, а теперь и к нашей компании хотел бы присоединиться. Верно я говорю, Гэв?
Я кивнул. Я страшно смутился, оказавшись в центре такой большой толпы — по-моему, их было никак не менее двух десятков человек, и все эти люди с любопытством меня рассматривали. По большей части они были молоды, вид имели аккуратный и опрятный, а взгляд столь же непреклонный и решительный, как у Бриджина, вожака того отряда, с которым я пришел сюда. Впрочем, кое-где виднелись и седые или лысые головы; попадались в толпе и толстяки с весьма увесистыми животами.
— Ты знаешь, кто мы такие? — спросил один из лысых. И я, набравшись смелости, выдохнул:
— Неужели вы и есть те самые барнавиты?
Мои слова кое-кого заставили нахмуриться, а кое-кого — рассмеяться.
— Кое-кто из нас, может, когда-то и был их последователем, — сказал лысый. — А что ты, мальчик, знаешь о Барне и его людях?
Я был здесь самым молодым, и все же мне не понравилось, что меня постоянно называют «мальчиком». Я выпрямился и холодно ответил:
— Я слышал всякие истории… Говорят, что они живут в лесу, что все они свободные люди, что у них нет ни хозяев, ни рабов, что они все делят между собой по справедливости.
— Хорошо сказано! — воскликнул Чамри. — Прямо в яблочко! — Некоторые из обступивших меня людей с явным одобрением закивали, полностью с ним согласные.
— Неплохо, неплохо, — сказал и тот лысый, но чуть надменно. И тут ко мне приблизился человек, чрезвычайно похожий на Бриджина. Как я узнал впоследствии, это был его брат. Меня поразило его лицо — жесткое, красивое, с ясными холодными глазами. Он оглядел меня с головы до ног и сказал:
— Если останешься у нас, быстро поймешь, что такое «делить по справедливости». Это ведь еще означает и то что любую работу мы делаем сообща. Точнее, что все — то и каждый. А если ты думаешь, что можешь просто жить тут и делать, что твоей душе угодно, так долго ты тут не продержишься. У нас коли не работаешь, как все, так и не ешь. А уж если ты по собственной глупости или беспечности навлечешь на нас беду, то ты покойник. У нас тут свои законы. Если ты принесешь клятву и решишь с нами остаться, придется тебе и наши законы соблюдать. А если ты свою клятву нарушишь, знай: мы тебя выследим куда быстрее, чем самые лучшие охотники за рабами.
Лица стоявших вокруг людей были суровы; и, слушая его, все они согласно кивали.
— Ну, как тебе кажется, сможешь ты такую клятву сдержать? — спросил он.
— Попробую, — сказал я.
— Этого мало.
— Если я дам вам клятву, то сдержу ее! — Меня начали раздражать его гнусные намеки на мою молодость и слабость.
— Посмотрим, — сказал он и отвернулся. — Принеси все необходимое, Модла.
Тот лысый человек и Бриджин ушли в хижину и вынесли оттуда нож, глиняную миску, олений рог и какую-то еду. Я не стану рассказывать о самом обряде, ибо участвующие в нем дают клятву сохранить все в тайне; не могу я привести здесь и слова этой клятвы. Вместе со мною ее произносили все члены братства. Казалось, этот ритуал еще крепче сплачивает их, и, когда все было закончено, некоторые из них подошли ко мне, дружески похлопали меня по плечу или по спине и сказали, что посвящение прошло хорошо и держался я молодцом. Вообще, почти все поздравили меня с вступлением в их ряды.
Чамри Берн отныне считался моим покровителем и наставником, а молодой человек по имени Венне был назначен моим напарником на охоте. Чамри и Венне во время праздничного пира, последовавшего за обрядом посвящения, сидели по правую и по левую руку от меня. Мясо убитых оленей давно уже жарилось на вертелах, однако были добавлены новые порции, чтобы как следует отпраздновать столь важное событие. К тому времени, когда мы наконец приступили к еде, лес окутала ночная тьма, так что мы расселись у костров — кто на земле, кто на пне, кто на грубо сколоченной табуретке или скамейке. Ножа у меня не было, и Венне отвел меня в хранилище оружия и велел выбрать себе нож. Я взял легкий острый клинок в кожаных ножнах. С его помощью во время пира я легко отрезал от оленьей ляжки куски шипящего, исходящего соком, сильно зажаренного ароматного мяса; ел я, точно изголодавшийся зверь. Кто-то принес мне металлическую кружку, в нее плеснули пива или медовухи — в общем, какого-то кисловатого, немного пенистого напитка, заставлявшего всех кричать и смеяться все громче и громче. Эта добросердечная обстановка согрела мне душу — я уже чувствовал себя одним из этих дружных Лесных Братьев, ибо именно так они называли себя.
Освещенную светом костра поляну со всех сторон обступал темный ночной лес, под деревьями лежала непроглядная тьма, вершины покрытых листвой деревьев казались в звездном свете волнами серого листвяного моря, простирающегося во все стороны далеко-далеко…
Если бы тогда я сразу не пришелся по душе Чамри Берну и если бы Венне не согласился взять меня в напарники, мне в ту первую осень и зиму в лесу жилось бы куда хуже. Частенько я чувствовал, что у меня не хватает сил, что наступил предел моей выносливости. Я жил с Кугой, точно дикарь, но он заботился обо мне, а не просто давал мне кров; он кормил меня, не мучил работой, да летом в лесу и вообще жить значительно легче. А среди Лесных Братьев моя городская изнеженность, нехватка физической силы и неумение выживать в условиях дикой природы вполне могли означать для меня верную смерть. Бриджин, его брат Итер и некоторые другие члены братства были раньше рабами на фермах и привыкли к тяжелой работе и скудной жизни; для этих крепких, бесстрашных и находчивых людей я был помехой, ненужным бременем. Те же, кто вырос в городе, проявляли больше терпения, сталкиваясь с моей чудовищной неосведомленностью, поддерживали меня, подсказывали мне, одалживали самое необходимое, учили меня. Как и при жизни с Кугой, очень пригодилась моя сноровка рыболова; во всяком случае, тут и я мог оказаться полезным всем. На охоте же, увы, мои успехи были ничтожны, хотя Венне постоянно брал меня с собой, искренне пытаясь обучить стрельбе из малого лука и прочим неслышным искусствам, которыми должен владеть каждый охотник.
Венне было лет двадцать; в пятнадцать он убежал от своего злобного хозяина, жителя небольшого городка близ Казикара, и направился прямиком в эти леса. По его словам, в Казикаре все рабы знали о существовании Лесных Братьев и мечтали когда-нибудь к ним присоединиться. Венне жизнь в лесу очень нравилась, он чувствовал себя здесь как дома и считался одним из лучших охотников. Но вскоре я понял, что и в его душе нет покоя. Например, у него определенно не ладились отношения с Бриджином и Итером.
— Изображают из себя наших хозяев, — сухо замечал он. И прибавлял: — Не желают, видишь ли, принимать в отряд женщин… А ведь у Барны в городе женщин полно, верно я говорю? Вот я и подумываю, не присоединиться ли к «барнавитам»…
— Вот и подумай еще, — советовал ему Чамри, пришивая к подошве башмака мягкое голенище; он у нас был и дубильщиком шкур, и сапожником и мастерил весьма неплохие сапоги и сандалии из лосиных шкур. — Ты же через несколько дней обратно прибежишь и станешь умолять того же Бриджина спасти тебя. Ты думаешь, он из себя хозяина строит? Нет и не было на свете такого мужчины, который в умении приказывать другим мог бы сравниться с женщиной! Мужчины ведь по природе своей являются рабами женщин, а женщины — хозяевами мужчин. В общем, здравствуй, женщина, — прощай, свобода!
— Может, и так, — говорил Венне. — Но женщина приносит с собой не только умение командовать.
Они были добрыми друзьями и легко приняли меня в свой кружок, позволяя и слушать их беседы, и принимать в них участие. Многие члены братства, по-моему, вообще предпочитали человеческой речью не пользоваться — буркнут что-то, проворчат невнятно или просто рукой махнут, а то и вовсе сидят, неподвижные и безмолвные, точно животные. Рабская привычка к молчанию так глубоко проникла в их плоть и кровь, что они уже не пытались ей сопротивляться. Чамри же как раз поболтать очень любил; он и сам был довольно красноречив, и других был очень даже не прочь послушать; его речь, ритмичная и напевная — особенно если он рассказывал какую-нибудь историю, — была, на мой взгляд, сродни народной поэзии. И он всегда был готов с любым обсудить что угодно, а то и поспорить.
Я вскоре уже знал о его жизни довольно много, во всяком случае то, что он сам счел нужным мне рассказать, хотя порой его рассказы могли быть довольно далеки от истины, если ему хотелось как-то приукрасить собственное повествование. Чамри был родом из Верхних Земель, горного края, расположенного далеко к северо-востоку от городов-государств. Я раньше никогда об этих краях даже не слышал и все спрашивал его, дальше ли это, чем Урдайл, и он говорил: да, гораздо дальше, дальше даже, чем Бенгдраман. А я название Бенгдраман знал только по старинным историям из сборника «Чамбан».
— Высокогорье дальше самого что ни на есть далека, — говорил Чамри, — дальше луны и восточнее зари. Это дикие, безлюдные края — холмы да болота, скалы да утесы, а надо всем этим высится огромаднейшая гора с бородой из облаков, и называется она Каррантаг. Вообще-то, в Верхних Землях хорошо только овцам живется. Голодно там и холодно. Зимой и вовсе все вымерзает, да и зима тянется целую вечность. А если раз в год солнце выглянет, так уже праздник. Земли там порезаны на крошечные «земельные владения», как они сами это называют, хотя по здешним меркам это просто жалкие фермерские хозяйства, и у каждого «владения» есть свой хозяин, брантор, а у каждого брантора имеется какой-нибудь особый дар, обычно довольно страшный. Колдуны они все, как один. И все прокляты. Вот скажи, тебе понравилось бы, если бы твоему хозяину достаточно было рукой шевельнуть да какое-то словцо прибавить, и твои кишки тут же оказались бы на земле, а глаза внутрь черепа повернулись? Или он бы только глянул на тебя, и в голове твоей сразу стало бы пусто-пусто, ни одной собственной мысли, только те, что он сам тебе в голову вложить захочет?
Чамри очень любил распространяться об этих зловредных способностях, он их называл «проклятыми дарами», о колдунах и ведьмах с Высокогорья, и истории его раз от разу становились все длиннее. Я однажды не выдержал и спросил: ведь и у него когда-то был хозяин, так какими способностями обладал этот человек? Чамри с минуту помолчал, потом посмотрел на меня своими ясными узкимиглазами и сказал:
— Ты, может, особым даром это и не сочтешь. Ничего такого, что было бы сразу видно, он не делал. Но благодаря своему дару он мог ослабить кости в теле. На это, правда, требовалось некоторое время. Но уж если он употребил свой дар против кого-то, так примерно через месяц человек начинал слабеть, быстро уставать, а через полгода ноги уже подгибались под ним, точно трава, а через год он и вовсе умирал. Вот уж, право, не советовал бы я сердить человека, который на такое способен! Вам тут, в Нижних Землях, только кажется, что вы понимаете, каково это — иметь жестокого хозяина! У нас в Высокогорье мы даже слова такого — «раб» — не знали. Мы всегда говорили просто «люди брантора». Он, кстати, мог быть в родстве с половиной своих слуг и своих сервов — и всех считал «своими людьми». Однако эти люди были куда бесправнее здешних рабов, а он для них был куда хуже любого, даже самого худшего, из здешних хозяев!
— Не знаю, не знаю, — сказал Венне. — По-моему, с помощью кнута и пары больших злобных собак человека можно уничтожить даже быстрее, чем с помощью волшебного заклятья или какого-то колдовского дара. — У Венне и впрямь ноги и спина были покрыты жуткими шрамами, с головы снят скальп, так что волосяной покров кое-где так и не восстановился, и одно ухо наполовину оторвано.
Нет, нет, тут все дело в страхе, — возразил Чамри. — Это чудовищный страх, ты даже не представляешь себе, до чего он людей доводит! Ты ведь уже не боялся тех, кто тебя бил, и собак, которые рвали твое тело, когда убежал от них Достаточно далеко и знал, что они тебя не догонят, верно ведь? А я, вот честное слово, даже убежав на сотни миль от Верхних Земель и своего хозяина, по-прежнему корчился от страха, чувствуя, что он не забыл обо мне, что он меня вспоминает! Да-да, я это очень даже хорошо чувствовал! И вся сила сразу меня покидала, руки-ноги становились как ватные, я даже спину держать прямо не мог. Это действовал его жуткий дар. И единственное, что мне оставалось, это идти, бежать, ползти все дальше и дальше, пока между Чами не пролегли многие мили пути, пока высокие горы и широкие реки не отделили меня от северных земель, от моего хозяина, от его рук, его глаз, его жестокого, убийственного дара. Лишь переправившись через великую реку Тронд, я наконец почувствовал прилив сил. А когда же я перебрался через вторую великую реку, Салли, то понял, что оказался в безопасности. Это колдовство способно воздействовать на человека, даже если колдуна и его жертву разделяет большая река, но не две реки. Дважды пересечь водное пространство этот дар не в силах. Так мне сказала одна мудрая женщина. Но я все же переправился и еще через одну реку, чтобы быть окончательно уверенным! И никогда больше не вернусь на север, никогда! Вы, жители Нижних Земель, просто не знаете, что это такое — быть рабом у таких господ!
И все же Чамри так часто рассказывал о Высокогорье и о той ферме, где родился, что я чувствовал: он очень тоскует по родным местам, хоть и уверяет нас, какие это нищие, несчастливые, проклятые края. Благодаря его живым рассказам я так ярко и отчетливо представлял себе эти места, словно сам побывал там и теперь вспоминал бескрайние болотистые пустоши, окутанные облаками вершины гор, озера, с которых на рассвете поднимаются в воздух тысячи белых журавлей, крытые черепицей каменные домики, сгрудившиеся под боком огромной коричневой горы…
И это навело меня на мысль о том, что и у меня есть кое-какой странный дар, или как там еще можно это назвать, — и, прежде всего, моя способность «вспоминать» то, что еще только должно произойти, но уже успело привидеться мне. Я понимал, что когда-то обладал этим даром, но стоило мне подумать об этом, и меня обступали воспоминания о тех местах, которые помнить я совсем не хотел. Эти воспоминания заставляли меня корчиться от боли, а в голове становилось пусто от страха. Я отталкивал их от себя, эти мучительные воспоминания, отворачивался от них, зная, что если снова все вспомню, это меня убьет. Забвение — вот что сохраняло мне жизнь.
Все Лесные Братья были людьми, бежавшими и спасшимися от чего-то невыносимого, страшного. Они были такие же, как я. У них тоже не было прошлого. И я, научившись выживать в этих жестоких условиях, терпеть постоянно мокрую одежду, отсутствие тепла и чистоты, есть полусырое мясо, вполне мог бы с ними ужиться — как жил и с Кугой в его пещере, не думая ни о чем, кроме того, что в данный момент меня окружает. И большую часть времени я так и поступал.
Но порой, особенно в зимние, вьюжные вечера, когда мы вынуждены были отсиживаться в своих щелястых, насквозь продымленных хижинах, когда Чамри, Венне и еще кое-кто усаживались в кружок у тлеющего очага и в полутьме начинали рассказывать друг другу о своей прежней жизни, о тех местах, откуда они родом, о хозяевах, от которых они сбежали, я слушал их истории, и в мои мысли прокрадывались отчетливые воспоминания об огромной комнате, полной женщин и детей, о фонтане на городской площади, о залитом солнцем внутреннем дворике, окруженном изящными арками, под которыми сидят и прядут женщины…
Но я старался даже мысленно никак не называть это место, я торопливо от него отворачивался, гнал от себя эти воспоминания и никогда не присоединялся к разговорам людей о том, что лежит за пределами нашего леса. Да и разговоры об этом слушать не любил.
Однажды в послеобеденный час, ближе к вечеру, мы. Шестеро или семеро усталых, грязных, голодных людей, как всегда уселись вокруг жалкого очага, но никак не могли найти тему для беседы: говорить оказалось не о чем. Мы все сидели в каком-то немом оцепенении и слушали шум дождя. Этот сильный холодный дождь продолжался почти без перерыва уже четверо суток. Под низкими тучами, словно придавившими к земле голые деревья, было полутемно, и казалось, что ночь вообще никогда не кончается. Туман и ночная тьма, смешавшись, повисли на мокрых, тяжелых ветвях. Выйти и принести дров для очага означало немедленно промокнуть до костей, и мы выбегали наружу голышом, потому что кожа высыхает быстрее, чем одежда и одеяла из шкур. Одного человека в нашей хижине по имени Булек мучили приступы очень нехорошего кашля, от которых он задыхался и весь трясся, точно пойманная собакой крыса. Даже у Чамри иссякли шутки и бесконечные истории. И в этом холодном ужасном месте я думал о лете, о ярких жарких солнечных лучах, о покатых холмах… впрочем, неважно, где это было. А еще мне вдруг вспомнились некие стихотворные строки, и я, сам того не желая, произнес их вслух:
— Ага, — сказал Чамри в тишине, что наступила после моей неожиданной декламации, — я тоже это слышал. Только ведь это поют. Это песня, у нее есть мелодия.
Я порылся в памяти и постепенно вспомнил эту мелодию, а заодно и звуки того красивого голоса, который некогда ее пел. Сам-то я петь не мастер, но все же спел.
— Красиво, — тихо промолвил Венне.
Булек прокашлялся и сказал:
— А ты еще такие стихи знаешь? Расскажи, а?
— Да, давай, — попросил и Чамри.
Я снова покопался в своих воспоминаниях, надеясь отыскать хотя бы какую-то строчку, чтобы можно было за нее уцепиться. Сперва ничего не вспоминалось. Затем перед моим внутренним взором всплыли какие-то слова: «И в белых траурных одеждах взошла она высоко по ступеням на стену Сентаса…» Я невольно произнес это вслух, и почти сразу же первая строка привела меня к следующей, а та — к еще одной, и в итоге я отчасти пересказал, отчасти продекламировал им ту главу знаменитой поэмы Гарро, в которой пророчица Юрно ведет словесный поединок с вражеским героем Руреком. Стоя на крепостной стене Сентаса, Юрно, девушка в белых траурных одеждах, кричит этому человеку, «бившему ее отца-воина, что вскоре он умрет, и рассказывает, как именно это произойдет. «Бойся холмов Требса! — говорит она. — В холмах ты попадешь в засаду! И даже если ты бежишь и скрыться в зарослях пытаться станешь, стараясь незаметно уползти, они тебя настигнут и убьют, а твое нагое тело в городе швырнут на землю вниз лицом, чтобы все видели: позорны раны, что получил ты, убегая. И труп твой не сожгут, как подобает, под молитвы Предкам, а бросят в яму — как хоронят рабов сбежавших и собак!» Разгневанный этим пророчеством, Рурек кричит в ответ: «А вот как ты умрешь, о, лживая колдунья!» — и мечет в нее свое тяжелое копье, и все видят, как это копье пронзает тело девушки и выходит наружу под лопаткой, все окровавленное, — и все же Юрно в белых одеждах по-прежнему стоит на крепостной стене. Ее брат, могучий воин Алира, поднимает это окровавленное копье и вручает его ей, а она бросает его Руреку, не мечет, а именно бросает с презрением, едва касаясь его пальцами, и говорит: «Когда ты станешь от врагов скрываться, спасаясь бегством, твое копье тебе еще послужит, герой Пагади».
Произнося слова этой поэмы в темной, холодной, задымленной хижине под громкий стук дождя, я видел их написанными старательной ученической рукой в общей школьной тетради, которую и сам не раз держал в руках. «Прочти этот отрывок вслух, Гэвир», — прозвучал у меня в ушах голос учителя, и я громко прочел эти слова…
В хижине надолго воцарилось молчание, потом Бакок сказал:
— Ну что за дурак! Надо же, метнуть копье в ведьму! Неужто он не знал, что убить ведьму можно только с помощью огня!
Бакоку было, по-моему, лет пятьдесят, хотя довольно трудно определить на глаз возраст человека, который всю свою жизнь прожил полуголодным под свист кнута; возможно, ему было и гораздо меньше, лет тридцать.
— Хорошая история, но это ведь не все, — сказал Чамри. — Ведь есть и продолжение? А как она называется?
— Она называется «Осада и падение Сентаса», — сказал я. — И продолжение, разумеется, есть.
— Так давайте послушаем дальше, — предложил Чамри, и все с ним согласились.
Сперва я никак не мог вспомнить начальные строки этой поэмы; затем, словно по волшебству, передо мной опять возникла та старая школьная тетрадь, и я «прочел» вслух:
Была уже поздняя ночь, когда я закончил пересказывать первую книгу «Осады Сентаса». Огонь в нашем жалком очаге давно догорел, но никто из собравшихся в кружок мужчин даже не встал, чтобы подбросить дров; по-моему, никто вообще даже не пошевелился ни разу.
— Потеряют они свой город, — сказал в темноте Булек под негромкий стук дождевых капель.
— А следовало бы его удержать! Другие-то вон как далеко от дома забираются — например, Казикар, когда в прошлом году Этру захватить пытался, — сказал Таффа. До сих пор я еще ни разу не слышал от него такой длинной фразы. Венне рассказывал мне, что Таффа раньше был не рабом, а свободным гражданином одного маленького города-государства; но его призвали на военную службу, а он воевать не хотел и во время битвы скрылся и бежал в эти леса. Вечно печальный, вечно всех сторонящийся, даже несколько надменный, он редко что-нибудь говорил, но сейчас был почти красноречив: — Они слишком растянули свои войска, понимаешь? Я имею в виду армию Пагади. И теперь, если им не удастся сразу взять город штурмом, они с приходом зимы станут страшно голодать.
И все погрузились в обсуждение военных действий, словно осада Сентаса происходила прямо сейчас, на наших глазах. Словно мы жили в самом Сентасе.
И только один Чамри понимал, что это просто «поэма», нечто выдуманное автором, произведение искусства, лишь отчасти повествующее о реальных событиях прошлого, а в значительной степени являющееся плодом художественного вымысла. Но для этих невежественных людей это было настоящим событием, имевшим место в тот самый момент, когда они слушали мой рассказ. И, разумеется, им непременно хотелось узнать, что было дальше. Если бы у меня нашлись силы, они готовы были слушать день и ночь. Но я после своего первого «выступления» несколько охрип и потом, лежа на своем деревянном топчане, все думал о том, что в тот вечер так неожиданно ко мне вернулось: о силе слов. И у меня вполне хватило времени подумать, как мне этой силой воспользоваться, и даже составить некий план, чтобы не только продолжить пересказ этой великой поэмы, но и не дать моим слушателям истощить и ее богатства, и мои силы. В итоге я решил, что буду «рассказывать истории» не более двух часов каждый вечер после ужина, ибо зимние вечера казались поистине бесконечными, и все были бы рады, если бы кто-то помог их скоротать.
Слух о наших «чтениях» быстро разнесся по лагерю, и уже на второй или третий вечер в нашу жалкую хижину набилось множество желающих «послушать рассказ о войне» и поучаствовать в долгих и страстных спорах о тактике и причинах войны между Пагади и Сентасом, а также высказаться насчет того, были ли с обеих сторон какие-то нарушения общеизвестных моральных устоев.
Бывало, я не мог в точности воспроизвести строки Гарро, но сам сюжет помнил очень хорошо и заполнял эти пропуски пересказом, отрывками из других поэм и даже своими собственными сочинениями, пока не добирался снова до такого куска, который помнил наизусть или мог «увидеть» перед собой в той школьной тетради, заполненной детским почерком, и тогда снова возвращался к чеканному ритму поэмы. Мои собеседники, похоже, не замечали разницы между этими «прозаическими вставками» и поэзией Гарро, но все же, по-моему, поэтические строки трогали их больше и слушали они их более внимательно. Но, возможно, это было еще и потому, что строки эти описывали яркие и живые события нашей истории, подлинные страдания людей.
Когда мы, плавно двигаясь по сюжету поэмы, вновь добрались до того куска, который я пересказывал в самый первый вечер, — до пророчеств Юрно со стен крепости, — Бакок даже охнул и затаил дыхание, а услышав, как Рурек «в ярости копье тяжелое вздымает», во весь голос заорал: «Не бросай, парень! Не поможет!» Все тут же возмутились, потребовали, чтобы он заткнулся, но он, никого не слушая, все вопил: «Он что, не понимает? Ни к чему это! Он ведь уже разок метнул свое копье!»
Сперва меня просто восхищала и собственная способность восстанавливать в памяти строки поэмы, и способность моих слушателей часами внимать мне. Они ничего особенного мне не говорили и почти не хвалили меня, но я чувствовал, что они стали относиться ко мне совсем иначе и мое положение в отряде сразу изменилось. У меня, оказывается, тоже имелось нечто такое, что было им нужно, и они начинали меня за это уважать. А поскольку я отдавал свои богатства просто так, ничего не требуя взамен, уважение это не было приправлено ни завистью, ни недоброжелательностью. «Эй, у тебя что, получше ребрышка для нашего мальчонки не нашлось, что ли? — не раз слышал я за ужином. — Ему ведь сегодня еще работать, о войне рассказывать…»
Но у всякого верха есть и свой низ, как говорил Чамри. Бриджин, его братец и люди из их ближайшего окружения, давшие с ними в одной хижине, тоже порой заглядывали к нам, но слушали недолго, стоя поближе к двери, и молча уходили. Мне они не говорили ни слова, но, по словам моих приятелей, утверждали, будто те, кто слушает всякие дурацкие истории, куда большие глупцы, чем тот, кто эти истории рассказывает. А Бриджин якобы прибавлял, что мужчина, который готов полночи слушать, как какой-то мальчишка бормочет о том, что прочитал в книжках, и вовсе в Лесные Братья не годится.
Но почему Бриджин так презрительно относится к книгам? — недоумевал я. В лесу ведь и книг-то никаких нет. Как, по-моему, их никогда не было и в жизни самого Бриджина. Так что же он язвит по поводу наших «чтений»?
Любой из этих людей вполне мог втайне завидовать тем знаниям, которые столь ревностно скрывались от них хозяевами. Рабу с фермы за попытку научиться читать запросто могли выколоть глаза, могли насмерть засечь его кнутом. Книги были опасны, и у рабов были все основания их бояться. Но страх — это одно, а презрение — совсем другое.
Я не обращал внимания на эти насмешки и презрительные высказывания, воспринимая их как обыкновенное злопыхательство, ибо в той истории, которую рассказывал каждый вечер, не было ничего недостойного истинного мужчины. Каким образом могла история о войне и героических подвигах ослабить волю тех, кто каждый вечер жадно ее слушает? Разве эти прекрасные строки не сплачивали людей, не делали их братьями? Разве плохо, что после моего рассказа люди высказывали собственное мнение, и порой весьма интересное, относительно правильности или неправильности тактики генералов и подвигов простых воинов? Неужели лучше было бы сидеть, как истуканы, в безмолвии, вечер за вечером и слушать стук дождя? Так ведет себя бессловесная скотина, лишенная способности самостоятельно мыслить. Неужели они считают, что именно это и делает их настоящими мужчинами?
А однажды утром я услышал, как Итер сказал — прекрасно зная, что я могу его услышать, — что-то насчет великих дураков и великих лентяев, которые готовы вечно слушать, как какой-то мальчишка травит им всякие лживые байки. И я не выдержал. Я уже готов был начать яростно возражать, бросая ему в лицо те самые аргументы, которые только что перечислил выше, но тут запястье мое стиснула чья-то железная рука, а потом чья-то ловкая подножка чуть не заставила меня рухнуть на землю.
Я вырвался и заорал на Чамри Берна:
— Что это ты себе позволяешь? — Он извинился за свою неуклюжесть, но руку мою не только не выпустил, но и стиснул еще крепче, и я услышал, как он в полном отчаянии шепчет:
— Ох, заткнись-ка ты лучше, Гэв! Ты что, не видишь: он же тебе специально наживку забросил! — И Чамри потащил меня прочь от тех людей, что собрались вокруг Итера.
— Он же всех нас оскорбляет! — не унимался я.
— И кто его остановит? Ты, что ли?
Чамри удалось завести меня за поленницу дров, подальше от глаз, и он, увидев, что теперь я спорю уже только с ним и не пытаюсь бросить вызов Итеру, выпустил наконец мое запястье.
— Но почему… почему?…
— Почему они тебя не любят? Почему у тебя есть дар, которого нет у них?
И я не нашел, что на это возразить.
— А рука у них, между прочим, довольно тяжелая, и на твой нежный голос им наплевать. Ах, Гэв, не пытайся быть умнее своих хозяев. Это дорого обходится.
Только теперь я увидел в глазах своего друга ту же печаль, какой были отмечены лица почти всех этих людей, — это был след душевных терзаний. Все они начинали с очень малого, но постепенно утратили даже и эту малость.
— Они мне не хозяева! — гневно воскликнул я. — Мы здесь свободные люди!
— Ну, в общем, да, — сказал Чамри. — Отчасти.
Глава 9
Братья Итер и Бриджин — даже если им и не нравилась моя внезапная популярность — понимали, должно быть, что любая попытка помешать нашим ежевечерним «чтениям» может вызвать настоящий бунт. И пока что они только скалили зубы, насмехаясь надо мной и моими друзьями Чамри и Венне, но остальных не задевали. А мы тем временем продолжали яростно пробиваться сквозь бесконечные строфы к концу поэмы об осаде Сентаса, и за окнами нашей хижины долгая темная зима медленно поворачивала к весне. Закончили мы как раз к весеннему равноденствию, и кое-кто из моих слушателей никак не мог понять, что это все и больше Гарро ничего не написал.
Сентас пал, его стены и огромные ворота были разрушены, цитадель сожжена дотла, мужчины зверски убиты, женщины и дети взяты в рабство, а тот герой Рурек, которому предсказывали страшную смерть, ликуя, отправился с победой и богатой добычей назад в Пагади — и что же случилось потом?
— Неужели он все-таки пройдет вместе с армией через те холмы? — желал знать Бакок. — После всего, что ему та ведьма напророчила?
— Ну конечно же, он пройдет мимо Требса, если не в этот день, так в следующий, — сказал Чамри. — Не может человек избежать того пути, который ему судьбой предначертан, тем более что прорицательница видела, как он идет через холмы близ Требса.
— Тогда почему же Гэв об этом не рассказывает? — удивился Бакок.
— Эта история заканчивается падением города Сентас, — сказал я ему.
— Как же так? Получается, что вроде как все умерли? Но ведь умерли-то далеко не все!
Чамри попытался объяснить ему, что такое сочинители и выдуманные ими истории, но Бакока эти объяснения не удовлетворили. Да и прочие мои слушатели загрустили.
— Ну, теперь и вовсе скука начнется! — заявил Таффа. — Жаль, что мы больше не услышим об этих сражениях, где рубятся на мечах. Это жуткая вещь, когда сам в таком сражении участвуешь! А слушать об этом даже приятно.
Чамри усмехнулся.
— Так, пожалуй, почти обо всем в жизни можно сказать.
— А есть еще истории вроде этой, Гэв? — спросил кто-то.
— Историй вообще великое множество, — осторожно ответил я. Мне не очень-то хотелось начинать новую эпическую поэму. Я чувствовал, что становлюсь узником собственной аудитории.
— Ты мог бы и ту, которую мы только что слушали, снова рассказать, — предложил один из моих верных слушателей, и многие с энтузиазмом его поддержали.
— Следующей зимой, — сказал я. — Когда вечера снова станут долгими.
Мой вердикт они восприняли как некий ритуальный закон, озвученный жрецом, и согласились с ним без возражений.
Но Булек все же мечтательно промолвил:
— Хотелось бы мне, чтобы и для коротких вечеров нашлись короткие истории! — Сам он слушал эпическую поэму Гарро с болезненным вниманием, с трудом подавляя мучительный кашель, и батальным сценам предпочитал описания дворцовых покоев, трогательные домашние сценки, а также историю любви Алиры и Руоко. Мне Булек нравился, и я с тоской видел, что этот совсем еще молодой мужчина день ото дня слабеет, одолеваемый страшным недугом, хотя с приходом весны стало гораздо теплее, да и солнышко веселее светило. Я не мог противостоять мольбе несчастного Булека и сказал:
— О, короткие истории тоже есть! И одну из них я вам расскажу. — Сперва я хотел продекламировать «Мост через Нисас», но не смог. Знакомые строки, которые я помнил совершенно отчетливо, были отягощены чем-то таким, чему я был не в силах противостоять. Я просто не смог выговорить ни слова.
Тогда я мысленно представил себе, что вхожу в нашу классную комнату, открываю общую тетрадь и вижу там рукописный текст одной из басен Ходиса Бадери «Человек, который съел луну».
Я пересказал ее им почти наизусть. Они слушали внимательно, как всегда, но басня была воспринята неоднозначно. Некоторые смеялись и кричали: «О, это еще лучше! Такого мы еще не слыхали!», но другие сочли это «чепухой», «дурацкой историей», а Таффа даже назвал басню «глупой».
— Э нет, в ней для каждого свой урок! — возразил ему Чамри, который слушал басню с явным удовольствием. Они принялись спорить, был ли человек, который съел луну, лжецом или не был. Они никогда не просили меня разрешить их споры или хотя бы принять в них участие. По-моему, я был для них просто книгой, если можно так выразиться. Я, так сказать, выдавал им текст, а уж обсуждение текста было их задачей. Между прочим, порой я слышал от них такие тонкие замечания, особенно по поводу морали, каких мне и от образованных людей далеко не всегда доводилось услышать.
После этого они почти каждый вечер выбивали из меня какую-нибудь басню или стихотворение, однако теперь их требования стали все же менее настойчивыми, поскольку теперь не нужно было прятаться в хижине от дождя и мы собирались под открытым небом. Образ жизни в лагере стал весьма активным — охота, установка силков и ловушек, рыбная ловля сменяли друг друга, ведь в конце зимы и в начале весны мы почти голодали. Мы с жадностью пожирали не только свежее мясо, но и дикий лук, а также другие полезные травы, которые кое-кто из бывших рабов умел отыскивать в лесу. Я, например, очень соскучился по той каше из пшеничных зерен, которая была нашим основным блюдом в Аркаманте, но здесь, разумеется, ничего подобного не готовили.
— Я слышал, что Лесные Братья воруют зерно у богатых фермеров, — сказал я Чамри, когда мы вместе выкапывали дикий хрен.
— Да, воруют, те, кто воровать умеет, — ответил он.
— И кто же это?
— Люди Барны. Они в северной части леса живут.
Это имя вызвало какие-то странные отголоски в моей памяти, пробудив целую вереницу летучих образов — молодые люди, беседующие о «барнавитах» в битком набитой народом теплой комнате, лицо старого жреца… но я не стал задерживать свое внимание на этих образах. Слова — вот что я мог вспоминать без опаски.
— Значит, действительно есть такой человек, которого зовут Барна?
— Ну конечно есть! Хотя не стоит упоминать это имя в присутствии Бриджина.
Я потребовал подробностей, а Чамри никогда не мог устоять перед просьбой что-нибудь рассказать. В итоге я обнаружил, как, собственно, и подозревал раньше, что наш небольшой отряд — это всего лишь некий осколок куда более крупной группы беглых рабов, с которой у него пути разошлись. Барна как раз и есть главарь этой армии беглецов, а Итер и Бриджин, восстав против его главенства, отделились и увели с собой какое-то количество людей, поселившись в южной части того же Данеранского леса, наиболее удаленной от людских поселений, потому и наиболее безопасной. Однако добывать здесь еду оказалось трудновато, если не считать, как выразился Чамри, «скотины с ветвистыми рогами».
— У них там, на севере, настоящее хозяйство! — сказал он. — Они и говядину едят, и баранину. Эх, много бы я отдал за добрый кусок жареной баранинки! Овец я, если честно, всем нутром ненавижу — тупые, мохнатые, противные твари. Но когда такая тварь превращается в жареную баранину, я готов хоть целиком ее проглотить.
— А что, «барнавиты» и коров с овцами держат?
— Держат, но в основном предпочитают, чтобы за них это делали другие. А сами уж потом выбирают самых лучших животных. Кое-кто назовет это воровством, а только мы это называли «брать свою десятину». От фермерского стада, разумеется.
— Так, значит, и ты вместе с ними жил?
— Какое-то время. И, между прочим, жил неплохо. — Чамри, сидя на корточках, поднял голову и посмотрел на меня. — А уж тебе-то и вовсе следовало бы там сейчас быть, знаешь ли. Здесь, среди этих тупоголовых упрямцев, тебе не место! — Он стряхнул землю с корня дикого хрена, слегка обтер его о рубаху и впился в острый корнеплод зубами. — И тебе, и Венне. Вам бы надо бежать отсюда, вот что я скажу. Венне там примут с радостью, он ведь отличный охотник, да и тебе с твоим золотым языком там цены не будет… — Чамри некоторое время жевал сырой хрен, морщась и смахивая с глаз слезы. — А здесь тебя твой язык только к беде и может привести.
— А ты бы пошел с нами?
Он выплюнул волокнистый комок, обтер рот рукой и сообщил:
— Ох и жжет, клянусь Священным Камнем! Не знаю. Я ведь тогда с Бриджином и остальными ушел только потому, что они были мне добрыми товарищами. А я все покоя не находил… Не знаю, Гэв.
Он вообще никогда не находил покоя. И нам с Венне оказалось совсем нетрудно уговорить его пойти с нами, когда мы наконец решились это сделать. И вскоре действительно ушли.
Бриджин и Итер, чувствуя недовольство среди своих «подданных», попытались подавить его с помощью еще более жестких требований и всевозможных приказов. Итер, например, заявил Булеку, который к этому времени совсем уж разболелся, что если он не будет ходить на охоту и вносить свою долю в общий котел, то никакой еды ему из этого котла не достанется. Он, возможно, просто пытался запугать Булека, надеясь, что его угроза сработает; ведь многие из тех, что живут в тяжелых условиях, но чувствуют себя пока что неплохо, не могут поверить, что болезненная слабость — это отнюдь не проявление лени и не притворство. Так или иначе, но Булек то ли испугался, то ли ему стало стыдно, и он настоял на том, чтобы очередная группа охотников взяла его с собой. Он сумел пройти с ними совсем немного и неподалеку от лагеря рухнул на землю; его рвало кровью. Когда его принесли назад, Венне с криками набросился на Итера, обвиняя его в том, что он убил Булека, что он ничуть не лучше надсмотрщика на каторге. После этого Венне, переполненный отчаянием и гневом, отыскал меня у заводи, где я ловил рыбу.
— Мы с другими охотниками хотели немного отойти от лагеря и подыскать Булеку такое местечко, где он мог бы отсидеться и подождать нас, — с горечью говорил он, — да только он и туда дойти был не в силах. Он умирает, Гэв! Нет, я не могу больше здесь оставаться! Не могу подчиняться их приказам! Они что, считают себя хозяевами, а нас — своими рабами? Да мне просто убить хочется этого проклятого Итера! Пора, пора отсюда убираться!
— Давай поговорим с Чамри, — предложил я. И мы поговорили. Сперва Чамри все просил, чтобы мы еще немного подождали, но потом, увидев, как опасен гнев Венне, согласился пойти с нами. Решено было уходить той же ночью.
Поужинали мы вместе со всеми. Никто друг с другом не разговаривал. Булек остался лежать в одной из хижин, мучительно сражаясь за каждый глоток воздуха. Я и сейчас слышу его замедленное, задушенное дыхание в предрассветной темноте, когда Венне, Чамри и я потихоньку выбрались из хижины и выскользнули за пределы лагеря, прихватив с собой то немногое, что сочли своим по праву: носильную одежду, свои одеяла и ножи; Венне взял также свой лук и стрелы, я — рыболовные снасти и кроличьи силки, а Чамри — сапожные инструменты и сверток с вяленым мясом.
Скорее всего, был уже конец мая, примерно два месяца спустя после весеннего равноденствия. Ночь была теплой и темной, ее сменили неторопливый туманный рассвет и утро, полное птичьего щебета. Было хорошо идти вот так, на свободе, оставив позади зависть и жестокость лагерной жизни. Я весь день шел весело, с легким сердцем, удивляясь, почему это мы так долго терпели хамство и всяческие запугивания со стороны Итера и Бриджина. Но вечером мы на всякий случай костра разжигать не стали и залегли в густой траве; стоило мне подумать о том, что они, возможно, станут нас преследовать, и настроение у меня сразу упало. Из головы не выходили мысли о несчастном Булеке; вспоминал я и остальных: Таффу, который, став дезертиром, был вынужден расстаться не только с армией, но и с семьей, женой и детьми, которых очень любил, и теперь уж, наверное, никогда больше не увидит; простодушного Бакока, который не знает даже названия той деревни, где рабом появился на свет. Эти люди были добры ко мне. И клятву верности Лесным Братьям я давал с ними вместе…
— Тебя что-то мучает, Гэв? — спросил Чамри.
— Понимаешь, у меня такое ощущение, что я убегаю и от Бакока с Таффой, и от остальных, — сказал я.
— Они тоже могли убежать, если б захотели, — возразил Венне, но сказал это так быстро, что я понял: он думает о том же, что и я, и тоже пытается оправдать перед собой наш побег, наше дезертирство.
— Булек убежать не мог, — сказал я.
— Ничего, он теперь и без побега далеко от них, куда дальше, чем мы, — попытался успокоить меня Чамри. — Не мучай себя понапрасну, Гэв. Булек сейчас дома… Ему уже почти хорошо. А ты, Гэв, слишком уж верный, вот в чем твой главный недостаток. Не надо оглядываться назад. Увидел — и поскорей проходи мимо, так-то оно лучше.
Это показалось мне странным: что он имел в виду? Я ведь никогда не оглядывался назад. И у меня не было ничего, чему я мог хранить верность, за что я мог бы держаться. Я шел туда, куда влекла меня судьба или случай. Я вдруг вспомнил те куски белой ткани из своих видений, что, извиваясь, плыли по течению реки…
На следующий день мы оказались в той части огромного Данеранского леса, где я еще никогда не бывал. Эту территорию Бриджин и Итер никак не могли считать «своей». Вокруг высились могучие темно-зеленые ели. Упавшие деревья создавали непроходимые стены и лабиринты, ибо их могучие ветви насквозь проросли бесчисленными молодыми побегами. Приходилось идти вдоль ручьев или прямо по каменистым руслам; это оказалось нелегко, потому что шли мы по воде, по скользким камням, стараясь обойти пороги и не попасть в омуты, таившиеся в густой тени деревьев. Чамри все повторял, что вскоре мы отсюда выберемся, и мы действительно наконец выбрались — на второй день пути к вечеру мы, шлепая по очередному ручью, вышли к его истоку, на открытый, поросший травой склон холма. Пока мы передыхали там, наслаждаясь ясным вечерним светом, мимо нас к подножию холма проследовало стадо оленей; остановившись не более чем в двадцати шагах от нас, они совершенно спокойно на нас посмотрели и неторопливо продолжили свой путь, сторожко подрагивая большими ушами. Венне тут же вытащил лук и бесшумно вложил в него стрелу. Еле слышно щелкнула натянутая тетива, прожужжала, точно крылья крупного жука, стрела, и шедший последним олень вдруг вздрогнул, упал на колени и прилег на траву — казалось, мирная тишина вокруг ничем и не была потревожена. Во всяком случае, остальные олени даже не обернулись и вскоре столь же неторопливо скрылись в лесу.
— Ах, и зачем только я в него выстрелил! — с досадой воскликнул Венне. — Теперь придется его освежевать.
Но с этим мы быстро управились и с удовольствием поужинали жареной олениной, да и на потом осталось достаточно. Уже в темноте, когда мы, наевшись до отвала, сидели у догоравшего костра, Чамри сказал:
— Если бы здесь было Высокогорье, я бы сказал, что ты этих оленей к себе призвал.
— Призвал?
— Это такой дар — призывать животных. У нас, например, когда какой-то брантор отправляется на охоту, он обязательно берет с собой человека, который дичь призывать умеет, если, конечно, сам брантор таким даром не обладает. Дикий кабан, лось, олень — да на кого бы они ни охотились, — все к такому человеку сами подойдут.
— Нет, я так не умею, — помолчав, тихонько пробасил Венне. — Но представить себе это вполне могу. А если я хорошо знаю какие-то места, то почти всегда знаю и то, где в данный момент находятся олени. Как и они знают, где я нахожусь. Только, если они боятся, я их ни за что не найду. А если не боятся, то сами придут. Покажутся — дескать, вот он я, я тебе нужен? Олени — они такие; сами себя отдают. И тому, кто этого не понимает, на охоте делать нечего. Он просто мясник, а не охотник.
Мы еще целых два дня шли по лесным холмам, поросшим деревьями с довольно светлой листвой, и наконец вышли на берег крупного ручья или речки.
— На том берегу начинается царство Барны, — сказал Чамри. — Теперь нам лучше оставаться на тропе и как можно сильнее шуметь — пусть знают, что мы здесь и не собираемся к ним подкрадываться, точно шпионы. — Так что мы, топая, по словам Венне, точно стадо диких свиней, и разговаривая в полный голос, двинулись по тропе и довольно скоро услышали окрик, приказывавший нам остановиться. Мы замерли на месте и увидели, что по тропе к нам идут двое мужчин — один высокий и худой, а второй низенький и толстый.
— Эй, вы хоть знаете, куда попали? — спросил коротышка насмешливо, но без угрозы. Высокий держал наготове свой большой лук, но в нас не целился.
— В Сердце Леса, — ответил Чамри. — И очень надеемся, что нас тут приветят, Тома. Ты что, меня не помнишь?
— Вот это да, клянусь Разрушителем! Говорят, фальшивый грошик вечно в руки попадается! — Тома подошел к нам, схватил Чамри за плечи и несколько раз тряхнул в каком-то яростном приветствии. — Ах ты, горная крыса! Ах ты, паразит! Уполз ночью тайком вместе с этим Бриджином и его кодлой, и поминай как звали? И какого же черта ты-то за ними увязался?
— Это была ошибка, Тома, — честно признал Чамри и покрепче уперся ногами в землю, потому что Тома все продолжал трясти его за плечи. — Назови это ошибкой или как хочешь, только прости, ладно?
— Собственно, почему бы мне тебя и на этот раз не простить? — философски заметил Тома. — Я ведь далеко не в первый и не в последний раз тебя прощаю, Чамри Берн. — Он наконец перестал трясти Чамри и обратил свое внимание на нас. — Кого это ты с собой привел? Неужели своих крысят?
— Ушел я отсюда всего лишь с тупоголовыми свиньями вроде Бриджина и Итера, — сказал Чамри, — зато назад вернулся с настоящими жемчужинами, да еще и в золото оправленными, — как раз для ушей Барны. Вот это Венне, который может свалить оленя с тысячи шагов, а это Гэв, который умеет рассказывать всякие истории и знает такие стихи, которые заставляют человека то плакать, то смеяться. Веди нас в Сердце Леса, Тома!
Мы прошли еще примерно с милю по светлому лесу, где росли огромные дубы и ольховины, и вдруг попали в очень странное место.
Оказалось, что Сердце Леса — это самый настоящий город, обнесенный частоколом, с огородами и амбарами, коровниками и загонами для скота, с множеством домов, с общественными зданиями, с улицами и площадями. Все здесь было из дерева. Города, большие и маленькие, думал я, строят из камня и кирпича, а из дерева строят только сараи для скота и хижины для рабов. Но это был настоящий большой город, целиком построенный из дерева. И жителей там было полно — мужчины, женщины, дети. Я видел их в садах, в огородах, на улицах и с особым интересом разглядывал женщин и детей. А еще меня просто потрясли дома с мощными поперечными балками и двускатными крышами. А на широкой центральной площади было столько народу, что я даже остановился, испуганный. Да и Венне, шедший рядом со мной, прижался ко мне плечом, словно в поисках поддержки.
— Знаешь, Гэв, я в жизни ничего подобного не видел, — вдруг охрипнув, прошептал он. Мы оба шли за Чамри буквально по пятам, точно два козленка за матерью-козой.
Впрочем, и сам Чамри озирался с некоторым изумлением.
— Этот город и вполовину не был таким большим, когда я уходил, — сказал он. — Вы посмотрите, как они тут все здорово устроили!
— Вам повезло, — заметил Тома, наш толстенький сопровождающий. — Вон и сам Барна идет.
Через площадь к нам направлялся огромный бородатый мужчина. Очень высокий, с широкой грудью и мощным торсом, с темно-рыжими курчавыми волосами и пышной бородой, целиком скрывавшей его щеки, подбородок и грудь, с большими ясными глазами, он шел на удивление легко и плавно, словно не шел, а плыл над поверхностью земли. И стоило нам его увидеть, как мы сразу же поняли: это и есть, как сказал Тома, «сам Барна». Он посмотрел на нас дружелюбно, с острым любопытством, и Чамри воскликнул:
— Барна! Возьмешь ли ты меня обратно, если я скажу, что привел к тебе парочку отличнейших новобранцев?
Несмотря на довольно-таки нахальный тон, Чамри держался почтительно — не кланялся, но явно испытывал к своему собеседнику должное уважение. — Если ты меня забыл, то я и есть тот самый Чамри Берн, который несколько лет назад совершил трагическую ошибку, уйдя из Сердца Леса на юг.
— А, тот горец! — улыбнулся Барна. Улыбка у него была широкая, белые зубы так и сверкали в зарослях бороды. И голос у него был потрясающий: густой, глубокий бас. — Ну, что касается тебя самого, то добро пожаловать снова! К нам. Ты ведь знаешь: мы тут вольны приходить и уходить, когда вздумается! — Он пожал Чамри руку и спросил: — А кто эти парни?
Чамри представил нас, в нескольких словах описав наши таланты. Барна потрепал Венне по плечу и сказал, что охотнику в Сердце Леса всегда рады; на меня он внимательно смотрел с минуту, потом сказал:
— А ты, Гэв, зайди ко мне сегодня попозже, если не трудно. Тома, ты им жилье подыщешь? Хорошо, хорошо, хорошо! Добро пожаловать в свободную жизнь, ребята! — И он широкими шагами зашагал дальше. Издали было особенно хорошо заметно, что он по крайней мере на голову выше всех вокруг.
Чамри сиял.
— Клянусь Священным Камнем! — воскликнул он. — Ни одного слова недовольства, только «добро пожаловать», и все грехи прощены! Вот вам поистине великий человек! И сердце у него великое!
Мы нашли себе пристанище в одном из домов, который показался нам просто роскошным после наших сделанных кое-как и насквозь продымленных хижин. Потом поели в общей столовой, которая была весь день открыта для всех, и там-то Чамри наконец и обрел то, о чем так сильно мечтал: повара как раз изжарили пару баранов, и он ел жареную баранину до тех пор, пока глаза у него не заблестели от наслаждения над лоснящимися от бараньего жира щеками. После этого он проводил меня к дому Барны, который возвышался над центральной площадью, но со мною внутрь не пошел.
— Не стану торопить судьбу, — пояснил он. — Барна ведь тебя просил зайти, не меня. Спой ему эту песню — «Свобода», так, кажется? Сразу его сердце завоюешь.
Я вошел в дом, пытаясь вести себя как ни в чем не бывало, и сказал там, что меня просил зайти сам Барна. Навстречу мне попадались исключительно мужчины, но где-то в глубине дома я слышал и женские голоса. И эти звуки, звуки женских голосов в глубине большого дома, словно вдруг странным образом сдвинули что-то в моем мозгу, приоткрыли какую-то дверку. Мне захотелось остановиться и послушать. Впрочем, услышать мне хотелось только один-единственный голос.
Но остановиться мне не дали, и пришлось следовать за провожатыми, которые привели меня в какую-то комнату с большим камином. У камина, хоть огонь в нем и не горел, сидел Барна — в огромном кресле, очень для него подходящем и похожем на настоящий трон. Вокруг было много мужчин и женщин, и Барна разговаривал с ними и смеялся. На женщинах были такие красивые одежды, каких я не видел уже много месяцев, а такие расцветки, как у этих тканей, я в последнее время замечал лишь на цветущем лугу или любуясь отблесками зари. Вы будете смеяться, но я просто глаз не мог отвести от этой одежды, причем больше всего меня привлекало именно разнообразие цвета, а не сами женщины. Некоторые мужчины тоже были очень красиво одеты, и вообще было очень приятно видеть чистых людей в красивой одежде, мирно беседующих друг с другом и весело смеющихся. Это было так мне знакомо!
— Поди-ка сюда, парень, — сказал Барна своим глубоким великолепным басом. — Тебя ведь Гэв зовут, верно? Ты, Гэв, из Казикара или из Азиона?
А вот в лагере Бриджина никогда никто не спрашивал человека, откуда он. Среди беглецов, дезертиров и преследуемых законом воров такой вопрос вряд ли восприняли бы с одобрением. Чамри был единственным, кто часто и совершенно свободно рассказывал, откуда он бежал, но и то только потому, что теперь находился далеко-далеко от тех мест. А не так давно по лагерю пронесся слух о рейдах, совершаемых охотниками за рабами в поисках беглецов. В общем, там все считали, что лучше вообще не иметь никакого прошлого, и меня это совершенно устраивало. Так что я был настолько ошеломлен вопросом Барны, что ответил на него нехотя, с трудом и таким тоном, что даже мне самому показалось, что я говорю неправду:
— Я из Этры…
— Из Этры? Да неужели? Впрочем, я ведь сразу распознаю горожанина, стоит мне его увидеть. Я и сам родился в Азионе, будучи сыном одного из тамошних рабов. Как видишь, я и в лес город с собой притащил. Что хорошего в свободе, если ты беден, голоден, грязен и никак не можешь согреться? Такая свобода никому не нужна! Если человек хочет в одиночку зарабатывать себе на жизнь луком или мотыгой, то это его собственный выбор; а здесь, в Сердце Леса, никому не грозит ни рабство, ни нужда. Таков главный и основной Закон Барны. Верно я говорю? — спросил он со смехом у тех, что его окружали, и они дружно закричали:
— Верно!
Энергия и доброжелательность этого человека, его нескрываемое наслаждение жизнью воздействовали на других столь сильно, что устоять было совершенно невозможно. Его тепла и силы, казалось, хватает на всех. Кроме того, он, безусловно, был умен; его ясные глаза все подмечали очень быстро и видели глубоко. Посмотрев на меня внимательно, он сказал:
— Ты был домашним рабом, и с тобой очень хорошо обращались, верно? Со мной то же самое было. Что тебя научили делать в хозяйском доме?
— Я получил неплохое образование, чтобы впоследствии учить детей в нашей школе. — Я говорил очень медленно, словно читая некую историю, написанную не обо мне, а о ком-то другом.
Барна наклонился вперед, явно заинтересовавшись моим сообщением.
— Получил образование, говоришь? — воскликнул он. — Читать, писать умеешь? И все такое?
— Да.
— Чамри сказал, что ты еще и певец, так?
— Рассказчик, — поправил я.
— Рассказчик, значит… И о чем же ты рассказываешь?
— Обо всем, что когда-то прочел в книгах, — сказал я, не потому, что хотел похвалиться, а потому, что это было правдой.
— Что же ты читал?
— Разные книги. Историков, философов, поэтов.
— Да ты действительно образованный человек, клянусь Тугоухим богом! Образованный человек! Учитель! Не иначе как сам великий бог Удачи послал мне человека, в котором я так нуждался, которого мне так не хватало! — Барна с радостью и некоторым удивлением посмотрел на меня, поднялся со своего огромного кресла и заключил меня в медвежьи объятия. Мое лицо оказалось притиснутым к его курчавой бороде. Он так сдавил мне ребра, что у меня перехватило дыхание. Затем он отодвинул меня на расстояние вытянутой руки и сказал: — Ты ведь останешься у нас, да? Приготовь ему комнату, Диэро! А сегодня вечером… Можешь ты сегодня вечером нам что-нибудь рассказать? Покажешь, какими премудростями ты обладаешь, Гэв-Школяр? Договорились?
Я сказал, что непременно.
— Вот только книг у нас здесь для тебя не найдется, — сказал он даже с какой-то тревогой, по-прежнему ласково обнимая меня за плечи. — У нас есть почти все, чего может пожелать человек, кроме книг; книги — это совсем не то, что мои люди сюда приносят; люди у нас в основном невежественные, неграмотные, а книги — вещь очень тяжелая. — И Барна рассмеялся, откинув назад свою крупную голову. — Но теперь мы это исправим. Мы позаботимся о том, чтобы у нас и книги появились. Итак, до вечера, дружок!
И он отпустил меня. Какая-то женщина в изящном черно-фиолетовом платье взяла меня за руку и куда-то повела. Вообще-то, на мой тогдашний взгляд, она была уже довольно старой, наверняка за сорок; лицо у нее было строгое, она ни разу не улыбнулась, но обращалась со мной ласково, и голос у нее оказался ласковый, нежный, и платье очень красивое. И я все удивлялся, до чего же все-таки женщины все делают иначе, чем мужчины, и двигаются, и говорят, и ходят! Диэро привела меня куда-то на самый верх, на чердак, и стала извиняться, что отведенная мне комната находится так высоко и так мала. Я, заикаясь, пробормотал, что вполне мог бы жить и со своими друзьями в общем доме, но она сказала:
— Ты, конечно, можешь жить и в общем доме, если захочешь, но Барна надеется, что ты именно его дом почтишь своим присутствием.
Я просто лишился дара речи после таких слов. Да и разве можно было хоть чем-то огорчить эту изящную, хрупкую, строгую женщину. Меня только удивляло, что все вокруг поверили мне на честное слово, особенно насчет моих знаний, но сказать это вслух я не решился.
Диэро вскоре ушла, и я немного огляделся. Комнатка действительно была небольшая, с квадратным окошком. Из мебели имелись удобная кровать с матрасом, простынями и одеялом, стол, стул и масляная лампа. Мне все это показалось настоящим раем. Спустившись вниз, я сходил в тот дом, где остановились Чамри и Венне, но их там не было, и я попросил какого-то человека, валявшегося на кровати, чтобы он передал им, что я остаюсь в доме Барны. Он посмотрел на меня недоверчиво, потом понимающе усмехнулся и хмыкнул:
— Высоко забрался, а?
Я положил свои жалкие пожитки к пожиткам Чамри, понимая, что мне вряд ли в ближайшем будущем понадобятся мои рыболовные снасти или старое вонючее одеяло; но нож свой я оставил висеть на поясе, заметив, что почти все мужчины здесь тоже носят на поясе ножи. Потом я снова неторопливо пошел в дом Барны, стараясь получше рассмотреть его, поскольку уже не был настолько ошеломлен происходящим. Дом фасадом выходил на центральную площадь и поражал своими внушительными размерами, мощными балками и высокими коньками крыш. Построен он был, разумеется, тоже из дерева, и в окошках с тесными переплетами стекол я не заметил, но все равно он произвел на меня потрясающее впечатление.
Поднявшись к себе, я присел на кровать — в своей собственной комнате! — и позволил головокружительному возбуждению охватить меня целиком. Я очень нервничал из-за того, что мне придется выступать перед этим великодушным, властным, непредсказуемым великаном и целой толпой его приятелей или гостей. Я чувствовал, что должен сразу же, отметая всякие сомнения, доказать, что я и есть тот самый «школяр», «ученый», которого он хотел бы видеть во мне. Как все-таки странно, что меня призвали сделать именно это! И по этой причине я должен выйти из той тишины, в которой прожил так долго, из тишины одиночества, тишины лесов, из безмолвного забвения. Но ведь я уже нарушал эту тишину и это молчание! Я пересказал своим товарищам по несчастью всю поэму Гарро! Тогда я призвал на помощь свою память, и она вернулась ко мне. Это был мой дар, это всегда жило во мне, я помнил все, что когда-то прочел, что когда-то учил в классной комнате вместе с…
Нет. Я подошел слишком близко к той непреодолимой стене, что отделяла меня от прошлого. И мысли мои словно онемели. И голова отупела, вновь стала совершенно пустой.
Я прилег на кровать и задремал. И продремал до тех пор, пока свет в моем маленьком с тесным переплетом окошке не приобрел закатный, красноватый оттенок. Тогда я встал, постарался как можно лучше пригладить волосы пальцами, а потом стянул их на затылке куском рыболовной лески, ибо они вот уже год были не стрижены. Больше я ничего не мог сделать, чтобы придать своему виду хоть какую-то элегантность. Спустившись по лестнице, я прошел в большой зал, где уже собралось человек тридцать или сорок, болтавших, точно стая скворцов.
Со мной радушно поздоровались, и та строгая, милая женщина в черно-фиолетовом, Диэро, подала мне чашу с вином, которую я залпом осушил. У меня, естественно, тут лее закружилась голова, но не хватило смелости помешать ей вновь наполнить мою чашу. Впрочем, ума у меня хватило хотя бы на то, чтобы пока не пить больше ни глоточка. Я смотрел на эту серебряную чашу тонкой работы с выгравированными веточками оливы, столь же прекрасную, как и все те вещи, которые… я видел когда-то в одном доме… и думал: интересно, неужели в Сердце Леса есть свои ювелиры и золотых дел мастера? И откуда здесь берется серебро? Затем надо мною навис громогласный Барна, обнял меня за плечи, куда-то повел и поставил перед собравшимися людьми. Призвав своих гостей к тишине, он сказал, что у него есть для них особое угощение, и с улыбкой кивнул мне.
Жаль, что у меня не было лютни, как у странствующих сказителей, которые с помощью этого музыкального инструмента задают тон и настроение своему повествованию. Мне же пришлось начинать в полной тишине, что всегда очень трудно. Однако опыт выступлений я к этому времени приобрел уже довольно большой, так что велел себе: стой прямо, Гэвир, постарайся не махать зря руками, и пусть твой голос идет как бы из твоего сердца, из самых глубин твоей души…
Я рассказывал им старинную поэму «Мореплаватели Азиона». Эта идея пришла мне в голову, потому что Барна и сам был родом из Азиона. К тому же я надеялся, что эта история будет интересна и всем прочим слушателям. В ней рассказывалось о корабле, совершающем каботажное плавание и везущем сокровища из Ансула в Азион. На судно нападают пираты, они берут его на абордаж, убивают офицеров и приказывают рабам грести к острову Соува, где у пиратов логово. Гребцы подчиняются, однако ночью, сговорившись, поднимают бунт, разрывают свои цепи, убивает пиратов и направляют корабль со всеми сокровищами иа борту в порт Азион, где городские правители встречают их как героев и награждают каждого частью спасенного имущества и свободой. Эта поэма написана особым, как бы колышущимся стихом, подобным морским волнам, и я видел, что мои слушатели следят за развитием сюжета, широко раскрыв и глаза, и рты — в точности как слушали меня в насквозь продымленной хижине мои Лесные Братья. Меня же чрезвычайно взбодрили и слова поэмы, и внимание аудитории. Казалось, все мы находимся на том корабле, посреди бескрайнего серого моря.
Я умолк, закончив поэму, и в зале ненадолго воцарилась полная тишина, потом встал Барна и проревел:
— Они их освободили! Клянусь Сампой, великим Созидателем и Разрушителем, они дали им свободу! Вот такие истории мне очень нравятся! — Он снова по-медвежьи обнял меня и, придерживая за плечи, но как бы чуть отстраняя от себя, продолжил: — Хоть я и сомневаюсь, что история эта правдива. Благодарность горстке рабов на галере? Не похоже! Слушай, Школяр, сейчас я придумаю для этой сказки конец, куда больше похожий на правду. Эти рабы и не подумали плыть в Азион, а развернулись и поплыли на юг, к Ансулу, из которого и везли это золото; потом они его разделили между собой поровну и прожили остаток своих дней, как богатые и свободные люди! Ну как? Хотя, конечно, это очень хорошая поэма, великая поэма, и рассказал ты ее очень хорошо! — Он дружески хлопнул меня по спине и повел по кругу, представляя своим гостям, мужчинам и женщинам, и все меня хвалили, и разговаривали со мной очень ласково, и голова у меня совсем пошла кругом, тем более что я все-таки допил свое вино. Все это было очень приятно, но я даже обрадовался, когда мне наконец позволили оттуда уйти и подняться в свою каморку. Испытывая сильнейшее удивление из-за всего того, что произошло со мною за этот долгий день, я рухнул на свою мягкую постель и тут же заснул.
Так началась моя жизнь в Сердце Леса и мое знакомство с отцом-основателем этого лесного города и его идейным вдохновителем. Единственное, о чем я мог тогда думать, — что бог Удачи по-прежнему меня не оставляет. Видимо, именно потому, что я не знал, о чем мне попросить Глухого бога, он и давал мне то, в чем я нуждался.
То, что Барна так хорошо меня принял, вызвано было не просто его желанием развлечься и повеселиться, хотя шумное веселье в той или иной степени сопровождало почти все, что он говорил и делал. Нет, его особое отношение ко мне имело давнюю и вполне определенную причину: ему давно хотелось, чтобы у него в городе появились не только свободные, но и образованные люди, которых там до сих пор не было ни одного.
Барна очень быстро приблизил меня к себе, и между нами установились вполне доверительные отношения. Он, как и я, вырос в большом доме, где не только хозяева, но и некоторые рабы получили приличное образование. Там была большая библиотека, и туда, что меня особенно потрясло, приходили ученые, посещавшие Азион, чтобы побеседовать с просвещенными хозяевами Барны. Порой у них в доме подолгу гостили поэты, а философ Деннетер, например, вообще прожил там целый год. Все это восхищало юного Барну, оставляя в его душе глубокий след. Да и сам он тоже удивлял своими способностями и хозяев, и гостей дома; он очень быстро все схватывал, и особенно его интересовала философия. Деннетер, оказавший на него огромное влияние, даже захотел сделать его своим учеником. Хозяева дали согласие, и Барна уже готовился учиться у Деннетера и путешествовать с ним по всему свету.
Но, когда ему было пятнадцать лет, рабы из казарм гражданской армии Азиона подняли восстание. Они вломились в оружейные склады города, забаррикадировались там, перебив охрану и всех тех, кто пытался их остановить, и объявили себя свободными людьми. Они требовали, чтобы город признал их новый статус, и призывали всех остальных рабов к ним присоединяться. Многие домашние рабы так и поступили, и в течение нескольких дней в Азионе царили паника и смятение. Затем армия окружила оружейные склады, взяла их, и восставшие были перебиты. После этого бунта почти все рабы мужского пола оказались под подозрением. Многих хозяева заклеймили, чтобы уж никто не заподозрил в них свободных людей. Барна, тогда пятнадцатилетний мальчишка, клейма избежал, однако теперь и речи быть не могло ни об изучении философии, ни о путешествиях. Его отправили в гражданскую армию для пополнения ее поредевших рядов и выполнения разнообразных тяжелых работ.
— И на этом мое образование раз и навсегда прервалось. Ни одной книги не держал я в руках с того дня. Но у меня все же были в жизни эти несколько лет учебы и возможность слушать разговоры поистине мудрых людей; узнал я и о том, что существует жизнь разума и духа, которая превыше всего на свете. Вот почему я прекрасно понимал все это время, чего нам здесь не хватает. Я сумел создать город поистине свободных людей, но что толку в свободе для людей невежественных? Да и что такое свобода, если не способность ума узнавать то, что ему необходимо, если не способность человека свободно мыслить? Ах, даже когда тело твое в оковах, если в голове твоей сохранились мысли, если ты помнишь какие-то идеи философов и слова поэтов, ты можешь чувствовать себя свободным, ибо свободно станешь бродить среди этих великих людей и общаться с ними!
Его хвалы знаниям глубоко тронули меня. До сих поря жил среди людей настолько бедных, что знания о чем бы то ни было, кроме их собственной нищеты, не имели для них никакого смысла, они считали все прочие знания совершенно бесполезными, и я смирился с их точкой зрения, потому что смирился и с их нищетой. Очень-очень долго я гнал от себя мысли о том, какие идеи проповедовали великие творцы, историки, философы и поэты прошлого, и когда память об этом стала ко мне возвращаться — я тогда жил еще среди Лесных Братьев, в лагере Бриджина, — уже одно это показалось мне чудесным даром. Впрочем, это никак не было связано ни с моими собственными желаниями, ни с моими намерениями. И будучи сам нищим и невежественным, я не осмеливался заявить, что невежество не имеет права судить Знание.
И вот рядом со мной появился человек, который сумел доказать, что умен, образован, энергичен и смел, тем, что, поднявшись из нищеты и рабства, стал правителем настоящего государства, целый народ привел за собой в царство свободы и независимости. И этот человек ставил знания, образованность, поэзию выше собственных, поистине великих, достижений! И я, испытывая стыд из-за собственной слабости, наслаждался его силой.
Я все лучше узнавал Барну, все сильнее им восхищался, и мне очень хотелось быть ему полезным. Но, похоже, пока что единственное, что он видел во мне, это своего послушного ученика; я ходил вместе с ним по городу, с удовольствием слушал его высказывания и различные планы, а по вечерам рассказывал или декламировал по собственному выбору какую-нибудь историю или стихотворение ему и его гостям. Я предлагал научить и кое-кого из его приятелей читать и писать, но он отвечал, что книг у них нет, так что учить мне их никак не возможно, и хотя я предлагал написать тексты от руки, он не позволял мне тратить на это время. Барна уверял меня, что книги непременно будут, их найдут и принесут в Сердце Леса, а потом найдутся и образованные люди, которые станут мне помощниками, и тогда мы создадим настоящую школу, где смогут учиться все, кто захочет.
Между тем кое-кто в доме Барны очень хотел учиться; например, те молодые женщины, что там жили. Им было скучно, они мечтали о новых развлечениях, и я, попросив у Барны разрешения, стал учить их читать и писать. Сам Барна только смеялся и надо мной, и над этими девушками.
— Только не позволяй им себя дурить, Школяр! Их ведь не высокая поэзия интересует! Просто хотят посидеть рядышком с молоденьким хорошеньким парнишкой! — Он и его приятели все время дразнили девушек, говоря, что те превратились в книжных червей, и девушки вскоре сдались и почти перестали посещать наши занятия. Одна лишь Диэро по-прежнему приходила довольно часто.
Диэро мне казалась поистине прекрасной, такая она была изящная, нежная. Ее с детства готовили к роли «женщины-бабочки». В Азионе — древнем городе, славившемся своими пышными церемониями, роскошью и красивыми женщинами, — «женщины-бабочки» получали особое образование согласно науке удовольствий, науке тонкой и изысканной, хотя мнение о ней в других городах-государствах было совсем иным.
Но, как рассказывала мне Диэро, чтение в число тех искусств, которым обучали «бабочек», не входило. Она с жадным вниманием вслушивалась в строки той поэзии, о которой я рассказывал, и вообще к знаниям относилась с огромным, хотя и застенчивым, интересом. Я, как умел, поддерживал ее желание научиться читать и писать. Она была необыкновенно скромна, постоянно сомневалась в собственных силах, но схватывала все очень быстро, и та радость, которую она испытывала, удачно ответив урок, и мне тоже была чрезвычайно приятна. Барна относился к нашим занятиям вполне добродушно, как к очередному развлечению.
Самые старшие из его соратников, те, что долгие годы были с ним рядом, являлись поистине его людьми. Они вынесли из долгих лет рабства привычку подчиняться приказам и никогда не претендовать на главенствующую роль, что делало их особенно удобными для такого прирожденного вожака, как Барна. Они относились ко мне как к мальчишке, а не как к своему сопернику; они объясняли мне то, что знать в городе беглых рабов было просто необходимо, и время от времени кое от чего меня предостерегали. Барна, говорили они, с себя последнюю рубаху снимет и тебе отдаст, но если он решит, что ты ухлестываешь за его девицами, берегись! Они рассказали мне, что Диэро пришла вместе с Барной из Азиона еще в те времена, когда он только-только вырвался на свободу, и в течение многих лет была его любовницей. Теперь, правда, она, что называется, «в отставке», но осталась «женщиной Дома Барны», и человеку, особенно мужчине, который вздумал бы относиться к ней без должного уважения, смешанного с обожанием, там было не место.
Барна как-то объяснил мне — мы с ним сидели тогда на сторожевой башне Сердца Леса, — что мужчины и женщины должны свободно любить друг друга, не давая всяких ханжеских обещаний в вечной верности, которые, точно цепями, связывают людей. Мне его слова очень понравились. О браке я знал лишь то, что это — для хозяев, а не для таких, как я, и даже не думал об этом. А вот Барна о таких вещах не только думал, но и пришел к определенным выводам, которые превратил почти в закон для обитателей лесного города. У него и насчет детей тоже свои идеи имелись: дети должны быть совершенно свободны, их никогда нельзя наказывать, пусть бегают где хотят и находят для себя такие занятия, которые им действительно по душе. Это меня просто в восторг приводило, как, впрочем, и почти все идеи Барны.
Я был хорошим слушателем, иногда задавал вопросы, но по большей части довольствовался тем, что внимательно следил за бесконечными и щедрыми планами, возникавшими в его мозгу. Он и сам говорил, что думается ему лучше всего вслух. И вскоре уже просто требовал моего присутствия, громогласно вопрошая: «Где это наш Гэвди? Где наш Школяр? Мне надо подумать!»
Я жил в доме Барны, но часто виделся и с Чамри. Он вступил в гильдию сапожников, вместе с которыми и жил, устроившись вполне уютно; он ни на что не жаловался, разве на то, что женщин в Сердце Леса маловато да и жареная баранина редко на обед бывает. «Надо почаще посылать этих юнцов, что без дела маются, чтобы баранинки раздобыли!» — говорил он.
Венне вскоре обнаружил, что, как и любому охотнику, ему придется большую часть времени проводить далеко в лесах, как это было и в лагере у Бриджина. Однако вся дичь вблизи Сердца Леса давным-давно была выбита, и город теперь кормила совсем не охота. Как-то раз те самые «юнцы, что без дела маются», попросили Венне пойти с ними в качестве охраны, ибо уже знали, как ловко он стреляет из своего небольшого лука. Так он впервые вышел вместе с ними на большую дорогу. Это случилось примерно через месяц после нашего появления в Сердце Леса.
«Десятинщики», а попросту налетчики, занимались там настоящим разбоем. Они выходили навстречу торговым караванам и отдельным повозкам, принадлежавшим богатым купцам; останавливали и стада, которые погонщики перегоняли по дороге из селения в селение. В итоге и скот, и груженные товаром повозки, и возницы, и погонщики, и лошади оказывались у нас в городе, тем самым пополняя и наши продовольственные запасы, и количество повозок, и даже численность населения — если, конечно, эти люди сами выражали желание присоединиться к нашему братству. Если же они этого не хотели, то, по словам Барны, им завязывали глаза, выводили на дорогу и оставляли их там с повязкой на глазах и со связанными руками; и эти несчастные бродили по дороге до тех пор, пока очередной путник их не развяжет. Барна оглушительно хохотал, рассказывая мне, что некоторые возницы так часто попадались его людям, что сами покорно протягивали руки, чтобы их связали.
Имелась в лесном городе и особая категория — «ловцы», которые, отправляясь в одиночку или парами в Азион, покупали или выменивали на рынке необходимые нам вещи, попросту обворовывая дома богачей и сундуки жрецов в богатых храмах. В Сердце Леса деньгами не пользовались, однако нашему братству деньги были необходимы, чтобы покупать то, чего налетчики не могли украсть на дороге, — в том числе доброе отношение местных крестьян, а также молчание купцов в больших городах, пребывавших с «ловцами» в сговоре. Барна любил хвастаться тем, что сидит на таком богатстве, какому могут позавидовать даже самые крупные торговцы Азиона. Где хранилось это богатство, я так и не узнал. Бронзовые и медные монеты выдавались любому, стоило ему сказать, что он отправляется в город за покупками.
Барна и его помощники прекрасно знали каждого, кто уходил в Азион. Таких было немного, и все они были людьми испытанными и надежными, ибо, как говорил Барна, одного дурака, треплющего языком в пивной, вполне достаточно, чтобы Сердце Леса окружила вся армия Азиона. Узкие, прихотливо извивающиеся тропки, ведущие к воротам лесного города, тщательно охранялись, а зачастую их специально уничтожали и прокладывали в другом месте, особенно в тех случаях, когда нужно было скрыть следы колесных повозок или прошедшего стада. Просто так никто не мог пройти к Сердцу Леса. Я, например, все время вспоминал тех часовых, которых мы тогда встретили на тропе, их грозный вид и нацеленный на нас большой лук. И все здесь знали: если кто-то из охраняющих заветные тропы заметит человека, который без разрешения вышел из города и явно пытается уйти прочь, то никаких угроз не последует: предателя просто пристрелят.
Венне не раз просили стать членом городской стражи, но ему очень не нравилась мысль о том, что, вполне возможно, придется стрелять кому-то в спину. Ему куда больше по душе пришлись налеты на торговые караваны и угон скота; кроме того, положение «десятинщика» было весьма престижным. Барна и сам говорил, что самые ценные члены нашего сообщества — это налетчики и «борцы за справедливость», поддерживающие в городе порядок, но, с другой стороны, каждый волен следовать зову собственного сердца, выбирая, чем ему заниматься. Так что Венне радостно ушел с бандой молодых «десятинщиков», пообещав Чамри вернуться с «отарой овец, а если это не удастся, то с целой толпой женщин».
На самом деле женщин в Сердце Леса действительно было маловато, и каждую из них ревниво охраняли — либо один мужчина, либо несколько. Те женщины, которых я мог видеть вне дома — на улице или в саду, — все, похоже, были либо беременны, либо тащили за собой целый выводок малышей. Надо сказать, женщины в лесном городе отнюдь не сидели без дела, наоборот, они постоянно гнули спину: мели полы, пряли, копали землю, пололи огороды, доили коров, то есть занимались всем тем, чем обычно занимаются рабыни в любом хозяйстве. У Барны в доме, правда, молодых женщин было полно, значительно больше, чем где-либо еще; это были самые хорошенькие и самые веселые девушки в городе, всегда очень красиво наряженные. Одежду для них приносили «десятинщики». Если девушка умела петь, танцевать или играть на лютне, это особенно приветствовалось, но работать ей было совсем не обязательно. Все девушки в доме были, по выражению Барны, «именно такими, какими и должны быть женщины — свободными, красивыми и добрыми».
Он очень любил собирать их вокруг себя, и они с удовольствием с ним кокетничали, льстили ему, любовно его поддразнивали, и он тоже охотно шутил с ними, но серьезные разговоры всегда вел только с мужчинами.
Поскольку Барна по-прежнему держал меня при себе как самого надежного своего конфидента, я со временем даже стал гордиться столь почетным доверием, одновременно сознавая и всю его тяжесть, и очень старался быть достойным дружбы этого великого человека. По вечерам я, как обычно, выступал в большом зале перед всеми, кто желал послушать в моем исполнении произведения самых различных авторов, и благодаря этому, а также из-за того, что Барна постоянно и повсюду брал меня с собой, большинство людей относились ко мне с уважением. Хотя порой я и чувствовал с их стороны зависть или изумление, а то и высокомерное презрение — ведь я, в конце концов, был еще совсем мальчишкой. А кое-кто, о чем мне было прекрасно известно, и вовсе называл меня «образованным придурком», чувствуя, что мне еще многого не хватает, что, несмотря на бесконечное множество подчиняющихся мне слов, я знаю мир очень слабо и неглубоко, точно ребенок.
Я и сам понимал, что это так, но старался не думать об этом. Я сознательно гнал от себя подобные мысли и старался не расставаться с Барной, следуя за ним по пятам, ибо очень в нем нуждался. Он жил так полно и так радостно, что это отчасти заполняло и ту пустоту, внутри которой существовал я сам.
И не только я один это чувствовал. Барна был истинным сердцем созданного им города. Его видение любой проблемы, любое его решение всегда воспринимались с уважением и восхищением; его несокрушимая воля служила людям точкой опоры. Он управлял другими, не запугивая и не смущая их, а всего лишь постоянно — причем часто невольно — демонстрируя превосходство своей силы и своего ума, ну и, разумеется, благодаря своей невероятной природной щедрости. Барна всегда оказывался в нужном месте раньше других и сразу видел, что именно нужно сделать и как это сделать, вовлекая в эту деятельность и всех окружающих, заражая их своей страстностью и активной Доброжелательностью. Он любил людей, любил быть среди них, в самой их гуще, и всем сердцем верил в людское братство.
Теперь я уже знал, каковы его мечты, ибо он сам поведал их мне во время наших бесконечных прогулок по городу, когда он направлял и воодушевлял других, порой принимая самое непосредственное участие в их работе, а я следовал за ним, точно послушная, вечно внемлющая ему тень. Я не всегда мог разделить его любовь к обитателям Сердца Леса и не всегда понимал, как он умудряется сохранять терпение, общаясь с некоторыми из них. Жилье, пища и все необходимое для жизни старались здесь делить по возможности справедливо, но, на мой взгляд, справедливость эта была довольно приблизительной, что, впрочем, вполне естественно. Так что одна комната всегда оказывалась больше другой, в одном куске пирога было больше изюма, чем у соседа, и так далее. И первой реакцией большинства людей на любую допущенную по отношению к ним несправедливость был гнев; они начинали обвинять друг друга в свинстве и пытались отбить свою «законную долю», пуская в ход кулаки, а то и ножи. Многие из них были когда-то рабами на фермах или привлекались к тяжелым работам в гражданской армии; с ними с раннего детства жестоко обращались, они привыкли даже самую малость для себя добывать с боем, стараясь во что бы то ни стало удержать завоеванное. Барна тоже прожил нелегкую жизнь и хорошо понимал этих людей. Он установил в своем городе очень простые правила и законы, но требовал строгого их соблюдения, и в этом ему помогали его «борцы за справедливость», действовавшие порой совершенно безжалостно. Тем не менее время от времени случались и убийства, и шумные ссоры, и драки почти каждую ночь. Немногочисленные целители, костоправы и зубодеры, работали не покладая рук. Пиво по приказу Барны варили не слишком крепкое, но ведь и легким пивом можно напиться допьяна, если ты не привычен к спиртному или пьешь всю ночь напролет. А если людям не давали напиться или подраться, они начинали жаловаться на несправедливости, на то, что с ними нечестно обошлись, на то, что именно им все время приходится выполнять самую тяжелую работу; одним хотелось, чтобы работы было меньше, другим — делать не это, а нечто совсем другое, или же работать не с теми, а с другими людьми, и так до бесконечности. Все эти жалобы в итоге разбирал сам Барна.
— Людям придется еще учиться быть свободными, — говорил он мне. — Быть рабом легко. А чтобы стать действительно свободным человеком, нужно уметь и головой работать, и понимать, кому отдать, а у кого взять, да и самому надо научиться себя в руках держать, себе самому приказывать. Ничего, они научатся, Гэв, научатся! — Но порой даже его невероятной природной доброты не хватало; она истощалась под теми бесконечными требованиями, которые эти люди на него обрушивали, требуя разрешить всякие глупые и мелочные проблемы, вызванные ревностью и завистью. Порой Барну могли страшно разозлить клевета и соперничество тех, кто был ему ближе других, — тех, кого он называл «борцами за справедливость», а также тех, кто жил у него в доме. На самом деле эти люди по сути дела являлись правительством лесного города, хотя, разумеется, никаких титулов не имели.
У него и у самого титула не было, он был просто Барна.
Барна выбирал себе помощников, а они выбирали помощников себе — правда, всегда с его одобрения. Возможность выборов на основе всеобщего голосования представлялась ему пока довольно туманно; он с подобными идеями был знаком весьма слабо. Я, конечно, мог рассказать ему, что некоторые из городов-государств в то или иное время представляли собой республики или даже демократии, хотя и там, конечно, право голоса имели только свободные и знатные люди. Я вспомнил все, что когда-то читал об Ансуле, городе, находившемся далеко на юге; правительство Ансула состояло из людей, избранных всенародно, и там не знали, что такое рабство, пока сам Ансул не был захвачен воинственными кочевниками, пришедшими из восточных пустынь. В Ансуле мужчины и женщины считались равноправными гражданами, и каждый из них имел право голоса; правящий совет там выбирали на два года, а сенаторов — на шесть лет. Я, как умел, рассказывал Барне об этих формах политического управления. Он слушал меня с большим интересом, незамедлительно добавляя кое-что из только узнанного в свои планы построения некоего идеального Свободного Лесного Государства.
Эти планы служили основной темой наших бесед, особенно когда Барна пребывал в хорошем настроении. Когда же его начинали доканывать бесконечные драки, ссоры, наветы и прочие мелкие проблемы, почему-то требовавшие его личного вмешательства, когда он уставал от решения вопросов, за которые тоже брал на себя полную ответственность — например, об обеспечении города провизией, или о том, где следует выставить новые сторожевые посты, или где построить новые дома и склады, — он начинал рассказывать мне о Великом Восстании.
— В Азионе на каждого свободного человека приходится три или четыре раба. В Бендайле все, кто работает на фермах, — это рабы. Ах, если б только они понимали, КТО они, что без них НИЧЕГО не может быть сделано! Если б догадывались, как их на самом деле много! Если б могли осознать свою силу и держаться вместе! Тот мятеж с захватом оружейных складов, что случился в Азионе двадцать лет назад, был просто взрывом отчаяния. Никакого плана действий у его вожаков не было, да и сами вожаки людьми руководить не умели. Оружие у них имелось, это да, а вот ни плана, ни конкретной цели не было. Им некуда было идти. Они не сумели удержаться вместе. То, что мечтаю осуществить я, будет происходить совершенно по-другому. Мое Восстание должно опираться на два основных момента. Во-первых, это оружие; запасы оружия мы уже делаем. Нас встретят насилием, и мы должны быть готовы ответить на это насилие превосходящей силой. А во-вторых, это прочный союз, объединение всех рабов. Мы должны действовать, как один человек. Восстание должно начаться одновременно повсюду — в городах, в деревнях, на фермах. Для этого необходима некая сеть тайных агентов, тесно связанных друг с другом, хорошо подготовленных и обладающих необходимыми сведениями и доступом к оружию, а самое главное, точно знающих, когда и как действовать, чтобы, когда вспыхнет первый факел, вся страна мгновенно загорелась ярким огнем. Огнем свободы! Как там поется в твоей песне? «Будь нашим огнем, Свобода…»!
Его речи о Восстании тревожили и восхищали меня. Не понимая толком, что стоит на кону, я любил слушать, как он строит свои планы, и задавать ему вопросы. Он мгновенно загорался и рассказывал о деталях будущего Восстания с невероятной страстностью.
— Твоя искренняя заинтересованность возвращает мне душу, Гэв, — говорил он. — Ее просто сжирают бесконечные попытки наладить здесь все как надо. Я успеваю следить только за тем, что нужно сделать немедленно или в самое ближайшее время, забывая порой, зачем все это делается. Я пришел сюда, чтобы построить укрепленный город, твердыню, где можно было бы не только собрать целую армию и запасы оружия, но и создать некий революционный центр. Отсюда агенты могли бы возвращаться в разные города севера и в Бендайл и, призывая в наши ряды других рабов, в том числе и из Азиона, и из Казикара, и отовсюду, готовить их к Восстанию, чтобы, когда оно разразится, их бывшие хозяева нигде не смогли укрыться. Даже если они захотят бросить против нас свои армии, то кто поведет эти армии, кто их возглавит, если хозяева будут взяты в заложники в своих собственных домах и на фермах, а города окажутся в руках рабов? В городах хозяев следует запереть в Хижинах для рабов точно так же, как они запирали нас в Хижинах при малейшей угрозе войны. Верно я говорю? Ну а теперь заперты будут хозяева, а хозяйством станут управлять рабы, как это, собственно, и было всегда; рабы станут поддерживать торговлю, научатся руководить государством. Да и в небольших селениях и деревнях следует сделать то же самое: хозяев крепко запереть и всю власть передать в руки рабов; пусть они делают то, что делали всегда, но с той лишь разницей, что и приказы они будут отдавать себе сами, и всем распоряжаться тоже… Итак, предположим, армия идет в атаку, но в таком случае первыми должны умереть заложники, то есть хозяева, которые, скуля, станут молить о пощаде: «Не позволяйте им убить нас вашими руками! Не убивайте нас! Не атакуйте их!» А генералы подумают: «Да это ж всего-навсего рабы, вооруженные вилами да кухонными ножами! Они тут же бросятся бежать, стоит нам в город войти!» И вот, скажем, один из генералов посылает целый полк на захват какой-то фермы. И его войско терпит неожиданное поражение, а его воины оказываются буквально изрезанными на куски рабами, которые не только вооружены мечами и большими луками, но и обучены искусству боя. Эти рабы сражаются на своей земле и пленных не берут. И вот наконец рабы выводят наружу одного из хозяев, возможно Отца Дома, и ставят его, жалобно скулящего, так, чтобы все солдаты хорошо его видели, и говорят: «Вы сами напали на нас, и теперь он умрет». Несчастному отрубают голову и говорят солдатам: «Если вы будете продолжать воевать с нами, умрет немало и других хозяев». И так по всей стране. Восстание охватит каждую деревню, каждый город, даже огромный Азион… О, это будет Великое Восстание! И оно не будет завершено, пока хозяева не выкупят свою свободу, пока они не отдадут за нее все, что у них припасено, каждый припрятанный грош! Только тогда им будет позволено выйти из темниц и начать учиться жить так, как живет простой народ.
Барна откинул голову назад и засмеялся — куда веселее, чем во все предшествующие этому разговору дни.
— Нет, ты и впрямь действуешь на меня целительно, Гэв! — воскликнул он.
Картина, которую он рисовал передо мною, казалась совершенно фантастичной, ужасной, но все-таки настолько живой, что полностью завладевала моим воображением.
— Но как же добраться до всех тех рабов, что работают на фермах, в деревнях, в отдельных городских домах? — спросил я; мне хотелось быть практичным и задавать вопросы не просто так, а «со знанием дела».
— Для этого, разумеется, необходимо выработать особую стратегию. Надо послать специальных людей, которые сумеют проникнуть в каждый дом, поговорить с каждым из рабов на фермах и в деревнях и затянуть их в нашу сеть! Но эти люди, несомненно, должны уметь раскрыть перед рабами картину новой жизни, показать им, на что они способны сами и как это сделать. Эти люди должны уметь ответить на любой вопрос тех, с кем они беседуют. Пусть им задают как можно больше вопросов, ибо они должны заставить своих собеседников задуматься о будущем и начать строить собственные планы. Они должны подготовить их к тому, чтобы в нужный момент по нашему сигналу начать действовать. На это потребуется немало времени. Нужно создать сеть таких агентов и распространить ее, нужно составить подробные планы для каждого города и его окрестностей… И все же особенно медлить нельзя! Ведь если все это слишком затянется, какое-нибудь словечко да просочится наружу, а глупые люди начнут чесать языками, и хозяева немедленно навострят ушки: «Что это за разговоры ведутся в хижине рабов? О чем это они все шепчутся на кухне? Что это кузнец кует до поздней ночи?» И тогда будет утрачено самое главное преимущество: внезапность. А время, как известно, решает все.
Мне его Восстание казалось всего лишь очередной сказкой, прекрасной выдумкой. Барна считал, что в ближайшем будущем должно осуществиться великое отмщение, великое очищение от скверны прошлого. Но ни в сердце моем, ни в мыслях прошлого уже не осталось.
У меня вообще ничего не осталось, кроме слов — кроме тех поэтических слов, что сами себя выпевали, постоянно звуча у меня в ушах; кроме тех разнообразных историй, легенд и преданий, которые я мог мысленно представить себе и как бы прочесть. И я старался не отрывать своего взора от этих слов, не обращать внимания на то, что их окружает. Ибо стоило мне оторвать от них глаза, и я окунался в живое кипение настоящего момента, мучительно чувствуя это «здесь и сейчас», но словно не имея никакого прошлого — ни его теней, ни воспоминаний о нем. А слова приходили ко мне, как только у меня возникала в них нужда. Они являлись как бы из ниоткуда. Даже имя мое было просто словом. Даже название Этра было просто словом. И эти слова тоже не имели ни значения, ни собственной истории. Слово «свобода» было словом из поэмы. Красивое слово. Но красота в моем тогдашнем представлении и составляла всю его суть.
Постоянно рассказывая мне о своих планах и мечтах, Барна никогда не спрашивал меня о моем прошлом. Зато однажды он почти точно описал мне его. Он говорил о Восстании, и, возможно, я отвечал ему без особого энтузиазма, ибо то ощущение пустоты вновь охватило меня, мешая говорить и действовать убедительно. А Барна обычно очень быстро распознавал истинное настроение своего собеседника и сказал, посмотрев на меня своими ясными глазами:
— Знаешь, Гэв, а ведь ты правильно поступил. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Ты ведь сейчас там, в своем городе, и думаешь: «Какой же я был дурак! Убежать, голодать, жить в лесу с невежественными людьми, рабски трудиться, причем куда тяжелее, чем в доме моих хозяев! Разве это свобода? Разве не был я свободнее в родном доме, беседуя с образованными людьми, читая книги умных философов и тонких поэтов, ложась спать в мягкую постель и просыпаясь в теплой комнате? Разве не был я там счастливее?» Но нет, не был! Ты не был там счастлив, Гэв. В душе ты это понимал, а потому и убежал оттуда. Ибо всегда чувствовал власть своего хозяина, его руку.
Барна вздохнул и какое-то время молча смотрел в огонь; стояла осень, воздух был сырой, холодный. Я слушал его, как и всегда, когда он рассказывал свои сказки, — не возражая и не задавая вопросов.
— Я знаю, как это с тобой было, Гэв, — снова заговорил он. — Ты был рабом в большом доме, в большом городе, у добрых хозяев, которые позволили тебе учиться. Ох, как хорошо я это понимаю! И ты считал, что должен радоваться тому, что у тебя есть такая возможность — учиться, читать умные книги, учить других, становиться человеком мудрым и образованным. Они тебе это позволили. Они дали тебе на это разрешение. О да! Но хотя тебе и дали возможность кое-что сделать, никаких прав ни на что тебе все же не дали. Все права принадлежали только им. Твоим хозяевам. Твоим владельцам. И даже если ты этого еще не понимал, ты всеми фибрами своей души чувствовал, как крепко держит тебя хозяйская рука, как она управляет тобою, как она подавляет тебя. Так что если говорить о правах и возможностях, то какими бы возможностями ты ни обладал, все они в таких условиях были бессмысленны. Потому что через тебя хозяева осуществляли только свои права и возможности. Они использовали тебя, позволяя тебе воображать, что это твои права и твои возможности. Ты получал крошечный кусочек свободы, лоскуток независимости и сам перед собой притворялся, что все это действительно принадлежит тебе. Тогда этого тебе было достаточно для счастья. Я прав? Но ты взрослел и постепенно становился мужчиной. А для мужчины, Гэв, не существует иного счастья, кроме обретенной им свободы. Его личной свободы, дающей ему право делать то, чего хочет он сам. И поэтому душа твоя тоже устремилась к свободе. Как и моя когда-то, давным-давно… — Барна ласково потрепал меня по коленке. — Да не смотри ты так печально! — воскликнул он, и в курчавой бороде сверкнула его белозубая улыбка. — Ты же и сам знаешь, что поступил правильно! Ну и радуйся этому, как этому радуюсь я!
Я попытался сказать, что я только и делаю, что радуюсь.
Но Барне надо было идти по делам, и он ушел, а я в задумчивости остался сидеть у огня. То, что он мне сказал, было правдой. Да, это была истинная правда.
Но не моя.
И я, стараясь не думать о только что рассказанной им истории, впервые решился посмотреть назад, в свое прошлое. Сколько же времени прошло с тех пор, как я заглядывал туда, за ту стену, которую сам выстроил когда-то, чтобы оградить себя от невыносимых воспоминаний? Я заглянул туда и увидел свою правду: да, я был рабом в большом богатом доме, в большом городе, и был послушен хозяевам, и не имел никакой свободы, кроме той, которую они позволяли мне иметь. И я действительно был тогда счастлив.
В этом доме своего рабства я познал любовь, столь дорогую моему сердцу, что сейчас мне было невыносимо даже думать о ней, потому что я ее потерял. Я все потерял.
Вся моя жизнь была построена на доверии, и это доверие было предано теми, кого я считал своей Семьей. Оно было предано Аркамантом.
Аркамант — с этим названием, с этим словом все, что я позабыл, все, о чем отказывался помнить, вновь вернулось ко мне, вновь стало моим, а вместе с этим вернулась и та невыразимая боль, которую я не желал признавать.
Я сидел у камина, скорчившись, склонив голову, обхватив колени руками и не желая видеть ни эту комнату, ни этот дом. Вдруг кто-то подошел ко мне и остановился рядом — возможно, просто хотел погреться у огня. Оказалось, что это Диэро, нежный призрак в длинной шали из тонкой бледной шерсти.
— Гэв, — очень тихо и осторожно спросила она, — в чем дело?
Я попытался ей ответить и разразился рыданиями. Закрыв ладонями лицо, я плакал в полный голос, не в силах сдержаться, и Диэро присела рядом со мной на каменную скамью. Обняла меня, прижала к себе и ждала, пока я выплачу все слезы.
— Расскажи мне, расскажи обо всем, — наконец сказала она.
— Моя сестра… Она была моей сестрой… — И это слово, «сестра», вновь вызвало у меня безудержные рыдания, такие сильные, что я даже дышать не мог.
Диэро обнимала меня и баюкала, как ребенка, пока я не поднял голову и не попытался вытереть нос и щеки. Тогда она снова попросила:
— Расскажи мне о ней.
— Она всегда была там со мной, — сказал я.
И я со слезами, невнятно, обиняками, недоговаривая слова и предложения до конца и не по порядку излагая события, рассказал ей о нашей жизни в Аркаманте, о Сэлло, о ее смерти.
Стена забвения рухнула. Я снова был способен думать, говорить, вспоминать. Я был свободен. Но свобода эта оказалась невыразимо печальной.
И в тот ужасный час я снова и снова возвращался к смерти Сэлло, к тому, как она умерла, почему она умерла, — ко всем тем вопросам, которые отказывался задавать себе.
— Наша Мать Фалимер знала… должна была знать об этом, — сказал я. — Возможно, Торм действительно забрал Сэлло и Рис из «шелковых комнат» без разрешения родителей; скорее всего, он именно так и поступил. Но другие-то женщины наверняка все знали… и наверняка пошли к Фалимер-йо и сказали ей: «Торм-ди куда-то забрал Сэлло и Рис. Они не хотели идти с ним, они плакали. Неужели это ты ему разрешила их взять? Не пошлешь ли ты за ними кого-нибудь?» Но она никого за ними не послала. Она ничего для них не сделала! Может, это Алтан-ди велел ей не вмешиваться. Он всегда любил Торма больше всех. Так мне и Сэл говорила; она считала, что Алтан-ди ненавидит Явена, а Торма очень любит. Но ведь наша Мать все знала! Она знала, куда Торм и Хоуби увезли девушек. Она знала, что те молодые мужчины обращаются с девушками из «шелковых комнат», точно с животными, которые… Она все это знала! А ведь Рис была девственницей! А мою сестру Фалимер-йо сама подарила своему старшему сыну Явену! Однако она позволила другому своему сыну взять ее, а потом отдать… Как же они ее убивали? Пыталась ли она сопротивляться? Наверное, не могла. Столько мужчин… Они насиловали ее, они ее мучили, вот для чего им были нужны девушки — чтобы услышать, как они будут кричать от боли, чтобы мучить их, убивать их, топить… И Сэл умерла. А я ее увидел только потом. Только уже мертвой. Мать Фалимер за мной послала. И называла ее «наша милая Сэлло». И дала мне… она дала мне денег — она заплатила мне за сестру…
И тут из горла моего вырвался жуткий звук, нет, не рыдание, скорее хриплое рычание. Диэро крепко прижала меня к себе, но не сказала ни слова.
Я наконец умолк, чувствуя, что смертельно устал.
— Они предали наше доверие, — твердо сказал я.
И почувствовал, как Диэро кивнула. Она по-прежнему сидела рядом со мной, держа мою руку в своей.
— Да, это именно так, — сказала она очень тихо. — Самое главное — способен ты оправдать чье-то доверие или нет. Для Барны самое главное власть, сила. Но это не так. Самое главное — это доверие.
— И у них хватило силы и власти, чтобы предать наше доверие, — горько промолвил я.
— Даже у рабов хватит на это и власти, и сил, — мягко возразила она.
Глава 10
Несколько дней после этого я не выходил из своей комнаты. Диэро сказала Барне, что я болен. А я и впрямь чувствовал себя больным — на меня навалились то горе и гнев, которые я гнал от себя, которых не желал чувствовать в течение многих месяцев, что пролетели с той минуты, когда я повернулся спиной к прошлому и пошел прочь от кладбища по берегу реки Нисас. Я тогда действительно убежал — спасая свою душу и тело от невыносимой боли. Теперь же я наконец остановился, оглянулся и перестал убегать. Однако мне еще предстоял долгий, очень долгий путь назад.
Сам я все равно не смог бы вернуться в Аркамант, хотя все чаще и чаще думал, что смогу это сделать. Но ведь я тогда убежал и от Сэлло, от своих воспоминаний о ней, и вот к ней я обязательно должен был вернуться, чтобы и она могла вернуться ко мне. Я больше не мог, не смел отвергать ее, мою возлюбленную сестру, ее милый призрак.
Я испытал облегчение, оплакав ее, но, увы, ненадолго. Всегда чистую и светлую печаль начинают потом душить ярость и гнев. И горькое чувство вины, чужой и собственной. И ненависть, не знающая прощения. Вместе с памятью о Сэл ко мне вернулось и все остальное — лица тех людей, их голоса, все то, что я так долго отвергал, отталкивал, прятал за той стеной. Часто я совсем не мог думать о Сэлло — я видел перед собой только Торма с его коренастой фигурой и кренящейся походкой; я часто вспоминал Мать и Отца Аркаманта и даже Хоуби. Того самого Хоуби, который втолкнул Сэлло в закрытый возок, хотя она плакала и звала на помощь. Того самого ублюдка Хоуби, незаконнорожденного сына Алтана-ди, который всегда больше всех ненавидел меня и Сэл, душа которого была прямо-таки переполнена злобной завистью, который однажды чуть не утопил меня… Так, может, они там, в бассейне, позволили именно Хоуби и…
Эти мысли заставляли меня корчиться в муках на полу комнаты и затыкать себе рот краем одежды, чтобы никто не мог услышать моих диких криков.
Диэро раза два в день заходила ко мне, и хотя мне было невыносимо, когда кто-то еще видел меня в таком состоянии, она у меня чувства стыда не вызывала, даже наоборот, помогала мне чуточку воспрянуть духом. В ней было некое неяркое, нежное, неколебимое спокойствие, которое мог с нею разделить и я, когда она оказывалась рядом. Я очень ее за это любил и был безмерно ей благодарен.
Она заставляла меня понемногу есть, заставляла вставать с постели и приводить себя в порядок. Она порой могла даже заставить меня думать о том, что через отчаяние я сумею в итоге отыскать путь, ведущий назад, к жизни.
Когда же наконец я покинул свою комнатушку на чердаке и спустился вниз, именно Диэро всячески ободряла меня, вселяя в мою душу мужество.
Барна, которому сказали, что у меня лихорадка, обращался со мной ласково и говорил, что мне не стоит возобновлять свои выступления, пока я окончательно не поправлюсь. Так что, хотя большую часть времени я снова стал проводить в его обществе, зимние вечера мне часто удавалось провести у Диэро; я сидел там, наслаждался исходившим от нее покоем и беседовал с нею. Я каждый раз ждал этих вечерних бесед и потом еще долго лелеял воспоминания о том, какая у Диэро добрая улыбка, как ласково она со мной поздоровалась, какие мягкие и плавные у нее движения — кстати, это у нее было профессиональное, ее этому специально учили, как учат актеров и танцовщиков. И все же именно ее повадка, ее манера двигаться, по-моему, лучше всего отражали ее истинную сущность. Я знал, что и она радуется моим визитам и нашим тихим беседам. Мы с Диэро очень полюбили друг друга, хотя она никогда больше не обнимала меня после того единственного раза, когда, сидя у большого камина, дала мне выплакаться всласть.
Люди подшучивали над нами — но потихоньку, осторожно поглядывая в сторону Барны, чтобы убедиться, что он не обиделся. Но его, похоже, даже веселила мысль о том, что его бывшая любовница утешает юного «школяра». Сам он никаких шуток или намеков на сей счет не отпускал и меня даже озадачивала столь необычная деликатность, совершенно ему не свойственная. С другой стороны, Барна всегда очень уважительно обращался с Диэро. Ей же самой было безразлично, что другие подумают о ней или скажут.
Что же касается меня, то если Барна и считал, что мы с ней любовники, то это удерживало его от подозрений, что я пристаю к его девицам. Хотя они казались такими хорошенькими и доступными, что это запросто могло свести любого молодого парнишку с ума. Впрочем, на самом деле их доступность была обманчивой; это была самая настоящая ловушка, о которой меня давно уже предупредили. Люди говорили мне: если Барна дарит тебе одну из своих девушек, ты ее возьми, но только на одну ночь, да не вздумай тайком уединиться с кем-то из его фавориток! А позже, когда многие уже лучше узнали меня и стали доверять моему благоразумию, я узнал и немало жутких историй о бешеной ревности Барны. Однажды, застав кого-то из мужчин с одной из своих девушек, он переломал бедняге руки в запястьях и выгнал его в лес умирать с голоду.
Я не до конца верил этим россказням. Возможно, люди просто немного завидовали тому, что я настолько сблизился с Барной, и без зазрения совести отпугивали меня от общения с его девушками. Хоть я и был очень молод, но некоторые девушки, жившие со мной в одном доме, были еще моложе, а некоторые из них потихоньку флиртовали со мной, всячески меня нахваливали и ласкали, называли меня «господином учителем» и с прелестными ужимками умоляли, чтобы я вечером непременно рассказал «что-нибудь о любви». «Заставь нас плакать, Гэв, разбей нам сердце!» — говорили они. Ведь я, немного придя в себя, снова стал их развлекать, да и слова все снова ко мне вернулись.
Хотя в начальный период этой «агонии воспоминаний», когда на меня вновь нахлынуло все то, что я некогда безжалостно вырезал из своей памяти, единственное, что я мог вспомнить отчетливо, была Сэлло, ее смерть и вся моя жизнь в Аркаманте и в Этре. И много дней после этого мне казалось, что больше ничего я вспомнить не смогу. Я и не хотел вспоминать ничего из того, чему научился там, в доме убийц моей сестры. Все мои сокровища — история, поэзия, литература — были запятнаны пролитой ими кровью. Я не желал помнить то, чему они меня учили. Мне не нужно было ничего из того, что они мне дали и что на самом деле принадлежало только им, моим хозяевам. Я пытался оттолкнуть все это от себя, забыть свои знания, забыть этих людей.
Глупо, конечно, и в душе я это понимал. Постепенно мои душевные раны стали заживать, и мне даже стало казаться, как это всегда бывает после тяжелой болезни, что все это случилось не со мной. И мало-помалу я позволил своим знаниям вернуться ко мне, и они оказались ничем не запятнанными, ничем не опороченными. Эти знания не принадлежали моим хозяевам, они были только моими. Это было единственное мое достояние, единственное, чем я когда-либо владел. Так что я оставил все свои нелепые попытки отказаться от этих знаний и позабыть все то, что я узнал из книг. И память моя полностью вернулась ко мне и по-прежнему была такой ясной и полной, что кое-кто считал ее сверхъестественной, хотя хорошая память — дар не такой уж и редкий. И снова я мог мысленно войти в классную комнату или в библиотеку Аркаманта, мысленно открыть любую книгу и «прочесть» ее. Выступая каждый вечер в высоком зале с деревянными стенами и потолком, я уже не волновался, зная, что мне достаточно всего лишь произнести первые строки какой-нибудь поэмы или сказки, и остальное возникнет у меня перед глазами как бы само собой; казалось, моими устами говорит и поет сама поэзия, а история обновляет себя, повторяясь в моем изложении, и слова стекают с моего языка, точно воды реки.
Большинство моих слушателей считали, что я импровизирую, что я и есть создатель этих строк, поэт, непостижимым образом обретший вдохновение и умение сплетать слова и рифмы. Я не видел смысла спорить с ними. Люди, как известно, всегда знают лучше того, кто делает работу, как эту работу следует делать, и не стесняются говорить ему об этом; и ему, в общем, остается держать свое мнение при себе.
Других развлечений в Сердце Леса, пожалуй, особенно и не было. Некоторые девушки и кое-кто из мужчин умели играть на лютне и петь. Аудитория всегда относилась к нашим концертам благожелательно, а Барна, сидя в своем огромном кресле, поглаживал великолепную курчавую бороду и внимательно, с удовольствием слушал. Некоторые люди, которым не слишком интересны были история или поэзия, приходили либо для того, чтобы подлизаться к Барне, либо просто потому, что им нравилось находиться с ним рядом и делить с ним то, что доставляет ему удовольствие.
А он по-прежнему повсюду таскал меня с собой, излагая мне свои нескончаемые планы. Так, в беседах с Барной, в основном слушая его, а потому имея достаточно времени, чтобы думать самому, — ибо думать получается гораздо быстрее и легче, когда ты в тепле, в сухой одежде и сыт, — я провел остаток этой зимы. Я много размышлял о том, что снова ко мне вернулось. И сам я наконец вернулся к моей Сэлло и смог теперь ее оплакивать, осознавая свою утрату и начиная отчетливо понимать, какова была моя прежняя жизнь и какой она могла бы быть.
Думать об Отце и Матери Аркаманта мне все еще было очень больно. Я по-прежнему до конца не понимал, как же мне к ним относиться. А вот о Явене я думал часто и был почти уверен, что он бы нас никогда не предал, не предал бы нашего доверия. А иногда мне приходило в голову: что, если Явен, вернувшись домой, отомстил им, хоть это и было уже бессмысленно? Впрочем, одно я знал твердо: Явен никогда не простит Торма и Хоуби, даже если и сумеет удержаться от мести. Он человек чести, и он очень любил Сэлло.
Но Явен, вполне возможно, теперь тоже мертв, убит при осаде Казикара. Недаром люди говорили, что осада Казикара оказалась для Этры не меньшим несчастьем, чем осада Этры для Казикара. Если это так, то теперь Торм — единственный наследник Аркаманта. Но от мыслей об этом душа моя по-прежнему шарахалась, точно испуганная птица.
О Сотур я мог думать только с пронзительной тоской и болью. Она хранила нам верность, сколько могла. Она ведь осталась там совсем одна, что же с ней стало? Ее, правда, почти наверняка выдали замуж, и она переехала в другое место, и, скорее всего, в такой дом, где нет ни Эверры, ни библиотеки, ни друзей, ни надежды на спасение.
И я без конца вспоминал тот вечер, когда мы с Сэлло разговаривали в библиотеке, а Сотур вошла туда, и они обе попытались объяснить мне, чего и почему они так боятся. Как же они тогда прижимались друг к другу, любящие, беспомощные!..
А я, дурак, ничего не понял!
Не только Семья предала их. Я тоже их предал. Не действием, нет, да и что я такого мог сделать? Но мне надо, надо было их понять! А я просто не хотел понимать, не хотел ничего замечать. Я сам ослепил себя своей верой. Ведь тогда я свято верил, что власть хозяина и покорность раба — это поистине священный союз, основанный на взаимном доверии. Я верил, что справедливость может существовать в обществе, основанном на несправедливости.
Ложь существует только потому, что в нее верят. Эта строка из книги Каспро тоже вернулась ко мне и резала мне душу, точно острой бритвой.
Честь может существовать где угодно, любовь может существовать где угодно, но справедливость может существовать только среди людей, которые отношения друг с другом строят на справедливости.
Теперь, казалось мне, я наконец-то понимаю планы Барны насчет Восстания, теперь они обрели для меня новый смысл. Все древнее зло, освященное Предками, и этот седой от времени донжон, где в подвальных темницах томятся рабы, а наверху благоденствуют хозяева, должны быть выкорчеваны с корнем, уничтожены, заменены обществом справедливым и свободным. И тогда мечта станет явью. Хвала богу Удачи, думал я, ведь это он привел меня сюда, в это средоточие грядущей свободы и великих перемен!
Мне хотелось стать одним из тех, кто воплотит в жизнь мечту Барны. Я представлял себе, как отправляюсь с важным заданием в великий город Азион. Многие из Лесных Братьев были оттуда родом, и я знал, как много там живет людей, свободных и «освобожденных», как много там бывает купцов и ремесленников, среди которых беглому рабу ничего не стоит затеряться, не вызвав ни подозрений, ни лишних вопросов. Агенты Барны, расставлявшие в городах «сети» его идей, часто там бывали, выдавая себя за торговцев, купцов, скотопромышленников или просто рабов, которых фермеры послали с каким-либо поручением в город. Мне очень хотелось к ним присоединиться. Я знал, что в Азионе немало образованных людей и среди знати, и среди простого народа; я мог бы представиться там свободным человеком, ищущим место переписчика, или декламатора, или учителя, и беспрепятственно выполнять любые поручения, закладывая основы Великого Восстания и распространяя идеи Барны среди тамошних рабов.
Но Барна категорически этому воспротивился.
— Ты мне нужен здесь, Школяр, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты всегда был при мне.
— Но там я смогу принести тебе гораздо больше пользы, — возразил я.
Он покачал головой.
— Нет, это слишком опасно. В один прекрасный день тебя непременно спросят, где ты получил образование. И что ты им ответишь?
Это я уже обдумал и тут же выпалил:
— Скажу, что посещал школу при университете в Месуне, а потом вернулся в Азион, потому что в Урдайле слишком много грамотных людей, а здесь, в Бендайле, их куда меньше и можно как следует заработать.
— А что, если найдутся школяры из университета, которые скажут: нет, этот парень у нас никогда не учился?
— На разных факультетах там учатся сотни людей. Откуда им всем друг друга знать?
Я спорил изо всех сил, но Барна только качал своей крупной кудрявой головой, а потом совсем перестал смеяться и, помрачнев, почти сердито заявил:
— Послушай, Гэв, образованный человек всегда в толпе выделяется, уверяю тебя. А ты и так уже достаточно знаменит. Наши ребята языками повсюду болтают, ты и сам знаешь. А теперь они еще и тобой хвастаются, пытаясь заманить к нам деревенских и городских рабов. Говорят им: у нас есть такой парень, который может рассказать любую историю или поэму, какие только на свете есть! И ведь совсем еще мальчишка, а поди ж ты, настоящее чудо! В общем, при такой-то славе тебе в Азионе делать нечего. Да еще если учесть, что и имя твое всем теперь известно.
Я так и уставился на него.
— Известно? Они что, даже имя мое всем называют?
— Они называют то имя, которым ты себя сам назвал, когда к нам явился, — сказал Барна.
И я наконец понял: ни Барна, ни все остальные, за исключением Чамри Берна, не считают, что Гэв — это мое настоящее имя. Никто здесь, даже сам Барна, не называет себя тем именем, которое имел, будучи рабом.
Увидев мою изумленную физиономию, Барна тоже изменился в лице.
— Ох, клянусь Разрушителем! — воскликнул он. — Неужели ты назвался тем самым именем, которое носил в Этре?
Я кивнул.
— Ну что ж, — сказал он после минутного молчания, — если ты действительно когда-нибудь соберешься от нас уйти, непременно возьми себе новое имя! А пока это тем более основательная причина никуда тебя отсюда не отпускать. Оставайся здесь, Школяр! Твои прежние хозяева наверняка уже заявили, что от них сбежал один чересчур умный мальчишка-раб, на образование которого они потратили уйму денег. Видишь ли, хозяева просто терпеть не могут, когда от них рабы сбегают. А уж если беглецу удается от них уйти, то это им просто покоя не дает. Мы здесь, конечно, от Этры довольно далеко, но никогда нельзя быть полностью уверенным.
А мне до сих пор даже в голову не приходило, что кто-то из Аркаманта станет меня искать или тем более преследовать. Когда я, оглушенный случившимся, ушел с кладбища на берегу Нисас, для меня это было равносильно смерти. Я уходил от настоящей, полной жизни в никуда, отказываясь ото всего сразу. И никакого страха не испытывал, потому что не испытывал и никаких желаний. Впрочем, страха я не испытывал и потом, уже снова начав жить, возродившись в лагере Барны. Видимо, за это время моя душа проделала такой долгий путь, что мне и в голову не приходила мысль о преследовании.
— Они наверняка считают, что я умер, — сказал я наконец. — Что в то утро я утопился в реке.
— А с чего им так думать?
Я молчал.
Я ведь ничего не рассказывал Барне о своей жизни. Я вообще ни с кем об этом не говорил, кроме Диэро.
— Ты оставил на берегу реки какую-то одежду, так? — спросил он. — Ну что ж, они, вполне возможно, купились на этот старый трюк. Но, по-моему, ты был слишком ценной собственностью, так что если твои владельцы все же не уверены, что ты умер, то непременно держат ушки на макушке. С тех пор ведь всего года два прошло, не больше? Не стоит думать, что тебе уже ничто не грозит. Я уверен: ты только здесь можешь чувствовать себя в полной безопасности. И я бы на твоем месте как-нибудь невзначай сказал ребятам, что родом ты из Пагади или Пирама, чтобы они даже слово «Этра», говоря о тебе, не произносили, ясно?
— Да, конечно, я так и сделаю, — пролепетал я в смятении.
Неужели моя глупость поистине бесконечна? Неужели нет предела тому терпению, на которое я своим поведением обрекаю бога Удачи?
Но я все же снова попросил Барну отпустить меня в Азион. На что он ответил:
— Ты свободный человек, Гэв. Приказывать я тебе не стану! Но советую все же повременить: сейчас тебе не стоит покидать Сердце Леса. Я уже говорил, что за его пределами ты никогда не будешь в безопасности. А если ты явишься в Азион сейчас, то можешь подвергнуть опасности и остальных моих людей — и там, и здесь. Да и планы нашего Восстания тоже. Когда придет время отправить тебя туда, я сам об этом скажу. А если ты все-таки уйдешь сейчас, то сделаешь это против моей воли и моего желания.
И я, разумеется, спорить не стал.
Ранней весной у нас появилась пара новичков; они сбежали из Азиона, спрятавшись в крытой повозке, где возницей был человек Барны. Эти люди принесли с собой довольно большую сумму денег, украденную у прежних хозяев, и какой-то длинный футляр.
— Что это за штука такая? — спросил один из людей Барны и, открыв футляр, так неаккуратно тряхнул его, что оттуда выпал свиток, намотанный на палку, и, развернувшись в воздухе, с шелестом упал на землю. — Это еще что за тряпка? Одежда, что ли?
— Это то, о чем я просил, парень, — сказал ему Барна. — Это книга. Ты с ней поаккуратней! — Он действительно постоянно просил своих людей по возможности прихватывать книги и приносить их в лагерь. Никто, правда, до сих пор ни одной не принес, поскольку большая часть агентов Барны, как и те, кого они агитировали, читать не умели и понятия не имели, где эти книги искать и как они выглядят. Вот как, например, этот парень.
Новые члены нашего лесного братства оказались людьми образованными; одного учили бухгалтерскому делу, второго — декламации. Книги, которые они принесли с собой, оказались очень разными — несколько старинных свитков и несколько напечатанных в типографии томиков в твердом переплете; тем не менее, все это вполне годилось для занятий. А одна из книг лично для меня была настоящим сокровищем: маленький, изящно изданный томик «Космологии» Каспро; ведь тот рукописный вариант, который когда-то подарил мне Мимен, я оставил в Аркаманте и горько оплакивал эту утрату.
По словам Барны, эти новички оказались «отличным уловом»: бухгалтер теперь помогал ему вести хозяйственные записи и делать расчеты, а декламатор способен был хоть целый час подряд рассказывать басни и отрывки из эпоса Бендайла, давая мне возможность передохнуть.
Я просто мечтал поскорее познакомиться с этими образованными людьми, но ничего хорошего из этого не вышло. Бухгалтер ничего не желал знать, кроме цифр и расчетов, а декламатор, его звали Пултер, сразу же ясно дал мне понять, что он гораздо старше и гораздо лучше меня образован, а потому я не гожусь ему в подметки и, стало быть, не имею ни малейшего права претендовать на беседу с ним, человеком действительно умным и знающим. Его страшно раздражало то, что большинству людей мои выступления нравились больше, чем его, хотя и у него тоже появились свои почитатели. Меня учили при декламации не выпячивать себя на первый план, а давать возможность самим словам делать свое дело, тогда как Пултер устраивал целое представление: он, точно драматический актер, и подвывал, и вопил, и переходил на шепот, и устраивал длинные паузы, а в случае особого накала страстей даже визжал.
Томик «Космологии» принадлежал ему, однако он сам признался, что Каспро ему совершенно неинтересен, что все современные поэты «темнят и заблуждаются», и отдал книгу мне. За одно это я готов был простить ему и все оскорбительные замечания в мой адрес, и нелепые подвывания по время декламации. Поэма Каспро действительно была очень сложна, но я постоянно к ней возвращался. Иногда я даже Диэро читал отрывки из нее; я по-прежнему любил в тихий послеполуденный час зайти к ней и немного посидеть, отдыхая душой.
В моей жизни никогда не было ничего подобного дружбе с этой прекрасной женщиной. И потом, лишь с одной Диэро я мог поговорить о своей прошлой жизни, об Аркаманте. Когда я был с нею, у меня пропадало всякое желание кому бы то ни было мстить, что бы то ни было ломать и преобразовывать, и я уже не испытывал ни капли гнева на мертвых, бессильных и бесполезных Предков. Я понимал теперь, что именно утратил навсегда, но уже мог и вспоминать о том, что имел когда-то. Хотя Диэро никогда не бывала в Этре, она стала для меня как бы связующим звеном с этим городом, который я так долго считал своим родным. Она никогда не знала Сэлло, однако именно она вернула мне сестру, сняв тяжкое бремя с моей души.
Как и большинство рабов, Диэро росла под присмотром различных «приемных матерей», но ни брата, ни сестры у нее не было. Двоих детей, которых она родила в молодости, хозяева почти тут же продали. Диэро, разумеется, мечтала иметь настоящую семью, детей, мужа, как, впрочем, и все мы. И Барна, кстати, отлично это понимал, постоянно взывая к этому чувству в стремлении укрепить наше лесное братство.
Я был рабом необычным — ведь я всю свою жизнь прожил вместе с родной сестрой, и нас связывали необыкновенно близкие и нежные отношения. Потому и моя утрата оказалась для меня столь тяжела, а страдания — столь остры. Я полюбил Диэро, как старшую сестру, а она воспринимала меня как младшего братишку или даже сына; кроме того, по-моему, я был единственным мужчиной в ее жизни, который не выразил желания стать ее хозяином.
Она любила слушать мои рассказы о Сэлло и других обитателях Аркаманта, о золотых деньках на ферме в Венте; ее явно заинтересовали и некоторые обычаи Этры. Она также расспрашивала меня о моем происхождении, поскольку сразу признала во мне уроженца Болот, расположенных к югу от Азиона у истоков реки Расси. Диэро утверждала, что все тамошние жители внешне похожи на меня — темнокожие, невысокие, довольно хрупкого телосложения, с густыми черными волосами и длинными носами с легкой горбинкой. Она называла жителей Болот рассиу. И сказала, что они часто приходят в Азион, особенно по случаю ежемесячной ярмарки, и приносят с собой различные травы и снадобья, которые пользуются огромным спросом; торгуют они также различными корзинками весьма изящного плетения, циновками и тканями из тростникового волокна, а также сшитой из этих тканей одеждой. Все это они охотно меняют на глиняную посуду и разную металлическую утварь. Рассиу без опаски приходят в Азион, ибо их защищает от охотников за рабами старинное религиозное перемирие. Жители Азиона уважают их, как людей свободных, а один из городских кварталов, можно сказать, отдан рассиу, которые издавна там поселились. Диэро была потрясена, когда узнала, что работорговцы из Этры совершают налеты на жителей Болот. «Рассиу — священный народ, — говорила она. — Они заключили договор с самим Повелителем Вод. Я думаю, твой город поплатится жестокими страданиями за то, что осмеливается угонять этих людей в рабство».
Некоторые из девушек, живших в доме Барны, относились к Диэро подчеркнуто подобострастно, подлизывались к ней, точно к полноправной хозяйке. Другие же относились к ней с уважением и доверием; а третьи просто не обращали на нее внимания, как и на всех прочих немолодых женщин. Она же вела себя со всеми одинаково — была доброжелательной, мягкой, уступчивой, держалась ровно и с тем скромным достоинством, которое и выделяло ее из всех. По-моему, среди многочисленных обитателей этого дома Диэро чувствовала себя очень одинокой. А однажды я видел, как она беседует с одной из самых молоденьких обитательниц дома, давая той возможность выговориться и выплакаться. То же самое когда-то Диэро сделала и для меня.
Детей в доме Барны не было вообще. Если какая-нибудь девушка беременела, она перебиралась в город, в один из тех домов, где жили женщины, и там рожала свое дитя; она оставляла его при себе или отдавала на воспитание — выбор был за ней. Если ей хотелось вырастить ребенка, это было прекрасно, но если она хотела снова вернуться к Барне и жить вольной жизнью, то ребенка она взять с собой, разумеется, не могла. «Мы здесь делаем детей, но при себе их не держим!» — говорил Барна под одобрительные крики и хохот своих приятелей.
Вскоре после прибытия в город Пултера и его дружка-бухгалтера у Барны в доме появилась новая девушка — причем вместе с маленькой сестренкой, расстаться с которой она категорически отказалась. Девушка была очень красивая и совсем молоденькая, всего лет пятнадцати. Звали ее Ирад. Их с сестренкой привезли из какой-то деревни близ западных границ Данеранского леса. Барна мгновенно воспылал к Ирад пылкой страстью и весьма недвусмысленно дал всем это понять. То ли Ирад уже имела опыт общения с мужчинами, то ли попросту чувствовала себя совершенно беззащитной, но она подчинялась всему, даже не пытаясь выказать какое-то сопротивление, пока ей не сказали, что сестренку у нее заберут. И тут робкая девушка превратилась в львицу. Я этой сцены не видел, но мне с восхищением рассказывали о ней. «Только попробуйте ее тронуть! Я любого на месте прикончу!» — заявила она, выхватив из-за пояса своих расшитых шаровар тонкий длинный стилет, а потом, гневно сверкая глазами, уставилась на Барну.
Барна принялся ее уговаривать, объясняя, что таковы законы этого дома, что о девочке непременно позаботятся, но Ирад больше не проронила ни слова, так и стояла с застывшим лицом, держа свой стилет наготове.
И тут вмешалась Диэро. Она вышла вперед, встала рядом с сестрами, ласково опустила руку на голову девочки, жавшейся к сестре, и спросила у Барны, рабыни ли эти пленницы. Я легко мог представить себе, как звучал ее мягкий, ровный голос, когда она задавала этот вопрос.
Барна, разумеется, ответил, что они «свободные жительницы нашего города Свободы».
— Значит, если этого захотят они сами, им обеим можно жить и со мной? — спросила Диэро.
Те мужчины, что, хихикая, рассказывали мне об этом, были уверены, что «старуха Диэро» в кои-то веки приревновала Барну к юной и прелестной Ирад. «У этой старой мегеры и зубов-то всего штуки две осталось!» — сказал один из них.
Только вряд ли этот поступок Диэро был вызван ревностью. Ей вообще не были свойственны ни зависть, ни собственнический инстинкт. Так почему же она вмешалась на этот раз? Причем настояла на своем. Она сразу увела младшую девочку ночевать к себе, а Ирад, разумеется, пошла с Барной. Но в те дни, когда он не звал Ирад в свои покои, она тоже ночевала у Диэро вместе с маленькой Меле.
Когда девушки Барны собирались все вместе, я часто даже пугался, ибо меня совершенно сбивала с толку абсолютная власть надо мной этой многократно повторенной юной женственности; и я в душе по-мужски мстил им: старался их презирать. Это были здоровые, пухлые и очень глупые девицы, готовые хоть весь день бесцельно слоняться по дому, примеряя обновки, украденные «десятинщиками» или «ловцами», и болтая о всяких пустяках. Когда исчезала та или другая — из-за беременности или родов, — это было почти не заметно; череда девиц в доме Барны, по-моему, не имела конца: каждый раз налетчики приводили с собой новых, таких же молоденьких и хорошеньких.
И я вдруг задумался: откуда же они берут столько девушек? Неужели все эти девицы решились убежать от хозяев? Неужели все они просились сюда, в лес? Неужели так уж стремились к свободе?
Ну конечно же стремились. И конечно же пытались спастись от хозяев, которые насильно заставляли их заниматься любовью.
Но разве их жизнь в доме Барны чем-то существенно отличалась от той, прежней, заставившей их бежать?
Нет, ну естественно, отличалась! По крайней мере, их здесь не били и не насиловали. Мало того, их хорошо кормили, красиво одевали, позволяли ничего не делать.
В точности как женщин в «шелковых комнатах» Аркаманта.
Я и сейчас внутренне содрогаюсь, вспоминая, как корчился от боли и стыда, когда эта мысль впервые пришла мне в голову. Я и теперь испытываю примерно те же чувства.
Я-то думал, что отныне храню и лелею образ Сэлло в кладовых своей памяти, но оказалось, что я снова позабыл о ней, что я не хочу видеть ее по-настоящему, не хочу видеть того, что заставили меня увидеть ее жизнь и смерть. Что я снова отвернулся от прошлого и от нее, спрятался от страшных воспоминаний.
И лишь с огромным трудом, да и то не сразу, я заставил себя снова пойти к Диэро. Я не был у нее уже несколько дней. По вечерам я уходил гулять в город вместе с Венне, Чамри и их друзьями. Когда же я, собравшись наконец с силами, все же зашел в покои Диэро, то от стыда просто утратил дар речи. И потом, я увидел там маленькую девочку Меле…
— Ирад обычно ночует у Барны, — как ни в чем не бывало сказала мне Диэро. — Меле тогда перебирается ко мне в спальню, и мы с ней полночи рассказываем друг другу всякие истории, верно, Меле?
Девочка энергично закивала. Ей было лет шесть. Очень маленькая, темноволосая, она сидела, прижавшись к Диэро, и не сводила с меня глаз. Но когда и я посмотрел прямо на нее, она испуганно заморгала, даже зажмурилась на мгновение, но глаз не отвела.
— Ты Клай? — спросила она.
— Нет. Меня зовут Гэв.
— Клай часто приходил в нашу деревню, — пояснила Меле. — Он тоже был на ворону похож.
— А моя сестра дразнила меня Клюворылом, — попытался пошутить я.
Она еще с минуту смотрела на меня, потом опустила глаза, улыбнулась и прошептала скороговоркой:
— Клюво-клюво-рыл!
— Они жили в деревне, совсем рядом с Болотами, — сказала Диэро. — Возможно, этот Клай как раз оттуда и был. Между прочим, у Меле тоже, по-моему, есть кровь рассиу. А взгляни-ка, Гэв, что она, умница такая, сегодня утром написала! — И Диэро показала мне клочок тонкой материи, которой мы пользовались для уроков письма, поскольку бумаги у нас почти не было. На лоскутке неуверенным крупным почерком было написано несколько букв.
— Т, М, О, Д, — прочитал я вслух. — Это ты написала, Меле?
— Да, мне было очень интересно смотреть, как пишет Диэро-йо, вот я и нарисовала… такие же штуки, только у меня они побольше получились. — Меле подскочила на месте, куда-то сбегала и принесла мне большой кусок материи, можно сказать целый свиток, который Диэро использовала в качестве ученической тетради. Девочка развернула «свиток» и ткнула пальчиком в последние несколько строчек, написанные Диэро.
— У тебя тоже очень хорошо получилось, — похвалил я ее.
— Только эта вот немного качается, — сказала Меле, критически изучая букву «Д».
— Если бы с ней кто позанимался, так она куда лучше меня писать научилась бы, — мягко промолвила Диэро. Она редко выражала какие-либо желания, а уж если выражала, то так скромно и ненавязчиво, что я частенько этого и не замечал. К счастью, на этот раз я понял, о чем она меня просит, и кивнул.
— Да, эта буква, пожалуй, стоит не совсем уверенно, но я все равно могу отличить ее от других, — сказал я Меле, — Это буква «Д». С нее начинается имя Диэро. Хочешь научиться писать и остальные буквы этого имени?
Девочка снова молча подпрыгнула, убежала и вернулась с чернильницей и кисточкой для письма. Я поблагодарил ее, перенес все это на стол, нашел чистый кусочек полотна и написал на нем крупными буквами: ДИЭРО. Затем подтащил к столу стул, на который Меле и взгромоздилась, как на насест, тут же схватив кисточку.
Она очень неплохо скопировала это слово и получила заслуженную похвалу.
— Я могу и еще лучше написать! — заявила она и снова склонилась над столом, сурово нахмурившись; кисточку она крепко зажала в худенькой, точно лапка воробышка, ручонке, а розовый язычок от усердия крепко прикусила.
Так Диэро в очередной раз вернула мне нечто такое, что я, казалось, навсегда утратил, покинув Аркамант. Ее глаза прямо-таки сияли, когда она смотрела на нас.
И я стал приходить к ним почти каждый день — мы с Диэро занимались чтением и письмом, а заодно я и маленькую Меле учил писать буквы. Часто там бывала и старшая сестра Меле, Ирад. Она сперва очень меня стеснялась. Впрочем, и я стеснялся не меньше — она была так прекрасна и так беззащитна! И, кроме того, я постоянно и очень отчетливо чувствовал, что она принадлежит Барне, что она его собственность. Но Диэро всегда оставалась с нами, как бы защищая нас обоих. Меле обожала Диэро, да и ко мне она скоро привязалась не менее страстно и всегда стремглав бросалась навстречу с криком: «Клюворыл! Клюворыл пришел!», душила меня в объятиях, а я подхватывал ее на руки. Понемногу и Ирад несколько оттаяла и стала относиться ко мне с большим доверием; то, что мы постоянно находились в обществе маленькой девочки, быстро нас сблизило, и вскоре мы уже чувствовали себя друг с другом совсем легко. Меле была серьезная, смешная и очень умненькая. В яростной, покровительственной любви к ней Ирад таился почти священный восторг, и она, например, часто говорила: «Меле — такая умница! Сама Энну велела мне заботиться о ней».
У обеих на шее висели крошечные изображения Энну-Ме в ее кошачьем обличье — довольно-таки грубо вылепленные из глины кошачьи головы.
Мне оказалось совсем нетрудно убедить Ирад, что и ей бы неплохо научиться читать и писать вместе с Меле, и вскоре она присоединилась к нашим занятиям. Как и Диэро, она была полна сомнений и колебаний и чувствовала себя на уроках очень неуверенно. А Меле, напротив, ничуть в себе не сомневалась, быстро делала успехи, и было трогательно смотреть, как младшая сестренка опекает и поучает старшую.
Остальные девушки из нашего дома редко выучивали больше половины алфавита, очень скоро утрачивая всякий интерес к занятиям; и потом, их вечно куда-нибудь звали. Обучая Меле, я получал такое удовольствие, что это навело меня на мысль собрать детишек и устроить для них в нашем лесном городе настоящую школу. Я попытался воплотить эту идею в жизнь, но у меня ничего не вышло. Женщины не решались доверять своих дочерей молодому парню. Кроме того, считалось, что старшие дети обязаны работать в поле или на огороде вместе с матерью или присматривать за младшими дома. А многие из них просто не в состоянии были высидеть на месте хотя бы один урок, да и выучить ничего сами не могли, и их родители никак не могли уразуметь, с какой стати дети вообще должны что-то еще учить.
Мне необходима была поддержка Барны, его авторитет, а потому я явился к нему и сказал, что хотел бы создать для детей настоящую школу, для чего достаточно было бы любого свободного помещения, хотя бы комнаты, где занятия могли бы идти в строго определенные часы. По крайней мере, хотя бы читать и писать я уж точно мог бы их научить. Чтобы польстить Пултеру, я готов был попросить его иногда декламировать детям литературные произведения и рассказывать о них. А бухгалтер мог бы учить детей начаткам практической арифметики. Барна выслушал меня, кивнул и от всего сердца мою идею одобрил, но, когда я начал предлагать ему те или иные помещения, которые считал вполне подходящими, у него каждый раз находились причины, по которым это место якобы никуда не годилось. Наконец он сказал, хлопнув меня по плечу:
— Отложи это до следующего года, Школяр. Сейчас все слишком заняты, у них и времени-то свободного для тебя нет.
— У детей шести или семи лет свободного времени хватает, — возразил я.
— Да разве детишки такого возраста захотят сидеть взаперти! Им надо повсюду бегать, играть, чувствовать себя свободными, как птицы!
— Но, по-моему, они вовсе не чувствуют себя свободными, как птицы, — снова возразил я. — Они каждый день таскаются на огород или на поле вместе со своими матерями или укачивают младших братишек и сестренок. Когда же они смогут научиться хоть чему-то еще?
— Мы позаботимся о том, чтобы они научились всему! И мы с тобой еще не раз поговорим об этом! — припечатал Барна и отправился смотреть, сколько зерна поступило в наши зернохранилища за последние дни. Он действительно постоянно был занят, и я, разумеется, сделал на это скидку, но все же был сильно разочарован.
В общем, я решил принять решение самостоятельно и предложил людям некие просветительные беседы в той пустующей комнате, которую надеялся сделать классной. Я сказал, что по вечерам буду рассказывать всем, кто захочет туда прийти, об истории городов-государств, а также Бендайла и других стран Западного побережья. В первый вечер собралось человек девять или десять; все это были мужчины; женщины не пожелали выходить на улицу в столь позднее время. Слушатели мои пришли явно в надежде на очередную порцию занимательных историй, однако два-три человека все же выказали явный интерес к многообразию обычаев и верований, от души смеялись над иноземными формами быта и мышления и с удовольствием обсуждали со мной всевозможные «почему» и «потому что». Однако все они были очень уставшими после целого дня тяжелой работы, и я, чересчур затянув свою первую лекцию, вскоре увидел, что половина моей аудитории спит. Так я в очередной раз убедился, что если все же хочу заниматься просветительством среди беглых рабов, то должен стараться поймать их в свои сети пораньше, желательно еще детьми.
Мои неудачные попытки на учительской ниве еще больше сблизили меня с Диэро и Меле; в их обществе я чувствовал себя почти счастливым. Днем я по-прежнему повсюду сопровождал Барну, однако все его интересы теперь были связаны с какими-то сиюминутными проектами — строительством новых домов или расширением общественных кухонь. Сердце Леса быстро превращалось в весьма процветающее селение; расширялась площадь, отведенная под сады и огороды, плодился скот, а «десятинщики» приносили все больше различного, «изъятого» на дорогах добра. Я часто беседовал с агентами Барны, посещавшими Азион и другие города; за кружкой слабого пива в любимой пивной Чамри они охотно рассказывали об этих путешествиях, но у меня создалось впечатление, что и там они занимаются только воровством или обменом, а отнюдь не агитацией. К тому же, по-моему, Барне очень нравилось, когда они приносят в лес всевозможные, типично городские предметы роскоши.
Венне со своими приятелями, вернувшись из очередного налета, тоже нередко к нам присоединялся. Он своей работой был доволен и говорил, что она его, во-первых, возбуждает, а во-вторых, не требует убивать людей. Я как-то раз спросил у него, знают ли жители окрестных селений, откуда к ним приходят банды налетчиков и кто они такие. По словам Венне, повсюду, вплоть до самого Пирама, крестьяне называли и налетчиков, и агентов «ребятами Барны». Они с удовольствием вели с ними обмен, хотя и опасались этим заниматься, а потому постоянно торопили «ребят Барны» и уговаривали их поскорее отправиться в соседнее селение и «ободрать тамошних купцов как липку».
Я спросил Венне, говорят ли налетчики с другими людьми о Восстании. Но оказалось, что он и сам ни о каком Восстании не слышал. «Бунт? Это чтоб рабы бунт затеяли? Да разве ж они могут сражаться? Нам тогда надо что-нибудь вроде армии заводить, так мне кажется». Нет, он явно не был посвящен в планы Барны, и я понял, что об этом знают лишь немногие, но кто именно, помимо меня, я выяснить не сумел.
Я также интересовался, часто ли рабы в деревнях или на фермах просятся присоединиться к нам. Оказалось, что очень редко. Венне и его приятели говорили, что даже если какой-то мальчишка и захочет убежать из дому вместе с ними, они вряд ли возьмут его с собой, ибо даже кража скота не вызывает такого мстительного преследования со стороны властей, как кража раба. Впрочем, у всех у них имелись в запасе истории о тех рабах, которым «некогда» удалось бежать и добраться до лесного города. По большей части, как я понял, этими бежавшими рабами были они сами.
— Мы ж понимали, что в город Барны нам иначе никак не попасть — только если его ребята нас с собой прихватят, — сказал мне один молодой парень из деревни на реке Расси. — И теперь я всегда по сторонам посматриваю, ищу таких же бедолаг, каким когда-то сам был.
— Что же вы, и девушек тоже вот так по сторонам высматриваете? — спросил я.
Это вызвало смех и целый водопад различных историй. Некоторые девушки, догадывался я, действительно были беглянками, однако «десятинщики» принимали их в свои ряды с большой осторожностью, «потому что за ними точно будет погоня, а они и следы-то свои скрыть не умеют, да еще и часто беременными оказываются». А второй оратор прибавил:
— Так ведь к нам в основном только беременные да всякие уродины и калеки пристать пытаются. Ну там, у кого заячья губа или еще что. А те, кого мы бы сами выбрали, взаперти сидят.
— Но вы же все-таки ухитряетесь как-то до них добраться, вон сколько красивых девушек приводите, — сказал я, желая их раззадорить.
Они снова засмеялись.
— А до них мы добираемся точно так же, как до коров и овец, — сказал главный в отряде Венне; я знал, что он, по словам Венне, отличный охотник и следопыт. — Окружаем и загоняем!
— Но не трогаем, нет, не трогаем! — прибавил еще один из их компании. — Во всяком случае, самые хорошенькие всегда Барне достаются. Он любит свеженьких.
И они наперебой принялись рассказывать всевозможные байки о похищении женщин. Оказалось, что Ирад и Меле привели в лагерь тоже парни из их отряда, и один из них стал рассказывать мне, как было дело, причем довольно сильно хвастался, зная, что Ирад — нынешняя фаворитка Барны.
— Они только за деревню вышли и в поле направились, а мы с Атером тут как тут, да еще верхом. Я только и успел, что Атеру подмигнуть, а сам подскочил к ним и хвать ту красотку. Ну и отбивалась она, я вам скажу! Прямо как разъяренная медведица! И все пыталась дотянуться ручонкой до своего стилета, который за поясом носит; теперь-то я понимаю, что мне здорово повезло: ведь если б она до него дотянулась, так точно кишки бы мне выпустила. Да и малышка тоже хороша: прямо звереныш! Знай колотит меня по ногам своей острой лопаткой, прямо в лоскуты их режет, так что Атеру пришлось ее оттащить. И он уж собрался было ее в сторонку отшвырнуть, так они обе как вцепятся друг в дружку, как прилипнут — не оторвешь! Ну, я и говорю: ладно, Атер, берем обеих. Связали мы их вместе, точно чурки деревянные, и пристроили передо мной на седло. У меня кобыла-то здоровенная, ей такой груз нипочем. Девчонки все время дергались и вопили, да только их никто не слышал — мы уж довольно далеко от деревни отъехали. Удачная была охота, клянусь Сампой! И вряд ли там кто этих девчонок до темноты хватился, а мы к тому времени уже половину пути проехать успели.
— По мне так последнее дело возиться с такой бабой, которая чуть что сразу за нож хватается, — вставил Атер, крупный, медлительный мужчина. — Мне нравится, когда бабы мягкие да ласковые.
И разговор тут же свернул совсем не туда, как это часто бывает, когда выпито уже немало. Потом все принялись сравнивать разные типы женщин, и тут оказалось, что лишь у одного из восьми мужчин, сидевших за столом, есть настоящая жена, и на голову несчастного, разумеется, посыпались безжалостные шутки и гнусные намеки на то, чем она в лагере занимается, пока он в походе. Остальные же в основном выдавали желаемое за действительное — то есть говорили скорее о том, что хотели бы иметь, а не о том, что имеют на самом деле. Наш город все-таки оставался городом мужчин и был больше похож на армейский лагерь, как порой и называл его Барна.
Но если мы были солдатами, то на какой же войне мы сражались?
— Ну вот, снова он нос повесил, — сказал Венне, подталкивая меня, и закудахтал, как наседка. Я понял, что кто-то пошутил на мой счет, а я и прослушал. Смеялись они, впрочем, добродушно. Я был Школяр, книжный червь, и им нравилось, когда я играю роль «рассеянного учителя».
Вскоре я ушел домой. В тот вечер мне опять предстояло выступление. Я видел, как Барна устроился в своем просторном кресле, посадив себе на колени Ирад. Он забавлялся с нею, весьма откровенно её лаская, и одновременно слушал, как я пересказываю одну из историй «Чамбана».
Барна нередко прилюдно ласкал своих девиц, но обычно делал это как бы шутя; он мог, например, подозвать к себе нескольких девушек сразу и громогласно попросить их «согреть его зимней ночью»; мог и столь же громогласно пригласить «на угощение» и кое-кого из своих друзей. Но это чаще случалось после пира и обильной выпивки, а не во время декламации старинной поэзии. Все вокруг только и говорили, что Ирад «совсем свела его с ума», что он каждую ночь зовет ее в свою спальню, совершенно игнорируя предыдущих фавориток. Но столь откровенное проявление похоти у всех на глазах было чем-то новым.
Ирад держалась абсолютно спокойно, подчиняясь ласкам Барны, становившимся все более страстными; лицо ее показалось мне совершенно равнодушным.
Я умолк, не закончив главу. Слова словно иссохли у меня в душе. Я совершенно утратил нить повествования, как впрочем, и многие мои слушатели. С минуту я стоял молча затем поклонился и сошел вниз.
— Это ведь еще не конец, верно? — спросил своим густым басом Барна.
— Нет, — сказал я. — Но, по-моему, на сегодня хватит. Может быть, теперь Дорремер сыграет для нас?
— Сперва закончи эту историю! — прогремел Барна.
Но в зале уже задвигались, заговорили, а некоторые громко поддержали мою просьбу насчет музыки, и Дорремер вышла вперед со своей лютней, как это часто бывало после наших с Пултером выступлений. Похоже, пока эта выходка сошла мне с рук, так что я поспешил удалиться. Но пошел не к себе на чердак, а к Диэро. Душа моя была исполнена тревоги, и мне хотелось посоветоваться с моей старшей подругой.
Меле спала, а Диэро сидела в гостиной, не зажигая света. В окно светила яркая луна. Стояла чудесная светлая ночь, какие бывают в начале лета. Лесные птички, которых называют «ночными колокольчиками», пели где-то в темной листве деревьев, зовя и отвечая на призыв; порой негромко ухала маленькая совка. Дверь Диэро была не заперта, и я вошел без стука. Я поздоровался, сел рядом с нею, и некоторое время мы так и сидели молча. Мне очень хотелось рассказать ей о поведении Барны во время моего выступления, но нарушить ее покой я не решался; она всегда и меня как бы заражала этим своим покоем. Наконец она сказала:
— Ты сегодня что-то печальный, Гэв.
И тут я услышал на лестнице чьи-то легкие шаги. В комнату влетела Ирад. Волосы ее были распущены. Мне показалось, она задыхается.
— Не говорите, что я здесь! — прошептала она и снова выбежала в коридор.
Диэро встала. Она была похожа на иву с черными ветвями, всю серебрящуюся в лунных лучах. Она взяла кремень и кресало, высекла искру и зажгла светильник. Над маленьким масляным светильником расцвел желтоватый цветок света, и сразу в комнате все изменилось, и холодное лунное сияние отодвинулось куда-то далеко-далеко в небеса. Мне было жаль царившего здесь покоя, и я уже собрался чуть раздраженно спросить у Диэро, чего это Ирад играет в прятки, но тут на лестнице послышались куда более тяжелые шаги, и в дверях возник Барна. Его лицо показалось мне почти черным и каким-то распухшим; спутанная борода и вздыбленные курчавые волосы придавали ему еще более грозный и страшный вид.
— Где эта сучка? — заорал он. — Она здесь?
Диэро потупилась. Всю жизнь ее учили подчиняться, и вряд ли она была способна ответить ему чем-то еще, кроме уклончивого молчания. А я попросту отшатнулся от этого великана, ослепленного яростным гневом.
Барна оттолкнул нас, промчался к дверям спальни, распахнул их, заглянул внутрь и снова вернулся к нам, пристально на меня глядя.
— Ты! Ты на нее глаз положил, да? Конечно! Потому Диэро ее здесь и держит! — Он бросился на меня, точно огромный, рыжий дикий кабан, угрожающе подняв руку, готовую нанести страшный удар. Но тут между нами встала Диэро, громко выкрикнув его имя. Одной рукой он отшвырнул ее в сторону, а второй вцепился мне в плечо и стал трясти меня так, как это делал когда-то Хоуби; потом надавал мне пощечин и швырнул на пол.
Не знаю, что произошло сразу после этого. Когда я немного пришел в себя, попытался сесть и что-то разглядеть сквозь отвратительную черную пелену, пульсировавшую у меня перед глазами, то увидел Диэро, скорчившуюся на полу. Барны в комнате уже не было.
Я ухитрился встать на четвереньки, потом медленно поднялся и заглянул в спальню. Там никого не было, кроме крошечной тени, скорчившейся у стены за кроватью.
— Не бойся. Меле, — сказал я, — все в порядке. — Но слова оказалось отчего-то очень трудно вытолкнуть изо рта. Рот то и дело наполнялся кровью, а справа сильно качались два зуба. — Диэро сейчас придет…
Я вернулся к ней. Она уже сидела. В слабеньком свете масляного светильника я увидел на ее нежной щеке ссадину и здоровенный синяк. У меня даже дыхание перехватило, и я опустился возле нее на колени.
— Он ее нашел, — прошептала Диэро. — Она спряталась в твоей комнате, Гэв, а он прямо туда и пошел. Что же ты теперь будешь делать? — Она взяла меня за руку. Ее рука была холодна, как лед.
Я покачал головой, отчего у меня в ушах снова зазвенело, а перед глазами поплыла пелена. Я все глотай и глотал кровь.
— Что он с ней сделает? — с трудом вымолвил я. Диэро молча пожала плечами. — Он в таком гневе… он может убить ее…
— Да, наверное, он ее побьет. Но женщин он не убивает, Гэв. А вот тебе здесь оставаться нельзя.
Я решил, что она имеет в виду свою комнату. Но я ошибся.
— Ты должен уйти. Уходи скорей! Ах, зачем она пошла в твою комнату! Бедная девочка, она просто не знала, где спрятаться! Ах, Гэв, я так тебя любила! — Диэро, горько плача, на мгновение прижалась лицом к моей ладони, потом снова вскинула голову. — За нас не бойся. Здесь все обойдется. Мы же не мужчины, мы вообще не считаемся. Но тебе надо поскорей уходить.
— Я возьму с собой тебя, — сказал я. — И девочек — Ирад и Меле…
— Нет, нет, нет! — в ужасе прошептала она. — Нет, Гэв, он убьет тебя! Уходи немедленно. Нам с девочками ничего особенного не грозит. — Она встала, пошатнулась, ухватилась за край стола и некоторое время постояла так, явно борясь с головокружением; потом прошла в спальню. Я слышал, как она тихим голосом разговаривает с Меле. Потом она вышла оттуда, неся девочку на руках. Та прильнула к ней, пряча личико у нее на плече.
— Меле, детка, ты должна сказать Гэву «до свидания».
Девочка повернулась ко мне, протянула ручонки, и я взял ее, крепко прижал к себе и сказал:
— Ничего, Меле, все будет хорошо. Ты пока занимайся с Диэро, обещаешь? И помогай Ирад делать уроки. Тогда скоро вы обе станете очень умными. — Я сам не знал, что говорю. Слезы выступили у меня на глазах. Я поцеловал Меле и поставил ее на пол. Потом взял руку Диэро, поднес к губам и некоторое время не отпускал. А потом резко повернулся и вышел за дверь.
Я быстро прошел к себе в комнату, прицепил к поясу свой нож, надел куртку, сунул в карман томик Каспро и в последний раз оглядел эту маленькую комнатку, единственную «свою» комнату, какая у меня была в жизни.
Из дома Барны я выбрался через черный ход и кружным путем пошел туда, где жили сапожники. Омытый лунным светом, этот деревянный город казался мне сейчас серебристо-голубым, молчаливым и прекрасным; и прекрасны были густые черные тени, пересекавшие его.
ЧАСТЬ III
Глава 11
Чамри тут же проснулся, стоило мне присесть рядом на лежанку. Я объяснил, что хочу немного пожить с ним, поскольку у нас с Барной возникла размолвка.
— Какая еще размолвка? — встревожился он. И довольно быстро вытянул из меня всю эту историю, хотя я вовсе не собирался ничего особенного ему рассказывать. — Ты хочешь сказать, та девушка оказалась в твоей комнате? Ох, клянусь Священным Камнем! Так тебе надо поскорее убираться отсюда, и чем дальше, тем лучше!
Я стал спорить, доказывая, что это всего лишь недоразумение, что Барна был просто пьян. Но Чамри уже вылез из постели и рылся под своим лежаком.
— Где тут твои вещички? Твои рыболовные снасти и все остальное… Ага, вот они. Я же знал, что все здесь. Ну, хорошо. Бери свои манатки, ступай к воротам и скажи охране, что хочешь еще до восхода солнца успеть к тому озеру, где форель водится. Объясни им, что самый лучший клев как раз на рассвете…
— Самый лучший клев на закате, — поправил я его.
Он глянул на меня со скорбным отвращением. Потом посмотрел более внимательно, с искренней озабоченностью, и ласково коснулся моей щеки.
— Влепил он тебе, да? Твое счастье, что он тебя прямо на месте не убил. Но если ты ему снова на глаза попадешься, он тебя точно прикончит. Он всегда так. Из-за женщины убить готов. Или если ему покажется, что кто-то его власть ослабить пытается. Я это не раз собственными глазами видел. Видел, как он человека убил. Удушил, вернее; голыми руками шею ему сломал. Вот что, бери-ка свои снасти и одеяло свое старое тоже непременно прихвати. И ступай к воротам.
Но я по-прежнему стоял столбом.
— Ох, ладно, я сам с тобой пойду, — сердито буркнул Чамри и действительно пошел со мной. Он торопливо провел меня по задам зданий к городским воротам, при этом не умолкая ни на минуту; он все время о чем-то со мной разговаривал, объяснял, что мне сказать охране и как вести себя, когда я окажусь вдали от лагеря, в лесу. — По тропам не ходи! — предупреждал он. — Все они для тебя сейчас опасны, все охраняются, и ты там почти наверняка на патруль наткнешься. Хорошо бы… Да! Вот именно! Вот пусть он тебя и проводит! Давай-ка сюда свернем на минутку. — И мы свернули на ту улицу, где жил Венне вместе со своими приятелями-налетчиками. Меня Чамри оставил в густой тени под стеной дома, а сам вошел внутрь. Я стоял, смотрел вокруг, и мне казалось, что серебристо-голубые крыши города словно танцуют, слегка покачиваясь в такт болезненному тиканью у меня в висках. Чамри вскоре снова вышел из дома, ведя за собой Венне. — Значит, так, — сказал он мне, — ты собрался не на рыбную ловлю, а на охоту. А теперь пошли!
У Венне за спиной висели два лука и колчан со стрелами.
— Мне очень жаль, что ты попал в беду, Гэв, — тихо сказал он мне.
Я попытался объяснить, что ни в какую беду я не попал, что Барна был просто пьян, что вся эта паника совершенно ни к чему, но Чамри прервал мои излияния:
— Не слушай его, Венне. По-моему, Барна ему все мозги начисто отшиб. Ты отведи его подальше, чтобы он без опаски и поскорее отсюда убрался.
— Это я могу, — сказал Венне. — Если только нас за ворота выпустят.
— А уж это мое дело, — заверил его Чамри. И действительно, он так умело заговорил зубы страже, что нас моментально выпустили за ворота. Болтая со стражниками, Чамри первым делом выяснил, не давал ли Барна каких-либо распоряжений относительно меня. Но было ясно, что о случившемся стражникам ничего не известно. Зато они прекрасно всех нас знали и запросто отпустили, предупредив лишь, чтобы мы непременно до заката вернулись назад. — Ну, я-то почти сразу вернусь, — успокоил их Чамри. — Я по ночам в лес не хожу. Я просто этих идиотов проводить вышел.
Он действительно проводил нас немного, пока мы не миновали огороды, разбитые на опушке леса.
— А что мне им сказать, когда я один назад вернусь? — спросил Венне.
— Что вы с ним в лесу разминулись. Договорились, мол, встретиться у реки, потом ты его весь день искал, но он то ли в реку свалился, то ли вообще убежал… Как думаешь, это сойдет?
Венне кивнул.
— Вранье, конечно, так себе, — задумчиво промолвил Чамри, — очень даже так себе. Но я в случае чего скажу, что не раз слышал от Гэва, как ему хочется в Азион сбежать. Вот и выйдет, что он будто бы тебя обманул — попросил, чтоб ты его на охоту взял, а сам взял да и удрал. В общем, я думаю, на твой счет подозрений не возникнет.
Венне снова кивнул; похоже, возможные подозрения его не слишком беспокоили. Чамри повернулся ко мне.
— Гэв, — сказал он, — ты висел у меня на шее, не давая жить спокойно, с тех самых пор, как попытался напялить себе на голову мой килт. Ты взбаламутил меня, заставив вернуться к Барне, а теперь сам же от него и убегаешь. И все на мою голову! Но я все-таки от всего сердца желаю тебе удачи. Ступай на запад, беглец.
Он посмотрел на Венне, словно ища поддержки, и тот снова кивнул.
— И держись подальше от Высокогорья! — прибавил Чамри. Затем крепко обнял меня, отвернулся и тут же исчез во тьме под деревьями.
Я нехотя последовал за Венне, который без колебаний двинулся вперед по тропе, которую я почти не способен был различить в такой темноте. Мы шли так быстро, что мелькавшая меж черными ветвями и стволами деревьев луна вызывала у меня головокружение. Я все время спотыкался, и Венне, догадавшись, что мне трудно идти, немного замедлил ход.
— Здорово он тебе врезал, да? — спросил он. — Голова кружится?
Голова у меня действительно кружилась, меня даже немного подташнивало, но я заверил Венне, что это ничего, скоро пройдет, и мы пошли дальше. Я по-прежнему был уверен, что все это полнейшая нелепость, что мои друзья зря паникуют, что совершенно ни к чему было заставлять меня бежать из-за какого-то пустячного недоразумения, которое уже утром непременно разъяснилось бы. Мне и раньше доводилось быть свидетелем гнева Барны, гнева безумного, неукротимого, какого-то зверского, но это всегда продолжалось недолго, и гнев его уносился прочь, точно грозовая туча. В общем, я решил на заре сказать Венне, что поворачиваю назад.
А пока мы все шли и шли небыстрым шагом, и в ночной тиши и прохладе голова моя понемногу прояснилась. Я стал вспоминать о том, что произошло в доме Барны, и ужасные события того вечера вновь в мельчайших подробностях вставали у меня перед глазами. Я снова видел, как Барна непристойно ласкает Ирад, а она сидит совершенно неподвижно, с застывшим, лишенным всякого выражения лицом, и все вокруг, мужчины и женщины, это видят. Я снова видел исполненные ужаса глаза Ирад, когда она вбежала в комнату Диэро, спасаясь от своего бешеного преследователя. Снова видел его физиономию, искаженную безумной, слепой яростью. И тот темно-красный кровоподтек на нежной щеке Диэро…
Венне остановился на крутом скалистом берегу небольшой речушки и спустился к воде, чтобы напиться. Я тоже напился, вымыл лицо и сразу почувствовал, как сильно распухли у меня правое ухо и обе щеки; от воды их стало щипать. Где-то в чаще жалобно прокричала маленькая совка. Стало еще темнее: луна только что зашла.
— Давай подождем здесь, пока не станет хоть немного светлее, — тихо сказал Венне. Мы уселись на землю и долго молчали. Он задремал. А я то и дело мочил руку в воде и прикладывал холодную ладонь к распухшему уху и к вискам, упорно глядя куда-то во тьму. Не могу сказать, как именно в этой темноте шли мои мысли, но по мере того, как деревья, листва на них, скалы на берегу и вода в речушке стали таинственным образом вновь обретать привычные очертания, окутанные серыми предрассветными сумерками, я понял — со странной ясностью, никак не связанной с каким-либо разумным решением, — что в дом Барны мне уже никогда не вернуться.
Единственное чувство, которое я в эти минуты испытывал, был стыд. Стыд за него, стыд за себя самого. Снова я кому-то доверился и снова был предан и предал сам.
Венне выпрямился и протер глаза.
— Я пойду дальше, — сказал я ему. — И тебе вовсе не обязательно меня провожать.
— Ну что ж, — ответил он, — значит, в лагере я скажу. что ты от меня улизнул, а я весь день искал тебя, да так и не нашел. Понимаешь, мне бы хотелось, чтобы ты успел уйти как можно дальше, чтобы они тебя не поймали…
— Да они меня даже искать не будут!
— Что-то не очень я в этом уверен.
— Барна сам не захочет, чтобы я к нему вернулся.
— Зато он, скорее всего, захочет довершить начатое и окончательно вышибить тебе мозги. — Венне встал и потянулся. Я посмотрел на него с какой-то печальной любовью; этот молодой, гибкий, покрытый шрамами охотник с тихим голосом всегда был мне добрым товарищем, и мне бы очень хотелось быть уверенным, что он не навлечет на себя гнев всесильного Барны из-за того, что помог мне бежать.
— Я пойду на запад, как советовал Чамри, — сказал я. — А ты сделай круг и возвращайся назад с севера, чтобы они, если за мной действительно отправят погоню, пошли по ложному пути. Так что давай расстанемся прямо сейчас, чтобы у тебя на все времени хватило.
Но Венне настоял на том, чтобы вывести меня на тропу, по которой я наверняка смогу выйти из Данеранского леса на западную дорогу.
— Я же видел, как ты по лесу плутал! — сказал он. И надавал мне целую кучу советов: не разжигать костер, пока я окончательно не выйду из леса, помнить, что в это время года солнце садится значительно южнее обычного, и так далее. Он очень сожалел, что у меня с собой нет никакой еды. Пока мы шли — совсем без тропы, но по весьма светлому дубовому лесу, где огромные деревья росли довольно редко, — он все время присматривался к каждому холмику и комку земли; потом подошел к груде какого-то лесного мусора и сухих веток, разрыл землю, и там оказалась кладовая лесной крысы. Оттуда Венне извлек две пригоршни лесных орехов и желудей и отдал все это мне. — Поев желудей, — сказал он, — станешь немного чаще мочиться, но и такая еда все же лучше, чем ничего. А дальше, в начале западной дороги, есть довольно большая роща сладких каштанов, и на ветках, вполне возможно, еще кое-что сохранилось, так что смотри внимательно. А уж когда леса останутся совсем позади, так придется тебе либо милостыню просить, либо воровать. Впрочем, тебе ведь это уже приходилось делать, верно?
Наконец мы вышли на ту тропу, которую он искал; тропа оказалась довольно широкой и была отчетливо видна. У поворота направо, в западном направлении, я настоял, чтобы Венне отправился в обратный путь, ибо время уже близилось к полудню. Я хотел просто пожать ему руку на прощанье, но он крепко, как и Чамри, обнял меня и пробормотал:
— Да сопутствует тебе удача, Гэв! Я тебя никогда не забуду. И твои истории тоже. Да хранит тебя Глухой бог!
Он повернул назад и мгновенно исчез в тени деревьев.
А я остался стоять на тропе, пережидая эти мрачные мгновения.
Вчера в это время я завтракал вместе с веселыми обитателями дома Барны, озабоченный лишь тем, что вечером мне снова придется выступать перед полным залом. Еще вчера я чувствовал себя Школяром Барны, любимцем Барны…
Я присел на землю рядом с тропой и подверг ревизии имевшееся у меня имущество: башмаки, штаны, рубаха, куртка, старое, рваное, омерзительно пахнущее коричневое одеяло, рыболовные крючки, полные карманы орехов и желудей, украденных у лесной крысы, хороший нож и книжка Оррека Каспро.
А еще у меня имелись бесконечные воспоминания: о моей жизни в Аркаманте, о жизни в этом лесу, о каждой книге, которую я прочел, о каждом человеке, которого я знал, о каждой ошибке, которую я совершил. На этот разя все воспоминания взял с собой и решил, что никогда больше не откажусь от них, никогда не отвернусь от собственной памяти. Никогда больше. И мои воспоминания всюду будут со мной. Все до единого.
Но куда же мне направиться со всем этим богатством?
Пока что ответ на этот вопрос был только один: передо мной простиралась дорога, которая должна была привести меня на запад, к Болотам, в те края, где мы с Сэлло, скорее всего, и появились на свет. Именно там жил тот единственный на свете народ, к которому я принадлежал. И я сказал себе: я верну народу великих Болот его украденных детей или, по крайней мере, одного. Я встал и решительно двинулся на запад.
Когда я по берегу реки уходил прочь от Этры, одинокий мальчишка в белых траурных одеждах, людям действительно могло показаться, что я тронулся умом. И это меня тогда защищало. Безумцы святы. Теперь же, идя в одиночестве по этой пустынной лесной тропе, я был на два года старше, выглядел и был одет в полном соответствии со своей сущностью — беглого, почти уже взрослого раба. Так что если бы я встретил людей, тем более охотников за рабами, то единственной защитой от подозрений была бы моя сообразительность. Может быть, конечно, мне помог бы и бог Удачи, хотя ему, похоже, уже поднадоело со мной возиться.
Тропа должна была вывести меня на западную опушку Данеранского леса, и если все время держаться западного направления, то в итоге я должен был добраться до великих Болот. Я не знал, какие селения могут встретиться мне на пути, но был уверен, что никаких более-менее крупных городов там нет. Я ведь уже когда-то раньше видел эту местность, по которой шел сейчас, — издалека, с одной из вершин Вентайнских гор, окутанных золотистым вечерним светом. Тогда она показалась мне совершенно пустынной, безлюдной. Я хорошо помнил огромную неясную тень леса на востоке и ровное открытое пространство, простиравшееся к северу. Мы с Сэл тогда долго смотрели в ту сторону, а Сотур все спрашивала, не сохранилось ли у нас хоть каких-то воспоминаний о Болотах, и я рассказал ей о сверкающей воде, о тростниках, о голубом холме вдалеке… Но Сэлло сказала, что мы были слишком малы, чтобы действительно что-то помнить. Наверное, все-таки те мои воспоминания были совсем иного рода — это были «воспоминания» о том, чего в моей жизни еще не бывало. Они тогда часто меня посещали.
А теперь у меня давно уже не было подобных видений. Наверное, покинув Этру, я оставил там не только свое прошлое, но и свое будущее. Долгое время я жил лишь сегодняшним моментом — пока минувшей зимой, поговорив с Диэро, не собрался наконец с мужеством и не оглянулся назад, вернув себе тем самым и свой странный дар, и бремя воспоминаний обо всем том, что утратил. Однако способность к предвидению, те мимолетные видения грядущих времен я, похоже, утратил навсегда.
Возможно, причиной тому стала моя затянувшаяся жизнь в лесу, среди деревьев, думал я, шагая по лесной дороге. Эти бесконечные стволы и спутанные тенистые ветви не позволяют видеть далеко вперед — ни в пространстве, ни во времени. За пределами леса, на открытой равнине, что раскинулась между голубой водой и голубыми небесами, я, возможно, вновь обрету способность смотреть вперед и видеть далеко. Разве не уверяла меня Сэлло, когда мы сидели с ней рядышком на школьной скамье, что именно эту способность я получил в наследство от народа Болот?
— Никому об этом не рассказывай, Гэв, — прошелестел у меня в ушах ее нежный тихий голос, и я почувствовал ее теплое дыхание. — Обещай, что ты ни с кем об этом разговаривать не будешь!
И я никогда ни с кем, кроме нее, об этом не разговаривал. Ни с кем из наших хозяев, наших пленителей из Аркаманта, которые подобными способностями не обладали, которые их боялись, которые меня бы просто не поняли. Ни с кем из беглых рабов — ни в лагере Бриджина, ни в Сердце Леса у Барны; впрочем, там у меня вообще никаких видений будущего и не возникало; я только и слушал, что планы Барны и его мечты о вселенской революции и освобождении рабов. Но вот если бы я оказался среди своего родного народа, где нет ни хозяев, ни рабов, я, возможно, и отыскал бы других людей, которые, как и я, обладают этой способностью видеть будущее; и может быть, они подсказали бы мне, как вернуть эту способность, как научиться ее использовать.
Подобные мысли весьма бодрили меня. На самом деле я был даже рад, что наконец остался один. Мне казалось, что весь этот год я ни на минуту не расставался с Барной, и его громкий, веселый голос постоянно звучал у меня в ушах, заполняя все мое существо, управляя моими мыслями и суждениями. Власть надо мной этого человека была подобна неким волшебным чарам, и я мог оставаться самим собой лишь в самых укромных уголках своей души, прячась там, точно в густой тени. И теперь, размеренно шагая по лесной тропе и уходя от него прочь, я мог позволить своим мыслям бродить совершенно свободно, мог по собственному желанию вернуться в любую временную точку своего пребывания в Сердце Леса, или в лагере Бриджина, или в пещере у Куги, старого безумного отшельника, который спас меня, такого же безумного, как он, мальчишку, от голодной смерти… Мысль об этом неожиданно вернула меня к реальной действительности. Я ничего не ел с прошлого вечера, и мой желудок начинал требовать обеда, а орехов, лежавших у меня в кармане, вряд ли хватило бы надолго. Я решил, что не съем ни одного орешка, пока не достигну опушки леса, а уж там устрою себе настоящий пир из украденных у лесной крысы припасов, а заодно и решу, что мне делать дальше.
Уже к середине дня тропа вынырнула из леса и, пройдя через негустую ольховую рощицу, вывела меня на довольно широкую дорогу, ведущую с севера на юг. На дороге после недавних дождей четко отпечатались многочисленные следы колесных повозок, конских подков и овечьих копыт, хотя, сколько я ни смотрел в ту и другую сторону, на ней не было видно ни души. За дорогой виднелось открытое пространство, кое-где поросшее кустарником и бурьяном, среди которых торчали редкие купы деревьев.
Я сел, укрывшись за кустами, и торжественно разгрыз и съел десять из имевшихся у меня орехов. После чего их осталось двадцать два, и еще девять крупных желудей, которые я решил приберечь на крайний случай. Подкрепившись, я встал и храбро пошел по дороге налево, обдумывая, что мне сказать вознице, или погонщику скота, или всаднику, если те вдруг меня нагонят.
В итоге я пришел к выводу, что у меня есть пусть маленькое, но все же доказательство того, что я не просто беглый раб: та маленькая книжка, что лежит у меня в кармане. Я решил показывать ее и говорить, что жил в Азионе у одного ученого человека и хозяин попросил меня отнести эту книгу своему другу — другому ученому из Этры, который заболел и выразил горячее желание перед смертью еще раз прочитать ее. Но упросил моего хозяина прислать ему эту книгу с кем-нибудь, кто мог бы ему ее прочесть, ибо его собственные глаза уже сильно ослабели из-за болезни… В общем, я разработал эту легенду в мельчайших подробностях и настолько увлекся, что не заметил фермерской повозки, которая где-то у меня за спиной выехала с боковой дорожки на большую дорогу, и лишь звяканье упряжи и цоканье конских копыт пробудили меня от мечтаний. Обернувшись, я чуть ли не у себя над плечом увидел огромную конскую морду с ласковыми глазами и услышал:
— Залазь! — Это крикнул возница, коренастый широколицый человек, который равнодушным взглядом смерил меня с головы до ног.
Я пробормотал некое подобие приветствия.
— Да залазь же! — крикнул он снова. — До перекрестка еще топать да топать.
Я вскарабкался на сиденье. Он то и дело изучающе косился на меня. Глазки у него были удивительно маленькие и выглядели точно семечки тмина на широком каравае его лица.
— Небось в Шешу идешь, — сказал он, словно ни капли в этом не сомневался.
Я кивнул, решив, что в данном случае лучше в подробности не вдаваться.
— Что-то я на дороге ваших почти не встречаю, — заявил возница. И тут до меня дошло, что он принял меня — что он действительно меня принял! — за жителя Болот, так что теперь мне совсем не нужна сложная, только что выдуманная мною история и теперь я уже не беглый раб, а местный уроженец.
Ну и прекрасно! Кстати, этот парень, может, и не знает, что такое книга.
Весь долгий путь до перекрестка, занявший остаток того неторопливо тянувшегося дня и начало вечера, полного золотисто-пурпурных красок огромного, вполнеба, заката, возница рассказывал мне о сложных взаимоотношениях одного тамошнего фермера с его, возницы, родным дядюшкой. Затем переключился на стадо свиней и какой-то клочок земли близ селения Крысиная Вода и некую несправедливость, которую по отношению к нему, вознице, допустили. Я так толком ничего и не понял, но оказался вполне способен в нужных местах кивать и что-то ворчать себе под нос в знак одобрения или неодобрения; этого ему, впрочем, было вполне достаточно.
— Всегда любил поговорить с вашими, — заявил он, ссаживая меня у перекрестка. — Совет-то ваш по-прежнему собирается, да? А вот и твоя дорога на Шешу.
Я поблагодарил его и двинулся на юго-запад, навстречу догоравшему закату и вечерним сумеркам. Если Шеша — это селение болотных людей, думал я, то тем лучше.
Через некоторое время я остановился, расколол между двумя камнями все оставшиеся у меня орехи и съел их один за другим на ходу, потому что голод снова начал донимать меня, становясь совсем уж нестерпимым.
Наконец в густеющих сумерках я увидел впереди мерцание огней. Когда я подошел ближе, то оказалось, что это последние лучи заката играют на поверхности вод. Миновав просторный луг, где паслись коровы, я попал на околицу крошечной деревушки, стоявшей на берегу озера у самой воды. Дома там все были на сваях, и некоторые стояли прямо в озере; к ним вели длинные причалы, к которым было привязано множество лодок. Я не очень хорошо все это разглядел, уж больно устал и очень хотел есть. Меня манило к себе мерцание ласкового желтоватого света в окошке одного из домов; этот свет в сумерках показался мне просто прекрасным. Я подошел к этому дому, взобрался по деревянной лесенке на узкое крылечко и заглянул в открытую дверь. Больше всего это было похоже на гостиницу или пивную. Я увидел перед собой просторную комнату без окон, с низеньким прилавком или буфетной стойкой, но совсем без мебели. Четверо или пятеро мужчин сидели прямо на ковре, которым был застлан пол, и держали в руках маленькие глиняные чашечки. Все они одновременно посмотрели на меня и тут же отвели глаза — видимо, сочли, что неприлично так пялиться на незнакомого человека.
— Ну, входи, парень, входи, — пригласил меня один из них. Все они были темнокожие, довольно хрупкого сложения и невысокие. А когда женщина за прилавком обернулась, мне показалось, что передо мной старая Гамми: те же пронзительные темные глаза, тот же орлиный нос…
— Ты откуда пришел-то? — спросила меня женщина.
— Из леса. — От волнения я говорил каким-то хриплым шепотом. Воцарилась полная тишина, и я пояснил: — Я ищу свой народ.
— Ну и кого же ты своим народом называешь? — усмехнулась женщина и снова махнула мне рукой. — Да входи же! — Я продвинулся чуть дальше от порога, думая, что выгляжу наверняка не лучше бродячего пса. Женщина что-то шлепнула на тарелку и подтолкнула тарелку ко мне.
— У меня денег нет, — тихо сказал я.
— Ешь! — сердито буркнула она. Я взял тарелку и сел с ней на скамейку у очага, только огонь в этом очаге не горел. На вкус еда напоминала что-то вроде холодной рыбной запеканки или рыбного пирога, но как следует разобраться я не успел: довольно большой кусок этого кушанья почти мгновенно исчез у меня во рту.
— Так кого все-таки ты своим народом-то называешь? — снова спросила меня женщина.
— Не знаю.
— Тогда довольно трудно будет твоих сородичей найти, — заметил один из мужчин. И все они посмотрели на меня, но не в упор и без враждебности; просто на жизненном пути им попалось нечто новое, и они украдкой, осторожно его изучали. Впрочем, мгновенное исчезновение куска запеканки вызвало среди них легкое оживление.
— Ты здешний? — спросил меня второй мужчина, потирая лысину.
— Не знаю. Нас украли — меня и мою сестру. Охотники за рабами из Этры. Этра ведь к югу отсюда, да?
— Когда это случилось? — вдруг довольно резким тоном спросила меня хозяйка.
— Четырнадцать или пятнадцать лет назад.
— Так он, должно быть, беглый раб? — с некоторой тревогой шепнул на ухо своему соседу самый старый из мужчин.
— Значит, ты тогда совсем малышом был, — сказала хозяйка. Она налила что-то в глиняную чашку, подала ее мне и спросила: — А как тебя звали?
— Гэвир. А мою сестру — Сэлло.
— И все? Ты только имена и помнишь?
Я кивнул.
— А как ты в лесу-то очутился? — дружелюбно спросил меня лысый, хотя это был, безусловно, непростой вопрос, и он все отлично понимал.
Я немного поколебался и сказал:
— Я заблудился.
К моему удивлению, этот ответ их вполне удовлетворил, во всяком случае пока. Я выпил молоко, предложенное мне этой доброй женщиной, и оно показалось мне сладким, как мед.
— Может, ты еще какие-то имена помнишь? — спросила женщина.
Я покачал головой:
— Мне ведь всего год или два было.
— А твоей сестре?
— Она была года на два постарше.
— И она сейчас рабыня в Этре? — Слово «Этра» хозяйка произносила как «Эттера».
— Она умерла. — Я смотрел прямо на них; их темнокожие лица казались мне встревоженными и исполненными сочувствия. — Ее убили. Потому я и убежал.
— Ага… — промолвил лысый. — Ну что ж… И давно это было?
— Два года назад.
Он покивал, потом переглянулся с приятелями.
— Эй, Биа, дай-ка парню что-нибудь получше этой коровьей мочи! — потребовал самый старый из них; у него была беззубая улыбка, а вид несколько простоватый. — Налей ему пива, я угощаю.
— Ему молоко нужно, — возразила хозяйка, снова наливая мне полную чашку. — Если его пивом напоить, он тут же носом в пол уткнется.
— Спасибо, ма-йо, — сказал я и с благодарностью выпил молоко.
Похоже, столь почтительное обращение ее рассмешило.
— Говоришь, как горожанин, а по виду настоящий рас-сиу, — заметила она.
— Значит, полагаешь, они пока на твой след не вышли? — спросил лысый. — Я твоих городских хозяев в виду имею.
— Они, наверное, думают, что я утонул, — сказал я.
Он кивнул.
Усталость и то, что я наконец немного утолил терзавший меня голод, а также деликатная доброжелательность этих людей, принимавших меня, пусть и осторожно, таким, какой я есть, и еще, наверное, мои собственные слова о том, что Сэлло была убита, — все это так подействовало на меня, что я чуть не расплакался. Едва сдерживая слезы, я смотрел на черные угли в очаге, словно там горел живой огонь, и тщетно пытался скрыть охватившую меня слабость.
— Выглядит как южанин, — услышал я шепот одного из мужчин, а второй сказал:
— Я знавал некую Сэлло Эво Данаха, давно, еще на Журавлиных Равнинах.
— Гэвир и Сэлло — это имена сидою, — сказал лысый. — Все, Биа, спасибо тебе, а я спать пошел. Завтра еще до рассвета выйду, так что ты заверни там что-нибудь перекусить, ладно? А ты, Гэвир, если хочешь, можешь завтра со мной пойти. На юг.
Вскоре Биа и меня отправила наверх, в общую спальню. Я постелил свое старое одеяло на какую-то лежанку, лег и тут же провалился в сон, точно камень в черную воду.
Было еще совсем темно, когда лысый разбудил меня, тряхнув за плечо.
— Идешь? — только и спросил он. Я моментально вскочил, схватил свои пожитки и последовал за ним. Я понятия не имел, куда он направляется, зачем и на чем, знал только, что на юг и мне предложено к нему присоединиться.
Внизу горел маленький масляный светильник. Хозяйка, как мне показалось простоявшая за своей стойкой всю ночь, вручила лысому большой пакет, но не из бумаги, а из чего-то, странным образом похожего на промасленный шелк, затем приняла от него бронзовый четвертак и сказала:
— Да хранит тебя Me, Аммеда.
— Да будет так, — откликнулся он и нырнул во тьму. Я последовал за ним. Мы спустились к воде, где у причала была привязана лодка, показавшаяся мне просто огромной. Аммеда отвязал веревку и шагнул в лодку так уверенно, словно всего лишь спустился еще на одну ступеньку, идя по лестнице. Я, разумеется, вел себя куда более осторожно, однако тоже поспешно влез в лодку, которая уже отплывала от причала, и скорчился на корме. Аммеда все ходил туда-сюда мимо меня, совершая во тьме какие-то загадочные действия. Золотистое сияние, исходившее из распахнутой двери гостиницы, виднелось над черной водой уже где-то далеко позади и постепенно становилось слабее света звезд, отражавшихся в озере. Мой спутник поднял парус на невысокой мачте, укрепленной в центре лодки, этот небольшой парус тут же поймал легкий попутный ветерок, и мы уверенно поплыли вперед. Я постепенно начинал привыкать к тому, что и во время плавания по лодке, оказывается, можно передвигаться, даже ходить, и к тому времени, как небо несколько посветлело, я уже мог довольно неплохо делать это, но, разумеется, только держась за что-нибудь руками. Лодка была длинная, с невысокими бортами и палубой, окруженной низенькими канатными поручнями; а под этой палубой, занимая почти всю центральную часть лодки, я обнаружил нечто вроде низенькой комнаты.
— Так ты и живешь в лодке? — спросил я Аммеду, который уселся на корме у руля и смотрел поверх вод на разгоравшуюся в небе зарю.
Он кивнул, промолвив некое нечленораздельное «ао». Затем, помолчав, спросил:
— Ты рыбу-то ловить умеешь?
— Да, у меня и снасти с собой.
— Видел. Вот и попробуй.
Я был рад оказаться ему полезным. Вытащил свои крючки, лески и легкое складное удилище, сделанное под руководством Чамри и состоявшее из нескольких идеально соединяющихся друг с другом отрезков. Никакой наживки
Аммеда мне не предложил, а у меня ничего не было, кроме нескольких желудей в кармане. Я нацепил на крючок самый червивый из них и, чувствуя себя полным дураком, уселся, свесив ноги за борт. К моему удивлению, уже через минуту у меня клюнуло, и я вытащил какую-то очень хорошенькую красноватую рыбку.
Аммеда выпотрошил ее изящным ножиком весьма опасного вида, соскоблил с нее чешую и разрезал на куски; затем вытащил из мешочка, висевшего у него на поясе, какую-то бутылочку, чем-то побрызгал из этой бутылочки на рыбу и предложил мне попробовать. Я никогда прежде не ел сырой рыбы, однако откусил без колебаний. Рыба была очень нежной и чуть сладковатой, а приправа, которой воспользовался Аммеда, оказалась попросту диким хреном. Острый вкус хрена заставил меня вспомнить, как год назад мы с Чамри Берном копали эти корешки близ лагеря Лесных Братьев.
Мой второй желудь на крючке тоже не задержался. Аммеда, выложив рыбьи потроха на каком-то листке, очень похожем на бумагу, протянул их мне и предложил использовать в качестве наживки. Вскоре я поймал еще две красные рыбки, и мы их тоже съели, приправляя диким хреном.
— Эти рыбки и других рыб тоже едят, — заметил Аммеда. — Едят себе подобных, как и люди.
— Похоже, они вообще все что угодно едят, — сказал я. — Как и я.
Каждый раз, испытывая голод, я с тоской вспоминаю ту замечательную кашу из пшеничных зерен, какую варили в Аркаманте, густую, с привкусом орехов, приправленную маслом и сушеными оливками. Я и тогда сразу же ее вспомнил, хотя без особой тоски, поскольку в желудке у меня находилось уже фунта полтора вкусной рыбы. Взошедшее солнце приятно пригревало мне спину. Маленькие волны лизали борта лодки. Впереди и повсюду вокруг нас расстилалась сверкающая поверхность вод, на которой тут и там виднелись зеленые пятнышки — тростниковые островки. Сытый и согревшийся, я улегся на спину на дне лодки и уснул.
До самого вечера мы шли под парусом вдоль берега какого-то озера странной вытянутой формы. А на следующий день, когда берега озера стали как бы сближаться друг с другом, образуя некий пролив или канал, мы попали в настоящий лабиринт проток и проливов, отделенных друг от друга высоченными тростниками и каким-то кустарником, растущим прямо в воде. Эти полосы серебристо-синей воды то расширялись, то сужались, точно коридоры с бледно-зелеными и буровато-коричневыми стенами, и были настолько похожи друг на друга, что я даже спросил Аммеду, как это он умудряется находить дорогу в этом невероятном водном лабиринте, и он ответил:
— А мне птицы подсказывают.
Сотни крошечных птичек порхали над зарослями кустарника; над головой пролетали утки, гуси и крупные серебристо-серые цапли; небольшие белые журавли бродили у кромки тростниковых островков. К некоторым из журавлей Аммеда обращался с неким подобием приветствия, произнося странное слово или имя: Хасса.
Он больше не задал мне ни одного вопроса о моей прошлой жизни, удовлетворившись, видимо, тем, что я рассказал в тот, самый первый, вечер, и о себе тоже ничего не рассказывал. Никакого недружелюбия я в этом не чувствовал; просто, по-моему, он был очень молчаливым по характеру.
Солнце весь день сияло в безоблачном небе, а ночью ему на смену выплыла ущербная луна. Я смотрел на летние созвездия, которыми так часто любовался на ферме Венте, наблюдая, как они всходят и плавно скользят по темному небосводу. Днем я ловил рыбу или просто грелся на солнышке и смотрел на кажущиеся абсолютно одинаковыми и все же чем-то незаметно отличающиеся друг от друга полосы чистой воды, на заросли тростника, на синее небо. Аммеда сидел на руле, направляя лодку. Домик под палубой оказался почти доверху забит неким грузом; в основном кипами какой-то очень похожей на бумагу ткани; в одних кипах она была потоньше, в других потолще, но и та и другая были очень прочными. Аммеда сказал мне, что это ткань из тростникового волокна; вообще же в этих краях из расщепленных стеблей тростника делали, по-моему, все — от мисок и тарелок до одежды и домов. Из южных и западных болот, где эту замечательную ткань в основном и делали, Аммеда возил ее в другие части своей страны, и люди с удовольствием ее покупали или на что-то обменивали. Подобный обмен зачастую приводил к тому, что жилище Аммеды оказывалось забитым всякими странными и случайными вещами — горшками, сковородками, сандалиями, очень хорошенькими плетеными поясами и накидками, глиняными кувшинами с маслом и невероятным количеством связок дикого хрена. Я догадался, что он либо сам всем этим пользуется, либо, если захочет, старается побыстрее распродать. Вырученные деньги — четвертаки, бронзовые «полуорлы», а также несколько серебряных монет — он складывал в бронзовую плошку, стоявшую в уголке, даже не пытаясь где-то их припрятать. И это, и поведение тех, с кем я в первый же вечер познакомился в Шеше, заставило меня думать, что люди на Болотах подозрительностью совсем не страдают и ничего не боятся — ни чужаков, ни друг друга.
Я знал, я даже слишком хорошо знал свою врожденную склонность чрезмерно доверять людям. Интересно, думал я, а это вообще свойство моей расы, вроде темной кожи и длинного носа с горбинкой? Ведь прежде моя излишняя доверчивость часто приводила к тому, что я, позволив другим предать меня, невольно и сам предавал совершенно невинных людей. И теперь я очень надеялся, что наконец-то попал именно туда, куда мне и было нужно: к таким людям, которые, как и я, на доверие отвечают доверием.
У меня хватало времени на подобные размышления, да и на мысли о прошлом тоже. В те долгие, полные солнечного света дни, проведенные на воде, я мог спокойно оглянуться назад и подумать. Но стоило мне подумать о том времени, что я прожил в Сердце Леса, как в ушах моих начинал звучать голос Барны, его глубокий сочный бас, заглушающий все прочие звуки и мысли; Барна снова и снова что-то рассказывал мне, что-то объяснял, на чем-то настаивал… и сейчас эта благословенная тишина вокруг, это молчание болот и молчание моего нынешнего спутника казались мне неким освобождением от тяжкого бремени и приносили необычайное облегчение.
В последний вечер моего путешествия с Аммедой я, весь день просидев с удочкой, показал ему свой улов, а он растопил «плиту» — большой керамический горшок, набитый углем и накрытый решеткой, который он установил под защитой «дома». Увидев, что я за ним наблюдаю, он сказал:
— Знаешь, у меня ведь деревни нет.
Я не совсем понял, что именно он хотел этим сказать и почему сказал так, и просто кивнул, ожидая какого-то продолжения, но он больше ничего не прибавил. Обрызгав рыбу маслом, он слегка посолил и быстро зажарил на решетке. Получилось очень вкусно. А когда мы наелись, Аммеда принес глиняный кувшин, две чашки и налил нам того, что называл «вином из рисовой травы», напитка прозрачного и весьма крепкого. Мы сидели на корме и пили вино, а лодка медленно плыла по широкой протоке. Аммеда даже не пытался поймать ветер, лишь время от времени чуть поправлял руль, чтобы не сойти с курса. Ясные сине-зелено-бронзовые сумерки окутали воду и тростники. На западном краю небосклона, дрожа, точно капля воды, повисла вечерняя звезда.
— Сидою, — сказал Аммеда, — живут у самой границы, потому туда время от времени охотники за рабами и являются. Может, ты как раз из этих мест родом. Смотри, если хочешь, оставайся пока со мной. Оглядись. А не то я через пару месяцев буду назад возвращаться и снова мимо этих берегов проплыву. Если тебе здесь не понравится, могу тебя с собой прихватить. — И, помолчав, он прибавил: — Всегда хотел иметь спутника-рыбака.
Так он, как всегда лаконично, дал мне понять, что будет очень рад, если я все же захочу к нему присоединиться.
На следующее утро, на заре, мы снова вышли на открытое водное пространство и через час или два приблизились к настоящему берегу, где росли деревья и виднелись маленькие домики на сваях. Я услышал детские крики. Ребятишки собрались у причала, встречая подплывающую лодку. «Женская деревня», — сказал Аммеда, и я увидел, что взрослые, следом за детьми спустившиеся к воде, — это одни женщины, одетые в короткие туники и чем-то похожие на Сэлло: темнокожие, кудрявые, с тонкими изящными руками и ногами. И, глядя на них, я увидел глаза Сэлло, ее лицо; она то и дело мерещилась мне, мелькала среди них, и это было странно и тревожно: видеть свою сестру среди этих незнакомок, тоже казавшихся мне сестрами.
Как только мы привязали лодку, женщины полезли через борт, чтобы посмотреть, что им предлагает Аммеда; они ощупывали ткань из тростникового волокна, нюхали кувшины с маслом и непрерывно болтали с ним и друг с другом. Со мной они не разговаривали, но какой-то мальчик лет десяти подошел ко мне, остановился напротив, широко расставив ноги, и с важным видом спросил:
— Ты кто такой? Ты чужестранец?
И я ответил, охваченный нелепой надеждой на то, что меня тут же признают:
— Нет. Меня зовут Гэвир.
Мальчишка подождал минутку, насупился, словно я его чем-то обидел, и с еще более важным видом переспросил:
— Гэвир?…
Похоже, мне нужно было иметь все-таки не одно имя!
— Назови твой клан! — потребовал мальчишка.
К нам подошла какая-то женщина и довольно бесцеремонно оттолкнула нахального мальчишку в сторону, и Аммеда сказал ей и еще одной, довольно пожилой женщине, которая подошла вместе с нею:
— Его в рабство продали. Он, возможно, из сидою.
— Ясно! — промолвила старая женщина. И, повернувшись ко мне боком, не глядя на меня, но. безусловно, обращаясь именно ко мне, спросила: — Когда же тебя отсюда забрали?
— Лет пятнадцать назад, — сказал я, и снова глупая надежда проснулась в моем исстрадавшемся сердце.
Она подумала, пожала плечами и сказала:
— Нет, он не отсюда. Ты что же, и клана своего не знаешь?
— Нет. Я был не один. Нас было двое. Моя сестра Сэлло и я.
— Меня тоже Сэлло зовут, — сказала эта женщина довольно равнодушным тоном. — Сэлло Иссиду Асса.
— Я ищу своих сородичей и свое имя, ма-йо, — сказал я и успел заметить, как она искоса метнула на меня взгляд, хоть и стояла по-прежнему вполоборота ко мне.
— Попробуй поищи среди ферузи, — посоветовала она. — Из тех мест солдаты часто людей в рабство угоняли.
— А как мне туда добраться?
— По суше, — сказал Аммеда. — И все время на юг. А протоки легко и сам переплыть сможешь.
Я отвернулся и стал собирать свои пожитки, а он все продолжал о чем-то беседовать с этой Сэлло Иссиду Асса. Потом она ушла, и он велел мне подождать, пока она не вернется. Она принесла из деревни большой пакет из тростниковой ткани, положила его передо мной и тем же равнодушным тоном, по-прежнему отвернув от меня лицо, сказала:
— Это еда.
Я поблагодарил ее и завернул пакет с едой в свое старое одеяло, которое выстирал и высушил за время нашего путешествия по болотам и которое в скатанном виде служило мне чем-то вроде заплечного мешка. Затем я повернулся к Аммеде и еще раз от всей души поблагодарил его, а он сказал мне:
— Да хранит тебя Me.
— Да будет так, — откликнулся я и прибавил: — И тебя пусть хранит великая Энну-Ме!
Я уже хотел спрыгнуть с причала на берег, но тут две женщины вдруг подняли страшный визг, а тот важный мальчишка так и ринулся ко мне, преграждая путь и что было сил возмущенно вопя: «Это женская деревня, женская!» Я испуганно озирался, не зная, как же мне быть, и Аммеда указал мне направо, где я заметил тропинку, выложенную по краям камнями и раковинами моллюсков и идущую по самой кромке воды.
— Мужчины ходят только здесь, — пояснил Аммеда, и я пошел по этой тропинке.
Прошел я совсем немного, и тропинка привела меня в другую деревню. Мне тут же снова стало не по себе, однако здесь на меня никто не кричал, не прогонял и не требовал держаться подальше, и я пошел дальше между маленькими домиками на сваях. Какой-то старик грелся на солнышке, сидя на крылечке домика, который, как мне показалось, был целиком сделан из плотных тростниковых циновок, прикрепленных к деревянному каркасу.
— Да хранит тебя Me, сынок, — сказал мне старик.
Я ответил ему тем же и спросил:
— Отсюда есть дорога на юг, ба-ди?
— Заладил «бади, бади»! — проворчал он. — Что значит «бади»? Меня зовут Рова Иссиду Мени. И откуда ты только явился такой со своим «бади-бади»? Я же тебе не отец. А кто твой отец, знаешь?
Он скорее поддразнивал меня, чем сердился. У меня было такое ощущение, что он прекрасно знает то «городское» приветствие, каким воспользовался я, но не желает его принимать. Волосы у него были совсем седые, а на лице — тысяча морщинок.
— Нет, не знаю, — сказал я. — Я ищу своего отца. И свою мать. И свое имя.
— Ха! Ничего себе! — Старик осмотрел меня с головы до ног. — А почему на юг идешь?
— Хочу найти ферузи.
— Ага! Только эти ферузи — народец странный. Я бы, например, туда не пошел. Но ты иди, коли хочется. Эта тропа дальше через пастбище идет. — Он снова устроился поудобнее и принялся почесывать свои длинные, черные, костлявые ноги, похожие на журавлиные.
Больше я в деревне никого не заметил, лишь далеко на воде виднелись рыбачьи лодки. Я снова вышел на тропу, идущую через пастбище, и двинулся дальше на поиски своих сородичей.
Глава 12
До тех мест, где обитали ферузи, я шел два дня. Тропа была довольно извилистой, но, в общем, вела меня на юг, во всяком случае, если судить по солнцу, которое по утрам всегда было слева от нее, а на закате — справа. Многочисленные протоки среди заросших высокой густой травой лугов, окруженных ивами, мне приходилось переплывать или переходить вброд, держа над головой скатку с имуществом и башмаки, привязанные к палке. С другой стороны, идти там было легко и приятно, а сухих рыбных лепешек и соленого сыра вполне мне хватало, чтобы как следует перекусить. Время от времени я видел дымок над какой-нибудь одинокой хижиной или тропу, ведущую к маленькой деревушке, но, поскольку основная тропа по-прежнему вела меня на юг, я старался с нее не сходить. К вечеру второго дня тропа наконец свернула налево, и я, следуя по песчаному берегу огромного озера и миновав пастбище, где паслись коровы, оказался в очередном селении, состоявшем из нескольких домишек на сваях; у причалов, как всегда, были привязаны лодки. Да и все деревушки здесь были похожи одна на другую и отличались лишь незначительными особенностями, и повсюду царила одна и та же бедность, если не нищета.
Детей возле деревни видно не было, но я заприметил какого-то мужчину, расправлявшего рыболовную сеть, и направился прямиком к нему.
— Здесь ферузи живут? — крикнул я.
Он аккуратно положил сеть на землю и пошел мне навстречу.
— Да, ферузи. Это деревня Восточное Озеро, — сказал он и с мрачным видом выслушал мой рассказ о том, чего я ищу.
Ему было лет тридцать, и мне показалось, что это самый высокий мужчина из всех рассиу, которых я до сих пор встречал. Глаза у него, как ни странно, были серые; позже я узнал причину этого: он был сыном женщины с Болот и неизвестного этранского воина, который ее изнасиловал. Я сказал ему, как меня зовут, и он в ответ назвал свое имя: Рава Аттиу Сидой, а потом любезно пригласил меня к себе домой и усадил за стол.
— Рыбаки скоро в деревню вернутся, — сказал он, — и все пойдут к рыбной циновке. Если хочешь, пойдем с нами; там можно будет поспрашивать у женщин насчет твоей родни. Если у нас об этом кому и известно, так только женщинам, они всегда все знают.
Рыбацкие лодки между тем одна за другой причаливали к берегу и выгружали улов. Лодочки были легкие, с маленькими парусами, напоминавшими крылья бабочек. От голосов мужчин и лая собак деревня сразу стала оживать. Собаки, завидев берег, выпрыгивали из лодок и бросались к нему по мелководью; собаки были некрупные, с черной жесткой курчавой шерстью, большими ясными глазами и прямо-таки светскими манерами. Они приветствовали друг друга одним-единственным «гавом», энергично виляя при этом хвостом, затем одна склоняла голову, вторая принимала поклон, и каждая следовала за своим хозяином. Одна собака тащила крупную мертвую птицу, по-моему, лебедя, и со своими товарками здороваться не стала, а с важным видом потрусила прямиком к дому. Вскоре все мужчины, сложив улов в корзины, вереницей двинулись куда-то по тропинке. Мы с Равой последовали за ними, и вскоре на берегу небольшого залива с заросшими травой берегами я увидел женскую деревню Восточное Озеро.
Несколько женщин уже ждали на лугу возле расстеленной на земле большой тростниковой циновки. Вокруг носилась туча детей, которые, впрочем, вели себя очень осторожно и на циновку ни в коем случае не наступали. Всевозможные горшки и тростниковые короба, полные готовых кушаний, были расставлены на циновке, точно на рыночном прилавке. Мужчины сели у противоположного края циновки и тоже выложили свой улов. Даже та собака положила туда принесенную ею птицу и чуть отступила, виляя хвостом. Только теперь я начал понимать смысл выражения «рыбная циновка». Отовсюду доносились шутки и смех, но это, несомненно, был некий старинный и уважаемый обычай, и когда кто-то из мужчин выходил вперед и брал коробку или горшок с едой или женщина выбирала себе корзинку с рыбой, они непременно произносили некую явно ритуальную фразу в знак благодарности. Потом какая-то старуха, ткнув пальцем в лебедя, воскликнула: «А это не иначе как стрела Коры!», и ее слова вызвали новую порцию шуток. Женщины, похоже, точно знали, кому чей улов полагается; мужчины же порой немного спорили, кому достанется то или это, но женщины тут же вносили ясность; так, например, когда двое молодых людей заспорили из-за короба с рыбными лепешками, хозяйка лепешек мгновенно разрешила спор, всего лишь кивнув одному из претендентов. И тот, кому лепешек не досталось, молча отошел в сторону, хотя и с весьма недовольным видом. Когда все разобрали, Рава вывел меня вперед и сказал, обращаясь ко всем женщинам сразу:
— Вот. Этот человек сегодня пришел в нашу деревню и сказал, что ищет своих сородичей. Солдаты угнали его в рабство в Эттеру (он тоже говорил «Эттера», а не Этра) еще совсем ребенком, и он знает одно лишь свое имя: Гэвир. Люди на северном краю Болот сказали ему, что он, возможно, один из сидою.
После этого женщины обступили меня со всех сторон и принялись рассматривать. Затем одна из них — лет сорока, остроносая и темнокожая — спросила:
— Сколько лет назад это случилось?
— Примерно пятнадцать, ма-йо, — ответил я. — Нас вместе с сестрой забрали. Ее звали Сэлло.
И тут какая-то старуха вскрикнула:
— Так это же дети Тано!
— Ну да, их тоже Сэлло и Гэвир звали! — поддержала старуху женщина с младенцем на руках. А та старуха, что почему-то назвала мертвого лебедя «стрелой Коры» и теперь держала его головой вниз за широкие черные перепончатые лапы, протолкнулась сквозь толпу, внимательно изучила меня с головы до ног и заявила:
— Да. Это наверняка ее дети! Дети Тано. Слава тебе, Энну-Амба, Энну-Ме!
— Тано в тот день за черным папоротником отправилась по Долгой Протоке, — сказала мне одна из женщин, — и детей с собой взяла. А обратно никто из них так и не вернулся. И лодки ее потом никто не нашел.
— Говорили, что вроде утонула она, — заметила другая женщина, а ее соседка возмущенно воскликнула:
— Ничего она не утонула! Наверняка на них охотники за рабами напали! — После этих слов старуха с лебедем подошла ко мне совсем уж вплотную — видно, пыталась разглядеть в моем лице черты той женщины, которую все они когда-то хорошо знали. Молодые женщины отступили назад; они смотрели на меня совсем иными глазами, но с явным сочувствием.
И лишь та темнокожая длинноносая женщина, что первой заговорила со мной, пока что помалкивала и близко ко мне не подходила. Старуха с лебедем принялась что-то ей втолковывать, после чего темнокожая наконец подошла ко мне и сказала:
— Тано Айтано Сидой — это моя младшая сестра. А меня зовут Гегемер Айтано Сидой. — Лицо у нее при этом было чрезвычайно мрачным, а слова она произносила резко, отрывисто.
Я страшно смутился и не знал, что сказать. Но через минуту все же спросил:
— Скажи, тетушка, как же все-таки мое настоящее имя?
— Гэвир Айтана Сидой, — сказала она почти нетерпеливо. — А что, твоя мать… и твоя сестра… они тоже с тобой сюда вернулись?
— Матери своей я совершенно не помню. Мы с сестрой были рабами в Этре. А два года назад ее убили. И тогда я оттуда ушел. И направился в Данеранский лес. — Я говорил очень короткими фразами и нарочно сказал «ушел оттуда», а не «сбежал», потому что в присутствии этой женщины с зоркими и черными, как у вороны, глазами чувствовал необходимость вести себя как настоящий мужчина, а не сбежавший от хозяев мальчишка.
Она быстро и остро на меня глянула, явно стараясь не встречаться со мной глазами, и обронила:
— Хорошо. Мужчины рода Айтану позаботятся о тебе. — И тут же повернулась ко мне спиной.
Зато остальным женщинам хотелось и как следует меня разглядеть, и расспросить вволю, но, похоже, они не решились перечить моей тетке и покорно последовали за ней. Впрочем, и мужчины уже потянулись в свою деревню, так что пришлось и мне тоже уйти вместе с ними.
По дороге Рава и двое мужчин постарше все время о чем-то спорили. Я, к сожалению, понимал далеко не все — их говор звучал еще слишком непривычно для моих ушей, и в нем было немало таких слов, которых я вообще не знал. Но, похоже, говорили они о том, откуда же я все-таки родом. В конце концов один из них обернулся ко мне, сказал: «Идем», и я покорно последовал за ним к его хижине.
Собственно, хижина представляла собой легкий деревянный каркас, покоившийся на деревянном настиле, а стены и крыша были сделаны из тростниковых циновок. Там не было ни окон, ни дверей, и любую из стен можно было поднять наверх, превратив дом в навес. Мой новый провожатый убрал куда-то короб и глиняный горшок с провизией, которые он обменял у женщин на рыбу, и поднял одну из стен — ту, что была обращена в сторону озера. Он привязал скатанную циновку к боковым столбикам, так что она, образуя некий козырек, очень удачно затеняла эту часть деревянного настила от горячих лучей полуденного солнца, и, усевшись на толстую циновку или тюфяк, разложенный на полу, принялся шлифовать почти готовый рыболовный крючок из раковины моллюска. Некоторое время он работал молча, не глядя на меня, потом махнул рукой в сторону «комнаты» и предложил:
— Бери сам, что хочешь.
Я чувствовал себя здесь незваным гостем, и ничего брать мне не хотелось. Я совершенно не понимал этих людей. Если я действительно тот самый пропавший из их деревни ребенок, их сородич, то неужели это все гостеприимство, которое они способны мне оказать? Я испытывал горькое разочарование, но отнюдь не намерен был это показывать — не хотелось демонстрировать собственную слабость перед этими чужими людьми с холодным сердцем. Надо непременно сохранить собственное достоинство, думал я, и держаться так же надменно, как они. В конце концов, я горожанин, человек образованный, а они варвары, дикари, живущие среди болот… И я решил: раз уж я преодолел столь долгий путь, так, по крайней мере, могу хотя бы переночевать здесь. А потом уж придумаю, куда мне идти дальше, раз и здесь для меня места не нашлось.
Я отыскал еще одну циновку и тоже уселся, но на противоположном конце этой «палубы», свесив ноги над илистым берегом озера и болтая ими в воздухе. Посидев так некоторое время, я вежливо спросил:
— Могу я узнать, как зовут хозяина этого дома?
— Меттер Айтана Сидой, — сказал он, не отрываясь от работы. Голос его звучал очень мягко.
— Так не ты ли мой отец?
— Я младший брат Гегемер, твоей тетки.
То, как он это сказал, по-прежнему не поднимая глаз, заставило меня заподозрить, что он просто очень стесняется, а вовсе не демонстрирует свое ко мне безразличие. Я догадался, что и мне не стоит особенно пялить на него глаза, но краешком глаза все же на него посматривал, и мне показалось, что он не очень-то похож на ту женщину с вороньими глазами, мою тетку, да и на меня, пожалуй, тоже.
— Значит, и моей матери ты тоже брат?
Он кивнул. Один раз, но очень энергично.
После этих слов мне пришлось все же присмотреться к нему внимательнее. Меттер был значительно моложе Гегемер и не такой темнокожий; да и черты лица у него были не такие резкие. Пожалуй, он чем-то напоминал Сэлло, такой же круглолицый, с чистой смуглой кожей. И я решил, что примерно так, наверное, выглядела и моя мать, Тано.
Ему, наверное, было примерно столько же лет, сколько мне сейчас, когда пропали его старшая сестра и двое ее маленьких детей.
Я долго молчал, потом снова обратился к нему:
— Дядя…
— Ао, — откликнулся он.
— Я буду жить здесь?
— Ао.
— С тобой?
— Ао.
— Но мне надо будет многому научиться. Я ведь не знаю, как вы здесь живете.
— Анх.
Вскоре я, конечно, привык к подобным кратким ответам, которые Меттер произносил еле слышно, себе под нос. «Ао» означало «да»; «энг» — «нет»; а словечко «анх» могло означать все, что угодно, между «да» и «нет» и имело примерно такой смысл: «Я слышал, что ты сказал».
Вдруг послышалось тихое «мяу!», и маленькая черная кошка, вынырнув из кучи каких-то вещей в темном углу хижины, подошла ко мне и уселась рядом, изящно обернув хвостом передние лапки. Я осторожно погладил ее по спинке. Она с наслаждением выгнула спинку, и я продолжал ее гладить, при этом оба мы смотрели не друг на друга, а куда-то за озеро. Мимо хижины по берегу промчалась пара черных рыбачьих собак, но кошка не обратила на них никакого внимания. И тут я заметил, что мой дядя Меттер, оказывается, оторвался от своей работы и смотрит на кошку с явным облегчением, прямо-таки написанным у него на лице.
— Прют отлично мышей ловит, — заметил он.
Я почесал Прют за ушком, и она замурлыкала.
Помолчав, Меттер прибавил:
— Мышей в этом году уйма.
Я снова почесал Прют, думая, не сказать ли ему, что и мне как-то целое лето пришлось есть мышей, это была основная моя пища. Но решил пока ничего о себе не говорить: это показалось мне неразумным, ведь пока что никто из них и не думал спрашивать меня о том, откуда я пришел и как жил в последние годы.
Только потом я понял, что никто на берегах озера Ферузи никогда о таких вещах и не спрашивает. Я долго прожил в «Эттере» — откуда приходят охотники за рабами и солдаты, которые грабят, насилуют, убивают, крадут детей рас-сиу, — и этого им было достаточно. Я, правда, жил и в других местах, но об этих других местах они ничего знать не хотели. Хотя не так уж много на свете людей, которые ничего не хотят знать об окружающем их мире.
И расспрашивать их об этом озерном крае оказалось тоже нелегко, но не потому, что они его плохо знали или не хотели мне о нем рассказывать. Просто это был их мир, даже больше — целая вселенная, а потому то, что их окружало, и воспринималось как некая данность, как воздух, которым они дышат. Им порой был непонятен даже смысл тех вопросов, которые я задавал. Как это кто-то может не знать названия нашего озера? И с чего бы это он вдруг спрашивает, почему мужчины и женщины живут отдельно друг от друга? Ведь каждому ясно, что это полное бесстыдство — поселиться всем в одной деревне! И как человек может ничего не знать об обязательных вечерних обрядах поклонения богам или о тех словах, которые нужно произносить, когда кому-то даешь пищу или от кого-то ее получаешь? Как может мужчина не уметь резать тростник, а женщина — расплющивать стебли и плести циновки? Я вскоре понял, что меня здесь воспринимают как полного незнайку, как человека совершенно невежественного; здесь я чувствовал даже большую растерянность, чем в самую первую свою зиму в лесу, хотя там поводов убедиться в своей неприспособленности к такой жизни было куда больше. Горожане могли бы сказать, что образ жизни у рассиу самый примитивный, но, по-моему, «примитивной» можно назвать только такую одинокую, нищую и жестокую жизнь, как у Куги, и все равно это слово не даст о ней верного представления. А в селениях болотных людей шла своя, особая жизнь, похожая на гобелен, сотканный из сложных родственных отношений, строгих общественных требований, обязанностей и правил. Я считаю, что это одинаково трудно — жить как по законам болотных людей, так и по законам этранцев.
Мой дядя Меттер принял меня в свой дом, не выказав особого гостеприимства, но, с другой стороны, и без малейших колебаний. Казалось, он вполне готов любить своего давным-давно пропавшего племянника. Это был человек очень скромный и мягкий, даже нежный, и его полностью устраивала та система обязанностей, обычаев и родственных отношений, которая существовала в его родном обществе, как устраивает она пчел в улье или ласточек в колонии, состоящей из сотен глиняных гнезд. Среди других мужчин Меттер особым авторитетом не пользовался, но это ничуть его не возмущало, не вызывало у него ни беспокойства, ни зависти. А вот то, что у него имелось несколько жен, служило предметом зависти и уважения среди его односельчан, хотя взаимоотношения с женщинами и стояли как бы в стороне от истинно мужской жизни. Но если я попытаюсь объяснить, как именно я понимаю жизнь настоящего сидою — а я познавал эту жизнь медленно, фрагментарно, опираясь на всевозможные догадки и предположения, — то истории моей просто не будет конца. Но я все же кое-что поясню одновременно с рассказом о том, как дальше развивались события.
Вечером мы с дядей отлично поужинали холодными рыбными лепешками, запивая их вином из рисовой травы. Вместе с нами ужинали и дядина кошка Прют, и его собака Минки, добрая старая сука, как из-под земли возникшая точно перед ужином. Минки подошла и очень вежливо поздоровалась со мной, положив свою седеющую морду мне на ладонь. После ужина Меттер исполнил некий ритуальный танец и произнес краткую хвалебную молитву в честь Повелителя Вод, как это делали и все наши соседи на своих деревянных настилах, уже окутанных ранними сумерками. Затем он развернул на полу свою постель и помог мне тоже устроить ложе из запасных циновок и моего старого одеяла. Кошка отправилась ловить мышей куда-то под хижину, а собака свернулась клубком на постели хозяина. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и легли спать, когда последние отблески заката еще не померкли на озерной воде. А утром не успело солнце взойти, как рыбаки уже вышли на озеро, погрузившись в лодки по одному или по двое, с одной или двумя собаками. Меггер объяснил, что сейчас в озеро по протокам, соединяющим его с морем, как раз приходят большие стаи рыбы, которая называется тута, и рыбаки надеются сегодня утром устроить настоящую охоту, загоняя рыбу в сети. И если тута действительно пришла, то в течение месяца работы в обеих деревнях будет более чем достаточно: мужчины будут ловить рыбу, а женщины ее вялить. Я спросил, можно ли и мне пойти с ними, чтобы поучиться загонять рыбу и ловить ее сетями, но Меттер явно принадлежал к тому типу людей, которые просто не могут сказать «нет». Он мялся, что-то бормотал, обещая, что вот, мол, кое с кем еще надо непременно на сей счет переговорить, и я, в общем, так ничего и не понял, а потому спросил:
— Это что же, у отца моего надо разрешение спросить, что ли?
— У твоего отца? Нет, Меттер Содиа ушел на север сразу после того, как Тано пропала, — как-то невпопад ответил мой дядя. Я попытался еще что-то спросить у него об отце, но он сказал лишь: — А с тех пор никто ничего о нем и не слышал, — и почти сразу ушел, оставив меня одного во всей деревне, если не считать, конечно, кошек, тоже оставшихся дома. Здесь в каждом доме имелся по крайней мере один черный кот, а то и несколько. Когда мужчины и собаки из дома уходили, там правили кошки; они лежали на деревянных настилах, слонялись по крышам, шипя на соперников, и выносили котят поиграть на солнышке. Я сидел и наблюдал за кошками, и хотя симпатичные котята порой заставляли меня смеяться, на сердце у меня было тяжело. Теперь я уже понял, что никакого недружелюбия в поведении Меггера не было. Но я-то пришел домой, к своим сородичам, а они оказались мне совершенно чужими, а уж я и подавно был для них чужаком.
Мне было видно, как на середине озера, далеко-далеко от берега, трепещут паруса их суденышек, точно крылышки бабочек над синей, как шелк, водой.
Затем я заметил какую-то лодку, плывущую по направлению к деревне, точнее, большое каноэ. Гребцы в нем работали веслами, как сумасшедшие. Каноэ подлетело к топкому берегу, и люди, выпрыгнув из него, втащили его повыше, а потом направились прямо ко мне. Сперва мне показалось, что лица у них просто раскрашены, но потом я понял, что это татуировка. Многочисленные линии спускались у них от висков к подбородку, а у одного пожилого мужчины весь лоб до самых бровей и переносицу покрывали вертикальные черные линии, и он от этого был похож на черноголовую цаплю: сверху черная «шапочка», а под ней светлые перья. Шли они с важным достоинством, а у одного в руках была какая-то палка, на верхнем конце которой красовался большой пучок перьев белой цапли.
Они остановились перед хижиной Меггера, и тот пожилой спросил:
— Это ты — Гэвир Айтана Сидой?
Я встал и поклонился.
Тогда он разразился каким-то длинным торжественным монологом, из которого я не понял почти ни слова. Затем все они немного помолчали, словно ожидая какой-то моей реакции, и пожилой презрительно бросил человеку с палкой:
— Ну, этого явно ничему не учили!
Они немного посовещались, затем человек с палкой повернулся ко мне и сказал:
— Ты пойдешь с нами. Тебе необходимо пройти обряд посвящения. — На моем лице, должно быть, ничего не отразилось, и он пояснил: — Мы старейшины твоего клана, Айтану Сидою. Только мы можем сделать тебя мужчиной и разрешить тебе выполнять мужскую работу. Тебя, конечно, ничему не учили, но ты все-таки постарайся как следует, а мы будем подсказывать тебе, что и как надо делать.
— Ты не можешь и впредь оставаться таким, какой ты сейчас, — сказал пожилой. — У нас так не полагается. Мужчина, не прошедший обряда инициации, — это опасность для всей деревни и позор для его сородичей. Над ним занесена когтистая лапа Энну-Амбы, от него убегают стада Суа, так что идем. Идем скорей. — И он повернулся, чтобы идти прочь.
Я быстро спустился вниз, и они сразу окружили меня, а тот человек с палкой коснулся моей головы перьями белой цапли. Он сделал это без улыбки, но я почувствовал, что намерения у него добрые. Остальные, обступив меня со всех сторон, держались холодно, сурово и почти надменно. Мы пошли прямиком к каноэ, сели в него и оттолкнулись от берега. «Ложись на дно», — шепнул мне Перо Цапли. Я послушался и лег между ногами гребцов, разглядывая дно лодки. Оказалось, что и лодка тоже сделана из циновок, несколько раз крепко прошитых и несколько раз покрытых какой-то прозрачной пленкой вроде лака, так что борта и днище были одновременно и прочными, как металл, и достаточно гибкими.
Выплыв на середину озера, гребцы осушили свои весла-лопатки, и каноэ как бы повисло, со всех сторон окруженное тишиной. И в этой тишине какой-то человек вдруг запел. Но на этот раз слов я совершенно не понимал. Теперь-то я думаю, что пел он, скорее всего, на аританском языке, древнем языке Западного побережья, в течение многих веков бережно хранимом жителями Болот и используемом во время отправления священных обрядов и ритуалов. Впрочем, не уверен. Пение продолжалось довольно долго, порой тот человек пел один, порой к нему присоединялись еще несколько голосов. Я же по-прежнему неподвижно, точно покойник, лежал на дне лодки, отчасти погрузившись в некий транс, из которого меня вывел Перо Цапли, шепнув: «Ты плавать-то умеешь?» Я кивнул. «Ладно, но выныривай с той стороны», — прошептал он. И тут меня подхватили несколько человек, словно я и впрямь был трупом, раскачали и, подбросив высоко в воздух, вышвырнули из лодки головой вперед.
Я так неожиданно плюхнулся в воду, что сразу не понял, что же произошло. Вынырнув и стряхнув воду с ресниц, я увидел над собой борт каноэ и вспомнил слова, которые сказал мне Перо Цапли: «Выныривай с той стороны». Я снова нырнул, проплыл под лодкой, снизу казавшейся огромной, и снова вынырнул, жадно хватая ртом воздух, точно у противоположного борта. Там я некоторое время повисел, разгребая руками воду и глядя на мужчин в каноэ. Перо Цапли, потрясая своим «жезлом», кричал: «Хийи! Хийи!», затем протянул мне тот его конец, где не было перьев, я ухватился за него и забрался в каноэ. Меня сразу подхватили несколько пар рук, помогли сесть, и я почувствовал, как на голову мне что-то с силой надели — больше всего это было похоже на деревянный ящик, доходивший мне почти до плеч. Я даже шевельнуться внутри его не мог и ничего не видел, кроме узкой полоски света под самым подбородком. Перо Цапли снова закричал: «Хийи!», затем послышался смех и одобрительные возгласы. Видимо, все получилось как надо. Меня с чем-то поздравляли, а я сидел, накрытый этим дурацким ящиком, и даже не пытался понять сути происходящего со мною.
То, что я рассказываю об этом обряде, никакой тайны собой не представляет; смотреть на это может каждый. Рыбаки, ловившие там рыбу, тоже подплыли поближе и с любопытством наблюдали за происходящим. Но как только на голове у меня оказался тот ящик, мы тут же на большой скорости понеслись туда, где и должен был завершиться обряд моего посвящения.
Ферузи обитали в пяти деревнях: в той, где я когда-то родился, носившей название Восточное Озеро, и в четырех других, расположенных в нескольких милях друг от друга. Для завершения обряда инициации меня отвезли в деревню Южный Берег, самую большую из всех, где хранились священные артефакты. А такие большие каноэ, как то, на котором мы плыли, здесь называли «военными», но не потому, что народы Болот когда-либо воевали с другими народами или друг с другом, а потому, что мужчинам нравилось считать себя воинами; собственно, только мужчины и имели право плавать на таких больших каноэ. Тот ящик, что напялили мне на голову, оказался маской. И пока эта маска была на мне, меня называли Дитя Энну. Народ рассиу верит, что богиня-кошка Энну-Me способна принимать и другое обличье, Энну-Амбы, черной болотной львицы. Вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать об инициации. Когда все было кончено, лицо у меня оказалось украшено искусной татуировкой — двумя черными линиями, спускавшимися от висков к подбородку. У меня такая темная кожа, что эти линии теперь едва заметны. Вернувшись после обряда посвящения в деревню Восточное Озеро, я увидел, что у всех тамошних мужчин по обе стороны лица тянутся такие же черные линии, а у большей части этих линий даже по две или больше.
И теперь, после прохождения обряда, я стал не просто взрослым: я стал одним из них.
Хотя, конечно, им-то я по-прежнему казался очень странным, этакой ходячей нелепостью. И по-прежнему крайне мало знал об их жизни. Но теперь они все-таки давали мне понять, что я не так уж безнадежно глуп и даже обладаю кое-какими многообещающими навыками — например, неплохо ловлю рыбу на удочку.
И обращались со мной по-прежнему — как с мальчишкой. В тех краях мальчик обычно переходит из женской деревни в мужскую сразу после обряда инициации, то есть лет в тринадцать, и живет там несколько лет с кем-то из своих старших родственников — с братом матери, или со своим старшим братом, или, что бывает реже, с отцом. Отцовство на Болотах считается куда менее важным, чем родственные связи внутри материнского семейства; по матери определяется и тот клан, к которому ты принадлежишь.
В мужской деревне мальчики учились мужской работе: ловить рыбу, строить лодки, охотиться на птиц, сажать и собирать рисовую траву, рубить тростник. Женщины у себя в деревне разводили домашнюю птицу и скот, возделывали сады и огороды, плели из тростника циновки и ткали ткани; не менее важными занятиями считались также готовка пищи и запасание продуктов впрок. Мальчики старше семи-восьми лет, живущие в женской деревне, не должны были делать женскую работу; от них этого не только не ожидали, но и не позволяли им этим заниматься, так что в мужскую деревню подростки являлись обленившимися, невежественными и, в общем, никчемными. Во всяком случае, взрослые мужчины не уставали им это повторять. Мальчиков, однако, никогда не били — я, например, ни разу не видел, чтобы рассиу ударил другого человека, или собаку, или кошку, — но отчаянно бранили и дразнили почем зря, а также все без конца им что-то приказывали и неустанно критиковали их на неумелость, пока они более-менее не осваивали какое-нибудь мастерство. После этого они проходили второй обряд посвящения — окончательно становясь взрослыми людьми и получая разрешение жить самостоятельно, в отдельной хижине, одни или с друзьями. Но вторую ступень инициации, как я уже сказал, разрешалось преодолевать только после того, как старейшины придут к выводу, что тот или иной юноша овладел хотя бы одним мастерством. Но бывало и так, рассказывали мне, что кто-то из юнцов отказывался во второй раз проходить этот обряд и предпочитал вернуться в женскую деревню и жить там как женщина до конца своих дней.
У моего дяди было несколько жен. А у некоторых женщин рассиу было по несколько мужей. Собственно, брачная церемония заключалась в том, что двое будущих супругов заявляли во время ежедневного обмена продуктами у «рыбной циновки»: «Мы поженились!», вот и все. Между двумя деревнями — женской и мужской — было разбросано немало крошечных хижин со стенами из тростниковых циновок, где едва помещалась лежанка или толстая циновка из тростника, служившая постелью. Этими хижинами свободно пользовались мужчины и женщины, желавшие спать вместе и заявившие об этом у «рыбной циновки» или во время личных встреч на лесной тропе или в полях. Если какая-то пара решала пожениться, мужчина строил брачную хижину, и его жена или жены приходили туда в условленное время. Я как-то спросил своего дядю, когда он вечером в очередной раз собрался уходить, к которой из жен он сейчас направляется, и он, застенчиво улыбнувшись, сказал: «О, ну это они сами решают».
Наблюдая, как флиртуют и женихаются молодые люди, я понял, что в плане женитьбы успех в значительной степени зависит от умения мужчины ловить рыбу и умения женщины вкусно ее готовить. Этот ежедневный обмен сырья на готовую еду и происходил у «рыбной циновки». Женщины приносили жареную и вареную птицу, молочные продукты, овощи и вообще гораздо больше всевозможной еды, чем могли обеспечить мужчины с помощью одной лишь рыбной ловли, однако принесенные женщинами масло, сыр, яйца и овощи принимались как нечто само собой разумеющееся, тогда как каждая пойманная мужчинами рыбка вызывала массу шумных восторгов.
Теперь я понимал, почему у Аммеды всегда был несколько пристыженный вид, когда он готовил пойманную мной рыбу. В мужской деревне никто никогда ничего не готовил. Мальчики и неженатые молодые люди должны были договариваться и заключать сделку с кем-то из женщин или же просто к кому-то подольщаться, чтобы получить обед; в крайнем случае они брали себе то, что осталось после разбора на «рыбной циновке». Вкус у моего дяди — как в отношении женщин, так и их кулинарных способностей — был просто отменный, и я, пока жил у него, питался просто роскошно.
После инициации я прожил год как Айтан Сидой из народа рассиу, учась необходимым мужским умениям: ловить рыбу, сажать и собирать «рисовую траву», рубить тростник и складывать его на хранение. С луком и стрелами я толком управляться так и не научился, так что меня и не просили вылезти из лодки и подстрелить какую-нибудь дичь, хотя других юношей довольно часто просили об этом. Я помогал дяде забрасывать сети и верши, а пока не приходило время их вытягивать, весьма успешно ловил рыбу на удочку. Мои способности в этом деле быстро заслужили всеобщее признание и одобрение. Мы с Меттером часто брали с собой кого-то из мальчишек, вооруженных луком, чтобы он мог подстрелить какую-нибудь водную птицу; это было огромной радостью для старой Минки — ей позволялось прыгнуть в воду за подстреленным гусем или уткой, притащить птицу в лодку, а потом, гордо махая хвостом, выпрыгнуть с ней на берег. Минки всегда отдавала своих птиц Пьюмо, старшей жене моего дяди, и та каждый раз от всей души благодарила старую собаку.
Сажать и собирать «рисовую траву» — это, по-моему, самое легкое дело на свете. Осенью отплываешь по шелковой синей воде к северному берегу озера, где рисовые островки расположены рядом друг с другом, и, отталкиваясь шестом, медленно плывешь по крошечным протокам между ними, разбрасывая направо и налево пригоршни мелких, темных, сладко пахнущих семян. Затем поздней весной возвращаешься, наклоняешь высоченные стебли над лодкой и стряхиваешь туда созревшие семена при помощи маленьких деревянных грабелек, пока лодка до половины не наполнится зерном. Помнится, женщины частенько подшучивали над тем, сколько шуму поднимают мужчины, говоря о посеве и сборе дикого риса, точно о некоем «особом умении»; однако сами они всегда принимали полные мешки собранного нами риса с похвалами и благодарностью во время сборов у «рыбной циновки», приговаривая: «Вот уж я накормлю тебя до отвала!» Кстати, то, что они готовили из зерен дикого риса, было почти так же вкусно, как моя любимая каша из пшеницы.
А вот рубка тростника была работой действительно очень тяжелой. Этим приходилось особенно много заниматься в конце осени и в начале зимы, когда погода становилась пасмурной, холодной и дождливой. Но, когда я немного привык стоять целыми днями в воде два-три фута глубиной и махать изогнутым серпом, соблюдая тройной ритм — срезал, собрал в пучок, передал вязальщикам, — а мне эта работа стала даже нравиться. Тростник нужно увязывать в снопы быстро, пока он снова не рассыпался на отдельные стебли и не уплыл по течению, и сразу укладывать эти тяжелые снопы в лодку. У нас сложилась отличная компания молодых ребят, и мы весьма ревностно относились к возможности показать свою сноровку в этом нелегком деле; впрочем, ко мне, новичку, все относились по-доброму, и эта тяжелая работа всегда скрашивалась бесконечным запасом всевозможных шуток, прибауток, сплетен и песен, которые мы вместе с моими новыми друзьями с наслаждением орали в зарослях тростника, несмотря на противный осенний дождь и холодный ветер. Старшие мужчины резать тростник отправлялись очень редко; мешал ревматизм, который здесь почти все заполучали еще в юности.
Теперь я понимаю, что жизнь на Болотах была достаточно скучна и однообразна, но тогда это было именно то, в чем я нуждался. Такая жизнь давала мне достаточно времени не только для того, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье, но и для размышлений, для взросления моей души и тела, которое, в общем, особенно взрослеть не торопилось.
Особенно спокойной, даже ленивой была вторая половина зимы. К этому времени тростник был нарезан и передан женщинам для превращения в циновки и ткани, и мужчинам заняться было особенно нечем. Работы хватало только у тех, кто строил лодки. В общем-то, все было неплохо, и меня раздражали, даже угнетали, только постоянная сырость, туманы и холод. Единственным источником тепла в хижине был крошечный очаг — точнее, керамический горшок, наполненный тлеющими углями. Так что, если выдавался солнечный денек, я уходил из холодной хижины на берег и смотрел, как строят лодки. Это было тонкое и точное мастерство. Лодки рассиу славились повсеместно. Например, большое, «военное», каноэ казалось мне похожим на стихотворную строку, в которой нет ничего лишнего, а потому поистине совершенную. Так что если я не сидел, скорчившись, у глиняного горшка-очага, предаваясь воспоминаниям и мечтам, то торчал на берегу, с восхищением наблюдая, как лодка прямо на глазах растет и приобретает свои изящные легкие формы. Я тоже понемногу кое-что мастерил и сделал для односельчан немало удочек, лесок и крючков; кроме того, если не было слишком сильного дождя, я ходил ловить рыбу, а также в гости — поболтать со своими новыми приятелями из числа деревенской молодежи.
Хотя женщины никогда даже не заглядывали в мужскую деревню, как, впрочем, и мужчины в женскую, для встреч у них имелось сколько угодно других мест. Мужчины и женщины с удовольствием болтали друг с другом, собравшись у «рыбной циновки», или во время рыбной ловли на озере — ибо женщины тоже ловили рыбу, особенно угрей, — или встречаясь на заросших высокой травой пастбищах для скота, расположенных подальше от берега, в более сухих местах. То, что я был удачлив в рыбной ловле, помогло мне завести друзей и среди девушек, которые с удовольствием обменивали приготовленную ими еду на мой улов. Девушки постоянно, хотя и добродушно, меня поддразнивали и даже слегка со мной флиртовали. Мы также очень любили небольшой компанией — несколько девушек и юношей — прогуливаться по берегу озера или по тропе, ведущей в луга. Уединяться парочкам было запрещено до прохождения второй инициации, и юноши, нарушившие этот закон, пожизненно изгонялись из родной деревни, так что мы старались держаться стайкой. Из девушек мне больше всех была по душе Тиссо Бету по прозвищу Сверчок. Ее прозвали так за узкое лицо с высокими скулами и чуть впалыми щеками и худенькое тело. Она была умненькой, очень доброй и веселой, любила посмеяться и старалась всегда как-то ответить на мои вопросы, а не пялила на меня удивленно глаза, как это делали обычно деревенские, приговаривавшие: «Ну, Гэвир, это же все знают!»
Однажды я спросил у Тиссо, принято ли у них рассказывать друг другу всякие истории. Дождливые осенние дни и зимние вечера были такими долгими и скучными, что я постоянно держал ушки на макушке, надеясь услышать где-нибудь сказку или песню, но темы для разговоров как среди молодежи, так и среди взрослых людей были здесь весьма немногочисленны и без конца повторялись: события минувшего дня, планы на завтра, еда, женщины, очень редко незначительные новости, которые принес кто-то из другой деревни или встретившись с кем-то на озере или в лугах. Я бы с удовольствием развлек их, да и себя самого, какой-нибудь историей, как развлекал банду Бриджина и приятелей Барны. Но здесь, похоже, это принято не было. Я знал, что «всякие иноземные выдумки», как и любая попытка переменить устойчивый здешний распорядок вещей, жителями Болот отнюдь не приветствуются, так что у мужчин я и не спрашивал. Но, разговаривая с Тиссо, я не очень боялся попасть впросак, а потому спросил ее напрямик: неужели никто здесь даже сказки не рассказывает, не поет песен, не повествует о великом прошлом своего народа? Она рассмеялась:
— И поем, и рассказываем.
— Кто? Женщины?
— Ао.
— А мужчины?
— Энг. — Она захихикала.
— Почему же нет?
Этого она не знала. А когда я попросил ее рассказать мне какую-нибудь из историй, какую наверняка мог бы услышать, если бы, как и она, вырос в женской деревне, это ее буквально потрясло.
— Ой, Гэвир, я не могу!
— Значит, и я не могу рассказывать тебе те истории, которые давно знаю?
— Энг, энг, энг, — прошептала она. «Нет, нет, нет».
А еще мне очень хотелось поговорить с моей теткой Гегемер и расспросить ее о моей матери. Но Гегемер по-прежнему держалась отстраненно. Я не понимал почему и спросил об этом у девушек. Они смутились и ничего толком мне не ответили. Похоже было, что Гегемер Айтано — женщина весьма властная, обладающая некими особыми возможностями или умениями, и в деревне ее не слишком любят. Однажды зимой мы с Тиссо Бету прогуливались по пастбищам, чуть отстав от остальных, и я спросил ее, почему моя тетка не желает даже просто поговорить со мной.
— Ну, она же амбамер! — удивилась моему вопросу Тиссо. Слово «амбамер» означало «дочь болотного льва», это я знал, но мне пришлось все же попросить Тиссо объяснить, что это значит в жизни.
Она задумалась и ответила:
— Это значит, что она может видеть весь мир насквозь. И слышать голоса из самого далекого далека. — Тиссо посмотрела на меня, проверяя, понял ли я, что это значит. Я кивнул, хоть и не слишком уверенно. И она продолжила: — Гегемер иногда слышит, что говорят мертвые. Или те люди, которые еще не родились. В доме старух, где они поют особые песни, в нее вселяется сама Энну-Амба, и в этом обличье она может бродить по всему свету и видеть все, что уже произошло или еще только должно произойти. Знаешь, другие люди у нас тоже обладают похожими способностями, но только в детстве, но тогда они этого еще толком не понимают. Но уж если Энну-Амба берет себе в дочери какую-то девочку, та обретает способность видеть и слышать все на свете до конца своей жизни и из-за этого, по-моему, становится немного странной. — Тиссо опять ненадолго задумалась. — Знаешь, Гегемер ведь пыталась рассказать людям, что она видела, но мужчины даже слушать ее не захотели. Мужчины утверждают, что только им дана способность видеть прошлое и будущее; они говорят: «все эти амбамер — просто сумасшедшие», но моя мама рассказывала мне, что Гегемер Айтано видела ядовитый прилив — когда множество людей с Западных Болот, где все собирают и едят моллюсков, заболели и умерли, — задолго до того, как это случилось. Она увидела это, когда сама была еще ребенком… А еще Гегемер знает, кто в деревне должен вскоре умереть, и люди из-за этого ее боятся. Или, может, она и сама из-за этого их боится… И она, например, часто предсказывает, будет ли у той или другой девушки ребенок, причем задолго до того, как эта девушка действительно выйдет замуж и забеременеет. Я сама слышала, как она говорила: «Я видела, как смеется твой ребенок, Йенни». А Йенни плакала и смеялась, она была ужасно рада это слышать, потому что давно хотела ребенка, но так ни одного и не родила. А через год у нее действительно ребеночек родился!
Все это давало мне богатую пищу для размышлений. Но ответа на свой вопрос я по-прежнему не находил.
— И все-таки я не понимаю, почему моя тетка так меня не любит, — сказал я.
— Хорошо, я расскажу тебе о том, что узнала от мамы, только ты обещай, что больше никому из мужчин этого не скажешь. — Я пообещал хранить молчание, и Тиссо объяснила: — Видишь ли, Гегемер все пыталась узнать, что случилось с ее сестрой Тано и племянниками. Она много лет пыталась это сделать. Наши старухи специально для нее устраивали песнопения, которые продолжались очень долго. Гегемер даже какие-то особые снадобья принимала, а амбамер не должна никаких таких снадобий принимать. Но Энну-Амба все равно не позволяла ей увидеть сестру или племянников. А потом… потом вдруг в деревню явился ты, а она до этого так ни разу и не смогла тебя увидеть, хотя очень старалась… И не угадала, кто ты, пока ты не назвал свое имя. И все его услышали. А Гегемер была посрамлена, и теперь она считает, что совершила непростительную ошибку, что Амба наказывает ее, потому что она отпустила Тано одну так далеко на юг и виновата в том, что солдаты изнасиловали Тано, а тебя и твою сестру продали в рабство. И она думает, что ты это знаешь. — Я хотел возразить, но Тиссо не дала мне сказать ни слова. — Знаешь душой, сердцем, а не разумом. Это ведь совсем не важно, если разумом ты чего-то не знаешь или не понимаешь, если это знает и понимает твоя душа. Так что ты для Гегемер словно живой упрек. Ты омрачаешь ей душу.
— Это она омрачает мне душу, — возразил я.
— Да, конечно, я понимаю, — печально согласилась Тиссо.
Даже странно, до чего Тиссо оказалась похожей на Сотур! Во многом очень разные, они были одинаковы в своей способности мгновенно проявить сочувствие, понять чье-то горе, пожалеть человека — причем без лишних слов.
Я оставил мысль о том, чтобы как-то сблизиться с теткой, пробиться к ней сквозь прочную броню ее вины и обиды. Но страстно мечтал узнать как можно больше о ее необычных способностях и о том, на что Тиссо намекнула, сказав, что многие жители Болот тоже обладают подобными способностями, но только в детстве. Вот что не давало мне покоя. Однако границы, отделявшие здесь мужские знания от знаний женских, соблюдались не менее строго, чем границы, пролегавшие между мужской и женской деревнями. Тиссо и без того тревожилась, так много рассказав мне о том, чего мне знать было не положено, и я не мог на нее давить и без конца о чем-то выспрашивать. А другие девушки, стоило мне задать хоть самый чепуховый вопрос, касавшийся «женских таинств», тут же начинали ухать, как совы, или трещать, как зимородки, чтобы меня не слышать и не дать мне договорить — их пугало, что я нарушаю давно установленные правила, а кроме того, это был дополнительный повод посмеяться надо мной и сообщить мне, что я «тупица» и «невежда».
А у своих приятелей я и вовсе не решался спрашивать о странной способности некоторых жителей Болот видеть прошлое и будущее. Я и так слишком сильно от них отличался, и подобные разговоры лишь еще больше способствовали бы моему отстранению. Расспрашивать моего дядю Меггера было совершенно бесполезно: он сторонился всяческих тайн и загадок и искал лишь покоя, причем именно там, где его было легче всего обрести. Самым добрым из жителей деревни я считал Раву, но он, во-первых, был старейшиной и главой своего клана, а во-вторых, очень много времени проводил в деревне Южный Берег. В общем, получалось, что есть только один человек, которому могли бы понравиться мои вопросы: старый Перок. Он действительно был очень стар и сед; исхудалое лицо его избороздили глубокие морщины; конечности скрючил ревматизм, причинявший ему постоянные страдания. Его истерзанные артритом пальцы мало на что уже годились, однако он искусно плел и чинил рыбацкие сети, и хотя работал он медленно, но делал все исключительно хорошо. Перок жил в крошечной хижине вместе с двумя кошками. Говорил он немного, но со мной всегда был ласков. Часто его настолько одолевала болезненная хромота, что он даже к «рыбной циновке» пойти не мог. Тиссо или ее мать приносили для него еду и передавали ее через меня. Я приносил приготовленные ими кушанья к хижине старика, ставил на настил и сообщал: «Это тебе от Лали Бету, дядюшка Перок». Мы, молодежь, как я уже говорил, всех стариков называли «дядюшка».
При ясной погоде Перок обычно сидел на солнышке и возился с сетью или просто смотрел куда-то за травянистые луга, что-то напевая себе под нос. Когда я приносил ему еду, он прерывал свои занятия и ласково благодарил меня, но стоило мне отвернуться, как монотонное пение тут же возобновлялось. Если вслушаться, то полупонятные слова начинали складываться в некую странную песню о болотном льве, о повелителях рыб, о царе цапель… Это были первые серьезные песни, которые я вообще услышал в краю ферузи, которые, по крайней мере, намекали, что за ними таится некая история. И вот однажды, поставив на настил тростниковую коробку с едой, я сказал: «Это тебе от Лали Бету, дядюшка Перок», но, когда он поблагодарил меня, я не ушел, как всегда, а спросил у него:
— Скажи, дядюшка Перок, что это за песни ты поешь?
Он удивленно вскинул на меня глаза и тут же снова их опустил, некоторое время продолжая работать; затем вдруг отложил свою сеть и снова внимательно посмотрел на меня.
— После того как пройдешь второй обряд, скажу, — промолвил он.
Именно этого я и боялся. Спорить со священными законами рассиу было совершенно бессмысленно. Я пожал плечами и сказал:
— Анх.
Но Перок, видно, понял, что у меня есть еще вопросы, и ждал, когда я их задам.
— Неужели все истории рассиу священны?
Старик некоторое время задумчиво меня изучал, потом кивнул: — Ао.
— Значит, мне нельзя даже послушать, как ты поешь?
— Энг, — мягко запретил он. — Позже. Когда побываешь во дворце царя. — Он смотрел на меня с явной симпатией. — Там ты и выучишь эти песни, как и я когда-то.
— Это дворец царя цапель?
Он кивнул и тут же прошептал:
— Энг, энг! — и приложил палец к губам, запрещая мне задавать подобные вопросы. Потом снова повторил: — Позже. Уже скоро.
— И здесь нет таких историй, которые не считались бы священными?
— Есть, но их рассказывают женщины и дети. Для мужчин они не годятся.
— Но ведь существуют же всякие истории о героях — например, о Хамнеде, о великом герое древности, который скитался по всему Западному побережью, и…
Перок некоторое время молчал, качая головой, потом сказал:
— Сюда, на Болота, он не приходил. — И снова склонился над своей работой.
Так что все сказки, басни, исторические хроники и поэмы так и остались у меня в голове взаперти; они молчали, как и книга Каспро, что покоилась, завернутая в тростниковую ткань, в доме моего дяди, единственная книга во всем краю ферузи и никем здесь не прочитанная.
Однажды весенним днем я в одиночестве удил рыбу. Дядя Меттер ушел вместе с кем-то на озеро ставить сети. Старая Минки, как всегда запрыгнув ко мне в лодку, тут же уселась на носу и застыла, точно статуэтка с кудрявыми длинными ушами. Я поставил маленький парус и позволил ветерку медленно гнать лодку вдоль берега. Я ловил на удочку рыбу ритту; это небольшие придонные рыбешки с очень сладким и сочным мясом, но страшно ленивые. Вскоре мне тоже стало лень без конца таскать их из воды, и я, бросив это занятие, просто сидел в медленно плывущей лодке, любуясь шелковистой синевой озерной воды; вдали виднелись тростниковые островки, чуть дальше низкий зеленый берег, а еще дальше высился какой-то голубой холм…
И я вдруг понял: круг замкнулся; я вернулся к тем, самым ранним, самым первым своим «воспоминаниям», или видениям, оказавшись теперь как бы внутри этих воспоминаний.
И тут же на меня нахлынули и другие «воспоминания».
Я вспоминал улицы каких-то городов, огни домов, плотными рядами выстроившихся вдоль канала или пролива, темный булыжник незнакомой, круто уходящей вверх улицы, где гулял зимний ветер… затем мне вспомнилась площадь с фонтаном перед Аркамантом, и какая-то незнакомая мне башня над гаванью, полной судов, и какое-то большое здание с исхлестанными непогодой стенами из красного кирпича — все это возникло внезапно, в вихре иных образов и видений, которые толпились перед моим внутренним взором, тесня друг друга, и тут же ускользали прочь, прежде чем я успевал их ухватить, и снова передо мной всплывало то видение моего далекого раннего детства: голубая вода, голубое небо, низкие зеленые берега и далекий холм, окутанный голубоватой дымкой, — места, где я когда-то жил и где теперь вновь оказался…
Однако видения мои начинали слабеть, расплываться, да и Минки уже стала озираться по сторонам, оглядываясь в сторону дома, так что я неторопливо развернул лодку и поплыл к деревне. Возле «рыбной циновки» уже собирались люди. У меня, правда, имелось всего лишь несколько рыбешек ритта, но Тиссо и ее мать всегда приносили для меня какую-то еду, так что я взял то, что причиталось мне, а также долю Перока и пошел назад в мужскую деревню. Подойдя к дому Перока, который, как всегда, сидел и чинил тонкую сеть, я поставил его порцию на настил и сказал:
— Это от Лали Бету. Могу я задать тебе один вопрос, дядюшка?
— Анх.
— Всю жизнь с раннего детства меня посещают некие странные видения, которые я потом долго вспоминаю. Мне видится то, чего на самом деле я еще никогда не видел, такие места, в которых я никогда не бывал… — Я умолк, а он поднял голову и не сводил с меня мрачноватого взгляда. И я спросил: — Скажи, неужели все жители Болот обладают такой способностью? Это дар богов или проклятье? И есть ли здесь такие люди, которые могли бы объяснить мне, что это такое — мои видения?
— Да, — сказал он. — В деревне Южный Берег. И, по-моему, тебе надо туда отправиться.
Перок с трудом встал, спустился со своего настила вниз и пошел вместе со мной в хижину моего дяди Меггера. Дядя обедал, устроившись на настиле; рядом с ним с одной стороны сидела Минки, просительно постукивая хвостом по полу, а с другой — Прют, аккуратно обернув хвостом передние лапки. Меггер вежливо поздоровался с Пероком и предложил ему пообедать с ним вместе, но старик отказался.
— Гэвир Айтана был так добр, что принес мне еду от «рыбной циновки», — сказал он как-то, по-моему, чересчур торжественно. — Всем известно, Меггер Айтана, что в вашем роду было немало великих провидцев. Так ли это?
— Ао, — подтвердил мой дядя, не сводя со старика глаз.
— Вполне возможно, что и Гэвир Айтана тоже обладает такими способностями. Хорошо бы сообщить об этом Хранителям.
— Анх, — согласился дядя, внимательно глядя уже на меня.
— Кстати, сеть твоя будет завтра готова, — совсем другим тоном сообщил ему Перок и захромал обратно к своей хижине.
Я сел рядом с дядей и принялся за свой обед. Мать Тиссо принесла мне отличные рыбные лепешки, завернутые в листья салата и приправленные острейшим соусом из жгучего перца.
— Пожалуй, мне действительно надо съездить в Южный Берег, — сказал мне дядя. — Или, может, лучше сперва с Гегемер поговорить? Но ведь она… Нет, наверное, лучше просто съездить… не знаю.
— Можно и мне с тобой?
Минки тут же просительно застучала хвостом об пол.
— Да, пожалуй, так даже лучше будет, — с облегчением разрешил он мне.
И на следующий день мы с ним поплыли в деревню Южный Берег, где я проходил обряд посвящения. Меггер, похоже, понятия не имел, что нужно делать и к кому обращаться, так что, как только мы туда добрались, я прямиком направился к Большому Дому, где хранились всякие священные вещи и отправлялись различные обряды. Это было самое большое строение из всех, какие я видел на Болотах, с прочными стенами из тростника, в несколько слоев покрытого лаком — примерно так же здесь мастерят и «военные» каноэ, о чем я уже рассказывал, — и с высокой тростниковой кровлей. На огороженном дворе перед Большим Домом не было совершенно никакой растительности, лишь посредине — небольшой прудик и огромная старая плакучая ива. Сам дом выглядел очень мрачно; казалось, внутри у него царит кромешная темнота, вызывающая священный ужас и смутные воспоминания об обряде инициации. Мы с Меггером туда войти не осмелились и в полном молчании ждали возле пруда, пока во двор кто-нибудь не выйдет. Я-то сперва думал, что мы отыщем в деревне каких-то представителей нашего рода Айтану и спросим у них совета, но мой дядя, видно, не считал это необходимым. Как только из дома показался какой-то человек, он бросился к нему и принялся объяснять, что его племянник, то есть я, обладает способностью видеть странные вещи. Этот незнакомец был одноглазым и в руке держал метлу — он явно вышел, чтобы подмести двор, — так что я попытался остановить Меттера, который продолжал скороговоркой вываливать все человеку, который явно ничего решить не мог и был здесь просто дворником, но Меггер умолк, лишь сказав все, что считал нужным. Человек с метлой кивнул, приосанился и сказал:
— Хорошо. Я все расскажу моему двоюродному брату Дороду Айтана, провидцу с Тростниковых Островов, и он, возможно, определит, годится ли твой племянник для обучения. Видно, сама Энну-Амба направила ваши стопы и привела вас ко мне! Ступайте с миром. Да хранит вас великая Энну-Ме!
— И тебя да хранит Энну-Ме, — с благодарностью откликнулся Меггер. — Идем, Гэвир. Все устроено. — Ему явно не терпелось поскорее уйти подальше от этого страшного дома с темным разверстым входом, так что мы прямиком направились к причалам, сели в лодку, которую охраняла верная Минки, свернувшись клубком на корме, и поплыли домой.
Я не слишком-то поверил хвастливым заверениям того одноглазого. Мне казалось, что если я действительно хочу что-то узнать о природе своих видений, то мне надо действовать самостоятельно.
И, собравшись с мужеством, во время очередного схода у «рыбной циновки» я решительно подошел к своей тетке Гегемер. Я только что обменял неплохой улов ритты на отличного толстого гуся, которого тщательно ощипал и вымыл. Я уже не раз видел, что мужчины, пытаясь завоевать расположение той или иной женщины, как раз и делают подобные подношения, а потому положил гуся перед Гегемер и сказал несколько нахальнее, чем собирался:
— Тетушка, я бы хотел получить от тебя совет и помощь. — Все-таки Гегемер была, безусловно, потрясающей женщиной, к которой просто так подойти и заговорить было невозможно.
Сперва она вообще никак на меня не прореагировала и гуся не взяла. Я прямо-таки чувствовал, как она напряжена и как ей не хочется мне отвечать. Но в конце концов она все-таки взяла мое подношение и кивком указала мне в сторону садов и огородов, где мужчины и женщины часто встречались для бесед. Туда мы с ней и направились в полном молчании; по дороге я все думал, с чего именно мне начать, и когда она остановилась у рядка старых карликовых вишен и повернулась ко мне лицом, я сразу выпалил:
— Я знаю, тетя, что ты наделена великими способностями. Я знаю, что порой ты можешь видеть наш мир насквозь, видеть его прошлое и будущее и бродить по нему вместе с Энну-Амбой.
К моему великому изумлению, она рассмеялась, чуть удивленно, и довольно язвительным тоном сказала:
— Ха! Вот уж никогда не думала, что услышу это от мужчины!
Это меня озадачило; я заколебался, но все же сумел заставить себя продолжить.
— Я очень мало знаю, — сказал я, — но у меня, по-моему, есть две различные способности: я могу очень точно запоминать и воспроизводить все то, что когда-либо слышал или видел. К тому же я порой как бы «вспоминаю» и то, чего со мной никогда еще не случалось, чего я никогда не слышал и не видел… — Я запнулся и стал ждать, что она скажет.
Она слегка отвернулась, погладила кривоватый шершавый ствол крошечного вишневого деревца и спросила все с той же злой насмешливостью:
— И что же я, женщина, могу сделать для мужчины, обладающего такими способностями?
— Ты можешь объяснить мне, что это такое. Как мне понимать эти видения? Можно ли их как-то использовать? Там, где я раньше жил, в том большом городе, а также в Данеранском лесу, ни у кого больше таких способностей не было. Я думал, что если смогу вернуться к своему народу, то там, возможно, мне объяснят, что к чему. Но, по-моему, никто здесь этого не может или не хочет, кроме тебя.
Она совсем от меня отвернулась и довольно долго молчала. Наконец она посмотрела мне прямо в лицо и сказала:
— Я могла бы чему-то научить тебя, Гэвир, если бы ты вырос в родной деревне. — Только сейчас я заметил, как крепко она сжимает губы, чтоб не дрожали. — А теперь слишком поздно. Слишком поздно, Гэвир. Женщина ничему не может научить мужчину. И ты должен был понять это еще там, где жил раньше!
Я ничего не сказал ей в ответ, но она, видно, прочла по моему лицу, что я с нею не согласен и что она причинила мне сильную боль.
— Что же мне еще сказать тебе, сын моей сестры? — горестно воскликнула она. — Ты действительно обладаешь всеми этими способностями. Тано могла пересказать любую историю, которую хоть раз слышала, и повторить слово в слово то, что случайно услышала несколько лет назад. И я действительно могу «бродить по миру вместе с Энну-Амбой», как ты выразился, — что бы это ни значило в моей жизни. Возвращать прошлое с помощью своей памяти — это великий дар. И «помнить» то, чего еще не было, — дар не менее великий. Как этим пользоваться, спрашиваешь ты меня? Я не знаю. И никогда этого не знала. Возможно, это знают мужчины, которые свысока смотрят на женщин и на то, что женщинам «мерещится», считая эти видения бессмысленными и глупыми. Спроси у них! Я же тебе ничего сказать не могу. Но прошу тебя: береги свой второй дар, тот, которым обладала и твоя мать Тано, ибо этот дар, по крайней мере, не сведет тебя с ума!
Она больше на меня не смотрела и глаза то и дело отводила в сторону, но я заметил, как яростно они сверкают, непроницаемые и черные, как у вороны. И голоса наши звучали на удивление похоже.
— Что хорошего в моей памяти, во всех тех историях, которые я помню, если мужчинам не разрешается ни рассказывать их, ни слушать? — сказал я, чувствуя, как мой гнев, с таким трудом сдерживаемый, вновь вскипает и рвется навстречу ее яростному гневу.
— Ничего хорошего, — согласилась она. — Тебе бы следовало родиться женщиной, Гэвир Айтана. Тогда по крайней мере один из тех даров, какими ты обладаешь, возможно, принес бы тебе счастье.
— Но я не женщина, Гегемер Айтано, — с горечью промолвил я.
Она искоса глянула на меня, и выражение ее лица переменилось.
— Нет, — сказала она. — Но пока еще и не совсем мужчина. Хотя вскоре ты им станешь. — Она помолчала, глубоко вздохнула и снова заговорила: — Если хочешь, я дам тебе один совет, хотя вряд ли ты им воспользуешься. Видишь ли, пока ты помнишь себя, с тобой ничего плохого случиться не может. Но как только ты начнешь помнить дальше и шире, ты начнешь терять себя… ты начнешь блуждать в лесу собственных воспоминаний и видений. Не теряй себя, сын Тано Айтано! Держись собственной жизни. Помни себя. Никто не говорил мне, что нужно делать именно так. Никто, кроме меня, не скажет и тебе, как именно следует поступать. Что ж, рискни. А я, если когда-нибудь увижу тебя во время своих «прогулок со львом», непременно расскажу тебе, что видела. Иного подарка у меня для тебя, увы, нет. Ответного подарка, — и она, точно поясняя, что имеет в виду, качнула тушкой гуся, держа его за перепончатые красные лапы, потом нахмурилась и ушла.
А поздней весной, когда уже совсем потеплело, я однажды вернулся вместе с Минки и дядей с рыбной ловли и увидел, что на нашем настиле сидят двое незнакомцев. Один из них, высокий, довольно крепкого телосложения, не свойственного рассиу, был одет в длинную узкую рубаху из тончайшей тростниковой ткани, отбеленной так, что она стала почти белоснежной; я решил, что это, должно быть, какой-то жрец или чиновник. Второй человек выглядел совершенно обычно и казался очень молчаливым и застенчивым. Мужчина в длинной рубахе назвался Дородом Айтана и монотонно перечислил наши с ним сложные родственные связи. Тут Меттер вдруг сказал, что ему надо срочно отнести наш улов к «рыбной циновке», и поспешил убраться восвояси, тем более что этот Дород сказал, что они пришли поговорить именно со мной. Когда он ушел, Дород сказал, покровительственно мне улыбаясь:
— Мне говорили, что ты приходил к нам, в Южный Берег, и меня искал.
— Вполне возможно, просто я этого тогда еще не знал, — ответил я весьма распространенной среди жителей Болот фразой, помогающей им избежать как прямого отрицания, так и излишней ответственности.
— И ты никогда не видел меня в своих видениях?
— По-моему, никогда, — скромно ответил я.
— А между тем пути наши сближались уже довольно давно, — сообщил мне Дород. У него были глубокий сочный голос и весьма впечатляющая манера держаться. — Я знаю, что ты вырос среди чужеземцев и находишься в нашем краю всего лишь год. Меня известил о том, что ты наконец объявился, один наш сородич из Большого Дома. Ты ищешь учителя? Можешь считать, что уже нашел его. Я же нашел провидца, которого давно искал. А теперь мы с тобой отправимся в мою деревню Тростниковые Острова и как можно скорее начнем занятия. Ибо ты слишком поздно попал в родные края, слишком поздно. Тебе бы следовало уже несколько лет учиться тому, как правильно воспринимать свои видения. Ничего, мы постараемся непременно все наверстать, не теряя больше времени, верно? И если мы очень постараемся, ты уже через год или два войдешь в полную силу, но для этого тебе придется вкладывать в наши занятия всю душу. И тогда твоя вторая инициация станет для тебя не просто посвящением в рыбаки или рубщики тростника. Ты станешь провидцем своего клана! Сейчас в роду Айтану провидца нет. Его нет уже много лет. Так что мы тебя давно ждали, Гэвир Айтана! Ты был очень нам нужен!
Изо всего сказанного лишь эти последние слова действительно проникли мне в самое сердце. Разве мог я думать, что кто-то будет ждать моего прихода? Я, украденное у матери дитя, беглый раб, ставший для своего родного народа почти призраком, чувствующий себя повсюду чужим, разве мог я надеяться, что кто-то захочет меня ждать?
— Хорошо, я пойду с тобой, — сказал я Дороду Айтана.
Глава 13
Тростниковые Острова — это самая западная, самая маленькая и самая бедная из пяти деревень края. Ее домишки рассыпаны по островам и островкам залива в юго-западной части огромного озера Ферузи. Дород жил вместе со своим кротким и молчаливым двоюродным братом Темеком на болотистом, со всех сторон окруженном тростником крошечном мысу. В женской деревне женщин было совсем мало, гораздо меньше, чем мужчин в мужской, и эти женщины совсем мне не понравились: они казались какими-то равнодушными и надменными. В общем, в двух деревнях было, наверное, человек сорок, а брачных хижин всего четыре. А когда мужчины и женщины собирались у «рыбной циновки», это отнюдь не походило на те веселые ежевечерние встречи, к каким я привык в деревне Восточное Озеро.
В новой деревне я почти ни с кем так и не познакомился толком, если не считать самого Дорода. Он не давал мне ни минуты покоя, постоянно заставлял чем-то заниматься и старался держать подальше от остальных. Я тосковал по приятному, ни к чему не обязывающему, даже ленивому времяпрепровождению, когда можно было, если хочется, ловить рыбу вместе с дядей или приятелями, гулять, беседуя с Тиссо и другими девушками, или просто наблюдать, как делают лодки. Даже наиболее тяжелая работа — рубка тростника или сбор дикого риса — в деревне Восточное Озеро была временной. В таком неторопливом ритме, который, сознаюсь, порой нагонял на меня жуткую скуку, я прожил целый год и ни разу не почувствовал себя несчастным.
Здесь же мне приходилось каждый день отправляться на рыбную ловлю, и мы часто оставляли половину улова себе, ибо здешние женщины выращивали мало овощей и то количество еды, которое они приносили на обмен, было чересчур скудным. О фруктах нечего было и мечтать. Я, разумеется, мог бы и сам пожарить рыбу или даже приготовить рыбные лепешки с той мукой из грубых зерен, которые женщины мололи вручную, но для здешнего мужчины самостоятельно готовить еду означало вывернуть наизнанку все общественные устои, а меня в таком случае и вовсе тут же сочли бы изгоем. Так что мы с Дородом ели рыбу сырой, как и во время моего плавания с Аммедой, только у нас не было приправы из дикого хрена, чтобы хоть немного скрасить это поднадоевшее блюдо. На птиц здесь никто не охотился; дикие гуси, утки, лебеди и цапли в этой деревне находились под запретом и считались существами священными, хасса. Маленькие пресноводные улитки, весьма нежные на вкус, которых там было очень много, могли бы несколько разнообразить нашу диету, однако эти улитки время от времени, причем совершенно непредсказуемо, становились ядовитыми. Дород запрещал мне их есть и никогда не ел их сам.
Темек рассказал мне, что предыдущий ученик Дорода, совсем еще мальчишка, три года назад умер, как раз отравившись этими улитками.
Наши отношения с Дородом, надо сказать, не заладились. По природе я совсем не бунтарь, к тому же мне очень хотелось научиться тому, что он мне обещал: понимать свой дар и управлять им. Но пока что я научился лишь гораздо осторожнее и строже относиться к собственной доверчивости. А Дород между тем требовал от меня абсолютного доверия. Он постоянно мною командовал и вообще вел себя как самый настоящий деспот, ожидая от меня молчаливой покорности. Я же, прежде чем что-то сделать, требовал объяснить, зачем это нужно. Он отвечать отказывался. Ну а я отказывался подчиняться.
Так продолжалось примерно с полмесяца. Однажды утром он велел мне целый день стоять на коленях в хижине, закрыв глаза и повторяя слово «эрру». Два дня назад я уже стоял так и сказал ему, что мои колени еще не успели зажить с прошлого раза и трещины на них причиняют мне сильную боль. Он разозлился, заявил, что я должен делать то, что он мне велит, и ушел.
Я понял, что с меня довольно, и решил пешком по берегу вернуться в деревню Восточное Озеро.
Дород, заметив, что я закатываю свои пожитки в старое коричневое одеяло, которое кошка Прют успела здорово разодрать когтями, поскольку очень любила устроиться на моем одеяле и всласть поспать, с некоторой тревогой воскликнул:
— Гэвир, ты не можешь от меня уйти!
— А зачем мне у тебя оставаться, — ответил я, — если ты ничему меня не учишь?
— У каждого провидца должен быть проводник. Именно он истолковывает таинственные видения провидца, это его тяжкое бремя и святая обязанность.
Он часто употреблял подобные выражения и, надо сказать, делал это весьма авторитетно; по-моему, он действительно верил в свою «святую обязанность».
— Но ведь и провидцу нужно понимать, что и зачем он делает, — возразил я. — Во всяком случае, мне это совершенно необходимо. А ты требуешь от меня слепого послушания. С какой стати ясновидцу быть слепым?
— Тот, кому являются видения, обязательно должен иметь проводника, руководителя, — сказал Дород, — ибо он не может сам себя направлять. Ведь он блуждает среди своих видений, не сознавая, живет ли он сейчас, или в далеком прошлом, или улетел в грядущие годы. Ты ведь и сам, хотя твои путешествия во времени еще только начинаются, уже успел ощутить это. Никто не может пройти по этому опасному пути без проводника!
— Но моя тетя Гегемер…
— Ох уж эта амбамер! — презрительно фыркнул Дород. — Женщины вечно болтают всякую чушь! Поднимают визг и вой, стоит им мельком увидеть то, чего они совершенно не понимают. Фу! Ясновидец должен быть непременно хорошо обучен и непременно иметь проводника. Только так он сможет в полной мере служить своему народу, стать человеком поистине ценным для всех рассиу. И я могу сделать тебя таким, ибо мне ведомы все тайные приемы и методы этого обучения. Без настоящего проводника любой провидец ничуть не лучше глупой крикливой женщины!
— Ну что ж, возможно, я и не лучше женщины, — обиженно сказал я, — но я уже не ребенок. А ты обращаешься со мной, как с ребенком!
Разум Дорода с трудом постигал любую новую идею; он был почти столь же неразвитым и невежественным, как и большинство его сородичей, однако умел слушать и думать; кроме того, он обладал почти сверхъестественной чувствительностью к чужим настроениям. Видимо, мои слова нанесли ему весьма ощутимый удар, потому что он довольно долго молчал, потом наконец спросил:
— Сколько же тебе лет, Гэвир?
— Около семнадцати.
— Ясновидцев начинают учить гораздо раньше, с детства. Мой предыдущий ученик Убек умер, когда ему было двенадцать, а к себе я его взял, когда ему едва исполнилось семь. — Дород говорил медленно, словно о чем-то размышляя. — Ты уже прошел первый обряд посвящения, ты уже почти стал мужчиной. Тебя очень трудно учить. Только ребенка можно заставить полностью подчиняться своему учителю.
— Когда-то в детстве меня даже слишком хорошо научили доверять людям и подчиняться своему учителю! — сказал я с горечью. — Но с тех пор я поумнел, и теперь мне каждый раз хочется знать, кому и почему я должен доверять, кому и почему я должен подчиниться.
И снова он надолго задумался после моих слов.
— Сила твоей души такова, что тебе дано увидеть истину, — наконец изрек он, — именно к этому ты и должен стремиться вместе со своим проводником.
— Но раз я уже не ребенок, почему же я не могу сам стремиться к этому?
— Но кто же истолкует твои видения? — воскликнул Дород, явно изумленный.
— Истолкует мои видения? — с не меньшим удивлением переспросил я.
— Естественно! Я, например, должен научиться читать истину в твоих видениях, чтобы затем донести ее до людей. Такова задача проводника. Разве может ясновидец сам это сделать? — Заметив, что я сильно озадачен, он с воодушевлением продолжал: — Вот ты можешь сразу понять, что именно ты видишь, Гэвир? Ты можешь сказать, что тебе известны промелькнувшие перед твоим мысленным взором лица людей, разные места и времена? Можешь ты сразу истолковать значение увиденного тобою?
— Нет, это возможно, лишь когда увиденное мною становится прошлым, — признался я. — Но как же ты-то можешь понять, в чем смысл того, что вижу я?
— Таков уж мой талант! Если ты — глаза нашего народа, то я — твой голос! Ясновидцу не дано читать и истолковывать собственные видения. Это должен сделать другой человек, специально этому обученный, способный разобраться в хитроумном сплетении каналов и проток, знающий, откуда берут силу корни тростника, где ходит Амба, где пробегает Суа, где пролетает Хасса. Ты научишься видеть и рассказывать мне о том, что видишь. Ведь для тебя твои видения — это тайна, загадка, верно? Ты можешь рассказать только то, что видишь, но не объяснить это. А я, заглянув глубоко внутрь твоих видений глазами Амбы, непременно разгадаю эту загадку, истолкую смысл увиденного тобой и сообщу его людям, дабы они смогли разобраться в той или иной сложной жизненной ситуации. Ты нуждаешься во мне столько же сильно, сколь и я нуждаюсь в тебе. А наши сородичи, весь наш народ, все население края Ферузи нуждается в нас обоих.
— Но откуда же ты знаешь, как… читать мои видения? — Я заколебался, произнося слово «читать», ибо такого слова я до сих пор еще не слышал на Болотах, и здесь оно явно имело совсем не тот смысл, к которому привык я.
Дород слегка усмехнулся.
— А откуда ты знаешь, как можно все это видеть? — спросил он. Он смотрел на меня теперь уже не надменно, а дружелюбно, почти ласково. — Почему человек обладает одним даром, а не другим? Ты не можешь научить меня ясновидению. Я же могу научить тебя тому, как увидеть прошлое и будущее, но не тому, как прочесть свои видения, потому что такого дара у тебя нет. Он есть только у меня. Говорю же тебе, мы нужны друг другу.
— Значит, ты можешь научить меня видеть… то, что я сам захочу?
— А что, как ты думаешь, я все это время пытался сделать?
— Не знаю! Ты же никогда мне ничего не объясняешь. Ты говоришь, что нужно каждый третий день поститься, что нельзя ходить босиком, нельзя спать головой на юг, заставляешь меня стоять на коленях, пока на них дырки не появятся, — ты велишь мне подчиняться сотне правил и запретов, но для чего?
— Ты постишься, чтобы душа твоя стала чистой, избавилась от ненужного груза мыслей, ибо так ей легче странствовать.
— Но меня даже между постами не кормят как следует! Моя душа настолько чиста и легка, что ни о чем другом уже не думает, кроме еды. Что в этом хорошего? — Дород нахмурился и, похоже, почувствовал себя несколько пристыженным. Я воспользовался отвоеванным преимуществом и снова бросился в атаку: — Я ничего не имею против постов, но голодать постоянно я не намерен. И почему я должен все время ходить в обуви?
— Чтобы предохранить ступни от соприкосновения с землей, которая притягивает к себе твою душу.
— Это все суеверия! — пренебрежительно заявил я и, заметив, что он смутился, тут же прибавил: — У меня бывали видения и когда я был обут, и когда разут. И послушанию мне учиться не нужно. Этот урок я уже усвоил. И даже слишком хорошо! Я хочу понять, в чем моя сила, и научиться этой силой пользоваться.
Дород молча склонил голову. Он долго не отвечал мне, потом заговорил — и речь его была суровой, лишенной как высокомерного нетерпения, так и обычной для него напыщенности.
— Если ты будешь поступать, как велю тебе я, то я попытаюсь объяснить тебе, почему у ясновидцев все это происходит. Возможно, это будет правильно: в конце концов, ты ведь действительно уже взрослый, прошедший обряд посвящения мужчина, и такие знания тебе вполне по плечу.
Я был чрезвычайно горд собой: я не только не уступил ему в этой схватке, но и добился определенного уважения. Я вернул свои вещи на прежние места и остался у Дорода в его уединенной и, надо сказать, весьма грязной лачуге.
Я вполне понимал, что действительно необходим ему, поскольку его предыдущий ученик умер, унеся с собой в могилу и былую репутацию Дорода как наставника и проводника ясновидцев. Впрочем, думал я, если Дород действительно научит меня всему, что знает сам, то это будет вполне справедливой сделкой.
Ему было непросто лишиться положения властного хозяина, отвечать на мои бесконечные вопросы, объяснять, почему я должен делать то или другое. Дород не был злым по природе; мне кажется, порой ему даже нравилось, что на этот раз ученик у него — не раб, а настоящий последователь его идей и помощник; но он по-прежнему ничего мне не объяснял, если я сам не спрашивал.
Все, что он мог или хотел передать мне из своих знаний, например ритуальные песни и сакральные мифы, я запоминал мгновенно. Наконец-то я узнал кое-что о тех богах и духах, которым поклоняются рассиу, об их песнях и преданиях, тем самым как бы отыскав путь к сердцу этого народа.
Итак, дар быстрой памяти меня не покинул, хотя я долгое время совсем им не пользовался, и в этом отношении мои успехи были столь для Дорода поразительны, что однажды он рассмеялся и сказал — после того, как я слово в слово повторил ему один только раз рассказанный им сакральный миф:
— Этот миф я целый месяц пытался вбить Убеку в голову, но он так и не сумел его запомнить хотя бы наполовину! А ты с одного раза наизусть запомнил!
— В этом заключена половина моих врожденных способностей; к тому же именно этому меня учили, когда я был рабом, — сказал я.
А вот моя способность к ясновидению, похоже, совсем заглохла под упорными попытками Дорода ее развить и закрепить. Я прожил у него месяц, потом еще месяц, но у меня ни разу так и не возникло тех видений, которые можно было бы назвать «воспоминаниями о будущем». Я стал проявлять нетерпение; Дород, напротив, казался совершенно невозмутимым.
Сутью того, чему он меня учил, было, по его выражению, «ожидание льва». Мне полагалось сидеть тихо, почти не дыша, выбросив из головы все мысли о том, что меня окружает, и погрузиться в некую «внутреннюю тишину». Сделать это оказалось очень трудно. Даже колени мои наконец привыкли к неподвижности, но разум привыкать к ней явно не собирался.
Дород требовал, чтобы я непременно в мельчайших подробностях рассказывал ему о каждом видении, какое у меня когда-либо было. Сперва это давалось мне с огромным трудом. Сэлло сидела рядом со мной и шептала: «Только никому об этом не рассказывай, Гэв!» Всю жизнь я слушался этого совета. И теперь вынужден был нарушить ее запрет, чтобы выполнить желания какого-то странного и совершенно чужого мне человека. Я сопротивлялся, не желая открывать ему душу. И все же только Дород мог, как мне казалось, научить меня всему необходимому, а потому я заставлял себя говорить — с трудом, с остановками, неполно описывая свои прежние видения-воспоминания. Терпение Дорода было поистине безгранично, и мало-помалу он вытащил из меня все; я рассказал ему о снегопаде в Этре, о нападении войск Казикара, о тех городах, где я «бродил», о том незнакомом человеке в комнате, полной книг, о той пещере с каменным сводом, о той ужасной танцующей фигуре, которая привиделась мне снова во время обряда посвящения, и даже о самом простом, самом первом своем видении — о голубой воде, тростниках и далекой горе, окутанной дымкой. Он заставлял меня снова и снова повторять эти рассказы.
— Итак, расскажи мне об этом еще раз, — говорил он. — Значит, ты плывешь на лодке и…
— Что ж тут еще рассказывать? Ну, я плыву на лодке и вижу Болота. В точности такие, какие они и есть на самом деле. Наверное, именно такими я и видел их еще младенцем, до того, как меня украли. Голубая вода, зеленые тростники, синий холм вдалеке…
— На западе?
— Нет, на юге.
Откуда мне было известно, что этот холм на юге?
И каждый раз он слушал меня с одинаковым вниманием, часто задавая вопросы, но никогда никаких комментариев не делал. И красноречие мое явно не имело для него никакого значения, хотя я всегда старался как можно живее описать те города, которые «видел», или ту комнату, полную книг, или того незнакомого человека, что обернулся ко мне и назвал меня по имени. Дород никогда в жизни в городе не был. Он пользовался словом «читать», но читать не умел и ни одной книги никогда в жизни не видел. Я принес на занятия маленький томик «Космологии», завернутый в шелковистую ткань, чтобы показать ему, что такое печатное слово. Он взглянул, но ни малейшей заинтересованности не проявил. Он не спрашивал ни о реалиях, ни о значении того или иного понятия, и требовал лишь четкого и максимально подробного описания увиденного мною. Для чего это было ему нужно, я так и не узнал, потому что об этом он так и не сказал мне ни слова.
Меня очень интересовали другие ясновидцы и их проводники. Я спрашивал Дорода, кто еще на берегах озера Ферузи обладает таким же даром, и он назвал мне два имени: один человек был из деревни Южный Берег, а второй из Срединной деревни. Я спросил, нельзя ли мне поговорить с кем-то из них. Он с любопытством посмотрел на меня:
— А зачем?
— Ну, просто поговорить… спросить, как это бывает у него — так же, как у меня, или…
Дород покачал головой.
— Они с тобой разговаривать не станут. Они говорят о своих видениях только с проводником.
Я настаивал. И он сказал:
— Гэвир, это святые люди. Они живут в полном уединении, поглощенные только своими видениями. Разговаривать с ними разрешается исключительно их проводникам, а с другими людьми они не общаются. И даже если бы ты уже стал настоящим ясновидцем, тебе все равно не позволили бы с ними повидаться.
— Так что же, и мне такая жизнь предстоит? — ужаснулся я. — Значит, и я буду жить в полном уединении, ни с кем не общаясь и существуя исключительно внутри собственных видений?
По-моему, Дород почувствовал охвативший меня ужас и, немного поколебавшись, сказал:
— Ты другой. Ты начинал по-другому. Я не могу заранее сказать, как сложится твоя жизнь.
— А что, если у меня больше и не будет никаких видений? Что, если я, придя к своим истокам, вернувшись к своему народу, положил тем самым конец своим болезненным видениям?
— Ты боишься, мальчик, — неожиданно мягко сказал Дород. — Да, это тяжело — сознавать, что лев идет прямо к тебе. Но не бойся. Я всегда буду с тобой.
— Но не там, — сказал я.
— Нет, и там тоже. А теперь ступай на настил и жди прихода льва.
Я подчинился; мне вдруг все стало совершенно безразлично. Я опустился на колени на настиле, нависавшем над илистым дном и самым краем каменистого берега, и стал смотреть на раскинувшееся передо мной озеро и спокойное серое небо, стараясь дышать ровно, как учил меня Дород, и полностью сосредоточиться на мыслях о льве. И вдруг осознал, точнее, почувствовал, что черная львица действительно приближается ко мне сзади, но даже не обернулся, ибо, если я и боялся чего-то прежде, в эту минуту страх мой полностью испарился. Я то оказывался в каком-то крошечном садике, полном цветов, то шел ночью по вымощенной булыжником улице, и шел дождь, и ветер швырял дождевые струи на высокую красную стену напротив меня, и я видел эти струи в слабом свете, падавшем из окошка. То я вдруг попадал в залитый солнечным светом внутренний дворик какого-то хорошо знакомого мне дома, и юная девушка с улыбкой выходила мне навстречу, и я испытывал огромную радость, глядя на нее. То я оказывался посреди какой-то бурной реки, и течение чуть не сбивало меня с ног, а на плечах у меня была тяжелая ноша, настолько тяжелая, что я едва не падал под бешеным напором воды; а песок у меня под ногами на дне расползался, и сохранить равновесие было невероятно трудно, и я споткнулся, сделал шаг вперед и… увидел, что по-прежнему стою на коленях в нашей хижине на мысу. На небе догорал закат, и последняя стая диких уток пролетела на фоне красноватых небес. Я ощутил у себя на плече руку Дорода.
— Идем в дом, — тихо сказал он мне. — Ты проделал долгое путешествие.
В тот вечер он был молчалив и ласков. Он ничего не спрашивал о том, что я видел. Лишь удостоверился, что я поел как следует, и отправил меня спать.
В течение всех последующих дней я мало-помалу пересказывал ему свои видения, повторяя их снова и снова. Он знал, как вытащить из меня любые сведения об увиденном, даже такие мелочи, вспоминать которые мне бы и в голову не пришло. Мне казалось, что я ничего такого даже и не заметил, и я вспоминал это, лишь когда он в очередной раз заставлял меня пересказать свое видение с самого начала, в мельчайших подробностях, словно я смотрю на висящую передо мной картину. При этом я чувствовал, как две разновидности моей памяти как бы соединяются воедино.
В последующие дни я еще несколько раз «путешествовал», как это называл сам Дород, и каждый раз мне казалось, что передо мной открыта некая дверь, в которую я могу пройти — но не по собственному желанию, а по воле той львицы.
— И все-таки я не понимаю, чем эти видения могут быть полезны для моих сородичей, как ими вообще можно руководствоваться, — сказал я как-то вечером Дороду. — Мне ведь почти всегда видятся иные места, иные времена, и ничто в этих видениях не связано с Болотами, так какой же в них прок?
Мы с ним ловили рыбу, отплыв подальше от берега. В последнее время наш улов был весьма жалок, и обмен у «рыбной циновки» тоже оказывался соответствующим: еды, которую давали нам женщины, явно не хватало. Вот мы и решили забросить вершу и некоторое время дрейфовали поблизости, прежде чем ее вытянуть.
— Пока ты еще путешествуешь, как ребенок, — сказал
Дород.
— Что значит «как ребенок»? — тут же взвился я.
— Ребенок способен видеть лишь собственными глазами. Он видит то, что находится непосредственно перед ним, — в том числе и те места, где он впоследствии окажется. По мере того, как он, взрослея, учится путешествовать правильно, он учится видеть гораздо шире — видеть то, что способны увидеть и глаза других людей, те места, куда эти другие люди придут впоследствии. Он бывает там, где никогда сам — во плоти, — скорее всего, и не окажется. Весь наш мир, все времена открыты взору ясновидца. Он ходит повсюду вместе с Амбой, летает повсюду вместе с Хассой, странствует по всем рекам и морям вместе с Повелителем Вод. — Дород произносил эти поэтические фразы деловито, каким-то суховатым тоном, а потом, окинув меня проницательным взглядом, прибавил: — Ты слишком долгое время оставался необученным и слишком поздно начал, а потому до сих пор и видишь все как бы глазами ребенка. Но я могу научить тебя совершать и более значительные путешествия. Только ты должен полностью доверять мне, иначе ничего не получится.
— Значит, я тебе не доверяю?
— Пока нет, — спокойно ответил он.
Моя тетка, помнится, тоже говорила что-то в этом роде: мол, я никогда не иду дальше воспоминаний о самом себе. Я мог бы и в точности вспомнить ее слова, но рыться в памяти мне не захотелось. Я и так понимал: Дород прав, и если я намерен чему-то у него научиться, то должен вести себя так, как этого требует он.
Мы вытянули вершу, и на этот раз нам повезло. На «рыбную циновку» мы принесли двух здоровенных карпов. На мой взгляд, карп — рыба так себе, довольно костистая и пахнет илом, но женщины из деревни Тростниковые Острова ужасно карпов любили, и нам в тот вечер достался отличный обед.
Когда мы поели, я спросил Дорода:
— Скажи, как же все-таки ты станешь учить меня видеть глазами взрослого, а не ребенка?
Он довольно долго не отвечал, потом сказал:
— Прежде всего, ты должен быть к этому готов.
— И что для этого нужно?
— Послушание и доверие.
— Неужели я не проявляю должного послушания?
— В душе — нет, не проявляешь.
— Откуда ты знаешь?
Он лишь молча посмотрел на меня, и в его взгляде я прочел презрение и жалость.
— Так скажи же, что я должен сделать? Как мне доказать, что я тебе полностью доверяю? — воскликнул я.
— Ты должен проявить послушание.
— Хорошо, ты только скажи, что надо делать, и я все сделаю.
Я очень не любил эти словесные перепалки; мне совсем не хотелось с ним спорить, зато ему, видимо, именно этого и хотелось. И, добившись своего, он заговорил со мной совершенно иначе, очень серьезно:
— Тебе вовсе не обязательно идти дальше, Гэвир. Путь ясновидца — тяжкий путь. Тяжкий и страшный. Я, конечно же, всегда буду с тобой, но ведь путешествия совершаешь именно ты. А я могу проводить тебя лишь к началу пути, но не могу за тобой последовать. Тут важна только твоя собственная воля, только твоя смелость; и только твои глаза действительно способны видеть. Если же тебе вовсе не хочется совершать великие путешествия, оставим все как есть. Я тебя заставлять не стану — это не в моих силах. И ты можешь хоть завтра уйти от меня и вернуться в деревню Восточное Озеро. Твои детские видения еще будут порой к тебе возвращаться, но постепенно станут слабеть и вскоре совсем прекратятся, ибо ты утратишь способность заглядывать в прошлое и будущее. А после этого ты станешь жить, как обычный человек. Если, конечно, ты именно этого и хочешь.
Весьма смущенный его словами, я растерялся, но, чувствуя в них некий вызов, все же сказал:
— Нет. Я же говорил, что хочу узнать, в чем моя сила.
— Хорошо. Ты это узнаешь, — сказал он с тихим торжеством.
И с этого вечера Дород стал обращаться со мной и мягче, и одновременно требовательнее. Я же решил полностью ему подчиниться, не задавать лишних вопросов и постараться действительно выяснить, в чем моя сила и насколько она велика. Дород снова потребовал, чтобы я каждый третий день постился, и очень строго следил за тем, что я ем, не позволяя мне употреблять в пищу ни молока, ни зерна. Зато прибавил к моему рациону некоторые другие вещи, которые называл «священными»: яйца уток и некоторых других диких птиц, коренья шардиссу, а также эду, мелкие грибочки, что растут обычно в ивовых рощицах; все эти продукты нужно было есть сырыми, и Дород очень много времени тратил на то, чтобы их раздобыть. Шардиссу и эда были просто отвратительны на вкус и вызывали у меня тошноту и головокружение, но, к счастью, съесть их нужно было совсем чуть-чуть.
Через несколько дней, употребляя в пищу всю эту дрянь и по многу часов проводя на коленях, я почувствовал и в теле, и в мыслях странную легкость, похожую на ощущение свободного полета. Преклонив колени у нас на настиле, я должен был без конца повторять «хасса, хасса», и вскоре мне стало казаться, что при этом я поднимаюсь в воздух, словно за спиной у меня крылья дикого гуся или лебедя.
Стоя на коленях, я словно летел над болотным краем, видел под собой воду и плывущие по ней тени облаков, видел деревни на берегах озер и рыбацкие лодки, видел лица детей, женщин, мужчин. Потом вдруг я оказывался в какой-то большой реке, пытаясь преодолеть ее с тяжкой ношей на плечах, согнутый в три погибели, совершенно измученный, потом сбрасывал эту ношу и вновь обретал крылья, на этот раз крылья цапли, а потом снова летел, летел… И приземлялся на наш настил, испытывая тошноту и озноб, чувствуя, как затекло все тело, как сводит от боли колени, как сильно болит живот. В голове, казалось, не было ни одной мысли, я ничего не соображал.
Дород помогал мне встать, заботливо провожал меня внутрь и усаживал возле маленького очага, в котором горел огонь, ибо уже близилась зима. Огонь здесь, как и в деревне Восточное Озеро, разводили в глиняном горшке с решеткой. Дород утешал меня, хвалил и кормил прозрачными ломтиками сырой рыбы, овощами, взбитыми яйцами и неизменно совал на закуску корешок распроклятого шардиссу и полную кружку воды, чтобы поскорее избавиться от мерзкого вкуса во рту.
— А она поила меня молоком, — говорил я, вспоминая ту хозяйку гостиницы у самой границы болотного края и мечтая вновь ощутить дивный вкус молока. И всю ночь меня окружали воспоминания, они оставались со мной до утра. Я лежал в хижине Дорода, и одновременно сидел подле моей сестры в классной комнате Аркаманта, и видел, как страшная буря разрушает деревню Херру, срывая крыши и разметывая стены из плетеных циновок, и слышал в кромешной тьме пронзительные крики людей и грозное завывание ветра…
А потом меня стало жутко тошнить; меня прямо-таки выворачивало наизнанку, и я, перевернувшись на живот, выплевывал все это прямо в прибрежный ил, корчась от боли в животе и легких. А Дород, опустившись рядом на колени, гладил меня по спине и говорил, что все в порядке, что все это скоро пройдет и я снова смогу спать спокойно и видеть разные сны. И через какое-то время я действительно засыпал, и во сне ко мне являлись видения. И, проснувшись, я вспоминал то, чего никогда прежде не знал. А Дород просил меня рассказать о том, что я видел, и я начинал рассказывать, но на меня наплывали новые видения, и Дород исчезал вместе с хижиной, и сам я тоже исчезал, блуждая среди незнакомых людей и мест и зная, что никогда потом не смогу ни узнать их, ни вспомнить. Я буду просто лежать в темной хижине, терзаемый тошнотой, болью и головокружением, так что даже сесть не смогу, и Дород снова придет, даст мне воды, заставит меня поесть немного, Поговорит со мной, пытаясь и меня разговорить, и скажет:
— Ты очень храбрый, мой Гэвир! Ты непременно станешь великим ясновидцем! — И после таких слов я льнул к Нему, ибо только его лицо было единственной реальностью и не казалось мне ни сном, ни видением, ни воспоминанием; только его рука была настоящей, и я мог ее сжать, держаться за нее, за руку моего единственного проводника моего спасителя… Того, кто завел меня в тупик, кто предал и обманул меня.
Но в путанице снов и видений передо мной вдруг явилось лицо той, кого я сразу узнал. И голос ее я тоже узнал. Но разве не узнавал я и все прочие лица и голоса? Я же помнил всё, всё! И Куга склонялся надо мной. И Хоуби шел на меня по коридору. Но она — она действительно была рядом со мной. И я узнал ее, я произнес ее имя вслух:
— Гегемер.
Ее воронье лицо было как всегда суровым, а черные, вороньи глаза как всегда смотрели остро, проницательно.
— Племянник, — сказала она, — помнишь, я обещала тебе, что если увижу тебя в своих видениях, то непременно сообщу тебе об этом?
Я помнил. Да, она говорила мне об этом когда-то раньше, давно. Все это вообще происходило давно. И я все помнил только потому, что это случалось со мной уже сотни раз. И лежал я сейчас потому, что долгое путешествие слишком утомило меня, у меня даже сесть сил не хватало. Рядом, скрестив ноги, сидел Дород. Хижина, погруженная во мрак, казалась какой-то странно уменьшившейся. И тетка моя, разумеется, никак не могла в ней находиться: это же мужская хижина, а она женщина! Оказывается, она опустилась на колени у порога, не входя внутрь, и оттуда смотрела на меня, и говорила мне своим резким голосом:
— Я видела, как ты идешь вброд через реку и несешь на руках дитя. Ты хорошо понимаешь меня, Гэвир Айтана? Я видела тот путь, которым тебе предстоит пойти! Если ты как следует посмотришь, то и сам его увидишь. Это была уже вторая река, которую ты непременно должен был преодолеть, ибо только тогда оказался бы в безопасности. На том берегу первой реки тебя подстерегала опасность. А на том берегу второй ты окажешься в полной безопасности. Когда ты переберешься через первую реку, смерть будет преследовать тебя по пятам. Однако, перебравшись через вторую реку, ты начнешь новую жизнь. Ты хорошо меня понимаешь, Гэвир? Ты слышишь меня, сын моей сестры?
— Возьми меня с собой, — прошептал я. — Возьми!
И не увидел, а скорее почувствовал, как Дород пытается встать между нами.
— Ты давал ему эду! — возмущенно сказала ему Гегемер. — Чем еще ты травил мальчика?
Я умудрился сесть, потом встал и, пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу, побрел к двери. Дород преградил мне путь, и я умоляюще крикнул, глядя Гегемер прямо в глаза:
— Возьми меня с собой!
И она, поймав мою протянутую руку, с силой потянула меня к себе, вытаскивая из этого дома. Видя, что я едва держусь на ногах, она обняла меня и, бережно поддерживая, сказала Дороду, дико на него глянув, точно ворона на коршуна, пытающегося ограбить ее гнездо:
— Неужели тебе мало жизни одного ребенка? Отдай мне вещи Гэвира. Пусть мальчик уйдет со мной. А если ты станешь нам препятствовать, я опозорю тебя перед старейшинами Айтану, перед всеми женщинами твоей деревни, и твой позор никогда не будет забыт сородичами!
— Он станет великим ясновидцем, — сказал Дород; его трясло от гнева, однако он не сделал ни шагу, чтобы помешать нам. — Он станет могущественным человеком. Только позволь ему остаться со мной. Я больше никогда не дам ему эду.
— Гэвир, — сказала Гегемер, — выбирай сам.
Я не очень-то понимал, о чем они говорят, и лишь повторил:
— Возьми меня с собой.
Она кивнула и велела Дороду:
— Отдай мне его вещи.
Дород отвернулся. Затем сходил в дом и вынес оттуда мой нож, мои рыболовные снасти, книгу, завернутую в тростниковую ткань, и рваное коричневое одеяло. Все это он положил на настил у дверей. Он, не скрываясь, плакал в голос, и слезы ручьем текли у него по щекам.
— Пусть всю жизнь тебя преследует только зло, мерзкая женщина! — выкрикнул он. — Дрянь! Мерзавка! Ты же ничего не знаешь! Ты понятия не имеешь, как надо обращаться со священными предметами! Ты только все пачкаешь своими прикосновениями, мерзкая тварь! Ты осквернила мой дом!
Гегемер ничего ему не ответила; она помогла мне собрать пожитки и спуститься с настила, все время меня поддерживая. Затем мы пошли к причалу, где была привязана ее лодка, женская лодочка, легкая, как листок. Я с трудом перелез через борт и, весь дрожа, скорчился на дне. А над берегом гремел голос Дорода, проклинавшего Гегемер и обзывавшего ее всеми теми гнусными словами, какими мужчины обычно поносят женщин. Когда же моя тетка отвязала веревку, собираясь отплыть от причала, он прямо-таки взвыл от гнева и огорчения:
— Гэвир! Гэвир!
Но я лишь еще ниже пригнул голову и закрыл ее руками, прячась от него. Потом стало тихо, и я понял, что мы уже далеко от берега. Шел небольшой дождик. Я по-прежнему чувствовал себя настолько слабым, что даже голову поднять был не в силах. Я сильно замерз, меня все время тошнило, и я лежал без движения, скорчившись и привалившись спиной к лодочной скамье. Видения так и кружили у меня перед глазами — лица, голоса, города, холмы, дороги, небеса, — и я снова отправился в бесконечные странствия.
Для Гегемер явиться в дом Дорода и стоять на пороге его жилища было нарушением всех мыслимых правил; она действительно преступила допустимые границы, и едва ли это можно было оправдать срочностью тех сведений, которые она хотела мне передать. Однако она все же не решилась привести меня в женскую деревню Восточное Озеро, как не решилась и сама войти в мужскую деревню. Она отвела меня в свободную брачную хижину, находившуюся на «нейтральной территории» между деревнями, постаралась устроить меня там поудобнее и ушла, но раза два в день обязательно приходила меня проведать. Здесь это считалось делом самым обычным — если кто-то из мужчин серьезно заболевал, его почти всегда помещали в свободную хижину, чтобы его жена или сестра могли о нем позаботиться или просто его навестить.
Я лежал в этом крошечном, хрупком домике со стенами из циновок, и ветер продувал его насквозь, а по крыше неумолчно стучал дождь, и капли дождя просачивались внутрь сквозь пучки тростника. Я трясся от холода и то начинал бредить, то впадал в ступор. Не знаю, как долго Дород кормил меня ядовитыми грибами и кореньями и как долго длилось мое выздоровление, но я уехал с ним еще летом, а когда наконец начал понемногу приходить в себя, уже снова наступала весна. Я чудовищно исхудал и ослабел, руки мои стали похожи на узловатые стебли тростника. А когда я попытался ходить, то у меня перехватило дыхание и сильно закружилась голова. Да и прежний аппетит ко мне вернулся не скоро.
Моя тетка кое-что рассказала мне о тех вещах, которыми кормил меня Дород, пытаясь отправить «в большое путешествие». Она говорила об этом с ненавистью, с презрением.
— Я тоже принимала эду, — призналась она, — когда решила во что бы то ни стало узнать, куда исчезла твоя мать и моя сестра. Я тоже покорно слушала то, что говорили мне эти «проводники», эти «мудрые» мужчины из Большого Дома — чтоб им собственными словами подавиться, чтоб им грязь есть и утонуть в зыбучих песках! Принимай эду, говорили они, и тело твое станет легким, а мысли свободными, ты полетишь, куда захочешь! Да, мысли после этого действительно «летят», это верно, только за эти «полеты» живот расплачивается, да и разум тоже. А я, редкостная дура, глотала эту дрянь, но мать твою, разумеется, так и не нашла, зато проболела месяца два. И ведь я всего раза два эти проклятые грибочки ела! Сколько же он тебе-то их скормил? Как часто он их тебе давал, а? А желчный корень, шардиссу, я хорошо знаю; от него сильно кружится голова, а сердце начинает стучать как молот и дыхания словно не хватает. Сама я его никогда не принимала, но знаю, что его часто используют знахари. Но у этих мужчин — у этих глупцов! — все подряд называется «священной медициной»! Я-то знаю, что они под видом этой «медицины» друг с другом делают! — Гегемер зашипела, как кошка, и повторила: — Глупцы! Все глупцы — и мужчины, и женщины. Все мы глупцы.
Я сидел на пороге хижины, а она рядом, на плетеной скамеечке, которую принесла с собой; женщины на Болотах плетут из тростника замечательные складные сиденья, очень легкие, переносные, на которые всегда можно где угодно присесть. Земля была еще влажной после недавнего дождя, но небо светилось бледной голубизной, и солнце пригревало уже совсем по-весеннему.
Нам с ней оказалось очень легко друг с другом. Я отлично понимал, что она спасла мне жизнь, и она это знала. И, по-моему, именно поэтому постепенно перестала так мучить себя, упрекая за то, что отпустила мою мать навстречу смерти. Гегемер была человеком непростым, очень резким, обладавшим бешеным нравом, однако во время моей болезни она заботилась обо мне с невероятным терпением, даже с нежностью. Часто мы с ней не понимали друг друга, но даже это не имело значения, ибо между нами существовало некое высшее понимание, для которого не нужны слова; оно основано на сходстве душ, которое сильнее всех различий и разногласий. Но одно мы оба знали твердо, хоть никогда об этом и не говорили: что, поправившись, я непременно покину Болота.
Я-то уходить не спешил, зато спешила она. Ведь это она видела, как я иду на север, а смерть преследует меня по пятам. Я должен был уйти. Я должен был перебраться через ту, вторую, реку и обрести спасение. И уходить мне надо было как можно скорее. Наконец Гегемер не выдержала и сказала мне об этом прямо.
— Но какая разница, как скоро я отсюда уйду, — возразил я, — ведь смерть все равно от меня не отстанет.
— Энг, энг, энг! — нахмурилась она, яростно тряся головой. — Если ты будешь слишком долго откладывать, смерть придет за тобой прямо сюда!
— Ну и ладно, тогда я останусь здесь и дождусь ее, — сказал я, пытаясь шуткой смягчить ее тревогу. — С какой стати мне покидать своих сородичей и самому идти навстречу смерти? Мне нравятся здешние люди, мне все здесь нравится. И рыбу я очень люблю ловить…
Разумеется, я просто дразнил ее, и она это понимала. Она, в общем, не возражала против подобных шуток, но все же она видела то, чего не видел я. И не могла относиться к этому столь же легкомысленно.
Кстати, среди множества бессмысленных, бесконечных видений, роившихся в моем мозгу, пока я жил у Дорода и в первое время после возвращения в родную деревню, было одно, которое я запомнил особенно хорошо. Я стою посреди реки, по пояс в воде, и сильное течение так и тащит меня, пытаясь сбить с ног, а на спине у меня какой-то тяжелый груз, из-за которого я то и дело теряю равновесие. Я делаю шаг, надеясь добраться до берега, и тут же понимаю, что это был ошибочный шаг — песок под ногами плывет, я теряю опору, но не вижу, куда же мне идти, столь широка река, столь быстры ее воды. Потом я все же делаю шаг вправо, еще один и еще и следую в этом направлении дальше, словно ощущая под ногами некую невидимую подводную тропу, которая ведет меня и помогает сопротивляться яростному течению. И это все; больше я ничего не помнил. Это видение снова вернулось ко мне, когда я начал поправляться. Видимо, оно было одним из последних, связанных с моим отравлением снадобьями Дорода. Я рассказал о нем Гегемер, когда она пришла навестить меня, и она, слушая меня, морщилась, как от боли, и вздрагивала, а потом прошептала:
— Это же та самая река!
Я тоже вздрогнул, когда она это сказала.
— Я видела тебя там, — продолжала она. — А на плечах ты несешь ребенка. — Она умолкла и довольно долго молчала, потом наконец снова заговорила: — Ты спасешься, сын моей сестры! Ты доберешься до безопасных мест! — Голос ее показался мне каким-то чересчур тихим, хрипловатым, но говорила она с такой страстью, что я воспринял эти ее слова не как пророчество, а как ее личное желание непременно спасти меня от чего-то.
Я уже понимал тогда, что действительно поступил очень глупо, уехав с Дородом. Бедняга Дород! Он так долго ждал нового ученика, так хотел удержать меня при себе — правда, исключительно в своих корыстных целях, мечтая стать самым важным человеком среди своих сородичей, проводником ясновидящего, человеком, определяющим судьбу других, а потому обладающим невероятной властью. Я повернулся спиной к Гегемер, которая, возможно даже сама этого не сознавая, действительно все это время ждала меня, действительно хотела, чтобы я был рядом — и не для того, чтобы я сделал ее великой, а ради любви.
Я достаточно поправился, чтобы к апрелю вернуться в дом моего дяди, но был еще не совсем здоров, чтобы отправиться в дальние края. В последний день моего пребывания в брачной хижине Гегемер зашла навестить меня и попрощаться. Мы сидели на солнышке перед хижиной, и я сказал:
— Сестра моей матери, дорогая моя тетя, могу ли я рассказать тебе о моей сестре?
— Сэлло, — прошептала она имя девочки, своей племянницы, которую украли в возрасте двух или трех лет.
— Сэл всегда была моей опорой, моей защитницей. Она всегда была очень храброй, — сказал я. — Она совершенно не помнила великих Болот, ей почти ничего не было известно о наших сородичах, однако она знала, что мы, болотные люди, обладаем такими способностями, каких нет больше ни у кого. И она очень просила меня никогда никому не рассказывать о своих видениях. Сэлло была очень мудрой. И прекрасной. Здесь нет ни одной девушки, которую можно было бы с нею сравнить, которая была бы такой же красивой, такой же доброй, любящей и преданной! — Я видел, как внимательно слушает меня тетка, и все говорил, говорил, говорил, пытаясь рассказать ей, как выглядела Сэл, как она говорила и что для меня значила. Увы, на это не потребовалось слишком много времени. Невозможно рассказать о человеке все. Да и прожила Сэлло слишком мало, чтобы история о ней была такой уж длинной. Ведь сейчас даже мне было больше лет, чем ей, когда…
Я умолк; меня душили слезы. И Гегемер сказала:
— Твоя сестра была похожа на мою сестру. — И ласково накрыла своей смуглой рукой мою смуглую руку, и несколько мгновений мы сидели молча.
А потом я снова собрал свои немудреные пожитки — одеяло, рыболовные снасти, нож, книгу — и отправился назад, в мужскую деревню, в дом дяди. Меггер приветствовал меня с добродушным спокойствием. Кошка Прют тоже вышла мне навстречу, виляя хвостом, и, как только я расстелил на лежанке свое старое одеяло, вспрыгнула туда и принялась деловито его скрести, громко при этом мурлыча. А вот старая Минки меня не встречала. Оказалось, она умерла еще зимой, как печально сообщил мне об этом Меттер. И старый Перок тоже умер, один в своем домике. Меттер зашел туда как-то утром, чтобы отдать ему в починку сеть, и нашел его; он сидел, согнувшись, над остывшим очагом, но работу из помертвевших рук так и не выпустил.
— А у Равы щенки родились, целый выводок, — сообщил через некоторое время Меттер. — Если хочешь, завтра сходим, посмотрим.
Мы сходили к Раве и выбрали себе замечательного, крупного, ясноглазого щенка, курчавого, как ягненок. Меттер назвал собачку Бо и в тот же день взял с собой на рыбалку. Стоило ему оттолкнуться от причала, как малыш прыгнул в воду и принялся, шлепая лапами, плавать вокруг лодки. Меттер выудил его из воды и стал что-то сурово ему внушать, но щенок только радостно помахивал хвостом и явно ничуть не раскаивался. Мне очень хотелось поехать вместе с ними, но для рыбалки я пока еще был слабоват; после прогулки до хижины Равы и обратно я совершенно обессилел, стал задыхаться, и меня еще долго бил озноб. Чтобы согреться, я уселся на настиле в солнечное пятно и стал смотреть, как крошечный, похожий на крылышки бабочки парус Меггера становится все меньше, тая в голубой озерной дали. Было хорошо вновь почувствовать себя дома. Да эта хижина и была, по-моему, единственным настоящим моим домом. Во всяком случае, куда более моим, чем что бы то ни было другое.
И все-таки этот дом моим не был. И мне не хотелось прожить здесь всю жизнь. Теперь это стало мне совершенно ясно. Да, я родился с двумя талантами, двумя способностями. Одна из них была, если можно так выразиться, здешняя; она была издавна известна людям Болот, они умели ее развивать и использовать. Но я не сумел ни развить ее, ни научиться ею пользоваться. Мое обучение потерпело крах — то ли из-за невежества и нетерпеливости моего учителя, то ли из-за того, что мои способности к ясновидению были на самом деле не столь уж велики. Возможно, это был просто дар природы, довольно распространенный у представителей моей расы и дающий возможность иногда заглянуть как бы немного вперед, предвосхитить ближайшие события. Это был так называемый детский дар, который нельзя развить, на который нельзя рассчитывать взрослому и который с возрастом у всех постепенно слабеет.
А другая моя способность, хотя и вполне надежная, оказалась здесь совершенно бесполезной. Рассиу не видели проку в том, что у человека голова забита всякими историями. История и поэзия были им не нужны. Чем меньше мужчина рассиу говорит, считали здесь, тем больше он достоин уважения. А истории пусть рассказывают женщины и дети. Пение же песен и вовсе было окутано тайной; песни исполнялись только во время священнодействий, например во время страшноватого обряда инициации. Слово не было определяющим в жизни этого народа. Для них куда важнее было предвидение и настоящий момент вполне реальной жизни. А те знания, что я почерпнул из книг, оказались здесь ни к чему. Неужели, думал я, и мне надо все это забыть, предав собственную память, отказавшись от развития своего разума, своей души? Неужели нужно позволить себе со временем соображать и запоминать все хуже и хуже?
Те люди, что украли меня у моих сородичей, и моих сородичей тоже украли — только уже у меня. И я чувствовал, что теперь мне никогда не стать одним из рассиу, не стать истинным представителем этого народа.
А значит, я не смогу и увидеть, по какому пути мне следует идти дальше.
И, главное, куда идти.
На север, сказала Гегемер. Она видела меня идущим на север, в дальние края, за две больших реки. Скорее всего, она имела в виду реки Сомулане и Сенсали. Азион находится к северо-западу от Сомулане, в Бендайле; а Месун — на северном берегу Сенсали, в Урдайле. В Месуне есть большой университет. Там живут многие ученые и поэты. Там живет поэт Оррек Каспро.
Я встал и пошел в нашу маленькую хижину. Кошка Прют трудилась над моим старым одеялом, глаза у нее были полузакрыты, а когти она то выпускала, то втягивала, ни на мгновение не прекращая это занятие. Я взял с полки маленький сверток из тростниковой ткани, вынес его наружу и уселся на настиле, скрестив ноги и думая о тех часах, днях, месяцах, которые провел на коленях в хижине Дорода. Про себя я поклялся, что никогда в жизни больше не встану на колени! А еще я думал о том, что хорошо бы иметь такую легкую плетеную складную скамеечку, какие носят здесь с собой все женщины. Вот только вроде бы не полагается мужчине пользоваться женскими вещами? Хотя женщины ведь пользуются тем же, чем и мужчины, — во всяком случае, во время работы. А мужчины совершенно напрасно избегают и даже презирают огромное количество чрезвычайно полезных вещей, которые умеют делать женщины, — например, плести скамеечки, или готовить пищу, или рассказывать всякие истории; ведь тем самым мужчины лишают себя множества умений и удовольствий. А все из глупого желания доказать, что они не женщины, хотя, по-моему, лучше бы они это доказывали делами.
Но это только по-моему. Они считают иначе. А я так и не стал одним из них.
Итак, скрестив ноги и поудобнее устроившись на настиле, я развернул шелковистую ткань и вытащил книгу Каспро. Впервые за долгий срок — сколько же времени прошло: год или два? Я открыл ее наобум, точнее, она открылась сама, и я прочел:
Я захлопнул книгу и, закрыв глаза, оперся спиной о столбик в дверном проеме, подставив лицо солнцу, которое просачивалось сквозь мои зажмуренные веки, пропитывало меня насквозь. Откуда он это узнал? Откуда он узнал, как здесь все выглядит? Откуда он узнал священное имя лебедя и цапли? Неужели Оррек Каспро — тоже рассиу, житель Болот? Неужели он тоже ясновидящий?
Я задремал, про себя повторяя плавные строки стихотворения, и проснулся, когда Бо прыгнула мне на колени и с энтузиазмом принялась вылизывать мне лицо. Меггер как раз поднимался на настил.
— Что это? — спросил он, с некоторым любопытством глядя на книгу.
— Это шкатулка со словами, — сказал я и показал ему книгу. Он покачал головой и сказал:
— Анх, анх.
— Ну что, наловил ритты сегодня?
— Нет. Только окуни да ерши. А за риттой нам с тобой вместе нужно пойти. Ты сегодня как, к «рыбной циновке» собираешься?
Я пошел с ним к «рыбной циновке», надеясь встретиться там с Тиссо. Она и впрямь была там, и я страшно этому обрадовался. Мы с ней довольно долго беседовали, усевшись в тени под садовой изгородью. А чуть позже тем же вечером, когда я сидел на настиле и любовался закатом, я вдруг с острым смущением осознал, что Тиссо, вполне возможно, влюбилась в меня или вот-вот влюбится, хоть я и не прошел еще второго обряда инициации, хоть я и выгляжу до сих пор так, словно сделан из одних только черных палок, хоть я и оказался неудачником, из которого никакого ясновидца не получилось.
Меттер брился. Здешние мужчины, вообще-то, не особенно бородатые, так что брился он следующим образом: выщипывал отдельные редкие волоски с помощью щипцов из раковины моллюска и черной плошки с водой, в которую смотрелся, как в зеркало. Похоже, он явно наслаждался этим процессом, на мой взгляд весьма малоприятным. Закончив, он вручил щипцы из ракушки мне, и я очень удивился. Однако, ощупав свой подбородок и заглянув в «зеркало», понял, что и у меня на щеках выросло некоторое количество курчавых черных волос. Я аккуратно выдернул их один за другим и был весьма доволен достигнутым результатом. Надо сказать, что почти все мелкие ежедневные дела я здесь выполнял с удовольствием. Я понимал, что буду скучать по этой мирной, приятной жизни, по своему добродушному дядюшке, но все больше убеждался в том, что непременно должен отсюда уйти.
Впрочем, уйти я не мог, пока не наберусь сил, так что решил постараться и до конца весны придерживался весьма строгого распорядка. Я почти все время проводил в мужской деревне, каждый вечер ходил к «рыбной циновке» и участвовал в общих разговорах, а вот прогулки с молодыми людьми и девушками прекратил. А если хотел пройтись, чтобы укрепить ослабевшие ноги и восстановить нормальное дыхание, то уходил один на берег озера и отмахивал зараз несколько миль. Я сменил Перока, занявшись починкой сетей, ибо это, по крайней мере, можно было делать сидя; до Перока мне, конечно, было далеко, но все же починенные мною сети были лучше порванных, так что кое-какую пользу своей деревне я все-таки приносил.
Вскоре я уже выходил вместе с Меттером и на рыбную ловлю, и помогал ему дрессировать Бо, хотя, по-моему, ни в каком обучении эта собака не нуждалась. Умение приносить добычу пес впитал с молоком матери. В первый же раз, когда у меня с крючка сорвался крупный окунь, Бо мгновенно прыгнул в воду и вскоре вынырнул, сжимая в пасти извивающуюся рыбину; я даже не успел расстроиться, что упустил такую добычу, как уже получил ее обратно.
А если шел дождь, то утром и вечером, усевшись под нависающей кровлей нашей хижины на настиле, я прочитывал несколько страниц из своей книги. Прют, которая тоже постарела и становилась все ленивее, тут же забиралась ко мне на колени. День мы с дядей завершали коротким ритуальным танцем и молитвой Повелителю Вод — я всему этому давно уже научился; ну а потом мы ложились спать.
День проходил за днем; миновал и день летнего солнцестояния. Я и не думал больше о том, что мне скоро надо уходить. Я вообще больше ни о чем не думал. И никакой потребности немедленно покинуть деревню у меня не возникало. Я был всем доволен.
Кончилось все это тем, что во время очередного собрания у «рыбной циновки» моя тетка Гегемер решительно подошла ко мне и, сверкая черными глазами, точно разгневанная ворона, уставилась на меня. Детишки так и брызнули в разные стороны, так страшно она на меня смотрела.
— Гэвир! — сказала она. — Гэвир, у меня было новое видение: человек, который тебя преследует. Этот человек и есть твоя смерть!
Я так и замер, не сводя с нее глаз.
— Ты должен немедленно уходить отсюда, сын моей сестры!
ЧАСТЬ IV
Глава 14
Тетка моя объявила всем, что я, подчиняясь ее приказу, связанному с неким страшным видением, покину деревню уже послезавтра. И когда на следующий день я в последний раз пошел к «рыбной циновке», меня уже ждала там мать Тиссо, чтобы передать мне одеяло, сотканное или связанное из тростниковых волокон, которые были обработаны особым образом и стали очень мягкими и пушистыми, как шерсть. Одеяло было замечательное и очень теплое.
— Это подарок от моей дочери, — сказала мне Лали Бету, и я ответил:
— Спасибо ей за это огромное! Я никогда вас обеих не забуду и каждый раз в холодную ночь буду вспоминать вас добрым словом.
Сама Тиссо держалась поодаль и даже не пыталась заговорить со мной. Я попрощался с женщинами и коротко переговорил с Гегемер. Однако она быстро свернула наш разговор; она хотела одного: чтобы я поскорее ушел, перебрался через ту вторую реку и оказался наконец в безопасности.
Я покинул деревню ранним утром, еще до того, как встал мой дядя. Щенок спал у него в ногах, а кошка Прют свернулась клубком на моем старом одеяле. Я шепнул: «Да хранит вас Me!», имея в виду их всех, и тихонько выскользнул из хижины. На сердце у меня было тяжело: ведь я покидал родные края, быть может, навсегда.
Шел я пешком, а потому решил пока что избрать восточное направление. Тете моей это наверняка не понравилось бы: она требовала, чтобы я поспешил на север. Но я не хотел, чтобы меня гнал ее страх. Да и лодки у меня не было, так что, если бы я направился по суше на север, мне бы пришлось без конца петлять в лабиринте болот и проток; кто его знает, сколько на это ушло бы дней. Денег у меня тоже не было, как не было и никакой возможности заработать их по пути.
И тут я вспомнил, что вообще-то денежки у меня имеются. Кровавые деньги, откупные: плата за смерть моей сестры. Я оставил кошелек с ними у Куги, и он спрятал их где-то в своей пещере. Этих денег должно было с избытком хватить, чтобы добраться до Месуна, если не тратить слишком много, да я и не привык деньги транжирить. Я хорошо запомнил тот путь, который мы прошли вместе с Венне и Чамри, и решил держаться немного восточнее тех мест, где расположено Сердце Леса, чтобы случайно не налететь на людей Барны, когда окажусь поблизости. Самое трудное, думал я, это отыскать пещеру Куги близ южной границы Данеранского леса. Но я не сомневался, что память моя мне поможет и подскажет нужное направление, как только я увижу знакомые холмы — если, конечно, сумею туда добраться.
В заплечном мешке у меня было полно дорожных припасов — вяленая рыба, твердый сыр, сухари и сушеные фрукты. Женщины во время последнего сбора у «рыбной циновки» дали мне с собой столько еды, что ее мне, по-моему, и на месяц было бы много, да и мужчины потом по очереди заходили к Меггеру, желая поделиться со мной всем тем, что могло пригодиться мне в дальних странствиях. Во всяком случае, голод мне в ближайшие недели явно не грозил. Помимо провизии и нового одеяла я, как всегда, взял с собой рыболовные снасти, нож и книгу Каспро, надежно упакованную в плотную ткань из тростника, способную защитить ее, если мне придется переходить реку вброд или даже ее переплывать. Я чувствовал, что прежние силы полностью вернулись ко мне, и мог, равномерно шагая, идти хоть целый день и даже наслаждаться ходьбой.
Через два дня я вышел из болотного края на холмистую, поросшую редким лесом равнину. Поскольку я все время забирал к востоку, то теперь, насколько я мог судить, находился где-то поблизости от северных границ Казикара. Я издали видел большие фермы, но они показались мне совершенно безлюдными. В долинах паслись стада коров и овец, увы, весьма немногочисленные. Потом мне то и дело стали встречаться сожженные сады и разрушенные до основания сельские усадьбы. Было ясно, что здесь прошли войска, грабя все подряд и уничтожая ненужное; это были печальные последствия бесконечных войн, которые вели друг с другом соперничающие города-государства. Дороги здесь почти заросли, виднелись лишь старые колеи, и людей я почти не встречал, разве что иногда случайно мне попадался погонщик скота или пастух. Мы перебрасывались парой фраз или просто приветственно махали друг другу рукой, и я шел дальше.
Мне почти все время приходилось теперь идти в гору; местность вокруг была холмистая, прорезанная глубокими оврагами и довольно дикая. Собственно, сюда я и стремился, хотя понятия не имел, где именно может находиться пещера Куги. Лес становился все более густым, и даже с вершины холма почти невозможно было ничего разглядеть. Мне оставалось полагаться лишь на собственное внутреннее чутье и зрительную память. Когда солнце стало клониться к западу и его золотые лучи уже с трудом пробивались сквозь густые ветви деревьев, я понял, что окончательно сбился с пути, идя вот так, наугад. Увы, мой план оказался безнадежен. Не зная точного направления, я мог бы до бесконечности скитаться в этих холмах, пока не стал бы таким же слабым и безумным, каким меня подобрал здесь когда-то Куга. Я сел, решив немного поесть и собраться с мыслями, а потом все же идти дальше, пока не начнет темнеть, и только тогда подыскать себе какое-то убежище на ночь. Я привалился спиной к стволу молодого дуба и со вздохом промолвил:
— Ах, Энну, прошу тебя, помоги мне! Выведи меня к той пещере!
Затем я достал из мешка свои припасы, отломил кусок сухаря, отрезал тонкий ломтик копченой рыбы и стал медленно жевать, наслаждаясь соленым дымным вкусом и вспоминая родную деревню. И в какой-то момент, подняв глаза, вдруг увидел черного льва, вышедшего из леса на поляну шагах в десяти от меня. Собственно, это была львица, и шла она прямо ко мне, низко опустив голову и длинный хвост. Затем она остановилась, глядя прямо на меня, и я беззвучно прошептал: «Ах, Энну-Амба!» Львица еще немного постояла так, потом прошла дальше и почти мгновенно исчезла в зарослях.
Через некоторое время я закончил свою трапезу, завернул рыбу и хлеб, аккуратно уложил все в заплечный мешок, облизал жирные пальцы и вытер их об олений мох, на котором сидел. Во рту у меня пересохло от волнения, и я напился из маленькой фляжки, сделанной из тростниковой ткани, пропитанной лаком; фляжку я предусмотрительно наполнил у последнего ручья. Затем я медленно встал, решив, что идти можно только в одном направлении: туда, куда ушла львица. Вряд ли это было разумно, но я находился в таких местах, где разум и мудрость, скорее всего, совершенно бесполезны. И я пошел следом за львицей.
Едва пробравшись сквозь заросли, в которых она скрылась, я вышел на отчетливо видимую даже в лесном полумраке тропу, которая вскоре привела меня в светлый дубовый лес. Идти было легко, и видно вокруг было очень хорошо. Но львицу я больше ни разу не видел. Я довольно долго шел размеренным шагом, и солнце, лучи которого пробивались сквозь листву, уже почти касалось горизонта, когда я наконец узнал ту местность, в которую попал. Мы когда-то проходили здесь вместе с Кугой; мимо вон того огромного дуба он вел меня знакомиться с Лесными Братьями. Ну что ж, вот мы и снова в Кугаманте, подумал я и удивился: почему «мы», а не «я»? Теперь, чтобы добраться до пещеры, нужно было всего лишь свернуть с «львиной» тропы и пройти тем путем, который я хорошо помнил и сам, — вниз и направо.
Я остановился и от всей души поблагодарил великую богиню Энну, затем решительно повернул направо и через лес, который с каждым шагом казался мне все более знакомым, подошел к нашему «домашнему» ручью, перебрался через него и остановился перед скалой, где был потайной вход в пещеру. Свет заката ярко горел на вершинах деревьев.
Я хотел уже окликнуть Кугу, но вдруг отчетливо почувствовал, что его там нет. Не произнеся ни слова, я нырнул в узкий лаз, и пещера встретила меня абсолютной темнотой. Запах дыма и плохо выделанных шкур, типичный запах Куги, еще царил там, но уже начинал слабеть, превращаясь в некое эхо былого. Но самое ужасное — что в этой пещере было мертвенно холодно и темно. Я снова вышел наружу, и вечер показался мне удивительно светлым и теплым, и я вспомнил тот ослепительный праздник, которым встретило меня солнце, когда я, слегка набравшись сил, впервые вышел из пещеры под присмотром Куги.
Положив заплечный мешок у входа в пещеру, я взял фляжку и спустился к ручью. Там я всласть напился воды, наполнил фляжку и присел возле ручья на корточки, следя за бегущей водой, и в сгущающихся сумерках на берегу ручья увидел его.
Зубы зверей, вода и ветер здорово потрудились над ним, и за год или два от него осталось не так уж много: череп с дыркой во лбу, несколько костей, клочки заплесневелой меховой одежды и знакомый мне кожаный ремень.
Я ласково коснулся черепа и погладил его, не поднимая с земли; потом немного поговорил с Кугой. Вечерний свет быстро меркнул. Я очень устал, но спать в пещере мне не хотелось. Я расстелил свое новое одеяло в заросшей травой ложбинке среди скал и уснул. Спал я крепко и долго.
Утром я пошел в пещеру, намереваясь именно там похоронить Кугу, но холодная и темная пещера показалась мне такой безрадостной, что я решил оставить его возле ручья. Я выкопал небольшую могилу подальше от воды, чтобы уберечь ее от зимних паводков, собрал то, что осталось от Куги, и сложил в могилу вместе с его ремнем и одним из ножей, который обнаружил в пещере. В могилу я положил также ту металлическую коробку с солью, которую Куга считал самым главным своим сокровищем. Он все время прятал ее от меня, когда я жил у него; мне так и не удалось узнать, в каком именно месте он ее прятал. А нашел я ее, открытую, на полу возле очага. В ней еще оставалось немного соли. А под солью я обнаружил один из его драгоценных ножей и тот маленький кошелек с деньгами, который я когда-то оставил у него на хранение.
Мне сразу стало значительно легче: я понял, что Кугу убили вовсе не из-за этих проклятых денег. А то, что он вытащил коробку с солью наружу, а не спрятал, как всегда, в укромном месте, говорило, скорее всего, о том, что он, будучи раненым или чувствуя себя плохо, захотел взглянуть на свои сокровища, но убрать их у него не хватило сил. Когда он понял, что умирает, он бросил все как есть и вышел наружу, чтобы навсегда уснуть в том месте у ручья, где так любил сидеть.
Я засыпал маленькую могилу, разгладил землю руками и попросил Энну проводить Кугу в страну мертвых. Кошелек с деньгами я бросил на дно своего заплечного мешка, Даже не заглянув туда. Попрощавшись с Кугой, я направился вверх по холму и на северо-восток — в ту сторону, где впервые встретился с Лесными Братьями.
С тех пор как я ушел из деревни Восточное Озеро, меня не покидало чувство одиночества. А ведь когда-то одиночество доставляло мне почти наслаждение! Но то были отдельные, и крайне редкие, минуты одиночества, да и одиночества-то весьма относительного — почти всегда поблизости находились другие люди, до них, можно сказать, было рукой подать. А теперь все было иначе, и одиночество мое тоже носило иной характер. В очередной раз уйти от своих близких, от всего, что стало мне привычным и знакомым, знать, что повсюду, куда бы я ни пошел, я буду окружен чужими людьми… Сколько бы раз я ни пытался убедить себя, что это и есть свобода, все равно ощущение одиночества и полной заброшенности не проходило. И, пожалуй, тот день, когда я покинул Кугамант, оказался самым тяжелым. Я брел наугад, но находил верный путь, даже не задумываясь об этом. Добравшись до вершины того холма, где Куга тогда меня оставил, я решил сделать привал, но костра разжигать не стал, чтобы не привлекать внимания Лесных Братьев или кого бы то ни было еще. Я должен был идти один, и я пойду один! Но в ту ночь я лежал и горевал — о себе и о Куге. И о своих сородичах из деревни Восточное Озеро, о Тиссо и Гегемер, о моем добром, ленивом дядюшке — обо всех. И о Чамри Берне и Венне, и о Диэро, и даже о Барне, ибо когда-то я любил Барну. И о некогда близких мне людях из Аркаманта я тоже горевал; я вспоминал Сотур, Тиба, Рис, маленькую Око, Астано, Явена, учителя Эверру и мою дорогую Сэлло, мою возлюбленную сестру, утраченную навсегда. Да и все они были для меня потеряны навсегда. Мне очень хотелось заплакать, но слез почему-то не было, и у меня просто разболелась голова. Крупные летние звезды медленно скользили к западу, и, глядя на них, я наконец-то уснул.
Проснулся я на заре. Небо казалось прозрачным розовым куполом света над темным холмом земли. Мне страшно хотелось есть и пить. Я быстро встал, сложил вещи в мешок и пошел вниз по склону холма к ручейку, возле которого Бриджин когда-то не позволил мне вдоволь напиться. Зато уж теперь я напился вволю! Я был один — значит, я и дальше пойду один и проживу свою жизнь так, как считаю нужным, и буду пить там, где захочу! И непременно отправлюсь в Месун, где все люди свободные, где в университете учат всяким премудростям и где живет поэт Каспро!
На ходу я попытался спеть его гимн Свободе, но певцом я всегда был никудышным, да и голос мой среди этой тишины и птичьего пения показался мне похожим на карканье вороны. Так что петь я не стал, но повторял про себя слова его поэмы, и они словно оживали и шли рядом со мною, и в ушах у меня звучала тихая музыка, сплетенная из этих слов.
В лесу все быстро меняется, падают старые деревья, поднимается новая поросль, зарастают кустарником тропы, но свой путь я все время видел совершенно отчетливо и всегда находил его именно там, где искал, и позволял своей памяти подсказывать мне, что именно связано с тем или иным местом, в которое я пришел. Вот и поляна, где мы с отрядом Бриджина подобрали убитых ими ранее оленей. Там я съел свой скромный обед, жалея, что сейчас у меня нет ни кусочка той замечательной оленины. Мой заплечный мешок стал каким-то чересчур легким, и я уже подумывал, не стоит ли снова свернуть на восток, чтобы побыстрее выйти из этого проклятого Данеранского леса и попытаться купить еды в какой-нибудь деревне. Но пока что мне не очень хотелось покидать лес. Пожалуй, решил я, лучше все-таки остаться здесь и постараться как можно дальше обойти лагерь Бриджина, если он все еще существует; а потом постараться выйти на тот путь, куда в тот раз вывел нас с Венне Чамри, советуя как можно скорее уйти на безопасное расстояние от Сердца Леса и людей Барны, и оттуда двигаться прямо на север, к реке Сомулане, первой из тех двух рек, которые мне предстояло преодолеть. А по дороге к реке наверняка найдется какая-нибудь деревушка, где можно будет раздобыть еды.
Я очень даже неплохо воплощал свой план в жизнь, пока не понял, что нахожусь неподалеку от Сердца Леса, чуть восточнее этого города. Река Сомулане в этих местах как раз поворачивала на север, и я, следуя вдоль ее излучины, не сразу заметил, что оказался в знакомых местах. Мне очень хотелось есть, а в реке я заметил маленькие водовороты и сразу понял, что это играет форель, — так иной человек безошибочно определяет, например, что высоко в небе кружат именно голуби. Упустить подобную возможность я, разумеется, не мог. Спустившись на берег очень милой небольшой заводи, я быстренько собрал удилище, прицепил леску, насадил на крючок слепня и в одну минуту поймал отличную рыбину. А потом и еще одну. Когда я забрасывал леску в третий раз, меня вдруг кто-то окликнул:
— Это ты, Гэв?
Я так и подскочил. Наживку форель, конечно же, сразу слопала. Я схватился за нож и быстро повернулся к этому человеку, который стоял уже у меня за спиной. Узнал я его не сразу и лишь через несколько минут понял, что это Атер, один из тех налетчиков, которые похитили Ирад и Меле. Я сразу вспомнил, как они рассказывали об этом под пиво и этот Атер тогда сказал еще, что любит, когда женщины мягкие да ласковые. Но тогда он был крупным, даже тяжеловесным мужчиной, а теперь передо мной стоял человек настолько изможденный и оголодавший, что я смотрел на него с ужасом, хотя ни малейшей угрозы в его взгляде и не было. Скорее там читалось некое тупое удивление.
— Как ты сюда попал, Гэв? — спросил он. — А я тогда думал, что ты утонул или совсем от нас сбежал.
— Да, тогда я действительно сбежал, — сказал я.
— А теперь, значит, вернулся?
Я молча покачал головой.
— И правильно. К чему там возвращаться-то, — сказал он с тоской и посмотрел на пойманную мной рыбу. Я хорошо знал, как голодные смотрят на еду, но все же решил сперва спросить о том, что уже начинал постепенно понимать:
— Что ты хочешь этим сказать, Атер?
Он лишь беспомощно развел руками.
— Ну, — сказал он, — ты же и сам, наверно, знаешь. — Но, поскольку я продолжал молча смотреть на него, он тоже глянул на меня и пояснил: — Там же все дотла сгорело!
— Как? Неужели весь город? Неужели Сердце Леса сгорело дотла?
Он никак не мог поверить, что я действительно ничего об этом не знаю. Это событие казалось ему настолько значимым, настолько важным для всей его жизни, что некоторое время мне пришлось добиваться от него более толковых разъяснений.
В первую очередь, разумеется, меня сейчас интересовало то, где находятся остальные лесные братья и не набросятся ли на меня охранники Барны, но Атер все повторял как заведенный:
— Нет. Никто не придет. Никого нет. Все сбежали. — А потом прибавил: — Знаешь, я ведь дошел даже до той деревни, куда мы так часто заглядывали; хотел выяснить, нельзя ли там жратвой разжиться, но они и ее тоже сожгли.
— Кто?
— Солдаты.
— Из Казикара?
— Наверно.
Извлечь из него нужные сведения явно будет непросто, понял я и спросил:
— Костер-то можно разжечь? Это безопасно?
Он кивнул.
— Тогда разожги костер, надень рыбу на прутья и зажарь. У меня тут еще немного хлеба есть.
Пока Атер возился с костром, я успел поймать еще одну крупную форель. Он едва смог дождаться, чтобы рыбу слегка опалило огнем, и сразу стал есть, отчаянно спеша и давясь кусками сухарей.
— Ах, как хорошо! — приговаривал он. — Как хорошо! Спасибо, Гэв! Спасибо тебе!
Когда мы поели, я снова занялся рыбной ловлей; когда форель клюет на пустой крючок, просто грешно ей этого не позволить. Пока я ловил рыбу, Атер сидел рядом на берегу и рассказывал о том, что произошло в Сердце Леса. Хотя о многих событиях мне приходилось догадываться самому, поскольку рассказ его был на редкость бессвязен и невнятен.
Этра и Казикар теперь стали союзниками и создали некую Северную Лигу; теперь они вместе воевали против Вотуса, Морвы и более мелких городов, расположенных на южном берегу реки Морр. Еще во время войн Этры с Казикаром в деревнях была перебита большая часть проживавших там рабов, а остальные разбежались, и теперь приходилось их кем-то заменять или устраивать на них настоящую охоту. Селения поблизости от Данеранского леса давно уже полнились слухами о некоем огромном лагере или даже целом городе, основанном беглыми рабами, и новые союзники решили выяснить, что это такое. Они собрали большое войско, которое быстро преодолело расстояние между Данераном и Болотами. Люди Барны ничего не знали о готовящемся нападении, пока с внешних сторожевых постов леса не примчались гонцы и не подняли людей по тревоге.
Барна собрал всех мужчин, готовых вместе с ним встать на защиту Сердца Леса. Женщинам и детям он приказал рассыпаться в зарослях. Однако и многие мужчины потом убежали вместе с женщинами. А те, кто колебался или остался добровольно, вскоре попали в ловушку: войска Этры и Казикара окружили деревянный город и стали методично поджигать его со всех сторон; а когда пали ворота и стены, они ворвались внутрь и принялись бросать горящие факелы на крыши домов. Люди Барны, конечно, оказывали им какое-то сопротивление, но силы были неравны: «барнавиты» слишком сильно уступали нападающим в численности и в первом же сражении потерпели сокрушительное поражение. После чего оставшееся население города было буквально вырезано. Солдаты окружили горящий город и хватали каждого, кто пытался избежать страшной гибели в огне, а затем цепью прошли по лесу и переловили всех тех, кто там прятался. Они двое суток ждали, пока Сердце Леса не выгорит дотла, и только потом принялись за грабежи, хотя там не так уж много и осталось. Однако им удалось найти сокровищницу Барны. Разделив добычу, они затем разделили и пленных — половину Этре, половину Казикару — и пешим порядком отправились назад, гоня закованных в цепи рабов вместе со стадом уцелевших коров и овец. По щекам Атера текли слезы, когда он рассказывал мне об этом, но голос его оставался ровным и бесцветным. Когда подожгли город, его самого там не было — он с другими «десятинщиками» был довольно далеко на севере. Возвращаясь обратно, они еще издали увидели дым и языки пламени. Но подобраться ближе смогли лишь через пару дней, когда солдаты оттуда ушли.
— А Барна?… — спросил я, и Атер ответил:
— Говорят, солдаты отрубили ему голову и гоняли ее по земле ногами, как мяч.
Мне очень трудно было заставить себя спросить о других знакомых мне людях, но я все же спросил. Только ответов у Атера почти не нашлось; он, похоже, зачастую даже и не понимал, о ком я спрашиваю. Чамри? Он только пожал плечами. Венне? О Венне он ничего не слышал. Диэро? О ее судьбе он тоже ничего не знал. И все-таки определенной части бывших рабов тем или иным образом удалось спастись. Впоследствии большинство из них вернулись к разрушенному и сожженному городу, не зная, куда им еще податься. К счастью, уцелели кое-какие запасы зерна, хорошо припрятанные и не найденные врагом, и теперь люди жили в основном за счет этих запасов и того, что еще можно было отыскать в садах и на огородах. Но вряд ли этого могло хватить надолго. Атер опять-таки ничего внятного мне сказать был не в состоянии, но я догадывался, что налет и пожар, скорее всего, имели место с полгода назад, где-то в самом начале зимы.
— Ты теперь снова туда вернешься? — спросил я, и он кивнул.
— Там безопаснее, — сказал он. — Солдаты повсюду так и шныряют. В рабство забирают. Я тут как-то в Эббере был, так и там почти так же плохо. Совсем рабов не осталось, в полях работать некому.
— Ладно, я тоже с тобой пойду, — решил я. Я хотел все же узнать, что сталось с моим друзьями.
Поймав еще пяток увесистых рыбин, я переложил их листьями, упаковал, и мы двинулись в путь. К Сердцу Леса мы подошли, когда уже близился вечер.
Тот город, который в ту последнюю ночь предстал передо мной в серебристо-голубом одеянии из лунного света, теперь являл собой груду обугленных балок, мусора и пепла. Пеплом было усыпано все вокруг. Возле одной из обгорелых городских стен, ближе к огородам, люди устроили себе жилье — жалкие лачуги и шалаши из спасенных от пожара досок и бревен, тоже в основном почерневших от огня. Какая-то старуха, половшая грядку, поклонилась нам, отворачивая лицо. Двое мужчин сидели на пороге хижины, бессильно свесив руки между колен. На нас с лаем бросилась собака, потом завизжала и трусливо побежала прочь. На голой земле, в грязи, сидел ребенок, равнодушно взирая на нас с Атером. Но стоило нам подойти поближе, как и он поспешно убежал и спрятался.
Я пришел сюда, чтобы спросить о своих друзьях, но не мог задать ни одного вопроса. Перед глазами у меня вставали то Диэро, пойманная в ловушку в горящем доме Барны, то труп Чамри, сброшенный в общую могилу, то Венне в цепях, которого гонят по дороге, точно скотину. И я сказал Атеру:
— Нет, я не могу больше здесь оставаться! — Я отдал ему сверток с рыбой и велел: — Ты уж поделись этим с кем-нибудь.
— Куда же ты теперь? — спросил он тем же бесцветным голосом.
— На север.
— Ох, смотри, остерегайся охотников за рабами, — посоветовал Атер.
Я хотел уже повернуться и уйти, когда кто-то вдруг так крепко схватил меня за обе ноги, что я чуть не упал. Оказалось, что это тот самый ребенок, который сидел на земле и смотрел на нас, а потом удрал. Я присмотрелся: это была девочка, которая неожиданно закричала тонким, пронзительным голосом, точно птица:
— Ой, Клюворыл, Клюворыл, Клюворыл! Неужели это ты, Клюворыл!
Я попытался расцепить ее ручонки, чтобы освободить себе ноги, но она тут же вцепилась мне в запястья своими тоненькими пальчиками, умоляюще заглядывая мне в глаза, и я, вглядевшись в это исхудавшее до неузнаваемости личико, покрытое грязью, смешанной со слезами, потрясение воскликнул:
— Меле?
Она притянула меня к себе, и я подхватил ее на руки. Она почти ничего не весила, казалось, я несу призрака, но так же крепко обнимала меня за шею, как когда я входил в комнату Диэро, чтобы учить их обеих читать и писать. Прижавшись ко мне, Меле спрятала лицо у меня на плече, а я спросил у Атера, который так и застыл, с изумлением глядя на нас:
— Где же она живет?
Атер молча указал на стоявшую рядом хижину, и я двинулся было туда, но Меле прошептала:
— Не ходи туда, не ходи!
— Ты что же, не живешь там? Где же твой дом, Меле?
— Нигде.
Из дверей хижины, на которую указал мне Атер, выглянул какой-то мужчина. Я смутно помнил его и знал, что он плотник, но знакомы мы не были. У него тоже было равнодушно-спокойное выражение лица — такие лица я часто видел в осажденной Этре.
— Где сестра этой девочки? — спросил я у него. Он только плечами пожал.
— Скажи, а Диэро… не спаслась? Нет?
Он снова пожал плечами и как-то на редкость гнусно усмехнулся. Взгляд его несколько прояснился, и он спросил:
— Хочешь эту девчонку?
Я, утратив дар речи, молча уставился на него.
— «Пол-орла» за ночь, — пояснил он. — Или можно едой заплатить. Если, конечно, у тебя еда имеется. — И бывший плотник шагнул вперед, пытаясь заглянуть в мой заплечный мешок.
Я быстро прикинул, что к чему, и надменно ответил:
— Не на того напал. Я свое имущество кому попало не раздаю! — Я отвернулся от него и пошел прочь тем же путем, каким пришел сюда. Меле по-прежнему молча прижималась ко мне, крепко обхватив меня за шею и пряча лицо.
Бывший плотник что-то злобно крикнул мне вслед, залаяла собака, ей стали вторить другие псы. Я вытащил нож, то и дело поглядывая назад через плечо, но за нами так никто и не погнался.
Я прошел уже с полмили и только тогда понял, что мой маленький «призрак» на самом деле гораздо тяжелее, чем мне сперва показалось. Кроме того, следовало все-таки подумать, как быть дальше. Вскоре мы вышли на некое подобие тропы, почти совсем заросшей, и я некоторое время шел по ней, потом свернул в сторону, за густые заросли бузины, полностью скрывавшие нас от любого, кто может пройти по тропинке, и опустил Меле на землю. Потом и сам плюхнулся рядом, с трудом переводя дыхание, и она, присев возле меня на корточки, сказала тоненьким голоском:
— Спасибо тебе, Клюворыл, что забрал меня оттуда.
Ей, наверное, исполнилось уже лет семь или восемь, однако она не особенно выросла с тех пор и была такой худющей, что суставы у нее на руках и ногах напоминали узлы. Я вытащил из заплечного мешка немножко сушеных фруктов и предложил ей. Она стала есть, изо всех сил стараясь не выглядеть чересчур голодной и жадной. И даже протянула кусочек мне. Я покачал головой и сказал:
— Я не так давно поел.
Когда она проглотила сушеные фрукты, я отломил кусочек сухаря, разбил его ножом на мелкие осколки и протянул ей, предупредив, что сперва сухари нужно как следует размочить во рту слюной, а уж потом жевать и глотать. Она сунула в рот кусочек, и ее грязное исхудавшее личико немного просветлело и расслабилось.
— Меле, — сказал я, — я иду на север. Очень далеко отсюда. В город, который называется Месун.
— А можно и мне пойти с тобой? Возьми меня с собой, пожалуйста! — умоляюще прошептала она; личико ее снова стало напряженным, а глаза — очень большими, но она, похоже, опасалась лишний раз поднять их на меня.
— Ты не хочешь там оставаться? В…
— Ох, нет! Пожалуйста! Нет, нет, нет! — Она говорила все тем же напряженным шепотом. — Пожалуйста!
— Значит, там никого не осталось, кто бы…
Меле снова отрицательно помотала головой.
— Нет, нет, нет… — шептала она.
Я не знал, что делать. То есть сделать я мог только одно, но совершенно не представлял себе, что из этого выйдет.
— А ты идти сможешь? Нам придется далеко идти.
— Я сколько хочешь могу пройти! Я буду идти и идти, ты только возьми меня с собой! — горячо воскликнула она. И, застенчиво сунув в рот еще кусочек сухаря, принялась размачивать его слюной, как я велел.
— Ну что ж, — сказал я, — значит, тебе придется идти и идти.
— Я пойду, пойду! И тебе совсем не нужно будет меня нести, обещаю!
— Это хорошо. А теперь нам надо отойти немного подальше от города. Я хотел бы до наступления темноты вернуться к реке. А уже завтра мы с тобой навсегда уйдем из этого леса. Согласна?
— Да! — просияв, ответила она.
Меле действительно старалась не отставать от меня и вообще вела себя очень мужественно. Но ножки у нее все-таки были еще коротковаты, да и силенок не хватало после стольких дней голода. К счастью, мы добрались до Сомулане даже раньше, чем я предполагал, и устроились на поляне в излучине реки. Рыбалка там, правда, пошла не так хорошо, как в той чудесной заводи выше по течению, но я все же ухитрился поймать форель и парочку окуней — вполне достаточно для ужина. Ужинали мы, сидя на мягкой траве и любуясь тем, как красиво падают меж ветвями деревьев солнечные лучи, отчего поверхность воды казалась совершенно бронзовой.
— Здесь так красиво! — то и дело восхищалась Меле.
Она уснула почти сразу же после ужина, улегшись прямо на охапку травы. У меня просто сердце переворачивалось при виде этой хрупкой фигурки, свернувшейся клубочком. Как я мог взять эту малышку с собой? А как я мог ее не взять?
Бог Удачи, как известно, слушает обращенные к нему мольбы только своим глухим ухом, но я все же заговорил с ним, надеясь, что он повернется ко мне тем ухом, которое «слышит колеса звездных колесниц». «Ты всегда был со мною. Повелитель, — сказал я ему, — даже когда я об этой не знал. И я очень надеюсь, что сейчас ты не оставишь без помощи это невинное дитя. Что ты ее не обманешь». А потом я еще поблагодарил великую Энну-Ме и попросил ее сопровождать нас в пути. После этого я расстелил свое мягкое одеяло из волокон тростника, перенес на него спящую Меле, улегся с нею рядом и уснул.
Проснулись мы оба почти одновременно; на небе еще только-только разгоралась заря. Меле сбегала к реке и вернулась, вся дрожа; ей удалось отмыться почти дочиста, однако она насквозь промокла и продрогла. Я быстренько завернул ее в одеяло, чтобы согрелась, пока мы едим свой скудный завтрак. Она очень смущалась, но держалась с достоинством.
— Меле, — начал я, — а твоя сестра…
И она тут же прервала меня, сказав каким-то странным, очень тоненьким, но очень ровным голосом:
— Мы пытались спрятаться. За овечьими выгонами. Но те солдаты нашли нас. И увели Ирад. Дальше не помню.
И я вспомнил рассказ бандитов Барны о том, как они похитили этих двух девочек и как эти девочки, когда Атер хотел отшвырнуть младшую в сторону, так крепко обнялись, что их было не оторвать друг от друга. Вот только на этот раз удержать друг друга им не удалось…
У Меле дрожал подбородок. Она, потупившись, жевала сухарь, но проглотить никак не могла. Больше мы с ней об Ирад не говорили. После долгого молчания я спросил:
— Твоя деревня ведь, кажется, близ западной опушки Данеранского леса? Ты туда вернуться не хочешь?
— В деревню? — Она вскинула на меня глаза и задумалась. — Я не очень-то ее помню.
— Но у тебя там, наверное, была семья. И твоя мать…
Она покачала головой.
— Никакой матери у нас не было. Нашим хозяином был Ган Були. Он часто нас бил. И моя сестра… — Она не договорила.
Возможно, бог Удачи все-таки немного помог Меле в трудную минуту. Но не Ирад.
— Ладно, все ясно. Тогда ты пойдешь со мной, — деловито сказал я, стараясь ее успокоить. — Но послушай-ка меня. Тут дело вот в чем: нам придется идти по проезжим дорогам, через разные селения — во всяком случае, иногда, — и встречаться с разными людьми, так что, по-моему, было бы лучше тебе прикинуться моим младшим братишкой. Ты сумеешь притвориться мальчишкой?
— Конечно, сумею! — Она была явно заинтересована. Подумав немного, она заметила: — Только нужно мне имя выбрать. Я могу, например, стать Мивом.
Я чуть не вскрикнул: «Нет!», но вовремя осекся. Пусть у нее будет такое имя, какое ей самой нравится. В конце концов, Мив, как и Меле, имя весьма распространенное.
— Ладно, Мив, — сказал я с некоторым усилием. — А я тогда буду Авви.
— Авви, — повторила она и прошептала с улыбкой: — Авви Клюворыл!
— Так, хорошо. Теперь запомни: мы с тобой не рабы, потому что в Урдайле никаких рабов нет, а мы якобы оттуда. Я — студент университета в Месуне. Я учусь у одного великого человека, который живет там и сейчас ждет нас. А тебя я взял с собой, потому что хочу, чтобы ты поступил в школу при университете и тоже учился. А родом мы из тех краев, что с востока примыкают к великим Болотам.
Меле кивнула. Ей все это казалось в высшей степени убедительным. Но ведь ей и было-то всего лет восемь.
— Я очень надеюсь, — продолжал я, — что нам все-таки удастся по большей части держаться вдали от больших дорог. У меня есть кое-какие деньги, так что еду мы сможем покупать в деревнях и на фермах. Но вести себя везде нужно очень осторожно и остерегаться охотников за рабами. Если мы никого из них не встретим, то все у нас с тобой получится.
— А как имя того великого человека из Месуна? — спросила Меле. Хороший вопрос! Я совершенно не был к нему готов и задумался. А потом назвал того единственного великого человека из Месуна, которого знал:
— Его зовут Оррек Каспро.
Она кивнула.
Но, похоже, никак не могла успокоиться; что-то еще было у нее на уме, и она, поколебавшись, все-таки сказала:
— Я не умею писать, как мальчишки.
— Это не страшно. Если тебе понадобится пописать, я буду стоять на страже. Согласна?
Она кивнула. Теперь мы были готовы отправляться в путь. Чуть ниже по течению, вскоре после излучины, река стала значительно шире и мельче, и я сказал:
— Давай здесь и перебираться на тот берег. Ты плавать-то умеешь… Мив?
— Не умею.
— Ну, ладно, если там будет слишком глубоко, я посажу тебя на плечи. — Мы сняли башмаки и привязали их к моему заплечному мешку. Затем я обвязал талию Меле тонкой бечевкой, а другим концом этой бечевки обвязал себя так, чтобы между нами оставалось несколько футов. Держась за руки, мы вошли в воду, и я тут же вспомнил то свое видение — с переправой через реку — и подумал: может, именно эту девочку мне и придется нести на плечах? Кстати, плечи у меня болели еще со вчерашнего дня. Но эта река совсем не была похожа на ту, из моего видения. Тщательно выбирая путь и двигаясь зигзагом от отмели к отмели, я ни разу не погрузился в воду выше пояса и вполне мог поддерживать Меле. Только в одном месте, где течение оказалось особенно быстрым, возле намытого островка из гальки, было довольно глубоко, и я велел ей покрепче ухватиться за веревку и как можно выше держать голову над водой. Я проплыл несколько ярдов вдоль этого галечного барьера, таща за собой Меле, и вскоре встал на ноги. Берег был уже рядом, и Меле с головой ушла под воду только в самый последний момент, когда ей показалось, что она уже может стоять, но до дна достать не сумела. Она вынырнула, задыхаясь и отплевываясь, я подтянул ее к себе, и мы легко преодолели последнюю полосу мелководья, отделявшую нас от берега.
Выбравшись на берег, мы наконец перевели дыхание и принялись сушить промокшую одежду. Отдохнув и надевая обувь, я сказал Меле:
— Итак, мы с тобой переправились через первую из тех двух великих рек, которые мне суждено было пересечь. Эта страна называется Бендайл.
— А вот герой Хамнеда хоть и был ранен, но все-таки переплыл реку, верно?
Нет слов, как меня это тронуло! Дело даже не в том, что историю о Хамнеде она узнала от меня. Дело в том, что она о нем думала, что он стал ей близок настолько же, насколько был близок и мне. Мы с этой девочкой говорили на одном языке, на том языке, каким я больше никогда не пользовался с тех пор, как оставил свое собственное детство в Этре. Я обнял Меле за хрупкие плечики, и она удобно привалилась ко мне.
— Давай-ка теперь поищем какую-нибудь деревню и купим там еды, — предложил я. — Но сперва я достану немножко денег, чтобы не надо было рыться в мешке на глазах у других людей. — Я извлек свой тяжелый шелковый кошелек, от которого все еще исходил слабый запах Куги, запах дыма и гниющих шкур; похоже, правда, к нему примешивался и аромат той вяленой рыбы, которую мне дали в дорогу мои сородичи с берегов озера Ферузи. Я развязал шнурок и, открыв кошелек, застыл в недоумении. Я хорошо помнил, что было в кошельке: несколько бронзовых монет и четыре серебряных. А теперь там, помимо бронзовых монет, лежали еще девять серебряных, четыре золотых из Пагади, которые в народе называют «диктаторами», и большая золотая монета из Ансула!
Оказывается, мой дорогой Куга был не только беглым рабом, но и вором.
— Как же мне идти с такими деньгами! — в ужасе воскликнул я. Я чувствовал ту опасность, которую способны навлечь на нас эти золотые. Ведь если кто-то догадается, что у нас в заплечном мешке целое состояние… Больше всего мне хотелось попросту выкинуть эти монеты в траву и забыть об их существовании.
— Тебе их кто-то подарил? — спросила Меле.
Я кивнул, говорить я не мог.
— Тогда можно зашить эти монеты в одежду, чтобы их никто не нашел! — уверенно предложила она, с любопытством и восхищением перебирая «диктаторы». — Эти очень красивые, но та, большая, лучше всех! У тебя есть иголка с ниткой?
— Только рыболовные крючки и леска.
— Ну, может, удастся раздобыть все это в деревне? Или, может, нам по дороге коробейник встретится. А шить я умею.
— Шить я и сам умею, — глупо обиделся я. — Ну, в общем, сейчас лучше поскорее убрать все это в мешок. И зачем только мне удалось этот проклятый кошелек отыскать!
— А что, это очень много денег?
Я кивнул.
Она все еще рассматривала монеты.
— Г-о — город П-а-к- …
— Пагади, — подсказал я.
— Ой, да тут слова идут кругом, по самому краю! «Город-государство Пагади, год 8» и что-то еще… — Меле склонилась над монетой точно так же, как склонялась над книгой в доме Барны, сидя за столом у Диэро при свете масляной лампы. Потом подняла голову, гордо улыбнулась и передала мне золотую монету. Глаза ее сияли.
Я положил в карман несколько четвертаков и бронзовых «полуорлов», а кошелек снова спрятал, и мы двинулись дальше по берегу реки, потому что там была ясно видна тропа. Наверное, с час мы шли молча, потом Меле вдруг сказала:
— Может быть, в том городе, куда мы идем, нам удастся выяснить, где моя сестра? Тогда мы смогли бы отдать солдатам эти золотые монеты и выкупить ее.
— Да, конечно, мы непременно постараемся ее выкупить, — сказал я, и сердце мое болезненно сжалось. А потому я поспешно добавил с некоторой тревогой: — Только разговаривать об этом ни с кем нельзя. Вообще ни с кем.
— Я не буду, — пообещала Меле. И больше не сказала об этом ни слова.
Следуя вдоль реки, резко свернувшей к северу, мы в полдень увидели впереди довольно большой город, и мне пришлось собрать все свое мужество, чтобы войти туда. А вот Меле, похоже, совсем ничего не боялась, полностью доверяя моей силе и мудрости. Мы храбро дошли до рыночной площади, купили еды и маленькое одеяло для Меле, которое можно было также использовать и в качестве плаща. Затем я приценился к шкатулочке, где лежала крепкая новая игла и моток белых ниток. На рынке многим хотелось поговорить с нами; нас то и дело спрашивали, откуда мы идем и куда направляемся. Я, разумеется, всем рассказывал выдуманную нами историю, но этот «студент университета» для большинства местных жителей был фигурой настолько загадочной, что они просто не знали, как с нами обращаться. Полная пожилая женщина со стертыми зубами, например, потребовала целый четвертак за иголку с нитками и, с состраданием глядя на Меле, вздохнула:
— Уж больно, как я погляжу, тяжело жить в студентах такому маленькому парнишке-то!
— Просто он зимой очень много болел, — заступился я за «братишку».
— Ах ты, бедняжка! Как же тебя зовут, сынок?
— Мив, — преспокойно ответила ей Меле.
— Ну, я думаю, братец твой о тебе хорошо заботится, вот только зря он потащил тебя в такой дальний путь. Не стоит тебе пока так много пешком-то ходить, — сказала женщина. А потом — может, ей стало ясно, что я не намерен платить такую грабительскую цену за иголку, а может, по какой-то иной причине, — вдруг что-то протянула Меле и пояснила: — А это тебе, пусть Энну хранит вас обоих в пути. Да возьми, не бойся, это подарок! Не стану же я брать деньги с ребенка за то, что его благословила! — И она снова протянула Меле маленькую фигурку кошки, вырезанную из темного дерева, с медной проволочной петелькой, чтобы можно было носить ее на цепочке как подвеску; я заметил у нее на подносе несколько таких крошечных изображений Энну-Ме. Меле вопросительно подняла на меня свои огромные глаза, и я вспомнил, что они с Ирад обе носили на шее такие фигурки, хотя эта кошечка была, пожалуй, более тонкой работы. Разумеется, я тут же вручил торговке требуемый четвертак, взял иголку с ниткой и кивнул Меле, чтобы она приняла подарок.
Стиснув в ладошке фигурку богини, она поднесла сжатый кулачок к ямке под горлом и с благодарностью посмотрела на торговку.
На этой рыночной площади я чувствовал себя неожиданно спокойно и свободно. Нас тут никто не знал; мы были просто путниками, растворившимися в толпе таких же людей, но отнюдь не чувствовавшими себя одинокими даже в этом диком краю. Заметив на каком-то прилавке сладкие жареные пирожки, источавшие восхитительный аромат, я предложил Меле:
— Давай-ка купим пирожков. — И мы, держа в руках по горячему пирогу, присели на широкий край прохладного фонтана, чтобы перекусить. Тесто оказалось довольно тяжелым, масляным, и Меле с трудом съела только половину своего пирога. Я искоса на нее глянул и вдруг увидел то, что сразу заметила та торговка с плохими зубами: этот чрезвычайно худой ребенок прямо-таки падает от усталости.
— Ты, похоже, устал, братец Мив? — спросил я.
После недолгой борьбы с собой Меле сдалась — опустила плечи, уныло кивнула и сгорбилась.
— А давай сегодня переночуем в какой-нибудь гостинице, — беспечным тоном предложил я. — Вряд ли у нас потом будет еще такая возможность, а этот городок кажется мне вполне симпатичным. Все-таки ты сильно промокла и замерзла, когда мы вброд переходили ту реку. Да и вообще сегодня мы очень много прошли, так что вполне заслужили возможность как следует выспаться в настоящей постели.
Меле еще больше сгорбилась, посмотрела на свой истекающий жиром пирог и показала его мне.
— Ты не мог бы его съесть, Клюворыл? — прошептала она смущенно.
— Я могу съесть все, что угодно, Пискля! — с энтузиазмом воскликнул я и тут же это доказал. — Вот и все. А теперь идем. Тут неподалеку, совсем рядом с рыночной площадью, я приметил одну гостиницу.
Жене хозяина гостиницы Меле явно очень понравилась — похоже, моя маленькая спутница служила нам пропуском к людскому сочувствию. Нас проводили в очень уютную комнатку, расположенную в задней части дома, где была широкая, хотя и несколько коротковатая кровать. Меле тут же улеглась и свернулась калачиком, по-прежнему крепко сжимая в кулачке фигурку Энну-Ме. Свой новый «плащ» она снять не пожелала. «Мне в нем тепло», — все повторяла она, и я увидел, что ее бьет озноб. Я накрыл ее сверху еще одеялом, и она вскоре уснула. А я сел в кресло у окна и задумался. Я так давно не сидел в кресле, давно уже не бывал в обычном, большом и прочном, доме, который совсем не похож на хижины болотных людей, где стены сделаны из тростниковых циновок. Затем я вытащил из мешка книгу Каспро и немного почитал. Я давно уже выучил «Космологии» наизусть, но уже одно то, что я держу в руках книгу и слежу взглядом за строчками, действовало на меня успокаивающе, а мне так необходима была поддержка. Я, в общем-то, и с самого начала не слишком хорошо понимал, что делаю и куда иду; а теперь еще и взвалил на себя ответственность за этого ребенка, что как минимум должно было сильно замедлить мое продвижение на север. А что, если мне оставить Меле у кого-нибудь здесь, в этом городке, и позже вернуться за нею? — вдруг подумал я. Оставить ее? Вернуться за ней? Но откуда вернуться? Я посмотрел на нее. Она крепко спала. И я тихонько вышел из комнаты и заказал нам обед.
Когда Меле проснулась, я подал ей большую чашку куриного бульона, и она села в постели, чтобы его выпить, но отпила совсем немного. Мне показалось, что у нее жар, и я решил посоветоваться с женой хозяина гостиницы, которую звали Амено. С первого взгляда она производила впечатление женщины доброжелательной и очень веселой, впрочем, этого и требовали от нее обязанности хозяйки гостиницы, но мне показалось, что вся эта веселость напускная и что на самом деле Амено — женщина очень спокойная, серьезная и рассудительная. Она пришла, посмотрела на Меле и сказала, что «мальчик» мог чем-то заразиться в пути, а может, просто сильно устал.
— Ты иди поужинай, — сказала она мне, — а я разожгу пожарче огонь и за ребенком присмотрю. — Она убедила Меле отдать ей фигурку богини-кошки, сказав, что проденет в петельку цепочку и вернет ей. Девочка внимательно следила за тем, как она это делает, а потом снова задремала. Я спустился в общий зал и отлично поужинал жареной бараниной, тут же, разумеется, с любовью и грустью вспомнив Чамри Берна.
Мы прожили в этом городишке, который назывался Рами, четверо суток. Амено, естественно, довольно быстро догадалась, что Меле — не мальчик; она дала мне это понять, но вслух никаких вопросов не задавала, прекрасно понимая, почему девочка могла захотеть путешествовать в обличье мальчика, и никаких намеков на сей счет не отпускала. Меле, к счастью, не заболела, но действительно была чуть жива от голода и усталости. Три дня отдыха, хорошей еды и доброй заботы Амено сотворили с малышкой настоящее чудо. На третий день, сидя в постели, Меле аккуратно зашила наши золотые в мою одежду и снова уснула. Я бы с удовольствием остался в Рами еще на несколько дней, чтобы окончательно поставить девочку на ноги, поскольку путешествие нам предстояло еще долгое, если бы на четвертый вечер кое-что случайно не услышал, спустившись в общий зал гостиницы, чтобы посидеть у камина.
Здешние мужчины каждый вечер заходили туда, чтобы выпить стаканчик сидра или кружечку пивка, поболтать друг с другом или с постояльцами гостиницы, если, разумеется, те были не против. Местные сперва держались со мной несколько скованно, даже настороженно, считая, видимо, что я студент, столичная штучка и беседовать с ними не стану. Однако, увидев, что я всего-навсего молодой парнишка, говорю мало и веду себя скромно, они вскоре перестали меня стесняться и стали относиться ко мне вполне по-дружески. Беседа у них шла в основном о местных делах и событиях, но порой к ней присоединялись и путешественники, которые рассказывали об иных краях и о том, что творится в мире. Это было мне особенно интересно, ведь я так долго прожил в лесу и на Болотах, не имея никаких сведений ни о городах-государствах, ни о Бендайле.
Меле крепко спала после отличного ужина, и я никуда не торопился. Вскоре разговор зашел о Барне и «барнавитах». У каждого имелась своя история об этих «благородных разбойниках», которые частенько совершали грабительские налеты на дороги, фермы и торговые селения. Некоторые из этих историй сильно напоминали те романтические сказки, которые я слышал еще в детстве, в Этре. Но тут один человек подтвердил, что люди Барны действительно занимаются «благородным разбоем», и рассказал, что три года назад они угнали у него половину стада, которое он собирался продать на рынке, и угнали «по-честному», пересчитав животных и разделив их «одно тебе, одно нам». А ведь запросто могли бы угнать и все стадо! Вот почему он, по его собственным словам, и проклинать-то их мог только вполсилы. У меня, впрочем, сложилось впечатление, что и слушатели тоже поверили этому рассказчику лишь наполовину.
Затем посыпались истории о лесном городе Барны, одна другой краше. Один рассказывал, например, что в домах у «этих беглых рабов» полным-полно красивых женщин, а краденого золота у них столько, что они кроют им крыши, так что, когда солдаты подожгли город, это золото расплавилось и потекло ручьями в канавы. Каждый что-то знал о Барне, и все считали его великаном с огненно-рыжей шевелюрой, который собирался напасть на Азион, затем стать правителем Бендайла и сделать так, чтобы рабы правили своими бывшими хозяевами. Затем вдруг возник спор — можно или нельзя доверять рабам, — и тут же все согласились на том, что нельзя, каким бы верным тот или иной раб ни казался. Разумеется, были приведены многочисленные примеры предательств, совершенных рабами.
— А вот вам и еще подходящая история, — сказал один из постояльцев гостиницы, скупщик шерсти из восточного Бендайла. — О неверном рабе и о верном. Я только что ее слышал. Один мальчишка, уроженец Болот, был некогда гордостью своих хозяев из города Этры. Он мог рассказать любую историю, спеть любую песню, какую пожелаете, — он знал их все. Этот раб стоил своим хозяевам никак не меньше ста золотых монет. И что вы думаете? Он соблазнил хозяйскую дочку и сбежал, украв целый мешок золота. Хозяева, разумеется, послали вдогонку охотников за рабами, но никто его так с тех пор и не видел; говорили, будто он утонул. В общем, поиски потихоньку заглохли. Но у хозяйского сына был верный раб, который поклялся, что отыщет беглого мальчишку и вернет его в Этру, чтобы хозяева могли подвергнуть его надлежащему наказанию за то, что он опозорил их дом. И этот верный раб сумел выйти на след беглеца, а потом еще и услышал, будто некий молодой раб, которому удалось скрыться в лесном городе Барны, славится тем, что умеет рассказывать любые истории. Сам Барна, будучи рабом образованным, весьма ценил этого юношу. Только тот и его обманул и еще до того, как в лес пришли солдаты, снова исчез. Но верный раб продолжал охотиться за ним. Я тут разговаривал с одним человеком, который этого раба хорошо знает и называет его Трехбровым. Так этот раб ему рассказывал, что уже побывал и на Болотах, и в Казикаре, и в Пираме, но не остановится до тех пор, пока не поймает этого беглеца, даже если на это уйдет вся его жизнь. Вот это, по-моему, действительно верный раб!
Остальные выразили свое согласие с оратором, хотя и довольно умеренное. Я тоже покивал в знак согласия, но сердце мое вмиг похолодело как лед. То, что я назвался студентом, надеясь, что эта выдумка спасет меня от подозрений, теперь, похоже, как раз могло меня погубить. Ах, если б только проклятый торговец не сказал, что тот беглец родом с Болот! Весь мой облик, особенно цвет кожи, свидетельствовал об этом! Это всегда привлекало ко мне повышенное внимание, и, разумеется, торговец тоже меня заметил и, оторвавшись от пивной кружки, спросил:
— А ведь и ты, похоже, родом с Болот. Ты ничего не слыхал о том знаменитом рабе?
Говорить я был не в силах и лишь покачал головой, старательно напустив на себя равнодушный вид. Затем последовали новые истории о беглых рабах и охотниках за рабами. Я сидел, слушал, пил свой сидр и твердил себе, что не должен поддаваться панике, что никто еще не подверг сомнению выдуманную мной историю, что присутствие ребенка, «мальчика», должно отвести от меня любые подозрения, что завтра нас с Меле здесь уже не будет. Да, конечно, я совершил ошибку — нельзя было оставаться так долго на одном месте. Но, с другой стороны, Меле просто не смогла бы продолжать путь, если бы мы не передохнули. Ничего, уверял я себя, все будет хорошо. Еще несколько дней — и мы доберемся до той, второй, реки, переправимся через нее и станем свободными.
В тот вечер я поговорил с Амено и спросил, не знает ли она кого-либо из возниц, отправляющихся на север, которые согласились бы за плату подвезти нас. Она сказала, куда мне нужно пойти. Рано утром я поднял еще совсем сонную Меле с кровати, и мы вышли из дома. Провожала нас только Амено. Она приготовила нам в дорогу сверток с едой и с благодарностью приняла серебряную монету, которую я предложил ей в уплату. «Да пребудет с вами бог Удачи! Да хранит вас Энну!» — сказала она и крепко-крепко обняла Меле. Затем мы прошли, окутанные утренним туманом, через весь город и в каком-то дворе действительно обнаружили несколько повозок, готовящихся к отправке в дальний путь. Некоторые из возниц с удовольствием брали и пассажиров. Нам повезло: один из них согласился подвезти нас до селения Тертуди, находившегося, по словам этого возницы, примерно на полпути к большой реке. Я не очень хорошо помнил карту этой части Бендайла, так что приходилось полагаться на то, что говорили мне эти люди; я знал лишь, что река находится где-то на севере, а город Месун — на ее противоположном берегу и чуть восточнее.
Медлительным лошадкам нашего возницы потребовался целый день, чтобы добраться до Тертуди, жалкого городка, в котором даже гостиницы не было. Впрочем, мне и не хотелось там останавливаться. Меня наверняка бы заметили, а после тех нескольких дней, что мы провели в Рами, мне очень хотелось не оставлять после себя больше никаких следов. В Тертуди мы даже ни с кем не разговаривали. Расставшись с нашим возницей, мы тут же вышли на дорогу и отшагали по крайней мере пару миль среди заросших травой лугов, а потом устроились на ночлег на берегу небольшого ручья. Вокруг в теплом вечернем воздухе громко пели сверчки. Меле с удовольствием поела и сказала, что совсем не устала. Она очень просила меня рассказать ей одну хорошо знакомую нам обоим историю. Она так и сказала: «Расскажи мне, пожалуйста, ту историю, которую я давно знаю». И я рассказал ей начало «Чамбана». Она слушала внимательно, почти не шевелясь, и только под конец у нее стали слипаться глаза. Она зевнула и уснула, свернувшись калачиком под своим «плащом», прижимая к ямке под горлом крошечную фигурку кошки.
Я лежал и, слушая пение сверчков, высматривал на небе первые звезды. Потом мирно соскользнул в сон, однако среди ночи вдруг проснулся. Мне показалось, что на лугу, среди стогов сена, я заметил какого-то человека; он стоял и смотрел в нашу сторону. Я узнал его, узнал его лицо и тот шрам, что пересекал его бровь. Я попытался встать, но не мог пошевелиться, я был точно парализован, как когда принимал те снадобья, что давал мне Дород; сердце молотом стучало у меня в груди. Была глубокая ночь, в небе сияли звезды. Сверчки и цикады почти все уже смолкли, но один все еще продолжал трещать где-то рядом. Я сел. Но никого на лугу видно не было. Впрочем, заснуть мне все равно уже не удалось.
Мне было чрезвычайно грустно сознавать, что последним звеном, связывающим меня с Аркамантом, оказалась злобная ненависть. Сам я теперь уже с благодарностью мог вспоминать тех, с кем прожил в этом доме столько лет, я был от всей души признателен им за то, что они мне дали — доброту, безопасность, знания, любовь. Мне и в голову никогда бы не пришло, что, например, Сотур или Явен могут меня обмануть, предать мое доверие. И теперь пусть отчасти, но я уже способен был понять, почему мое доверие предали Мать и Отец Аркаманта. Хозяин живет в той же ловушке, что и раб, и, возможно, ему, хозяину, даже труднее выбраться из этой ловушки, увидеть, что находится за ее пределами. Впрочем, Торму и его двойнику, рабу Хоуби, никогда и не хотелось узнать, что за пределами привычной ловушки есть и что-то еще, какая-то другая жизнь; для них не существовало ничего более ценного, чем власть, возможность управлять другими людьми и жестоко подавлять их. Так что если бы Торм узнал, что я действительно сбежал и бегство мое оказалось столь успешным, это сильно уязвило бы его душу. Ну а Хоуби, с рождения, по-моему, преисполненного ненависти и зависти ко всему на свете, просто в бешенство привело бы известие о том, что я стал свободным человеком, и уж он-то непременно попытался бы меня найти и отомстить. Так что я почти не сомневался: он наверняка меня преследует и, возможно, уже идет за мной по пятам. Хоуби я действительно очень опасался, понимая, что мне не по силам с ним тягаться. Тем более теперь, когда его заложницей может стать маленькая беспомощная Меле, способная пробудить всю его жестокость. А я прекрасно знал, какова эта жестокость.
Я разбудил Меле задолго до рассвета, и мы сразу же пустились в путь. Я знал только одно: нам нужно как можно быстрее идти вперед.
Весь день мы шли по просторной равнине, покрытой, точно волнами, невысокими округлыми холмами. Встречные селения мы старались обходить как можно дальше и избегали приближаться даже к немногочисленным одиноким фермам, где во дворах лаяли собаки. Впрочем, человеческое жилье здесь попадалось редко; кругом были сплошные пастбища с сочной травой и множество скота. Один раз мы случайно повстречались с каким-то пастухом верхом на лошади, который тут же спешился и пошел рядом с нами, ведя коня в поводу. Ему, видно, осточертело одиночество и хотелось с кем-нибудь поговорить. Меле сперва его немного побаивалась, да и я был ему не слишком рад. Однако он не проявил ни малейшего любопытства, даже не спросил, кто мы, откуда идем и куда направляемся. Он тащился рядом с нами и без умолку рассказывал о своем коне, о своем стаде, о своих хозяевах — обо всем, что ему в голову приходило. Меле постепенно оттаяла и почувствовала себя свободнее, но, когда пастух предложил ей прокатиться на лошади, она снова от него шарахнулась. Впрочем, его дружелюбная небольшая лошадка ей очень нравилась, и в итоге она все же позволила мне подсадить ее в седло.
Наш новый приятель рассказал, что должен найти и отогнать назад часть хозяйского коровьего стада, отделившуюся от основного; он знал, что коровы где-то поблизости, но, похоже, не особенно спешил выполнить поручение. Он преспокойно прошел вместе с нами не одну милю, ведя коня под уздцы. Меле ехала в седле и выглядела совершенно счастливой. Когда я спросил пастуха, есть ли где-то здесь большая река, которая называется Сенсали, он сначала меня не понял, и мы довольно долго говорили загадками, причем он утверждал, что река должна быть на востоке, а не на севере. В конце концов он воскликнул:
— Ах вот вы о чем! О Салли! Но я только ее название и знаю. Ну, и еще то, что она очень далеко отсюда, прямо-таки на краю света! А недалеко отсюда протекает река Амбаре; она, по-моему, как раз в Салли-то и впадает, только я не знаю, где именно. Только пешком вам долго туда идти придется. Вы бы лучше лошадей раздобыли!
— Значит, если идти на восток, то как раз к этой вашей реке и выйдешь?
— Да, но и до Амбаре отсюда тоже довольно далеко. — Пастух долго и сложно объяснял нам, как туда добраться, перечисляя всякие тропы, проложенные погонщиками скота, и закончил совершенно неожиданно: — Но если идти напрямик, через холмы, так можно и очень быстро туда попасть.
— Ну что ж, мы, пожалуй, через холмы и пойдем, — сказал я, и он тут же заявил:
— Так и я, может, с вами пойду, а? Вдруг эти чертовы коровы где-нибудь там?
Мне это показалось подозрительным. Не зря же говорят, что страх туманит разум. Я шел и думал: а что, если ему кто-то поручил следить за нами и заманить нас в ловушку? Но я не знал, как от него избавиться. Хотя сперва у меня в нем ни малейших сомнений не было; я видел, что это просто очень одинокий человек, которому хочется иметь спутников и который рад доставить удовольствие ребенку. Заметив, что я умолк и задумался, он не стал мне докучать и принялся беседовать о чем-то с Меле, которая застенчиво расспрашивала его о лошадях и конской сбруе. Вскоре он уже позволил ей самой держать поводья и объяснял, как можно заставить Брауни бежать рысцой. Голос у него был негромкий, мягкий; он одинаково хорошо ладил и с конем, и с ребенком. Правда, когда он протянул к Меле руку, чтобы показать, как нужно держать поводья, она в страхе так шарахнулась, что чуть не свалилась с седла. После этого он старался не подходить к ней слишком близко, проявляя безусловный врожденный такт. В общем, трудно было ему не верить, однако тревога и подозрения продолжали терзать мою душу. Если до Сенсали действительно так далеко, как говорит этот человек, называя те места «краем света», сколько же времени мы с Меле будем туда добираться? Ведь в день мы могли пройти не больше десяти миль, а если мы так и будем без конца ползти по этой открытой равнине, то обнаружить нас любому, кто этого хочет, будет совсем не трудно.
Впрочем, оказалось, что наш добровольный проводник сказал правду: вскоре, миновав гряду невысоких холмов, мы увидели довольно большую реку, текущую на северо-восток. На вершине одного из холмов мы уселись под раскидистыми буками, чтобы перекусить. Брауни, разумеется, тоже получила свою торбу с овсом. Меле называла нашего спутника «пастух-ди», что страшно его веселило, а он называл ее «сынок», принимая, естественно, за мальчика. Меле сидела подле меня, но разговаривала только с пастухом, и основной темой их разговоров были лошади и коровы. Я заметил, что Меле так и сыплет вопросами, что, в общем-то, свойственно всем детям ее возраста, однако она делала это так, чтобы избежать любых встречных вопросов о себе или обо мне, маленькая хитрюшка.
С вершины того холма, где мы сидели, были видны изредка проплывавшие по реке лодки и барки, и наш спутник сказал:
— Вот вам и река! По берегу доберетесь до города, а там сядете в лодку, и вас отвезут куда надо.
— А где же город-то? — удивилась Меле.
— Чуть подальше, вон там, за излучиной, — сказал он, неопределенно махнув рукой в ту сторону, где река скрывалась за холмом. — А я, пожалуй, дальше с вами не пойду. Вряд ли мои коровы дальше этих мест забрели. Уж в городе-то их точно нет. А вы ступайте туда, берите лодку, и вас отвезут куда надо, правильно я говорю?
Я подумал: как странно, что он два раза в точности повторил слова «вас отвезут куда надо», словно его этим словам научили. Неужели его научили, как заманить нас в ловушку?…
— Да, это было бы здорово — на лодке по реке проплыть! — сказала Меле. — Правда, Авви?
— Да, наверное, — рассеянно ответил я.
Меле ласково попрощалась с Брауни, долго гладила лошадку и что-то ей шептала, обнимая за длинную шею; да и с пастухом она попрощалась тоже очень тепло, хотя и без объятий, так и не позволив ему даже прикоснуться к себе. Она долго смотрела ему вслед, а когда он скрылся за холмом, грустно вздохнула. Когда мы уже спускались по склону холма к реке, она вдруг сказала:
— Они были такие красивые!
И мне стало стыдно. Но я по-прежнему не мог отделаться от снедавшей меня тревоги.
— Так мы действительно пойдем в город и сядем в лодку? — спросила она через некоторое время.
— Не думаю.
— А почему нет?
И тут я понял, что не нахожу слов, чтобы объяснить ей, почему нам нельзя идти в город, почему мы должны и дальше идти пешком. Можно было бы, конечно, сказать, что мы должны избежать встречи с тем, кто нас преследует, однако и мне самому отнюдь не казалось, что так мы сумеем уйти от опасности.
— Или можно было бы купить лошадей, как советовал пастух-ди, — не умолкала Меле. — Вот только… лошади, наверно, очень дорогие, да?
— Да, довольно дорогие. И, кроме того, нужно еще уметь ездить верхом.
— Я теперь умею. Почти.
— А я нет, — отрезал я.
И мы пошли дальше. Спускаться с холма было легко, и Меле скакала вприпрыжку. Внизу мы обнаружили какую-то тропку, ведущую в сторону реки, и пошли по ней.
— Раз ты не умеешь ездить верхом, — сказала Меле, — значит, было бы все-таки лучше взять лодку. Разве я не права?
Ответственность за нее теперь прямо-таки придавливала меня к земле, точно каменная глыба. Если бы я был один, то уж как-нибудь сумел бы спрятаться, уйти от преследования, сбежать. Я сердился на Меле за то, что она задерживает меня, заставляет меня замедлять шаг, спорит со мной насчет того, как нам лучше добраться до цели…
— Не знаю, — сухо ответил я.
Мы двинулись дальше, и снова мне приходилось приноравливать свой шаг к маленьким шажкам Меле. Вскоре мы вышли на проезжую дорогу; река была уже совсем близко. А потом показались и крыши домов, а чуть правее и причалы с привязанными к ним лодками.
И тогда я стал просить бога Удачи благословить эту девочку, не оставить ее, как когда-то он не оставил и меня. Неужели и он обманет мое доверие? — думал я. Только глупец действует так, словно ему все известно лучше, чем богу Удачи. Я, разумеется, часто делал глупости, но глупцом все же не был.
— Ладно, доберемся до города, а там посмотрим, — сказал я Меле после долгого молчания.
— У нас ведь хватит денег на лодку, да? Хватит?
Я кивнул.
В общем, когда мы, миновав яблоневые сады, вошли в город, то сразу направились к реке и стали высматривать лодку. Но ни одной лодки у причалов не оказалось, да и на пристани не было ни души. На выходившей к причалам улочке мы заметили маленькую гостиницу, и я заглянул в ее распахнутые двери. Из-за буфетной стойки тут же вынырнул какой-то карлик ростом не выше Меле. У него была огромная голова, но лицо очень красивое, хотя и хмурое.
— Тебе чего. Болотник? — спросил он почти сердито.
Я чуть тут же не бросился бежать. Но он продолжал ворчливым тоном задавать вопросы:
— Кто это там с тобой? Щенок? Нет, клянусь Сампой, мальчонка! Да и сам-то ты не больно взрослый. Оба вы еще дети малые, как я погляжу. Ну, так чего вы хотите? Молока?
— Да, — сказал я, и Меле прибавила:
— Да, пожалуйста!
Он тут же подал нам две кружки молока, мы уселись за маленький столик и стали пить. А он стоял за стойкой и посматривал на нас. От его взгляда мне стало как-то очень не по себе, но Меле, похоже, его присутствие ничуть не беспокоило; выпив молоко, она и сама без малейшего стеснения уставилась на карлика, а потом спросила:
— А черная кошка у вас есть?
— С чего бы это мне черную кошку держать? — удивился он.
— А так написано на картинке, что висит у вас над дверью.
— Ага! Нет. Это просто дом так называется. А Черная Кошка — это символ госпожи нашей Энну, да будет тебе известно. Ну и куда же вы направляетесь, ребятишки? Да еще и совсем одни.
— Вниз по реке, — сказал я.
— Так вы, наверное, на лодке приплыли. — Он выглянул в открытую дверь, проверяя, не стоит ли у причала наша лодка.
— Нет. Мы пешком пришли. Но дальше хотели бы, конечно, на лодке, если кто-нибудь захочет нас взять.
— Сейчас и лодок-то подходящих нет, — задумался хозяин гостиницы. — А барка Педри только завтра придет.
— И что, он потом вниз по реке отправится?
— До самой Салли, — кивнул он; похоже, в этих местах все именно так называли реку Сенсали.
Он налил Меле еще молока, а сам протопал к буфетной стойке и вернулся с двумя полными кружками сидра. Одну он поставил передо мной, а вторую приподнял в знак приветствия.
Я чокнулся с ним. Меле тоже подняла свою чашку с молоком и чокнулась с нами.
— Оставайтесь ночевать, если хотите, — предложил мне хозяин, и Меле тут же воззрилась на меня с радостной надеждой. Близился вечер, и я, постаравшись выкинуть из головы свои страхи, решил принять то, что предлагал нам бог Удачи. Я кивнул, и карлик спросил:
— У тебя заплатить-то есть чем?
Я вынул из кармана пару бронзовых монет.
— Это хорошо. Потому что если б не нашлось, я бы съел этого парнишку, ясно? — с самым серьезным видом сказал он и, страшно разинув рот, двинулся на Меле. Она ойкнула, спряталась за меня, но тут же рассмеялась — даже раньше, чем я сумел заставить себя улыбнуться в ответ на его шутку. Он тоже улыбнулся и отошел от нас, а Меле пропищала ему вслед:
— Как ты меня напугал!
По-моему, он был очень доволен, но я-то чувствовал, как испуганно бьется сердечко у моей маленькой спутницы.
— Убери свои деньги, — буркнул он мне. — Будешь уходить, тогда и договоримся.
Он отвел нас в маленькую комнатку наверху, в передней части дома; ее низкие окна выходили на реку. Там было вполне чисто, но почему-то стояло очень много кроватей, штук пять, по крайней мере, плотно придвинутых друг к другу. Положив вещи, мы спустились, и хозяин подал нам вкусный ужин, который мы съели в компании портовых грузчиков, которые, как оказалось, ужинали у него каждый день. Грузчики ели молча, да и сам хозяин на этот раз тоже говорил немного. После ужина мы с Меле пошли прогуляться вдоль причалов и полюбоваться отблесками заката на речной воде, потом сразу поднялись к себе и легли спать. Сперва я никак не мог уснуть; разум мой метался, не в силах разобраться в путанице мыслей и беспочвенных страхов. Наконец я все же провалился в сон, но спал недолго и некрепко, а потом и вовсе сел на постели и попытался вслепую нашарить свой нож, который положил рядом на пол. На лестнице послышались осторожные шаги. Скрипнула дверь.
И в комнату вошел какой-то человек. Я с трудом различал его массивный силуэт в слабом свете звезд, лившемся из окна. Я сидел неподвижно, крепко сжимая нож и затаив дыхание.
Огромная темная фигура ощупью пробралась мимо меня к ближайшей кровати. Человек сел, и на пол с глухим стуком упали его башмаки. Затем он лег, немного повозился, чертыхнулся, замер и больше не шевелился. Вскоре он вовсю захрапел, но я почему-то решил, что это просто хитрость, что он хочет убедить нас, будто спит, а на самом деле… Но он все продолжал храпеть и сопеть, а я просидел так до самого рассвета.
Когда Меле проснулась и обнаружила в комнате незнакомого мужчину, то очень испугалась. И стала просить меня поскорее уйти оттуда.
Хозяин подал Меле на завтрак теплого молока, а мне налил теплого сидра; на столе был также отличный свежий хлеб и персики. Мы поели, но меня по-прежнему снедало сильное беспокойство, и я, решив не дожидаться той барки, сказал хозяину, что мы, пожалуй, пойдем пешком. Карлик пожал плечами:
— Хотите идти пешком, так идите. Но, вообще-то, барка часа через два как раз в ту сторону поплывет.
Меле обрадовалась, закивала, и я сдался.
Барка подошла к причалам поздним утром; это было длинное тяжелое судно, на палубе которого, ровно посредине, возвышалось нечто вроде жилого дома, что сразу напомнило мне лодку Аммеды, который отвез меня на озеро Ферузи. Палуба барки была сплошь заставлена корзинами, упаковочными клетями и тюками сена; я заметил также несколько клеток с курами и груду каких-то свертков. Пока шла разгрузка и погрузка, я спросил шкипера, может ли он взять нас на борт, и мы довольно быстро договорились; за одну серебряную монету он готов был довезти нас до самой Сенсали, но сказал, что спать нам придется на палубе. Я вернулся в «Черную кошку», чтобы уплатить по счету.
— Один «полуорел», — сказал мне карлик.
— Но ведь нас двое! Две постели, еда, выпивка, — запротестовал я, выкладывая перед ним четыре бронзовые монеты.
Он подтолкнул две из них ко мне и сказал без улыбки:
— У меня не так часто бывают постояльцы моего роста.
Итак, где-то в полдень мы покинули этот городок на борту судна, принадлежавшего шкиперу Педри, и поплыли вниз по реке Амбаре. Солнце ярко светило, у причалов царила веселая суматоха, и Меле была радостно возбуждена, впервые оказавшись на борту «настоящего корабля», но от шкипера и его помощника старалась держаться подальше и жалась ко мне. Оказавшись на воде, я испытал невероятное облегчение и даже помолился про себя Повелителю Всех Вод и Источников — этой молитве я научился у своего дяди Меггера. Стоя рядом с Меле, я смотрел, как грузчики отвязывают чалки, как шкипер отдает команды, как медленно расширяется полоса кипящей воды между бортом судна и причалом. И в тот момент, когда барка уже развернулась по фарватеру, я увидел, что к причалам быстро идет какой-то человек. Я внимательно пригляделся и узнал Хоуби.
Мы с Меле стояли на самом видном месте, у стены того «домика» на палубе, и я мгновенно присел, закрыв руками лицо.
— Что случилось? — спросила Меле, тоже присев возле меня на корточки.
Я осторожно, из-под руки, глянул на берег. Хоуби стоял на причале и смотрел вслед нашей барке, и я не мог бы с уверенностью сказать, видел он меня или нет.
— Клюворыл, что случилось? — снова шепотом спросила встревоженная Меле.
И я, собравшись с силами, ответил ей:
— Похоже, нам здорово не повезло.
Глава 15
Город вскоре скрылся за кормой; мы вошли в излучину реки и плыли, легко несомые течением. Жарко пригревало солнышко, а мы с Меле стояли у поручней, и я объяснял ей, что увидел на причале одного очень плохого человека, которого знал когда-то, и теперь опасаюсь, что и он, возможно, меня узнал.
— Это один из людей Барны? — шепотом спросила Меле.
Я покачал головой.
— Нет, я знал его гораздо раньше. Когда еще был рабом в том большом городе.
— А он что, действительно очень плохой? — снова спросила она, и я твердо сказал:
— Да, очень.
Вряд ли Хоуби успел меня заметить, думал я, и все же этого было маловато для полного спокойствия; ведь ему достаточно спросить людей на пристани или хозяина «Черной кошки», не видели ли они молодого человека с темной кожей и длинным носом, похожего на жителя Болот.
— Но ты не бойся, — сказал я Меле. — Ведь мы-то на лодке, а он на земле.
Однако мои слова прозвучали не слишком успокаивающе. У барки была та же скорость, что и у течения реки; собственно, река и несла ее, а рулевой на корме лишь слегка направлял судно с помощью длинного рулевого весла. Кроме того, барка заходила в каждое селение на берегу и повсюду брала на борт или сгружала различные грузы и пассажиров. Шкипер объяснил нам, что когда барка поплывет обратно, вверх по течению, то ее будут тащить лошади на бечеве, так что скорость у нее будет еще меньше. Да мы и сейчас-то, по-моему, едва плыли! Амбаре, протекавшая по обширной плоской равнине, явно никуда не спешила и текла неторопливо, плавно, то вдруг заглядывая куда-то в сторону, то почти останавливаясь и превращая свои берега в сущее болото. Погонщики скота, видно, пользовались той же хорошо утоптанной тропой, по которой шли лошади, таща барку против течения, и мы часто проплывали мимо большого стада, остановившегося, чтобы напиться. Коричневые и пестрые коровы шлепали по мелководью, медленно продвигаясь, как и мы, вниз по реке, и нашей барке требовалось немало времени, чтобы обогнать их и оставить позади.
Но в целом эти дни, проведенные на реке, оказались просто чудесными, исполненными благостной лени и спокойствия. Но стоило нам подойти к пристани какого-нибудь селения, как сердце мое начинало беспокойно биться, и я всматривался в каждое лицо на берегу. Мне все время казалось, что, возможно, было бы разумнее сойти с судна где-нибудь на восточном берегу и оттуда пешком добираться до Сенсали, обходя стороной все города и деревни. Но увы, Меле, которая, правда, в последнее время значительно окрепла, не смогла бы идти ни слишком долго, ни слишком быстро, так что, видимо, было все же лучше плыть хотя бы до тех пор, пока между нами и нашей целью будет не больше одного дня пути пешком. Наша барка направлялась в город Беметте, находившийся у слияния двух рек, Амбаре и Сенсали, и я решил, что в этот город нам попадать ни в коем случае нельзя, хотя там, по словам нашего шкипера, ходил паром через Сенсали, и это было бы очень кстати. Однако я почти не сомневался, что именно возле парома-то нас и будет поджидать Хоуби. И хорошо еще, если ему не придет в голову попытаться перехватить нас еще до прибытия в Беметте. Верхом, или в повозке, или даже быстрым шагом он наверняка мог обогнать барку и раньше нас добраться до любого селения на западном берегу.
Шкипер Педри не особенно баловал нас своим вниманием и от своего помощника требовал того же, запрещая ему тратить время на болтовню с нами. Мы для него были грузом, таким же, как тюки сена и клетки с курами. Груз у него, надо сказать, был довольно беспокойный: из деревни в деревню он возил и шустрых упрямых коз, и непоседливых старушек; мы сами видели, как один перепуганный жеребенок то и дело пытался совершить самоубийство, бросившись с палубы в реку. Педри с помощником по очереди спали в своей хибаре на палубе и по очереди стояли на часах, внимательно следя за всем происходящим. Еду мы готовили себе сами, покупая продукты в деревнях, где останавливались. Меле успела подружиться с курами, сидевшими в клетках и ехавшими далеко, в Беметте. Это была какая-то особая, очень ценная порода кур с красивым хвостовым оперением и в симпатичных пушистых «штанишках»; почти все они были несушками. Куры были совершенно ручные, и я купил Меле мешочек птичьего корма, чтобы она могла немного скрасить им тяготы долгого пути. Она дала им всем имена и могла сидеть возле них часами. Порой и я устраивался рядом с нею: ее ласковые бесконечные разговоры с курами действовали на меня успокаивающе. И лишь когда в небе над рекой начинал кружить коршун, в клетке смолкали писк и кудахтанье и куры собирались под шестком в кучку, спрятав голову в пышные перья, и умолкали.
— Не тревожься, Рыженькая, — утешала Меле, — не бойтесь. Малышка и Модница! Ему до вас не добраться. Я его сразу прогоню!
Не бойся, Клюворыл! Не тревожься понапрасну!
Я читал свою любимую книгу и пересказывал Меле старинные поэмы. Она выучила наизусть «Мост через Нисас», и мы продолжили знакомство с «Чамбаном».
— А знаешь, Гэв, мне бы и вправду хотелось быть твоим младшим братом, — как-то вечером шепнула она, когда мы любовались темной рекой и звездным небом. И я ответил ей тоже шепотом:
— Но ты и вправду моя сестра.
Мы сошли на берег в одном из селений на восточном берегу. Педри и его помощник были очень заняты — разгружали тюки сена — и не обращали на нас внимания. Собственно, селения как такового там и не было: так, какой-то амбар или склад и пара пастухов, охранявших его.
— Далеко ли отсюда до Беметте? — спросил я у одного из них, и он ответил:
— Часа два-три на хорошем коне.
Я снова быстро поднялся на борт и велел Меле собираться. Мой мешок был уже уложен; в дороге я доверху набил его продуктами. А за провоз я расплатился заранее, так что на берег мы соскользнули почти незаметно. Проходя мимо Педри, я небрежно бросил, указывая на юго-восток:
— Мы тут решили сойти, отсюда до нашей фермы совсем недалеко, мы запросто пешком доберемся.
Он что-то проворчал, не переставая кидать тюки, и мы быстро пошли прочь от реки в ту сторону, куда я ему указал. Но, как только барка скрылась из виду, мы тут же повернули на северо-восток, к Сенсали. Местность вокруг была какой-то на редкость плоской; изредка попадались жалкие рощицы и отдельные купы деревьев. Меле держалась хорошо и на ходу тихо бормотала, точно молитву: «До свидания, Модница, до свидания, Рози, до свидания, Златоглазка, да свидания. Малышка…»
Шли мы прямиком, без тропы. Вокруг не было ни одного бросающегося в глаза ориентира, если не считать далеко-далеко на севере, по ту сторону реки, волнистой синей линии, которая вполне могла оказаться и грядой облаков. Я определял направление только по солнцу, которое, кстати, уже клонилось к западу. Заночевали мы в какой-то роще; быстренько перекусили, завернулись в одеяла и уснули. Никаких признаков преследования я пока не заметил, но был уверен, что Хоуби от своего замысла не отказался и, возможно, уже поджидает нас где-нибудь впереди. Ужас, который я испытал, увидев его на пристани, так никуда и не ушел, и все мои беспокойные сны были полны этого ужаса. Я проснулся задолго до рассвета, разбудил Меле, и еще в сумерках мы вышли в путь, по-прежнему продвигаясь на север. Взошло солнце и повисло в дымке над бескрайней равниной, красное и огромное.
Почва стала болотистой, местами попадались бочажки, заросшие тростником, а к полудню мы наконец увидели Сенсали.
Она действительно была очень широкой, эта великая река. Но не слишком глубокой — насколько я мог заметить, повсюду чуть в стороне от стрежня виднелись отмели и галечные наносы. А еще мы сразу обратили внимание на то, сколько там всевозможных проток и ответвлений. Но сказать, стоя на берегу, где течение наиболее быстрое и где оно прорыло глубокие ямы, было совершенно невозможно.
— Значит, так, — сказал я Меле и себе, — мы пойдем по берегу на восток и, может быть, отыщем брод. Или паром. Месун все равно значительно выше по течению, так что, как только найдем переправу, двинем прямо к нему.
— Ладно, — сказала Меле. — А как называется эта река?
— Сенсали.
— Я так рада, что у рек тоже есть имена. Как у людей. — И она принялась напевать: «Сен-са-ли, Сен-са-ли…», и, пока мы шли, я все время слышал ее тоненький голосок. Идти сквозь заросли ивняка оказалось малоприятно, и мы вскоре спустились к самой воде и пошли прямо по широкой полосе наносного ила, гальки и песка.
Конечно, так нас было гораздо легче заметить, но если Хоуби действительно уже вышел на наш след, то прятаться не имело смысла, да и негде тут было прятаться, в этой открытой и совершенно безлюдной местности. Никаких признаков человеческого присутствия мы вообще не обнаружили, видели только оленей и еще каких-то диких копытных.
Вскоре пришлось остановиться, чтобы Меле могла немного передохнуть. Я попытался ловить рыбу, но мне не везло: попался лишь один небольшой окунек. Вода в реке была очень чистая, прозрачная. Я вошел в воду, убедился, что течение не слишком сильное, и приметил пару мест, где, по-моему, вполне можно было попробовать перейти реку вброд. Но у противоположного берега, похоже, имелись довольно коБарные темные омуты, и мы пошли дальше.
Так миновало три дня. Еды у нас оставалось еще дня на два, после чего пришлось бы жить исключительно рыбной ловлей. Был вечер, и мы оба чувствовали себя бесконечно усталыми. Ощущение того, что кто-то гонится за нами по пятам, совершенно меня измотало; я плохо спал, то и дело просыпаясь и прислушиваясь. Выбрав место для ночевки, я оставил Меле устраиваться на песочке под ивой и поднялся повыше на берег, как всегда пытаясь высмотреть брод. Вскоре я нашел то, что искал: едва заметные следы колес, тянувшиеся от берега к воде. Там наверняка должен был быть брод, да и река в этом месте разлилась широко и была вся перерезана бесчисленными галечными отмелями.
И тут, оглянувшись, я увидел вдали одинокого всадника, скачущего вдоль кромки воды.
Я тут же бросился к Меле, сказал: «Идем!» — и подхватил с земли свой мешок. Она испугалась, растерялась, но все же подняла с земли свое скатанное одеяльце. Я взял ее за руку и прямо-таки поволок за собой, так что она едва успевала перебирать ногами. У самой воды следы были гораздо отчетливей и глубже. Здесь явно перебиралось через реку немало лошадей и телег. Мы сразу вошли в воду, и я успел лишь предупредить Меле: «Не бойся. Как только станет глубоко, я возьму тебя на руки».
Сперва все шло хорошо; в прозрачной воде были хорошо видны мелкие места между галечными наносами. Когда мы были уже примерно на середине реки, я наконец позволил себе оглянуться. Всадник явно нас заметил. Он въехал на коне прямо в реку, с шумом разбрызгивая воду, и сомнений у меня не осталось: это был Хоуби. Я даже издали узнал его круглое, жесткое и тяжелое лицо, такое же, как у Торма, как у нашего Отца Алтана. Лицо, как бы принадлежавшее одновременно и рабовладельцу, и его рабу. Хоуби хмурился, сердито понукал коня и что-то кричал мне, но слов я разобрать не мог.
Все это я увидел разом и тут же отвернулся, продолжая идти поперек течения и таща за собой выбивавшуюся из сил Меле. Увидев, что она совсем задыхается, я сказал:
— Забирайся ко мне на плечи, Меле, и держись крепче, только за горло меня не хватай.
Она послушно сделала, как я сказал.
И тут я вдруг понял, где нахожусь. Это была та самая река, и я переходил ее вброд с тяжелой ношей на плечах. Вокруг я не смотрел, потому что знал: это не нужно, а нужно идти вперед, хотя я едва-едва уже достаю ногами до дна. Вон там, у берега, похоже, то самое место, куда мне и надо бы выбраться, только мне туда не дойти, потому что песок сейчас начнет расползаться у меня под ногами… Я с головой ушел под воду, взял правее, потом еще правее, и тут течение налетело на меня с неожиданной силой, я потерял равновесие и почувствовал, что пытаюсь плыть, тону, захлебываюсь, но снова обретаю под ногами опору, и ребенок, которого я несу на плечах, изо всех сил обнимает меня за шею, а я, сопротивляясь бешеному течению реки и задыхаясь, прорываюсь на мелководье, карабкаюсь на берег, цепляюсь за мокнущие в воде корни густо растущих ив, падаю, поднимаюсь и могу наконец оглянуться.
Лошадь я увидел сразу: она пыталась выбраться из стремнины, но седока на ней не было.
В этом месте, откуда мы все же сумели как-то выбраться, течение было настолько мощным, словно именно здесь река собрала все свои силы.
Меле соскользнула у меня со спины и крепко ко мне прижалась; она вся дрожала. Я обнял ее, но по-прежнему стоял как вкопанный и смотрел на реку, на лошадь; ее уносило течением, но она отчаянно пыталась выбраться, явно почувствовав под ногами дно. В итоге она, оскальзываясь и погружаясь в воду с головой, все же сумела выскочить на берег. Я не сводил глаз с поверхности реки, без конца, вновь и вновь обследуя взглядом отмели и галечные барьеры вверх и вниз по течению. Песок, галька, сверкающая вода…
— Гэв, Гэв, Клюворыл! — плача, звала меня Меле. — Идем! Идем же! Нам же надо идти дальше! Нам надо поскорей уходить отсюда! — Она потянула меня за руку.
— Да, наверное, надо, — хотел сказать я и не смог: не было голоса. Пошатываясь и спотыкаясь, я побрел следом за Меле вверх по берегу, подальше от воды, в ивовые заросли, где было посуше. Там ноги у меня окончательно подкосились, и я осел на землю. Я пытался объяснить Меле, что со мной все в порядке, что теперь мы в безопасности, но говорить по-прежнему не мог. Мне не хватало воздуха. Я снова был в реке, вода окружала меня со всех сторон, накрывала с головой и была прозрачной, сверкающей, просвеченной солнцем, а потом вдруг стала холодной и очень темной…
Когда я пришел в себя, уже наступила ночь, теплая и пасмурная. Река казалась черной лентой со светлыми пятнами отмелей и наносов. К моему боку прижимался какой-то горячий и мокрый комок: Меле. Девочка спала, но я разбудил ее, и мы на ощупь, ползком пробрались сквозь заросли, поднялись повыше и отыскали какую-то ложбинку, которая показалась мне вполне пристойным местом для ночлега. Костер я развести так и не смог: все необходимое для этого промокло насквозь. Тогда мы сняли с себя мокрую одежду, старательно растерли друг друга, завернулись в наши мокрые одеяла и мгновенно уснули, крепко прижавшись друг к другу.
Страх мой полностью исчез. Я все-таки преодолел ту, вторую, реку!
Спал я долго и крепко, и разбудил меня солнечный свет. Мы с Меле расстелили на солнышке свои вещи и позавтракали мокрым, дурно пахнущим хлебом, сидя в той ложбинке среди прибрежных ив. Меле, похоже, ничуть не пострадала, но была какой-то молчаливой и настороженной. Наконец она не выдержала и спросила:
— Разве нам больше не нужно ни от кого убегать?
— Думаю, что нет, — сказал я. Еще до завтрака я спустился к воде и, прячась в зарослях, внимательно осмотрел реку и отмели. Разум твердил мне, что все же не стоит проявлять беспечность, что Хоуби вполне мог и выплыть, перебраться через реку и спрятаться где-то неподалеку; но неразумная моя душа радостно твердила: ты спасен, его больше нет, связь с прошлым порвана окончательно!
Меле посмотрела на меня; в ее глазах было написано полное доверие.
— Теперь мы в Урдайле, — сказал я ей. — Здесь нет никаких рабов и никаких охотников за рабами. И теперь мы… — Я умолк. Я не знал, видела ли она, как Хоуби преследовал нас, как его захлестывало течением. Я не знал, как мне рассказать ей об этом. — И теперь мы с тобой совершенно свободны, — все же договорил я начатую фразу.
Она немного подумала и спросила:
— А я могу снова называть тебя Гэв?
— Мое полное имя — Гэвир Айтана Сидой, — сказал я. — Но мне нравится прозвище Клюворыл.
— Ну да, мы с тобой Клюворыл и Пискля, — улыбнувшись, шепнула Меле и тут же смущенно потупилась. — А можно мне пока оставаться Мивом?
— Что ж, это неплохая идея. Если хочешь, оставайся Мивом.
— Значит, теперь мы пойдем искать в том большом городе твоего великого человека?
— Да, — сказал я.
И как только наша одежда немного подсохла, мы отправились в путь.
Наше путешествие в Месун было относительно легким; хотя если честно, то и весь наш путь оказался, в общем, не так уж труден. Но этот последний отрезок пути запомнился мне тем, что я полностью избавился от постоянного страха, столь сильно мучившего меня. Я понятия не имел, что буду делать, когда мы доберемся до Месуна, и на что мы будем жить, но задавать сейчас слишком много вопросов казалось мне проявлением неблагодарности и богу Удачи, и госпоже нашей Энну. Раз они до сих пор не покинули нас, так уж, наверное, и теперь не покинут, надеялся я. И в благодарность тихонько спел им на ходу гимн Каспро.
— Ты поешь гораздо хуже, чем некоторые другие люди, — дипломатично заметила моя маленькая спутница.
— Я знаю. Тогда спой ты.
И Меле запела нежным, дрожащим голоском любовную песню, которую наверняка слышала в доме Барны. А я вспоминал ее красавицу сестру и думал о том, что и Меле тоже вскоре станет настоящей красавицей. И вдруг поймал себя на том, что прошу богов: «Пощадите ее! Пусть она не будет такой же красивой, как Ирад!» Но я тут же прогнал эту позорную мысль, мысль раба, и твердо сказал себе: я должен научиться мыслить, как свободный человек!
Урдайл — очень красивый край, богатый яблоневыми садами. Мы неторопливо поднимались от берега реки по обсаженной тополями дороге к тем синим холмам или горам, которые я увидел издали. Мы шли пешком, хотя иногда нас кто-нибудь немного подвозил на телеге или повозке; еду мы покупали на деревенских рынках, а порой женщины предлагали нам выпить молока, увидев на дороге усталых путников и пожалев насквозь пропыленного ребенка. Меня, разумеется, бранили за то, что я таскаю за собой по дорогам «маленького братишку», но «маленький братишка» тут же прижимался ко мне и начинал так гневно поглядывать на ругательницу, выказывая полнейшую верность «своему старшему брату», что женщина тут же таяла и предлагала нам поесть или переночевать на сеновале. В общем, через пять дней мы снова вернулись к реке, делавшей в этих местах большую излучину, и вскоре увидели впереди на высоком холмистом берегу город Месун.
Дома в этом городе были построены в основном из камня и сверкали на солнце черепичными и слюдяными крышами; каменными были и городские башни, и украшенные резьбой мосты, но городской стены я не увидел. Это показалось мне очень странным. И ворот там никаких тоже не было, и никаких сторожевых башен, и никакой стражи! Да и солдат на улицах мы нигде не встретили. Мы вошли в этот огромный город совершенно беспрепятственно, точно в деревню.
Дома, высокие, в три, а то и четыре этажа, громоздились вдоль узких улиц, где так и кишели люди, лошади и всевозможные повозки. Толпа, суматоха, шум — все это просто оглушило нас. Меле крепко держалась за мою руку, и я был очень этому рад. Мы миновали рыночную площадь возле реки, и по сравнению с ней центральная площадь Этры показалась мне маленьким деревенским рынком. Я решил, что сперва, пожалуй, лучше найти какую-нибудь скромную гостиницу, где можно будет оставить вещи, немного отчиститься и отмыться, а уж потом продолжить знакомство с этим городом, ибо вид у нас был совершенно непрезентабельный — грязные, вонючие, в измятой одежде. Проходя мимо рынка и высматривая вывеску какой-нибудь гостиницы, я заметил двух молодых людей, которые чуть враскачку спускались нам навстречу по крутой улочке; они были в длинных легких серо-коричневых плащах и бархатных шапочках, прикрывавших уши, — в точности как на картинке в книге, которую я брал в библиотеке у Эверры. Под картинкой, помнится, было написано: «Двое студентов из университета города Месуна». Студенты заметили, что я остановился и не свожу с них глаз; один из них слегка подмигнул мне, и я, набравшись смелости, шагнул к нему и спросил:
— Простите, вы не могли бы сказать нам, как пройти к университету?
— Прямо на этот холм, дружище, — ответил мне тот, что подмигивал. И с любопытством посмотрел на меня.
Я не знал, что еще у него спросить, потом сказал:
— А там, наверху, где-нибудь можно остановиться?
Он кивнул:
— Конечно. Но дешевле всего в «Перепелке». Его спутник тут же возразил:
— Нет, в «Лающей собаке».
И первый пояснил:
— Все зависит от того, какие насекомые вам больше понравятся: блохи в «Перепелке» или клопы в «Собаке».
И они, смеясь, пошли дальше.
А мы стали подниматься на холм, и вскоре булыжная мостовая сменилась каменными ступенями, и я понял, что мы не просто поднимаемся, а огибаем некую высоченную каменную стену. Когда-то давно Месун тоже был городом-крепостью, и это, видимо, сохранилась стена его цитадели. Над стеной нависали какие-то дворцы из серебристо-голубого камня с островерхими крышами и узкими высокими окнами. Наконец каменная лестница привела нас на извилистую улочку с небольшими домами, и Меле прошептала:
— Вон они.
Они действительно стояли рядом, две гостиницы, и на вывесках у них были изображены перепелка и яростно лающий пес.
— Так что, блохи или клопы? — спросил я, и Меле тут же ответила:
— Блохи.
Так что мы остановились в «Перепелке». Мы с наслаждением вымылись, переоделись и отдали грязную одежду в стирку; ее приняла у нас сама хозяйка гостиницы, особа с кислым выражением лица. Мы очень опасались блох, но их там, похоже, было значительно меньше, чем на тех сеновалах, где нам приходилось ночевать в пути. Обед оказался довольно скудным и не слишком вкусным, но Меле сказала, что наелась и хочет сразу лечь спать. Она очень неплохо перенесла наше путешествие, и все же под конец дня ее невеликие силенки совершенно иссякали. В последние два дня она даже иногда начинала капризничать и плакать, как и любой окончательно измученный дорогой ребенок. Я и сам чувствовал себя порядком вымотанным, однако нервное возбуждение не позволяло мне сразу лечь спать, и я спросил у Меле, не будет ли она бояться, если я ненадолго схожу в город. Она лежала, прижимая к груди фигурку богини Энну и укрывшись, помимо одеяла, еще и своим любимым плащом.
— Нет, — заверила она меня, — ничего я не буду бояться. Ты иди, Клюворыл.
Но мне она показалась какой-то печальной, неуверенной, и я сказал:
— Может, мне все-таки лучше не ходить?
— Иди, иди, — сурово возразила она. — Уходи же! А я буду спать! — Она закрыла глаза, нахмурилась и поджала губы.
— Ну, хорошо. Я скоро вернусь, еще до того, как стемнеет.
Меле мне ответить не пожелала, только еще крепче зажмурилась. И я вышел из комнаты.
Как только я оказался на улице, то сразу увидел тех самых молодых людей, которые указали нам дорогу. Они слегка запыхались после крутого подъема. Тот, что тогда подмигнул мне, тоже заметил меня и спросил:
— Ну что, значит, выбрали блох?
У него была очень приятная улыбка, и он совершенно не скрывал, что мы с Меле его заинтересовали. Я воспринял эту вторую встречу как некий знак судьбы и спросил:
— Вы ведь студенты университета? — Он кивнул; его спутник с недовольным видом стоял рядом. — Я бы очень хотел узнать, могу ли и я стать студентом.
— Мне так и показалось.
— Не могли бы вы… вообще-то… как мне следует… и у кого мне лучше спросить?…
— А что, разве тебя никто сюда не посылал? Ну, твой учитель или ученый, у которого ты работал? Неужели нет?
— Нет, — ответил я, и сердце у меня упало.
Он задумчиво склонил голову набок; смешная бархатная шапочка сидела у него на голове как-то особенно лихо.
— Ладно, идем с нами в «Большую бочку», выпьем и поговорим, — сказал он. — Меня зовут Сампатер Йилле, а это Гола Медерра. Он изучает юридические науки, а я — филологию.
Я назвал свое имя и сказал:
— Я был рабом в Этре.
Я решил сразу во всем признаться, до того, как они со стыдом поймут, что предложили свою дружбу бывшему рабу.
— В Этре? Неужели ты и во время той знаменитой осады там жил? — сразу заинтересовался Сампатер, не обращая внимания на мое «ужасное» признание, а Гола сказал:
— Да идемте же, мне пить хочется!
Мы пили пиво в «Большой бочке», битком набитой шумными студентами; они в основном были примерно моих лет или чуть старше. Сампатер и Гола стремились, во-первых, выпить как можно больше пива и как можно скорее, а во-вторых, поговорить с каждым, кто находился в зале, и каждому они представляли меня, и каждый давал мне совет, куда лучше пойти и с кем повидаться, чтобы получить разрешение посещать лекции по филологии. Когда же выяснилось, что я не знаю ни одного из тех знаменитых преподавателей университета, имена которых они упоминали, Сампатер воскликнул:
— Неужели ты не знаешь ни одного имени? Ни одного человека, у которого хотел бы учиться?
— Учиться я хотел бы у Оррека Каспро, — сказал я.
— Ха! Ничего себе! — Он так и уставился на меня, потом рассмеялся и поднял кружку, желая со мной чокнуться. — Так ты у нас, значит, поэт!
— Нет, нет. Я только… — Я не знал, кто я такой. Я вообще знал слишком мало; не знал даже, чем хочу заниматься, кем хотел бы стать. Никогда в жизни я не чувствовал себя до такой степени невежественным.
А Сампатер, осушив кружку до дна, заявил:
— Всем еще по одной, я плачу. А потом я провожу тебя и покажу, где он живет.
— Нет, не могу же я…
— Почему же нет? Видишь ли, он держится совсем не как профессор университета и званиям особого значения не придает. Так что к нему вовсе не нужно подползать на коленях. В общем, выпьем и пойдем прямо к нему, это совсем близко.
Но я все-таки ухитрился улизнуть от этой развеселой компании, сказав, что сейчас мне непременно нужно вернуться в гостиницу, потому что мой маленький братишка остался там один. Я заплатил за выпитое нами пиво, что еще больше расположило ко мне моих новых знакомых, и Сампатер подробно рассказал, как найти дом Оррека Каспро; оказалось, что он всего в двух улицах от «Большой бочки», за углом.
— Ты обязательно завтра же сходи и повидайся с ним! — сказал Сампатер. — Или лучше давай я сам с тобой схожу.
Но я заверил его, что непременно завтра же отправлюсь к Орреку Каспро и постараюсь воспользоваться его именем как паролем. Лишь после этого мне удалось убраться из «Большой бочки» и вернуться наконец в «Перепелку». Голова у меня от всех этих событий просто шла кругом.
Проснулся я рано и долго лежал, размышляя, пока в нашу комнатку с низким потолком не заглянуло солнце. И тут я наконец пришел к определенному решению. Мои невнятные планы насчет того, чтобы стать студентом университета, как-то сами собой растворились. У меня не хватало денег, не хватало знаний, и я был уверен, что никогда не смогу стать таким же уверенным и легкомысленным, как эти веселые, доброжелательные парни из «Большой бочки». Они были, в общем-то, моими ровесниками, вот только взрослели мы по-разному.
В действительности же мне первым делом нужно было найти работу, чтобы содержать себя и Меле. В таком большом городе, где нет никаких рабов, работа, конечно же, должна была бы найтись. Но в Месуне я пока что знал имя только одного человека и решил пойти именно к нему. Если же у него для меня работы не найдется, тогда я поищу ее в другом месте.
Когда Меле наконец проснулась, я сказал, что для начала нам надо пойти и купить себе какую-нибудь приличную одежду. Ее эта идея чрезвычайно вдохновила. Мы обратились за советом к нашей хозяйке с кислым лицом, и она объяснила нам, как добраться до рынка, где торгуют подобными вещами; он находился у подножия того холма, на котором стоит цитадель. На рынке мы обнаружили великое множество людей, торговавших как новым, так и поношенным платьем, так что экипировались мы вполне пристойно, даже с некоторым шиком.
Заметив, что Меле с завистью и восхищением любуется очень красивым вышитым платьем из шелка цвета слоновой кости, я как бы невзначай сказал ей:
— Знаешь, Пискля, тебе совсем не обязательно продолжать быть Мивом.
Она стыдливо понурилась и прошептала:
— Все равно оно мне слишком велико. — Платье действительно было на взрослую женщину. Мы всласть полюбовались им, вышли из лавки, и Меле вдруг сказала: — Знаешь, оно чем-то очень похоже на Диэро.
И я был с ней совершенно согласен.
В конце концов мы выбрали себе узкие мужские штаны, льняные рубашки и куртки; так были одеты почти все мужчины и мальчики вокруг. Для Меле я отыскал элегантную бархатную курточку с пуговицами, сделанными из медных монеток. Она была страшно довольна и все рассматривала эти пуговки, пока мы снова взбирались на крепостной холм.
— Ну вот, теперь у меня всегда будет немножко денег, — говорила она.
Подойдя к стойке уличного торговца, мы перекусили хлебом с оливковым маслом и маслинами, и я сказал:
— А теперь мы пойдем повидаться с тем великим человеком.
Меле пришла в восторг. Она, точно козочка, скакала впереди меня, поднимаясь по крутой улочке, а я шел за ней, подгоняемый какой-то пугающей решимостью. По дороге я забежал в гостиницу и взял свою заветную книжку, завернутую в тростниковую ткань.
Дорогу Сампатер объяснил хорошо; мы сразу нашли тот дом, который был нам нужен, — высокое узкое строение, вплотную примыкавшее к выступающей из щеки холма скале. На этой улице дом Каспро оказался последним. Я подошел к двери и постучался.
Дверь открыла молодая женщина с такой бледной или белой кожей, что мне показалось, ее лицо светится. А уж волосы! Мы с Меле так и уставились на ее волосы; никогда в жизни не видел я таких волос! Они были точно тончайшая золотая проволока, точно взбитая овечья шерсть, точно светящийся нимб у нее над головой!
— Ой! — невольно воскликнула Меле, и я чуть не сделал то же самое.
Женщина слегка улыбнулась. Я представил себе, какими смешными мы ей, должно быть, кажемся: два мальчика, большой и маленький, чистенькие, но страшно скованные, стоят на пороге, пялятся на нее во все глаза, но не говорят ни слова. Улыбка у нее была добрая, и это придало мне смелости.
— Я пришел в Месун, чтобы повидаться с Орреком Каспро, если… если это возможно, конечно, — сказал я.
— Да, я думаю, это вполне возможно, — кивнула она. — Не могу ли я узнать…
— Мое имя Гэвир Айтана Сидой. А это мой брат… его зовут Мив…
— Меня зовут Меле, я девочка, — быстро сказала Меле и тут же нахохлилась, нахмурилась, точно крошечный ястребок, и опустила глаза.
— Пожалуйста, войдите, — пригласила нас женщина. — Меня зовут Мемер Галва. Я сейчас спрошу, не освободился ли Оррек. — И она ушла, быстрая и легкая, и ее чудесные волосы пылали у нее над головой, точно пламя свечи, точно солнечный свет.
Мы стояли в узком вестибюле. По обе стороны виднелись двери в разные другие помещения.
Меле просунула в мою ладонь свою ручонку и прошептала:
— Это ничего, что я назвалась не Мивом?
— Конечно, ничего. Я очень даже рад, что ты не Мив. Она кивнула. И вдруг снова воскликнула, но гораздо громче:
— Ой!
Я проследил за ее взглядом и остолбенел: по коридору навстречу нам шел лев.
Он, как бы не замечая нас, остановился в дверном проеме, виляя хвостом и нетерпеливо оглядываясь через плечо. Только это был не черный болотный лев; он был цвета песка и не слишком большой. И я беззвучно прошептал: «Энну!»
— Иду, иду, — послышался чей-то звонкий голос, и в дверях показалась женщина, спешившая следом за львом.
Увидев нас, она воскликнула:
— О, пожалуйста, не бойтесь! Она совсем ручная. Я не знала, что здесь кто-то есть. Может быть, вы пройдете в гостиную?
Львица слегка повернулась к ней и села, всем своим видом выражая нетерпение. Женщина положила руку ей на голову и что-то тихонько сказала, а львица чуть обиженно ответила: «Ауфф!»
Я посмотрел на Меле. Девочка застыла как изваяние и не сводила с львицы глаз; на лице ее были написаны весьма сложные чувства — то ли ужас, то ли полное восхищение. Женщина тоже смотрела на нее.
— Ее зовут Шетар, — сказала она, обращаясь именно к Меле. — К нам она попала еще котенком. Хочешь ее погладить? Она это любит. — Голос у женщины был необычайно приятный, низкий, грудной, мелодичный. А говор ее напомнил мне Чамри Берна — видимо, она тоже была уроженкой Высокогорий.
Меле, еще крепче сжав мою руку, кивнула, и мы с ней осторожно подошли к львице. Женщина улыбнулась нам и сказала:
— Меня зовут Грай.
— Она — Меле. А я — Гэвир.
— Меле! Какое чудесное имя! Шетар, пожалуйста, поздоровайся с Меле, как полагается.
Львица вскочила и, повернувшись к нам мордой, низко поклонилась — вытянула передние лапы, как это делают кошки, когда потягиваются, и опустила на них подбородок. Потом выпрямилась и выразительно посмотрела на Грай. Та достала что-то из кармана, сунула львице в пасть и похвалила ее:
— Хорошая девочка!
Через несколько минут Меле уже гладила львицу по широкой голове и мощной шее, а Грай легко и непринужденно отвечала на ее вопросы насчет Шетар. Это пока всего лишь пол-львицы, сказала Грай, а я подумал: и половины более чем достаточно!
Затем Грай повернулась ко мне:
— Вы, наверное, пришли с Орреком повидаться?
— Да. Но… та госпожа сказала, чтобы мы подождали. Как раз в эту минуту в вестибюль вернулась Мемер Галва и сообщила:
— Он попросил вас подняться к нему в кабинет. Если хотите, я покажу вам дорогу.
А Грай предложила:
— Может, ты, Меле, предпочтешь пока побыть с нами? С Шетар и со мной?
— Ой, конечно! Пожалуйста! — выпалила Меле и посмотрела на меня, проверяя, хорошо ли это с ее стороны.
— Пожалуйста, — эхом откликнулся я. — Конечно, оставайся. — Сердце мое стучало как бешеное, и все мысли куда-то разбежались. Я последовал за бледным пламенем волос Мемер, и мы, поднявшись по узенькой лесенке, оказались в каком-то коридоре.
Когда она открыла дверь, я сразу понял, где нахожусь. Я узнал это помещение; я его вспомнил. Я был здесь множество раз, в этой темной комнате с высоким окном, со столом, заваленным книгами, с этой горящей настольной лампой… Я узнал это лицо, которое повернулось ко мне, живое, печальное, незащищенное. Я узнал этот голос, произносящий мое имя…
Я не мог вымолвить ни слова. Я замер, точно каменная глыба. А он внимательно посмотрел на меня и тихо спросил:
— В чем дело, Гэвир?
Я пробормотал какие-то извинения, а он встал, снял со стула стопку книг, усадил меня на него и сам тоже уселся напротив.
— Итак?
Я сжимал в руках свой сверток из тростниковой ткани. Потом развернул его, неловко цепляясь за волокна, и протянул ему «Космологии».
— Когда я был рабом, — сказал я, — мне было запрещено читать ваши книги. Но один мой друг, тоже раб, подарил мне свой рукописный экземпляр «Космологии». Когда я потерял все на свете, то потерял и эту книгу, однако она снова была мне подарена и вместе со мной пересекла две реки — реку смерти и реку жизни. Она служила мне знаком, указывавшим, где находится главное мое сокровище. Она была моим проводником. И я… я последовал за нею к ее создателю. И, увидев вас, я понял, что это вас я всю жизнь видел в своих видениях, что именно сюда я и должен был прийти…
Он взял маленький томик в потрепанном, разбухшем от воды переплете, повертел его в руках, осторожно, с нежностью открыл и прочел:
— «Три вещи, приумножаясь непрерывно, укрепляют душу: любовь, знания и свобода». — Он вздохнул и сказал чуть устало, возвращая мне книгу: — Я был ненамного старше тебя, когда написал это. Ты оказал мне великую честь, Гэвир Айтана. Ты сделал мне самый лучший подарок, какой только читатель может сделать писателю. Могу ли и я что-нибудь подарить тебе?
И у него тоже был говор уроженца Верхних Земель, как у Чамри Берна.
Я молчал; у меня не было слов. Моя вспышка красноречия была недолгой, и теперь язык точно прилип к небу.
— Ну что ж, у нас еще будет время обсудить это, — ласково сказал он, заметив, в каком я состоянии. — Лучше расскажи-ка мне немного о себе. Где ты жил, когда был рабом? Насколько я могу судить, это не та страна, которую я так хорошо знаю. У нас в Верхних Землях рабы разбираются в книгах не лучше хозяев.
— Я был рабом в Доме Арка, это в Этре. — И слезы выступили у меня на глазах, стоило мне произнести эти слова.
— Но ты ведь явно уроженец Болот! Я не ошибся?
— Нас с сестрой похитили охотники за рабами… — И постепенно ему удалось вытянуть из меня всю историю моей жизни, в кратком изложении, разумеется, однако он все продолжал меня расспрашивать и не позволял забегать вперед. Я не стал особенно распространяться о гибели Сэлло — не мог же я взвалить на плечи почти незнакомого человека самое большое горе своей жизни. Но когда я добрался до своего возращения в лес и встречи с Меле, глаза его блеснули, и он сказал:
— Мою мать тоже звали Меле. И мою маленькую дочь… — Голос его дрогнул, и он отвернулся. — Эта девочка ведь, кажется, пришла с тобой? Так Мемер мне сказала.
— Ну да, не мог же я в лесу ее оставить, — сказал я; мне казалось, что присутствие Меле в этом доме требует неких извинений.
— А кое-кто наверняка смог бы.
— Меле очень способная! — быстро заговорил я. — У меня никогда не было такой замечательной ученицы. Она все прямо на лету схватывает. Я надеюсь, что здесь… — И я вдруг умолк. А на что я, собственно, надеялся? Как в отношении Меле, так и себя самого?
— Здесь она, разумеется, сможет получить все, что такой малышке необходимо, — быстро и твердо сказал Оррек Каспро. — Как же ты странствовал с маленькой девочкой на руках? Как вам вообще удалось добраться от Данеранского леса до Месуна? Нелегко, должно быть, пришлось?
— Да нет, это оказалось не так уж и сложно, пока я не узнал, что… что мои враги из Аркаманта все еще охотятся за мной, что они идут за нами по пятам. — Но я не стал называть их имена — Торм и Хоуби. Я чувствовал, что мне необходимо самому вернуться туда и сказать им в лицо, кто они такие. Сказать им, что в смерти моей сестры виновны именно они, что эта смерть по-прежнему на их совести.
Когда я рассказывал Орреку, как Хоуби гнался за нами, как он почти настиг нас, когда мы переправлялись через Сенсали, он слушал меня так же, как мужчины в лагере Бриджина слушали в моем исполнении «Осаду и падение Сентаса», — затаив дыхание.
— Ты видел, как он утонул? — спросил он.
Я покачал головой.
— Я видел только, что на коне больше не было всадника. Река там очень широкая, и было трудно разглядеть даже то, что творилось у ближнего ко мне берега. Он мог утонуть. А мог и не утонуть. Но мне кажется… — Я не знал, как выразить словами, что та цепь наконец разорвана.
Каспро некоторое время молчал, обдумывая рассказанное мною, потом сказал:
— Я бы хотел, чтобы Мемер и Грай тоже послушали твою историю. А еще мне хотелось бы побольше узнать об этих «воспоминаниях», как ты их называешь, или видениях… о том, как это ты, например, видел меня! — И он рассмеялся, ласково, с симпатией и удивлением, на меня глядя. — И мне очень хочется поскорее познакомиться с твоей спутницей. Так, может, теперь пойдем вниз?
Рядом с их домом был садик, небольшой, как бы зажатый между стеной дома и тем скалистым утесом, к которому этот дом примыкал. Садик был залит лучами утреннего солнца и полон цветов, что расцветают во второй половине лета, и я тут же «вспомнил» эти цветы. Вода в маленьком фонтанчике не била струей, а разлеталась легкими брызгами. У фонтана на мраморных скамьях сидели две женщины, девочка и львица — женщины и девочка мирно беседовали, а львица, разумеется, спала. Меле, у которой вид тоже был довольно сонный, ласково ее поглаживала.
— По-моему, вы с моей женой уже познакомились. Ее зовут Грай Барре, — сказал мне Каспро. — Мы с ней оба уроженцы Верхних Земель. А Мемер Галва приехала к нам из своего родного Ансула и весь этот год гостит у нас. Мы с ней обмениваемся знаниями: я рассказываю ей о современных поэтах, а она учит меня аританскому языку; ты, наверное, знаешь, что это древний язык всего Западного побережья. Итак, представь меня, пожалуйста, своей юной спутнице.
Но стоило нам подойти ближе, как Меле вскочила и прижалась ко мне, пряча лицо. Это было на нее не похоже, и я не знал, что делать.
— Меле, — сказал я, — хозяин этого дома хочет с тобой познакомиться; это тот самый великий человек, ради которого мы и пришли сюда.
Но она упорно обнимала меня за ноги и на Каспро смотреть не желала.
— Ничего страшного, — сказал он, и по лицу его скользнула тень грусти. Затем, не глядя на Меле и не приближаясь к ней, он спокойно обратился к женщинам: — Грай, Мемер, мы должны еще немного задержать наших милых гостей. Я бы очень хотел, чтобы и вы послушали их историю.
— А Меле уже кое-что нам рассказала — например, о курах на барке, — сказала Мемер. Ее золотистые волосы так сияли на солнце, что я и смотреть на нее не мог, и глаз отвести был не в силах. Каспро сел на скамью рядом с Мемер, а я напротив, поставив Меле между колен и прижав ее к себе. Мне казалось, что таким образом я защищаю не только ее, но и себя.
— По-моему, нам сейчас в самый раз немножко перекусить, — сказала Грай. — Меле, ты ведь поможешь мне, да? Тогда идем со мной. Мы скоро вернемся. — И Меле довольно легко позволила ей увести себя, но от Каспро упорно отворачивалась.
Я стал извиняться за ее поведение, но он возразил мне:
— А ты подумай, разве может малышка сейчас вести себя иначе? — Я задумался, вспоминая наше путешествие, и понял, что, пожалуй, единственным незнакомым мужчиной, с которым Меле сразу же охотно заговорила, был тот карлик, хозяин гостиницы, который, возможно, показался ей похожим на странного ребенка; ну, и еще, пожалуй, тот пастух, но и он тоже далеко не сразу завоевал ее доверие. Да, Меле явно сторонилась мужчин, стоило вспомнить хотя бы тех матросов на барке. Видимо, теперь она их просто боялась. А я этого просто не заметил. И у меня сжалось сердце, когда я вспомнил, какую жизнь она вела до моего появления в сожженном Сердце Леса.
— А ты, наверное, родом с Болот? — спросила у меня Мемер. Я вздрогнул. У всех этих людей были удивительно красивые голоса; ее, например, звучал, точно бегущая вода.
— Да, я там родился, — с трудом вымолвил я, но больше ничего прибавить не смог, и вместо меня заговорил Каспро:
— А потом, когда он еще совсем малышом был, их вместе с сестрой похитили охотники за рабами и увезли в Этру. Там ты и вырос, верно, Гэвир? Похоже, тебя в том доме неплохо учили. Зачем же твои хозяева хотели дать тебе образование? И кто был твоим учителем?
— Один раб. Его звали Эверра.
— А какие книги были в твоем распоряжении? Не думаю, что города-государства — это обитель знаний, хотя в Пагади, безусловно, есть несколько настоящих ученых и поэтов. Впрочем, и там больше думают об армии, чем об ученых.
— Все книги, которые имелись у Эверры в библиотеке, были старые, — сказал я. — Современных авторов он нам читать не позволял — то есть тех, кого он считал современными…
— Вроде меня, например, — быстро вставил Каспро со своей мимолетной широкой улыбкой. — Понимаю, понимаю. В общем, вы изучали Нему, всевозможные эпические поэмы и летописи, «Этику» Трудека… Меня в Деррис-Уотер примерно тем же заставляли заниматься. В общем, ясно: тебя учили для того, чтобы впоследствии ты смог учить детей этого Дома. Ну что ж, это уже неплохо. Хотя воспринимать учителя своих детей как раба…
— Там к домашним рабам совсем не так уж плохо относились, — возразил я. — Пока… — И я умолк.
— Разве можно быть довольным своим положением раба? — удивилась Мемер.
— Можно, если твои хозяева — люди не жестокие и если ты ничего иного никогда не знал, — твердо сказал я. — Если все вокруг уверены, что таков порядок вещей, таким он был всегда, ибо его завещали нам Предки, и таким должен навсегда и остаться, тогда тебе и неоткуда узнать, что тут… что-то не так, что-то неправильно.
— Но как же ты сам-то мог этого не понимать? — воскликнула она, задумчиво на меня глядя; она не обвиняла меня, не спорила со мной, а просто пыталась понять то, что было ей непонятно. Потом сказала, глядя мне прямо в глаза; — А знаешь, я ведь тоже в Ансуле была рабыней. Как и весь мой народ. Но это произошло, потому что нас завоевали. По рождению мы к касте рабов не принадлежали и вовсе не обязаны были верить, что являемся рабами только потому, что «таков порядок вещей». Но это, наверное, нечто другое. У вас все было иначе.
Мне очень хотелось еще поговорить с ней, но я не мог — слишком еще стеснялся.
— Между прочим, — сказал я, повернувшись к Орреку Каспро, — именно раб научил меня петь твой гимн Свободе.
И тут же мимолетная улыбка вспыхнула на мрачновато-спокойном лице Мемер. Хотя кожа у нее и была очень светлой, а волосы — рыжими, глаза оказались поразительно темными и яркими и сверкали, точно затаенный огонь внутри опала.
— Мы тоже пели эту песню в Ансуле, когда прогнали оттуда альдов! — радостно воскликнула она.
— Все дело в том, что у этой песни чудесная мелодия, — сказал Каспро. — Очень хорошая мелодия. Запоминающаяся. — Он потянулся, наслаждаясь солнечным теплом, и снова повернулся ко мне: — Знаешь, я бы хотел побольше узнать о Барне и его городе. Похоже, там произошла чудовищная трагедия. Мне будет интересно все, что ты сумеешь припомнить. Но ты, кажется, говорил, что стал у него кем-то вроде придворного сказителя? Значит, у тебя хорошая память?
— Очень хорошая, — кивнул я. — Говорят, это мой особый дар.
— Ага! — Он явно полностью мне верил, и я не испытывал ни малейшего смущения. — И ты быстро все запоминаешь?
— Я даже и не запоминаю — оно само запоминается, — сказал я. — Я, в общем-то, именно поэтому сюда и пришел. Какой прок от головы, битком набитой тем, что ты когда-то слышал или прочел, если это никому не нужно? Правда, в лесу люди с удовольствием слушали всякие мои истории, а вот на Болотах моим сородичам даже это оказалось ни к чему. Вот я и подумал, что, может быть, в университете…
— Да, да, несомненно, — сказал Каспро. — Или, может быть… Ну, ладно, там посмотрим. К нам уже идет медеренде феребо енрефема — я правильно сказал, Мемер? На аританском это значит «красивая женщина, несущая еду». Тебе наверняка захочется выучить аританский язык, Гэвир. Ты только представь себе: это же совершенно другой язык — во всяком случае, он весьма отличается от всех современных языков побережья, хоть и является их праязыком, — и на этом дивном языке существует совершенно иная поэзия, целый огромный ее пласт! — Каспро говорил горячо и страстно, что, как я уже успел заметить, вообще было для него характерно, однако на Меле он по-прежнему старался не смотреть и даже близко к ней не подходил. Смотрел он только на жену, помогая ей расставлять на мраморной скамье принесенную еду — хлеб, сыр, оливки, фрукты и легкий сидр.
— Где вы остановились? — спросила Грай, и, когда я сказал: «В «Перепелке», она засмеялась: — Ну и как там блохи?
— Не так уж страшно. Правда ведь, Меле?
Меле уже опять подошла и стояла возле меня, тесно ко мне прижавшись. Она покачала головой и почесала себе плечо.
— У Шетар тоже есть свои собственные, личные блохи, — сообщила ей Грай. — Львиные. И этими блохами она с нами делиться не желает. А те блохи, что водятся в «Перепелке», ее почему-то не кусают. — Шетар приоткрыла один глаз, нашла принесенную еду недостойной внимания и снова задремала.
Немножко перекусив, Меле присела рядом со мной на каменную дорожку так, чтобы можно было достать рукой до львицы и погладить ее. Грай тоже перебралась к ней поближе, и они все время о чем-то беседовали шепотом, стараясь не мешать нашему с Каспро разговору, к которому присоединилась и Мемер. Каспро очень мягко, не в лоб, потихоньку выяснял, насколько я действительно образован, что знаю и чего не знаю. А Мемер, на мой взгляд, хоть она и успела сказать за это время совсем немного, знала, похоже, все, что только можно знать о народной поэзии, о всевозможных сказках и легендах. Зато, когда мы перешли к истории, она тут же объявила, что ничего в этом не понимает и знает только историю родного Ансула, да и то весьма поверхностно, потому что в этом городе все книги подчистую были уничтожены завоевателями. Мне очень хотелось послушать ее рассказ об этом чудовищном преступлении, но Каспро настойчиво гнул свою линию и продолжал задавать вопросы, пока не выяснил для себя все, что хотел. Он даже умудрился вытянуть из меня признание в том, что когда-то давно, еще совсем глупым мальчишкой, я хотел написать историю всех городов-государств.
— Только вряд ли мне это когда-нибудь удастся сделать, — сказал я, делая вид, что мне подобная затея стала, в общем-то, почти безразлична. — Ведь для этого нужно непременно туда вернуться, а мне эта дорога заказана.
— Это почему же? — спросил Каспро и нахмурился.
— Я ведь беглый раб!
— Все граждане Урдайла — люди свободные. — Он все еще хмурился. — Никто и нигде не имеет права объявить гражданина Урдайла рабом!
— Но я ведь не гражданин Урдайла.
— Ничего страшного. Мы с тобой сходим в Палату Общин, я за тебя поручусь, и уже завтра ты сможешь стать полноправным гражданином Урдайла. Здесь много бывших рабов, и все они свободно ездят куда угодно — в Азион и в другие города-государства, — поскольку считаются гражданами Урдайла. Кстати сказать, ты мог бы отыскать весьма интересные исторические документы прямо здесь, в университетской библиотеке; их здесь гораздо больше, чем в самих городах-государствах.
— Это верно; они и впрямь не знают, что с такими документами делать, — с грустью подтвердил я, вспоминая, сколько интереснейших летописей и прочих чудесных свидетельств прошлого мы перенесли и спрятали тогда в подвалах под Гробницей Предков.
— Возможно, со временем ты сможешь разъяснить им, для чего нужны подобные документы, — улыбнулся Каспро. — Но первое, что тебе нужно, — это стать гражданином Урдайла, а затем пойти и записаться в университет.
— Каспро-ди, у меня не так уж много денег, — возразил я. — И, по-моему, первое, что я должен сделать, это найти себе работу.
— Ну что ж, и на сей счет у меня есть одна идея, если, конечно, Грай согласится. У тебя ведь, наверное, и почерк хороший?
— Да, неплохой, — сказал я, с благодарностью вспомнив бесконечные домашние задания Эверры.
— Мне нужен переписчик. Кроме того, человек с такой отличной памятью, как у тебя, мог бы оказать мне и еще кое-какую, причем весьма существенную, помощь, поскольку у меня последнее время неладно с глазами. — Он сказал это как-то очень легко, и темные глаза его смотрели вполне ясно, но легкая гримаса все же скользнула по его лицу, и я заметил, что Грай бросила на него взгляд, полный тревоги и озабоченности. — А помощь эта заключалась бы в следующем: например, мне понадобилась для лекции некая ссылка на одно из произведений Дениоса, а я никак не могу вспомнить, что следует за словами «Пусть лебедь к северным краям стремится…»
И я тут же подхватил:
— Ах! — воскликнула Мемер, и солнечный нимб ее волос засиял еще ярче. — До чего же чудные стихи!
— Еще бы! — поддержал ее Каспро. — Только поэма эта, к сожалению, мало известна. Ее знают разве что немногочисленные южане, тоскующие по родным краям. — А я тут же вспомнил тоскующего по родному дому северянина Таддера, который одолжил мне томик Дениоса, где было это стихотворение. Но Каспро тем временем продолжал развивать свою идею насчет помощника: — Вот вам наглядный пример того, как полезно было бы мне иметь дома такую вот «живую антологию»! Но, разумеется, если самого Гэвира подобная работа хоть как-то привлекает. Я думаю, что даже если бы ты и не помнил чего-то наизусть, то все равно с легкостью отыскал бы это в книгах. У меня ведь довольно много книг. Кроме того, при такой работе ты вполне успевал бы и университетские лекции посещать. А ты что по этому поводу думаешь. Грай?
Грай, по-прежнему сидевшая на каменной дорожке рядом с Меле, подняла на него глаза, взяла его за руку, и они некоторое время молча смотрели друг на друга, и в этом взгляде читалась спокойная сила любви. Меле сперва взглянула на Грай, потом на Оррека; на него она посмотрела сурово, нахмурившись, изучая.
— По-моему, это отличная мысль, — сказала наконец Грай.
— Видишь ли, — сказал мне Каспро, — у нас в доме имеется несколько свободных комнат, но одна из них сейчас занята Мемер и будет занята ею столько, сколько она сама позволит нам задерживать ее здесь, — я думаю, ближайшую зиму, по крайней мере, она проживет с нами. Затем есть еще комнаты на чердаке, где у нас с недавних пор живут две молодые женщины из Бендрамана. Они студентки. Сейчас, правда, они уехали в Деррис-Уотер, дабы потрясти тамошних священнослужителей приобретенными знаниями, так что пока эти комнаты свободны. Ждут тебя и Меле.
— Оррек, — остановила его жена, — все-таки следовало бы дать Гэвиру время подумать.
— Порой бывает очень опасно тратить много времени на размышления, — возразил он и посмотрел на меня с улыбкой, одновременно извиняющейся и вызывающей.
— Для меня это было бы… это было бы… Мы были бы… — У меня никак не получалось закончить предложение.
— А для меня было бы огромным удовольствием, если бы в доме наконец поселился ребенок, — сказала Грай. — Вот эта девочка. Если, конечно, самой Меле подобная идея по душе.
Меле посмотрела на нее, на меня, и я быстро сказал:
— Меле, хозяева этого дома приглашают нас пока пожить с ними.
— И с Шетар?
— Да.
— И с Грай? И с Мемер?
— Да.
Больше она ничего не сказала, только кивнула и опять принялась гладить львицу по густой шерсти. Шетар слабо, но явственно похрапывала.
— Прекрасно! Значит, решено, — сказал Каспро, и в его речи особенно отчетливо зазвучал северный говор. — Ступайте за своими вещами в «Перепелку» и перебирайтесь сюда.
Я колебался, не веря собственным ушам.
— Разве ты с детства не видел меня в своих видениях? Разве я, незнакомец, не окликал тебя по имени? И разве наяву ты стремился не ко мне? — Оррек говорил тихо, но, как всегда, с затаенной страстью. — Если нас направляет сама судьба, разве можем мы спорить с таким проводником?
Грай смотрела на меня с сочувствием. А Мемер улыбнулась, быстро посмотрела на Каспро и сказала мне:
— С ним очень трудно спорить!
— Но я… я вовсе не хочу с ним спорить! — заикаясь, возразил я. — Вот только… — И я снова умолк, не в силах договорить.
Меле встала с дорожки, села рядом со мной на скамью, тесно ко мне прижалась и прошептала:
— Не надо плакать, Клюворыл, не надо! Все хорошо.
— Я знаю, — сказал я и обнял ее за плечи. — Все хорошо, Меле.