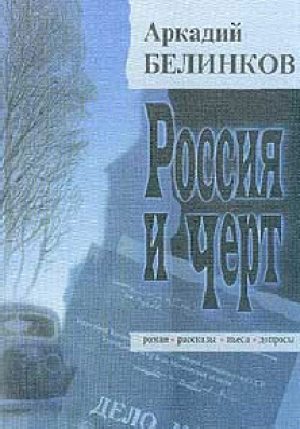
Дипломная работа
Аркадию Белинкову, автору романа "Черновик чувств", так непохожего на то, что создавалось в советской литературе военных лет, было 22 года, когда он вынес свое неординарное произведение на суд собратьев по литературному цеху.
Не только его творение, сам Аркадий - студент Литературного института при СП СССР - отличался от своих сверстников. Вызывающе одевался. Носил бородку. Обладал исключительными знаниями в области истории, философии, литературы. Обо всем имел свои, несовместимые с советской идеологией, суждения и не скрывал их. Работал над созданием литературной теории "необарокко". Организовал на дому литературный кружок того же названия.
Как это часто практиковалось в сталинские времена, расправа с неугодными начиналась с исключения - из партии, из института, из комсомола. Арест Белинкова был тоже предварен исключением его из ВЛКСМ в 1943 году, как раз накануне защиты дипломной работы - романа "Черновик чувств".
В ночь с 29-го на 30-е января 1944 года на квартире Аркадия Белипкова, где он проживал вместе с родителями, был произведен обыск, за которым последовал арест.
Текст романа "Черновик чувств" печатается по первой публикации (с добавлением подзаголовка перед эпиграфами): журнал "Звезда", 1996, № 8.
Н. Б.
Черновик чувств
КНИГА С ОТЛИЧНЫМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ
NATURE MORTE В 14 АНЕКДОТАХ С ЭПИГРАФАМИ И ПРЕДИСЛОВИЯМИ, С ПОРТРЕТОМ АВTOPA, А ТАКЖЕ С ПОДЛИННЫМ ИМЕНЕМ ГЕРОИНИ
Странно подумать, что наша жизнь - это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петер-бургского инфлуэнцного бреда.
Мандельштам
Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я - урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не возвышаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?
Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.
Пастернак
ЛИРИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Зелень в Москве подобна концентратам, ибо, впланированная в город, она стала кубиками, шарами и таблетками. В лучшем случае это пища путешественников. Но, если не бояться говорить решительно, то необходимо сказать, что это - солдатская пища. Так сделаны бульвары. Они за решеткой. И в пасмурные дни это похоже на зоологический парк.
Очень может быть, что концентрированная зелень похожа на автограф Тютчева, по невеже-ству секретаря попавший на стол редактора рядом с календарем, на котором означен нынешний год.
Если бы мы не читали Бернардена де Сен-Пьера, то, вероятно, цветы на подзеркальниках и бульварная зелень нас радовали бы и умиляли.
Книгу о любви можно превосходно начать с конфликта между цветами и обществом. К тому же безусловно следует прибавить и то, что общество ломает им же самим возведенные решетки. Комнатные цветы - это отличная цитата из упомянутого писателя, очень похожая на книгу, снятую с полки тихой библиотеки и случайно позабытую на металлургическом заводе.
Несомненно, в книге о любви должны быть подобающие аксессуары. Именно поэтому о цветах в этой книге почти целая глава.
Но когда книга уже была написана, оказалось, что не эта глава - главная в книге.
Главным оказалась изящная словесность, явившаяся истинным содержанием всех без исключения глав.
Кроме рассказа о цветах, на нижеследующих страницах сообщаются весьма странные, но не лишенные приятности соображения касательно Анри Матисса, Ван Донгена, касательно выставок "Мира искусств" и книг Бориса Пастернака.
Выяснилось, что о Ван Донгене, Баксте и Сомове сообщается не только потому, что вопрос об их популяризации в простом народе столь сильно занимает автора. Сообщается об этом преиму-щественно по той причине, что беспокоиться о простом народе на поверку оказалось легче, чем писать искренние книги. Именно в связи с этой трудностью у автора возникла настоятельная потребность заняться странным делом некоторых современных отечественных писателей, и только предостережительные слова Валери о том, что литература очень трудное дело, убедили его продолжить прерванную работу и все-таки сообщить некоторые сведения не для популяризации этих артистов, а для собственного удовольствия.
Итак, автор продолжает думать о том, как приятно писать книги, в которых удается обмануть читателя хорошим поведением героев и автора, выданным за искренность, и чувствовать малень-кую радость победителя.
Искренность это безупречное умение походить на себя самого.
Но обычно мы смутно представляем себе наш истинный облик.
Искренних книг мы не делаем потому, что пишем не о себе, а исторические романы.
Причина наших нечастых удач заключается в том, что мы иногда догадываемся, какими мы могли бы быть, или, лучше, какими мы быть можем.
Если же мы знаем, какими мы можем быть и в состоянии осуществить это, то столь редкая удача, вероятно, и есть гармоническое начало человека в обществе.
О последнем обстоятельстве превосходно рассказано в одной из строф пастернаковского стихотворения Мейерхольдам.
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Слова могут делать только две удивительные вещи. Во-первых, они могут не походить на предметы, которые им положено изображать. И во-вторых, начертанные на стенах, звучащие с пластинок, лент и из человеческих уст, они могут вполне притязать на права, подобные правам тончайшей коринфской капители, которой уже очень давно не приходится поддерживать архитрав; голосовой фиоритуры, которая не всегда только имитирует соловья с жаворонком; и орнамента, ставшего уже только украшением.
Слова, по счастью, не образцы товаров, которые предстоит продать большими партиями. Если бы это было так, то мир исчерпал бы себя в тоненьком лексиконе, который не слишком бы увеличился в объеме даже за счет значительного числа перестановок. Но слова похожи на своих родителей так же, как светловолосые дети на брюнетов отца и мать.
Сколько разнообразнейших книг и разговоров получилось благодаря всем этим счастливым обстоятельствам!
В книгах интересны только слова и самые разнообразные положения их.
Герои, коллизии, перипетии - хороши только в письмах.
В книгах достаточно одних метафор.
Если автор интересуется кроме читателя еще и своими близкими - то необходимы декла-рации.
Мы глубоко уверены в том, что интересоваться читателем ни в коем случае не следует. Это дело человека из редакции, устанавливающего тираж.
Если книга напечатана в пяти экземплярах, то в ней может быть все, что угодно.
Как трудно любить старую и в особенности старинную литературу. Для того, чтобы оценить ее несравненные достоинства, необходимо стать ее современником, т. е. героем ее. В большинстве случаев это бывает смешно. Или это маскарад.
Правда, о том, что не все старые книги смешны, мы узнали уже достаточно давно - во времена "Дон-Кихота". Впоследствии лучше всех это знал, вероятно, Франс.
"Дон-Кихот" читался избранному кругу, в конце концов, только потому, что его автору пришлось читать в тюрьме. В более естественных условиях старые книги - это книги больших тиражей.
О том, что читателя нужно развлекать, знали все стареющие писатели. Подобно тому, как все читатели, и чем старше, тем более, знали, что им должно видеть хороший пример. Старым писателям нельзя было быть пьяницами и шулерами. Кроме того, им нельзя было быть в слишком хороших отношениях с государством. В этом случае они теряли доверие покупателя, предпочитав-шего глядеть на личность, натравленную на общество.
Современному писателю легче и куда покойнее. Показывать хорошего примера ему не надо. Напротив, именно такой пример ему самому надо брать. Это так и называется: учиться у расцве-тающей социалистической действительности.
В этой книге весьма обстоятельно повествуется о севрских кофейниках, отлично служащих этой превосходной и благороднейшей цели.
Об отношениях автора с читателем я не пишу, во-первых, потому, что автор не собирается показывать читателям должного примера, специально для этого назидательно занимаясь севрскими кофейниками; во-вторых, потому, что пяти его читательницам последние предметы покажутся куда более занимательными, чем сам автор; и в-третьих, об этих отношениях очень хорошо рассказано в известных двух предисловиях кота Мурра к сочинению, повествующему о житейской философии их вполне респектабельного автора.
АНЕКДОТ I
в котором рассказывается о триптихе, изображающем двух девушек и женщину в темной шляпе. У одной девушки болит голова. Наряду с этим в Анекдоте рассуждается о технике масляной живописи и об интонациях человеческой речи.
О чем еще рассказывается в Анекдоте, читатель может узнать, только прочтя его. Это соображение пришло в голову автору после того, как он уничтожил текст, совершенно тождественный тексту нижеприведенного Анекдота, который мог быть вполне точным и единственно исчерпывающим названием его.
На площади город неожиданно раскрылся, как тело, с которого сполз тяжелый халат.
По начинающимся спереди линиям с легкостью можно было судить о формах задних фаса-дов.
Улица не разворачивалась потому, что была прямой и широкой.
Дома, то кинематографически возрастали, идя навстречу, то вновь уменьшались, уходя за спину.
Стеклышки холода сверкали на тротуарах. На них было скользко, и они обрезали ноги и царапали щеки и лоб.
Тепло вываливалось из темного подъезда. Его было так много, что, когда дверь открывалась, большие желтые буханки тепла легко падали на каменный пол и несколько мгновений со стеклян-ным звоном подпрыгивали. Подъезд был похож на большой черный буфет.
Женщина смотрела сквозь стену из другого зала. Были только шляпа, веки и подбородок. Потом - плечо и грудь. Потом - кусок рукава. И руки, не казавшиеся обломками, как эпические руки классической Афродиты.
Ничего более художнику не было нужно.
- Более ничего не нужно, - эхом отвечала женщина с двумя локонами и классическими руками. Правы были они оба. Особенно женщина, у которой были доказательства.
Женщину можно было любить за веки, шляпу и половину торса. И любить не как любят хромых женщин, а как хорошую рифму в буриме, где, собственно, ничего, кроме рифм - нет.
После шумной книги в роскошном золоченом переплете, быстро перелистанной мелкими шагами, эта тихая комната огромного музея пахнула сосновым московским пригородом.
Обе девушки сидели в креслах, и закрывающий ноги столик делал их висящими на стене в рамах.
У обеих девушек болели ноги. И у одной девушки сильно болела голова.
Девушка была плоской на желто-серой шероховатой стене, и ее обрамлял столик и карниз двери. Потом поднялось плечо и от стены отделилась серо-коричневая прядь. Потом появилась срезанная рамой кисть. Девушка вышла из стены и подошла к окну. У нее болела голова и сильно болели ноги.
То, что они были похожи, эта девушка и женщина, было бесспорно. Даже удивляло то, что они сделаны не одним мастером.
Лоб у девушки был написан одним широким мазком. Кисть его вылепила и осветила. Потом кисть в том же цвете прошла по подбородку, спустилась к шее и, уже почти сухая, оставила розово-серые следы на груди. Губы и брови были сделаны быстрыми небрежными мазками и казались слегка плоскими.
В Ван Донгенову женщину я уже давно был влюблен.
Девушка была значительно младше женщины в темной шляпе. Но женщина была тоньше и насмешливей.
Девушка опиралась на мою руку.
- Это лучше, чем наша московская Антония,- сказала девушка. И еще что-то - о свете.
- Какая у вас чудная интонация! - тихо сказал я девушке, глядя на Ван Донгенову женщи-ну, в которую был влюблен.
- Правильная интонация, мой друг, это не только отлично, по фигуре сшитое платье. Это еще тонкое уменье непринужденно носить его.
Тишина стояла прямо в комнате, прислонившись к чуть-чуть нахмуренным рамам. Изредка она вздыхала, раздавленная чьими-то тяжелыми шагами. Было слегка серо и сыро. И пахло сосновым московским пригородом.
АНЕКДОТ II
Он предлагается читателям потому, что автору жаль, чтобы пропадали эти, уже давно написанные музыкальные впечатления и соображения по поводу нынешней лирической поэзии, пропаганда которой является одной из причин, побудивших автора к написанию этой книги.
Кроме того, из этого Анекдота читатель узнает ряд весьма полезных вещей о Сафо, Васко де Гама и Константине Симонове.
Узнает он также о том, что героя предлагаемого сочинения зовут Аркадием.
Значительная часть Анекдота написана в весьма патетической манере, которая достаточно хорошо воспитанному читателю может показаться не вполне уместной.
Наконец, при внимательном чтении читатель заметит, что слова героини о боязни соглашаться с автором являются весьма важными словами.
Оркестр высасывал из люстр блистательное ожерелье вальса.
Оркестранты, закусив скрипки, перекидывали с руки на руку, боясь обжечься, круглый кусочек музыки.
У оркестра закатывались смычки, и казалось, еще немного - и лопнут тугие груди скрипок и виолончелей.
Маленький шарик стал похож на каплю масла, брошенную на раскаленное железо.
Он вскипал где-то под флейтами и мгновенно испарялся.
На все это, в сущности, было интереснее смотреть, чем слушать.
Слушать, собственно, было нечего.
Скрипки перекидывали матовый кованый шарик гобоям.
Гобои делали его большим мячом и мягко отпихивали к флейтам.
Здесь он становился совсем упругим и маленьким, как шарик из подшипника.
Флейты возвращали его контрабасам.
Причем все это происходило довольно долго.
Потом вздохнула какая-то труба, и сразу оркестр навалился подушками на голову.
Он растекался по залу. Затекал в уши и ноздри. И застывал там.
Дирижер начертил в воздухе сложный рисунок, который старательно выпилили флейты.
Барабан сделал несколько дыр в перепутанном узоре, и сразу стало темней и тише.
Потом совсем тихо.
В челюстях ярусов еще кое-где торчали сгнившими зубами почерневшие люди.
На улице мы испуганно накололись на острый мороз и от неожиданности разбили стеклянные стаканы, полные только что слышанной музыки, которые мы, осторожно держа в руках, выносили из консерваторского зала.
Теперь о музыке уже нельзя было разговаривать. И она сказала:
- Вы знаете, мы, наверное, скоро будем совсем друзьями. Только мы всегда будем друг другу цитировать отрывки из наших программ, дневников и другой художественной словесности. Вот увидите.
Я серьезно предостерег ее:
- Боюсь, что это будет очень трудно: от своих друзей я требую партийности. И конфиденци-ально шепнул:
- Кроме того, в душе я заговорщик и конспиратор.
Потом я сказал ей:
- История искусств - это простенькая история нескольких тем и сложная история их вопло-щений.
- Яблоки писали фламандцы и Сезанн.
- О любви тоже все писали. Сафо и Евгений Долматовский писали.
Она слушала. Потом вспомнила и согласилась. Я продолжал:
- Исследователи шекспировской хронологии прямым источникам предпочитают тексты, не означенные никакими указаниями года и дня, и делают, подчас, безошибочные выводы лишь на основании едва заметных изменений в стилевой концепции автора.
- Наши писатели предпочитают более красноречивые свидетельства, подтверждающие истинность дат, аккуратно означенных на каждой из пьес.
Из аксессуаров они, впрочем, тоже довольствуются немногим. Достаточно ей быть обладате-льницей геэсовского значка, а ему представителем какой-либо импозантной и вполне современной профессии, достаточно натуральную звездную сень, сопутствующую их дурному поведению, заменить вполне эпическим сиянием кремлевских звезд, как вещи и чувства немедленно станут вполне современными и любезными сердцу отзывчивого и чуткого читателя, жаждущего увидеть себя запечатленным в монументальной памятниковости вполне испытанных и проверенных рифм.
Она испуганно глядела на меня, растерянно покусывая мохнатую лапу варежки. Во всю стену был нарисован человек без ноги, которую ему с успехом заменяла толстая красная нога огромного "Я", тяжело покоящаяся на затаившей обиду надписи: "Я не соблюдал правил уличного движения!". Я вначале тоже немного испугался. Потом махнул рукой, оглянулся и продолжал:
- То, что наши отечественные мейстерзингеры вовсе ничего не ищут, стало уже очевидным и для самых упрямых. То, что происходит в нынешнем искусстве, уже не неоклассицизм. Это уже нечто худшее. Это неоклассицизм из вторых рук. Поэтому у нас никогда не будет Анри де Ренье и Андре Жида... На Руси желтая кофта Маяковского была такой же эпатацией, как век назад крас-ный жилет Готье в Париже. Для России это еще не было большим опозданием. Но если сейчас человека, рискнувшего пройтись по литературной улице имени пролетарского писателя Горького в разноцветных штанах, непременно посадят в тюрьму, то во Франции разнолацканному пиджаку усмехнутся, как наскучившей реминисценции.
Я перевел дух после этой тирады и искоса взглянул на нее. Шаги убежденно пода-пода-дакивали моим словам. Воротник ушел в губы. Потом откинулся и тоже согласился.
Я чувствовал, что в этот вечер мы просто прощали друг другу. Даже с удовольствием. Мы понимали, что истину нам придется искать потом. Вначале только кусочки предсердий, ресниц, коленей и слов, похожих на свои или на такие, которые тебе самому бы хотелось иметь.
Ей, вероятно, тоже хотелось так думать, и она сказала:
- Аркадий, вы знаете, дорогой, вам мало быть просто правым. Поймите же, что если я соглашусь с вами, то через несколько дней мне ничего не останется, как только повторять за вами все остальное. А это скучно и обидно. Но главное - обидно.
И за круглой, ласковой улыбкой на мгновенье показалось острое и уже беспомощное беспокойство.
Потом мы подошли к огромной глыбе ее дома и долго две стеклянные двери разбивали друг о друга свои хрупкие зимние украшения.
АНЕКДОТ III
Полезные сведения о немецком ученом Отто Вейнингере. Солиптические тенденции автора. Несколько скептических замечаний по поводу истории искусств. Кроме всего этого, автор размышляет о своем весьма странном настроении и приходит к выводу, что ему свойственна тяжелая дореволюционная болезнь rеflexie.
Краткость этого Анекдота весьма недостаточно компенсируется величиной названия.
С непривычки я каждый раз укалывал глаза о чужие созведия. Дома я знал. Тверской бульвар в январе лежит под Драконом. А над моим домом - маленькая звезда, имени которой я не знаю.
Почему мне было грустно, я понимал. Но спокоен я был совершенно. Это сильно удивляло и тревожило. Мне справедливо казалось, что обо всем этом грудной клетке пристало думать больше, чем голове. Но я слишком привык к доказательствам. И апелляция к тому, что у этой девушки поразительно острая восприимчивость, очень тонкий вкус и удивительного тембра голос, показа-лась мне более убедительной, чем рассуждения Отто Вейнингера, в которых косвенное участие принимает сердце, никакой роли не отведено голове и огромное место занимают наши дикие прародители.
Но было все-таки очень тоскливо. И грустно было думать о том, что наша жизнь это не сшитое безупречно платье, которое прекрасно облегает фигуру, меняя ее очертания по своему образу и подобию, вполне соответствующему вашему характеру и разрезу глаз своим покроем и цветом. Если же покрой и цвет не соответствуют вашим глазам и добрым намерениям, то вы можете снять платье и надеть халат, который мало что привносит своего в вашу сутулость и узкоплечесть. Халат, конечно, более искренней и удобен, но - увы! некрасив. Жизнь наша еще хуже халата. Она не скрывает наших природных недостатков. Она вообще не считается с ними. Так же, впрочем, как и с достоинствами. Она не думает о форме и о материале, и потому мы так часто продеваем в рукава ноги, а веки закалываем булавками.
Я с горечью думал о том, в каком безвыходном положении оказались все мы, понявшие, какое надето на нас платье, и, как оно не соответствует разрезу глаз и нашему характеру.
Я думал о том, что, может быть, искусство действительно не только постоянная удивительная выдумка. И о том, что действительно выдумать что-нибудь еще - может быть, уже просто невоз-можно. И, может быть, действительно лучше забыть о том, что искусству уже очень много лет и попробовать начать сначала. Но я с горечью вспомнил о статуе Сухатпу, видении Тнугдала и Ярошенко. Опять сначала!.. Господи! Потом передвижники... Надсон!
Боль Мандельштама, не хотевшего истории поэзии в прошедшем времени, становилась близкой, как собственный пораненный палец.
Но он требовал:
- Итак, ни одного поэта еще не было. Зато сколько радостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер!..
Я чувствовал, как эти слова, не цепляясь за острые звезды, проплывали сквозь зубы и, похо-жие на воздух, тщетно сжимаемый в кулаке, растворялись в ушах.
Когда прошел испуг, я подумал о том, что это происходит потому, что эти великие артисты ничего для меня утешительного не написали.
Я рассчитывал поспорить с Мандельштамом и попытаться обмануть себя. Поэтому я громко сказал, чувствуя повисшие на моей спине глаза под острыми ресницами оставшихся позади прохожих:
- По, Лафорг, Блок, Пастернак.
Я знал, что это последняя надежда и что разочарования в ней достаточно для возникновения манифеста о нашем новом искусстве, под которым с радостью подпишутся мои друзья, поставив эпиграфами стихи из только что мною названных поэтов.
Когда, оглянувшись, я увидел несколько срезанных сегментов зрачков, я окончательно утвер-дился в намерении заставить своих друзей все-таки подписаться под декларацией о солиптическом функционализме, в первой части которой будет три основных артикула о форме как функции состояния.
Но я был очень расстроен, и мое огорчение сообщилось прохожим, совсем не удивившимся моему горькому сетованию:
- Но что можно сделать после Достоевского и Пикассо!..
И было действительно очень грустно обо всем этом думать под чужими и незнакомыми созвездиями...
АНЕКДОТ IV
Вполне реалистический Анекдот. В нем рассказывается о дохе, съевшей все конфеты, и о второй девушке, которую зовут Аня. Полезные сведения из области законодательства и теории государства. Об английском империалистическом капитализме. Очаровательные разговоры о погоде. В Анекдоте много красивых пейзажей. Неудачное сватовство графа Сен-Симона. Бегст-во. Полиция. Печальная история ребенка Бернарда Шоу. О любви автор говорит очень немного. Читатель узнает о том, что автор имеет сообщить героине нечто весьма важное. Кроме этого читателю станет известным то, что героиню повести зовут красивым именем Марианна.
Через несколько дней все мы, Аня, Марианна и я, уехали из Ленинграда.
В вагоне Аня изредка выползала из своей сердитой дохи и возмущенно ела конфеты.
Лес быстро кружился под окнами, почти задевая за колеса. Удаляясь от поезда, он замедлял свое движение и шел крупным и круглым шагом.
Вагонные колеса зараз пели все песни и читать под их аккомпанемент можно было стихи любых ритмических конструкций. Лучше всего поезду удавались дактили, перебиваемые хореями. Это правильно заметил Волошин.
Марианна конфет не ела. Сердита она тоже не была. Напротив, она улыбалась по преимуществу. Кроме того, она громко рассуждала о том, что после окончания института она поедет в деревню преподавать английский язык в седьмом классе. Деревня будет непременно называться Петушки.
Она понимает, конечно, что для этого не надо кончать отделения германо-романской филоло-гии. Но что делать! В Москве три тысячи способных мальчиков и девочек, и все они занимаются изящной словесностью, своей и чужой, и все эти мальчики и девочки тайно и явно надеются на эстетические лавры, но только три мальчика и одна девочка вырвутся из этих тысяч и с огромным трудом, обрывая кожу на ладонях, разбивая колени и царапая лоб и щеки, действительно прорвут-ся, а на груди их книг будет стоять шифр, похожий на нумер, изображенный на груди кроссмена.
Она, конечно, понимает, что куцые буржуазно-демократические свободы, несмотря на то, что они купцы, буржуазные и демократические, несмотря на то, что они - хилое детище разлагающе-йся буржуазной морали (цитировать, оказывается, можно даже предисловия Анисимова), они все же позволяют говорить о том, что тебе, пускай смешно и наивно, нравится, и даже еще более - что не нравится и кажется дурным. Она, вероятно, никогда не сможет солгать что-нибудь отвратительное о балладах о Робин Гуде или о романе Пруста. И, пожалуйста, не уговаривайте ее.
Поезд пил воду. Аня ела конфеты. Пассажиры неудобно спали, косо и быстро, боясь недо-спать, переспать, проспать.
Рука у нее была темная и пористая, почти чугунная, и пальцы были похожи на ржавые гвозди, которые вытащила она из старой покоричневевшей стены. Она хваталась еще по ночам за деревья, и на деревьях вырастал белый мох инея; проводила по оттаявшей днем воде, и лужи затягивались хрупкой, рвущейся корочкой. Но днем она ревматически опухала и была совершенно беспомощна что-либо сделать.
Все это происходило не потому, конечно, что был апрель, не в силу каких-то природных законов, старинных традиций и не потому, что весна должна была быть обязательно; все это происходило потому, что все мы сильно устали, а у Марианны сильно болела голова.
Солнце неожиданно оттаяло. Оно свалило с себя облако, сидевшее башлыком на волосах, потянулось и расправило плечи.
Потом оттаяли деревья и птицы.
Вечер был большой и гулкий, и колоколоподобный.
Мы бродили в этом вечере, доходили до его конца и возвращались назад, перевязывая вечер улицами.
Говорить нужно было только о "Виктории" и о себе. Так как она знала о том, что я пишу балладу об электрифицированной розе и о рыцаре, то, естественно, считала меня достаточно осведомленным об этих предметах.
- Все мы, ненужноинакодумающие, суть двигатели внутреннего сгорания. Только мы не двигатели, а внутреннее сгорание. Мы - газ. Фу-фу! Ничего! Воздух...
Я возражал ей:
- Полноте, что вы, газ!.. Нечего сказать - газ!.. Максимка-сапожник... Что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо! А что за силища!
- О да, вы правы, - это Мертвые души.
Мы рассмеялись.
- Зачем вы пишете балладу?
- Я не пишу балладу, мой друг, но, конечно, можно бы написать балладу. И думаю даже, что это необходимо сделать. Писать, наверное, обо всем нужно. Даже необходимо обо всем писать. А самое главное? Самое главное, мой друг, это интонация, с которой вы говорите о пустяках. В интонации могут быть рассуждения о звездных судьбах. А писать можно о наволочках.
Но она не соглашалась.
Она во что бы то ни стало хотела знать, о чем стал бы писать я, если бы чужой кусочек сердца, хоть самый маленький кусочек (сентиментальна и мила была она необыкновенно), попал бы в мое собственное сердце, как сорвавшийся в неудержимо быстром вращении куб (и все это рисовалось маленькой варежкой, сделанной из куска огромного медведя) врывается в тело стакана в превосходной композиции Цадкина.
- О чем?
- Не знаю. Вероятно, о суждениях аббата Куаньяра. Или написал бы: плыло облако. Оно действительно было в штанах. И с земли это казалось дурным знаком. Как затмение в Слове об Игоре. На облако выпустили целую стаю разъяренных аэропланов и они, разумеется, тотчас же разорвали и облако, и штаны. И все это побросали на стоящих на улице женщин. И зарифмовал бы: облако - обморок, штанах - Штейнах, женщины - военщины.
Но она хотела серьезного ответа. И было очень трудно убедить ее в том, что я не шучу. Тогда она расстроилась.
Потом она безошибочно спросила:
- Хотите, я расскажу вам про Александра Николаевича?
Я знал, что это очень важно и что этот рассказ неминуемо должен привести к серьезному разговору.
Знал я также о том, что это довольно тривиальная и одновременно довольно редкая в наш век история влюбленного учителя. Но она обещала быть откровенной, и все это могло стать в доста-точной мере занимательным.
- Но мама об этом, кажется, только догадывается.
Это было предупреждением. Я серьезно поднял правую руку. Она осталась очень довольна.
- Итак, во-первых, согласитесь с тем, что это очень лестно. Он совершенно взрослый и, кроме того, может быть, даже способный человек. Конечно, мне это нравилось. Вам это тоже нравится. Вот, пожалуйста, откровенна я до грубости. Боже мой! Что бы сказала мама?! Ужасно! Но все равно. Слушайте дальше. Во-вторых, он сделал меня значительно старше. Из девочки я превратилась в девушку благодаря ему. Произошло это не потому, конечно, что он меня развивал (слово из неприличных кино-фильм), а потому, что в его присутствии я считала себя обязанной быть взрослой. Я становилась кокеткой и предчувствовала всякие любовные утехи. (Так Веселовский переводит Боккаччо). И сейчас тоже только предчувствую. (Боже мой! Что я ему говорю...) Слышите, это почти предупреждение. Вот видите - я же обещала быть циничной. Потом он сказал мне про это. Про что - про это?
"В этой теме личной и мелкой, перепетой не раз и не пять, он кружил поэтической белкой и будет кружиться опять". Но я действительно плохо понимала, чего нужно этому женатому учите-лю. По правде сказать, я не думаю, чтобы ему действительно что-нибудь было нужно. В классе он спрашивал: образ большевика по роману Фадеева. Я прекрасно знала, что влюбленный женатый учитель - это отвратительно, но, знаете, мне показалось все это не очень серьезным. А об утехах, по правде сказать, мне не пришло тогда в голову. Только маме не говорите, а то она запретит мне бегать глядеть Форнарину. Вам не скучно?.. В моем голосе, очевидно, чувствуются опыт и размы-шления. Никакого опыта. А тогда даже и размышлений не было. Тогда я была полуграмотной девчонкой и едва-едва только начинала читать Гамсуна. Вы наверное не стали бы водиться со мной. Так вот - размышлений не было. Опыта тоже. Об утехах мне действительно не пришло в голову. И вообще, все это было только лестно. Влюблена я - увы - еще ни разу не была (а тем более в учителя). Аркадий, слышите, я еще ни разу не была влюблена. Не знаю, что чувствовала я к Александру Николаевичу. Вероятно, для того, чтобы сравнивать, нужно полюбить два раза.
Темно было поразительно. Неба не было. Был светлый шар вокруг нас радиусом в метр. Шар передвигался вместе с нами и от дыхания становился то несколько больше, то сжимался.
Я уже знал о том, что сегодня я скажу этой умной, очень красивой девушке о том, что я люблю ее манеру разговаривать, всегда тревожиться, говорить в телефонную трубку "ни-и" и низким оранжевым контральто просить: "Не обижайте Марианну, ну пожалуйста".
Потом, когда мы были уже очень далеко от дома, я растерянно догадался о том, что другая умная и красивая девушка меня действительно любит, и восхищенно вспомнил марианнину утреннюю прогулку и "лейку", висевшую на плече.
Шар сильно затягивался. И только редкий фонарь растягивал его упругие стенки и глядел на нас выпуклым и глупым глазом. Но если бы фонарей было много, мы наверное стеснялись бы друг друга.
Радиус шара был один метр.
Парафраз из "Про это" мне показался восхитительным.
Но сказать ей о том, как дороги стали мне ее манера смотреть картины, набирать телефонный номер, держать в руке плеть, которая стелила по полу передние лапы и уши большой зеленой овчарки, - я никак не мог.
Тогда я подумал и очень коротко рассказал Марианне про войну Алой и Белой Розы: сначала Ричард Йоркский не имел успеха. Потом ему удалось захватить в плен герцога Сомерсета. Но Генрих вскоре освободил пленника. При Сент-Эльбенсе было сражение. Убили Сомерсета. Генрих был ранен и попал в плен. Парламент обвинил Ричарда в измене. Граф Уоррик бежал в Кале. Герцог Йоркский потребовал корону. Разгневанная королева одержала блестящую победу при Уэкфильде. Ричарда все-таки казнили. Эдуард воевал с Маргаритой. Лорд Монтегю помешал Генриху получить престол. Маргарита бежала во Францию. Эдуард женился на Елизавете Уайдвилль.
Дальше я не стал рассказывать. Марианне очень нравился несчастный душевнобольной король Генрих. О любви я ничего не говорил. Очень хорошо было бы рассказать о сорок первом доже Энрико Дондоло. Но я не подумал и со вздохом начал рассказывать об одной красавице-актрисе, написавшей письмо Шоу, в котором была пикантная декларация ее прелестей и заявление о том, что она ищет его, человека удивительного и тонкого писателя, взаимности, в результате которой на свет непременно должен появиться чудесный отпрыск, усвоивший себе все удивите-льные качества родителей... Шутник Шоу написал красавице-актрисе о том, как тронуло и порадовало его это милое письмо, но как одновременно с этим оно посеяло в его душе тягостные сомнения по поводу того, сколь рационально используются упомянутые родительские качества в будущем чудесном ребенке, ибо ему казалась не исключенной грустная возможность Натуры распорядиться вопреки их желаниям, почему у бедного ребенка могут оказаться ум матери при несколько затейливой внешности отца. Затем он извинялся и благодарил.
Теперь мне стало несколько легче. Если бы я захотел, я мог бы рассказать и о себе. Но я вовремя поймал себя на том, что начинаю рассказывать о Пипине Коротком.
Все это было не в ее манере разговаривать, спорить с матерью и читать классические англий-ские стихи.
Потом я убежденно сказал ей:
- Писать можно о наволочках.
Потом помолчал и грустно показал Марианне, какие толстые стекла в моих очках. Но я непременно должен был что-нибудь рассказать, и мне стало еще более грустно, когда я напомнил Марианне Селина:
- Слова! Одни слова! Но даже и они не очень изменились. Так кое-где, два-три, маленьких...
- Хорошо бы завтра пойти смотреть Марке? Ненадолго. Только его одного. Знаете, Мариан-на, у вас, наверное, опять болит голова. У меня не болит. Впрочем, у меня тоже болит. Я очень люблю вас, Марианна.
АНЕКДОТ V
Он начинается с изложения некоторых соображений по истории античной и новых литератур. О том, как пишутся стихи, повести и рассказы. О фонетических эквивалентах семантике. Как Марианна искала панторифму к объяснению в любви. Пастораль.
Шел дождь. И лужи были так полны, что, казалось, если их не выльют, они растекутся и замочут скатерть.
- Вероятно, в классической литературе куда больше иронии, чем мы предполагаем. По-моему, слова Яго об Отелло и Дездемоне, изображающих животное о двух спинах, просто смешные слова, - весело сказал я.
Марианна молчала.
Я с тревогой заметил, что радиус шара стал еще меньше.
Потом она спросила, буду ли я писать поэму. Но меня она не слушала и рассказывала о том, что она ровно ничего не делает и что ей тоже не худо бы написать поэму. Мы постояли под дождем. Потом пошли дальше...
- Я не успеваю ничего делать. Как только я сажусь за стол и вижу голубоватый, как лезвие, отлив прохладной бумаги, в которой отражается скошенный циферблат, я уже думаю о том, что скоро надо кончать. Как мало я научилась! Как трудно извлекать хоть маленький опыт из уже сделанных вещей. Все сделанное мною - это все сделанное сначала. И сделанное раньше ничему меня не научило. Вероятно, поэтому я всегда похожа на свои голос, слова, жест и манеры. Хоро-шо, что всего этого у меня довольно много, и можно делать самые разнообразные картины. Но, знаете, неповторимых калейдоскопических изображений из этого все-таки не сделаешь. По неопытности я даже говорю лучше, чем пишу. А в детстве мама заставляла меня писать какие-то нелепые письма с описаниями и подробно заносить свои впечатления о виденном и прочитанном. Мама знала, что писатели должны сравнивать вещи. Однажды я разозлилась и сравнила облако с тортом. Мама была очень довольна.
Нет, не о любви.
Дождь разрыдался, как девочка, требовательно и громко. Он колотился о стекла и сползал, с дивана, судорожно передергиваясь на булыжниках. Прохожие пытались его успокоить. Откуда-то принесли стакан холодной воды. Но он дернулся, расплескал воду и раздраженно огрызнулся длинной кривой молнией.
Она помолчала. Потом тихо спросила:
- Теперь вы что-нибудь скажите. Пожалуйста.
- Я? О, извольте. Знаете, Марианна, по своей принципиальной сущности фонетическая система русского классического и в значительной степени и современного (даже хорошего) стиха глубоко натуралистична. - Я вспомнил о том, как смешон человек, серьезно оправляющий свой галстук, будучи подвешенным за ноги. Но потом подумал и добавил:
- В этом отношении поэты значительно отстали от лингвистов, давно оставивших праздную затею найти фонетические эквиваленты семантике!
Девушка опять присела на диван и теперь плакала тихо и сосредоточенно. Только молний было больше. Они наотмашь рубили небо, и было ясно, что девушка сердито и серьезно угрожает кому-то.
Марианна спросила:
- Вы действительно меня любите?
Я протер очки и, расстроенный, рассказал Марианне о том, как Галя вчера разлила на моем письменном столе чернила. Потом я сказал Марианне:
- Да. Я люблю вас. Я, наверное, очень люблю вас.
Мне, конечно, нужно было узнать, что же она думает обо всем этом, потому что я действи-тельно очень любил ее, но я был уверен, что об этом не следует спрашивать и что надо говорить только о серьезных вещах. Поэтому я сказал ей:
- Передайте привет вашей милой маме.
Потом подумал и рассказал, как чернила затекли под пишущую машинку и как я испачкал пальцы. Потом еще подумал и тихо сказал:
- Вот теперь вы все знаете, Марианна.
В трамвайную остановку с шумом падали дрожащие освещенные вагоны. Когда женщины с зонтами обходили нас, нам на плечи стекал почти весь тот дождь, который должен был замочить женщин под зонтами.
И вдруг я забыл о том, что нужно говорить только о главном, о том, что это неважно, и главное в том, что ее ответ уже ничего изменить не может, скороговоркой и торопливо спросил, выпадая из шара с двухметровым диаметром, натыкаясь на реку и вспомнив о том, как курит Аня, и что-то еще вспомнив и позабыв опять, быстро спросил, торопясь и растеряв слова по дороге к губам, языку и зубам:
- А вы, наверное, совсем не любите меня?
Я хотел спросить, любит ли она, но язык поскользнулся и вышла какая-то чепуха. Она, наверное, не поняла. Я хотел объяснить. Но, так как я совершенно не любил ее, было в сущности, совершенно не важно, поняла она или нет.
Она сказала:
- Нет, не знаю.
Я придумывал рифмы и невнимательно слушал ее. Потом она подумала и продолжала:
- Не знаю. Зачем вы сказали мне об этом?
Ветер помахал дымом и упал на мостовую. Марианна догадалась и остановилась. Потом сняла перчатку и потрогала дождь. Мы пошли дальше.
- Я не знаю. Но я люблю вас. Просто не знаю. Как я любила вас сегодня у Нади! Вы надоели всем: мой додыр, твой додыр, ваш додыр, их додыр. Мне очень понравилось. Черный костюм вам идет удивительно. Это совершенно ясно. Вот стихи ваши мне нравятся. А вы - я не знаю. По-моему - нет. Наверное, я не люблю вас. То-есть, я определенно не люблю вас! Что вы, Аркадий!
Потом она попросила проводить ее.
- Господи! Какой вы резкий. Скоро вы начнете переругиваться в трамвае. Как хороши тигры!
Потом я вспомнил и сказал:
- Марианна, я люблю вас.
Она рассмеялась:
- Это "Роман биржевого маклера".
Я тоже смеялся. Но любил я ее сильно и уже давно.
И я искренне пожалел о том, что Ван Донген не придумал для нее рамы. О, тогда я ездил бы в Эрмитаж глядеть на нее и делать пометки в записной книжке.
Девушка понемногу успокаивалась, но наверху, в небе, все еще тревожно зажигали спички и били об пол тяжелые стаканы.
АНЕКДОТ VI
Черновик чувств. В Анекдоте утверждается весьма критически встречаемое некоторыми физиками реалистами положение о том, что одно и то же тело в одно и то же время может иметь разные координаты.
Дверь троллейбуса быстро прожевала длинную складнУю очередь. Пятна на жирафе были похожи на отпечатки подошв чьего-то неверного и сбивчивого топтания на одном месте. Дернулся ветерок.
Потом прилег на тротуар, встревожив нахмурившиеся обрывки бумаг и окурки. Смеркалось.
Марианна была очаровательна. Мы пресерьезно говорили о взаимной склонности, опасливо спрягая глагол "любить" в прошедшем времени условного наклонения. Это, в сущности, ни к чему не обязывало. Но достаточно глаголу было обрести иные формы времени и наклонения, как улыбка, очень похожая на зайца в солнечный день, могла сползти с лица, как светлая весенняя перчатка.
Теперь стало очевидным, что думать мы можем только одинаково, что не можем мы делать разных вещей и что полюбить мы в состоянии только одно и то же. Больше я никого не любил. Потом были книги.
Троллейбус уехал. Остановка опустела. Болтался небольшой еще живой огрызок очереди. Мы пошли дальше. Тогда я подумал и начал рассказывать Марианне длинную историю о том, как граф Сен-Симон сочинил опальной г-же Сталь очаровательное письмо, в котором категорически объяв-лялись ее удивительные качества, столь выгодно отличающие писательницу от ее ординарных со-временниц. В post scriptum'e коротко извещалось о том, что он, граф, также обладает некоторыми не лишенными интереса достоинствами, и поэтому он, самый умный из подданных французского императора, предлагает ей, самой умной из подданных, руку, сердце и отцветающие лепестки геральдического древа. Испуганная писательница бежала к Бель-Ильским скалам, куда поспешил за нею эксцентрический граф. И только смехотворное вмешательство полицейских властей спасло бедную женщину от очаровательных ухаживаний утопического графа.
Марианна думала, что я тоже утопически люблю ее как самую умную, самую лучшую и удивительную из подданных.
Не надо было говорить таких легкомысленных слов: они всегда внушают подозрение, как правдивая тень, отбрасываемая самой посредственной ложью. Неясно было, когда я понял это. Но неяснее всего было то, почему я не любил Марианну. Так похожей на Ван Донгена была только Марианна. Только она так читала Пруста. И никто так не мог разговаривать по телефону, покупать цветы, поругивать Аню, уставать и надписывать книги.
Мы прошли уже несколько шагов, когда Марианна, вспомнив, узнала в двух белых кисточ-ках, длинной перчатке и мерцающих калошах, оставшихся позади, Нику Никель.
Ника сказала, что на футбол она не поедет, потому что гораздо важнее пойти на концерт для скрипки и фортепьяно. Но мы сказали, что непременно пойдем на футбол, и растерянно посмотре-ли на отражающие вечерний город маленькие закрытые калоши, в которых уходила неоновая реклама гастрономического магазина.
Я понимал, конечно, что мое соображение об идентичности литературных субъекта и объекта - вещь очень спорная и почти для всей старой литературы, вероятно, неверная. Но я придумал это не для историков изящной словесности, а для нескольких молодых писателей, которым не интересно писать книги, могущие понравиться всем. Марианна тоже очень хорошо знала, что нам с нею литература нужна только во имя ее самой. И что литература не должна помогать нам делать что-либо другое, потому что ничего другого нам делать не надо и мы не умеем ничего более делать.
Марианна была без калош. И толстое гумми ее туфель мягким пресс-папье промокало асфальт. Неоновая реклама не отражалась, а обводила ее следы.
Это было восхитительно. Боже мой, сколько было удивительных вещей, которые можно было в вихре, мотая головой, отмахиваясь руками и бегом, с наклоненным вперед туловищем, полюбить на всю жизнь и вспоминать встречу с женщиной в темной шляпе в маленькой золотистой зале французской экспозиции Старого Эрмитажа.
Истинные отличители счастья - только свидетели. Мы о нем лишь смутно догадывались потому, что были участниками. И сравнивать нам было не с чем.
Я рассказал про калоши с неоновым светом, про маленькую золотистую эрмитажную залу и про то, что через несколько дней я скажу ей о своей любви. Потом я поделился с Марианной пришедшей мне в голову мыслью, заключавшейся в том, что тогда, может быть, мы не сможем так великолепно вспомнить эти удивительные калоши, футбольный матч и концерт для фортепиано, и что несмотря на то, что я еще не люблю ее, лучше я скажу ей об этом сейчас, потому что никаких сомнений в том, что будет со мною через несколько дней, когда уже не будет неоновой рекламы, троллейбусной очереди и дождя, который она трогает пальцем, у меня нет.
Марианна согласилась. И тотчас же первый попавшийся на пути фонарь осветил мое тусклое признание, сделав сразу его выпуклым и светлым.
Все было так. Больше ничего не было.
Галя действительно пролила чернила.
Шар тоже был. Радиус - метр.
Фонарей не было.
"Роман биржевого маклера" был.
Были цитаты.
Был мост. И башмаки с нестоптанными каблуками.
АНЕКДОТ VII
Аркадий убеждается в том, как трудно такому партийному человеку, как он, любить Флобера, который, вероятно, действительно был реалистом, и девушку, на каждом шагу поражавшую его своей беспартийностью. В связи с этим отсутствием партийности, которая в избытке была, наряду с прочими качествами, у других знакомых Аркадия, он утверждается в мнении о том, как глубоко прав был Рафаэль, писавший волосы, плечи и колени Галатеи с различных женщин. Аркадий отлично знает, что любить так, как Рафаэль писал Галатею, он не может. Но ему очень хочется полюбить Марианнину мягкость, которая так раздражает его.
Таможенный чиновник просматривает чемоданы Марианны и Аркадия при отплытии на остров Цитеру. У Аркадия оказывается запрещенная литература. Происходит ряд неприятных разговоров, и ему долго не хотят возвратить паспорт.
Назавтра я пришел к Марианне.
Радостная, она быстро вышла ко мне, отобрала перчатки и долго топтала мою шляпу, упавшую под ноги.
У нее многоугольная и неудобная комната, и такая, точно в ней зараз несколько кусков из различных комнат. Больше всего было окон. Письменный стол отрастал от стены. За шелестящей листвой зеленых ширм раскинулась аккуратно подстриженная красная тахта. Сама Марианна в своей комнате всегда была цветным стеклом в окне, узором на ковре или оранжевым корешком в книжном шкафу.
Еще в передней появилось странное ощущение связанности рук. У меня был какой-то громоздкий пакет, завернутый в потрепавшиеся газеты, за которыми бог весть что скрывалось. Когда узел распаковали, там оказалось ровно никому не нужное очень большое и легкое одеяло.
Это, конечно, не было смущеньем. Я уже начал привыкать к этому дому. Но сегодня знали об этом, тяготившем меня свертке, присутствие которого необходимо было тщательно скрывать. Но я не знал, как можно скрыть такие огромные и неудобные вещи. Я понял, что скрыть мне ничего не удастся и решил сделать хозяек соучастницами.
Потом Евгения Иоаникиевна ушла.
Я спросил Марианну:
- Как вы думаете, мой друг, не провокация ли это?
Марианна улыбнулась.
- Наверное. Мама все знает. Вы ей очень нравитесь. И мне тоже нравитесь.
Я чувствовал себя просто влюбленным.
Становилось важным, что же она, наконец, думает обо всем этом. Она ничего от меня не скрывала, и я знал, что я нравлюсь ей. Я знал, что она, наверное, меня не любит; что она верит в то, что я говорю и пишу; знал, что она, вероятно, любит меня; знал, что многое, с чем она теперь соглашается, в глубине души чуждо ей совершенно. Но самого главного я не знал - чего не любит она. Я позабыл об этом, просто не предполагал, что это может понадобиться. К тому же, я думал, что мне вовсе не нужно знать, любит ли она меня. Я положительно не знал, что с этим можно делать. По-моему совершенно достаточно того, что я был влюблен, а она, в сущности, меня не очень интересовала.
Марианна придвинула к библиотеке стремянку и приглашающе показала на нее рукой. Я быстро поднялся к потолку по ребрам лестницы. Здесь были Шиллер, Тургенев и другие мертвые. Воскресение шло к земле. Я начал медленно спускаться. На уровне согнутой в локте руки стояли все писатели, которых могла любить Марианна от Алкея до Олеши и Селина.
(Примечание автора. Объективность повествования нудит меня к подробному перечислению и комментированию стоящих на Марианниной полке писателей. Однако я не могу этого сделать, потому что не собираюсь сразу всего рассказывать о своей героине и тем самым на этом закончить роман.)
На этой полке Марианна нацарапала гвоздем следующую сентенцию: "Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты". Именно для того, чтобы о Марианне ее знакомые не могли узнать сразу все самое интересное и важное, она прицарапала другим гвоздем потоньше к вольтеровско-му обещанию еще несколько слов от себя: "Но здесь не все, что я читаю, и не все я читаю, что здесь".
Андре Жида Марианна еще не знала, но она обещала непременно полюбить его. Это очень серьезно готовилось в качестве будущего свадебного подарка. Я знал, что Жида я люблю так же, как и Марианну: не очень хорошо зная - за что. Меня занимают отнюдь не все вещи, которыми дорожит Марианна, и еще меньше - вещи, дорогие великому писателю. Партийности не было. Было восхищение. И разность потенциалов.
Марианна сказала:
- У нас будет общий письменный стол, и в верхнем ящике будут лежать наши письма. Обязательно вместе, мои и ваши. Туалетный столик тоже будет общий.
Потом она сказала:
- Это неправда, что я не люблю вас, Аркадий. Только я, наверное, не скажу вам об этом. И поспешила прибавить:
- Вы бы хоть почаще спрашивали меня. И уж, пожалуйста не догадывайтесь сами. Но что толку! Ведь вы ужасный человек. Конечно! Милый мой! Милый! Вас непременно, непременно посадят! Конечно, посадят. Господи! Сколько вы говорите лишнего! И с кем? С кем? С половыми о декадентах... Да и потом правы ли вы? Правы ли вы? Вот что!
Я не стал убеждать ее в своей правоте.
ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ БЕЛИЧЬЕЙ МУФТЫ
Трамвай вдребезги разбил глубокую чашу вечера. Весенняя тишина впитывала звуки города и только изредка, раздавленная тяжелым троллейбусом, роняла, как губка, несколько звонких капель. Небо смешивалось с асфальтом. И в переулках пахло теплым, сладким, коричневым молоком.
У нее была положительная программа. Но несчастье ее было в том, что осуществить свою положительную программу она могла только на гладком месте. История Карфагена ее ужасала.
Площадь была похожа на мешок. И темно становилось потому, что мостовая, мотоциклетки, Марианна, Аня и я, фундаменты домов и панели спускались на дно, и у мешка слегка затягивалось горло.
На Моховой маленькая молодая женщина громко закричала и тотчас же начала что-то быстро рассказывать. Трамвай шел по Большой Никитской. Зимой у нее вот точно также пропали перчат-ки. Нет, не эти.
Я был разрушителем, и у меня не было положительной программы. Для других, по крайней мере. Даже Марианне я приносил какие-то обломки и осколки, о которые она обрезала пальцы и торопилась спрятать в свой туалетный столик или в какую-нибудь из многочисленных коробочек, которые зачем-то тщательно собирала, покупала и отбирала у меня.
Я был разрушителем и понимал, что если бы я родился 35 лет назад, то, вероятно, стал бы революционером. Хотя бы из одного чувства оппозиционности. Но теперь из этих же соображений я никак не могу быть революционером.
Мы приехали поглядеть Россию и возвратились домой, вспоминая удивительную прелесть московских предместий и пригородов. В библиотеке был томик Чехова и за окнами раскрашенная к какому-то очередному пролетарскому празднику улица. И все-таки именно она и была самым интересным потому, что мы - эмигранты, и увидеть все это можно только в России.
Марианне зачем-то понадобилось к Нике. В трамвае сохранить свою форму нам, конечно, никак не удалось. Марианнина спина тотчас же приняла очертания плеча какого-то мужика. Это принцип коллектива. И Марианна молча страдала. Я боялся, что какая-нибудь уставшая женщина посоветует Марианне ездить в автомобиле, и Марианна покраснеет и расстроится, потому что она думает, что проповедь индивидуализма делает человека холодным и жестким.
Вероятно, вся эта история с перчатками и другие неприятности произошли потому, что Стояновские, конечно, позабыли ключи и, конечно, опять придется возвращаться. Зимой у нее тоже пропала муфта. Такая же, белка. Манто и беличья муфточка. Это очень, очень странно. Манто тоже беличье. Правая пола только слегка темнее. Она три раза оставляла ее. Раз даже в "17-том". Просто странно. Один раз в "Б". И каждый раз находила. Товарищи. Тут перчатка. Вот такая. Бежевая. Вот. Нет, вот. Пожалуйста. Боже мой, это Никитские. Да нет же, муфточку я нашла. Просто дома забыла. О каком манто, товарищь, вы говорите? Пожалуйста, посмотрите под ногами. Тут перчатка. Вот. Бежевая. Нет, с двумя.
Я удивился тому, что она ходит сейчас с муфтой. Марианна тихо объяснила мне:
- Что вы, ей богу! Она, наверное, везла ее к скорняку подобрать шкурку.
Я со страхом догадался, что мы давно проехали свою остановку и поспешно стал помогать Марианне выбраться из вагона.
Свежо стало так, точно в жаркий день сняли новую жесткую перчатку и руку обдало прохладным ветерком.
- Бедная женщина! - громко сказала милая Марианна, - что же она будет делать зимой. Она же не сможет достать шкурок под цвет своего манто. Я вижу, мой друг, что вам совершенно не жалко эту превосходную женщину. Постойте. Да не вертитесь же. Что такое, Аркадий, куда вы девали мою сумку?
В руке у меня действительно висели два больших хромированных кольца и на одном из них мерно раскачивалась длинная золоченая пряжка.
Марианна расстроилась. Она прекрасно знала, что я не выношу всей этой болтовни, и эти коллективные идеалы с реализмом меня никак не устраивали. Всего этого она тоже не выносила, но ей было легче вздыхать и мучиться, чем запретить у себя в доме цитировать из газет или просто отказать от дома этим людям. Она не принимала этого своим безошибочным вкусом. Это кололо ей пальцы и резало глаза, но она думала что это - необходимо и что это все-таки лучше, чем что-либо другое. Уж если нам так не повезло, что наши родители старше нас всего лет на двадцать. Она прекрасно знала, что если каждый будет выдумывать сам для себя общественный строй, то людям с развитой фантазией жить будет много легче и лучше. И ей очень нравился этот милый дневниковый анархизм. С советской властью она была солидарна в целом ряде вопросов, и у нее не было этого продуктово-потребительского отношения крупных партийных работников, которых советская власть вполне устраивает. В небольших дозах все это было, в сущности, просто верно. А для большинства людей, не очень серьезно занимающихся собой и изящными искусствами, просто незаменимо. А тем более коммунизм. Но она занималась литературой, и проблематика испанского Возрождения в связи с известным соображением по поводу того, что такового вообще не было, вызывало у нее больше тревоги и волнений, чем рассуждения о человеческом благополучии и гар-монической социалистической личности. Для себя она всегда с легкостью находила это благопо-лучие на тахте вместе с "Темами и вариациями", поджав под себя ноги и прислушиваясь к улице.
Я категорически запротестовал:
- Пожалуйста не спрашивайте меня о таких огромных и пустых вещах потому, что очень легко спросить: что более всего вы цените в жизни. На это можно отвечать только так: "Более всего в сестре своей жизни я ценю искусство и общечеловеческое счастье". Но так ответит Ника Никель. Вся беда этой лжи в том, что она почти общечеловеческая правда. И каждому от нее дос-тается очень немного. Поэтому я поверю только маленькой части этой колоссальной вселенской правды. Ограничьте ее любовью к томику стихов Пастернака вместе с желанием написать хорошую книгу, и вы получите простую человеческо-писательскую правду с нашими подписями и нумером милого светлого дома на Большой Полянке. Но я терпеть не могу Шубина и передвижни-ков. Что же касается революционной бури на Коста-Рике, то эта буря, мой друг, меня просто не интересует. Подобно тому, как меня совершенно не интересует то, что сейчас, может быть, в соседнюю квартиру, к незнакомым мне людям вошел какой-то незнакомый человек, давно пропадавший где-то и оказавшийся лучшим другом хозяйки. Какое мне дело до всего этого!
Марианна все это хорошо знала сама. Когда смысл моих слов дошел до нее, она испуганно запротестовала:
- Нет, нет, вы сноб. Кроме того, вы эстет.
Против первого я, собственно, не возражал: но второе мне показалось страшно несправедли-вым, и я убежденно показывал несостоятельность ее обвинения, ссылаясь на свои слова, которые она отлично знала, о том, что поэзия, конечно, должна быть всякой, но что всякой поэзии я пред-почитаю декларативную и экспериментальную лирику, в чем она с легкостью может убедиться, взяв почти наугад какую-либо из моих пьес.
Милая Марианна сказала:
- Вы правы. Конечно. Как всегда. Во-первых, правы всегда - вы. Во-вторых, вы правы тог-да только, когда вы доказываете. Как только вы уйдете, я опять буду уверена в том, что вы эстет. Аркадий, милый, я привыкаю к чему-либо значительно быстрее, чем могу от этого отвыкнуть.
Я вспомнил ее беспокойство о том, что она не может согласиться со мной потому, что это должно уничтожить ее собственное отношение к вещам. О том, что это неминуемо, я уже знал. Она права, конечно, и все-таки ее неуменье быстро расставаться со своими привычками очень уж походило на обыкновенное упрямство. И, если бы она не поторопила меня ехать на теннис, слова ее могли показаться мне слишком тревожными симптомами.
- Ни-и, - сказала она, и это было так мило и так шло к ней.
Я знал, что Марианна придет домой и обязательно вспомнит, что опять я ругал Твардовского и Суркова. И без доказательств. Однажды я пригрозил ей, что если она будет приставать ко мне и требовать объяснений, то я буду цитировать. Она обиженно поглядела на меня и долго о чем-то шепталась с Евгенией Иоаникиевной.
Марианна тоже не знала, что эти люди будут делать потом, когда уже не надо будет убеждать их в том, что им необходимо делать именно это и именно так. Впрочем, она знала, что социалисти-ческому государству эти люди всегда пригодятся. Но наше несчастье в том, что в социалистичес-ком государстве думают, будто искусство в жизни людей играет такую серьезную роль, какую ему приписывают. Да ведь это же неправда. Никогда ни для кого из этих молодых и, наверное, сильно уставших женщин трагедия Мелибеи или Джульетты не была занимательнее, чем неприятности на службе или плохие отметки дочери. И эти женщины совершенно правы. И совершенно правы они, когда через полчаса после трагического спектакля они спешат приготовить ужин и привести в порядок костюм мужа. А наших поэтов заставляют верить в то, что в перерывах между выходом в свет их стихотворений люди будут не просто работать, а вспоминать своих учителей. Не будут этого делать люди. И не потому даже, что у них плохие учителя. Просто машинистка или секре-тарь не в состоянии улучшить свою работу под впечатлением стихов Острового. Но она не изме-нит ее даже, если ей каждое утро перед уходом в канцелярию читать "Кольцо Нибелунгов" и "Песнь о Хильдебранте". И преимущества "Нибелунгов" в сравнении с Островым не играет ни-какой роли. И не в том дело, что Островой ее агитирует. Едва ли не все, что знает об агитационной сущности поэзии в наши дни Островой, она тоже знает. Поэтому действительно не важно, стихо-творение ли в газете или стихи о первой брачной ночи Гунтера и о поясе Брунхильды, похищен-ном Зигфридом. Никогда искусство не играло и не будет играть такой серьезной роли в жизни лю-дей, какую ему приписывают. Никто не умирал от скорби при виде закалывающейся Джульетты. И, наверное, империализм как высшую стадию капитализма социалистические люди ненавидят не благодаря двум томам Жарова.
Марианна все это прекрасно знала сама, но она не желала вечно помнить о том, что для меня совершенно безразлично, сказать ли "Жаров" или какое-либо другое нехорошее слово. И мое барство терпела только с доказательствами.
Марианна не хотела понять, что это не только барство, но соображение, имеющее политичес-кое значение, ибо в самом деле, если искусство не играет в жизни людей столь серьезной роли, следовательно, на него не надо обращать такого большого, а главное, высокого внимания, значит оно может развиваться по своим имманентным законам. Марианна зажмуривает глаза от ослепи-тельного света и в восторге уже ничего более не хочет слушать и понимать.
Я долго бродил по улицам и придумывал рифмы. Придумал: "киргизам коммунизм".
Та-та-та-та-та-киргизам
Очень нужен коммунизм.
Я не знал, что можно сделать с этой рифмой. До сих пор не знаю. Хотя такие вещи у меня обычно не пропадают. Жалко, что я тогда не отдал ее Марианне. Стихов она, впрочем, не пишет, Марианна. Она положила бы ее в свою маленькую шкатулку и я мог бы взять ее, когда она мне понадобится.
Потом я придумал фамилию наркому просвещения Литовской социалистической республики - "Тов. Чертыхайтис". Товарищ Чертыхайтис сейчас заняты. Позвоните попозже. Да, да. К обеду. Больше я ничего не мог придумать.
Совсем стемнело. Трамваи звонко разбивались на каждом повороте.
Вот теперь я был влюблен окончательно. Знал я также о том, что становлюсь сентиментальным. Тогда мне это понравилось. Я с нежностью гладил бархатную ленточку, лежавшую на Марианнином столике. Ленточка удивительно идет к Марианне, но она не решается носить ее из боязни походить на соседкину домработницу, в чем я ее энергически поддерживаю, несмотря на растущую нежность к этой милой, чуть потрепавшейся по краям бархатке. С нежностью трогал я и крошечную Марианнину зубную щетку, которую она тщательно вытирала, глядя, сощурившись, на свет сквозь маленькую золотистую ручку.
Дома мне сказали, что звонила Марианна и просила спрятать ручку от какой-то сумки и перепечатать ей "Песню и пляску" Михаила Голодного.
Оказалось, что, пока я придумывал рифму и фамилию туземному наркому, у меня была Марианна. На столе лежала ее записка.
"Я не знаю, что мы будем делать после того, как окончательно полюбим друг друга. Спорить мы не сможем потому, что Вы ожесточаетесь против своих противников. Я думаю, что это так и надо. Вам это необходимо потому, что Вам надо убеждать в своей правоте. Но меня Вы всегда будете любить меньше, чем Вы любите картины и книги, даже те картины и книги, с которыми Вы ожесточенно спорите. В сумке, которую Вы потеряли, были наброски второй главы, записная книжка с Вашими рифмами, документы, пудреница, помада, кольца и аккредитив".
Я так и не смог отличить конца Марианниной подписи от затейливой и длинной приписки.
"Все-таки Вы очень противный. Я очень плакала и все рассказала нашему Фильдингу. Он сказал, что непременно укусит Вас. Почему Вы дурно обращаетесь с Фильдингом? Вы должны говорить ему "Вы" и не дергать его за хвост. Когда Вы уходите, он все мне рассказывает".
Я тоже не знал, что мы будем делать после Марианниного признания. Она, впрочем, уже давно его сделала, но я смутно чувствовал, что надобен строгий и более официальный ответ. Это несколько походило на расписку и озадачивало безусловной ненужностью.
Программу первых нескольких минут я довольно точно представлял себе. Во-первых, вероят-нее всего, мы поцелуемся. Это - ритуал. Стало быть, беспокоиться не о чем. Во-вторых, мы будем говорить о планах на будущее. И это тоже вполне ритуально. И милая Марианна будет радоваться моим очень сомнительным надеждам. Я буду смеяться над деревней с забавным и милым именем, в которой она собирается заниматься германо-романской филологией и тоже буду радоваться за нее, едва ли представляя себе, что, собственно, служит причиной этой легкомыслен-ной радости.
Обо всем этом я посоветовался с Марианной. Выяснилось, что такая программа ее вполне устраивает, вплоть до сомнений касательно замыслов о будущем. Одно мы знали твердо: участие в социалистическом кроссе и участь кроссменов с нумерами на груди нас никак не устраивали.
Больше я ничего не мог придумать. Мне пришла в голову несколько затейливая мысль спро-сить у Евгении Иоаникиевны о том, что делать нам после Марианниного признания. Это могло получиться или очень забавно или грубовато. Все зависело от Евгении Иоаникиевны. Я не думаю, чтобы у меня получилось бестактно. Наверное, мило. И я, испуганный и смущенный, громко сказал прохожим новое, еще непривычное слово: - Теща!
Вечером мы с Левой сочиняли народную песню про то, как Маринка с Марианкой живут на Большой Полянке. И Лева закончил песню грустным трехстопным анапестом:
Я последним женюсь в этом мире!..
АНЕКДОТ VIII
Первомайский парад на Красной площади. Праздничная речь автора. Светская хроника о рауте второго мая у Нади. О том, как именно плакала Аня. Черновик чувств. Решительное объяснение. Аркадию очень мешает его весьма широкая эрудиция. Он смущенно цитирует Мандельштама. Героиня говорит о своей любви и пишет венок сонетов.
В Анекдоте автор применяет некий весьма любопытный прием показа вещей, заключаю-щийся в том, что вещи изображаются в среде им наиболее свойственной. Именно таким образом описаны анчоусы в уксусе и с пряностями. Аркадия и Марианну это очень забавляет.
Настал праздник Венеры, высоко чтимой по всему Криту.
От удара по белоснежной шее падают коровы с кривыми золочеными рогами; задымился на жертвенниках ладан.
Пигмалион стоит перед жертвенником Венеры и робко просит великую богиню дать в жены ему девушку, похожую на изваянную им статую, не решаясь просить себе в жены саму статую, изваянную из слоновой кости.
Когда оранжевые лучи солнца вычертили в голубом небе острый треугольник, в знак божественной милости трижды вспыхнул на жертвеннике огонь и к небу поднялись витые сиреневые струи дыма.
Снова склонился художник над своей статуей и пальцы его прикоснулись к ее груди.
Нежнее становится от его прикосновения кость статуи, становится она темнее и мягче, как размягчается под горячим солнцем гиметский воск, из которого делают красивые изделия.
Изумленный, не решаясь предаться обманчивой радости, счастливый и влюбленный Пигмалион, снова робко дотрагивается до потеплевшей слоновой кости и чувствует, как под его испытующими пальцами вздрогнули и забились поголубевшие вены.
Великолепной задумал Пигмалион любимую девушку!
Великолепной ожила она под его прохладными и искусными пальцами...
Метаморфозы.
Первого мая я громко говорил Марианне:
- В нынешний век честные и серьезные ученые тратят свои убеждения, как рантье: они расходуют только проценты с принципов. Остается основной капитал, и при благоприятных обстоятельствах они вновь обретают новую ренту. На представительство они субсидируются социалистическим государством. Представительство - это "Новые принципы социалистического реализма". А основной капитал - это серьезные старые исследования, материалы и сочинения.
- Но есть авантюристы, которым кроме мифических процентов с несуществующего капитала терять нечего.
Я продолжал свою майскую речь:
- Пролетарии - это именно тот класс, который в революции ничего не теряет, кроме цепей своих. И ему нечего терять более. Ну, да это вы все сами знаете. У него нет ни эдемовых яблок, ни галстуков. Но что делать тем, у кого есть музеи с мраморами Праксителя и библиотеки с книгами Стерна, Олеши и Метерлинка. Праксителя он, правда, взял (у них есть такая статья: "О классиче-ском наследстве"). Но вот Метерлинка не берет. И Федора Сологуба не берет, и Луи Селина, и Марину Цветаеву. И Матисса тоже не берет. А тех, кого взял, он переделывает по своему пролетарскому подобию.
- Очень хорошо. Прекрасная Дама была Невестой. Потом она стала проституткой. Потом она вообще умерла. Причем, заметьте, только в 18-ом году, в черный вечер с белым снегом. Я настаиваю на этом. Знаете, когда над этим грустно издевался Блок, это было грустно и мило. Потому что, когда издеваешься над собой сам, что ни говорите, это, батенька мой, грустно и мило, и рефлексия. Но когда мы издеваемся над этим да еще цитируем из какого-нибудь сочинения о прибавочной стоимости, то уж простите мне, любезнейший, отвратительно это у вас получается!
- Пролетариат не делает искусства по своему образу. Добро бы он делал мужественное и решительное искусство. Но он почему-то делает какие-то странные вещи, похожие на него, подвы-пившего и всегубо улыбающегося. И какая-то странная, скоморошья, скоморошья подпись подо всем этим искусством. Знаете, "Эх, сплясал бы я камаринского, братцы!" Или такая: "Вот те и конституция!.."
- Зачем это? Зачем эти привязанные к ушам губы? И столько пузатого, глупогубого оптими-зма? Зачем двенадцатиэтажному жесткой конструкции дому колонны с коринфскими капителями? И зачем, боже мой, зачем же, наконец, улыбался спартанский юноша, когда лисица под тонкой туникой прогрызала кожу и мышцы его живота?
Марианна долго смеялась над моим праздничным выступлением. И плакала, долго и тихо.
Вечер был удивительный. Синий и черный. Похожий на обложку Охранной грамоты. И на пограничный столб.
Он свободно входил в открытые окна, останавливался у приотворенной двери и повисал на раскаленных кончиках папирос, супрематически двигавшихся в темноте.
Краски и линии за окнами превращались в звуки. С наступлением темноты они интенсивнее оживали и, не слушаясь, прыгали по улицам, сталкиваясь друг с другом и друг другу мешая.
Ощущение вещей от глаз переходило к ушам.
Тост был великолепен: мы пили за сладостный voyage на Цитеру.
Боже, как все были милы и трогательны! Все непременно желали нам счастья. Тогда я сказал, что нашу дочь будут звать Натальей Аркадиевной и что у нее будут хорошие манеры. Марианне очень понравилось это соображение. Она сказала, что мы не отдадим маленькую Наташу в полную среднюю школу потому, что нам не нравятся здоровые и жизнерадостные социалистические дети, не знающие ужасов крепостничества.
Аня слегка опьянела и заплакала. Она незаметно прошла в кабинет Александра Степановича и плакала там. Меня это очень расстроило. Я тихонько постучался к ней и тотчас же увидел лежащие на ковре два больших пепельно-голубых глаза. Они двинулись. Я сказал:
- Не надо, Аня, не надо...
На секунду глаза пропали. Один появился на мгновенье раньше второго. Я повторил тихо:
- Аня, не надо.
Глаза заплыли куда-то за слезы и неожиданно переместились, вздрагивая на спинке дивана.
- Ну пожалуйста, - сказал я и ласково провел ладонью немного выше глаз. Здесь были волосы. Глаза стали пропадать все чаще и чаще. И волосы мелко вздрагивали у меня под ладонью. Я тихо просил:
- Ну, не надо. Ну, пожалуйста, Аня...
Ей было очень жалко недавно застрелившегося Коку Кобальта и Нику Никель, его подругу-вдову; жалко свое, косо складывающееся двадцатилетие. Жалко Женю и его глупую историю с Корочкой. Наверное, даже нас с Марианной ей было жалко. Я очень хорошо понимал ее. Конечно, жалко. В таком положении мне было бы очень грустно думать о Коке, Нике и обо мне с Мариан-ной.
Потом она долго и медленно утихала. И только иногда вдруг побольше глотала воздуху на короткий и влажный всхлип.
Марианна поцеловалась с Женей и закричала ему:
- Теперь ты, пожалуйста, не позабудь. Женя, дай-ка мне, братец, печенье. Ты очень хороший, Женя. Ни-и... Эй, ты! Конечно, ты!
Аня сильно курила и как-то здорово и очень красиво проглатывала дым. Во всяком случае назад он не возвращался. Что с ним она делала я не знаю. Марианна уверяет, что это был фокус.
Марианна хотела отрезать Надину косицу. Женя говорил ей, что это неприлично, потому что у Нади от этого непременно испортится цвет лица. Но Марианна не слушала. Потом послушалась. Потом отняла у меня папиросу и обожгла пальцы.
Упала она с девятого или даже одиннадцатого этажа и сразу притихла. Аня так здорово заглотала дым, что Марианна восхищенно замерла, втайне и с тревогой надеясь, что он появится откуда-нибудь из Аниного уха, как это иногда бывает у Аркадия или у папы, после того, как они жестко настаивают на том, чтобы она положила на грудь им свою руку и закрыла глаза.
Марианна очень расстроилась и стала серьезной. Она оглянулась. Потом тихонько прошла в соседнюю комнату, сразу изменившаяся и заметно выросшая. Я решительно пошел за ней.
Наконец должно было случиться окончательное объяснение. И только сейчас. Ни за что - завтра. Я не давал себя успокаивать. Я сильно нервничал. Стыли пальцы и под воротничком лихорадил пульс.
Ее часы сильно стучали в темноте.
Она позвала меня.
Потом тревожно спросила:
- Что с вами?
Я молчал. Ее я не видел. Я же был виден отчетливым и черным металлическим силуэтом в окне. Вероятно, она сидела на диване.
Тихо и тревожно она спрашивала:
- Что, что с вами?
- Марианна, - попробовал сказать я. С голосом случилось что-то странное. Он взвился в воздух и скатился с лестницы.
- Марианна, - сказал я, - я люблю вас.
И очень удивился.
Часы ее громко стучали, заглушая мои. Неожиданно я услышал ее движение и неправильно объяснил его. Изредка я слышал ее дыхание. Больше о ней я ничего не знал.
Тогда я опять сказал:
- Я очень люблю вас.
Часы забились быстрее. Глухо вздохнул диван.
Теперь я сильно нервничал.
Она не шевелилась. Она зажала рукой часы, но тиканье просачивалось сквозь пальцы и падало на пол.
Я понял, что она тоже нервничает. И не выдержал и подошел к ней.
Она оказалась гораздо дальше, чем я ждал. Оказалось, что она лежит.
Я прикоснулся к ее ногтям.
Тотчас же отпущенные часы треснули и затрещали настойчиво и громко. Я испугался - мне показалось - сердито.
- Марианна, - сказал я. И тихо повторил:
- Марианна.
Я чувствовал на своих пальцах часть овала и треугольник ногтя Марианны. И тотчас же я вздрогнул, вспомнив, что у Мандельштама в одной из его статей сказано: "Революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму".
Марианна поняла.
Но я не сказал ей этого. Я сказал только:
- Я люблю вас, Марианна. Любите ли вы меня? Скажите. Любите ли вы меня, Марианна?
Она уже была в поле, когда я только еще выходил из лесу. А сзади за нами быстро и сбивчи-во, наступая на листья и хрустя в кустарнике, шел дождь.
Вдруг она побежала. От неожиданности я бросился за ней. Потом, удивленный, остановился. Но Марианна бежала и ветер приклеивал языки платья к ногам. Потом она обернулась и ветер вскинул нимбом ее волосы. Тогда она закричала, пошатываясь от усталости и ветра:
- Я очень, очень люблю вас, Аркадий. Я очень люблю вас.
И тихо добавила:
- Ну, конечно.
Часы стучали очень громко и фальшиво и, наверное, их слышали Надя с Женей. Потому что Женя сказал:
- Надя, не пейте водку. А то папа скажет Стеше.
Вдруг мне захотелось начать все сначала и впервые рассказать Марианне о том, что я очень люблю ее. Потом я вспомнил о статье Мандельштама, в которой говорится о том, что мы свобод-ны от груза воспоминаний и что не стоит создавать никаких школ и не стоит выдумывать своей поэтики. Это было, конечно, важнее моего признания, хотя я знал, что за одни эти слова Мандель-штам должен стать моим врагом на всю жизнь. Ибо я не верю в то, что не стоит выдумывать своей поэтики и не стоит создавать своих школ. Но я опять не сказал этого. Я сказал только:
- Марианна, не надо так долго мучить друг друга. Как это хорошо, что вы любите меня! Господи! Как хорошо.
Но потом подумал и все таки добавил:
- Вы знаете, мне показалось даже, что может быть, действительно не стоит создавать своих школ, Марианна.
Она ничего не ответила.
И вдруг блеснула, выплеснутая, и брызнула такая радость, что мы, испуганные, отскочили в сторону, но вода разбилась вдребезги, и брызги ее целым ведром опрокинулись на нас. От удивле-ния мы даже не отряхнулись и стояли мокрые и растрепанные. Когда мы огляделись по сторонам, самым удивительным оказались воздух и дома, не принимавшие в нас ровно никакого участия. Вначале это даже обидело немного. Но потом, когда я увидел наполовину отвалившийся карниз у фиолетовой тени большого зелено-желтого дома, на который показала мне Марианна, я понял, что это, конечно, не так. Под карнизом стоял аквариум, и в нем плавали золотые рыбы. А на двери дома висела большая стоптанная подкова. Среди руин вилось неровное ожерелье плюща.
Часы куда-то пропали. Я пробовал нащупать их слухом. И не мог.
Георгика кончилась. Я опять разнервничался. Затикал пульс, перебивая часы и глухо ухая в уши. Я испуганно переспросил:
- Это правда, Марианна?
Она была очень серьезна.
- Ну да.
И пояснила:
- Ну, конечно, я люблю вас. Мы совершенно не знали, что делать. Как волновалась Марианна! Дыхание выпадало из ноздрей маленькими упругими резинками и глухо стукалось об пол.
- Господи, да ведь она может заплакать, - с тревогой подумал я. И в то же мгновенье понял, что она вздрагивала и тихонько тряслась, похожая на тоненькую отпущенную пружинку.
У меня защемило сердце от горя. И я глотнул ее губы. Она испуганно отпрянула и вдруг успокоилась и неумело обернула руками мою голову.
АНЕКДОТ IX
Несколько практических замечаний касательно клептомании. Робкое замечание Аркадия в защиту истории философии. Он убеждает героиню в том, что философия может быть всякой и необязательно правильной. Аркадий и Марианна вполне зарифмовывают друг друга.
С непривычки мы не знали, куда девать наше новое счастье. Оно было удивительным, потому что, когда лежало рядом со старой мечтой о нем, оно было таким же, как и эта мечта, и даже еще лучше. Мы клали его по углам. Закрывали какими-то обязательными и неудобными вещами. Это было несколько стеснительно и было похоже на ощущение, с каким некоторое время носишь новое платье.
Дома ему еще не было места. На улице тоже не было. Здесь оно натыкалось на людей и фонарные столбы. А однажды, когда Марианна едва не попала под трамвай, я с ужасом понял, что улица совершенно неподходящее место для хранения этой тоненькой книжки, которую мы неуме-ло начинали читать и которая сама учила нас грамоте. Лучше всего было в музее.
Наша жизнь была согласием и братством рифм. Мы жили, как хорошие основные повторы. Но уже тогда стало совершенно ясно, что флексии у рифм разные. Кроме того, очень часто мы гладко рифмовались только по одному признаку, примерно так, как рифмуются "морозы" с "розами", вещи очень далекие друг другу, единство которых осуществляет лишь простенькая звуковая случайность, и, в сущности, это были антонимические рифмы. Все это мы заподозрили сразу же.
Мы были праздны, праздничны и бесконечно поздравляемы. О том, что делать теперь нам, я так и не решился спросить Евгению Иоаникиевну.
Марианна поцеловала меня вполне канонично. Я отвечал ей тем же, остро ощущая многове-ковую традиционность этого поцелуя. О поцелуях мы отлично знали, что это очень нехорошо и что Евгения Иоаникиевна будет страшно недовольна. Конечно, без них вполне можно было обойтись. Было чрезвычайно много рук, и хорошо еще, что мы хоть, вероятно, больше других походили на многорукую статуэтку Будды. И счастье наше падало в дыры между руками и отскакивало, когда мы оглядывались на него, вытягиваясь, многорукое у нас за спиной.
Но каждый из нас продолжал любить своей дорогой. Встречающиеся нам обоим на пути одни и те же вещи каждого из нас беспокоили или не беспокоили по-своему. Марианну, например, едва занимали современные русские поэты. Кроме того, она очень любила свою маму.
Евгения Иоаникиевна решительно потребовала:
- Я думаю, что ребенку надо показать две или даже три вполне хороших манеры. Как вы думаете, Аркадий, удастся вам это сделать?
Я очень испугался этого предложения, полагая, что Марианна будет шокирована им. Кроме того, я думал, что Марианна уже знает три хорошие манеры, но я не хотел расстраивать Евгению Иоаникиевну и с тяжелым сердцем согласился.
(Примечание автора. Дело в том, что Марианна все трогала руками, низко склонялась над тарелкой, и Аркадий уверяет, что один раз он сам видел, как Марианна разрезала сразу все мясо, положила нож, взяла в правую руку вилку и все съела. Этого Евгения Иоаникиевна с Аркадием не могли перенести, и, вероятно, именно поэтому она обратилась к Аркадию с таким требованием.)
О ТОМ, КАК АРКАДИЙ УБЕЖДАЛ ГЕРОИНЮ В ТОМ, ЧТО ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЯКОЙ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОЙ.
Марианна с сожалением осматривала свой велосипед с погнутой педалью и дико растрепан-ными спицами, когда я вошел и радостно сказал ей:
- Марианна, из зоологического парка убежал тигр. Его ловят пожарные с брандсбойтами и милиционеры со свистками. Надо немедленно позвонить Сельвинским.
Марианна прочла несколько строф из Киплинга и посмотрела на свою обезображенную машину.
Вошла Евгения Иоаникиевна и, удивленная Марианниными коленями, строго сказала:
- О, закрой свои бледные ноги.
Потом пришел Цезарь Георгиевич и прочел три стиха о красавице По-Пок-Кивисе.
Внизу под окнами долго, задыхаясь, свистела сирена кареты скорой помощи. Евгения Иоани-киевна и Цезарь Георгиевич ушли. И мы опять остались одни.
Удивительно и необыкновенно красива Марианна. Она очень устала, и это шло к ней, потому что, когда Марианна устает, она откидывает голову и видны ее шея, округление подбородка, ноздри, ресницы, и фиолетовые овалы над веками.
Марианна красива, как орнамент с простыми внешними очертаниями. В него надо пристально вглядываться для того, чтобы понять, как он красив. То, что Марианна поразительно хороша, не все знают.
Марианна очень расстроилась.
Мое заявление о том, что я вовсе не против нынешней философии, испугало ее, как ренегат-ство.
Она очень расстроилась.
Она коротко вздрагивала, и захлебнулись ее фиолетовые веки.
- Если отступитесь вы, то что же всем нам останется делать, - горько пожаловалась Марианна.
Я так испугался, что даже не стал ее успокаивать. Я говорил милой Марианне о том, что в конце концов их концепция все-таки заслуживает того, чтобы о ней просто серьезно говорить, может быть, так же серьезно, как о концепциях Платона и Плотина, о кантианстве, позитивизме, Бергсоне с его учениками, о Ницше и о Марбургской школе.
Марианна немного успокоилась. У нее были заплаканные глаза с покрасневшими веками. Глаза с покрасневшими веками, похожие на губы. Милая, милая Марианна.
И все-таки ей было очень жаль неокантианцев. Она была так удивительно хороша и добра сегодня, что долго, не перебивая меня, слушала подробнейшее изложение моей попытки системы функционального ассоциативизма.
Раньше она вовсе не хотела понимать. Но сегодня она перестала упрямиться и бояться утра-тить свою так горячо и старательно оберегаемую возможность думать самостоятельно. Но даже сегодня не понимала Марианна, как это, как это одни и те же вещи всегда у меня выглядят по-разному и обретают различное назначение и неверные удельные веса. Она каждый раз натыкалась на всегда незнакомые вещи и я уже знал, что она долго не сможет прожить в этой вечно незнако-мой гостинице. Но как мило бранила она мою методу: просто диалектика.
Марианна сегодня очень нервничает. Она говорит, не поднимая глаз:
- Это все потому, что вы что-нибудь находите или придумываете, потом приносите мне и, когда приходите на следующий день, то ищете запаха цветов, даже не поинтересуясь, привилось ли ваше растение. Я не ива. Меня нельзя черенками. Вы хотите изваять меня сами, но вы удиви-тесь моей мертвенности, несмотря на все искусство ваших пальцев, потому что вы не понимаете простой вещи - что все это должно привиться, созреть, прорасти и только потом запах. Не торопите меня, не торопите меня, ради бога, не торопите!..
Вещи Марианна лучше всего ощущала верхним покровом мозга. Она очень тонко чувствовала форму и поэтому легче всего в вещах понимала их поверхность. Их оболочка плотно покрывала серое вещество, обливая его и сливаясь с ним. Но для этого выпуклые предметы должны были вывертываться наизнанку. И в ее интерпретации они получали подчас самую неожиданную и удивительную внешность.
Как глубоко верила Марианна в очертания.
- О нет, не Роллан. Прежде всего мастерство и изящество. Прежде всего. А доброе сердце - потом. И забота о человечестве - тоже. О, если бы было наоборот, то наша мама стала бы чудной художницей. Но наша мама плохой мастер. Конечно.
Вот в этих стихах мы рифмовались омонимическими словами. Но когда мы спорили, мы любили уже друг в друге только то, что делало нас согласными.
Но лучше всего было в музее.
Соглашаться здесь было легче потому, что наши доказательства висели перед глазами, что было особенно ценно для Марианны, и достаточно было только не упрямиться, как все это гово-рило так громко, как только могут говорить краски и линии, которые с поры импрессионистов совершенно перестали стесняться.
Мы долго рассуждали с Марианной о связи поэтов с другими артистами и пришли к весьма замысловатому выводу.
Мы определенно решили, что воровать теперь можно только у живописцев и прозаиков. Поэ-ты ни о чем, кроме стихов, не имеют представления. Поэтому еще можно воровать у скульпторов, архитекторов и музыкантов. Закат лучше всего писать прямо с Монэ, а не с горизонта. Там это точнее и красивее. Только рифмы надо придумывать самому. И метафоры - самому. А мы с Марианной уже хорошо знали, как это трудно.
- В особенности метафоры, - кротко и скорбно сказала Марианна.
В комнате у нее было бестолково солнечно. Солнце с треском отскакивало от стекол, закры-вающих картины и фотографии, от зеркал, посуды и безделушек. Его было невыносимо много, и оно было очень густым и плотным. И ходить в нем было, как в воде, трудно. Потом солнце ушло к Евгении Иоаникиевне, и мы остались одни.
Я сказал ей:
- Марианна, вас ни за что не сделают наркомом. Не ревнивы потому что. Вот что. Наркомы обязательно должны быть ревнивыми. Эти ужасные люди не спят по ночам и ни о чем не думают, кроме как о своих несчастьях. Агитатором вас тоже не сделают.
Марианна сначала не поняла. Переспросила. Потом долго кричала.
- Ах, сестрица Геро, не давай ему говорить! Не давай ему говорить, сестрица. Пусть он лучше тебя поцелует, или сама зажми ему рот поцелуем! Ах, сама, сама... пожалуйста...
Она долго шумела и поцеловала меня. Потом мы разом расстроились. И Марианна со вздохом сказала:
- Не начинайте писать романа. Сегодня вы уже не успеете его закончить.
Положим, я и без того не собирался начинать. Но, конечно, она была права - сегодня я действительно не закончил бы романа.
Мы сорвались с поцелуя и неожиданно заметили, что стекла стали сиреневыми, как готические витражи, и что обе стрелки часов глядели на запад все более и более сжимая маленькую толстую девятку.
И опять мы грустно и длинно отпили от губ.
Тогда я начал лепить ее.
Я брал ладонями и откидывал назад ее красивую крупную голову. Шея ее выгибалась и соскальзывала круглой тяжелой волной под широкий воротник платья.
Я работал быстро и сосредоточенно. Я прижал мягкую массу ее щек, отчего профиль сразу стал медальонным, и большими пальцами срезал виски. Потом резче очертил овал. Ноздри ее вздрогнули, зацвели и распустились. Я круто повернул всю голову и опять слегка откинул ее.
Мгновение так все и оставалось. Но она улыбнулась, стряхнув все лишнее. И не успевший загустеть гипс опять превращался в нее.
Тогда я нетерпеливо начинал сначала и делал ее опять непохожей. Я перечеркнул губы и даже не стал их переделывать. Я сделал ее в манере Майоля. И это шло к ней более всего другого. Но она подняла веки, шевельнула губами и бронза стала медленно испаряться. Потом появились краски, и линии заплывали под воротник, за уши, в волосы и в воздух.
Но я был счастлив своим ваятельством и смутно ощущал радость и удивление Пигмалиона.
АНЕКДОТ X
Манера, в которой написан этот Анекдот, несколько напоминает манер у старинных итальянских травести. Теперь автор сожалеет об этом. Автор просит прощенья у героини. Он чувствует себя глубоко виноватым. Теперь он знает, как дурно было с его стороны писать в таком легкомысленном тоне. Тяжелый пример автора повести о Гулливеровых терниях мог послужить отличным уроком, но автор очень упрям и ветрен. Он еще раз просит прощенья у своей героини. Марианна читает Аркадию сочиненные ею баллады о Робин Гуде. Замечание героя по поводу генезиса социалистического реализма. Хождение Богородицы по двум мукам (к Ане и домой). Критический разбор книги тов. Сталина "Спасенный Маяковский". О севрских кофейниках и опять о соцреализме. Анекдот заканчивается некрологом разбитым очкам, написанным в манере надгробного слова кота Гинцмана.
В нашей жизни было мало глаголов.
Мы рассказывали свою жизнь. Просто рассказывали прочитанные написанные книги.
Мы уже очень хорошо знали, что самую динамическую коллизию с легкостью можно свести к нескольким ритмически вялым прилагательным. И даже такой важный для нас глагол "любить" мы превратили в существительное имя "влюбленные", подозрительно похожее на свою прилага-тельную сестру.
Занимались мы следующим: ровно ничего не делали, любили друг друга, невыносимо утом-ляли друг друга внимательностью, Марианна писала очень важную для нее работу об английской балладе, а я делал первое стихотворение "Сепсиса" и с упоением читал схемы Белого в его архиве.
Но кроме того, что мы любили друг друга, читали, покупали, писали книги и дарили друг другу цветы, мы волновались, предчувствуя, что паспортов на Цитеру нам все-таки не выдадут. И Марианна с Евгенией Иоаникиевной будут уверены в том, что виноват в этом я.
Евгения Иоаникиевна стояла, прислонившись к косяку оконной амбразуры. Небо висело в раме окна и было расписано в манере лирической сюиты Кандинского.
Марианна спросила Евгению Иоаникиевну:
- Мать, скажи, пожалуйста, Каждан женат? Очень красивый мужчина.
Евгения Иоаникиевна ответила дочери:
- Нет, Марианна, он бережет своей цветочек.
И добавила тихо и отчетливо:
- Четыре тысячи семьсот двадцать четыре, - и глубоко вздохнула.
Спокойна была даже Евгения Иоаникиевна. Сегодня она сказала мне:
- Аркадий, если вы еще раз доведете моего ребенка до слез своими глупыми рассуждения-ми, то ребенок не пойдет за вас замуж.
Марианна сказала:
- Нельзя меня обижать.
Цезарь Георгиевич по ошибке долго солил суп табаком. Потом стоически ел его, конвульсив-но дергая челюстями. Но попросить другого супу он не решался. Он боялся Евгении Иоаникиевны. А я не боялся.
Потом мне стало жаль Цезаря Георгиевича.
Марианна просыпала сахар.
Дома я ничего не мог делать.
Я только придумывал надписи на книгах, которые дарил Марианне. Вчера меня поймали на том, что я писал что-то очень трогательное на большом только что распустившемся тюльпане.
В последнее время я ежедневно надоедливо звонил по телефону Марианне и удивленно спра-шивал, уж не хочет ли она перейти в Геолого-разведочный институт. Она деловито переспрашива-ла меня, в какой именно и каждый раз серьезно отказывалась. Потом, когда это стало невыноси-мым, она согласилась. В сущности, ее очень легко было уговорить. Но, если не удавалось заста-вить ее немедленно привыкнуть к новому положению, то завтра надо было начинать все сначала. И я звонил, спрашивал. И предчувствовал, какие роковые последствия могут скрываться за этим, столь легко преодолимым упрямством.
На лирике Симонова я с горечью надписал:
- На бестемье и любовь тема.
Марианна позвонила ко мне и деловито спросила:
- Аркадий, скажите мне, только, милый, пожалуйста поскорее, почему социалистический реализм должен быть именно в России? Да, да. Именно в России.
Я длинно и обстоятельно, как умел, объяснил ей. Но она спешила и поторопила меня.
- Варвары, - сказал я,- Варвары, - ну, и метод такой.
Иное дело Сезанн, барбизонцы:
Они - композиция, план, протокол,
У них на каркасе солнце.
Она согласилась и благодарила. Потом тихо пожаловалась:
- Я дурно себя чувствую, милый. Поезжайте.
Я побежал за цветами. Было уже поздно, и цветов не было. Впрочем, цветов не было, навер-ное, не только по этой, вполне реалистической причине. Цветов в Москву, наверное, сегодня не завезли.
Вместо цветов продавали газированную воду и чистили обувь. Чистили все. Это было чем-то почти триумфальным. Все чистили и в чувственном ажиотаже приговаривали стихи Маяковского "О белом и черном". Настроение у меня было подавленное, и я тоже чистил. Чувствовал, что этого не следовало делать, потому что я чищу туфли каждое утро, и что мой чистильщик, коричневый, блестящий и кожаный, с усами, зашнурованными бантиком, будет очень удивлен и недоволен, узнав чужую щетку. И все-таки чистил, превозмогая острую недоброжелательность к чужой щетке.
Но к Марианне я не шел.
Пить воду на улице я терпеть не могу. Я своими глазами видел, как один вполне приличный мужчина соскочил с трамвая, бросил монету, взял стакан, пил, пил, потом вздохнул, саркастически плюнул в стакан и, громко крича, опять побежал за трамваем. Тотчас же продавщица долила доверху стакан и по общедоступной цене продала его, не торгуясь, на все махнувшей рукой моло-денькой девушке. Это было ужасно. Я поклялся, что мы с Марианной решительно отказываемся от уличных удовольствий.
Недавно Марианна оживленно рассказывала о своей приятельнице, которая даже экономила на воде. Все лето. Потом пошла и пропила все. В один вечер. Потом узнал ее муж. Боже, что там было!
Цветов все-таки не было.
Принести Марианне воды, даже той, чистоту которой я мог гарантировать, мне не приходило в голову, хотя она, больная и слабая, наверное хотела пить. Как впоследствии я сожалел об этой жестокой опрометчивости! Запамятовал. Ну, просто никак не мог подумать о воде. Больше прино-сить было нечего. Нести вычищенные туфли я не решался. Не было ни шоколаду, ни пирожных, ни фруктов. Продавали пирожки.
К Марианне я все не шел.
Дома у меня были цветы. Я возвратился домой и с тоской сунул их в письменный стол. К рукописи. Пусть тоже гниют.
Мама сказала, что час назад Марианна опять звонила и сильно беспокоилась.
Я подошел к телефону и позвонил Ане.
Аня уже спала. Я попросил разбудить ее, и по моему расстроенному голосу Наталья Дмитриевна поняла, что это очень важно. Недовольная Аня спросила меня заспанным и глухим, как подушка, голосом, чего мне нужно, и я весело осведомился о ее самочувствии. Потом я сказал, что рад пожелать ей доброй ночи. Аня сказала, что будить человека для того, чтобы пожелать ему легкого сна, бессовестно. Потом зевнула и добавила:
- Но изобретательно. И очень похоже на вас. Потом она спросила меня о Марианне. Я с беспокойством рассказал про цветы.
Аня сказала:
- Приходите. У нас есть. Возьмете у мамы.
Я извинился и благодарил.
Через полчаса я поднимался к Аниной квартире.
Перед дверью, на лестничной площадке, действительно стояли цветы. Цветы, собственно, не стояли, а лежали. Наверное, они даже просто валялись. Я осторожно подобрал их и тихо позвонил. Я знал, что в электрические звонки тихо звонить нельзя. Звонят они всегда одинаково. Можно только звонить коротко и часто. Или длинно и редко, или длинно и часто, или еще как-нибудь. По-всякому можно звонить в электрические звонки. Но я все-таки звонил тихо, потому что Аня спала и будить ее было бессовестно.
Мне открыли. Я быстро прошел в Анину комнату и не очень громко сказал:
- Завтра концерт Гилельса. Положим, он плебей, Гилельс, но все-таки интересно.
Аня проснулась. Она взглянула на меня. На щеке у нее была копия наволочкиного кружева. Милая Аня...
Она проговорила:
- Спасибо, спасибо. Я же хочу спать, невозможный вы человек. Поставьте на стол.
Я умолк и недоуменно глядел на спящую Аню. Потом испуганно догадался. Но делать было нечего. Я осторожно поставил цветы и тихонько вышел из комнаты.
Было около двух часов ночи.
Широколастные плавали автомобили.
А цветов я все еще не достал. Я возвратился домой. На душе у меня было тревожно. На письменном столе лежала записка:
- Дорогой мой, была у вас. Не застала. Очень беспокоюсь. Куда вы пропали? Зачем вы принесли маме коньки? Ваша пепельница оказалась в моей пижаме. Вот где. Принесла вам роз. Целую вас крепко, крепко, мой дорогой и самый хороший. Наша Маша.
Знаете, хороший, хороший мой, я тишайшая, я простая. "Подорожник", "Белая стая".
Розы стояли на столе в большом темном бокале. Рядом с розами лежал томик Ахматовой с Марианниной дарственной.
Я был потрясен. Я понял, что все передуманное мною о Марианне, все верное и неверное, что придумал я или обнаружил в ней, ничто и ничтожно в сравнении с этими двумя простенькими строчками, переполненными захлестывающей надеждой на то, что она, все-таки, может быть, талантлива, исполненными горечи примирения с мыслью о своей бесталанности, полными иронии над людьми, поверившими в это и предавшими ее, и исполненными робкой попыткой доказать, что все это, все-таки может быть, и не так.
Эта цитата была неизмеримо важнее стихов, которые Марианна написала бы сама, сделав их, может быть, равноценными этим по удивительному искусству, в них вложенному, ибо нужно было быть только очень талантливым человеком для того, чтобы так удивительно уловить свою интонацию в чужих словах и вложить в эти несколько ритмически упорядоченных голосовых движений все свои опасения, надежды, боязнь и отчаяние.
Если все это рассказать Марианне, то она станет упорно отстаивать незначительность своих художественных способностей потому, что большой талант Марианны - потенциален и тайн.
Стало душно. Дыхание сдавили подушки, горячие и слегка потрескавшиеся, как губы. Под челюсть заплыли кисловатые железы. Боже мой, боже мой! С невыносимой нежностью думал я об этой необыкновенной и неповторимой, больной и большой девочке, которой я утром купил конь-ки, а вечером долго, путано и бестолково покупал гвоздику, торопливо пересекал улицу, сталкива-ясь с прохожими, спотыкаясь, серьезно придумывая какую-то путаную историю о воде, продавав-шейся на улице, и смутно догадываясь о том, что нет на земле мне счастья без счастья этого человека и книг, которые мы вместе прочтем и напишем.
Милая моя детка. Милая. Милая и дорогая...
На следующий день я купил цветы и побежал к Марианне. Она сердито встретила меня и немедленно сказала:
- Знаете, любовь, на холоде особенно, очень скоропортящийся продукт.
Я оторопел.
Сентенцию эту она придумала ночью. И теперь не утерпела и сказала, не дав мне войти как следует. Это я понял по тому, что она не утерпела. Сказать нужно было несколько секунд спустя. Тогда я бы не догадался. Теперь уже нельзя было сердиться. Я спросил:
- Рифмы? "Особенно - Собинов", "продукты - репродуктор".
Марианна не стала слушать моих объяснений. Она занялась с цветами и разговором с Надей. Но потом она подошла ко мне и сказала, поводя бровью в сторону тут же сидевшей Любы.
- Правда, она интересная?
Я не удержался и торопливо проговорил:
- Толста. Без окон и без дверей полна пазуха грудей.
Марианна всплеснула руками и ахнула.
- Стыдитесь, Аркадий, как вы дурно воспитаны!
Люба рассмеялась и спросила:
- Кто это?
Марианна сказала:
- Аня.
Начинался кофе. Нике очень понравились конфеты. Я знал, что понравились они ей со злости. Она очень хорошо знает, что я не люблю конфет. Марианна любит. А я не люблю. Даже не в этом дело. Терпеть не могла меня Ника, собственно, не из-за конфет, а из-за Марианны. Доктор сказал, что у нее патологическая страсть изо всех сил стараться все делать вопреки желаниям своих друзей. А так как Марианна была ее подругой и Ника знала о некоторой склонности Марианны ко мне, то этого было совершенно достаточно, чтобы Марианне ежедневно сообщалось обо мне что-нибудь, не слишком стимулирующее Марианнины чувства. Я, положим, тоже терперь не мог Нику, но я готов присягнуть, что это только в ответ на ее чувства ко мне. Больше она меня вообще не интересовала. Впрочем, иногда она мне нравилась - когда была высокой и тихо говорила.
Вдруг Ника, не дав хоть немного остыть кофе, заявила о необходимости ревизии чрезвычайно популярного в простом народе мнения о Маяковском как о весьма одаренном поэте.
Марианна выронила чашку кофе на колени Цезаря Георгиевича. Я - на колени Евгении Иоаникиевны. Большой черный кот вскочил на стол и сразу выпил весь ликер и съел все бисквиты.
Тогда все предварительно обдумавшая Ника немедленно присовокупила к сему цитату из Ленина, о которой ничего нельзя было сказать, потому что кроме нас пили кофе какие-то архитекторы, которым очень хотелось посадить Цезаря Георгиевича и меня в тюрьму.
Я просто не знал, что делать. Все тревожно смотрели на меня, как на защитника цивилизации от варварских посягательств. Делать было нечего, и я решил дать сражение на том же поле. Я с аппетитом съел чье-то печенье и, почти успокоившись, радостно сказал:
- Очень хорошо-с. Я бы сказал даже - просто превосходно. Таким образом, уж если мы вступили на тернистую стезю апелляций к священному писанию, то некоторое напряжение памяти самой малой толикой разгоряченной чаем фантазии неминуемо понудит нас вспомнить некое весьма популярное заявление на этот счет, ставшее категорической формулой и прекрасным эпиграфом. С таким эпиграфом можно, скажем, написать книгу под титлой "Спасенный Маяковский".
У Ники стыли руки и чай. Она положила пальцы в стакан. Потом страшно смутилась и выну-ла их. Потом обсосала и положила сахар.
Я продолжал, успокоенный, почувствовав знакомое щекотание под подбородком.
- Вы, естественно, возразите указанием на то обстоятельство, что эти два высказывания суть диаметрально противоположны одно другому. Очень хорошо.
Архитекторы начали икать от удивления.
Чужое печенье я уже съел. Свое тоже. Марианнино тоже. Это было удивительно осторожно сказано. Во всяком случае, архитекторы не могли посадить нас в тюрьму.
- Вы совершенно правы, - настаивал я, - придется только решить, кому из двух высказавшихся на эту щекотливую в некотором роде тему верить больше.
Марианна отобрала у Ники кофе, в котором она ложечкой размешивала пальцы, и спросила:
- Кому из двух высказавшихся отдать предпочтение?
Я тоже спросил:
- Кому? Кому верить больше, ибо верить обоим сразу - противно, - и пояснил архитекто-рам, - логике естественной противно.
Марианна сказала:
- Противно.
Архитекторы еще раз икнули и тоже сказали:
- Противно.
Ника плакала. У нее отобрали кофе, бестактные архитекторы съели ее печенье и горько обидели ее. Это, конечно, было слишком жестоко и я пожалел ее.
- Не плачьте, Ника, не надо. Вы вполне можете примириться с обоими. Конечно. Только счастливое преимущество Ленина, - сказал я, - было в том, что он мог скромно иметь свое мнение, которое не было обязательным для других так, как обязательно исполнение предписаний последних фраз статей Уложения о наказаниях. Поэтому мне даже приятна его наивность и абсолютная некомпетентность в отношении Маяковского. Конечно, ведь и в канонической жизни Иисуса ученые нашли, знаете, много вещей, увязать которые между собой можно только нитями любви к отцу и учителю нашему. Только нитями любви, Ника.
Архитекторам очень понравилось это соображение. Они сказали:
- Нитями любви к отцу и учителю нашему.
И выпили по стакану чаю.
Все это мне страшно не понравилось. Я разозлился и плюнул на архитекторов.
Какая-то литературно-музыкальная девица на выданьи очень мило сказала мне, что стихи мои ей нравятся потому, что они вполне искренние стихи. Еще она очень просила меня написать стихи про любовь и, если можно, то ей хотелось бы и про изнасилование. Другая музыкально-литературная девица допытывалась правда ли все то, о чем я пишу.
Теперь я все это вспомнил. Это уже было слишком невыносимым. Раньше я не сердился на девиц, но теперь мне стало нестерпимо обидно и, хоть я и прекрасно воспитан и был в вечернем костюме и в сорочке с туго накрахмаленной грудью, больше я не мог быть спокойным, я стукнул кулаком об стол, еще раз плюнул на архитекторов и громко закричал:
- Да, что они, в самом деле, хотят жизни учиться у изящной словесности? Пусть тогда изучают статьи Горького о грамотности! - кричал я угрюмым архитекторам, которые хотели посадить нас в тюрьму. - Странно, удивительно даже, непостижимо, почему это до сих пор никому не приходит в голову поучиться, как вести себя с любезными женой и детками, у тонкого севрского кофейника, который сделан с действительно неподражаемым искусством. Почему у кофейников никто не учится морали, а приходят спрашивать с нас, писателей? кричал я на Нику. - Это неверно и несправедливо! Уж если вы действительно уверены в воспитательной функции искусства, то воистину совершеннейший севрский кофейник научит вас большему, чем самые зарифмованные речи Суркова и Алигер. Я напишу им про любовь. Про кофейники! Про кофейники. О-о!
Я задыхался. Марианна отвела меня в свою комнату, напоила водой и тихо сказала:
- Дорогой мой, правду не надо говорить слишком много. И сразу. Шутите побольше, милый... Ну, конечно, конечно, дорогой, занялась бы эта литературно-музыкальная дама каким-нибудь честным делом, ботаникой или медицинским промыслом, например, и была бы просто приятной дамой или даже дамой приятной во всех отношениях... Но какой же вы мальчик. Совсем, совсем мальчик. Знаете, еще в Екклезиасте сказано: "Потому, что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того", - Марианна дала мне еще попить, пожалела меня и сказала, протирая стекла моих очков:
- Знаете, Аркадий, когда разбиваешь розовые очки, то зрение чрезвычайно выигрывает, но, знаете, вещи получаются такими, точно их отпечатали на слишком контрастной бумаге. У них морщинистый лоб, складки у губ и под глазами большие темные круги. Может быть, действи-тельно, мой друг, не нужно очень пристально вглядываться в вещи.
АНЕКДОТ XI
Марианна и Аркадий весьма хладнокровно выслушивают резкий выговор за свой эгоцентризм и оправдываются, ссылаясь на глубокую любовь к замечательному поэту Илье Сельвинскому. Процесс ассимиляции и диссимиляции в человеческом организме. Прометей, выклевывающий свою печень. Автор понимает всю безнадежность положения своего героя и соглашается с предложе-нием пригласить знаменитого профессора. Знаменитый профессор недовольно покачивает головой и безразлично советует читать "Пьер и Люс". Больной умирает. О дожде, шедшем во время отъезда милой невесты героя.
Наша жизнь была только для нас.
С социалистическим обществом мы не делились.
Даже мои близкие друзья не прощали этого ни мне, ни Марианне. Они, попыхивая, уходили хлопьями, похлебывая горечь нашего отплытия. Но мы были совсем рядом с огромным писателем. Это мой учитель. Наш любимый писатель и учитель.
Кроме того, что Сельвинский писал удивительные стихи, он еще и не писал удивительной прозы. Эту прозу он говорил. Как говорил Сельвинский? Как ходил - великолепно упруго и стремительно и весь обваливался на ноги. Это был старый и чрезвычайной важности разговор о том, как тошно обеднячиваться, и о том, что литература не парад с его дотошным равнением. Сельвинский непременно лидер. Непременно глава. Непременно вождь. Он крупен и кругл. Каждая часть его тела похожа на другую. Ноготь его большого пальца похож на сильное мускули-стое крыло ноздри, а вместе - они похожи на веко. Он говорит громко и нежно. По его фигуре и голосу легче всего догадаться о том, как сделаны эпиграммы, стихи о зверях и посвящение в "Пушторге".
Он сам стоял во главе большой школы.
Поэтому у него не было почтительности. У него не было восхищения. Он лучше других знал, как сделаны "Про это" и "Разрыв". Потому что никто не знал так хорошо, как он, как сделаны "Уляляевщина" и "Записки поэта". Он был единственным серьезным конкурентом своим гениальным современникам Маяковскому и Пастернаку. Наверное, он не любил их, владимвладимыча и борислеонидыча. И кто знает, - может быть, ему очень больно было читать эти строки:
Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы просыхали.
Маяковскому было легче простить. Там прямо так и сказано:
"Илья Сельвинский: Тара - тина - тара - тина т-эн... "
Часто он резко говорил о них обоих. Но это говорил очень большой писатель о других очень больших писателях. И незабываемое ощущение того, что в разговорах с Сельвинским эти писа-тели становились резкими и живыми соперниками в споре, тут же за столом, рядом, со своими книгами, интонациями и спорами.
А мы с Марианной жили тропами. Поэтому наше согласие было рифмами, а споры лишь перебоями ритма. Это была радостная жизнь заряжающихся аккумуляторов. .
Мы много впитывали в себя и почти ничего не тратили. Это нарушало правильный обмен веществ. Мы отлично видели все вокруг, но брать предпочитали только из собственной печени. Брали мы, как голуби. И ни для кого не добывали огня.
Об отличности наших темпераментов мы уже хорошо знали, но полагали, что эта отличность именно и есть разность потенциалов. Кроме нас знала это Евгения Иоаникиевна. Откуда и как она это узнала, мне неизвестно. Я не думаю, чтобы она сама об этом догадалась. Наверное это сказала сама Марианна.
Как трудно Марианне быть ожесточенной. Хорошо, что пока ей это не нужно. Но она не понимает, какая нужда в ожесточенности мне. И то, что литература - это моя профессия, не казалось ей достаточно убедительным доводом.
Нашему счастью мы уже нашли место.
Дома мы его все-таки не оставляли, а предпочитали носить с собой. Но оно становилось все больше и тяжелее, и все более и более походило на изображение многорукого Будды. В руки и губы оно уже не укладывалось.
Тучи прилипали к крышам, и тонкие июньские дожди отмачивали их, как вату. В воздухе плавала обидная ухмылка, совершенно нерусская, ибо в ней был сарказм и сознание нашей беспомощности. Погода была похожа на нарыв: он неминуемо должен был скоро лопнуть. Это было ясно, ибо не мог долго держаться нарыв, так сильно набухший желтым густым теплом.
Пригороды неслись в Москву желто-зеленым всхлипывающим щебетом. Их сдержанный и сильный шепот прижимался ветром к поездам, и в Москве он отклеивался от серо-голубых стенок и стекол и листовками падал на горячие трамваи, на еще твердый и сухой асфальт, на перила и на изящные, всегда новые киоски.
Наши обязательные ежегодные отъезды из Москвы происходили всегда неожиданно и непри-готовленно. У нас не хотят и не умеют запасаться. Впрок мы покупаем только книги. А все остальное - ненадолго. И поэтому легко и радостно меняем вещи и не очень привыкаем к ним.
О том, что по странной фантазии Марианна едет в подмосковную деревню, куда мои родите-ли ни за что не поехали бы и сам я мог сделать это только ради нее, я знал еще с конца зимы. Марианна тоже ненавидела эту деревню, и мы старались об этом не думать и не говорить.
Довольно часто с треском лопались небольшие хрупкие коробки, и из них выпадал зернис-тый, сухой дождь. Но через полчаса на земле его уже трудно было найти, и только изредка встречались небольшие, слегка сплющенные капли. Потом и они пропадали.
В зоологическом парке открывали летние вольеры. Театры уходили на юг.
На солнце испарялись дома и панели и затекали в еще не успевший загустеть воздух.
В музее было прохладно и тихо, как в слегка потрескивающий полдень, когда очень высоко пролетает аэроплан.
Картины, как всегда летом, слегка потемнели и опять мы смотрели их заново. Особенно заметно меняются летом Марке и Матиссовы рыбы.
В Гогеновском зале крался вдоль стен, сползая по изогнутым рамам и смешивая свои пальцы с охрой полотен, растворяясь в сотворенном рисунке своего жеста, сглаживая тепло-желтые вздрагивающие пятна масляных солнечных бликов, крался вдоль стен и вился по рамам высокий, худощавый, начавший седеть, зеленоватый человек.
Он слегка пошатывался рядом с девушкой под деревом Манго. Их светло-коричневые лбы смешивались. Пальцы усложняли крупную резьбу темной рамы, сливая ее с полотном.
Он испуганно вздрагивал, широко заводил руку и мелко дробил какое-то длинное слово, полное губных и сонорных звуков.
Вдруг вздрогнув, он вырвался из рамы и, сорвавшись на рифме, пожевывая сиреневые губы и скосив фиолетовый глаз, бросился в дверь, отрывая подошвы чуть скартавивших длинных узких ботинок.
Мы были разбиты, разом прочтя "Сестру мою - жизнь".
Мы вышли на улицу.
Был дождь, похожий на этого светло-зеленого человека. Стихи были о них обоих.
Вода рвалась из труб, из луночек,
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель,
С шестого часа пополуночи,
С четвертого и со второго.
В шестом часу, куском ландшафта
С внезапно подсыревшей лестницы,
Как рухнет в воду, да как треснется
Усталое: "Итак, до завтра!"
И мартовская ночь и автор
Шли рядом, и обоих спорящих
Холодная рука ландшафта
Вела домой, вела со сборища.
То был рассвет. И амфитеатром,
Явившимся на зов предвестницы,
Неслось к обоим это завтра,
Произнесенное на лестнице.
Оно с багетом шло, как рамошник,
Деревья, здания и храмы
Нездешними казались, тамошними
В провале недоступной рамы.
Они трехъярусным гекзаметром
Смещались вправо по квадрату,
Смещенных выносили замертво.
Никто не замечал утраты.
С теплом в Москве грохот и шум распускаются и цветут, цепляясь за шероховатости карнизов окон и бульварных решеток.
Первым созревает горохообразное дребезжание трамваев. Потом появляются тяжелые, как фрукты, немного влажные голоса автомобилей. Потом шаркание прохожих. Птиц нет вовсе. Дожди в Москве бесшумны. Они висят в воздухе. Падать им некуда.
Мы опять собирались на юг. Там легче оторваться от однообразной зимней усталости и нужно заново привыкать к воздуху, людям, домам и деревьям. Неожиданность успокаивает, как редкие выпадения из строгого и утомительного ритма.
Марианна уезжала в деревню.
С утра хлопотали с вещами, которых, конечно, оказалось непомерно много, и с книгами, которые тоже всегда неожиданно становятся тяжелыми. Все это нужно было приводить в порядок, складывать, увязывать и отправлять на вокзал. У Марианны болела голова. Мне была тягостна собственная беспомощность, и я дурно чувствовал себя среди этих беспорядочно валяющихся по столам, креслам, стульям и просто на полу вещей. Я натыкался на них и всем надоел.
Евгения Иоаникиевна на меня дулась, уверенная в том, что я уговаривал Марианну не ездить в деревню. Ничего подобного я не делал. Я только прочел Марианне "Когда волнуется желтеющая нива"... И купил ей удочку.
Дождь штопал окна. Потом началась гроза. Поле стало серым и маленьким. Ветер охапками бросал дождь из стороны в сторону. Лес рванулся в поле. На мгновение он замер, не понимая своей неподвижности, потом вспомнил, вздыхал и переминался с ноги на ногу. Гроза шла за рекой и вместе с нею. Обе были торопливы, и река часто кашляла. Было много молний. Они скрещива-лись, и это очень походило на рисунок, предупреждающий об очень высоком напряжении.
Я сказал Марианне об этом и еще о том, что все-таки грома мы боимся больше, чем молнии.
Марианна утвердительно кивнула головой, но я знал, что сейчас ей это неинтересно. Она глядела в окно на автомобили, которые как-то удивительно лавировали среди ниточек дождя, умудряясь оставаться сухими.
Уехали они в дождь.
Гроза прошла, и дождь повис над узким перроном, как скошенный гребень.
Поезд был уставшим и потным. Был июнь. Было тепло. И в вечере висел дождь, натянутый между фонарными столбами.
АНЕКДОТ XII
Письмо с эпиграфом. Раскаленный воздух по вечерам над ресторанами. Болезнь. Проект письма. XI-ая заповедь Евгении Иоаникиевны. О любви, простуженной на холоде. О дочери и о неуловимом. О вновь завывших химерах Собора Богоматери.
В Руане светало. Ветер смахнул дождь. Хлопьями падал туман. Совсем рядом плавало сочное море. Потом вспыхнуло гладкое солнце. И растаяло на голых головах булыжников.
Это был предутренний час, когда великий писатель кончил последнюю фразу "Сентименталь-ного воспитания" и, откинувшись на спинку кресла, тихо, как цитату из своего романа, сказал:
- Всегда пишешь не те книги, какие хочешь.
Даже не читаешь, какие хочешь. Все делаешь не так, как хочешь. Флобер хотел быть просто эстетом, но в 30-40-х годах нынешнего века он оказался разрушителем и реалистом, а его друга Д'Орвильи начинают забывать. Вероятно, Марианна тоже стала бы разрушительницей, но я был слишком нетерпелив и злоупотреблял радостью Пигмалиона.
Метаморфозы.
Эта часть романа начинается именно так: "Это было в тягостные июньские дни девятьсот сорок первого лета; в пору превращения дождей из белых туманов и опрометчивых колебаний термометра, в пору, когда Симонов, Алигер и Долматовский становились такими же древне-русскими безнадежностями, как праздная попытка переписать заново стихи поэтов допушкинской эпохи; в то тягостное время, когда уставшие школьницы и студенты сдают последние экзамены, уже утратив сладость предвкушения грядущего бездельного лета, в пору тягостной диктатуры пролетариата..."
Ночью я писал Марианне. Это было новое, до этих пор почти незнакомое ощущение. Потому что это письмо было одним из очень немногих писем, которые я когда-либо писал Марианне. До этого мне некуда было писать. Я задумал целую серию. На конверте я нарисовал маленькую единицу.
Мне было очень тяжело. Я впервые расставался с Марианной. Еще недавно я не знал ее вовсе. Теперь Марианна уехала. По-моему, это преждевременно. Кроме того, сама, добровольно уехала. Как будто даже отдыхать.
Письмо получалось громоздкое и сложное, как пьеса к концу четвертого акта. Эпиграф был такой:
...Взгляни на меня.
Я твое несчастье.
Я обрекаю тебя на муку.
неслыханной соловьиной страсти...
Эпиграфа я испугался. Но оставил. Письма не выходило. Тогда я подумал и решил переделать его в пародию на европейскую литературу, и главным образом на Шлегелевскую "Люцинду", плохо понимая, зачем мне это нужно.
Шел дождь. Наверное бы пошел снег, если бы это не был конец июня. Было холодно. Было темно. И был ветер. Я надвинул шляпу на лоб. По блестящей полированной поверхности макинто-ша текли лужи. В них отражались автомобильные фары. Плащ был кинематографичен и блестящ, как великосветское общество с шампанским.
Но письма не выходило.
Про кинематографический плащ, похожий на сервировку великосветского ужина, вполне можно было написать в письме.
Но я не писал.
Я вернулся домой и долго курил. Потом читал Селина. Потом лег. Были сны. Потом я заснул. Сны были многоверстные, громоздкие, огромные и, похожие на шкаф, который выносят из пустой квартиры. Толкаясь, они толпились под одеялом и мешали спать, чужие, как прохожие, похожие друг на друга. В одном был какой-то сложный сюжет. Какой, я забыл. Потом снились рифмы. Забыл какие.
Утро было удивительно похожее на вечер. На тот, который я видел накануне. Серый узкий дождь сушился, свешиваясь между фонарными столбами, и за ним был покрасневший, набухший фонарь. Если бы я сам не видел ночи, можно было бы подумать, что ее вовсе не было. Но это неправда. Она была. Я не мог написать письма. Это совершенно ясно. Это оно лежит, со вставками и вычеркнутыми строками, поломанное и скомканное, как сияющий плащ, или как остатки велико-светского ужина.
Тверская растворялась в тумане, как мазок акварелью по влажной бумаге. В конце улицы, прямо на дороге, все время пересекаемой автомобилями, лежало тихое зеленоватое облако. Авто-мобили подпрыгивали и зарывались в круглые бугорки тумана. Где-то, кромсая, рванулись и взвизгнули сразу несколько трамваев и молодая женщина. Повесился мужчина в возрасте 27 лет.
Толстая, черная машина вдруг кругло затормозила и упруго припала к асфальту.
Репродукторы расстреливали автомобили.
Гравий из репродуктора легко пробивал воздух и забивался в рот и за ворот.
Автомобили неожиданно круто тормозили и удивленно приседали на задние колеса.
Глубокие горсти репродукторов слегка пошатывало. Слова и еще не отлетевшее от них дыха-ние просыпались во все стороны. Они сыпались на крыши и на тротуар. Некоторые закатывались под ноги, под дома и автомобили и пропадали.
Потом вдруг зажегся фонарь. Несколько секунд бессмысленно погорел. Потом мигнул и поспешно погас.
Дома покачивало. Сорвалась какая-то рама и билась об стену, звонко вырываясь из рук испуганной девушки.
Тверская громоздилась говором.
Откуда-то появлялись новые люди и автомобили, становились выпуклыми и круглыми, этим выдавая свою довоенную некомпетентность.
Говор большими кульками с крупной крупой переходил из рук в руки. В него заглядывали, переспрашивали, с тем, чтобы тотчас же, забывая опять и сбиваясь в тщетных высчитываниях, угадать название, количество или время.
Выпорхнуло, помахивая, похожее на тень уже позабытого, непривычного слова. Оно оказа-лось солоноватым на вкус и было похоже на шепот. И на летучую мышь.
В квартире уже знали. Мамы не было. Через несколько секунд, задыхаясь, она выпала из двери и у папы в руках разбилась в истерике.
Я подошел к письменному столу и, не думая, не высчитывая и не угадывая, торопливо запечатал обрывки недописанного ночью письма с нашим довоенным, великосветским ужином.
Марианны не было. Я сильно нервничал, перечитывая надписи на подаренных ею книгах. Сколько хороших, но уже очень давно запрещенных слов. И все трогательные.
Цезарь Георгиевич привез мне письмо.
Я удивленно читал античные, еще довоенные слова.
"Милый каприза! Если бы я знала, что Вы где-нибудь совсем рядом, то была бы вполне счастлива.
Мы с Никой чудесно ехали в пустом поезде, радовались, как дурочки, каждому деревцу, скакали на Кукушку и злились на начинающийся дождь.
Деревня наша хорошая.
В комнате у нас висит много очень красивых картин. На них нарисованы лошади и коровы, и другие разные люди. Кремль написан в манере Моне, поры Руанских соборов. Всем. Нам. Очень. Скучно.
Вечер мы пели разные песни. В этой деревне chevalier - называется странным русским словом "парень". Эти самые "парень" норовят шлепнуть здоровенной ручищей между лопаток какую нибудь из местных наяд. Восхищенным наядам это тоже страшно нравится. По всей деревне вечером несутся дикие вопли, птичьи перья, лошадиное ржание и бешеные собаки. Аня поет романс: "Уверяю вас, что русской бабе необходим писатель Бабель". Хорошо бы написать лирическую книгу под титлой "Вечерние взвизги".
Я все время, каждую секунду с Вами, самый хороший и любимый из всех каприз! Я Вас в каждой строчке читаю, а мама все время что-нибудь говорит про вас. А Ника говорит, что у вас череп убийцы. А я злюсь. Господи. Да какой же вы чудный!
А я что придумала!.. Угадайте-ка. Вот. Фамилию придумала. Аксель Бант. Подумайте только! Норвежец. Толстый. Рыжеватый, со светлыми пушистыми бровями и ресницами. Литературовед, конечно. Доктор Аксель Бант. Лекции о древнегерманском эпосе доктора Аксель Банта. Ну, прав-да ведь хорошо! Похвалите меня. Ну, пожалуйста. Знаете, я тишайшая, я простая. "Подорожник". "Белая стая"...
Вот и все о наших делах, дорогой. Перед Цапочкиным отъездом напишу еще. Все Вас привет-ствуют. Я очень люблю вас, очень целую и очень кусаю.
Мар-на на Франкфурте.
Бейте Аню".
На последней странице карандашом было быстро написано:
- Дорогой, дорогой мой! Боже, война... а я не с Вами. Вы, наверное, уже никуда не поедете. И я не с Вами! Как Вы? Господи, наверное вы заболели... Мы истерически ловим все радиосооб-щения. Ради бога берегите себя! Целую Вас. Очень, очень крепко. Больно без Вас, родной. Твоя М.
День вывалился из суток.
Две ночи прижались друг к другу.
Довоенная ночь была розовой и пахла женскими духами.
Первая военная ночь была Незнакомкой.
Она разрослась, как широкое, полное листьев дерево, и закрыло своим легким и шумным телом наши книги, картины и афишы.
В эту ночь, настоящую, как сгущенная ночь планетария, приехала заплаканная Марианна.
Ночью я заболел.
Жар поднимал меня с подушек. Горячо и сухо прижимался ко мне и вдруг неожиданно наот-машь бил меня по лицу. Я падал с подушек, скатываясь под гору и цепляясь волосами за кустар-ник. Холодно становилось так сразу, что трудно было сказать даже, холодно ли это.
Врачи настойчиво вычерчивали расширенное предсердие, но я уже хорошо знал, что теперь уже и за сердцем - легкие.
Утро было задумчиво дымчатым и шершавым.
Я долго ловил плавающие рукава халата, встал и с трудом добрался до телефона. Марианны не было. Евгения Иоаникиевна велела лежать. У меня очень высокая температура. Все время, не переставая, мелко бьется телефон. К телефону прижимаются подушка на щеках. Все стало похожим на бесконечный ряд перфорационных отверстий в кинопленке. Я старался запомнить каждое из них, но они слишком похожи друг на друга и, не останавливаясь, текут вдоль кадров. Потом Женя. Люся. Лена. Приехали папа и мама. Привезли журналы. Мама уехала. Он остался один, расстроенный. Потом уехал. Надя, Галя и Вера. Потом опять Женя. Марианны - нет. Я встал опять позвонить ей. У нее плохое настроение. Заниматься ей не хочется, но это необходимо - у Марианны сессия. Мне она советует больше лежать. Кроме того, она выписывает мне рецепт: не волноваться и валериановые капли. Вставать мне очень вредно. Потом Марианна прощается. Она говорит, чтобы я непременно выздоравливал. Потом, что-то высчитав, обещает:
- Впрочем, я, наверное, часа в два зайду к вам.
И запечатывает трубкой.
(Примечание автора. Эта книга менее всего мемуары. Читатель должен ни на мгновение не упускать из виду, что это nature morte, и, не переставая, переводить себе для уяснения смысла это слово на русский язык. В этом натюрморте ничего, кроме мнений Аркадия и Марианны о ряде книг и картин, музыкальных сочинений и философских сентенций, а также нескольких весьма интенсивно окрашенных предметов на среднем плане, нет.)
Далее следует одно очень важное сообщение.
МАЛАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГЕРОЯ И АВТОРА:
О причинах раздвоения героя
Каждый из нас, дойдя до этой страницы нашей жизни, независимо один от другого, окончате-льно убедился в том, что ответственность за свои поступки мы должны нести отныне каждый в отдельности.
Это решение явилось в связи с тем обстоятельством, что роман писался весьма длительное время и претерпел несколько радикальных метаморфоз, количество которых приблизительно равно количеству вариантов и редакций романа. За это время, а также за время, прошедшее после окончания книги, в жизни автора и его любимой героини произошел ряд важных происшествий, которые, естественно, оказали серьезное влияние на их мнения касательно целого ряда предметов и событий. Ничего подобного не произошло с героем, вынужденным тотчас же с окончанием кни-ги о нем остановиться в развитии своих мнений и поступков и вынужденным думать и поступать так, как он это делал на протяжении немногих дней, о которых повествуется на этих страницах.
Таким образом, мы, герой этого сочинения и его автор, в этой своей Малой декларации заявляем:
отныне, с этой страницы о некоторых вопросах и действиях мнения автора и его героя утра-чивают свою идентичность. В силу этого обстоятельства автор считает своим долгом в отдельных случаях делать некоторые замечания, подобные тем замечаниям, которые читатель уже знает по предшествующему тексту.
(Примечание героя. Книга эта могла бы стать вполне образной, если бы я обманул вас и личное местоимение "Я" склонял в третьем лице. У него с легкостью и удовольствием можно описать прическу и цвет лица. Описывать свою прическу для себя - то же самое, вероятно, что, шагая по улице, приговаривать: а вот я поднял правую ногу, а теперь опустил правую, потом поднял левую. Для читателей, которые все вместе поместятся на одном средних размеров диване, тоже не стоит описывать хорошо им известную прическу. А эта книга - для них. Кроме того эта книга для меня самого. Просто нам не нужно описание моей скромной и незатейливой прически.
Я до тех пор не стану автором этой книги, пока не перестану быть ее героем.
Но самое главное то, что эта книга для самой Марианны.
То, что я говорил Марианне, она не всегда хотела понять, потому что это говорилось специа-льно для нее и меня можно было заподозрить в нелояльности. То, что написано здесь, - Мари-анна хорошо знает - написано для меня. И, если я себя узнаю здесь не всюду, то это происходит, вероятно, по тем же причинам, по которым мы удивляемся своему голосу, записанному на целлу-лоидной пластинке: мы забываем об ушах, меняющихся вместе с голосом, который мы слышим всегда на одинаковом расстоянии от ушей. Грамофонная пластинка может вертеться на другом конце квартиры. И еще потому, что на хороших фотографиях мы не очень похожи на себя. Но для этого необходимо научиться фотографироваться.)
До четырех Марианны нет. Теперь я уже не болен. Теперь я очень сосредоточен. Больше всего меня занимает, достаточно ли я спокоен и сдержан.
Хорошо, что я нервничал. От этого я меньше кашлял. Эту медицину ненавидела умная и красивая девушка, о которой я некогда растерянно вспомнил, когда мы с Марианной были уже очень далеко от дома и когда вокруг нас был светлый шар с двухметровым диаметром.
А Марианны нет все.
Тогда я читаю "Первый крик".
Я знал, что это уже не ассоциация, а просто цитата.
Марианна не приходит.
Евгения Иоаникиевна не велела Марианне баловать меня. У Евгении Иоаникиевны восемь заповедей. В присутствии Цезаря Георгиевича и моем она поучает Марианну:
- Выйдешь замуж - обеда не готовь. Может обедать в ресторане. Хочет - у любовницы. Шей наряды. Принимай по средам. Детей не имей. Чужих не люби. Мужа не ругай. Ничего не спрашивай. Помни мать.
Евгении Иоаникиевне очень хочется сказать еще:
- Мужа не люби.
Но тогда это будет какой-то XI-ой заповедью, и она не решается.
Марианна слушается ее. Марианна хорошая и послушная дочь. Наверное, она будет хорошей женой. До тех пор, когда жена должна стать хорошим другом. Но друг Марианна ненадежный. У нее нет партийности. Она любит слишком всех. Это значит, что изменит она всем сразу. Кроме того, она не сможет долго идти со мной одной дорогой. Для друга она не годится. Я должен всегда любить ее. Но Марианна не может быть второй. Не может она быть и первой.
Нет, не приходит.
До матери мне нет никакого дела. Но Марианна. Слушаться кого-нибудь она должна обязате-льно. Иначе - она не может жить. Я не хочу, чтобы она слушалась меня, как мать. Она не может быть первой. Я не могу - чтобы Марианна была равной. Тогда ей придется стать сразу третьей. Марианну это оскорбит, как насилие. Больше всего ее бы устроило, если бы не было этого почти публичного распределения ролей. С этим нельзя примириться. В это надо поверить. И привыкнуть надо к этому. Сможет ли Марианна? Смогу ли я оскорбить эту необыкновенную девушку, кото-рую я так люблю?
Все нет Марианны.
Читаю "Четвертый Крик".
Все нет.
Очень сильный жар. Опять начинаю задыхаться. Быстро, но очень тщательно одеваюсь. Главное - безупречный воротничок. И я внимателен и терпелив.
На улице комья туч. Среди них копошится и капает дождь.
Войне уже два дня. Стены в приказах и репродукторах.
Марианна сильно пугается. Впрочем, она недовольна:
- В такое время. Как вы можете. Ведь я сказала, что сама буду у вас! Я прошу прощенья. Но Марианна доказывает:
- Ведь война, понимаете. Ну, понимаете ли вы, что война! Боже мой. Вы больны ведь. Как вам не стыдно!
Евгения Иоаникиевна резко выговаривает мне:
- Почему вы совершенно не жалеете Марианну?
Я чувствую себя глубоко виноватым и тихо целую руку невесты. Я не громко говорю ей. Я только ей говорю:
- Как хороши вы сегодня. Ваша мама сердита на меня. Это потому, что она старше нас и хочет внести в вас поправки, которые не внесли в ее собственную жизнь. Но вы не похожи на мать. Вас нельзя так же править. Мама пишет к вам какой-то непохожий комментарий. Вам можно только фотографироваться, Марианна.
Потом я тихо еще говорю. Тоже только ей:
- Писать обо всем можно, Марианна, но обязательно интересно. То, что форма действитель-но глубоко функциональна, мой друг, это правда. Но главное не в этом. Главное то, что форма неизмеримо действеннее содержания. Поэтому в хороших рифмах можно даже написать миракль о наволочках. Но в плохих рифмах мне не интересно читать ни о наволочках, ни о четвертом изме-рении, ни о Великой революции.
Я говорил тихо и смотрел ей в ресницы. Но я уже знал, что Марианне это не интересно. Она посмотрела в дождь и сказала:
- Вон, Ника бежит досдавать сессию. Экзамен довоенный. Немецкие романтики еще не предшественники наци. Теперь уже нельзя так. Это все политика партии в области художествен-ной литературы. Как это у них сказано, так, кажется: нашим бедным писателям мы позволяем писать в любой манере, но хорошо бы, конечно, соцреализм имени пролетарского писателя Горького.
Марианна тихо сказала:
- Послезавтра я сдаю фонетику. Какие у вас горячие руки. Вы совсем больны. Опять дождь.
Я ушел.
А ее все не было.
Был ветер. Вечер был в военном. Приказы за это время сильно потрепались и вымокли. Они продрогли и были мало похожи на приказы. Похожи они были на человека, обиженного другим человеком, которого он очень любит и который его тоже очень любил.
АНЕКДОТ XIII
Анекдот начинается с прозы, близкой к эпической манере Chansons de geste. Лирические стихи о разнице вкусов. Писатель - эмигрант, у которого нет хороших положительных героев. О войне как гигиене мира и о генезисе дендизма. Опыт анализа у кубистов. Несданный экзамен по марксизму-ленинизму.
Как называется эта часть анекдота, автор не скажет, потому что это слово еще не поняли его герои. Единственно, что он может сделать для читателей, с которыми он в заговоре против Аркадия, это сообщить, что именно этим словом называется небольшой цикл в "Темах и вариация х". О девяноста шести фотографических изображениях Марианны. Аркадий и Марианна начинают догадываться о названии вышеупомянутого цикла Пастернака.
Больше всего было ветра.
И мы этот ветер и эти густые резиновые сумерки ценили всего более.
Ценили из простой, но очень сильной боязни за них.
И тогда нам,
думающим о России
и об изящной словесности
иначе,
чем всем нам
категорически
предложено думать,
справедливо казалось, что теперь
это крамола
удар в спину.
Тогда нельзя было думать с черного хода.
Длинный ветер из последних усилий опять превращали во флаги.
Появились простые классические вещи:
Хлеб,
воздух,
и сон.
Казалось, до холода рукой подать.
Ночью сильно нервничали провода.
Рассыпался еще незамерзший дождь.
Газеты стали милыми и сердечными.
Это было очень трогательно.
И вот именно тогда предчувствие эпической величавости
событий отливалось в бронзовую
монументальность
классических памятников.
Но в минуты, ставшие на несколько секунд короче, для памятников не хватило времени.
И был ветер. И дождь. Были сосны и сумерки. И тучи.
Марианна довольно быстро отмобилизовалась. Я с беспокойством чувствовал, что продол-жаю оставаться довоенным эллином. Не могу я быть иным. Я всегда буду довоенным. Не хочу я иным быть в тягостную пору пролетарской диктатуры. Эмигрант я.
Мы тайно живем в России.
С какими-то заграничными паспортами, выданными
"Обществом Друзей Советского Союза".
Нельзя так любить Россию! Потому что так ее любят интуристы.
Профессор А. писал в длинном письме, повествуя о своей метаморфозе:
- Только теперь я понял Руссо. С какой легкостью и радостью сменил я перо ученого на заступ сапера. И как я рад этому. Истина не в книгах, а в непосредственном служении Человеку.
А мне это было смешно и противно. Так же, как и до войны смешно и противно.
Разъяренной Евгении Иоаникиевне я неосторожно сказал:
- Спросите у любого из нынешних неофитов, зачем ему вся эта болтовня, он скажет вам, что ему это не нужно. Но вот другим... Но ведь так же говорят все они. Никогда ничего не делайте для других. Все делайте только для себя. Но так, чтобы другим при этом было хорошо и легко.
Все вокруг хватались за все, делали какие-то бессмысленные вещи, ничего не умея делать, стесняясь отказаться от этой ненужной деятельности и не решаясь делать что-нибудь серьезное.
Я прекрасно знаю, что когда появляются глаголы, то ничего хорошего не стоит ждать. Глаголы я не люблю. Еще со школьной скамьи не люблю. У меня есть такая ассоциация.
Вечером я принес Марианне цветы. Цветы еще были синие, но листва была уже защитного цвета. Не знаю хорошенько, какие это были цветы. Но то, что это не были померанцевые, было ясно. Не были это и фиалки.
Марианна поцеловала меня и сказала:
- У вас привычки сноба. Довоенный вы человек.
Мне было очень тяжело, и я с горечью прочел ей лирические стихи о разнице вкусов: "Лошадь сказала, взглянув на верблюда: "Какая гигантская лошадь-ублюдок". Верблюд же вскричал: "Да лошадь разве ты? Ты просто-напросто - верблюд недоразвитый!" И знал лишь бог седобородый, что это животные разной породы."
Марианна пожала плечами.
Меня поражало то, что ее, человека никогда не отдающегося ничему целиком, война захвати-ла всю и совершенно. Ей было некогда. И она хотела быстро привыкнуть к новым вещам, откла-дывая на неопределенное время привычные и дорогие книги.
Поэтому искусство она оставила под дождем на улице.
Теперь ее ничего из старого не интересовало. Она перестала ходить смотреть Марке и Пикассо.
А я довоенно любил воротнички с длинными кончиками и не выносил сапог и гимнастерок. Своими туалетами Марианна уже перестала интересоваться.
Какое странное кокетство у Марианны. Она придумала себе несколько интонаций и жестов и всем этим пользовалась перед зеркалом, когда оставалась одна. Оно не было для других. Для меня оно тоже не было. Нравиться мне уже было не нужно. Труднее всех было Евгении Иоаникиевне, потому что именно в это тяжелое время Евгения Иоаникиевна полюбила все только хорошее. Плохого теперь она не любила. А так как она была уверена в том, что больше ничего не бывает, то исключалось и непонятное, безжалостно посрамленное вкупе с плохим. Эта умная и сильная женщина, охваченная общим психозом, тоже не доверяла смущенным милиционерам, боялась диверсантов и прислушивалась к уличным разговорам. Это было аберрация. И она видела одним глазом. Слышала одним ухом. Осязала одним пальцем.
Я боюсь людей о двух измерениях. Это - плоские люди.
Я становился раздражительным и резким. Евгения Иоаникиевна справедливо упрекала меня в желчности и замечала, что, к сожалению, это способствует только остроумию.
Я постоянно сбивался на середине строки, ворошил рукописи, не дочитывал книги и не доезжал до нужных остановок.
Стихов Марианне не читал. Просто боялся. Она говорила:
- У вас нет положительных героев. Вы заговорщик.
Когда я только попробовал заговорить о социалистическом реализме, Марианна вспылила:
- Там люди умирают! А вы... Стыдно Вам!
Вещи окрашивались в защитный цвет. Те, которые не окрашивались, были яркими, желтыми пятнами на черном. Я осторожно напомнил Марианне о световых нюансах и рефлексах света. Ее это не интересовало. Я пожал плечами и сказал о двумерных людях. Она меня неверно поняла. И обиделась. Я стал резким. Она испуганно перестала возражать. Я сказал что-то очень грубое. Марианна заплакала. У меня задрожали колени, задыхаясь, хватая охапками воздух и хлопая рукавами по ветру, я нагнулся над ее пальцами.
- Ну, зачем, зачем мы так мучаем друг друга,- спрашивала Марианна. И отвечала, стараясь убедить меня: - Война.
Я не понимал, зачем было вмешивать войну в нашу жизнь. Нам и без того было очень тяжело. Но Марианна уверена, что тяжело нам не и без этого, а именно из-за этого. Но она ошибается, Марианна. Она ни в коем случае не должна убедить меня в этом, ссылаясь на нервы, вконец испорченные за последние дни.
- Милая моя и дорогая! Не надо лечиться сейчас. Сейчас не время для впрыскивания вакцин. С этим всегда сопряжен известный риск. Уж если все так плохо на свете, то следовало бы вовремя подумать о предохранительных прививках. Мы не подумали, и это очень легкомысленно с нашей стороны.
Но испытание ссорой было необходимо. Мы навсегда остались бы верны друг другу после этого мучительного катарсиса.
Марианна холодно сказала мне:
- Теперь я все более и более убеждаюсь, что нравственный критерий качества истинней эстетического. О, я очень хорошо поняла, что примерки на хороший вкус это эстетство.
Эстетом я не был. Но я никогда не искал для себя истины. Я очень хорошо знаю, что истина и мораль нужны тем людям, которым некогда думать в каждом отдельном случае над своими поступками. Когда возникает в этом необходимость, они примеряют потребность к заготовленно-му на зиму мировоззрению и отрезают, сколько им нужно. У меня слишком много времени на размышления. Если мне не хватит, я всегда могу занять время у глаголов. Жечь сердца ими мне не приходилось. Поэтому я стараюсь думать особо для каждого случая и верю хотя бы в хороший вкус, чтобы только не стать похожим на этих странных людей, вылущивающих удобные зерна из всякой философии и делающих из этих зерен самые неожиданные вещи, вроде судебных процес-сов над людьми, полагающими, что Марбургская школа лучше Гейдельбергской или успешно проводящими партийную политику в изящных искусствах.
Марианна стыдила меня:
- Спросите у Нади, кто вы. Конечно, эстет! Я вчера нашла в ваших рукописях строку пентаметра.
Я отказываюсь от строки пентаметра. Потом выясняется, что эта цитата из статьи о Симонове.
Марианна действительно хорошо знала, что пентаметров я не пишу. Знала она и то, что я не эстет. Когда ей становилось тяжело, или, когда она боялась за меня, она говорила:
- Заговорщик.
Но испытание было необходимо. Необходимо было дознаться, чего не простят мне. Я должен был знать, за что меня любят. Все должно было быть написано, как у кубиста. Вещи обретали вес, глубину и фактуру. Жизнь, выпуклая, лежала на столе, как яблоки у Сезанна!
Вдруг резкий ветер сразу сломал хрупкие сумерки. Стемнело. Звезды проткнули небо. Запах-ло теплым трубочным табаком. Мы вышли на набережную. Как красива Марианна. Но как это не похоже на Ренуара и уже на Ван Донгена не похоже. Потому что появилось что-то от розовых с желтым старых великолепных фламандцев.
Марианна говорит очень медленно и не громко. Она прижимается к моему плечу и крепко сжимает мою руку. От нее веет влажным запахом духов. Она только что после ванны. Кажется, что Марианна стала несколько больше.
Вода отражает спрятанные огни. Где-нибудь они все-таки должны быть. В таком большом городе. Какая теплая Марианна. Она может простудиться. Марианна уже чувствует необходи-мость осложнений в наших отношениях, но она уже глубоко убеждена в том, что это моя выдумка, которой она должна противопоставить свое спокойствие и уравновешенность.
Марианна находит, что Багрицкий вовсе не такой провинциальный поэт, как я полагаю. Да ведь это же не важно, потому что ни Марианна, ни я Багрицкого не любим и в нашей жизни он не играет никакой роли. Но Марианна дает мне понять, что конструктивистам должно было быть очень лестным его вступление в ЛЦК. Сразу же напрашивается сравнение с Сельвинским. Марианна еще не хочет делать этого сравнения, потому что она отчетливо видит преимущества Сельвинского, но через несколько секунд она уже читает строфу из "Уляляевщины". Сравнение сделано. Теперь Марианна ничего доказывать не будет и невнимательно будет слушать мои доказательства.
Теперь нужно, чтобы Марианна забыла об этом разговоре, и тогда можно будет начинать сначала. Ее нельзя настойчиво убеждать. И торопить нельзя ее. Но этого разговора Марианна не забудет.
Поздно. У Марианны стынут пальцы. Пахнет дымом от трубки и мокрым берегом. Поднима-ется слабый ветер. Если долго не моргать, то выступают слезы. Я провожаю Марианну. К ней я не пойду сегодня. Уже поздно и я устал. Марианна целует меня и кладет эполетом свою золотистую кисть на мое плечо. Потом я вижу отблески каблуков и слышу вздох тяжелой, обитой войлоком двери, которую вынимает Марианна из своей светлой зеленоватой квартиры.
(Примечание автора. Марианна все это время сильно расстроена и раздражена. Она считает, что необходимо делать, наконец, что-нибудь полезное. Делать, разумеется, нечего. Аркадий пытается организовать бригаду поэтов, художников и артистов для поездки в армейские части. Никаких поездок Фадеев, конечно, не разрешает. Марианна уверена в том, что отказано потому, что Аркадий не был достаточно настойчив, и ни за что не хочет понять нелепость этой выдумки и совершенно естественную неудачу, которую она терпит. В это же время у Аркадия осложняются отношения с родителями, очень болезненно переживающими его категорический отказ уехать из Москвы, как это необходимо было по службе его отцу. Марианна серьезно настаивает на этом отъезде. Аркадия возмущает ее непонятное упрямство.)
Куски солнца жирно таяли на тротуарах, затекали под дома и с легким шипением испарялись, оставляя высушенные мысы на асфальте.
Ссоры падали без подготовки, как тропические сумерки.
Ссорились мы каждый для себя, а не друг для друга, потому что теперь нам было почти без-различно, удастся ли убедить противника в своей правоте, ибо почти безразлично было, восполь-зуется ли противник качествами обретенного опыта. Это были злые ссоры от раздражения и потребности превосходства. Мы не обязательно были раздражены друг другом. Раздражение иногда было против других и вызвано было другими, но здесь было опаснее, легче и страшнее.
Большой желтый солнечный кот лежал на подоконнике под горячими стеклами и изредка шевелил тюлевые гардины. Он густо мурлыкал и выгибал спину. Это тоже раздражало. Оно казалось сытым и довольным. Его слегка тошнило. Хотелось хорошего рабочего дождя, в который ходишь с непокрытой головой, смешивая волосы с водой и ветром.
Хотелось, чтобы Марианна не говорила дерзостей моим друзьям, которых она почти не знала и которые не любили ее.
Солнце засыпало, укрывшись тучей. Улица сразу стала похожей на любительскую фотогра-фию - серую и неретушированную.
Я дурно себя чувствовал. У меня опять была температура. И с утра лихорадило. Марианна была измучена жарой и долгими поисками каких-то ненужных вещей. Я вздыхал и бубнил: "И знал лишь бог седобородый, что это животные - разной породы."
Марианна вспыхнула и вспылила:
- Перестаньте болтать вздор! Чего вы хотите от меня?
Я почувствовал, как сорвалось и забилось веко и как ногти рванулись в ладонь. В глазах по-плыли зеленые троллейбусы. Они выгибали упитанные спины и неожиданно начинали кружиться. Медленно вращаясь, туго завинчивалась мысль о том, что если бы все это произошло дома, то я ударил бы кулаком об стол и все безделушки, стоящие на нем, непременно бы зазвенели, смеши-вая крошки своего дребезжания с круглым звоном бронзовой вазы. Маленький бисквитный Шиллер, кудрявый и чуть-чуть нахмуренный, упал бы навзничь, смешно взмахнув скульптурно отрезанными руками. Я никогда не бил кулаком по столу, но теперь я отчетливо представил, как испуганно упадет ничком кудрявый фарфоровый Шиллер, и звякнут тяжелые чернильницы. Письменного стола не было. Была открытая дверь какого-то подъезда. Я с силой ударил ее, и она с грохотом открылась. Потом отскочила и открылась опять. Я вернулся и еще раз ударил.
Но я все еще задыхался:
- Вы опять не верите мне? - тихо и тяжело шагнул я к ней. - Почему вы не верите? Поче-му вы боитесь согласиться со мной? Вы сторожите свое право думать самостоятельно. А когда наши мнения случайно совпадают, то вы делаете вид, что вовсе так и не думаете. Да ведь никто на него не посягает! Почему вы даже не даете себе труда понять, чего я хочу от вас. Почему вам так хочется быть несчастной? Зачем вам спорить со мной о литературных преимуществах? Вы поня-тия не имеете о том, чего вы хотите! Вы даже не можете сделать мне серьезную неприятность. Вы хотите, чтобы я сам ее сделал. Господи! Как это мелочно! Марианна! Как это мелочно. Знаете - это бездарно.
Я понял сказанное и ужаснулся. Я испугался этих слов, как затаенного признания, слишком похожего на правду.
Передо мной была гладкая желтая стена. Слова отскакивали от нее и рикошетом попадали опять в меня. И я повторял их. Где была Марианна, я не знал. Но она была где-то рядом. Сбоку или за спиной. Наверное, она с ужасом глядела на меня и дрожала. Вдруг я услышал ее голос, влажный и прерывающийся:
- У Андре Жида... он говорил: больше всего нас мучает непонимание близких. Мы больше всего страдаем из-за этого. И нам из-за этого очень больно.
Я повторил рикошетом ударившиеся в меня слова:
- О, как вы правы! Больше всего нас мучает непонимание близких. Это вы измучили меня! Как вы сделали так много за эти несколько дней? Я больше не могу! Я болен. Я не могу больше! Убирайтесь прочь!
Я бросился в сторону. Улица взбежала вверх. Дома ложились под ноги. Я бежал по окнам, и оконные рамы хлопали меня по ногам.
Я выбился из сил и пошел шагом. Улица отряхнулась и, отдышавшись, выпрямилась, став вполне приличной. Журчали трамваи. Из репродукторов падали мелкие гроздья "Соловья". Все становилось вполне буколическим, и хотелось вместо новенького плаката, призывающего к истреблению немцев, повесить голубое шелковое полотнище со стихом Феокрита:
Стадо овечек с тех пор возвращалось домой без призора.
Когда я начал развешивать это великолепное полотнище, показалась Марианна. Она торопли-во подошла ко мне, опустив голову и закрывая шею, на которой блестело ожерелье еще не высох-ших слез, и попросила тихо:
- Подарите мне вашу фотографию. У меня нет. Пожалуйста.
Наверное, мне показалось это слишком сентиментальным. Но я вспомнил, что у меня девя-носто шесть ее фотографических изображений и сколько радостных воспоминаний связано у меня с каждым из них. И всюду разная. Потом совсем белая на теннисном корте - невеста. Этого нельзя было делать. Испытание еще не кончено. Но я не выдержал и тихо сказал:
- Я дам Вам. Зайдите ко мне.
Дома больше не ложились под ноги. Я все глубже входил в улицу. Перекрестки похожи на киносъемку. Я старался вспомнить лучшие из запрещенных слов, которые она писала мне и говорила. Ничего не мог вспомнить. Потом вспомнил:
"Милый каприза!"
Наверное, это упрек. Но какой милый! Боже мой, какой милый!
Дома я свалился на диван и закрыл глаза. С утра, кувыркаясь, плавала и за все задевала горькая фраза Ильфа:
- Как легко написать: "В его комнату не проникал луч света". Ни у кого не украдено и - не свое.
Общее, конечно, общее. Так пишут наши поэты. Я не знаю, чья эта рифма "уже - душе". Тоже, наверное, общая. Но мы живем этим, этими общими словами. Все общее. У нас ничего своего нет. И я самым общим и пошлым образом смертельно оскорбил самого дорогого человека, без которого я задохнусь через несколько же дней.
Вошла Марианна. Она была строгой и сдержанной. Мне хотелось, чтобы она была расстроен-ной. Нет, она только покойна и сдержанна.
Я спросил:
- Что вам?
Она молчала.
Я взял шкатулку с письмами и фотографиями. Она попросила:
- Отдайте мне их. Все.
Я был поражен. Я отобрал все ее фотографии и протянул ей.
- Теперь, я полагаю, моя фотография уже не нужна Вам.
Она не просила. Ну, стало быть, не нужна. Потом опустила голову. Потом - вышла.
Угол буфета с размаху разбил мне бровь. Я пошатнулся и присел. Я видел стол, по которому надо было ударить кулаком. Шиллер был фарфоровым и кудрявым.
Испытание подходило к концу. Ночью война была более явной. Она выдавливала из улиц свет и прижимала его к внутренней стороне окон. И все нервничали, боясь, как бы кусочки света не выпали из щелей ставень и штор и не рассыпались на тротуарах, смешные, разбегающиеся и светло-греческие.
АНЕКДОТ XIV И ПОСЛЕДНИЙ
О жизни методами commedia dell'arte. Социология читательского вкуса и критика Аристо-телева канона. Нравоучительная легенда о ста спасенных девственницах. Баллада о девяносто шести фотографических изображениях Марианны.
О смысле христианской трагедии, заключающейся в том, что адские тернии находятся в замкнутой сфере догадок и предположений, ибо никому еще неведомы апостериорные пути к ним. После Средних веков и Данта, пытавшегося заглянуть в эту сферу, стало еще хуже, потому что стало страшнее.
О том, как с героем этой книги случилось несколько иначе. Он не пошел гипотетическим путем. По обочинам той дороги, по которой шел герой, стояли указатели, которые привели его прямо в девятый круг. Вероятно, на своем пути Аркадий попирал добрые намерения все простить Марианне, примириться с врагами Маяковского и проникнуться вполне комсомольской, небом разрешенной любовью к людям, убежденным в том, что главная истина содержится именно в оглавлении газетного нумера. Но этими добрыми намерениями не случайно оказалась устлана именно адская дорога, по которой пошел герой этого сочинения.
Если классическую трагедию смотреть, как перевернутую фильму, прежде всего узнавая о смерти героя, то в комедию она превратится не потому, что раньше мы увидим могилу, а потом кинжал, которым закалываются герои. Просто у такой преображенной драмы будет радостный конец. Как известно, именно по такому принципу, построена Дантова поэма.
Нашу пьесу надо было тоже глядеть с конца. Тогда в финале перевернутого изображения мы должны были с нежностью поцеловать друг друга. Но мы были не зрителями этой пьесы. И даже не были ее авторами. Мы были только героями. К тому же это была классическая драма, краткий, но категорический сценарий которой был уже написан Евгенией Иоаникиевной и предложен нам с Марианной.
Дома было темно и холодно. Еще не знали. На столе еще был Блок. На нем письма. На них - Достоевский.
Почему все эти люди так легко согласились с тем, что они все должны быть простыми, хоро-шими и ни в коем случае не отличающимися друг от друга даже несомненными достоинствами?
Зачем они тратят столько времени и сил на праздные убеждения других людей в истинности или необходимости вещей, о которых эти убеждаемые люди знают все, что знают их агитаторы, и с которыми они вообще отнюдь не собираются спорить?
Почему все они ни о чем не хотят думать и рассуждать тотчас же, как только обнаруживается сомнительное наличие похожего на ответ отрывка из канонического текста?
Как могут все эти люди, занимающиеся самыми разнообразными делами, не дорожить свои-ми занятиями и быть готовыми по первому знаку внести свой труд малой толикой, превратив его в любую из предложенных форм, в сумму общечеловеческого благополучия?
Зачем они свели историческую роль подавляющего большинства великих ученых и артистов к незначительным прецедентам в истории, превращая их в заблуждавшихся и недалеких людей и канонизируя некоторых из них, сведенных до унизительного положения предшественников?
Как легко разоблачить их, но как тягостно оставаться потом расстроенным и разбитым наедине с черепками недавнего спора и постоянно убеждаться в том, что, опровергая их, неминуемо доходишь до отрицания ставшей отвратительной и липкой от их проповеди и низведенной до роли плотного обеда в жизни удивительной фантазии поэтов об общечеловеческом счастье.
С ними нельзя спорить о методах. Они ссылаются на историю. И с этим необходимо согласиться. Все-таки они правы, когда, не считаясь ни с чем, приносят в жертву тысячи думавших иначе людей. Но как не правы они (и сколько рокового в этом заблуждении), полагая в человеке коллек-тивное начало. Человек всегда только один. Его близкие это только плохо осведомленные горячие советчики.
Убежденность в истинной правде нужна не как совесть, а как физиологическая необходи-мость, подобная дыханию.
Многие из нас тоже в основание своей программы положили бы общечеловеческое счастье, но тогда нельзя думать вкривь и вкось и нельзя верить в заведомую неправду. А мы не можем иначе.
Природные законы - это неизбежности. Наука их только обходит и обманывает. Законы человеческих отношений невозможно обойти. По крайней мере, мы с Марианной не могли. Обманывать мы тоже не могли. Необходима была опытная проверка. Выжили бы мы друг без друга? Должен ли я был застрелиться? Поседела ли бы Марианна? Опыт должен был создать новые стимулы.
Я захватнически люблю Марианну. И чем сильнее, тем с большими разрушениями. Ее характер рассыпался, и на смену разрушенному приходили новые взгляды и, главное, - привычки. Раз-дражением была гордость, помноженная на упрямство. Оно медленно проходило, как усталость, вызванная непривычкой. Так устают губы от чужого языка.
И теперь самым важным было дознаться, что же произошло, наконец.
ПРОЕКТЫ СЕРЬЕЗНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ
Начиналось с сентенций.
Вдруг выглянула - уже полузнакомая,
И только краешком сердца
слышал, о чем и о ком она.
Я срезал по короткой хорде
горб дуги, вставаший на дороге.
О, едкость серы ссор!
Назревших, как на пальцах перстнями аккорды,
как четки, капли, как серсо.
Я понимал, что это не годится. Это неверно потому, что все слишком явно. Кроме того, я никогда не заканчиваю периода бессоюзным перечислением. Наконец, необходим пейзаж и интерьер, потому что в таком состоянии, в каком были мы, безусловно, окружающее оказывает решительное влияние. Поэтому я отверг этот проект и написал новый:
К утру восход ввалился в окна
и простудил тепло подушек.
Быстро светало. Стало душно.
И лампа взбухла, точно кокон.
Разваливалась темнота.
У стульев еще ныли плечи.
И был уже слегка намечен
рисунок комнаты. Но там,
где окна стали прорастать
и стены вырубили угол,
вдруг абсолютно полым гулом
налились комнаты. И пустота
попятилась назад, потом шагнула,
готовая привстать,
и, пошатываясь, замерла.
(После бесплодного и тяжелого разговора, очень многое сделавшего простым и ясным.)
Чужое обрубили стены.
Квадрат родился на свету.
Но категорическую пустоту
не провести согласья тенью.
Со мной не сможешь согласиться
и свой не изменить характер,
возможна только наша хартья,
как мною выправленная страница.
Ведь ты не сможешь взять и править
страницу по чужому знаку.
Так согласись хоть с моим правом
любить в созвездьи Зодиака!
В родной словарь - как иностранка.
И обводить по слову губы.
С Арбата - как на остров Кубу!
Непостижимо!.. Боже, странно как...
Это, конечно, было значительно вернее. Хотя выясненность положения чувствуется и здесь, что создает ложное впечатление некой априорной очевидности. Что, разумеется, неверно. Но эта очевидность здесь лишь предчувствуется. Это необходимо иметь в виду. (См. VI Анекдот.) Состояние делает совершенно ясным нижеследующие две строфы.
Нужно ли столько резких и несправедливых слов?
Марианне очень тяжело. И все-таки она с раздражением
будет парировать.
Осторожное слово, засланное послом,
многое выясняет. Теперь необходимо вырвать
ее оружие и обезвредить его.
Но она с удовольствием,
аппетитно,
прожевала несколько хорошо
приготовленных горьких истин.
Я понял, что это, наконец, больше
невыносимо и немыслимо.
И ушел, что-то пробормотав самым
мелким петитом.
Все становилось ясным, как развернутый сюжет чужой книги. И с этого начинался самый ответственный этап нашей "Vita Nova".
Римляне никогда не выводили на рынок рабов большими партиями. Они понимали, что рабы, увидев, как их много, могут догадаться о возможности избавления от своих властителей.
Думать о всех своих терниях зараз не менее опасно, чем продавать в большом количестве рабов. Наши несчастья всегда видят, как их много, и видят, что они неизмеримо сильнее сутулого человеческого благополучия, против которого так легко ополчиться и уничтожить его.
Мне не следовало думать о ссоре с отцом. Но детали ее, перепутанные перипетии и пустая простота аппеляций, были невыносимы. Когда возвратился отец, я ушел из дома. У меня была только маленькая книжка Бенедикта Лившица. И была хорошо написанная в манере "Голубых танцовщиц" ночь. Только она была больше и однообразней. Ночь была у всех нас. Общая ночь. У ночи нет отечества. Она всегда иностранка. Интурист она. Пограничные столбы она минует без визы и паспорта, и по ней никто не стреляет, как стреляют по нас.
Я поднялся по пожарной лестнице. Небо стояло прямо на крыше. Звезды, несмотря на то, что я был высоко, не становились ближе и больше. Кружилась голова, и длинные линии скрепления железных листов скашивались, как вытянутый за два противоположных угла четырехугольник, превращенный в параллелограмм.
Здесь было тихо и в достаточной мере эпично. На крыше я начал понимать причины, побуди-вшие Золя именно ее превратить в трибуну для своего первого, в значительной степени деклара-тивного, выступления. Если бы я не писал книг для людей, которые все вместе легко поместятся на Марианниной тахте, то я читал бы эти книги с крыш. Здесь хорошо отражается звук. И надо писать неточными основными рифмами.
Марианны на крыше не было. Если бы она была здесь, я бы сказал ей:
- Испытание кончено. Мы не выдержали его. Оба не выдержали. Поэтому расходиться нам незачем. Некуда нам расходиться.
На земле я, может быть, не сказал бы этого.
Я вспомнил рассказ Жени о том, как возник сюрреализм:
- Это случилось потому, что мы неосторожно полетали в открытом аэроплане над Парижем.
Она жалела Данте, который не летал в открытом аэроплане, но который вполне был сюрреалистом.
На крыше Марианны не было. Марианны вообще не было. Марианна спала. Был хорошо сер-вированный улицами и домами, широкий с неровными краями стол: Тверской бульвар, Большая Никитская, мост, потом опять мост, потом - Большая Полянка.
Ночь медленно раздевалась. Без платья она становилась белой и плотной, потом на ее плечах показалось большое, хорошо отдохнувшее солнце.
По телефону я сказал Марианне, что теперь я - бездомный. И что вот теперь я, наверное, люмпен-пролетарий. О том, что я люблю ее еще больше, чем раньше, я не сказал. Она тоже не сказала. Она очень, очень горда, Марианна. Она сказала только, чтобы я пришел позавтракать. Марианна очень хорошо знала, что завтракать я не буду до тех пор, пока мы не договоримся о чем-нибудь. Но она не хотела разговаривать. Завтракать - пожалуйста, а разговаривать - она не будет. Я могу приходить каждое утро завтракать. Потом обед. Вечером ужин. Кроме того, дневной завтрак. И между обедом и ужином кофе.
Однако моя решительность, слишком хорошо знакомая Марианне, с которой я отказался от завтрака до серьезного разговора, испугала Марианну, как угроза серьезной голодовки до начала следствия. В следствии Марианна не могла отказать мне, и между нами произошел разговор, далеко не во всех своих частях совпадающий с его предполагаемыми проектами.
Марианна подробно и очень точно описывала происшедшее. Она не рассказывала, она вспоминала написанное.
Иногда она зачеркивала и начинала сначала. Я удивился тому, каким неряшливым языком это написано. Но Марианне хотелось убедить меня в том, что это импровизация. Я же прекрасно понимал, что это черновик письма.
Она говорила о чем-то в старом поношенном платье и об испуге, едва не разорвавшем сердце, и как этого довольно для простого разочарования. Я не узнавал Марианну. Я был поражен ее новой манерой говорить, столь непохожей на ее обычную, налитую золотистыми звуками речь. Я ничего не мог понять и чувствовал губами превращение удивления в улыбку.
Марианна была возмущена:
- Я дурно говорю, но, право, сейчас это не имеет ровно никакого значения. Когда останетесь одни, можете переложить это на гладкие ритмы. А сейчас извольте выслушать меня. И имейте в виду, что я предлагаю Вам не изящное буриме.
Я совсем смешался и очень неловко стал оправдываться, серьезно и старательно доказывая, что гладкими ритмами я никогда не пишу. Господи, да что я объясняю ей! Да ведь она знает каждую строку, написанную мною, она даже знает, куда я ее бросил, и без Марианны я не нашел бы половины своей книги! Я перестал объяснять и просто не знал, что делать. Потом я сказал ей, что когда мы перестанем доказывать друг другу нашу правоту, то дневник мы непременно будем писать вместе. Это я ей обещаю. Но Марианна не захотела общего дневника, она только повторила о сердце и о том, что теперь у нас ничего уже общего не будет.
Понять тогда, что произошло нечто роковое и непоправимое, было еще очень трудно. Я не хотел никаких предчувствий. Да что вы, черт возьми! Я просто должен все знать. Ни о чем я не хочу догадываться! А меня уговаривают, точно собираются сообщить о смерти кого-то очень дорогого и близкого. Господи, что же произошло, наконец! В моем замысле испытания ссорой не было ничего рокового и непоправимого. О ее любви я знал из ее же собственных слов. Мать ее меня возненавидела. Я опрометчиво предложил отравить ее. Марианна махнула рукой.
- Воля божья. Мать я люблю больше вас. Может быть, если бы матери не было, вы были бы мне дороже всего на свете. Постарайтесь убедить ее в своей правоте. А меня не убеждайте. Если она вам поверит, я буду вашей.
Я чувствовал, как мои веки с трудом сглатывают слезы и как в них проплывают девяносто шесть Марианниных фотографий.
- Невеста. Милая моя и дорогая.
Было жарко. На улице продавали мороженое. Я никогда не ем мороженого на улице. Кроме того, я никогда не пью на улице воду. Воду тоже продают на улице, изредка некоторые мужчины плюют в воду и бегут за уходящим трамваем. На улице я только чищу по утрам обувь. Человек, который чистит мою обувь, огромен и темен.
Я долго убеждал Евгению Иоаникиевну в том, что я не так дурен, как она думает. Но она не хотела меня слушать. Я все более и более удивлялся тому, как изменилась эта очень тонкая, насмешливая, очень умная и красивая женщина, которую я так любил.
Евгения Иоаникиевна сказала:
- Вы не любите Марианну. Вы не жалеете ее. У Вас нет положительных героев. Вы - заговорщик.
Это ей могла сказать только сама Марианна. Меня она не знала, впрочем, она знала, что у меня нет будущего и что я - эгоист. Кроме того, она сказала, что до моих талантов ей с Мариан-ной нет ровно никакого дела. Мандельштам был скотиной. Ясно, что замуж за него она не могла выйти. Свою дочь она выдаст замуж не за писателя, а за хорошего человека. Я для этого не гожусь. Это, впрочем, я и сам знал. Доказывать, собственно, было нечего. Доказывать, что Марианне не нужен удобный и уютный муж, я не мог. Мне не поверили бы как заинтересованному лицу. В первую очередь необходимо было доказать свою абсолютную лояльность. И я - не смог.
За это время Марианна многому научилась. Главным образом она училась думать двумя измерениями. Вокруг Марианны теперь неожиданно оказались только хорошие и дурные люди. И от Марианны зависела принадлежность к той или иной категории. Переход из категории первой во вторую легко допускался. Для этого нужно было только один раз обрести при своем действии отрицательный знак, механически зачеркивающий все положительные знаки, обладателем коих подчас и бывал упомянутый предмет. Мне было невыносимо тяжело все это слышать от людей, которых я бесконечно любил и которые никогда ранее так не думали и не говорили.
Во время одного из тяжелых и бесплодных разговоров, слишком похожих на переговоры о нашем положении, Марианна рассказала мне назидательный случай из жизни Евгении Иоаникиев-ны. Привожу целиком историю, которую рассказала мне Марианна, по мере сил стараясь сохранить манеру рассказчицы.
ЛЕГЕНДА О СТА СПАСЕННЫХ ДЕВСТВЕННИЦАХ
До того счастливого времени, когда мама вышла замуж за папу, она очень любила одного человека, женой которого должна была в скором времени стать.
Но их обоюдному счастью помешало одно очень скорбное обстоятельство. Умирала подруга матери.
(Примечание автора. Легенда принимает вполне приличествующую моменту сакраменталь-ную эпичность. Подруга, впрочем, умирала от неумеренного обжорства. Случилось так, что вместе с бриошами подруга съела кусок бутылки).
Жених Евгении Иоаникиевны был человеком ветреным и легкомысленным. Он закурил толстую сигару и философически заметил:
- Живые судят о мертвых, как сильные о слабых.
И меланхолически предложил:
- Пойдемте пиво пить.)
Евгения Иоаникиевна, потрясенная драматической гибелью приятельницы и возмущенная редким цинизмом своего жениха, горько зарыдала, что языком аллегорий должно было огласить urbi et orbi о том, что здесь оплакивают человечество, возвращающееся к варварству и к звериным шкурам. Она была очень молода и очень неопытна. Ей было страшно и казалось, что вокруг нее сидят неандертальцы, только что превращенные в неандертальцев из горилл. У одного неандер-тальца еще был маленький атавистический хвост, который казался ей невыносимым. Евгения Иоаникиевна брезгливо отодвинулась от своего древнего предшественника, и зарыдала опять.
Плакала она в стихах. Сицилианами. Цезура аккуратно ложилась после второй стопы. Рифмы были ортодоксальными. Плакала она все-таки в манере идеальных ямбов Мандельштама.
Жених Мандельштама не любил. Возмущенный, он пошел пить пиво и прохладительные напитки.
Евгения Иоаникиевна едва сказала сквозь удушающие рыдания:
- Животное. Лучше неандертальцы!
И атавистический хвостик показался ей милым и трогательным.
Она тихо и кротко позвала:
- Мисюсь. Где ты?
Жениху было категорически отказано от дома. Ему дали на пиво и не велели являться. Жених пошел в кабак и в пьяном угаре, отмахиваясь от неотвратимого несчастья, пропил деньги, которые надо было сохранить, как реликвию. Все пропил. Как Мармеладов. Оставил только серебряный гривенник, похожий на ореол своего воспоминания о невесте. Потом перевязал его розовой ленто-чкой и понес к автомату звонить невесте и умолять о прощении. Но он раздумал. Он махнул рукой и пробормотал:
- А все-таки сыграю я вам b-mol'ную сонату. Ради marche funebre сыграю.
И бросил гривенник какому-то проходившему мимо респектабельному буржуа, неосторожно снявшему шляпу перед какой-то не менее респектабельной буржуазной.
(Примечание автора. После траура Евгения Иоаникиевна утешилась, обретя свое истинное счастье в объятиях непьющего Цезаря Георгиевича.
Потом случилось Великая революция.
Потом родилась Марианна.
Потом произошло много событий, с этой книжкой непосредственно не связанных и на кото-рых мы не остановимся).
Спустя почти двадцать лет Марианна рассказала мне эту историю. Moralite было таким:
- Жених дурен. Жениху не пристало смеяться над человеком, заканчивающим свое тернис-тое земное поприще.
Это была правда. Жених был убийцей. Это было ясно. Он был разрушителем евгенииоаникие-вного счастья. Моя уверенность была неколебима. Но вдруг мне пришла в голову сенсационная мысль, и я доверчиво поспешил поделиться с Марианной своими соображениями.
- Как вы думаете, друг мой, - спросил я Марианну, полагая, что мой вопрос вполне pendant только что услышанному, - чего заслуживает человек, мило улыбающийся при виде агонизирую-щей материной подруги, но одновременно с этим бросающейся в лакированных башмаках и безупречных перчатках в реку, героически спасая другую материну подругу, неосторожно пившую оранжад на балконе своего будуара, расположенного на двадцать седьмом этаже вполне комфортабельного отеля?
Этико-морализующая концепция о двух вполне диалектических измерениях помогла Мариан-не с легкостью решить этот вопрос.
У меня упало сердце. Но еще теплилась надежда, и в волнении я предполагал самые феериче-ские вещи. Я бросал несчастного, измученного жениха в пылающее здание; топил в океанических волнах; бросал в кратер извергающего лаву Попокатепетля и превращал в снаряд всеразрушающей пушки. Каждое из этих мифологических действий должно было спасти значительное количество материных подруг, при конвульсиях одной из которых злополучный жених неосмотрительно похвастался отменными качествами своих легкомысленных зубов.
Марианна была непоколебима.
Наконец в отчаянии я прошептал:
- Двести... Двести подруг... и он будет жить...
Марианна отрицательно покачала головой, и я в изнеможении упал на ковер, потеряв сознание.
Марианна раздраженно доказывала, что если нам уже не достаточно для музицирований окарины, а надобен целый симфонический оркестр, то это отнюдь не преимущество современного человека в сравнении с эллином, а просто неумение этого человека довольствоваться малым и тщеславная склонность приписывать себе всякие тонкие достоинства и переживания.
Как трудно спорить с Марианной.
Прежде всего и раз навсегда нужно было доказать, что я ничего не имею против нее самой. Но этого невозможно доказать.
Наконец-то Марианна стала поклонницей plein air. Это потому, что ей не хватает воздуха.
Она не хочет в библиотеке учиться писать книги. Я напоминаю ей слова Ренуара о том, что живописи надо учиться в музеях. Марианну это не озадачивает, она вполне может полюбить Давида, который, вероятно, не говорил этого. Точно так же Марианна не желает в библиотеках и музеях учиться жизни. Это меня очень радует. Слава богу, хоть с воспитательными функциями искусства покончено. Но учиться жизни Марианна все-таки хочет. Она боится импровизировать. Ей необходимо точное описание, и она не может жить по простенькому сценарию.
Она возражает против соображения о том, что знать, как жить, это знать свою эпитафию и превращать свою жизнь в реминисценцию из чужих жизней.
Марианна потихоньку от меня стала почитывать Фейхтвангера и Надсона.
Если бы Марианна захотела жить методами искусства!
Это великолепно, потому что художники задумывают и делают свои картины и книги. Мы с Марианной задумали удивительную жизнь, но Марианна не хочет осуществить ее методами литературы. Особенно не хочет она этого, потому что я уже могу предложить ей несколько новых жанров и вольную метрику. Она не хочет понять, что если бы люди стали жить методами искусст-ва, то они были бы такими же неповторимыми, как книги и картины больших мастеров. Жить методами искусства - это значит, в первую очередь, не повторять чужих, хорошо выверенных приемов. У каждого своя жизнь. Писатель не обязан советоваться со своими читателями. Жизнь в пяти экземплярах может быть только для себя и четырех близких людей. Даже в наше время это можно сделать. Даже сейчас наша жизнь может входить лишь в компетенцию издательского работника, устанавливающего тираж, и в компетенцию двух-трех статей конституции. Заимство-вание может быть только цитатой. В каноническое art poetique оно не входит.
(Примечание автора. После тягостных и мучительных объяснений, бывших у Марианны и Аркадия, в которых он долго пытался доказать необходимость задуманного им испытания, подробно анализируя этот жестокий замысел, Марианна окончательно убедилась в том, что не в состоянии теперь вообразить себе возможность упорядочения столь осложнившихся отношений. Теперь она совершенно уверена (правда, не пытаясь быть убедительной) в том, что никакое упо-рядочение вообще немыслимо. Чрезвычайную роль играет соображение касательно безусловной истинности только этического критерия качества и соображение о разочаровании, постигшем ее, когда поведение Аркадия стало измеряться именно этим критерием.
В тяжелое время всех этих разговоров, объяснений и доказательств Аркадий был в крайней тревоге и раздражении, порой доходящих до недопустимой резкости, и его недостойные пререка-ния с огорченной и обиженной Евгенией Иоаникиевной пугали и до слез расстраивали Марианну.
Эта, неповторимого обаяния, вкуса и удивительной, далеко не всем раскрывающейся красоты девушка, чувствовала, как обламываются ее ногти, царапающие так недавно тепло разглаживае-мую мечту о счастье с любимым человеком.
Она не понимала, что может любить лишь одно обличие Аркадия, и что он всякий, и что в первую очередь он человек, задумывающий свою жизнь и правящий ее, как страницу собственной рукописи, в которую вносятся изменения не по мере развития жизненного действия, т. е. извлека-ется опыт для будущего, а по характеру соединяющихся частей, когда пережитое воскрешается, обуславливая дальнейшее не как практика, а как мотивировка этого действия.
То, что она называла разочарованием, было лишь открытием новых особенностей Аркадия, которые необходимо было принять как один из компонентов, образующих характер его.
Что было причиной страшного поступка Аркадия?
Менее всего попытка отомстить Марианне за тяжелые невзгоды, которые довелось пережить ему в последние дни.
Решительным обстоятельством, толкнувшим его на это, было непреодолимое желание (ставшее ясным только спустя некоторое время после всего случившегося) самым радикальным образом порвать с Марианной, забыть все, что связывало с нею, и, главное, уничтожить всякую возможность продолжить эти, ставшие невыносимыми, попытки опять сблизиться с Марианной. И труднее всего было сделать это, когда все, что окружало его и было связано с Марианной, убежда-ло Аркадия в том, как глубоко верна была догадка о скрытом, очень большом, глубоком и обаяте-льном таланте Марианны и как верна была догадка о том, что нет на земле ему счастья без Мари-анниного счастья, без книг, которые они вместе прочтут, и книг, которых друг без друга они никогда не напишут.
Наиболее серьезным поводом к разрыву, в известной степени, может быть, и определившим его формы, были нежелание Марианны понять, а главное, согласиться с рядом очень важных для них обоих соображений Аркадия об искусстве и философии, а также горькое разочарование Марианны и Евгении Иоаникиевны в возможности ничем не омраченного согласия, на которое основательно можно было рассчитывать до событий последних нескольких дней.)
Свет раздражал, как тщетная попытка разрезать ножом тарелку после того, как попытка разрезать мясо кончилась уничтожающей неудачей. Я набросил на него занавес.
Науку расставаний я еще только начал изучать.
Встреча должна была быть последней. Я подбирал звук, завершающий каденцию. Его не было. В хороших стихах - это нервное ожидание, предшествующее далеко ушедшей рифме.
Я ходил из угла в угол. К двери было шесть шагов. Обратно - четыре. Шаги шарахались в сторону, спохватывались и путались, потухая в углах.
Темноты Марианна испугалась. Я удивился, не понял и побледнел. Но было уже поздно, и я оставил все по-прежнему.
- Что нужно вам от меня? - спросила Марианна первой фигурой достаточно тщательно приготовленного монолога.
Ответить на это я не мог. Это была не та реплика, которую я должен был узнать как интро-дукцию к своему выходу. И я обрадовался возможности импровизировать.
Я повел плечом.
- Что мне нужно? Я полагал, что согласие в наших суждениях сейчас самое главное, что мы можем сделать друг для друга, поэтому мне одному это не нужно.
- За этим вы просили меня быть у вас?
- Я думал, что если это последняя встреча, то она необходима и неизбежна так же, как и первое объяснение.
- Нет, не так же. Объясняются для того, чтобы помнить. Мы встретились с тем, чтобы забыть друг о друге окончательно.
- Тогда попрощаемся.
- Извольте. Остались ли у вас еще мои фотографии? Не лгите. Вот ваши письма.
Она бросила на стол перетянутую пачку, от удара которой вздрогнул кудрявый Шиллер со скульптурно отрезанными руками и звякнули тяжелые чернильницы. Фотографий ее у меня больше не было.
Она отошла от двери и прислонилась к косяку, как к рампе.
Прощание состоялось.
Но каденция парила над нами. Ее нужно было взять с клавишей и наполнить комнату новыми звуками.
Она продолжила прощание:
- Я требую, чтобы вы не пытались предпринять что-либо для встречи со мной.
Об этом сам я еще не думал. И мне показалось это глубоко оскорбительным. Я тихо сказал:
- Я не прошу даже ваших фотографий.
Но она уже не слушала и продолжала резко и раздраженно:
- Я категорически настаиваю на этом. Это мелко и унизительно. Я не думала, что Вы окаже-тесь способным на некрасивый и низкий поступок.
Я побледнел. Потом начал перелистывать томик Блока. На каждой странице попадались страшные строки, которые могли стать эпиграфом. Это значило, что книжка наша почти дописана.
А она говорила, задыхаясь от возмущения, сердцебиения, обиды и гнева:
- Оставьте в покое мою мать. Как это низко! Оставьте ее в покое! Если бы не она, я была бы всю жизнь самым несчастным человеком. Вы самый низкий, самый ничтожный и отвратительный человек, которого я знала! Вы - позер и фат.
Эпиграфа не было. Это было слишком не похоже на изящную словесность. Я не знал, что делать. Я сидел и внимательно слушал. Иногда я даже повторял за ней. Потом я испугался и, пошатываясь, подошел к ней.
Наши дыхания сталкивались. Ноздри были сильными и острыми. Они могли каждое мгнове-ние впиться в лицо.
- Вот вы как... - продышала она дымом в глаза мне. - Вы... Вы негодяй!
Я ворвался в ее плечо и, давя ее руку, задыхаясь и в дрожи дробя зубы, ударил ее, в послед-ний раз ощутив захлебнувшимися ладонями удивительную теплоту и нежность ее лица...
Запахло гарью. Потом улица легла на бок. Автомобили стекали по отвесно повисшей стене, обрывая крылья и стекла об острую хвою звезд.
Ночь шагнула из мрака. Вечер привстал на носках, но уже ничего не мог разглядеть. Ночь была изрыта дождем, как оспой. Дождь стоял на тротуаре и, когда к нему подходили, - отходил.
Дом был похож на аккуратно сложенную стопку книг. У подъезда стояли черные большие автомобили. Дождь осторожно отходил и любопытно заглядывал в фары. Фары были синие, и только в центре их были желтые пузырьки света. Как в аквариуме. Фары были похожи на подве-денные глаза чаек.
Из подъезда выносили большие плоские ящики. Осторожно ставили их в автомобили. Что-то тихо говорили. И автомобили осторожно отходили на несколько метров в сторону.
Дождь бормотал что-то по брезенту. Фонари, автомобили устало мигали. Тучи были асфаль-товыми. Дождь подошел вплотную к автомобилям. Он заглядывал в кабину шоферу и с любопыт-ством приподнимал край брезента.
Было тихо и значительно настороженно. Тучи терлись о воздух. И был ветер и дождь. И настежь распахнутые двери музея.
Апрель - июль 1942, Ильинское
Октябрь - январь 1942-1943, Москва